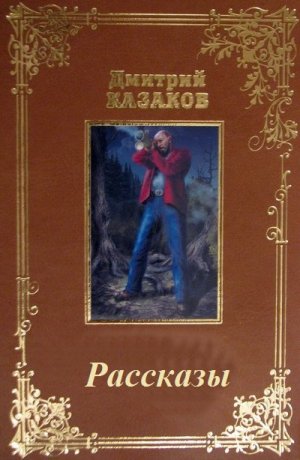
© Валерий Казаков, 2018
ISBN 978-5-4493-8490-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Решили
Очередное совещание депутатов началось с выступления председателя колхоза Ильи Абрамовича. Он говорил о ближайших планах, достигнутых рубежах и пройденном этапе. Вообще-то его почти не слушали, привыкли, что он говорит всегда умно и много.
Глава сельской администрации, Иван Кузьмич, сидел за столом хмурый и немного растерянный. Вчера его поселение продернули в «районке» за плохое благоустройство улиц, репей и крапиву, за то, что учителей дровами не обеспечивает, в Дом культуры не может найти худрука. Короче, стыдно вспоминать.
На этом совещаний нужно было определить, кому отдавать свободное место в детском садике. Заявлений десять штук, а место только одно. К тому же Иван Кузьмич по глупости это место уже Наташке Крупиной пообещал. Наташка одна живет, красивая баба и в теле. Если сзади смотреть – сердце замирает… Её сыну уже три года. Может статься, что и сын – его кровь, только Наташка почему-то это скрывает. Обиделась, когда он на Полине женился.
По селу идет слух, что в детском саду есть свободное место. То и дело молодые родители заходят в сельскую администрацию, интересуются. Родителям кажется, что начальство от них что-то скрывает. Какая-то всеобщая подозрительность относительно начальства. Никто никому не верит.
Да еще это письмо. Оно третий день лежит на широком столе у секретарши Пшеничкиной. Иван Кузьмич знает, что в нем написано, он его уже прочитал, но все еще думает: предлагать его на суд общества или нет? Вопросы, которые в нем ставятся, кажутся Ивану Кузьмичу пустячными. Например, там говорится о выделении техники пенсионерам, живущим на селе. Технику эту колхоз выделяют, конечно, но не так организованно, как надо, и не всем. Чаще – по усмотрению бригадира. Ну, ругань, конечно, после этого, обида, разговоры разные. Но технику выделяют, с этим не поспоришь… И Наташке надо бы помочь. Она баба хорошая.
– А сейчас, товарищи, слово имеет Иван Кузьмич, – объявила секретарша сельского поселения – невысокая полная женщина в модных очках.
Иван Кузьмич строго взглянул на присутствующих, взял в правую руку шариковую ручку и стал говорить, нервно черкая ручкой по чистому листу бумаги.
– На сегодняшний день у нас, товарищи, три заявления трехгодичной давности. Первое от Поповой, у нее девочка уже большая. Второе от Черемисовой, у которой девочке четыре года. Она мать-одиночка, работает в детском доме. И последнее от Крупиной Натальи. У нее мальчику три года. Живет одна, хочет работать, а ребенка не с кем оставить.
Иван Кузьмич встревожено посмотрел на директора детдома, этот человек, вероятно, поддержит Черемисову, он мужик настойчивый, не любит уступать. Иван Кузьмич немного подумал и добавил для убедительности:
– Я был у Крупиной…
В зале раздался легкий смешок. Мол, знаем, что был.
– Я был у Крупиной. Условия у неё действительно плохие. Квартира старая, полуподвал. Мальчика не с кем оставить. Надо бы помочь матери одиночке.
Иван Кузьмич поднял глаза на присутствующих и заметил, что все смотрят вовсе не на него, а на дверь, в которую кто-то протискивается. Он тоже посмотрел на дверь и увидел, что в кабинет главы администрации проникла гражданка Попова с красным от возбуждения лицом и капельками пота на переносице. От нее так и разило негодованием.
– Вас на совещание не приглашали, – громко сказала секретарша Пшеничкина вошедшей особе. – Извольте покинуть помещение.
– Я случайно узнала, – начала молодая женщина, не обращая внимания на секретаршу, – что сегодня будет решаться вопрос о моей дочери. И вот пришла поприсутствовать… Я в прошлый раз не присутствовала – так мою дочь даже в списках не нашли.
– Как это не нашли, – снова возмутилась секретарша. – Вас нашли, но очередь была не ваша, и поэтому ваше заявление не зачитывали.
– У меня заявление лежит уже три года, а у некоторых оно и году не лежало, – парировала вошедшая. – Нам говорят: у вас бабушка есть, эта бабушка может водиться. Как будто никто не знает, что этой бабушке уже за семьдесят с лишним. За ней скоро тоже ухаживать придется. Какая из неё нянька!
– Ну, знаете! – громко возмутился со своего места директор детдома.
– Или садик только для знакомых и родственников членов правления? Вот я пришла поглядеть, кого в садик примут, – договорила Попова и прошла через весь кабинет к свободному стулу в дальнем углу.
– Будем начинать обсуждение, – упавшим голосом предложил Иван Кузьмич, уже не надеясь, что в этот раз сможет помочь своей молодой любовнице.
Обсуждение предложенных кандидатур началось бурно. Каждый говорил о той кандидатуре, родителей которой знал лично, только о Крупиной почему-то никто не вспомнил. Она, вероятно, была самой незаметной из этой компании, потому что реже попадала на глаза. Ивану Кузьмичу показалось это несправедливым. Он давно решил, что не будет поощрять крикунов! По правде сказать, Черемисову он знал плохо, а скандалистка Попова уже успела ему надоесть. Он ее откровенно ненавидел.
– Черемисова живет одна, товарищи, – начал свое выступление директор детдома, – у нее двое детей. С мужем ей не повезло, пьянчуга попался, но женщина она хорошая и работник у неё спокойный. Она на кухне у нас работала, в посудном отделении. Сейчас ее на работе нет, поэтому на кухню приходится медиков гонять. Медики возмущаются, некоторые уже уволились… А как нам быть, товарищи? Кто в наше время за семь тысяч грязные противни мыть согласится? Короче, если она не вернется к нам, мы пропадем… Есть, все едят, а посуду мыть почему-то стало некому. Болеть, все болеют, а в санитарки никто не идет. Никто не хочет заниматься грязным трудом. Это зараза какая-то, честное слово. Бездельники бездельников плодят. Распустилась молодежь. Она только недостатки видит в нынешней жизни… Да может мне самому эта жизнь не нравится, но куда деваться. Надо жить, надо работать, надо дело делать. Кто за нас нашу работу сделает?
– Давайте по существу, товарищи, – вмешался в разговор Илья Абрамович.
– Да я уже закончил. Голосовать надо, чего там.
Проголосовали. Как и ожидал Иван Кузьмин, за Черемисову большинство. Гражданка Попова заплакала, встала, направилась к двери и на ходу пообещала куда-то написать, кому-то позвонить, чтобы приехали и разобрались во всех безобразиях. Вид у нее был жалкий, но сдаваться она не хотела.
Дошла очередь и до письма. Письмо передали Пшеничкиной, она всегда зачитывала все официальные бумаги и резолюции.
Пшеничкина встала, смущенно посмотрела на собравшихся, поправила очки и стала читать. Иван Кузьмич наблюдал за ней сбоку, подперев рукой подбородок. Симпатичная баба, и пока еще не замужем. Он пробовал найти к ней подход, в гости заходил с конфетами, с красным вином, но достучаться до сердца не смог. Чай, разговоры вокруг да около – вот и все, чего он добился.
Между тем чтение письма продолжалось.
«Мы, рядовые граждане села Пентюхино, – громко читала секретарша, – случайно узнали, что 27 февраля сего года будет проводиться очередное заседание сельской администрации нашего поселения, и у нас появился повод написать вам следующее. Пора, товарищи, прекратить борьбу с пьянством методами застойного периода и бюрократического аппарата. Потому что положение сложилось критическое. Так больше нельзя. В процессе антиалкогольной кампании был разбит и уничтожен районный ликероводочный завод. А так как означенный завод давал району восемнадцать миллионов рублей чистой прибыли из двадцати ежегодных, то сейчас денег в банке на зарплату у нас не хватает, и мы по два месяца сидим без денег. Правда, иногда нам привозят вино из Грузии и Азербайджана, но оно слабое, поэтому русскому человеку не подходит. В общем, у нас складывается впечатление, что это всё делается умышленно. Сначала у нас в селе сломали мельницу. Сказали, что мельница на воде – это дело невыгодное. Потом порушили ликероводочный завод. А сейчас ради каких-то великих целей ломают танки и ракеты. Нам кажется, что ломать мы научились. Но, когда же мы начнем строить? Мы только и делаем, что проводим в жизнь какие-то реформы, а живем между тем так же, как жили наши предки. В домашнем хозяйстве у нас те же самые инструменты, что были тысячу лет назад. Это топоры, косы и лопаты.
Мы каждую зиму заготавливаем дрова, чтобы топить свои печи, а между тем рядом с нашим селом куда-то в Польшу уходит газопровод под названием «Сургут – Полоцк». Товарищи члены правления, разрешите нам, пожалуйста, подсоединить небольшую трубу, толщиной с палец, к этому газопроводу, чтобы отопить газом хотя бы дома пенсионеров…
И с колхозом у нас тоже большая проблема. Придешь туда просить трактор для своего огорода, а тебя сначала свеклу заставят дергать. Или картофель полоть. Потом бригадир на тебя посмотрит, что с тебя ещё взять можно. Потом тракторист придет опохмеляться. Трактористам сейчас денег не надо, они вино требуют.
Есть у нас на все село одна сельповская лошадь Майка. Майка, конечно, не пьет, но сельповский конюх Митрич может выпить за раз литру, поэтому приглашать его на свой огород невыгодно. Из-за этого у нас к вам большая просьба – уволить конюха Митрича за непомерное употребление спиртного и принять вместо него Колю Карамбу. Колю мы все хорошо знаем, у него язва желудка, что на этой работе не помеха, а даже на оборот.
Просим также переименовать улицу Груздовского в обыкновенную Набережную, так как в восемнадцатом году по приказу товарища Груздовского, который был тогда начальником продотряда, в Пентюхино было убито шесть мужиков ни в чем не повинных. В том числе отец Даши Кузихи, Кузьма Николаевич Голенищин. Отец Петра Страбыкина, Валентин Иванович, а также дядя Фомы Антипыча, Ермолай Моисеевич.
Мы знаем, что во всех грехах прошлого виноват Сталин. В просчетах застойного периода – Леонид Ильич Брежнев. А в нынешних грехах и просчетах, кто виноват?»
Пшеничкина закончила чтение странного послания и с недоумением посмотрела на всех присутствующих.
– Вот такое письмо!
– А ведь за такие мысли наказывать надо, – изрек Илья Абрамович.
– Да, расплодились на Руси мудрецы! – поддержал его директор детдома.
– И технику мы даем. Кто попросит – тому и даем, – продолжил председатель колхоза. – Сначала, правда, нужно заявление написать на имя председателя. Он резолюцию наложит, потом в бухгалтерию деньги заплатишь, бригадира найдешь, и он даст распоряжение механизатору… Ну а свеклу, конечно, надо полоть, она без прополки не вырастет, куда же от этого денешься? А трактористов поить ни к чему. Никто не заставляет их поить. И вообще, чушь какая-то в этом письме. Вызвать бы этих писателей на ковер, куда положено, да пропесочить. Сразу бы желание отпало пасквили-то писать.
– Правильно, – поддержала председателя колхоза секретарша Пшеничкина, – вот отдать это письмо участковому, пусть по почерку определит, кто писал.
– Нет, – замахал руками Иван Кузьмич, – сейчас так нельзя. Демократия ведь у нас, свобода слова.
– Вот, вот. Демократия. У нас все люди, вместо того чтобы дело делать, рассуждать начали, – вставил свою реплику директор детдома. – От этого и живем плохо.
– Да что плохо? Что плохо? – возмутился Илья Абрамович. – Да вы не знаете, как плохо-то жить! Ведь у нас сейчас голодных нет, голых нет, и бездомных не числится вроде бы. Чего еще нужно? Да сами мы во всем виноваты. Лень наша российская все губит да желание жить не по средствам. В магазинах, видите ли, ничего путного нет. Да ничего и не надо. Живешь на земле – умей все для себя от земли взять. А мы хотим на земле жить и картошку с капустой покупную есть. Чушь какая-то. Разве так можно!?
– А масла-то сливочного как раз и нет, – со вздохом произнес Иван Кузьмич.
– Сегодня нет – завтра будет, – заверил его Илья Абрамович. – Из дефицита стали национальную трагедию делать. Да разве в этом суть?
– А в чем? – заинтересовалась Пшеничкина.
Все депутаты с недоумением посмотрели на нее. А в чем, действительно, суть?
В это время в кабинет председателя ввалился здоровенный мужик в синей фуфайке и милицейской шапке сдвинутой на левое ухо. Присутствующие не сразу признали в нем старого участкового Толю Самару, настолько испуганным и бледным было у него лицо.
– Опять, Иван Кузьмич, – выпалил Толя, – опять покойник!
– Чего такое? Кто?
– Колхозный кочегар Мишка Малинин.
– Что с ним?
– Отравился жидкостью для разжигания примусов. Вчера в скобяной магазин привезли. Вот все Пентюхино и пьет эту дрянь вместо вина уже второй день.
– Этой гадостью и отравился? – переспросил Иван Кузьмич.
– Ну!
– Какая судьба у человека! – испуганно прошептала Пшеничкина.
– Запретить бы надо продажу этой жидкости на всякий случай, – посоветовал Илья Абрамович.
– Запретить, запретить! – поддержал его директор детдома.
– Да уже всё продано, поздно запрещать-то, – уточнил Толя Самара.
– Какая судьба! – вздохнула секретарша Пшеничкина. – Какая судьба!
Вертолет
Вертолет прилетел вечером, он сделал над Пентюхино два больших круга и сел где-то в лесу. Причем сел так далеко и так стремительно, что сделалось даже обидно.
Через несколько минут в Пентюхино на колхозном тракторе примчался Колька Ставрида и сообщил, что железная стрекоза разбилась возле Сталинского выселка, но от нее еще много чего осталось, так что, мужики, не зевай.
И мужики зевать не стали. Хватали ключи, плоскогубцы, молотки, топоры – все, что под руку попадалось, и бежали в лес к упавшему вертолету. Даже бывший сельповский конюх Владимир Фомич, который в это время булычел у пивного ларька, не выдержал общей суматохи – рванулся за мужиками, но после нескольких торопливых шагов опомнился, с жалостью посмотрел на свое недопитое пиво и вернулся обратно к широкому столу, сколоченному из половых досок. Куда уж ему, старому обмолотку, за молодыми бегом, хотя посмотреть, конечно, хотелось, что у вертолета внутри.
Когда потные и красные от бега мужики приблизились к вертолету, он показался им очень большим и не достаточно сильно помятым, чтобы сразу преступить к разборке. Возле вертолета лежали вершины порубленных деревьев, куски железа, битое стекло. Но летчиков в кабине летающей машины почему-то не оказалось.
– Должно быть, они успели катапультироваться, – решили мужики.
Теперь можно было подойти к летающей стрекозе поближе и хорошенько её рассмотреть. Мужики со всех сторон обступили вертолет и замерли в нерешительности. А стоит ли его разбирать? Возможно, он ещё сможет подняться.
Потом к вертолету подъехал колхозный трактор с телегой. Из телеги стали выпрыгивать молодые сборщики металлолома и просто любители экзотики с топорами, ломами и плоскогубцами. Этих было уже не остановить. Один из них увидел рядом с кабиной пилотов какой-то помятый электродвигатель в черном кожухе, другой обнаружил на салоне солидную дыру, из которой вытекала пахучая жидкость, и радостно закричал:
– Все, мужики, отлеталась козявочка. Ее все равно сейчас на металлолом, а нам, может, чего пригодится. Круши, мужики!
И тут же единым взмахом топора отшиб с кабины вертолета какую-то блестящую штуковину.
– Во! Кажись, прибор какой-то. Дома разберусь. Куда-нибудь приспособлю… Не переживайте, мужики, не мы – так другие все равно разберут.
– Не трактор ведь, летательный аппарат, поди больших денег стоит? – неуверенно засомневался Иван Голенищин.
– Да чего уж теперь! Начали, дак! – зашикали на него мужики, нетерпеливо вынимая из карманов припасенный инструмент и приступая к делу. Мужикам страшно захотелось разобрать поскорее летающую стрекозу, вникнуть в ее железную суть; понять, почему так пыхтит и так высоко забирается? Как там все устроено и налажено у нее внутри, по какому принципу, в соответствии с каким законом?
Открученные детали каждый складывал в свою отдельную кучу, но при этом зорко следил, чтобы кто-нибудь другой по невнимательности, не утащил из этой кучи болтик или гаечку. Всё ненужное и громоздкое, которое уж точно никуда не годилось, складывали в отдельную груду. Правда, эта груда росла медленно, так как ненужное одному иногда казалось очень нужным другому…
К ночи дело было сделано. От красивого вертолета остался только худенький железный каркас да огромные черные лопасти основного винта. Все остальное ободрали и разделили между собой запасливые пентюхинские мужики.
– А вообще-то в вертолете ничего сложного нет, – заключил после окончания разборки Иван Голенищин, – вертолет устроен как трактор, только сцепление сделано маленько по-другому. Да вместо гусениц – винт.
– И проводов в нем почему-то очень много, – уточнил Володька Рябинин – колхозный электрик.
– Много-то много, – поддержал его Харитон Кадочников равнодушно, – да вот я ума не приложу, куда их девать, – и показал всем здоровенный моток разноцветного провода.
– Может, куда приспособишь, – успокоили его мужики.
– Может, и приспособлю, – согласился Харитон.
До Пентюхино в этот раз мужики шли пешком. В тракторной тележке везли детали, которые весело позвякивали. При этом старики как-то очень охотно вспоминали детство, а молодежь уже представляла, как будут огорчены те, кто не успел к разборке вертолёта, кто никогда не узнает, как устроена эта железная машина. Ведь это было что-то таинственное, летающее и блестящее, как детская мечта, а они эту штуковину разобрали. Но, ничего не поделаешь – такова инерция познания!
В тот памятный день вечером все Пентюхино шумело и шевелилось. Десятка два мужиков и баб стихийно собрались на берегу Вятки, там, где возвышался штабель полусгнивших осиновых бревен, чтобы вместе обсудить случившееся. Падение вертолета было для этих людей событием из ряда вон выходящим, можно сказать, значительным. В этот вечер все пентюхинцы как-то вдруг забыли, что живут в двадцатом веке, что в небе кроме вертолетов летают ещё и ракеты, и самолеты, и воздушные шары…
А может быть, так произошло потому, что во все времена дома их обогревались с помощью печей; не имелось в них ни ванн, ни теплых туалетов. Из-за того, что в осеннюю пору Пентюхино напоминало нестройное скопище убогих деревянных хижин, как бы сошедших с полотен Васильева и Левитана. Километрами ветхих заборов оно было рассечено на правильные квадраты, завалено вдоль дороги дровами и прелым мусором, и по ночам не освещалось из экономии. Редкие певчие птицы, вынужденные проживать в этом селе волей случая, частенько сдыхали от скуки в самом начале осени. И только ленивые местные грачи да наглые вороны доживали до холодов и улетали отдыхать в солнечную Африку.
– Мой-то наволок железяк полон сарай, – хвасталась жена Ивана Голенищина перед продавщицей Клавой.
– А мой всё в кучу сложил возле бани. Говорит, попробую из этих деталей собрать холодильник.
– Еще бы самолет с деньгами упал где-нибудь недалече, – посетовала жена Ивана.
– Да, хорошо бы. В колхозе-то который месяц ничего не платят. Как хочешь – так и живи…
Чтобы разобраться в происшествии из районной прокуратуры вскоре приехал следователь. По правде сказать, его совсем не ждали. В чем тут собственно разбираться? Машина-то была совсем непригодная для дальнейшей эксплуатации. С огромной высоты упала, разбилась вдребезги, можно сказать. Но государственного человека, да ещё при погонах разве в чем-нибудь убедишь.
Следователь стал, что называется, воду мутить, невинных людей допрашивать. Устроился в сельской администрации на втором этаже и решил на расхитителей чужой собственности дело клепать. Ну, на Ивана Голенищина – ладно: у него дом новый и деньги есть, а на Силантия-то зачем? Силантий гнездовище развел: одних детей шесть человек да еще два старика в доме. Ему и так тяжело.
Голенищина, конечно, вызвали одним из первых. Заметная фигура. Быка по осени на мясо сдал, сено прошлогоднее продал по двадцать пять рублей за килограмм, и с виду человек серьезный. Иван нарядился олухом, нашел пиджак застиранный, штаны-галифе, сапоги кирзовые и после бритья не душился, чтобы навозный дух не отшибло. Городские-то отрехолки это ценят, когда от мужика простотой несет.
– Объясните мне, пожалуйста, – начал вкрадчиво следователь, – с какой целью вы вертолет разобрали?
– Да так вот сразу и не ответишь, – начал Иван. – Все побежали разбирать, и я побежал. Это как на пожаре, знаете ли. Все бегут, и меня тоже азарт захватил. Интересно было посмотреть, что у него там – внутри… Ну, я ключи прихватил, да и бежать тоже. А ляльки эти у меня в сарае теперь лежат. Какая от них корысть. Так, бросил пока, потом, может, куда приспособлю.
– К чему их можно приспособить – не понимаю, – удивился следователь.
– А я и сам не придумал пока, не сообразил. Но ведь пользовались люди. Значит, была какая-то польза.
– Странные вы люди. Вы, можно сказать, дерзкое преступление совершили по сговору группой лиц, а рассуждаете, как малые дети. Ну, какая вам польза от этих железяк?
– Может, к телевизору чего подойдет, али к мопеду.
– Тьфу ты! Ну, какой телевизор! Какой мопед? Вертолет огромных денег стоит, а он мне о мопеде толкует. Да вам, чтобы за эту машину всё владельцу заплатить, со всего села деньги собирать придется. Это вы понимаете?
– Комбайн пятьсот тысяч стоит, корова – тридцать. Как не понять.
– Причем тут корова?
– Для сравнения, – начала объяснять Иван. – Комбайн может хлеб убирать, зеленку косить на силос, солому в копны складывает, а на вертолете только летать можно… Какая от вертолета корысть. Один расход. И вино стало дорогое, товарищ следователь. У нас мужики жидкость для разжигания примусов стали пить. Одеколон продают по паевым книжкам, так все вступили в потребкооперацию. За этот год четыре мужика отравились. Мрёт народ, как мухи, а брагу ставить не дают, товарищ следователь. Вот я сколь живу, сколь себя помню – с браги еще никто не отравился. Дед у меня брагу пил, дядя пил, отец пил, и все до восьмидесяти лет жили. А сейчас бормотухи в магазин навезут, мужик бутылку выпьет – и глаза на лоб вылезли – дурак – дураком.
– Я с вами не о браге приехал толковать. Вы мне объясните, с какой целью вертолет разобрали?
– Я же вам и говорю, что по инерции. Все побежали, и я побежал. Как говорится: не было печали – черти накачали.
Вслед за Иваном в сельскую администрацию вызвали Харитона. Харитон, как только увидел следователя, так сразу вспомнил о всех обидах, причиненных ему колхозным начальством, и стал жаловаться на плохих людей государственному человеку.
– Лугов не дают, товарищ следователь, для коровы. На общем собрании постановили, что будут намерять по гектару на хозяйство, а сами не дают. Я уже и в правление колхоза писал, и жену посылал содействовать – ничего не помогает. На вас вся надежда да на прокурора. И губероли не стало в магазинах. Крышу нечем крыть. Мы тут все больше крыши губеролем кроем. Дешево и сердито, а как губероли не стало – опять на доски перешли. Раньше, когда шифер-то продавали, так его никто не брал, потому что губеролью все пользовались, а сейчас губероли нет, и шифер тоже не продают. Как нарочно. Гвозди есть, шурупы, эмаль половая, а губероли нету.
– Я вам что, начальник райпотребсоюза? – не выдержал следователь. – Я, что приехал – жалобы ваши выслушивать? Вы мне зачинщиков назовите, кто первым кинулся вертолет разбирать?
– Так все вместе, товарищ следователь, всем миром это самое…
– Мне конкретных виновников надо найти, понимаете?
– Так все конкретные. Мне лучше вспомнить, кто не разбирал, а разбиравших-то всех и не упомнить. Народу было как на пожаре. Честное слово.
После Харитона зашла к следователю Настя Карпова и, освоившись, стала жаловаться на своего зятя Никитку, который на прошлой неделе дочь Варвару чуть не ухамаздал, окаянной.
– Вы бы припугнули его, товарищ следователь. В тюрьму-то садить его жалко, а припугнуть бы надо. Вы бы как-нибудь вечерком зашли да пригрозили ему пистолетом. Пистолет-то, поди, у вас всегда при себе. А то Никитка над нами волю взял. Пьет без пробуду, яйца жареные ест и орет, прямо как зверь какой. На улицу случайно выйдешь, и домой заходить страшно. Лохматый стал, не бреется второй месяц, а борода у него прямо от глаз растет. На льва похож стал, честное слово, и рычит. Ко мне подружка проведать меня пришла, так он на нее так рявкнул, что она в обморок упала, честное слово. Еле откачали… И дочу мою замучил всю. Она третий год с ним живет и третьего скоро родит. Разве так-то можно, без перекуров-то, товарищ следователь… И коровы у нас нет. Мы с дочей козу держали для детишек, так этот обалдуй зарезал ее и съел. За два дня съел, честное слово. Варвара-то у меня в колхозе дояркой работает, а молока в доме нет. Вот какая жизнь пошла. Все молоко куда-то в город отправляют.
– Вы мне, бабуся, про вертолет, – взмолился следователь. – Про вертолет мне расскажите.
– Да какое мне до этого вертолета дело, – огрызнулась старуха. – Леший с ним, с вертолетом. Вы мне посоветуйте, как быть старухе? Может, ему, Никитке-то, штрафу дать али выпороть прилюдно? Может, укол какой в задницу сделать для успокоения? А то ведь жизни от него нету… И отец у него такой же был. На отца-то мужики осерчали, утопили его в проруби. Утопили – не утопили, а только весной нашли его в бучиле у Шамовской мельницы. Тоже свою-то жену в гроб загнал, антихрист… Я в доме-то на полатях сплю, товарищ следователь, так с полатей сподручнее запустить чем-нибудь в зятя. И в перепалку вступать тоже не так страшно. А доча-то у меня по полу ходит, в одном доме вместе с ним… И чему только его в школе учили? Ведь десять классов закончил. Ирод. Рожа вот такая, вот! Шея, как у быка, а ума – ни крошки, честное слово. Ни в Бога не верит, ни в черта! Чем душа живет – неизвестно… Зверь – одним словом, и мы с этим зверем в одном доме, в одной клетке… И каждую ночь кровать у них скрипит. Баба на шестом месяце, а кровать скрипит.
– Бабуся, – взмолился следователь, – вы зачем сюда пришли?
– Так на зятя пожаловаться и пришла… А зачем же еще мне идти-то, милый мой?
– Жаловаться надо прокурору, бабуся. Заявление надо писать на зятя.
– А это уж мне лучше знать, чего мне с зятем-то делать. Это я сама знаю… Он, зять-то у меня, если примется работать – гору может свернуть. Да! Бывало, за один день на корову сена накашивал. Дрова, бывало, привезет и за вечер все дрова расколет. Силища-то у него неоколесная. Местные жители за это прозвали его «ломовщиной». Бывало, лошадь воз сена не может в гору вытащить. Никитка увидит, за оглоблю схватится и вытащит воз на гору. А первенец его в два года тридцать килограммов весил, полбуханки хлеба съедал в день. Вот!
– Да что вы за люди такие? Как говорить-то с вами? – взмолился следователь.
– Чего это?
– Пошла вон, старуха!
На следующее утро следователь Водопьянов из Пентюхино сбежал. Накануне этого события он случайно узнал, что еще с вечера по селу стал ходить седовласый мужик в серой промасленной оболочке с какой-то большой бумагой в руках и собирал подписи в защиту семьи Горбуновых, которые пострадали при последнем пожаре. А местные старухи сошлись в староверской молельне и стали распределять вопросы, кто на что будет жаловаться государственному человеку с погонами.
Собирались жаловаться на председателя сельпо Ивана Петровича, потому что продуктовый магазин работает два дня в неделю, и ничего хорошего в нем нет. На директора Красновятского райтопа – за то, что не обеспечивает дровами даже пенсионеров, но повадился приезжать на казенной машине к местным вдовушкам. На председателя сельской администрации Ивана Кузьмича – за то, что Дом культуры все время на замке, церковь, приспособленная под склад хлебопродуктов, разрушается, а колокол на ней звонит только во время пожара. На председателя колхоза, потому что лугов не дает для частников, огороды обрезает, техникой не обеспечивает в срок. На инспектора рыбоохраны Матвиенко – за то, что рыбачить в половодье не позволяет, хотя в это время испокон веку на Вятке рыбачили, и рыбы от этого не убывало. На жизнь, большей частью безрадостную в вечных трудах и заботах, где всё через силу, через не могу, и где красный вертолет в синем небе – это такое большое чудо, что с ним ни за что не хочется расставаться, не докопавшись до его счастливо парящей сути, не завладев крохотным кусочком чужого, но такого желанного счастья.
Любитель сусликов
Однажды, приехав на родину из северной столицы, я решил прогуляться по берегу Вятки возле Пентюхина и встретил там Ивана Никифоровича, потомственного колхозника, про которого слышал не раз, но лично с ним знаком не был. Иван Никифорович сидел на берегу, свесив ноги с глинистой кручи, и смотрел куда-то вдаль своими маленькими хитровато прищуренными глазками.
Я присел рядом. Мы разговорились, стали вспоминать прошлое. Я спросил его, как сейчас живет село? Чем дышит? Он видимо ждал этого вопроса, потому что заговорил с готовностью.
– Как живет? Как живет? – начал он. – Хорошо живет. А как ещё? Люди сейчас живут свободно, можно сказать, весело. В соответствии с новыми веяньями. Правда, в последнее время почти никто на работу не ходит.
– Почему? – переспросил я.
– Потому что ходить стало некуда. В прошлом году последнюю ферму в нашем селе разобрали. Крышу сняли, шифер с неё продали, чтобы за электроэнергию рассчитаться, а сама ферма стоит ещё. Стены каменные, добротные, издалека видать. Правда, рамы оконные тоже потом куда-то делись. Рамы – вещь нужная. Их на теплицу можно приспособить, на веранду, или ещё куда. А когда рам не стало, да ещё крыши нет – тогда уже и за потолки мужики принялись, потом – за полы.
– А колхоз?
– Есть, пока что, колхоз. Как не быть. Числится. Даже председатель колхоза имеется и главный бухгалтер. Вот только механизаторов всего два человека осталось. Это потому что у нас в колхозе всего два трактора на ходу.
Иван Никифорович немного помолчал, а потом продолжил:
– В газетах-то пишут, будто всё у нас в России есть, всё хорошо в сельском хозяйстве, только мы работать не можем, как следует. Пьянствуем всю дорогу… А я так скажу, ничего у нас нет. Ни прав, ни власти, ни порядка. Вот, к примеру, солярки в нашем колхозе давно не числится. Пока коровы на ферме были – и солярка была, а сейчас всех коров прирезали после посевной, чтобы за дизельное топливо с банком рассчитаться. И всё. Сидим сейчас без денег… Ну конечно, у нас ещё лошади есть. Три штуки. Два гнедых мерина и одна кобыла. Только, что от них проку. Раньше-то на них огороды пахали и картошку садили, а сейчас как-то отвыкли уже. Да и упряжи для этих самых лошадей в колхозе нет. Кто-то всю упряжь по ошибке домой утащил: и хомуты, и подпруги, и чересседельники. Потом и плуг куда-то запропастился, и плетёный из лозы тарантас, на котором председатель колхоза по праздникам выезжал… Да впрочем, что об этом говорить. Поздно уже… Поля, вон, и те травой зарастают в последнее время. Обидно, конечно, зато красиво, особенно ранней весной. Береза на наших полях хорошо прижилась и осина, и тополь тоже. Это уже не поля, а самые настоящие перелески. Через двадцать лет здесь лес будет шуметь. В Европе к тому времени всё вырубят, в Америке – тоже, а у нас этого лесу будет – пруд пруди…
И суслики в последнее время у нас появились, – вдруг поведал Иван. – Пришли откуда-то. Рыжие такие, шустрые, интересные, ну прямо как люди. Если, к примеру, один из них ест – другой непременно на задних лапах стоит – товарища охраняет… Потом – наоборот. Правда, в наших местах никогда до этого сусликов не было, а вот сейчас почему-то стали появляться… Хорошо это или плохо – я толком не знаю, но мне почему-то кажется, что хорошо. Я сусликов сразу полюбил. Пусть живут. Они добрые. Ни на кого скопом не нападают, не мешают никому. Всё равно поля разной дудорой зарастают, чего им без дела-то стоять. Пусть лучше на них разная живность плодится. Потом кто-нибудь в гости ко мне приедет, а я ему ненароком скажу, что у нас тут суслики появились. Полно сусликов стало. Он не поверит. Люди в городе быстро от земли отвыкают, про сусликов забывают совсем. Не понимают, что к чему. А я вот – наоборот. Я всякую живность люблю. Мне даже ужи не мешают. Тут я одного придавил случайно в огороде… задницей. И ничего. Жена, правда, испугалась, закричала, когда увидела: «Убери змею»! А я – ничего. Ужи они тоже добрые. Пусть живут. На пустых колхозных полях места всем хватит.
Правда, был у нас тут один фермер, так он ни ужей, ни сусликов терпеть не мог… Как говорится, не нашего поля ягода. Не сеял, ни жал – три коровы держал. Ну и мы его тоже невзлюбили, конечно, фермера-то этого. Он для чего-то дом себе построил в три этажа и кур стал разводить рыжих. А его жена даже в магазин за хлебом на своей машине ездила. Приедет и всего наберет. Даже странно как-то. У нас денег нет, а у неё всегда деньги водились… Ну, потом, конечно, и фермер разорился. Технику продал за долги, хозяйственные постройки разобрал и стал кур разводить, которые хорошо летать умеют. Которых зимой кормить не нужно, потому что они зимой улетаю на юг… Тоже видать понял, что к чему.
– Куры на юг улетают? – не поверил я.
– Улетают, своими глазами видел, – стал уверять Иван Никифорович, – Они не нашей породы, наверное. Большие такие, рыжие. Он их привез откуда-то. Нето из Голландии, нето из Америки. Наших-то курей летать не научишь. Они ленивые.
– А сейчас этот фермер, чем занимается? – поинтересовался я.
– Он стал таким же, как все, – кратко ответил Иван. – Даже выпивать научился. И жена у него больше не кажется нам иностранкой. Постарела, осунулась, говорить стала громко… И живут они сейчас только на первом этаже своего огромного дома – там, где русская печь. Остальные-то два этажа у них пустые стоят. В них даже отопление убрали. Всё равно такую махину зимой дровами не натопишь. А угля у нас тут давно нет. Никто нам уголь не возит. Да и купить его не на что…
Иван Никифорович умолк, посмотрел вдаль, потом себе под ноги и вновь заговорил.
– Я сейчас только одному человеку завидую – соседу моему, Петру Ивановичу.
– Почему? – искренне удивился я.
– Он лесник, – пояснил Иван Никифорович. – А лесники, как известно, всегда при деньгах, потому что исподтишка приворовывают. Как говорится, у воды да у лесу не бывает провесу… Хотя наш лесник – человек хороший. Если его по-человечески попросить – он всегда жердей даст на забор, и на слеги под крышу, и на столбы для огорода чего-нибудь найдет в старой делянке… Ну, унесешь ему кой-когда рыбки свежей, медку или мяса – вот и всё… Хороший человек. Грех жаловаться.
У нас в деревне хороших людей много. Вот, к примеру, Василий Алексеевич, который свою жену в прошлом годе зарезал, тоже был человек хороший. Безобидный, можно сказать человек был. Да… Хотя без ножа никуда не ходил. Даже в магазин за хлебом… Василий Алексеевич был у нас забойных дел мастер. Можно сказать, умелец. Если кому надо срочно быка завалить или поросенка зарезать – всегда к нему обращались. Он никому не отказывал и всегда вовремя приходил. Лицо, правда, у него было каменное и нож огромный за голенищем. Посмотрит – как по уху даст, а так – человек хороший…
Он быков всегда в два счета с ног валил. В клён ударит ножичком-то – и всё, и – готово. Потом горло выхватит и начинает шкуру обдирать, да при этом ещё что-нибудь веселенькое рассказывает, шутит или напевает. Хороший человек был… Жаль, пьяный иногда подраться любил. Метелил всех подряд… Ну, мужики из соседней деревни, видать, осерчали на него. Зимой в проруби утопили. Думали, по весне всплывет. Нет, не всплыл. А так хороший был человек.
У нас в деревне хороших людей много. Даже женщины есть хорошие. Упитанные такие, широкие в плечах, горластые. За нужным словом в карман не лезут. И по улице ходят в кирзовых сапогах. Иногда, правда, кричат, конечно, друг на друга, но сильно не матерятся и худеньких мужиков своих стараются не обижать…
Вот у меня жена, например, тоже женщина солидная, хорошая. Она здоровее меня и моложе выглядит, и по весу явно в другой категории, а со мной никогда не связывается. Не дерется. Боится меня, потому что у меня голос строгий… А так – она женщина хоть куда. И аппетит у неё отменный. Только вот, когда она меня своим знакомым представляет, то всегда почему-то говорит: «Это мой муж. Он человек хороший, только сусликов очень любит». Как будто любовь к сусликам – это что-то подозрительное, из ряда вон выходящее. А я считаю, что всякая любовь человека украшает, и нет в ней ничего подозрительного.
– А праздники отмечаете, как? Раньше-то, я помню, гуляли всей деревней. В Доме культуры концерты устраивали.
– Был у нас и Дом культуры до недавних пор. Хорошее было строение, ничего не скажешь. Его из церкви когда-то сделали. Там даже отопление, помнится, было, как в старину – печное. Печей было три, а труба, почему-то, только одна. Вот, наверное, от этого и сгорел Дом культуры во время новогодних праздников. Сейчас, когда мимо идешь, душа так и сжимается от жалости, так и ноет. Сколько с этим Домом культуры воспоминаний хороших связано.
Правда, приличного туалета при нашем Доме культуры не было никогда. Мужики по привычке ходили за угол, а женщины – они же культурные – к речке, в кусты. Там не дует. Но иногда люди, которые из города на лето приезжали, путались, конечно. Они же были без понятия – кому куда. Тогда наши девки пугались очень и визжали. Так у них было заведено. Этот визг издалека было слыхать. Идешь, бывало, куда-нибудь по делу и вдруг – визг. «Ага, – думаешь, – опять кто-то к нам в гости из города приехал, а местность не изучил. Не знает, что к чему, кому куда».
И сельский Совет у нас был в бывшем доме купца Шамова. Большое такое, массивное здание было из красного кирпича. Даже непонятно, как такое могло сгореть во время перестройки. Но почему-то сгорело. Всё сгорело дотла. Даже фундамента не осталось. Мужики, конечно, остатки-то разобрали. Всё, что осталось от него…
– А Детский сад? – неожиданно вспомнил я ещё одно исчезнувшее здание.
– Был и детский сад в старом каменном доме. Говорят, в этом доме до революции жил какой-то лесопромышленник. Потом в нем Волостное Управление располагалось, потом начальная школа, а потом уже и Детский сад. Я в этот Детский сад сорок лет назад заходил. Давно уже, конечно. Но детсад был хороший, очень хороший. Только туалет там был холодный, на улице, и всего на четыре очка. Так сказать, без разделения по половому признаку. Да и что там было делить-то, боже мой. Все на одно лицо. От всех дустом пахнет…
– Почему? – удивился я.
– Тогда вшей у нас придумали дустом выводить. Для этого всех без разбору брили наголо и головы дустом посыпали, как капусту. Дуст тогда считался безвредным, и запах от него был не таким резким, как сейчас. Мы ко всему тогда быстро привыкали… Но садик в этом году закрыли. Из-за трех пацанят держать его стало невыгодно. Сначала закрыли, а потом продали кому-то. Новый хозяин стал разбирать его на кирпичи, но старая кладка не поддалась. Вот и стоят сейчас эти развалины в центре села. И никто не знает, что с ними делать.
Иван Никифорович немного помолчал, вздохнул глубоко и продолжил:
– А прошлым летом ко мне вдруг ученые приехали, из какого-то зоологического института. Им кто-то сдуру сказал, что я с местными сусликами на дружеской ноге… Помнится, они меня возле дома остановили и спрашивают:
– Это вы сусликами интересуетесь?
– Я, – говорю, – правильно вы угадали.
– А не могли бы вы уделить нам несколько минут?
– Могу, – говорю, – уделить. А сам думаю: «Ну, влип. Мать твою»! Я ведь про сусликов толком-то ничего не знаю. Все мои наблюдения по ходу дела. Поверхностные, можно сказать.
– А нам, – они говорит, – ничего мудреного-то и не нужно. Нам только уточнить ареал их расселения, да узнать пути миграции. Вы, не знаете, – спрашивают, – откуда они к вам пришли и когда?
– Я могу сказать, только приблизительно, – отвечаю им. – Года два назад я их увидел в первый раз. До этого они только в Толмеке водились да на Сталинском выселке, а сейчас вот к нам пришли.
– А Сталинский выселок, – говорят, – это где?
– Да тут недалеко, – отвечаю, – за логом.
– А лог, где?
– Там, – говорю, и показываю на юг, – километра три будет.
– Ага, – отвечают они радостно, – значит, они мигрируют, продвигаются на север. Это очень важное открытие для науки… Вы бы нам ещё подсказали, где они сейчас живут.
Ну, я, конечно, рассказал, где живут. Приметил, говорю, давно, что они в колхозном складе живут, где раньше зерно хранилось. И в старых кучах навоза возле фермы, тоже живут. И в горе известковой муки на картофельном поле, которую не успели по пахоте растрясти. Везде живут, где только можно. Они безвредные. Хотя собаки местные их почему-то не любят. Как увидят – так сразу кидаются. Видно, не привыкли ещё. Не понимают, небось, что они в наших местах иностранцы. А иностранцев у нас принято уважать.
Грибовница
Однажды возвращаясь с работы погожим июльским днем, колхозный слесарь Вася Рашпиль набрел на грибы. Грибы праздно росли по краю продолговатого оврага, возле колхозной рощицы, где были разбросаны клочки сухой соломы и солнечные пятна. На вид грибы напоминали шампиньоны. Примерно такие же раньше собирала его мать и по-деревенски называла их лужайниками.
Вася присел возле грибов, срезал один, повертел в руке. Ну, точно, лужайники и есть, чего там. Раскрыл свою хозяйственную сумку из шершавой кирзы и набил её грибами до самого верха.
Придя домой, отдохнул немного на диване, сходил за хлебом в сельповский магазин и стал варить грибовницу. И такой от неё пошел вкусный запах, такой аппетитный, что Вася не выдержал – пригласил на ужин свою сестру Татьяну, а та, в свою очередь, позвала Тамару – стареющую Васину сожительницу, сильно располневшую за последнее время.
Тамара с Татьяной были бабы дородные, до всякой еды охочие, поэтому прибежали тут же. Как водится, выпили по сто граммов, грибовницы со сметаной выхлебали по две тарелки, а уж разговоров завели, что называется, до полуночи.
Вообще-то Вася рассчитывал, что сестра после ужина уйдет – оставит их с Тамарой наедине, но не дождался, сам задремал, сидя. Потом спохватился, вышел на улицу покурить, постоял там под звездным небом, поежился от вечерней прохлады и вернулся домой с зарядом бодрости. Дома прилег на диван перед телевизором. Решил переждать, пока бабы наговорятся, полежал, поворочался немного и… уснул.
Средь ночи Васе неожиданно стало плохо. Закололо что-то в правом боку, в голове зашумело, и к горлу подступила тошнота. Вася с испугу решил, что отравился грибами, опрометью кинулся во двор, упал там на колени и сунул два пальца в рот. Запруду прорвало. После этого Васе, кажется, стало легче. Он вернулся в дом, выпил литровую банку молока на всякий случай, чтобы яд разогнало. Посидел перед ночным окном в сад, подышал чистым воздухом и пришел в себя.
Успокоенный уже, сходил плеснул вчерашней грибовницы сонной собаке. Та ласково и благодарно замахала хвостом. Погладил её по голове. Преданная псина, хорошая. И направился в дом. В дремотном состоянии походил по дому туда-сюда, потом залез на полати, повздыхал там немного в раздумьях о Тамаре. Придумал было сходить до неё, постучать в окошко, спросить о здоровье, но решил, что ночью как-то неудобно. Спит человек, и ему давно пора спать.
Утром Вася проснулся от звонкого стука ложек по тарелкам. Торопливо отдернул ситцевую занавеску на печи, взглянул в кухню, что там? А это бабы пришли вчерашнюю грибовницу доедать. Ели и хвалили. Ели и весело беседовали о чем-то своем. Обе румяные, полные, увесистые, как сентябрьские редьки.
Вася посмотрел на них с недоумением и решил, что грибовница, должно быть, хорошая была, и водка в порядке – просто желудок у него стал никудышный. В пятьдесят-то лет, пожалуй, всего можно ожидать, после такой буйной жизни. Может, и болезнь какая подкралась уже, кто его знает. В больнице-то он редкий гость. Давно уже там не показывался.
Кряхтя слез с полатей, поздоровался с бабами, спросил у них о здоровье. Они ответили, что чувствуют себя прекрасно. Вася успокоился и вышел на улицу покурить, подальше от этой проклятой грибовницы.
А на улице летом, как в раю. Птицы поют, узорная зелень лезет в каждую щель вдоль забора, за сараями туманный лес возвышается, и небе какая-то медовая желтизна.
На всякий случай Тузика позвал из конуры. Как он там после грибовницы-то? Тузик не отозвался. Вася подошел к собачьей будке, дернул за цепь. Ни звука… Присел перед конурой на колени, с опаской дотронулся до псины, и судорожно отдернул руку. Холодная уже псина. «Как же так, – подумал ошалело, – я отравился, собака сдохла, а бабам ничего не сделалось»? Выпрямился, как ошпаренный, и вновь побежал в избу. Бежал и кричал на ходу:
– Бабы, бабы, погодите, не ешьте грибовницу-то! Собака вон от неё вчера сдохла, меня вырвало. Не ешьте, бабы!
Но бабы между тем даже не перестали жевать, только удивленно переглянулись, как говоря, о чем это он?
– Не сырое ведь едим – вареное, – оправдалась Татьяна.
– Верно что… Не пугай давай, – поддержала её Тамара, и принялась хлебать снова, как будто ничего не произошло.
Вася посмотрел на баб ошалело, и как-то запоздало решил: «А ведь и правда, не бабы – кряжи. Разве таких грибками-то свалишь».
– Да уж мы и съели всё, – с наивной улыбкой доложила Тамара, лениво прихлопнув на полной руке жиденького комара, похожего на семечко одуванчика.
– Ну сдохнем так сдохнем!.. Наплевать…
В котельной
– На хамство надо уметь реагировать, – учил меня опытный кочегар Павел в школьной котельной, сидя на скрипучем стуле возле самодельного стола из половых досок.
– Как? – спросил я.
– Вот, например, тебя послали куда подальше.
– И что?
– Ты должен обидчику в рожу дать.
– Зачем? – удивился я.
– Чтобы обозначить свое возмущение. На все надо уметь реагировать. В этом и заключается настоящая свобода.
Павел жил на окраине Пентюхина в деревянном бараке, носил густые рыжие усы, пятнистый темно-зелёный ватник и огромные кирзовые сапоги. В душе Павел считал себя интеллигентом. Он уверял меня, что всем в этой жизни доволен. Все у него есть, потому что он умеет жить скромно. А если что не по нему, если что не так – он в рожу может дать. У него в этом смысле «долго не горит».
– Вот я, например, никому спуску не даю, – хвастался он. – Не так давно даже директора школы оттянул, как следует.
– За что? – не понял я.
– За дело. Я ему несколько раз напомнил, что набивку в насосе пора заменить, через сальник вода протекает. А он – ноль внимания… Волков бояться – в лес не ходить! Пришлось поставить человека на место. Высказать ему всё. Пусть радуется, что я ему по шее не настучал…
– Ну, ты даешь!
– И с женой своей я так же обращаюсь, – заверил меня Павел. – Если чего не по мне, я могу и жену на место поставить.
– Её ты, надеюсь, не бьешь?
– Нет, не бью. На неё мне достаточно грозно посмотреть – она сразу всё понимает.
Павел сделал нижнюю губу коромыслом и слегка приподнял вверх указательный палец, многозначительно глядя на меня.
– В наше время иначе нельзя! Съедят! Я когда вздымщиком работал в Малмыжском леспромхозе, у нас мастером был мужик один по фамилии Закирзянов. Хитрый дядька, я тебе скажу. Мы всей бригадой пахали, добывали живицу, а он у нас почему-то бригадиром числился… Прохиндей! Ну, я взял да и вывел его на чистую воду. Съездил в бухгалтерию леспромхоза и наряды поднял. Казалось бы, что тут такого. Только до меня никто почему-то этого сделал. Вот так вот! Потом мы ему для порядка рожу-то начистили.
Павел закурил, откинулся на спинку стула и задумался. Через какое-то время оживился и нравоучительным тоном добавил:
– Скромность не украшает.
– Понятное дело, – согласился я.
– Сейчас такое время, когда всего нужно самому добиваться, – продолжал Павел нравоучительно, – просто так ничего не получишь. Всё с боем приходиться брать.
– Как добиваться? В суд подавать, что ли? – заинтересовался я.
– Да можно и в суд, – пояснил Павел, – только я привык действовать по-своему. Ты ведь знаешь, что я отработал вздымщиком пятнадцать лет. Хотел по этой причине в пятьдесят пять на пенсию выйти.
– Ну, и что?
– И ничего у меня не получилось.
– Почему?
– Какая-то запись в трудовой книжке этим гадам в пенсионном фонде не понравилась. Запятая где-то не там поставлена. Или организация сменила название. Я толком сейчас не припомню… Мне умные люди тогда тоже советовали в суд подать. А я не стал. Дождался эту суку из пенсионного фонда на улице вечерком и настучал ей по башке.
– А потом? Это же уголовщина какая-то.
– Она потом нажаловалась участковому. Меня скрутили, упрятали на пятнадцать суток в кутузку… Но это всё ерунда. Зато я никому спуску не дал. Мне до пенсии-то осталось уже три года. Как-нибудь доработаю.
– И тебе не хочется добиться справедливости, как положено? – удивился я.
– Хочется, конечно, только для этого моей глотки не достаточно. Кулаков – тоже. Тут надо адвокату платить, свидетелей собрать, документами разными запасаться. Туда – сюда надо мотаться, а у меня личной машины нет. Мне это дело поперек горла. Да и конторы леспромхозовской давно не существует. Все документы в архиве, если сохранились. А из архива каждую справку надо по месяцу дожидаться… Нет. Эта волокита не для меня. Если бы рожу кому-нибудь набить или по шее надавать – тогда другое дело. А бумагами заниматься – это не для меня.
Павел красноречиво посмотрел на меня и скептически покачал головой.
– Это стена. Её не переплюнешь.
– А с юридической точки зрения? – подначил я.
– Да хоть с какой. Законы сейчас каждый день меняются. Сегодня дают пенсию в пятьдесят пять. Завтра – не будут. Год прошел – уже ситуация другая. Если бы морду кому набить или послать куда подальше – это мы в любое время. А с государственной машиной воевать нам не с руки. К тому же зарплату ментам повысили, военным – тоже. Это неспроста. Наша власть народа боится. Чего уж там. Ничего страшнее народного гнева нет.
Вот тут я не могу с Павлом не согласиться. Тут он прав…
Помню, как-то на дискотеке окружила меня толпа незнакомых парней. Все они были слегка навеселе, какие-то излишне возбужденные, и все с наглыми рожами. Один из них попросил закурить. Другой сказал, что надо для порядка отойти в сторону и для чего-то поправил ремень у меня на брюках. Короче, стало ясно, что сейчас меня будут бить. Потому что народу понадобилась жертва. Им показалось, будто я кого-то из себя строю. На кого-то я не так посмотрел, пригласил танцевать не ту. Да мало ли чего. Я понимал, что не справлюсь с ними, что эта толпа меня раздавит. И если бы не один мой плечистый приятель, который в тот момент проходил мимо, всё могло бы закончиться весьма печально. Никакие слова эту компанию не остановили бы. Народ в едином порыве непобедим. Тут Павел прав.
– А вчера захожу в школьную столовую, чтобы на обеде перекусить, как следует, а меня не пускают. Представляешь, – неожиданно сменил тему Павел.
– Почему? – вяло поинтересовался я.
– У завуча юбилей, видите ли. Там, оказывается, столы накрывают для праздника. Ну, я естественно возмутился, права стал качать. Хотел завхозу нашему рожу начистить. Показать ему кузькину мать. Но потом передумал. «Дайте хотя бы второе», – говорю.
– И что?
– Мне вынесла повариха еду какую-то. Я деньги отдаю, а она не берет. Это, говорит, от детей осталось. Другого нет ничего…
– Н-д-а!
– Живем как поросята, – зло резюмировал Павел. – За детьми, что останется, доедаем… Хотя я потом ещё приходил. В разгар веселья. Тогда всё по-другому получилось. Все уже стали добрыми. Усадили меня за стол, заставили водки выпить. Глаза у баб масляные. Так и норовят сказать что-нибудь шаловливое. Ну, я естественно выпил. Присел рядом с молодой химичкой. С той, которая в прошлом году учить начала. Хотел ей сказать чего-нибудь этакое, но слов подходящих не нашел. Застеснялся.
– Чего так?
– Робею перед красивыми бабами. Что тут поделаешь. Это у меня с детства… Но одному ухажеру её я всё-таки по башке-то настучал. Обидно стало. Она на него смотрит, а на меня – нет.
– Кто она? – переспросил я.
– Ну, химичка-то эта. У меня долго не горит. Ты знаешь. Я никому спуску не даю.
– А кого побил?
– Сам не знаю. Чужой какой-то мужик попался, но при галстуке. Он после всех пришел. Не наш вроде.
– Может, учитель какой?
– Да нет. Я не знаю его. Только если приезжий…
Павел потупился, перевел взгляд куда-то за окно. Там на ветвях тополя трепетали на ветру последние желтые листья. Потом посмотрел на меня и спросил:
– А ты чего с высшим образованием в кочегары залез?
– Так получилось, – со вздохом ответил я.
– Пошто?
– Работы по специальности не нашел.
– Дурак! Было бы у меня высшее образование, я бы уголь не таскал, – уверенно проговорил Павел.
– А чем бы ты занимался?
– Сидел бы в канторе какой-нибудь. На стуле качался возле компьютера. Я среди баб работать люблю. Им ерунду какую-нибудь расскажешь – они смеются. Или в коридоре за задницу ущипнешь – им весело.
– Х-м-м.
– А чего? С высшим образованием руками-то можно не работать. Это точно. Башкой ворочать надо.
– Не у всех и не всегда это получается.
– Да у тебя и в котельной-то не всё выходит. То в дежурке не приберешься, то у котла мусор оставишь. И насос после твоей смены всё время надо проверять. То течет, то стучит. Подшипники видно не смазываешь ладом.
При этом Павел посмотрел на меня как-то невесело. Я сразу подумал про себя, а вдруг у него настроение сегодня скверное. Чего доброго, подумает, что я его чем-то обидел – и даст мне в лоб. Я немного ещё посидел на нарах, повздыхал и решил на всякий случай поскорее из котельной ретироваться. Кто его знает, что у него на уме.
Борода
В отличие от меня, у моего прадеда деньги водились. Причем не только на хлеб. И даже не только на хлеб с маслом. У моего прадеда был свой маслозавод.
Звали моего прадеда Никифором. Он носил приличный суконный сюртук, светлые брюки из казинета, хромовые сапоги и всегда имел при себе серебряные карманные часы формы «Густав Жако» на тонкой цепочке. Портила Никифора только его окладистая черная борода, которая на фотографиях той поры навевает что-то дремучее.
В небольшом городке, где проживал мой прадед до революции, его немного побаивались. Сторонились. Должно быть, из-за этой самой черной бороды, а может быть из-за огромной силы, которой Никифор обладал в молодые годы. Бывало, Никифор встретит на улице какого-нибудь пьяного забулдыгу, тот ему бранное слово скажет или заденет плечом. Никифор на секунду приостановится, махнет бородой, рукой тряхнет слегка. Глядь, а пьяный мужик уже лежит на земле как подкошенный…
В тридцатые годы моего прадеда раскулачили. Прадед, конечно, расстроился, но бороду не сбривать не стал. И если бы его после раскулачивания не объявили врагом народа и не сослали на Соловки, он бы и дальше жил у своей дальней родственницы, которая приютила его в старой баньке за огородами.
Несмотря на свой суровый вид, человек он был покладистый и терпеливый. Когда его детям приказали от отца отказаться, он и тут не растерялся.
– А чего вам не отказываться-то, – сказал он, – отказывайтесь, коль власти велят. От меня из-за этого не убудет и вам спокойнее.
Дети плакали, но от отца отказывались. Среди плачущих была моя бабушка Мария. Она на всю жизнь запомнила этот страшный день, когда Гришка Воронов, бывший дезертир, на общем собрании местной молодежи приказал ей от отца отказаться. Мария потом всю жизнь было стыдно за свои слова. Стыдно и страшно, потому что тех, кто от отцов своих не отказывался – оправляли по этапу вместе с родителями в Сибирь.
А прадед Никифор – ничего. Он и на Соловках как-то выжил. И через пять лет вернулся в родной Красновятск.
После возвращения устроился на почту конюхом. Стал на лошади в дальние села газеты возить. К нему жена возвратилась. Вместе они стали угол снимать в чужом подвале на Сенной улице, которую большевики переименовали в улицу Урицкого.
Постепенно Никифор с женой привыкли к нищете, приноровились к новым условиям, притерпелись. Живы и довольно, видят из окна зелёную травку на улице да ноги прохожих – ну и ладно…
И тут дед, как назло, снова решил отращивать бороду. В тюрьме его черные космы охранники приказали сбрить. Дед приказ исполнил, но весь тюремный срок лелеял мечту вернуть себе первоначальный вид – утраченный в скитаниях облик.
Прабабка Анна увидела, что её дед к бритве давненько не прикасается, и стала к нему приставать:
– Дед, а дед, не гневи народ, отступись от своей бороды. Сбрей. Только – только люди про тебя стали забывать. Перестали обращать внимание. А ты опять взялся за свое. Опять на казенной лошади людям товары подвозишь. Деньги за эту услуга берешь. Нехорошо!
– Ладно, – отвечал Никифор, а сам и не думал отступаться.
– Ну, смотри, – предупреждала его прабабка, – привлекут тебя за эту бороду.
– Почему это? – не понимал прадед.
– Борода-то у тебя боярская, – объяснила ему жена, – а бояре ныне не в чести. Посмотри, какая она у тебя черная да густая. Это непорядок. При нынешней власти так нельзя.
– А Карл Маркс, – парировал Никифор, – у него борода была не хуже моей.
– Это вождь, – отвечала прабабка, – а ты кто такой?
– А я пролетарий.
– Прощелыга ты, а не пролетарий, – отвечала ему жена.
Анне в последнее время стало казаться, что все их беды из-за этой проклятой черной бороды. У Никифора борода была большая, чуть не до пояса. А у красных комиссаров в газетах все бороды куцые – клинышком, как у чертей.
Вот не было бы этой бороды, может, и жили бы они по-человечески, как все нормальные люди. К тому же со своей бородой Никифор порой выглядит как настоящий поп или – того хуже – архиерей. А священники у нынешней власти тоже не в чести. На них тоже смотрят с подозрением.
В общем, однажды ночью, когда Никифор вернулся домой пьяным, Анна взяла ножницы, которыми баранов по весне стригут, и отрезала у Никифора половину бороды. Что называется, отмахнула.
Он проснулся утром, привычно провел пятерней по подбородку, где борода была, – и опешил. Нет на месте существенной части его образа. Комолый он стал, как старый деревенский бык.
– Ты чего это Анна наделала? – грозно спросил у жены прадед.
– Чего? – упавшим голосом отозвалась из кухни Анна.
– Это самое… Брода-то моя, где?
– Сгорела твоя борода.
– Как сгорела? – не понял прадед. – Я, кажется, костров не разводил. Не шути так ту.
– А я её в печку бросила пока ты спал.
– Зачем? – удивился Никифор.
– Не хочу одна оставаться на старости лет. А с этой бородой тебя, не ровен час, снова загребут. Вот была бы у тебя брода как у Ленина или как у Калинина – тогда другое дело. А с такой-то как у тебя нам жизни не будет. Я чувствую. Ты и без бороды-то на разбойника похож. А с бородой – и подавно.
– Вот дура баба… Не в бороде же дело!
– А в чем?
– В маслозаводе, который я держал. Из-за него нас раскулачили.
– Не может быть! – усомнилась Анна. – У Морозовых, вон, целая красильня была – и ничего.
– Да у них же зять красный комиссар, – попробовал вразумить жену Никифор.
– А у нас дочь учительница. Да и какой завод у нас был, скажешь тоже. Два бочонка под масло, да колода под сметану. Вот и весь завод.
– Зато дом у нас был кирпичный, забыла что ли.
– Ну и что, мы этот дом своими руками построили. За это не раскулачивают. Нет, это всё из-за бороды…
Лишившись бороды, дед как-то сразу сник, как библейский Самсон без длинных волос. Стал прихварывать, да однажды осенью провалился на своей лошади под лед на мелкой лесной речушке. Он в той речке только ноги промочил, но после этого купания почему-то слег и разболелся на две недели, чего раньше с ним никогда не случалось. В больницу, сколько его не упрашивали, он обращаться не стал, сказал, что от смерти все равно не уйдешь. Таблетками от неё не откупишься.
Стал собираться в дальнюю дорогу. Сходил к знакомому столяру – гроб себе заказал. Крест сам себе смастерил дубовый. Зиму на печи пролежал, а к пасхе помер.
Анна пред смертью заметила, что борода у деда стала сильно расти, только какая-то непривычная – совсем седая. И выражение лица стало у Никифора какое-то другое, как на иконах у святых старцев, которые смотрят со стен полуразрушенного собора в центре Красновятска.
Теперь Анна уже жалела, что отрезала у Никифора бороду. Может быть, и на самом деле, не в бороде дело.
Конкурент
У сельповского конюха Ивана Дмитриевича не так давно появился конкурент – Вася Порошин. Вася от нечего делать смастерил самодельный трактор. Задний мост приспособил от списанного «Москвича», двигатель от мотоцикла, а редуктор от пускача с гусеничного трактора, который случайно нашел в Каменурском логу. Когда Вася снимал редуктор, он вспомнил, что года два назад Коля Карамба пахал на этом тракторе частные огороды, ну и навоздырялся как следует. По пути в гараж из трактора выпал. Утром опомнился – стал свой трактор искать, но не нашел. Да и как найдешь, если Каменурский лог от Пентюхина находится километрах в десяти, а сентябрь тогда сухой был – вот следов-то и не осталось.
Самодельный трактор у Васи получился не хуже любого мотоблока – пашет, косит, сено в самодельной тележке возит. И местные жители как-то сразу признали в Васе мастера на все руки. Стали приглашать вместе с трактором для обработки огородов, дружбу старались завести, угостить чем-нибудь при случае. После этого к сельповскому конюху Ивану Дмитриевичу отношение резко переменилось. Просто так Ивана Дмитриевича уже никто не угощал и впрок – тоже. Если и подавали, то только за дело, с меры, чтобы с панталыку не сбился и до дома добрался своим ходом.
А раньше, бывало, Иван на своей кобыле Майке до огородов доедет, подцепит плуг, как положено, супонь подтянет, чтобы хомут не спадал, и садится в тенек под кусты ожидать румяную хозяйку с угощениями.
Хозяева пашут, картошку садят, боронят на его лошади, а он сидит себе, да горькую попивает. К вечеру так ухайдакается на алкогольной ниве, что его, бесчувственного, на телегу грузят и домой везут через все село, как покойника. Дети малые от одного вида такой процессии плакать начинают, старухи крестятся, старики вздыхают с усмешкой: «Э-хе-хе!».
Дома жена принимает конюха из рук в руки, устраивает в чулане на ночлег, плачет, следит, чтобы на спине не лежал. Всю ночь около него без сна, всю ночь в заботе.
Зато утром устраивает ему взбучку и выволочку. Начинает ухватом по дому гонять. Сначала она его, потом он ее. Кончается тем, что она открывает западню в подполе, задергивает ее половиком и выходит к мужу – дразнит, обзывает разными нехорошими словами. Иван, конечно, нервничает, кидается на бабу с кулаками, а она – легким прыжком через западню – раз, и готово. Иван же по своей забывчивости ступает на половик и летит в трам-тарары, увлекая за собой чугуны и ведра с водой, что стоят около печи на лавке.
Пока Иван приходит в себя в темном подполье, постепенно начиная охать и ругаться, Пелагея быстро закрывает на подполье крышку и вешает на запоре замок. Вот тебе и тюрьма до обеда.
Иной раз, правда, и в подполье он долго не сдается, ворчит там что-то жуткое, сквернословит, в западню снизу колотит старым сапогом. Но Пелагея неумолима, как правосудие.
– Извинения проси, свистодыр, – требует она, – а то вообще не выпущу оттудова и голодом заморю.
– Опохмелиться дашь – извинюсь, – отвечает Иван ехидно.
Пелагея вертит перед западней морщинистым кукишем и продолжает:
– У других-то ведь мужики как мужики – только по субботам причащаются да в получку иногда, а ты каждый день пить заладил. И где только денег берешь? За что тебе подают? Ведь пахать-то ты уже не можешь ладом, городские отрехолки лучше тебя пашут.
– Ну уж нет, у меня борозда, как стрела! – кричит из подполья Иван.
– Тын весь скоро упадет. Вчерась угловую-то доску около бани уже на гасник привязала. И это при живом мужике! С ендовы вода мимо стряку льется. Поросенок вместо корыта из алюминиевой черепени ест… Вот до чего я с тобой дожила!
– У меня борозда!.., – не унимается Иван.
– Да молчал бы уж нето. Э-э-х! Горюшко ты мое! И за какие грехи мне такое наказание?
Иван слышит, как наверху Пелагея начинает тонко всхлипывать да причитать, и ему вдруг становится жаль ее. Он ерзает на холодной земле, чешет лысый затылок и не знает, что сказать ей в утешение. Нет у него в голове словесного сочувствия. В душе скребет, а на язык не вы ходит.
– В других-то людях хоть жалость есть, а в этом нет никакого сочувствия, – шепчет Пелагея сквозь слезы.
После этого у Ивана, наконец, появляется нужная мысль, от которой теплеет на сердце.
– А помнишь, Пелагея, – начинает он, – как мы с тобой сено косили в Черепановском логу? Помнишь?..
Пелагея помнит, ей иногда кажется, что вся ее жизнь прошла по логам да ухабам.
– Али забыла? – спрашивает Иван, на минуту прислушивается, что Пелагея ответит, а потом продолжает: – А я помню… Мы тогда молодые были. Поработали, разогрелись. Тебе жарко стало – ты кофточку скинула на траву. А я стоял и смотрел на тебя во все глаза. Какой ты красивой казалась мне тогда. Какой красивой! Прямо сердце замирало. Потом ты оглянулась на меня – и в глазах у тебя блеснуло что-то озорное… Что это было, Пелагея? А. Не помнишь?
– Молодость, – вздохнула Пелагея.
– Любовь, – поправил её Иван.
Чем ближе к обеду, тем все мягче, все сердечнее становятся разговоры у Ивана и Пелагеи. В конце концов, он начинает раскаиваться во всей своей несусветной жизни… Пелагее становится жаль мужика. Она выпускает его из «карцера» и подает стакан крепкого чаю с малиной. Ну что с ним поделаешь, с этим разбойником, тоже ведь человек с виду.
После чая Иван розовеет лицом, его прошибает пот, и настроение у него поднимается еще более. Сейчас он с женой становится ещё ласковее, но начинает конкурента ругать, Васю Порошина. Из-за Васи все… Вася ставку понизил, стал за один огород брать по сто рублей, в то время как у Ивана дешевле двухсот цена не опускалась, в соответствии с русским стандартом – бутылкой водки.
– Я вот ему устрою, Васе-то! Устрою я ему! Он узнает у меня, как палки в колеса вставлять.
– Да чего ты устроишь? Чего? Да и устраивать ничего не надо. Работает человек – ну и пусть работает, – стала увещевать мужа Пелагея.
– Я ему устрою! Он узнает у меня.
И, что особенно странно, сдержал Иван свое слово. Две ночи не спал, но что-то нехорошее придумал, а потом сделал.
Через неделю самодельный трактор у Васи сломался. После этого все пентюхинцы опять пошло к Ивану Дмитриевичу на поклон, а он впервые за много лет позволил себе поиздевался над неразборчивыми людьми. И технику самодельную охаял. Всем стал говорить, что на эту технику сейчас надежды нет, несерьезная она: сегодня работает – завтра – нет. Вот лошадь это другое дело. Для лошади и бездорожье не помеха, к тому же она своими копытами почву не мнет, ест мало и умная: чего ей ни скажешь – она все понимает, только отвечать не научилась пока. Но запрягать ее надо ладом. Ладом надо запрягать. Кто теперь из молодых-то людей запрягать лошадей умеет, как положено? Да – никто не умет. Иногда человек даже пахать берется, а не знает, как супонь на хомуте затянуть. Как чересседельник к седелку крепится или подпруга. Иной пахарь даже не понимает, для чего лошади узда нужна. Как дуга через гуж к оглобле крепится.
Так бы и жил Иван Дмитриевич, рассуждая и припеваючи, до самой пенсии, если бы не грянула в России повальная перестройка, которая все поставила с ног на голову.
В соответствии с новыми веяниями поступила в сельповскую контору бумага, рекомендующая сократить управленческий аппарат сельпо на одну единицу. И по странной логике провинциальной бюрократии под это сокращение попал как раз конюх Иван – человек бесполезный и беззащитный. Соответственно пришлось сокращать и кобылу Майку. Ивану за два месяца вперед выплатили компенсацию, перед ним нарочито долго извинялись и разводили руками. Майку же без рассуждений отправили на колбасу.
Говорят, при расставании с Майкой Иван Дмитриевич расплакался, ласково стал прижимать ее понурую голову к своей щетинистой щеке, и все просил у нее прощения.
– Ты уж прости меня, дурака. Не жалел я тебя. Не кормил как следует. Пил. Подавали мне. Ты работала, а я пил. Прости, лошадушка, прости, сердешная!
Когда Майку стали по трапу заводить на машину с высокими бортами, Иван Дмитриевич не выдержал – отвернулся и смахнул со щеки скупые стариковские слезы. Колхозный шофер Сашка Соломин увидел вдруг, что и лошадь тоже плачет. Слезищи такие по щеке катятся, что… Подошел к Ивану, ткнул его в бок, пальцем на лошадь указал, а сказать ничего не смог – ком встал в горле.
После этого Иван Дмитриевич не выдержал – рассвирепел, ворвался в сельповскую контору и обозвал всех конторских дармоедами, паразитами обозвал, но от сердца почему-то не отлегло.
Снежная женщина
Помню, она всегда приходила в снегопад. Я видел, как она идет по саду в коричневом пальто и норковой шапке. Все вокруг нее белое, мягкое, округлое, все неподвижно, призрачно и холодно, только плавно переступают ее ноги да покачиваются руки в черных перчатках. Она все ближе ко мне, все отчетливее ее лицо, глаза, губы. Сердце мое начинает восторженно биться. Она уже рядом.
Между тем она входит в дом и наполняет его особым запахом морозного утра. Ее глаза блестят, на ресницах тают случайные снежинки. Я обнимаю ее и целую в холодные щеки. Я очень люблю целовать ее именно в холодные щеки, когда они еще не потеряли аромата морозной улицы, когда они покрыты легким румянцем.
От мягкого воротника ее пальто исходит нежный женский запах, волосы пахнут шампунем и духами, руки кремом. Может быть, именно из-за этих долгожданных встреч в самом начале зимы для меня всегда есть что-то волшебное, и дарит это волшебство первый снег.
Она снимает пальто, поправляет волосы и просит погреть ей руки. Они, и правда, у нее холодные. Я беру её пальцы в свои ладони и грею их. Дышу, растираю, прижимаю к своим щекам. Кожа на ее руках удивительно тонкая, почти прозрачная. Пальцы безвольные, тонкие, осторожные.
Мы садимся на диван перед большим окном в сад и смотрим, как падает снег. Наверное, это может показаться странным, но мы почти ни о чем не говорим. Просто сидим и смотрим, как за окном крупные снежинки лепятся на ветви калины, как они украшают старую яблоню, тёмный забор, и это наблюдение наполняет душу какой-то особенной, понятной только русскому человеку, снежной нежностью.
Потом я обнимаю ее за плечи, привлекаю к себе и забываюсь в длинном поцелуе. Она начинает дрожать, прижимается ко мне и говорит, что ей холодно, она почему-то не может согреться, а сама в это время с тайным трепетом смотрит в снежный сад, и при этом её большие синие глаза таинственно блестят.
Насколько я помню, она никогда не смотрела на меня в упор. Может быть поэтому сейчас я представляю ее только в профиль.
Моя снежная женщина, где ты?
В один из снегопадов, когда за окном очень рано стемнело, и куст калины в саду превратился в один сплошной белый орнамент с редкими вкраплениями красных ягод, мы опомнились на своем любимом диване нагими. Ей почему-то не было холодно всю эту ночь. Всю ночь красивое атласное одеяло пролежало рядом с нашей кроватью на полу… А когда утром я попробовал открыть дверь на крыльце, то впервые едва смог это сделать – столько за ней скопилось чистого белого снега… Он шел всю ночь.
А потом она исчезла на целых две недели, и в ее отсутствие не случилось ни одного снегопада. Каждый день дул ветер и светило холодное солнце. Было скучно и одиноко.
Потом ее не было месяц, потом год. Я пробовал её найти, но все мои усилия оказались напрасными.
Сейчас я ничего не знаю о ней, но в пору зимнего снегопада, когда на меня вдруг наваливается грусть, мне почему-то верится, что где-то далеко-далеко тоже идет снег, и перед большим окном в сад сидит красивая женщина с едва заметным румянцем на щеках и вспоминает странного молодого человека, который когда-то разогревал ей руки своим дыханьем, но не смог отогреть сердце…
А может быть, уже нет на земле той женщины. Может быть, зря в пору тихого снегопада с тайной надеждой смотрю я в конец своего стареющего сада, – туда, где начинается узкая тропинка к дому, и думаю о ней.
Волчица
Володя давно мечтал принять участие в охоте на волков с бывалыми егерями. Из рассказов отца, который всю жизнь провел в лесу на пасеке, он знал о повадках этих зверей почти всё, но живых волков никогда не встречал. К тому же отец был человеком набожным и кротким, он говорил, будто волки это не просто звери, не просто умные хищники, а некий особенный клан животных, в стае которых царит культ матери. Так что с матерой волчицей лучше не встречаться, лучше её не обижать. Ибо по древним славянским обычаям есть некое божество, которое волкам помогает и не дает волчьему роду исчезнуть с земли навсегда.
Когда лесник из соседней деревни сказал, что нашел волчье логово рядом с Пенькиным болотом, ему никто не поверил. Там никогда не водилось волков.
Место это располагалось недалеко от лесной деревни Максанки. Островки песчаной суши чередовались там с бескрайним болотом, густо заросшим осокой и багульником.
Бригаде охотников пришлось добираться туда несколько часов, минуя самые гиблые места, обходя темные озера открытой воды, продираясь сквозь еловые завалы и густой осиновый подлесок.
Раскапывать логово мужики начали после обеда. Руководил раскопками районный охотовед Павел Васильевич Марьянов, а помогали ему Володя Романов и Петя Фаркоп. Марьянов был невысокий худой мужик с бледным лицом и печальными глазами. Он сам лопатой не работал, но был всегда рядом и показывал, как себя вести, когда до волчат будет рукой подать.
Часа через два вход в волчье логово был раскопан до нужной ширины и Володе, как самому молодому из всех присутствующих, – пришлось в него протиснуться.
Волчата забились в дальний угол логова и подняли там страшный визг, перемежающийся с рычанием. Никто из них не хотел сдаваться, а самый старший и сильный с рычаньем нападал на кирзовый сапог Володи и яростно его покусывал. Этот волчонок казался уже настоящим зверем. Сам величиной с большую мужскую рукавицу, но дерзости и злобы ему было не занимать. Кое-как изловчившись, Володя схватил его за загривок, поднял наверх и передал охотоведу. Тот бросил волчонка в мешок. Но и в мешке волчонок долго не мог успокоиться, рвался на волью, рычал и скулил. Между тем Володя достал из норы ещё одного волчонка, потом ещё. В конце концов, в норе осталась только одна крохотная сучка, которая почти не сопротивлялась. Когда она оказалась в руках у Фаркопа, он посмотрел на неё своими светлыми глазами и сказал, что эту убить не позволит. Возьмет себе. Она совсем безобидная.
– Нашел кого жалеть, – громко ответил ему Марьянов, вздергивая волчат по одному на тонкой проволоке и развешивая на ветвях одинокого дуба. – Это же настоящие хищники. У них жалости нет. Только дай им вырасти – потом уже не справишься.
Когда все волчата были мертвыми и бесформенной кучкой лежали под дубом, охотники уселись передохнуть возле костра. У них было хорошее настроение. Только у Фаркопа за пазухой испуганно тряслась маленькая серая сучка. От неё исходило приятное живое тепло. И от этого тепла было тепло у Фаркопа на душе. Это он настоял на своем, это он спас маленькой волчице жизнь.
– Теперь надо матери дожидаться – хриплым голосом проговорил Марьянов, равнодушно глядя на волчат. – Она ночью обязательно придет за ними. Её ничто не удержит. Материнский инстинкт! Надо будет зарядить все ружья картечью да сделать небольшое укрытие из веток метрах в тридцати от логова. Тут, возле волчат, мы её и уложим.
Весь вечер после этого охотники строили укрытие. Володя рубил топором березовые ветки, а Фаркоп таскал их к тому месту, где был когда-то костер. Работа шла медленно, но торопиться охотникам сейчас было некуда. Свое главное дело они уже сделали.
Марьянов на отдыхе рассказывал им какие-то страшные истории из жизни волков. О том, как ловко они выслеживают добычу, как нападают на будущую жертву всей стаей, сшибают с ног и душат мертвой хваткой.
Ближе к полуночи из болотистой низины стал подниматься туман. Сначала он медленно заполнил окружающую логово пойму, потом стал наплывать с низины прозрачными беловатыми волнами, обдающими влажным холодком. Туман подбирался всё ближе и ближе, стирая очертания предметов, контуры деревьев, приглушая звуки.
Но вдруг в этой мрачной безветренной тишине, где-то совсем рядом, сбоку, завыла одинокая волчица. Её отчаянный и продолжительный вой внушал библейский страх. В этом вое было что-то пугающее и трагическое одновременно, что-то из той поры, когда на земле жили только звери и птицы. И сопричастность волков к этому древнему непонятному миру стала вдруг такой очевидной, такой реальной, что втянул голову в плечи даже седовласый охотовед Марьянов.
Потом на трагический вой волчицы откликнулся ещё один волк, потом ещё, ещё. Волки были, кажется, совсем рядом в белом густом тумане, окутавшем болото. Они пока что не нападали, но и не прятались. То один охотник, то другой видел их неясные тени между кустами ивы и кочкарником.
– Всю стаю привела, – с едва скрываемым волнением проговорил Марьянов.
– А сколько их… примерно? – спросил в полголоса Володя.
– Штук пять или шесть, наверное.
– А зачем они пришли?
– Стая! – многозначительно ответил охотовед. – Они все делают сообща. Сейчас, если внезапно нападут, нас никакое оружие не спасет. Особенно, если запаникуем.
И в это время вой прекратился. Воцарилась жуткая тишина. Та тишина, в которой яснее осознаются прошлые грехи. И Володя отчетливо понял, что он сегодня сильно прогневал то божество, которое покровительствует волкам. Что это за божество он толком не знал и не представлял его себе, но когда слышал этот, раздирающий душу волчий вой, когда по его спине пробегал холодок мгновенного страха, – он точно знал, что это божество есть, что оно где-то рядом. Что оно смотрит на них из тумана своими холодными и безжалостными глазами.
Между тем туман уже настолько сгустился, что за его пеленой даже деревья стали казаться расплывчатыми. Всё вокруг стало беловатым, седым, и только где-то справа в темном небе угадывалось ледяное пятно луны.
В какой-то момент Володе показалось, будто он видит на бугре возле мертвых волчат белый профиль волчицы с понуро опущенной головой. На всякий случай он вскинул ружье, прицелился, присмотрелся, но стрелять не стал, потому что волчицы уже не было видно. Только белые клочья тумана, всплывающие откуда-то из тёмной бездны. Он вспомнил точно такую же холодную белую ночь на границе, густой подлесок дальневосточной тайги, невысокие сопки, покрытые кедрачом, блестящую, круто петляющую ленту горной речки внизу, своих армейских товарищей…
Короче говоря, он не заметил, когда его сморил сон, а когда проснулся – то спросонья не понял, что собственно произошло? Почему Марьянов нервно расхаживает по сосновой гриве возле того места, где они вчера оставили волчат, и орет:
– Ну, охотнички! Ну, волчатники! Куда вы смотрели, мать вашу! Волчица всех волчат перетаскала, пока вы спали. И зачем только я с вами связался. Надо было Гришку Никулина взять или Петьку Малышкина. Знал ведь, что с вами каши не сваришь… Что я сейчас областному начальству предъявлю? Как отчитаюсь?
После этого долгое время охотники не встречались. Фаркоп ремонтировал машины на станции техобслуживания, Володя возил лес в Уржумском лесхозе, а про охотоведа Марьянова вообще ничего не было слышно.
И вот однажды судьба свела их снова. Володя Романов и Петя Фаркоп выпили по рюмке водки в одной неприметной закусочной на окраине Красновятска, разговорились, стали вспоминать старое, и в этом разговоре как бы между делом Фаркоп поведал Володе, что их общий знакомый, охотовед Марьянов, пропал два месяца назад где-то на Светлых озерах за рекой.
– А до этого у него, говорят, крыша поехала, – уточнил Фаркоп, – он всем стал рассказывать, будто за ним белая волчица ходит. Как только он вечером в леске каком-нибудь из машины выйдет – она тут как тут.
– Белая горячка, наверное, а не белая волчица, – заключил с иронией Володя, – он ведь всегда порядочно выпивал.
– Да в том-то и дело, что бросил. Как только его эта волчица стала преследовать – так сразу и бросил… Но самое главное вовсе не в этом.
– А в чем? – с некоторым недоумением переспросил Володя.
– В том, что белая волчица, видимо, на самом деле существует… Я тоже видел её однажды недалеко от того места, где мы раскопали логово. Сейчас там стараюсь не появляться. Мало ли чего. А Марьянова второй месяц найти не могут. За грибами ушел и исчез. Как сквозь землю провалился.
Дичь
Свое ружье мы сделали из кочерги. В народе говорят, что кочерга иногда тоже стреляет; так вот эта кочерга представляла из себя ружейный ствол, насаженный на палку для удобства. Мама мешала им угли в печи, и однажды мы на это обратили внимание. Бывает в юности такое время, когда очень хочется романтик, и для того, чтобы эта романтика была ближе, непременно нужно чем-нибудь вооружиться, чтобы не бояться темноты.
Ствол, который мама использовала вместо кочерги, мы алюминиевой проволокой прикрутили к прикладу, отдаленно напоминающему лопату, а ложе и цевье выменяли у братьев Кузиных на сломанный граммофон, изготовленный товариществом «Тихомиров и К°» в одна тысяча девятьсот втором году. Наше ружье получилось довольно несуразное, но страх оно действительно внушало. И скорее всего не только у нас.
У Володьки Бабина, нашего лучшего друга, был на руках дедушкин обрез шестнадцатого калибра. У братьев Поповых – двустволка – подарок представительного дяди из Ленинграда, которого мы называли Робинзоном. А у братьев Коршуновых – берданка. Про них и говорить нечего. Они могли убить кого угодно.
Ранней весной мы начинали охоту на уток. У бакенщика Афанасия Гавриловича брали большую весельную лодку и переправлялись на ней через реку, туда, где в цветущих зарослях ивняка уже гудят пчелы.
Приставали к невысокому берегу, продирались сквозь колючий шиповник на луга и шли к Мякоти. Так называется небольшое озеро, густо заросшее камышом и расположенное в дальнем конце Журавлиного острова. К озеру подкрадывались, чуть дыша, чтобы не спугнуть дичь, а потом осторожно расходились по своим местам.
Мы с братом обычно занимали место под раскидистым ракитовым кустом, лиственные пряди которого спускались почти до самой воды, а возле корня было небольшое сухое пространство. Брат устраивался там поудобнее, потому что в его руках было наше ружье – стреляющая кочерга, а я садился где-нибудь рядом.
Помню, однажды кто-то из ребят спугнул птиц в противоположном конце озера. Они стремительно поднялись в небо и стали кружить над камышовыми зарослями. Не знаю, сколько прошло времени. Я успел вспомнить о школе, о том, что в восьмом классе придется сдавать экзамены. О том, что я давно уже не ходил с парнями смотреть «телевизор». Так они называют казенную баню, где тихими субботними вечерами моются пышные сельповские поварихи…
Я ещё витал в своих мыслях, когда Миша вдруг встрепенулся, прикусил кончил языка и стал поднимать нашу стреляющую кочергу всё выше и выше. У меня от напряженного ожидания будущего выстрела задрожали сощуренные веки, спиной я почувствовал незнакомый холодок, а потом медленно повернул голову в ту сторону, куда сейчас смотрел Миша, и увидел там одинокого, беззащитного чирка, бесстрашно плывущего прямо на нас. Мне стало жаль эту крохотную утку…
И в это время грохнул выстрел. Я видел, как чирок от удара мелкой дроби ушел под воду. После, когда рассеялся дым, из воды торчал только худенький его хвостик.
– Утка!.. Мужики, я птицу добыл! – закричал на все озеро Миша, радостно постукивая себя по бедру.
Со всех сторон затрещали кусты, над озером взлетели всполошенные птицы, но никто уже не обращал на них внимания. Все бежали к нам. У нас была добыча. Миша вытащил из воды птицу и бросил ее к моим ногам. Я испуганно отошел в сторону. Утка была маленькой и мокрой, не вызывающей у меня ничего, кроме жалости и сочувствия.
– Надо же, из кочерги уток стреляют, – восхищенно заметил Володька Бабин.
– Прицелился хорошенько и трахнул, – пояснил раскрасневшийся Миша. – Наше ружье стреляет, как новое.
Все с восторгом посмотрели на наше ружье, которое наполовину состояло из алюминиевой проволоки, изоляционной ленты и плохо обработанной половой доски.
– Вот, смотрите, даже ствол нисколько не шатается.
Миша потрогал, пошатал, а потом понюхал ствол.
– Он еще порохом пахнет.
Володька сунул в ствол палец, потом вынул и недоуменно посмотрел на ржавчину, в которой палец был, как в наперстке.
– Вообще-то его уже чистить пора.
– Вычистим, – заверил брат.
Потом Миша с Володькой ещё долго о чем-то говорили, но их никто не слушал. Все пробовали на вес утку. Изучали её окрас, расправляли маленькие яркие крылья, похожие на веер.
– Увесистая, смотри-ка ты!
– И красивая.
– Если ее сварить – суп, наверное, хороший будет.
– Мы ее бабушке отнесем, – пояснил Миша, как бы оправдываясь. – У нас бабка старая, она жирное есть не может, а утятину любит.
Утку между тем уже передавали из рук в руки, гладили, теребили, целовали в пушистый лобик. И крови на ней не было видно, как будто она умерла не от выстрела – от страха.
Когда мы с Мишей, как настоящие добытчики, бросили нашу утку в таз перед удивленной бабушкой, она только руками развела.
– Вот те на! Пошто это вы птенца-то загубили?
– Это не птенец, это утка такая – чирок называется, – деловито пояснил бабашке мой старший брат.
– Да нет, детки, это птенчик. Жаль ведь птенчика-то, он бы еще вырос.
– Они такие бывают до старости, – заверил бабушку Миша.
– Ты мне, внучек, не говори дурнину-то, не надо. Мы сами всю жизнь уток держали – знаем. Птенец это… Вы уж не бейте больше таких-то. Нехорошо. От людей неудобно.
Мы, оскорбленные, сели на лавку и отвернулись от строгих бабушкиных глаз. Вот тебе и дичь!
Потом, расстроенные, вышли к реке, немного постояли на крутом берегу Вятки, и решили пройти вдоль берега дальше, туда, где была расположена нефтебаза. Миновали зеленый забор, перелезли через железные трубы, которые спускались до самой воды, прошли мимо огромных баков с горючим, и оказались на широкой луговине.
За нефтебазой мы направились к горе свежего мусора возле заросшего крупными лопухами лога. От нечего делать развели возле лога костер и стали разглядывать свежий мусор. Нашли в горе мусора два протеза с блестящими болтами и медными планками, алюминиевую вилку и ржавый утюг. Потом Миша принес откуда-то два пузырька с плотными крышками. Мы налили в них воды и бросили в костер. Сверху на пузырьки положили осколок шифера. Спрятались за кучу мусора и стали ждать.
Костер забабахал минуты через три. Было интересно и весело смотреть, как от громких взрывов разлетаются в разные стороны угли и головешки. Очень захотелось взорвать что-нибудь ещё, чтобы уж трахнуло так трахнуло. Порылись еще раз в куче мусора, но ничего подходящего не нашли.
По дороге к дому зашли на перевалочную базу «Вторчермета». Встретили там Володьку Бабина. Он разбивал топором небольшие подшипники, а шарики от них примерял к стволу своего обреза.
– Пули надо, – пояснил он, когда мы подошли ближе, – из этих шариков самые хорошие пули получаются. С десяти метров половая доска навылет… Братья Коршуновы на воскресенье в тайгу зовут с ночевкой. В лесу все пригодится… Может быть, на медведя пойдем.
– Мы бы тоже сходили, – предложил Миша.
– Вам нельзя. У вас вместо ружья – кочерга. Да и отец у вас строгий. Узнает – башку оторвет.
Потом мы с Мишей открутили от какой-то железяки несколько гаек на донки. Немного покопались в новой куче хлама. Нашли помятые рога от бензопилы, раму от велосипеда и желтый изогнутый крест величиной с приличную книгу. Попробовали на зуб – не золото ли? Не кусается – значит, бронза. Бросили крест обратно в кучу.
– Наверное, этот крест из церкви, – пояснил Миша. – У нас в Пентюхино тоже церковь красивая была, бабка рассказывала. На ней несколько крестов было. Один позолоченный.
– А у меня дед говорил, что Маша – завклубша церковными иконами печь топила – так ее парализовало. А Василий Спиридонович под старость лет с ума сошел. Он кресты спиливал, – дополнил Володька.
– Значит, Бог есть, – для чего-то сказал мой брат.
– Учитель химии, Николай Алексеевич говорит, что Бога нет.
– Он не знает, он молодой еще. Старики об этом больше знают.
Мы ещё поговорили немного с Володей, а потом решили зайти в будку сторожа базы «Вторчермета». Сторож любит разные истории рассказывать про жизнь. Будка была открыта, но самого Максима Ивановича в ней почему-то не оказалось, видимо, ушел куда-то по своим делам. Мы сели на лавку возле печи. Радостно переглянулись. В будке тепло, уютно, из репродуктора льется какая-то музыка.