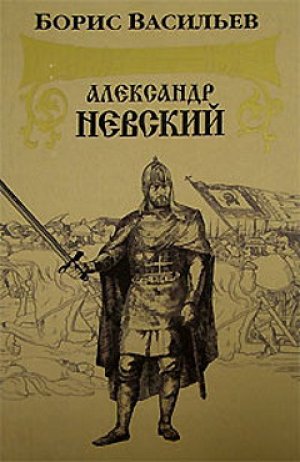
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Великий князь Владимирский Всеволод Большое Гнездо, сын Юрия Долгорукого и внук Мономахов, умирал несогласно. Может быть, потому, что жил согласно, разгромов и обид не претерпел, нагнал страху на половцев, а заодно и на сродственных князей, подтвердив и усилив роль и могущество великого княжения владимирского. А может быть, потому, что занемог внезапно, в кончину свою верить не желал и в гордыне от схимы отказывался. Об этом судачили ближние как в богатых шубах, так и в суровых рясах, но он-то понимал собственное несогласие: жаден был слишком. Жаден до жизни, до Большого Гнёзда своего, устланного нежным черкесским пухом его женой, во святом крещении Марией, в любви и согласии одарившей его восемью сынами да четырьмя дочерьми. Но из всех двенадцати детей своих он больше всего любил третьего сына, Ярослава, в которого, как всегда казалось ему, и перелила Мария всю свою черкесскую страстность и красоту. Любил, баловал и прощал, но боялся, что по смерти его припомнят беспутному красавцу Ярославу и отцовскую слепую любовь, и отцовское слепое всепрощение. И это пугало и мучило великого князя настолько, что вместо скорбных попов да монахов повелел он собрать бояр, но смотрел на них грозно, вдруг разом все шепотки припомнив. Страшные то были шепотки да пересуды, будто отца его, великого князя и градостроителя Юрия Долгорукого, отравили руки, питьё протянувшие, и шепотков этих никто так и не опроверг за всю его жизнь. А жизнь была наполнена победами и здоровьем, и, ощутив недомогание сильнее обычного, великий князь не согласился с ним, не восчувствовал знака, а вёл себя так, будто завтра встанет, выпьет добрую чашу и помчит туда, куда поведут его либо дела, либо княжеский нрав. Но, будучи осмотрительным, все же повелел сынам быть под рукою. И прискакали все, под кем конь не споткнулся.
Только старший Константин не явился пред грозные очи отцовы. Был он, как утверждают, добр душой, заботлив и богобоязнен, с юности княжил в Новгороде, сумел не просто понравиться вздорным новгородцам — то не хитро, всяк знает, что плотники душою простоваты, — но и навёл там порядок, кого надо — казнив, кого надо — помиловав. В него поверили, и он поверил, а отец до болезни неожиданно вызвал его и велел перебраться в Ростов, а потом вдруг передумал и с гонцом передал, чтобы Константин уступил Ростов Юрию. За такой изменчивостью неглупый сын углядел ещё неясную интригу, Ростов уступать отказался и к отцу нарочно опоздал, ожидая, что там решат за него, а дальше видно будет. Всеволода это страшно разгневало, сгоряча он объявил второго сына Юрия своим преемником во владимирском столе, побушевал считанные минуты и отошёл вдруг, как говорят, увидев в дверях опоздавшего Константина, но, однако, успел закрепить Новгород за любимцем Ярославом.
Вот какая передвижка наследников произошла у смертного одра Всеволода Большое Гнездо в считанные минуты. Никто, однако, спорить не осмелился, хотя Юрий гневно смотрел на расстроенного Константина. Остальные, как положено, горевали, а Ярослав три дня плакал, но, как утверждают современники, слезами скорее сладкими. Последнее неудивительно, поскольку засиделся горячий князь в тихом Переяславле-Залесском и получить во владение богатейший город того времени в двадцать один год от роду было куда как приятно, и приятность эту скрыть от очевидца он не сумел.
А после похорон братья разъехались по жалованным уделам, и борьба этих уделов между собой не только потрясла Великое княжество Владимирское, но и характеры самих осиротевших братьев. А ведь ещё на поминках Константин сказал будто бы сам себе:
— В Греции хитрости учат, а не братолюбию.
Покойный отец их князь Всеволод и впрямь провёл детство в Греции, но этих слов тогда будто не расслышали, а потом вспомнили о них. Как о пророчестве вспомнили, потому что сказано было вдруг и вроде бы не к месту. А оказалось — к месту…
А Ярослав поскакал в пожалованный ему Великий Новгород с малой дружиной, распевая на радостях стихири. Но друзья детства, окружавшие его, в пение не очень-то вслушивались, по опыту зная, что бешеная черкесская кровь всегда проявлялась непредсказуемо и вроде бы без всякого повода. А старший из друзей боярин Ратибор, отменный боец и воин, а ещё более отменный пьяница, буркнул в бороду:
— Не на того гляди, кто поёт, а на того, кто подпевает.
Вот тут— то все и поглядели на молодого дружинника Стригу, с недавней поры получившего право держаться княжьего стремени. Стрига был красив, весел и певуч, дерзок и нахален и точно знал, с какой стороны меч. Это нравилось: дружина ценила отвагу, ловкость и воинское умение. Но Стрига обладал и даром угадывать потаённые княжеские желания ещё до появления внешних признаков, никогда не ошибался, и это — настораживало.
— Стригунок, — сквозь зубы процедил Ратибор.
С той поры меж собой все его так и звали, помалкивали да приглядывались, зная, как любит юный князь не столько пиры, сколько молодецкие попойки. Тут границ он не признавал, а ощутив после добрых кубков близость замены в себе самом беспредельной княжеской свободы на столь же беспредельную черкесскую волю, как-то по-особому собирал в одну полосу чёрные черкесские брови, и тогда как из-под земли появлялись весёлые голосистые девки, и в этом «из-под земли да ко времени» и заключались особые таланты Стригунка. А с девками князь ярости не жалел, почему и закрепилось за ним не полученное при святом крещении христианское Федор, а княжее, от язычества идущее Ярослав. И тревожились, как бы с этого не началось и правление в Новгороде далеко от осуждающих глаз старых бояр и молодого великого князя Юрия, которого любил, слушался и даже побаивался Ярослав. Но все пошло не так. Не с дружеских попоек, а с гнева княжеского.
Первым делом Ярослав разогнал всю новгородскую власть, терпеливо и осмотрительно подобранную ещё впавшим в опалу Константином. Сослав в Тверь нескольких людей именитых в цепях и позоре, отдал по навету двор вовремя сбежавшего дружка Константинова на поток и разграбление и взял под стражу его жену и сына. Эти весьма решительные действия дали толчок к столь же решительным действиям новгородской голытьбы, которая тут же разграбила ещё три двора, убив заодно и их хозяев. Тут уж князю доложили своевременно, а он лишь плечами пожал:
— Стало быть, таков гнев Божий.
Однако гнев покарал самих грабителей совсем не Божьим помыслом, кого убив, кого поколотив. Вот это Ярославу не понравилось, и он тут же велел доставить к себе исполнителя сурового возмездия.
— Знаю его, знаю! — радостно объявил Стригунок, мечтавший отличиться не только в своевременной поставке весёлых девок.
Никто идти с ним не рвался, пришлось взять десяток простых ратников, но он привёл-таки на Ярославов двор рослого молодца с добрым мечом на поясе. Правда, молодец шёл сам по себе на шесть шагов впереди ратников и самого Стригунка, что было непонятно, и Ярослав вышел на крыльцо. Молодец сдержанно поклонился и молча ждал, что скажет князь.
— Ты кто? — наконец спросил князь, поскольку молчание затягивалось.
— Ярун. Вольный человек.
— Брату моему служил или отъехавшему князю Мстиславу?
— Ни тому, ни другому. Брата твоего Константина в Новгороде уже не застал, а с князем Мстиславом мы нравом не сошлись.
— Нравом с князем? Дерзок И кто же тебя кормит такого?
— Вот мой кормилец. — Ярун положил ладонь на простые, обтянутые чёрной кожей ножны меча. — Кормил деда, кормил отца, теперь меня кормит.
— Ты убил трех новгородцев?
— Пятерых, — уточнил Ярун. — Двое в Волхове плавают.
— Мечом?
— Зачем дедов меч о воров поганить? Против них и кулак сойдёт.
— И крепкий же у тебя кулак? — вдруг оживился Ярослав.
— Спроси тех, князь, кто в Волхове плавает.
— А ну, Стригунок, покажи ему свои кулаки! — неожиданно предложил Ратибор.
— Что, прямо здесь?
— Спеси в нем не по чину, — недобро усмехнулся Ярослав. — Укороти наполовину.
Стригунок неторопливо и с явной неохотой снял меч и полукафтанье и начал заворачивать рукава нарядной рубахи, изучающе поглядывая на противника. Вольный человек тоже снял оружие, аккуратно отложив его в сторону, и сбросил верхнюю одежду, под которой оказалась простая сорочка. Заворачивать рукава он не стал, а только повёл широкими плечами, разминая их перед схваткой.
— Бей, Стригун! — резко выкрикнул князь. Исполнительный Стригунок тут же рванулся вперёд, однако весьма точно нацеленный кулак его никого не нашёл, и Стригунок пролетел сквозь двор, пока не упёрся в почерневшие от времени бревна тыльной стены церкви Успенья Божьей Матери. В полной растерянности он оглянулся и обнаружил Яруна на прежнем месте, у крыльца, все так же неторопливо разминающего плечи. Вид Стригунка был настолько растерянным, что княжеское окружение уже смеялось в голос. Точно пришпоренный этим смехом, Стригунок тут же бросился в новую атаку, опять никого не встретил и остановился, уткнувшись в ратников у ворот. И тут уж захохотали не только бояре.
— Да он драться не хочет! — обиженно воскликнул княжеский любимец.
— Велю, — весомо обронил князь.
Ему нравилась ловкость Яруна, веселила неуклюжая старательность Стригунка, но схватка должна была выявить победителя. Он уже понял, что им окажется «вольный», то есть не связанный никакими обязательствами неизвестный витязь, и в голове его шевелились кое-какие соображения, с которыми он сам пока ещё не соглашался.
И опять Стригунок сорвался с места молча, без предварительного уведомления, которое предусматривали неписаные законы кулачных поединков. На сей раз Ярун не шагнул в сторону, а просто нырнул под нацеленный кулак, встретив нападающего резким ударом в подбородок. От этого удара Стригунка подбросило в воздух, и приземлился он всей спиной разом саженях в трех, как не без удовольствия отметил Ратибор. Ударился о землю, встать не смог, и к нему кинулись ратники. А никому не известный витязь спокойно оделся и прицепил меч.
— Проходи, — неожиданно сказал Ярослав и посторонился.
Ярун молча пожал плечами и мимо князя прошёл в покои.
Князь угощал победителя в малой трапезной, приказав отменно накрыть стол, но сам не ел, так как дело происходило после полуденного сна. Ярун же поглощал яства усердно, стремясь не только насытиться, но и получить удовольствие. Он знал толк и в закусках, и в дичине, и в напитках, и это Ярослав приметил.
— Кто же ты будешь, Ярун? На простого дружинника не похож, а одежды твои куда хуже, чем у моих ратников.
— Скажу без имён, не гневайся, князь.
— Почему?
— А потому, что не хочу на их головы ни любви твоей обрушивать, ни тем паче гнева княжеского. Достойных в живых нет, а недостойные ни твоих, ни моих забот недостойны. Я — сын известного тысяцкого, вскормлен им, обучен и воспитан с любовью. Только он из битвы в домовине вернулся, никаких распоряжений отдать не успел, и при дележе имущества выяснилось, что я хоть и единокровный, да незаконный, а потому и показали мне от ворот поворот. Пока до Новгорода добирался, конь мой по дороге от стрелы пал. Вот эту стрелу я князю Мстиславу и принёс. Отдай, говорю, обидчика на полную мою волю, потому как стрела эта с метой твоего дружинника, а целился он не в коня, а в меня. Князь Мстислав сказал на это, что нет у него такого в обычае, чтоб своих отдавать. Поспорили, повздорили да и разошлись.
— А пятерых зачем убил? Плечи застоялись?
— Несправедливостей не люблю, а татей — ненавижу. Они ведь не только мужей именитых убили, они и над жёнами их надругались, тебе это ведомо?
Ярослав промолчал. Витязь осушил кубок, закусывал изюмом с орехами и явно ждал, когда князь заговорит. Но князь продолжал молчать, потому что одно дело — спалить дом и убить хозяина, и совсем другое — обесчестить его жену. И он размышлял сейчас, как поведёт себя новгородский владыка.
— А кому ещё про то ведомо? — спросил он наконец.
— Не мой труд языком болтать, — сказал Ярун. — Забот у Новгорода и без меня хватит. Лето мокрое да холодное выпало, селяне и того не взяли, что в землю бросили. Ты с богатым смаком пируешь, а в Новгород голод стучится.
— Здесь я — господин.
— Здесь господин — сам Великий Новгород, у князь. Не руби сук, на котором их волей сидишь.
— А ведь ты — новгородец. — Тонкая черкесская улыбка Ярослава не предвещала ничего хорошего, но об этом знали только приближённые. — Как смеешь учить меня, смерд!
— Все мы — смертны, — усмехнулся Ярун и встал. — За угощение низкий поклон тебе, князь. Признаться, неделю хлеб квасом запивал.
— В дружину пойдёшь мою? У стремени место определю.
— У твоего стремени тот вьётся, кому сейчас рыло чинят.
— Беру! — с гневом заорал Ярослав. — Скажи ключнику, чтоб выдал тебе все, на чем глаза остановишь. — И неожиданно дружелюбно улыбнулся: — И как ты угадал, что я дерзких люблю?
На том и порешили, потому что князь всегда упрямо добивался того, что вдруг взбрело в голову, а Яру-ну просто некуда было деваться. Единственное право, которое он себе все же выговорил, заключалось в том, что во дни буйных княжеских пирушек он непременнейшим образом должен был отряжаться руководить стражей.
— Новгородцы вас хмельных перережут. А тебя, князь, в исподнем в отчий край выставят. Это ведь — новгородцы.
С этим Ярослав согласился, но зато теперь Ярун покорно ездил возле правого княжеского стремени в богатых одеждах, новой броне, но с дедовским мечом в простых чёрных ножнах. А очухавшийся Стригунок замыкал последний ряд, хотя князь по-прежнему вспоминал о нем, когда возникали пред захмелевшими очами манящие воспоминания о сладостных утехах. Только тогда о Стригунке и вспоминали, а так вроде и не было его. И злая обида росла в нем, как поганый гриб, но все его шепотки и намёки Ярослав и слышать не желал.
Но и делать ничего не делал, а разбой в Новгороде тихо, но неуклонно возрастал. Правда, людей именитых больше не трогали, но зажиточных и торговых трясли чуть ли не раз в неделю, и владыка пока ещё особо не вмешивался. Может, потому, что Ярун немедленно выезжал с отроками на место очередной татьбы, а может, просто пока приглядывался к новому князю. А рядом с разбоем прорастал и голод, уже став ощутимым по растущим ценам на самое простое пропитание, вплоть до репы. Посадник дважды посетил князя, упорно напоминая о бедствии, князь заверял, что обозы с хлебом вот-вот должны подойти, но сам ничего не делал. Не по злому умыслу, а только по легкомыслию. Послал, правда, человека к брату Юрию, но просьбы о хлебе не подтвердил по забывчивости, а вскоре с удивлением обнаружил, как оскудел его собственный стол.
— Смердящей едой кормить меня вздумали?
— Еду достанем, светлый князь! — бодро пообещал подвернувшийся под руку Стригунок. — Повели только!
Князь повелел, и через несколько дней, уже по зиме, ловкий подручный со своими отроками пригнал в Городище богатый обоз. С пшеницей и горохом, с белужиной, сигами и сушёными снетками, с южными лакомствами, ветчиной, салом и винами.
— Откуда? — сурово спросил Ярун, не получил ответа и объявил, что пировать не будет, но возьмёт на себя охрану.
А Ярослав закатил пир. Гуляли на том пиру долго и шумно, орали до хрипа, жрали до икоты, пили до блевотины, требовали девок и тут же получали желаемое. Но когда наступило похмелье, а княжья голова ещё не совсем прояснилась, явился от владыки почтённый старец, известный и Новгороду, и князю, и дружине, седой как лунь и весьма суровый.
— Твои люди, князь Господина Великого Новгорода, перехватили обоз, что шёл во владыкин двор!
— Знать о том не знаю и ведать не ведаю. Старец развернул свиток и торжественно зачитал:
— «Да отстанем же от жадности своей, братия возлюбленная моя и ты, призванный народом новгородским князь Ярослав! Яко и апостол Павел пишет: всему же день, то день; всему же урок, то урок, и никому насилия не творить, не воровства не творить, не беззакония не творить».
А на словах добавил:
— Привези хлеб городу, князь, а коли не привезёшь, то и отъедешь от Господина Великого Новгорода.
С тем и ушёл, поклона не отдав. А князь, с хмельной головы впав в неистовство, тут же велел собираться всей дружине. Напрасно Ярун, Ратибор и ещё несколько опомнившихся умоляли его отменить повеление, поехать к владыке с покаянием, вернуть ему пограбленный обоз и выдать Стригунка головой: Ярослав и слушать не желал. Обрывал разговоры, злился, а потом вдруг выкрикнул:
— Я здесь владыка!
Это уже звучало почти кощунством, и все замолчали. И начали готовиться к отъезду: кто в весёлом ожидании сытости и довольства, а кто и со смятенной душой, и число таких увеличивалось, потому что — трезвели. А после полудня выехали настолько поспешно, что князь отменил даже послеобеденный сон, завещанный ещё пращуром Владимиром Мономахом. Но оказалось, что вовремя выехали: на всех площадях, перекрёстках и улицах толпился народ. Молчаливый, голодный и озлобленный.
Заночевали в поле, по-походному, но доспехи, правда, сняли. А на другой день на подъезде к Торжку ловко пущенная стрела вонзилась в неприкрытую кольчугой спину Яруна, ехавшего у правого княжеского стремени.
Очнулся Ярун в постели. Мягкой, пуховой, для него непривычной. И первым, что увидел, было светлое, милое девичье лицо, а первым, что услышал, был женский шёпот:
— Отсасывай яд все время, Милаша. В нем не должно ни капли остаться. А я схожу за молоком.
«Яд, — с огромным усилием соображал Ярун. — Откуда яд?… Стрела?…»
Яд применялся, но чаще охотниками, а дружинники им, как правило, не пользовались. Войны были удельными, по сути, родственными, и при всей их жестокости успех боя решался в рукопашном бою. Да и добывать яд умели немногие: и знание это считалось колдовским, и самих-то змей в Северной Руси было не так-то много. В сушёном виде его привозили с юга, стоил он недёшево, да и кто стал бы его покупать?… Эти мысли медленно ворочались тогда в зыбком сознании трудно боровшегося со смертью Яру-на. Он не знал, что по повелению князя Ярослава его быстро домчали до одинокой небогатой усадьбы, когда-то пожалованной покалеченному верному дружиннику ещё Всеволодом Большое Гнездо, на которой проживал сам хозяин с женой и дочерью да пятеро его работников. По счастью, жена умела бороться со змеиными ядами, унаследовав это уменье от своей бабки-знахарки, а потому взялась за лечение сразу. Лучшим лекарством она полагала беспрерывное отсасывание отравленной крови, горячие грелки к ногам да парное молоко, которое поначалу приходилось вливать насильно, разжимая крепко стиснутые судорогой зубы раненого.
— Отсасывай кровь, Милаша. Уморишься, я начну отсасывать.
Тринадцатилетняя девочка с большими бледно-голубыми, как незабудки, глазами старалась изо всех сил не просто во исполнение наказа матушки, но ещё и потому, что уж больно пригож был могучий кареглазый витязь, ворвавшийся в её тихую жизнь будто из сказки. Это её озабоченное личико увидел Ярун, окончательно очнувшись после трехдневного отчаянного балансирования между жизнью и смертью.
— Ты кто?
— Я? Я — Милаша. Матушка, он очнулся, очнулся!… Ярун и вправду полностью пришёл в себя, но был настолько слаб, что его приходилось кормить с ложечки. Сначала мать и дочь делали это по очереди, но когда кормила дочь, больной ел заметно охотнее, и в конце концов право на эту заботу окончательно закрепилось за Милашей. А ведь каждый человек просто не в состоянии забыть того, кто когда-то выкормил его с ложечки…
Но память закладывается и закрепляется медленно. Память — охранная башня чувства, требующая не только прочного фундамента, но и неторопливой, старательной подгонки кирпичей. И кирпичики эти ложились один к одному каждый день, а выздоровление шло медленно.
А пока Ярун сражался с болезнью и строил свою башню, князь Ярослав разрушал свою.
Внезапно потеряв нового правостремянного, он почему-то решил, что стрела была направлена в его спину, счёл это запоздалой местью новгородцев и, засев в Торжке, закрыл проезд в земли Великого Новгорода всем хлебным обозам. Голод, который уже ощущался в Новгороде, стал расти день ото дня. Ели собак и кошек, мышей и крыс, палых лошадей, сосновую кору, еловую заболонь, мох, лишайники, сено. Трупы валялись по улицам, детей с великой благодарностью отдавали всякому, кто хотел их взять, небо каждую ночь полыхало заревом очередного пожара. Дважды новгородцы отправляли послов к Ярославу, умоляя его сменить гнев на милость, и оба раза князь вместо ответа бросал послов в темницу.
И тут с юга в Новгород прибыл князь Мстислав с хлебными обозами. Раздал хлеб, а через три дня собрал вече и сразу же обратился к горожанам с весьма воинственной речью:
— Оставим ли послов своих, братьев своих в заключении и постыдной неволе? Да воскреснет величие Господина Великого Новгорода, ибо там Новгород, где Святая София! Рать наша малочисленна и подточена голодом, но Бог — заступник правых!…
Воинственность Мстислава объяснялась не только присущей ему бестолковой отвагой. Путь его к Новгороду был извилист, и на этих извилинах он успел договориться о помощи и со Смоленском, и со Псковом, а заодно наобещать и Константину, обиженному отцом, что восстановит его права. Южные княжества уже помирали медленной смертью, запутавшись в бесконечных братоубийственных войнах, а здесь, на севере, Мстислав вдруг увидел возможность сокрушить могущество Владимирского княжества под благовидным предлогом наказания Ярослава и Юрия за новгородский голод.
Однако силы для этого предстояло ещё собирать. И пока Мстислав ретиво занимался этим, Ярославу донесли и о его речах, и о его приготовлениях. Рассвирепевший Ярослав тут же приказал дружине выловить всех новгородцев в окрестностях, заковать в цепи и отправить в Переяславль-Залесский, лишив имения и товаров. И скорбная процессия скованных цепями двух тысяч ни в чем не повинных людей поплелась сквозь снега, морозы и вьюги к месту далёкого заточения.
И все пришло в движение с обеих сторон. Вооружались ратники, подтягивались союзники, точили оружие дружинники, и гонцы, нахлёстывая коней, мчались от князя к князю, от города к городу. Очередная братоубийственная война уже тлела, разбрасывая искры взаимного недоверия и ненависти.
А Ярун ничего об этом не знал, потому что крохотная усадьба, в которой его приняли, как приняли бы сына, лежала в стороне от дорог. Он уже вставал и даже начинал ходить, с трудом таская ослабевшие и будто совсем не свои ноги, и первым делом навестил коня, который застоялся в конюшне, пока выхаживали его хозяина. Конь был гладок и ухожен, радостно заржал, увидев Яруна, и ткнулся мордой в его плечо. И если бы не Милаша, сопровождавшая Яруна с первого его шага, он бы наверняка упал от столь крепкого приветствия.
— Ему надо ходить, — сказала мать. — Так скорее дурная кровь очистится.
И они гуляли. По чищеным дорожкам усадьбы, по конюшням и коровнику, где Ярун отдыхал, пока Милаша доила коров. А кругом уже пахло весной, синел, оседая, снег, капало с крыш и восторженно орали петухи.
Странно, но они почти не разговаривали. Им нужно было только быть рядом, смотреть друг на друга и ощущать растущую близость. Порою за весь день бывало сказано два-три слова, и, как правило, Милашей, но однажды уютный звук упругих струек молока, бивших в ведро, был нарушен Яруном.
— У меня ничего нет, кроме меча, — сказал он. — Разве ещё слово, которое даю с оглядкой, потому что не нарушаю. И один свет — ты, Милаша. Ничего не обещаю, но буду служить князю Ярославу так, что он даст нам и землю, и скот. Завтра я стану на колени перед твоим отцом и буду Богом молить его отдать мне тебя, если ты согласна.
Тем же вечером Ярун торжественно опустился на колени перед родителями Милаши, и жених с невестой получили благословение, скреплённое целованием иконы Божией Матери. И свадьба была назначена ровно через семь недель.
Только 20 апреля отец вернулся озабоченным. Он поставлял к столу Ярослава молоко да сыры, которые сам мастерски варил и выдерживал в темноте до полной спелости. Ярослав был щедр и милостив к старому дружиннику своего отца, но в то предвечерье хозяин вернулся встревоженным и, помолясь по приезде, отозвал Яруна.
— Князь Ярослав и брат его великий князь Юрий, боюсь, что в беде большой. Стан их окружён Мстиславом с новгородскими, смоленскими и псковскими полками Не миновать усобицы.
— Коли князь в беде, так и я в седле.
Ярун тут же заседлал коня, прицепил дедов меч, низко поклонился будущему тестю и ускакал в густеющие сумерки, даже не попрощавшись со своею наречённой.
Холодно было, ненастно и сыро.
А ещё днём, ещё до того, как Яруну стало известно, что Ярославу грозит беда, князь Мстислав в последний раз направил послов к братьям, князьям Владимирским. И хоть летописи уверяют, что был Удалой весьма миролюбив, посольство было всего лишь поводом затянуть начало битвы: Мстиславу нужно было выстроить новгородскую рать, которую привёл старший сын Всеволода Большое Гнездо, им же отвергнутый Константин. То ли князь Юрий догадался об этом, то ли Ярослав вообще ни о чем не желал думать, а только первым, поперёд молчавшего Юрия ответил:
— Не время болтать о мире. Вы теперь — как рыба на песке. Зашли далеко.
— Князь Мстислав предлагает себя в посредники в вашем споре с Константином, — продолжал добиваться седобородый степенный посол. — Не лучше ли остановить братоубийство, пока не заревели трубы?
— Сам отец наш великий князь Всеволод не мог рассудить меня с Константином, — сказал Юрий. — Так к лицу ли Мстиславу быть нашим судьёю?
— Пусть Константин одолеет нас в битве, тогда все — его, — поддержал Ярослав.
Послы удалились ни с чем, хотя задачу свою вы-полнили: и мир предложили, и время выиграли. А братья, довольные своей непреклонностью, пошли в шатёр пировать.
А пир был воистину Валтасаровым. И за пением славы и хвалы князьям, за звоном кубков, криками, смехом и общим шумом буйного застолья никто так и не заметил огненных слов, начертанных божественным перстом. Правда, пожилой боярин, служивший ещё князю Всеволоду, назойливо шептал на ухо князю Юрию, что-де стоит ли отвергать мир и не лучше ли признать Константина старейшим господином земли Суздальской.
— Воины смоленские весьма дерзки в битвах, а Мстислав в ратном деле не имеет соперников…
Но Юрий только отмахивался от его шёпота, как от мухи. То были сумрачные времена обид и недоверия, когда подающий заздравный кубок вполне мог подсыпать в него яду, а обнимающий тебя брат — вонзить нож в спину, убедившись, что под рубахой нет кольчуги, и никто не верил никому Верность рассматривалась как изощрённая хитрость, а клятва ровно ничего не значила, поскольку все уж очень часто и охотно клялись. И даже святая клятва на кресте ни к чему не обязывала, потому что в случае нужды клятвенный крест меняли на другой, а потом неистово божились, что клялись на ином кресте, а значит, и торжественное целование не имеет теперь никакой силы.
— Да у нас тридцать знамён! — вопили за столом. — Тридцать знамён да сто сорок труб и бубнов!…
— Оглохнут!…
— Да мы их сёдлами закидаем!… — весело орал Ра-тибор.
— Никогда ещё супротивники наши не выходили целы из земель суздальских!… — кричал Стригунок, вновь занявший место подле князя Ярослава.
— Верные слова. — Ярослав встал, и все замолкли. — И сила наша без пощады. Никого не жалеть, никого не щадить, даже тех, у кого оплечье золотое. За то вам брони, и одежда, и кони их.
— Пленить одних князей, — счёл нужным уточнить князь Юрий. — Потом их судьбу решим.
Это было хотя бы разумно, но все уже захмелели, воодушевились и решили делить землю прямо тут, за пиршественным столом. Юрий кроме Владимира взял себе ещё и Ростов, вернул Новгород Ярославу, отдал Смоленск брату Святославу… Легко и весело шёл делёж шкуры неубитого медведя.
Как раз в разгар победных криков Стригунок и уловил, что черкесские брови Ярослава сами собой начали соединяться в одну линию. И жарко зашептал в ухо:
— Может, передохнуть хочешь, светлый князь? У меня в шатре такая ягодка-малинка…
Князь молча встал и начал выбираться из-за стола, расшвыривая пьяных сотрапезников.
А тем временем злые, голодные, продрогшие на промозглом ветру новгородцы, как медведь, чью шкуру столь ретиво делили за столом, медленно обходили горушку, на которой за частоколами укрепилась суздальская рать. Однако сторожевой полк легко отбросил атакующих, из-за этой самой лёгкости и не поставив в известность пирующее начальство.
— Спешите? — с укором спросил князь Мстислав отступивших. — А снег рыхлый, тут с умом надо.
— Сразимся пеши! — воодушевлённо заорали новгородцы.
— Друзья и братья! — внезапно закричал Мстислав, уловив воодушевление. — Вошли мы в землю сильную, так призовём на помощь Бога и Святую Софию! Кому не умереть, тот и жив останется! Забудем на время жён и детей своих. Сражайтесь пеши, так оно сподручнее будет!
Новгородцы, а вслед за ними и смоляне спешились, сбросили верхнюю одежду, а смоляне — даже сапоги, и с громким кличем: «Новгород и Святая София!» — яростно полезли наверх по рыхлому, истоптанному снегу. Говорят, что в этот момент и показались первые лучи солнца 21 апреля 1216 года, победного для новгородцев и столь горестного для суздальцев…
Атакующие при всей ярости медленно поднимались в гору, защищённую не только частоколами и плетнями, но и суздальскими ратниками. Они занимали более выгодную для рукопашной позицию, и в какой-то миг показалось, что атака вот-вот захлебнётся и новгородцы вместе с босыми смолянами покатятся вниз, сминая вторую линию, а заодно и княжеские дружины. Поняв это, князь Константин с криком: «Не выдадим добрых людей!» — впереди своей дружины бросился на помощь. Ловко орудуя боевым топором, он трижды прорывался сквозь суздальские заслоны, проламывая черепа собственным землякам. По натуре он был человеком отнюдь не воинственным, но в тот момент могла погибнуть вся его мечта вернуться в Новгород во славе победителя, и он забыл о пощаде. И началась битва, которую летописи описывают с ужасом, ибо сын шёл на отца, брат на брата, холоп на господина, и никто не брал пленных.
Ярослав проснулся в чужом отдалённом шатре, когда его брат Константин уже остервенело крушил черепа. Оттолкнув разомлевшую в истоме очередную утешительницу, схватил меч, выбежал из шатра в одном исподнем, вскочил в седло и помчался в самую гущу схватки. Воином он был лихим и отчаянным, смерти не боялся — не до того было, власть терял! — и кричал, что пришёл, что все должны прорываться к нему, что все вместе они отбросят врага в низину. Увидел Ратибора, увидел, как тот прорывался к нему, но упал, и с новым всплеском ярости ринулся на противника. И враги шарахались от его меча, ибо недаром за ним навсегда укрепилось языческое имя ищущего в ярости славу.
Но и новгородцы опомнились, и свои не подходили, и уже довелось отбиваться, спасая собственную жизнь. Уже повисли на поводьях, останавливая озверевшего от криков, крови, грохота и звона коня, уже выбили меч, уже тянули с седла, когда откуда-то появился вдруг всадник. Умело и расчётливо работая мечом, прорвался к Ярославу, подхватил с падающего коня, перебросил на своё седло и умчал из страшной, на удивление беспощадной сечи, в которой пленных оказалось всего около шестидесяти суздальцев, а на тот свет ушло девять тысяч двести тридцать три христианские души от христианских мечей и кривых но-жей-засапожников…
Не жалея коня, Ярун мчался к той усадьбе, где был спасён от смерти, где нашёл приют и ласку, любовь и невесту. Князь узнал его в первый миг, сказал: «Я знал, что ты поспеешь…» — и замолчал, впав в забытьё. Не пришёл в себя Ярослав и тогда, когда Ярун остановил взмыленного коня у крыльца, бросил выбежавшей Милаше: «Коня выводи», — и на руках внёс князя в дом.
— Это князь Ярослав, — сказал он старику. — Сын твоего господина. Он вроде не ранен, только порезан: сеча там страшная.
Ярослав пришёл в себя, когда хозяйка начала его перевязывать. Узнал Яруна, с трудом приподнялся, снял с шеи золотую цепь:
— Нагнись.
Ярун нагнулся. Князь надел цепь ему на шею, притянул голову, поцеловал в губы:
— Носи с честью, цепь на тебе княжеская. Ты мне жизнь спас, а порты спасти не смог. Скачи туда, в сечу не ввязывайся, собери наших. Константин с Мстиславом и сюда пожаловать могут. Не медли, Ярун.
К месту одного из самых кровавых сражений Ярун ехал осмотрительно. Часто видел пеших и конных воинов, но вовремя скрывался, и они его не замечали. Он уже понял, что суздальцы потерпели страшный разгром, и его удивило, что нигде не было заметно обозов с ранеными. Несмотря на молодость, он был опытным воином, понимал, что после такой сечи раненых должно было бы быть особенно много, а их не было вообще. Ни на возах, ни на конях, ни плетущихся пешком, поддерживая друг друга. И только добравшись до места битвы и оглядев его из укрытия, он настолько ужаснулся, что смог лишь с трудом перекреститься.
Все поле боя — склоны холма, низины и берег реки Липицы — было сплошь завалено раздетыми до исподнего трупами. Здесь не брали пленных и не щадили раненых, здесь старательно добивали всех, забирали оружие, сдёргивали сапоги, снимали окровавленную посечённую верхнюю одежду. Со всех, без исключения. С дружинников и ратников, с холопов и бояр. Такого он ещё не видывал. Никогда. И тогда он спешился, стал на колени и начал истово молиться не только о царствии небесном для павших, но и о милосердии, о котором забыли на этом поле. А потом сел в седло и отъехал прочь, поняв, что спасшихся надо искать подальше от этого опоённого кровью поля.
К концу третьего дня поисков он собрал два десятка дружинников, половина из которых была ранена. Дружинники оказались незнакомыми, служили князю Юрию, но золотая княжеская цепь на груди Яруна сразу убедила их в его праве отдавать приказы, и он повёл их к усадьбе на крупной рыси. Добравшись до неё, велел всадникам спешиться, взбежал на крыльцо и распахнул дверь.
И остолбенел, увидев вдруг постаревшего, потерянного хозяина, жалко притулившегося пред иконой '
— Где князь Ярослав?
— Уехал, — не поднимая головы, тихо сказал хозяин. — За ним его дружинники прискакали.
— Ну и слава Богу, — Ярун перекрестился. — А ты почему будто из седла выбитый? Где Милаша?
— Увёз он её, — еле слышно ответил старик. — Мать с той поры в беспамятстве…
— Куда увёз? — крикнул Ярун. — Куда умчал, спрашиваю?
— Будто в Переяславль…
Старик бормотал что-то ещё, но Ярун уже выбежал на крыльцо:
— По коням!…
В княжеском дворце Переяславля пировали, когда распахнулась дверь и вошёл Ярун. Все примолкли, а сидевший рядом с князем Стригунок посерел вдруг и протянул растерянно:
— Никак, с того света…
— Где Милаша, князь Ярослав? — тихо спросил Ярун. — Верни её мне, и ни о чем боле не спрошу.
— Кто такая? — не без смущения забормотал Ярослав. — Ведать не…
— Милаша. Моя Милаша. — Ярун шагнул к столу, в упор глядя на Ярослава. — Так ты отплатил за спасение своё?
— Что с воза упало… — начал было Стригунок.
— А ты… — Палец Яруна упёрся в него. — Ты молчи. Ты один знал, что я без кольчуги тогда выехал, ты… Ты страшной смертью умрёшь.
— Молчать, смерд! — закричал наконец-то пришедший в себя князь. — Вон, пока жив. Видеть тебя не желаю!
— И я тебя, князь Ярослав, — тихо сказал Ярун. — Как вольный витязь объявляю тебе, что отъезжаю от тебя навсегда.
Рванул с шеи княжескую золотую цепь, швырнул её на стол перед Ярославом и вышел.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Субедей— багатур -приземистый, широкий и тяжёлый, как веками обкатанный камень, — никогда не улыбался и никогда не повторял своих приказаний. Узкие глаза его умели смотреть не моргая, потому что этому его научила сама смерть, в лицо которой он глядел несчётное число раз. Голос его был глуховат и неразборчив, но никто никогда не осмеливался переспрашивать, что он сказал. Все знали, что он был великим воином, но великих воинов среди монголов хватало, а Субедей-багатур был один. Он читал битву, сидя в седле позади своих войск, но читал без ошибок, всегда вовремя отмечая ошибки врага. Его не любили все, даже сам великий Чингисхан: его чтили. И если остальные полководцы Чингиса были клинками, разящими врага, то Субедей-багатур был рукой, владеющей этими клинками.
Перед ним в походной юрте сидели командиры его туменов, поредевших во время трудного прорыва через Кавказ: Джебе-нойон, Тугачар и Голямбек, выдвинутый самим Субедей-багатуром. Сидели молча, не прикасаясь ни к питью, ни к еде, потому что к ним не прикасался сурово молчавший Субедей-багатур.
Он думал. Как всегда, неторопливо и основательно перебирал все известное по отдельности, не смешивая факты раньше, чем разберётся с каждым, поймёт его значение, место и самоценность и взаимосвязи, строго руководствуясь при этом точно поставленной ему лично задачей. Задача была ясной — великий Чингис всегда отдавал ясные приказы, — но прорыв через Кавказ потребовал больших жертв, помощи ждать не приходилось, и полководец решал сейчас, как исполнить повеление исходя из того, что имел. А имел он, в сущности, не более трех туменов да двух уцелевших на долгом пути корпусных командиров, не считая назначенного совсем недавно Голямбека. Два оставшихся в его руках клинка из пяти, когда-то выступивших в этот поход, — неподвижно застывших перед ним Джебе-нойона и Тугачара. От них сейчас зависело куда больше, чем от всех его потрёпанных войск: по огромному личному опыту он знал, что битвы выигрывают полководцы, а совсем не число сабель. И, думая о повелении Чингисхана, взвешивая все, известное ему, Субедей-багатур ни на миг не забывал о тех, кому придётся исполнять это повеление.
Джебе— нойон. Очень опытен и до сей поры не утратил способности вовремя оглядываться, несмотря на весь победный боевой путь. Это хорошо, очень хорошо, потому что вождь, не теряющий головы от первых успехов, всегда сумеет внести поправки в случае неожиданной контратаки, непредсказуемого удара или внезапного изменения самого ритма боя. Это хорошее качество, но именно из-за него Джебе и может замедлить преследование. А отступающий противник неравнозначен противнику отброшенному: он способен вновь собраться и с силой, и с духом.
Тугачар. Внук Чингисхана, а потому весьма самонадеян. Стремителен, горяч и склонен не просто верить в успех первого удара, но и увлечься им. Врубиться в ряды врага и, встретив внезапное сопротивление, оказаться в окружении, в ослепляющих молниях клинков со всех сторон. Конечно, он не ударится в панику и не допустит её в рядах своих конников. Но он может погубить их и погибнуть сам. Это плохое качество, но оно же становится превосходным, когда Тугачар преследует сбитого противника. Он делает это без малейшего колебания, он беспощаден и жесток, он будет гнать отступающих до полного их уничтожения.
Голямбек. Смел, опытен, но — не монгол. Добровольно пришёл на помощь ещё на Кавказе, решая какую-то свою выгоду. Собрал тумен из местных народов, но годен пока только для задач вспомогательных.
Итак, Джебе — для начала битвы. Для момента равновесия сил, чтобы удержать врага, сбить его, спутать строй, смешать ряды и тем склонить чашу весов на свою сторону. И только после этого — стремительный и беспощадный удар Тугачара. Прорыв, бегство противника и преследование до полной и окончательной победы.
Осталось два вопроса: где и когда? Оба должен решить он, Субедей-багатур, потому что ответ на эти два вопроса — один. Там и тогда, где и когда будет ему выгодно. Для этого нужна разведка, но разведка требует времени. Значит, надо выиграть это время.
Время выиграет Голямбек. У него не монгольский тумен, поэтому им и должно пожертвовать.
Неспешно добравшись до этого решения, Субедей-багатур взял чашу и с удовольствием отхлебнул глоток кислого, отлично выдержанного кумыса. И его помощники тоже подняли свои чаши и тоже выпили по глотку.
— Чингис повелел захватить тучные пастбища, без которых мы не сможем покорить земли стран заходящего солнца, — торжественно начал Субедей-багатур. — Мы вышли на край степей, которые топчут половецкие табуны. Нам необходимо осмотреть их, узнать ограничивающие их реки и испытать силу половцев. Такова часть поручения, возложенного на нас. Голямбек, ты отвечаешь за дружбу и безопасность торговых людей. Что поведали они тебе о половцах и их соседях?
— В Половецкой земле несколько кочующих орд, но над ними нет единого хана. Однако при опасности они выставляют общее войско, которое может быть усилено дружинами их соседей — русичей, породнившихся с половецкими ханами. В странах, лежащих в краю холодного солнца, находятся сильные русские княжества, защищённые от степей полосой непроходимых лесов. Там негде пасти табуны, и это все, о чем поведали мне торговые люди.
— Станут ли они помогать половцам?
— Этого никто не знает.
— Значит, ты плохо расспрашивал их, — с неудовольствием отметил Джебе.
— Закон и обычай запрещают расспрашивать торговцев с пристрастием.
Субедей— багатур шевельнул рукой, и оба командира сразу примолкли.
— Чогдара, — негромко сказал он, ни к кому не обращаясь.
Один из двух телохранителей, неподвижно стоявших у входа, почтительно склонился и тут же вышел.
— Голямбек сделал возможное, а за невозможное не бранят, — сказал Субедей-багатур. — Каждый должен быть тем, кем должен быть.
Вошёл молодой, ладно скроенный монгол. Низко поклонился у порога и лишь по мановению руки Су-бедей-багатура приблизился к боевым вождям. И замер в ожидании.
— Ещё в Тавриде я повелел дать тебе трех русских купцов, чтобы они обучили тебя своему языку.
— Твоё повеление исполнено, господин.
— Что ты узнал из бесед с русскими?
— Все трое оказались из северных княжеств. Из Новгорода, Владимира и Твери. Я знаю только то, что они мне поведали, господин.
— С кем они воюют?
— Между собой. Почти десять лет назад в одной из таких битв погибло около десяти тысяч воинов.
— Жаль, что они не воюют с половцами, а убивают друг друга.
— Я узнал, кто постоянно воюет с половцами, господин.
— Враг моего врага всегда может стать моим союзником. Ты это хотел сказать?
— Союзников определяет вождь, господин. Однако эти люди отлично знают половецкие степи, места кочевий и речные переправы.
— Что же это за народ?
— Их называют бродниками. Они живут на реке Дон, исповедуют веру во Христа и говорят на русском языке. Верховная власть принадлежит атаману, которого выбирает войсковое собрание. Круг, как они говорят. Сейчас ими правит атаман Плоскиня.
— Ты принёс добрые известия.
Субедей— багатур надолго замолчал, и в юрте воцарилась тишина. Потом старый воин неторопливо наполнил собственную чашу кумысом и протянул её молодому человеку. Чогдар благоговейно принял чашу двумя руками и с неторопливой торжественностью осушил её до дна.
— Глупый человек исполняет повеление, непременно что-то при этом упустив, — сказал Субедей-багатур. — Умный исполняет его буквально и безошибочно. Но только мудрому дано расширить повеление во имя главной цели. Ты разумен, Чогдар. Ты поедешь к этим бродникам и убедишь их атамана не только дать нам самых опытных проводников, но и ударить половцам в спину по моему приказу. Такие услуги требуют жертв, а жертвы — оплаты. Оплатой будет наше покровительство, и ты, Чогдар, моим именем дашь атаману Плоскине в этом высокую клятву.
В Киеве узнали о вторжении задолго до того, как Субедей-багатур отдал Чогдару повеление ехать к бродникам. Ещё зимой к князю Мстиславу Галицко-му примчался гонец от его тестя половецкого хана Котяна с известием, что воинственная татарская орда, перевалив Кавказский хребет, ворвалась в кубанские степи, где не только разогнала аланов и потрепала черкесов, но и разгромила зимовавшие там ко-ши половцев.
— На вас идут, князь! На Киев! Пощады не знают, и силы их огромны!
Известия эти Удалого не испугали, поскольку ему хорошо была знакома склонность половцев к сильным преувеличениям, но — насторожили. Появление новых кочевников на границах Руси неизбежно нарушало и без того шаткое равновесие между Киевом и землёй Половецкой, а родственные узы — он был женат на дочери Котяна — обязывали помочь. Он не любил своего двоюродного брата Мстислава Киевского, но в данном случае без поддержки обойтись было невозможно, и он немедленно созвал на съезд владетельных князей. Князья откликнулись не столько из-за нашествия, сколько из соображений политических, поскольку почти все были связаны с половцами либо родственными узами, либо договорными обязательствами, да и ссориться с Котяном никто не хотел. Половецкие сабли не единожды участвовали в бесконечных удельных распрях, посильно помогая
«ровно нести Русь», давно утратившую не только веру в необходимость единения, но уже свыкшуюся с мыслью «если не я за себя, то кто же за меня?».
Потому— то и съезд для тех смутно-дроблёных времён оказался весьма представительным, собрав сразу шестерых князей, из которых трое оказались тёзками: Мстислав Удалой, Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский, из-за чего его долгое время называли съездом «трех Мстиславов». А кроме них прибыли ещё три удельных князя: Север-ский, Смоленский и Волынский. Однако число «6» оказалось неудачным, поскольку было чётным, и высокие представители ловко использовали эту арифметику, лавируя так, чтобы в результате все время появлялось равенство «3+3», не давая тем самым большинства ни одной из сторон. Это был испытанный приём толчения воды в ступе, пока не лопнет терпение. Не без основания полагали, что такового менее всего у Мстислава Удалого, но как раз-то Удалому больше всех нужно было согласие, и он терпел. Терпел до тех пор, пока не заорал народ киевский на обледенелом Владимирском спуске, после чего с облегчением вздохнул и тайно перекрестил пупок.
Киевляне восторженно встречали приезд самого хана Котяна с богатыми дарами: невольницами и рабами, золотом и коврами, драгоценной посудой и кавказскими клинками особой выделки и закалки. Скрипели арбы, свистели бичи погонщиков, стонали от натуги волы и ревели верблюды, и народ киевский восторженно приветствовал это красочное и шумное шествие.
— Мы нынче иссечены будем, а вы — завтра, — сказал Котян князьям.
Это пророчество, щедрые дары да и само присутствие Котяна сразу изменили соотношение сил в пользу Мстислава Удалого. Весомая фигура половецкого хана, а ещё более блеск многотысячных сабель его воинов нарушили удобное равенство «3+3».
— Лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей, — подвёл итог спору Мстислав Удалой.
Решили встречать на чужой, но кого именно, представляли себе с трудом. Разведка Удалого доносила, что неизвестные кочевники слабы и малочисленны, потому что Удалому хотелось побеждать, а очевидцы из половцев теперь помалкивали или соглашались, так как очень боялись напугать князей раньше времени. А из Смоленска уже выступила рать, и даже суз-дальцы выставили особый отряд под командованием сына князя Константина Василька. Впрочем, он успел дойти только до Чернигова.
— Тысяч сто соберём, — говорил Удалой. — Считайте, больше, чем надо. Раскрошим татар этих в окрошку, а тех, кто уцелеет, за Волгу выметем.
Хвастовство перед боем вошло на Руси в привычку с печальных времён бесконечных и бессмысленных удельных войн, равно как и недооценка противника, выражаемая в насмешливо презрительной форме. До битвы на реке Липице это сходило с рук, но беда в том, что и липицкую резню не восприняли тогда как предостережение. Не любили предки наши вспоминать о поражениях, да и мы не любим и вспоминаем только победы, забывая при этом, что победы ничему не учат. Учат только поражения.
А на киевском съезде князей уже почти решили, что победа над таинственными татарами как бы одержана и осталось только проводить уцелевших за Волгу. Поспешно определили, что все рати и дружины собираются в Олешье у устья реки Хортицы на Днепре, а там, мол, видно будет. Но общего командира так и не выбрали, понимая, что и выбрать-то его не удастся. И каждый князь был волен решать, куда, зачем и как идти, когда начинать битву и стоит ли её вообще начинать.
По ранней весне конница из Киева двинулась правым берегом Днепра к месту общего сбора. А как спало бурное половодье, туда же на ладьях поплыло и пешее войско.
И тут неожиданно прибыло татарское посольство. Мстислав Удалой отъехал встречать свою дружину, и всем руководил Мстислав Киевский, его двоюродный и очень нелюбимый брат. Послы предложили вечную дружбу при условии, что русские не станут помогать половцам. Это Мстислава Киевского, естественно, устроить не могло, и он, не раздумывая, приказал убить высоких послов.
— Послов убили? — переспросил Субедей-бага-тур, когда ему доложили об ответе Мстислава Киевского. — Всех десятерых? Неразумно. Пошлите ещё пятерых, пусть говорят резко и оскорбительно. Врага надо злить.
Он был хмур и казался опечаленным. Не потому, что убили послов — потери считают после битвы, — • а потому, что послы не выиграли времени. Сил было мало, очень мало, и следовало во что бы то ни стало создать у русских впечатление, что они уже победили. Ещё до столкновения, до первой стрелы и до первой атаки. Военачальники, убивающие послов, рассчитывают на безнаказанность, и в этом их следует убедить. Пусть рвутся в бой, пусть жалят, пусть разбрасывают силы.
— За посольством пойдёшь ты, Голямбек, — сказал Субедей-багатур после долгого раздумья. — И продолжишь их переговоры на языке сабель и стрел. Дразни и отходи так, чтобы они с разгона вылетели на основные тумены. И прижимайся к морскому берегу. Если понял, ступай.
Голямбек не совсем понял, но переспросить не решился. Его посылали как приманку, но он не знал, что ему делать дальше, чтобы не оказаться меж двух атакующих войск, развёрнутых в боевой порядок. Но вышел молча, хотя и со смятенной душой, точно предчувствуя, что из этой битвы ему не суждено вернуться живым.
В юрте остались три монгольских полководца, и двое из них не имели права на собственное мнение, а только на уточнение повелений. Субедей-багатур прекрасно знал об этом и начал говорить после того, как взвесил каждое слово:
— Если Голямбек сделает так, как должно, половцы окажутся на правом крыле атаки. Ты, Джебе, возьмёшь на себя центр и будешь держать его, пока не поймёшь, что половцы уже готовы бежать с поля битвы. Тогда забудешь обо всем и навалишься на них. И погонишь на княжеские конные полки, чтобы они смяли их, расстроили и увлекли за собой.
Джебе молча склонил голову. Он понял свою задачу, и смятения не было в его душе.
— Ты будешь держать левое крыло, Тугачар. Твой тыл будет прикрывать море, и никто не сможет тебя обойти. Твоё оружие — стрелы и постоянное желание атаковать. Желание, — весомо подчеркнул Субедей-багатур. — Ты бросишь в атаку всех своих конников и все мои запасы только тогда, когда Джебе заставит половцев разворачивать коней. Вот тогда ты сломишь их последнее сопротивление и будешь гнать бегущих до самого Днепра.
И Тугачар молча склонил голову. Не потому, что у него не было вопросов, а потому, что время вопросов ещё не настало.
— Передайте Чогдару, что Плоскиня и его брод-ники должны атаковать половцев только по моему знаку — когда я сяду на белую лошадь.
У Тугачара чуть дрогнули губы: вопросы не понадобились. Великий Субедей-багатур уже провёл этот бой от начала и до конца.
Новые послы татар прибыли в Олешье, где находился Мстислав Киевский. На беседу с ними он скрепя сердце пригласил и Мстислава Удалого через совсем уж третьестепенного боярина. Мстислав отказался от такой чести довольно резко, и послов, к великому своему удовольствию, князь Киевский встречал один, без вздорно обидчивого родственника. И подивился их виду, когда они вошли. На сей раз послы выглядели стариками, а двое, что помоложе, явно были когда-то ранены в боях. «Боятся, что опять повешу, — не без самодовольства подумал князь. — До чего же глупый народ. А я их — отпущу!»
— Говори, что тебе велено, и убирайся, — пренебрежительно сказал он старшему послу.
— Итак, вы, неразумные, слушаясь половцев, будто рабы их, умертвили наших послов. Значит, вы хотите битвы. Да будет так! Бог един для всех народов, он нас и рассудит.
Несмотря на дерзость, послов отпустили с миром. Удалой узнал об этом, когда у него находился Ярун — новый приближённый, совсем недавно как-то сам собою ставший советником: Удалой ценил ясные головы.
— А ведь они нас боятся!
— Боялись бы, за Волгу бы ушли, — сказал Ярун. — Они хотят, чтобы мы думали, будто они нас боятся.
— Почему так полагаешь?
— Когда боятся, не злят попусту. Первые, говорили мне, с дарами приехали, а эти — с угрозой.
Князь надолго задумался. Хмурился, не соглашаясь, но верил Яруну. Сказал наконец:
— Поедешь к моему тестю хану Котяну. Скажешь, что я прошу передать под твоё командование всю половецкую рать. И ещё скажешь, чтоб воины его страха не знали, ибо силы наши велики, а отваги русичам не занимать. Против безбожных татар Киев встал, Смоленск, Путивль, Курск, Трубчевск, волынцы и галичане на тысяче лодий с моря по Днепру к нам подходят, а ведёт их сам Юрий Домамерич, муж опытный и мудрый. Потому говорю известное тебе, что тесть мой хан Котян страхом надломлен. Вложи в него мужество, Ярун.
Ярун отъехал к половцам, а неугомонный Мстислав вскоре по его отъезде выслал в разведку юного князя Даниила с любопытствующими друзьями. Разведчики скакали весело, с шутками, смехом и чуть ли не с песнями, но — без дозоров, и если бы Голямбек не понял тайного смысла повеления Субедей-багату-ра, никто бы из гарцевавших разведчиков домой не вернулся. Но он — понял и, не принимая боя, стал отходить, приказав лучникам под страхом смерти не попадать в весёлых князей.
— Худые воины! — с восторгом доложил Удалому юный князь по возвращении из разведки. — Да и стреляют хуже половцев!
— Куда отходили, понял?
— Похоже, что к Калке-реке.
— Значит, и нам туда пора.
На следующий день Мстислав Удалой с тысячью всадников, подкреплённых добровольцами, переправился через Днепр и вскоре настиг Голямбека. Противник не бежал, не атаковал и не оборонялся, а делал все вместе и как бы одновременно, то встречая русичей стрельбой из луков, то бросаясь в атаку, то отступая, неизменно и незаметно пятясь при этом к берегам реки Калки, где ждали тумены Джебе и Тугачара. Это расстраивало ряды, путало воинов, и Голямбеку приходилось личным примером показывать всадникам, что они должны делать. И ему удавалось это, пока четвёртая рана окончательно не вышибла его из седла. Верные нукеры спрятали тяжело раненного в яме на кургане, но дозорные Мстислава нашли Го-лямбека, а Удалой выдал его Котяну на расправу.
Победоносная первая схватка не только вывела войско Мстислава Удалого на берег Калки, но вселила в князя твёрдую и очень радостную уверенность в лёгком и быстром разгроме неизвестных безбожников. Завтрашний день обещал стать днём его великой славы и посрамления занудного двоюродного брата Мстислава Киевского. И это особенно грело сердце.
Почти десять дней гоняло войско Удалого остатки татарского заслона по степи. Это было азартно и увлекательно, как охота, и, как на охоте, Удалой не задумывался, почему же все-таки разбитые татары не уходят за Калку, а продолжают группами по пять-десять человек оказывать ему сопротивление. Они кружили поодаль, уходя от столкновений, лишь осыпая стрелами, но не отступали, и он вынужден был замедлять собственное продвижение к реке. И было, было же время сообщить об этой странной охоте Мстиславу Киевскому, а он не отсылал гонцов, не приглашал не только для помощи, но и для простого совета.
Впрочем, как оба Мстислава — Киевский и Черниговский, — так и вся оставшаяся на Днепре русская рать знали о его вторжении в степь, о столкновениях, о пленении тяжело раненного татарского полководца и выдаче его на мучительную смерть половцам. И не только знали, но и решили неспешно двигаться прямо к Калке по расчищенному Удалым пути, что и позволило в конце концов соединиться на её берегах всем союзным силам.
Однако Удалой, естественно, вышел туда первым поздним майским вечером. Заслона противник не выставил, и Мстислав тут же решил, что не худо бы ему поглядеть, не ушли ли татары подальше от его удальства. А молодой князь Даниил, терзаемый азартным любопытством, упросил Мстислава взять его с собой вместе с командирами волынских полков Семёном Олеговичем и Васильком Гавриловичем.
— А с войском кто останется? — поинтересовался Мстислав. — Его для битвы развернуть совсем не помешает.
— А меня князья Олег Курский да Мстислав Немой воинской премудрости учат, — с деланой наивностью пояснил Даниил. — Они и развернут, пока я глядеть буду.
— Хочешь, чтоб и я тебя поучил? — добродушно усмехнулся Удалой. — Ну добро, покажу, как на супротивника глядеть надобно.
Выехали с небольшим отрядом. А проскакав немного, увидели татарскую конную рать, развёрнутую в боевой порядок.
— Ждут, значит, — с явным облегчением сказал князь Мстислав. — Не ушли, так погоним. Погляди, Даниил Романович, что делать намереваются, а я за войском поскачу. Какой день-то сегодня?
— Святого мученика Ермия, князь Мстислав!
— Запомним его, князь Даниил. Крепко запомним!
Было раннее утро 31 мая 1223 года, день памяти святого мученика Ермия. Хорошо запомнили этот день наши предки: до наших дней памяти хватило.
Как только Удалой стал разворачивать коня, татарские дозоры, разъезжающие впереди выстроенного для боя тумена, наконец-то заметили, что за ними наблюдают. И едва князь Мстислав поскакал назад, как дозорный отряд с места в карьер бросился на князя Даниила. Ему бы следовало уносить ноги, пока не поздно, потому что сил у него было совсем мало, но смелый князь, выхватив меч, бросился навстречу татарам с громким восторженным кличем:
— Мой день сегодня!
Мстислав услышал его, но не остановился, а, доскакав до волынцев, крикнул, чтоб князю своему помогли, и помчался поднимать свои войска. А Мстислав Ярославич Немой, князь Луцкий и Пе-ресопольский вместе с князем Олегом Курским без промедления повели волынцев на помощь своему юному князю.
Даниил был ранен в первом же сближении с противником, но в седле держался упорно. А Василька Гавриловича, сильно тронутого копьём, вынес из схватки собственный верный конь. Увидев, что Даниил ещё держится, Мстислав Немой ринулся на татар, яростно работая мечом и разевая рот в безгласом крике. Рядом с ним отчаянно и бесстрашно дрался Олег Курский, но если бы не подоспел с основными силами Удалой, волынцам и их вождям пришлось бы туго.
А ведь мог и не успеть, и неизвестно, что в данном случае было выгодно объединённым русским силам: стремительная атака галичан во главе с Удалым или не столь поспешные, зато совместные действия всех подошедших к тому времени войск Ведь волынцы ещё держались, не были окружены и всегда могли отойти. Но горды были князья тех времён, и чаще всего горды неразумно.
А на берега Калки уже подтянулись все силы русских. Полки Мстислава Киевского, Мстислава Черниговского и остальных союзных князей.
— Много ли татар встретил, Удалой? — поинтересовался Мстислав Черниговский.
— Управлюсь, — отрезал Удалой. — Отдыхайте с дороги да пир готовьте.
И во главе своих галичан без оглядки помчался к месту битвы.
— Дозволь, батюшка, за князем Удалым последовать, — умоляюще обратился к Мстиславу Черниговскому его совсем ещё юный сын. — Первое сражение моё будет с безбожными агарянами в защиту Святой Руси. Христом Богом прошу тебя, батюшка!
— Может, подсобим сродственнику? — неуверенно предложил князь Черниговский. — Святое дело, сын правду молвил.
— Негоже мне, великому князю Киевскому, без приглашения кашу Удалого расхлёбывать, — процедил сквозь зубы смертельно обиженный Мстислав. — Да и отдохнуть с дороги не грех. — Он огляделся, крикнул воеводе: — Александр Дубровицкий, прикажи на том холмике укрепиться. Колья поставить да обозами огородиться. Засядем там да и будем глядеть, оттуда далеко видно.
— Ну а я не могу в стороне от битвы отсиживаться, — сухо сказал Черниговский. — Да и сына к сече приучать пора.
И на великую радость подростка-сына, повелел своей рати двигаться вослед Мстиславу Удалому.
Едва врубившись в первые ряды противника, Удалой понял, что перед ним совсем иные татары, не те, что десять дней бегали от него по степи. Он предчувствовал, что они окажутся иными, когда впервые увидел их развёрнутый для битвы строй, и, будучи опытным полководцем, кое-какие меры принял: приказал княжеским дружинам — наиболее мощной ударной силе его войска — в сражение не ввязываться до особого сигнала и послал гонца к Яруну, чтобы тот срочно выводил половцев на левое крыло и атаковал самостоятельно, по собственному разумению. На это требовалось время, но Удалого это не беспокоило: он верил в своих воинов, убеждён был, что они не только продержатся, сколько нужно, но и растреплют по пёрышкам неразумных безбожников. Это соображение не мешало ему видеть всю битву, а в особенности собственный правый фланг, на котором что-то вроде бы задвигалось.
Удалой не знал, что Тугачар уже развернул свой ту-мен, уже оценил позицию и начал действовать в строгом соответствии с повелениями Субедей-багатура. Ни в одной армии мира тех лет не было столь жёсткой, даже жестокой, дисциплины, как у монголов, чем во многом и объясняются их быстротечные победоносные войны. И, несмотря на нетерпеливый характер Тугачара и даже на то, что был внуком самого Чингисхана, в битву он не лез. Впрочем, командирам такого ранга категорически запрещалось лично участвовать в боях: они руководили своими войсками, стоя на возвышенностях позади сражающихся в окружении гонцов, адъютантов, а то и жён или любовниц, и вели бой, не участвуя в нем лично. И сейчас его воины лишь осыпали русские рати тучами длинных монгольских стрел, все время демонстрируя готовность атаковать. Это отвлекало Удалого, сдерживало и пугало его правое крыло, что снижало скорость наступления и сбивало его ритм.
А битва тем временем продолжалась, складываясь в общем благоприятно для атакующих. К ним постепенно подтягивались свежие силы: уже ввязались в бой войска только что подошедшего Мстислава Черниговского, дружина князя Смоленского присоединилась к резервным дружинам Удалого, а Ярун на левом крыле уже начал разворачивать половцев.
Как ни покажется странным, но все удачно складывалось и для Джебе. Его тумен ещё держался, несмотря на большие потери от умелых и яростных мечей. Он не утратил общего руководства, его командиры строго придерживались данных им перед битвой приказов, сохраняя общий строй, а главное, Джебе знал, что за его спиной — Субедей-багатур с его необъяснимым даром держать в руках поводья сражений.
А Субедей-багатур в это время недвижимо сидел на кошме, расставленной на самом высоком холме, неотрывно следя за битвой узкими немигающими глазами.
В бою наступило шаткое равновесие, которое азартный Удалой уже считал победой. Сейчас должен был ударить Ярун со своими половцами, смять и окончательно сокрушить непонятное упорство татар в центре, после чего можно было давать отборным дружинам приказ на стремительный удар, прорыв и последующее преследование вплоть до Волги. И Удалой уже считал минуты…
Но минуты считал и Субедей-багатур. И сосчитал их раньше Удалого. Он вдруг неторопливо поднялся с кошмы и неторопливо сел в седло ослепительно-белого коня, стоявшего за его спиной.
Это и было сигналом к атаке. Бродники во главе с атаманом Плоскиней и Чогдаром тут же ринулись на половецкие тылы. Их было куда меньше, чем половцев, но на их стороне была внезапность и вековая ненависть. Перед ними был извечный враг, неумолимо вытеснявший их из богатых степей в солончаковые водоразделы, регулярно угонявший их табуны и скот, грабивший их становья и уводивший молодёжь в полон. Бродникам было за что мстить, и они — мстили. Их стремительный и совершенно неожиданный удар в спину застал половцев врасплох, они даже не успели развернуться лицом к противнику и побежали, но не к ожидающим их русским ратям, а туда, куда привыкли удирать: в степь, где стояли изготовленные к бою княжеские дружины — резерв и основная ударная сила Мстислава Удалого.
И опытные, закалённые в боях дружинники не-смогли выдержать этого внезапного налёта разгорячённых коней с перепуганными всадниками в сёдлах. Они были не просто смяты и расстроены, — нет. Огромная половецкая масса как бы втянула их в себя, захватила, увлекла, рассеяла, а большей частью унесла с собой подальше от ревущей сечи.
Удалой не успел опомниться, не успел понять, что же произошло, как Тугачар перешёл в бешеную атаку на его правое крыло. Уже намахавшиеся мечом, уже порядком взмокшие русские воины на считанные минуты растерялись, но этого было достаточно, чтобы Джебе перестроил свои ряды. И перешёл в наступление.
И тогда побежали все, бросая раненых и умирающих, обозы и скот, щиты и мечи. Подобного бегства давненько не случалось на Руси: беглецы в трое суток покрыли расстояние, на которое сами же совсем недавно затратили десять. Бежали только что отважно сражавшиеся и не побывавшие в битве княжеские дружинники, половцы и обозники берендеи, черни-говцы и смоляне, волынцы и галичане, но одним из первых через три дня к Днепру прибежал князь Мстислав Удалой. Его гнал не только страх, но стыд и позор. В два бича.
Но и стрйх тоже понятен, за разгромленными войсками безостановочно гнались одвуконь татары из тумена Тугачара. Это от их клинков пали в сече князья Святослав Каневский и Изяслав Ингваревич, Святослав Шумский и Юрий Несвижский. И Мстислав Черниговский тоже погиб вместе с сыном, которому так хотел показать победоносную битву. А с ними вместе сложил голову каждый десятый русский воин.
Удалой взмокшей спиной почувствовал дыхание преследователей уже у Днепра, где в порубежном заслоне стояли семьдесят богатырей во главе с легендарным Алёшей Поповичем.
— Алёша, выручай! — закричал князь, бросившись к богатырской заставе.
Алёша выручил. И пока он и семь десятков его отборных воинов погибали под татарскими саблями, Удалой успел добежать до лодок, влез в одну и… И велел изрубить остальные, чтобы татары, а заодно и свои, не поспевшие к берегу, не смогли переправиться через Днепр.
А великий князь Киевский Мстислав, во святом крещении Борис Романович, прозвищем Добрый, все ещё сидел в заколье на берегу Калки. Его обложили не слишком большие татарские силы, его киевляне легко отбивались, припасы были, и князь твёрдо рассчитывал отсидеться, пока враг сам не уйдёт туда, откуда нагрянул. Может быть, так бы оно и вышло, если бы атаман Плоскиня не счёл своим долгом лично доложить Субедей-багатуру, что его личный представитель Чогдар то ли убит, то ли тяжело ранен, а только исчез неведомо куда.
— Я доверил тебе сына моего друга, — тихо сказал Субедей-багатур, почти не разжимая губ.
— Мои люди ищут его, — поспешно заверил Плоскиня.
— Мне пора уходить, но киевский князь убил моих послов, и я не могу уйти. Приведи ко мне киевского князя, и я сниму с тебя твою вину.
Чогдар предупредил атамана, что суровый монгольский полководец никогда не тратит слов попусту, и Плоскиня уже на следующий день начал действовать. Он явился к осаждённым в качестве посредника и сказал Мстиславу Киевскому, что татары готовы отпустить его и других князей за выкуп Мстислав долго колебался, но Плоскиня говорил убеждённо, заверяя его, что осады противник не снимет, а как только вернутся с Днепра войска, пойдёт на штурм, и никому тогда не будет пощады Угроза возымела действие, но великий киевский князь потребовал клятвы на кресте Атаман горячо поклялся на собственном крестильном, торжественно, при свидетелях поцеловал нагрудный княжеский крест, и участь князя Мстислава Киевского, его помощников и соратников была решена Он со всей своей ратью сдался на милосердие победителей, пообещав за себя любой выкуп А татары на его глазах сначала хладнокровно вырезали все десять тысяч русских воинов, потом связали самого князя Мстислава Киевского, его зятя Андрея и князя Дубровицкого, уложили их на землю, накрыли досками и шумно пировали на этих досках, пока князья не задохнулись под ними
Первое столкновение с татарами завершилось полным и очень жестоким разгромом объединённых сил Южной Руси, но никому и в голову не пришло задуматься о его причинах Никто не счёл поражение уроком, который следует изучить, продумать, понять или хотя бы не забывать о нем Наоборот, все старались забыть его как можно скорее, но через четырнадцать лет пришлось вспомнить, оплатив собственную беспамятность невероятными жертвами и страданиями. На Русь пришёл Бату-хан с очень хорошим советником С постаревшим, но не утратившим прозорливости и редкого полководческого дара Субе-дей-багатуром.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Злым был февраль солёного от крови года. Злыми были морозы, злыми колючие ветры, злыми переметчивые, сухие, как прах, снега и даже обледенелые метёлки ковыля звенели на ветру зло Зло было кругом, во всей степи, во всем мире и в каждом доме, потому что зло посеяли люди, и оно взросло и окрепло, опившись кровью и обожравшись трупным мясом Это было жирное, облипчивое зло, и казалось, что его уже невозможно смыть с души своей
«И восстал брат на брата, и род на род, и племя на племя И убивали друг друга, и выкалывали глаза, и урезали языки, и насиловали дев и молодых жён, бросая их умирать на перекрёстках никому не нужных дорог»
Трое путников в стёганых ватных кафтанах медленно и неукротимо брели сквозь переметчивые снега огромной — от горизонта до горизонта — мёртвой степи Первый и замыкающий были рослыми мужами, широкие груди которых, развёрнутые плечи и прямые спины ещё издали убеждали, что руки их никогда не сжимали чапиги сохи или плуга, но с детства приучены были к мечу. Правда, меч в простых, обтянутых чёрной кожей ножнах имелся только у торящего дорогу, а у его спутников на широких поясах висели кривые татарские сабли, пополам разрезающие падающий конский волос. Меж двумя мужами шёл юноша, на едва меченных усах которого ещё не задерживался иней, а щеки были румяны и свежи. Но шагал он упрямо, сабля не путалась в ногах, спину не гнул и от встречного ветра не ёжился.
За ними давно уже шла волчья стая. Не по следам, не шаг в шаг, а развернув крылья свои полуохватом. Волки не торопились, зная, что добыче некуда деться на заснеженной скатерти дикой степи.
Было ещё светло, и солнце жёлтым кругом висело за спинами путников. Мглистые тучи обрезали его лучи, и людям не приходилось топтать собственные тени усталыми ногами. Это было солнце без тени, будто тени унесли с собою те, кому повезло погибнуть в ту страшную зиму.
— Остановимся, — сказал первый, выбрав низинку, в которой можно было укрыться. — И перекусить надо, и передремать не грех. Мы найдём топливо, Чогдар?
— В степи топливо под ногами, — с еле заметным акцентом ответил второй воин, снимая котомку. — Ты мне поможешь, Сбыслав.
Юноша, сбросив свою ношу, тотчас же пошёл вслед за Чогдаром, а оставшийся начал разгребать снег, готовя место для костра.
В эту зиму оттепелей не случалось, ветер беспрестанно ворошил снега, и докопаться до земли казалось делом нетрудным. Однако под снегом в смёрзшейся густой и перепутанной траве руки наткнулись на кости, и воин долго выдирал их оттуда, бережно откладывая в сторону. А потом извлёк из-под снега грубый нательный крестик, старательно отёр его, прижал к губам и спрятал за пазуху.
Вернулись спутники. Чогдар нёс в поле кафтана груду смёрзшегося конского навоза, а Сбыслав — рыхлую охапку полёгшего под снегом кустарника.
— Кони стояли, — сказал Чогдар, высыпав навоз.
— А люди легли. — Старший показал свою находку и перекрестился.
И спутники его перекрестились. Помолчали.
— Наша с тобой война, Ярун, — вздохнул Чогдар.
— Наша, — согласился Ярун и протянул найденный крестик юноше. — Христианская душа на этом месте в рай отлетела. Носи у сердца, сын. Память должна обжигать.
— Да, отец. — Сбыслав торжественно поцеловал крестик и спрятал его на груди.
— Волки близко, — сказал Чогдар, вздувая костёр. — Сидят караулом.
— К огню не сунутся.
— Не к тому говорю, Ярун. Кости человеческие грызть начнут, по степи растаскают. Уж лучше в огонь их положить.
Потом они молча жевали сушёную рыбу, ожидая, когда поспеет похлёбка в котелке. Студёная синева наползала со всех сторон, а они чутко дремали, закутавшись в широкие полы кафтанов и спрятав лица в башлыки.
Невдалеке завыл волк. Ярун сел, помешал варево, попробовал.
— Похлебаем горячего, да и в путь.
Хлебали неторопливо, истово, старательно подставляя под ложки куски чёрствых лепёшек. Тоскливо выли волки в густеющих сумерках, не решаясь приблизиться к огню.
— Зверь убивает пропитания ради, — сказал вдруг Сбыслав. — А чего ради человек убивает человека?
— Несовершенным он в этот мир приходит, — вздохнул Ярун. — Душа должна трудиться, и пока трудами не очистится, нет ей покоя. Труды, размышления и молитвы взрослят её, сын.
— Жирный кусок — самый сладкий, — добавил Чогдар. — А из всех сладких кусков власть — самая жирная. — Он облизал ложку и спрятал её. — Пора в путь, анда.
Все трое молча поднялись, затянули на спинах длинные концы башлыков, надели котомки и, перекрестившись, тронулись дальше. Шли прежним порядком: Ярун торил дорогу, Чогдар замыкал шествие, а Сбыслав держался середины.
Позади у догорающего костра тоскливо выли волки. Конечно, лучше было бы ночевать у огня, а идти днём, но в те года горящий в сумерках одинокий костёр был опаснее самых ярых зверей.
Добыча удалялась, и стая преодолела извечный страх перед огнём. Матёрая волчица обвела её стороной, быстро поставила на след, и волки, пригнув лобастые головы, крупной рысью пошли вдогон. Бежали молча, цепочкой следуя за вожаком, но, приблизившись, взрычали, роняя слюну, и снова стали обходить с двух сторон, перейдя внамет, чтобы поскорее отрезать путь людям, замкнуть кольцо и ринуться в одновременную атаку. Путники остановились, выхватив из ножен оружие. Чогдар развернулся лицом к тылу, Ярун мечом держал нападающих зверей спереди, а юный Сбыслав, укрывшись меж их спинами, отражал волчьи броски с обеих сторон. Ему первому и удалось полоснуть самого неосторожного острым клинком по горлу. Волк взвыл, отлетев в сторону, забился, разбрызгивая кровь по сыпучему нехоженому снегу.
— Один есть, отец!
— Береги дыхание. Ещё одного зацепим, и можно будет идти.
Второго волка широко располосовал Чогдар. Запах горячей крови и смертный вой бившихся в агонии раненых животных сразу остановили стаю. Беспомощная добыча была рядом, и молодой волк не выдержал первым, яростно бросившись на подбитого собрата. И вмиг стая распалась на две кучи, с рычанием разрывая тёплые, бьющиеся на снегу тела.
— Вперёд, — сказал Ярун, бросив меч в ножны, — Может, отстанут.
И они вновь зашагали по степи, оставив позади волчье пиршество и часто оглядываясь. Но то ли уж слишком волки были голодны, то ли свежая кровь раззадорила их, а только не раз и не два пришлось путникам прислоняться спинами друг к другу, отбивая очередные налёты. И если бы дано было нам увидеть отбивающихся от волков смелых и хорошо вооружённых воинов сверху, то нашему взору представилась бы большая двуглавая птица, быстро и беспощадно отражающая вражеский натиск с двух сторон одновременно…
Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович третьи сутки безвыходно молился в своей молельне. Дважды в день ему молча ставили чашу с ключевой водой, накрытую куском чёрствого хлеба, но никто не осмеливался тревожить князя, стоявшего на коленях пред образом Пресвятой Богородицы Владимирской. Шептались:
— Молится князь.
Помалкивали, ходили беззвучно, боялись скрипнуть, стукнуть, даже кашлянуть боялись.
— За нас, грешных, Господа молит и Пресвятую Богородицу.
Но так считали, а Ярослав давно уже не молился. Чувствуя потребность унять боль сердца и маету души, он искренне желал уединения и молитвы, но молитвы, которые он помнил, уложились в час, потому что не его это было дело. И он не утешился, но осталось уединение, и он нашёл утешение в нем. Он хотел понять, как же случилось так, как случилось, и почему именно так случилось, и откуда у него, воина и великого князя, это невыносимо тоскливое, высасывающее чувство вины. И князь Ярослав беспощадно вспоминал всю свою пустую, суетную и, как показало время, бессмысленно грешную жизнь…
Нет, он задумался о ней не тогда, когда хоронил павшего в бою с татарами на реке Сити любимого брата Юрия. Не тогда, когда вместе с уцелевшими после разгрома горожанами и дружиной расчищал стольный город Владимир от пожарищ и трупов. Впервые задумался он о своей жизни тогда, когда из Москвы вернулся ставший ныне старшим сын Александр, посланный очистить Москву так, как сам отец очистил Владимир. Но с этих трудов Александр вернулся потрясённым.
— Почему люди так жестоко воюют, отец?
— Воюют из-за того, чего разделить нельзя, сын. Из-за власти. Не делится она, Александр.
Не на полудетский вопрос сына он тогда ответил, он себе самому ответил и разбередил душу. И как только отправил Александра наводить порядок в родном гнезде — в Переяславле-Залесском, так и заперся от всех в душной полутёмной молельне. Наедине с собой, с воспоминаниями, с совестью, вдруг шевельнувшейся в, казалось бы, навсегда вытоптанной собственной душе. Да, он помогал утвердиться на великокняжеском столе старшему брату Юрию: именно этим он всегда оправдывал всю непоследовательность своего поведения, всю вздорность своих претензий, все нарушения собственных клятв и обещаний. Этих обещаний хватало для безмятежности души и дремоты совести, но после жестокого разгрома татарами Владимира, убийств его жителей и гибели брата Юрия их уже не хватает. Недостаёт их для внутренней твёрдости, для опоры духа, а это значит, что внутренне, не для всех, а для себя самого, он ещё не великий князь, ибо не можно стать великим, коли плавает душа твоя, как копна в половодье, став убежищем для перепуганных мышей, а не опорой для потрясённых человеков…
— Господь всемилостивый, Пресвятая Богородица, направьте, подскажите, посоветуйте, как не плыть мне рыхлой копешкой по течению, где найти твердь в прахе мира сего? И куда, куда направить ковчег Руси моей с человеками и скотами её?…
Князь Ярослав и сам не заметил, как заговорил вслух, не молясь, не спасения души ища, а ответов.
— Велика ты, неохватно велика мудрость Божия: не смертью лютой наказал ты меня за грехи мои не-прощаемые, не слепотой, не хромотой, не болезнями, не людским презрением даже, — нет! Ты самым страшным наказал меня, Господи: великой властью в годину разгрома народа моего. За что же, Господи, за что? Что заупрямился и не увёл войско за Липицу-реку? Но ведь верил в победу, в то, что сёдлами новгородских плотников закидаем. И все верили. А сейчас-то, сейчас что делать мне один на один с бичом Божьим при полном разоре земли моей…
Скрипнула дверь, грузно шагнули через порог за спиной.
— Кто посмел? — в гневе вскинулся Ярослав.
— Не гневайся, великий князь, — негромко сказал простуженный хриплый голос. — Издалека гость пришёл, с битвы на реке Калке. Пятнадцать лет шёл тебе рассказать, как первым бился с татарами.
Ярослав тяжело поднялся с занемевших колен. Взял свечу, посветил, вгляделся:
— Ярун?
— Ярун. Твой стремянной, постельничий и думный. -
— А сейчас какого князя постельничий?
— Не вели казнить, великий князь, — усмехнулся Ярун. — Знаю, три дня в молитвах не утешения ты искал, а света. И я его искал, когда пятнадцать лет у брод-ников табуны пас. Не пора ли поглядеть, что нашли мы оба, князь Ярослав? С разных сторон мы глядели, разное видели, а оно — одно.
— В стенах сих о Боге говорят, Ярун.
— Так повели в палаты пройти. Измерзлись мы в дороге до костей, князь. Изголодались донельзя, и плечи уж стонут от волков отмахиваться.
— «Мы», сказал?
— Со мной — сын и анда. Побратим, значит.
Ярослав долго молчал, всматриваясь в осунувшееся, почерневшее от ветров и мороза лицо неожиданного гостя. Глубоко запавшие глаза выдержали его взгляд со спокойствием и суровостью, и князь первым опустил голову.
— Эй, кто там?
В приоткрывшейся двери тотчас же появился юнец.
— Проводить гостей в мои покои.
Юнец исчез. Ярун молча поклонился и пошёл к выходу. А князь, ещё раз истово перекрестившись, с той же свечой в руке направился внутренними переходами в свою опочивальню. Редкая стража молчаливо склоняла головы, ладонями прижимая мечи к бёдрам, но Ярослав привычно не замечал её, размышляя о внезапном появлении некогда едва ли не самого близкого сподвижника, спасшего его жизнь во время липиц-кой резни и неожиданно отъехавшего от него не к кому-нибудь, а, как говорили, к его злейшему врагу — га-лицкому князю Мстиславу Удалому. Здесь было над чем додумать, и Ярослав не торопился.
Когда он, переодевшись, вошёл в палату, там уже сидели гости, вставшие и склонившие головы при его появлении: Ярун, сильно отощавший, несокрушимо румяный юноша и коренастый незнакомец с узкими щёлками глаз на скуластом, до черноты обветренном лице. Все трое были одеты в потрёпанные полукафтанья, суконные порты и грубые разбитые сапоги. Князь отметил это мельком, задержав взгляд на почти безбородом скуластом лице, и вместо приветствия резко спросил:
— Осмелился нехристя ввести в палаты мои, Ярун?
— Он крещён в нашу веру, великий князь, и при святом крещении получил христианское имя Афанасий. Кроме того, он — мой побратим, хоть и сражались мы с ним друг против друга на реке Калке. Знает обычаи татарские, и лучшего советника нам не сыскать. А юноша — сын мой, названный Сбыславом.
— Молод ещё для княжьих бесед.
— Повели накормить да уложить спать, великий князь. Мы шли ночами с Дона ради его спасения.
— Что же ему угрожало?
— Смерть. Он убил татарского десятника в честном поединке.
— Эти десятники разорили мои земли, а с ними, выходит, может справиться безусый мальчишка? — Ярослав хлопнул в ладони, и в дверях тут же вырос гридень. — Парнишку накормить, уложить спать. Утром дать одежду младшего дружинника. Ступай.
Последнее относилось к Сбыславу. Юноша низко поклонился и вышел вслед за гриднем.
— Садитесь, пока в трапезной накрывают. — Подавая пример, Ярослав сел за стол. — Но доброй беседы не будет, пока ты, Ярун, не объяснишь мне, почему отъехал к врагу моему. Если тебе мешает сказать правду этот новокрещенец, попросим его выйти, но без правды не останемся.
— У меня нет тайн от побратима, — усмехнулся Ярун. — Я отбил тебя от новгородцев на Липице и привёз в свой дом. Три дня ты отходил от стыда и страха, а на четвёртый умчался в Переяславль, захватив с собою мою невесту.
— Милаша была твоей невестой? — с некоторой растерянностью спросил Ярослав. — Я не знал этого, Ярун.
— Если бы знал, все равно бы увёз, потому что я знаю тебя, князь Ярослав.
— Тому, кто её увёз, ты предрёк страшную смерть, и твоё пророчество сбылось. Во время похода в Финляндию Стригунок три дня и три ночи тонул в трясине. Кричал, плакал, а потом завыл, но никто так и не помог ему. — Ярослав вздохнул. — Тоже ведь мой грех. Краденое не на благо, это всем ведомо. В двадцать третьем годе Милашу захватили литовцы, пока я то ли новгородцев мирил с псковичами, то ли псковичей с новгородцами.
— У литовцев её отбил я, — сказал Ярун. — Тосковал по ней очень, думал хоть глазком глянуть, а налетел на литовцев. Сумел отбить и умчал на Дон.
— Так кто у кого украл? — Князь, темнея лицом, повысил голос. — Кто у кого украл, смерд?…
— По приезде она родила мальчишку, — не слушая, продолжал Ярун. — А через месяц преставилась.
И перекрестился. И наступило молчание.
— Значит, Сбыслав… — наконец хрипло выговорил Ярослав.
— Вот почему мы привели его к тебе, князь, — тихо сказал Ярун. — Сына должен спасать отец, а татары у тебя уже побывали и вряд ли придут ещё раз.
— Он… Сбыслав знает?
— Зачем ему знать?
Князь обхватил руками голову, закачал ею, склонившись над столом. Вздохнул, скрипнул зубами, строго выпрямился.
— Отдохнёте и все трое отъедете под руку сына моего Александра. Будешь ему советником, Ярун. Советником, дядькой, нянькой — всем. А ты, — Ярослав глянул из-под насупленных бровей на молчаливого Чогдара, — станешь им же для Сбыслава. За каждый волос ответите, пестуны! За каждый волосок с голов сынов моих спрошу с вас страшно. Пошли в трапезную. Накрыли уж там, поди, звона не слышно
За трапезой князь Ярослав не торопил гостей с рассказами, ожидая, когда выпьют первую чашу и утолят первый голод. Молчание позволяло наблюдать, и он внимательно приглядывался к татарину, потому что тот был чужим и случайным, даже нарочито случайным спутником давно известного Яруна. Рассказу Яруна князь поверил сразу не только потому, что не сомневался в искренности старого соратника, но и сам знал, что Милаша ждала ребёнка. А чужели-цый, молчаливый истукан с отсутствующим взглядом был пока для него пугающе непонятен. Ярун назвал его побратимом, но это не являлось чем-то исключительным. Все дружинники, крещёные и некрещёные, не забывали и языческих обрядов, призывая перед битвой не миролюбивого христианского Бога, а воинственного Перуна древности. И это воспринималось естественно, и сам князь пред боем думал о нем, а не клал поклоны перед иконой, которую, кстати, с собой в походе не таскали, оставляя в городах, чтобы священнослужители могли помолиться за их победу по полному чину. На Руси ещё господствовало двоеверие, да и какого Бога следовало молить, когда новгородцы резали суздальцев, владимирцы — киевлян, а смоляне — псковичей? Бог-то оказывался общим для всех как раз тогда, когда уверовавшие и не уверовавшие в Него убивали с особым рвением, жгли чужие селения с особым удовольствием и насиловали христианских дев, не сняв креста ни с себя, ни с жертвы. Нет, не побратимство настораживало князя Ярослава, а сам избранный Яруном побратим.
Князь много был наслышан о татарских лазутчиках. Да и как иначе можно было объяснить столь глубокое проникновение в залесские земли степняков с десятками тысяч коней? Значит, либо знали они дороги и тропы, броды и переправы, либо имели проводников-изменников, а только ни один татарский отряд не заблудился, и тёмник Батыя Бурундай безошибочно вывел своих всадников к реке Сити, где князь Юрий собрал все своё войско для последнего решительного сражения, не озаботившись даже выставить сторожи. И был захвачен врасплох, поскольку Бурундай атаковал с ходу Кто и как провёл их к нужному месту и в нужный час?
Вот о чем думал Ярослав, пока гости утоляли голод. Но как только заметил, что к ним пришла первая сытость, спросил:
— Вы оба бились на Калке, хотя и по разные стороны. Я знаю о ней только то, что татар было несметное число. Так ли это?
— Там было три корпуса, — сказал Чогдар. — Но был и лучший из лучших — Субедей-багатур. Он один стоит трех туменов.
— Добрый воин?
— Ясная голова всегда думает за противника. У него была особенно ясная голова, но русские его не интересовали Он отправил в Киев послов, и киевские князья совершили роковую ошибку, убив их.
— Мы часто убиваем послов, чтобы тот, кто послал их, понял, что мы его не боимся.
— Посол — всегда гость, великий князь, — с подчёркнутой весомостью произнёс Чогдар. — Кочующие в степях не прощают убийства гостей — так завещал сам Чингисхан. Вот почему все князья, принявшие это решение, или уже казнены или будут казнены.
— Однако Киев ещё не пал.
— Он будет стёрт с лица земли. Никогда не убивай послов, великий князь
— У нас другие законы.
— Законы диктуют победители. Только победители.
В голосе Чогдара все более отчётливо слышались нотки надменного превосходства, столь свойственного монголам. Ярун почувствовал это и тут же перехватил разговор:
— Я был сбит с коня в первой же атаке бродников Половцы устроили такую тесноту и свалку, в которой невозможно было устоять. Не знаю, кто ударил меня ножом в спину, а только я упал не на землю, а на Чогдара. Его ещё раньше сбили сулицей, и он был без сознания. Сверху валились кони и люди, убитые и раненые, и мы оказались под горою трупов. Дышать стало нечем, и если бы очнувшийся Чогдар не разрезал застёжки на моей броне, я бы не сидел сейчас перед тобой, князь Ярослав.
— Почему ты спас своего врага? — спросил Ярослав.
— Нашими врагами были половцы, великий князь, — пояснил Чогдар. — И не я спас Яруна, а он спас меня. Я успел только разрезать его застёжки и потерял сознание. Он вытащил меня из-под трупов и вернул мне жизнь.
— Значит, битву проиграли половцы? — Князя не интересовали подробности.
— Битву проиграли наши князья, — вздохнул Ярун. — Они опять дрались каждый за себя и выронили сражение из рук. И сейчас они воюют каждый за свой удел, и нас будут бить поочерёдно, пока кто-нибудь не сломит их самоуправства.
— А теперь скажи мне, татарин, почему Батый пришёл на мои земли? Наших полков не было на Калке.
— Я могу только думать, но не знать, великий князь, — с достоинством ответил Чогдар. — Но думать могу, потому что пять лет проскакал рядом со стременем самого Субедей-багатура. И я думаю, что эта война не против твоих земель.
— Но Батый привёл тьмы-темь именно сюда, в за-лесские княжества! Как ты это объяснишь, опираясь о стремя своего Субедея?
— Насколько я понял из рассказов их проводников бродников, Бату-хан привёл на твои земли всего три тумена. Тридцать тысяч конников.
— Не верю! — Ярослав с силой ударил кулаком по столу, подпрыгнули чаши, пролилось вино из кубков. — Чтоб тридцать тысяч смогли в два зимних похода пожечь Рязань, Владимир, Суздаль, Москву и ещё десять городов? Да ещё разбить моего брата на Сити? Не верю!.
— Они умеют воевать, — чуть улыбнулся Чогдар. — Они никогда не ждут противника, а бросаются в бой первыми, выпуская тысячи стрел. Но и эта атака — всегда видимость. Субедей-багатур учил, что победа достаётся тому, кто обошёл противника и замкнул кольцо. Бату-хан шёл через твои земли, великий князь, чтобы замкнуть кольцо в войне с половцами.
— И это тебе наболтали бродники? Чогдар чуть пожал плечами:
— В твоей земле нельзя пасти конские табуны. Зачем степняку земля, если по ней нельзя кочевать?
— Значит, Батый шёл к половцам в тыл?… — Ярослав вздохнул, горестно покачав головой — Ты подтвердил мои мысли. Я тоже считал это набегом и умолял моего брата без боя пропустить татар. Но он был очень горд, упокой, Господи, его мятежную душу…
Во время позднего застолья разговор не сложился так, как хотелось Ярославу, а потом вообще ушёл в сторону, утеряв смысл воинской беседы, и князь был им недоволен. Может быть, поэтому и спал плохо, хотя никогда на бессонницу не жаловался, да и в молельне часто впадал в дрёму. А. тут сон вообще пропал, и мысли, горькие и тревожные, в безостановочном хороводе кружились и кружились в затуманенной усталой голове.
Кружились вокруг одного и того же, хотя князь изо всех сил старался не думать о том, что более всего тревожило его душу. Новость, ради которой Ярун пришёл к нему, ошеломляла, беспокоила и мучила настолько, что Ярослав долго не решался коснуться её, потому что раскалённой до белого каления представлялась она. У него было много сыновей, смелых и весёлых, задумчивых и безмятежных, горячих и уравновешенных, но живших покуда в мире и согласии, исполняя суровый отцовский наказ. Но объявился новый сын, рождённый от незаконной любви, но — любви, а не похоти: уж он-то это знал точно, перебрав несчётное количество как весёлых, так и рыдающих. И Милаша рыдала поначалу, а потом — полюбила, и он — полюбил, едва ли не впервые в жизни и полюбил-то по-настоящему. А тут — литовцы…
А тут — Ярун. Ярун не Милашу спас — их дитя он спас, почему и прощён был сразу и навсегда. И сына он признал без колебаний, не мог не признать, но одно дело признать, другое — найти ему место не в сердце своём — в княжестве. А как на нового брата, да ещё и незаконного, сыны посмотрят? Глеб Рязанский в семнадцатом годе пригласил к себе в гости своих единокровных братьев да всех и зарезал за братской пирушкой. Шесть человек зарезал, к половцам сбежал, с ума сошёл да и помер. А там и комета явилась копейным образом Знамение?. Восьмого мая тридцатого года земля затряслась, да так, что церкви каменные расселись, а неделю спустя солнце днём померкло и живое все замерло. Знамение. Грехов наших ради…
А у него грехов — что блох на шелудивой собаке. Половину пленных финнов приказал порешить, голода испугавшись. Сам не видел, как резали их, но уж очень тогда Стригунок старался, гнилая душа. А через день в трясине оступился, и никто ему руки не протянул. Живому человеку руку помощи не протянули, потому что о душу его никто мараться не хотел. Страшно, когда душа, дыхание Божье, в человеке раньше тела помирает…
Ворочался великий князь на перинах, вздыхал, то и дело вставал квасу испить, но потом, слава Богу, задремал. И гостей встретил доброй улыбкой, велел ключнику одеть их подобающим высоким чинам образом и, пожелав поскорее набраться сил, оставил их, сославшись на дела государственные.
Дел и впрямь стало невпроворот. Ведь не только разорённой землёй, но и всем великим княжеством Владимирским занимался теперь он. Похоронами и утешениями, податями и прокормом, торговлей и воспомоществованием осиротевшим. Ничем таким прежде он не занимался, и никакого долга он не ощущал. Он способен был ощущать только власть и все делал для того, чтобы ухватить этой власти побольше. Сталкивал лбами дальних родичей, ссорил близких, отъезжал то в Псков, то в Новгород, откуда его гнали, а он снова лез и снова смущал и только сейчас понял, что расплачивается ныне за свою неуёмную страсть раскачивать сложившийся порядок. Понял, проехав по сельским пепелищам, по разрушенным городам, по новым погостам с неосевшими могильными холмиками, под которыми гуртом, второпях отпетые, лежали те, кому не удалось избежать ни татарской стрелы, ни татарской сабли. Да, он сохранил свою дружину, уведя её с кровавого Батыевого пути, но сколько осиротевших, погоревших и искалеченных свалилось на него и в стольном городе, и в других растоптанных городах. А ведь была ещё ранняя весна, и уже не было прокорма для скотины и еды для людей. И в обычные-то годы в это время пустые щи хлебали, а ныне…
— Гость к тебе, великий князь, — доложил появившийся боярин. — Из Смоленска спешит.
— Зови.
У Ярослава не было особых забот в Смоленском княжестве, но за Смоленском стояла Литва, с которой приходилось считаться. Ещё до Батыева нашествия он приметил умного и весьма наблюдательного купца-смолянина, поговорил с ним с глазу на глаз да и сбросил ему мытные налоги в обмен на новости с Запада. Толковый оказался мужчина, довольно знал и по-литовски, и по-польски, и по-немецки, умел слушать, видеть и помалкивать.
Купец вошёл степенно, степенно перекрестился, степенно отдал князю низкий поклон, коснувшись пальцами пола.
— Садись, Негой. Где бывал, что видел, что люди говорят?
— Был в Полоцке, великий князь. За Полоцком — рать литовская, видел сам. сено им поставлял. Слыхал, на Смоленск идти хотят, а потом и к твоим землям. О Вязьме много говорили.
— И меня уже не боятся? А ведь трепал их, помнить должны.
— Считают, что тебя, великий князь, добро татары потрепали. Ежели возьмут Смоленск и Вязьму, Москва следующей будет.
— Добрые вести, Негой, очень добрые. — В бороде Ярослава блеснула прежняя улыбка, бледная, полузаметная и не обещающая ничего хорошего. — Я с лихвой оплачу твои товары, а ты немедля вернёшься в Вязьму. И будешь громко жаловаться, что у нас полный разор, торговлишка захирела, ратников уж и не набрать, а князь, мол, увёл свою дружину в Новгород.
— Все исполню, великий князь. Ежели нет повелений, дозволь удалиться. Сегодня же уведу обозы в Вязьму.
Негой отдал полный поклон и тут же вышел. Князь хлопнул в ладоши и, не оглядываясь, сказал возникшему в дверях боярину:
— Яруна ко мне. Одного.
Когда Ярун вошёл, князь старательно писал тростниковой палочкой. Он любил писать и никогда не занимал писцов личной перепиской.
— Где татарин?
— Твоими скакунами любуется. С ним Сбыслав.
— Сбыслав. Почему так назвал?
— Мила велела перед смертью. Чтоб слава его сбылась.
— Отдыхать тебе не придётся, — сказал Ярослав, закончив письмо. — Литва на Смоленск наседает. Отвезёшь повеление Александру, пусть идёт на княжение в Новгород со своими отроками. Приглядывай за ним, Александр горяч, бабка у него — половчанка.
— Коли горяч да отходчив, беда невелика.
— И разумен. Разумнее Федора.
— Упокой, Господи.
— Знаешь, когда Федор умер? За два дня до свадьбы собственной. — Ярослав вздохнул. — И меды, что для свадьбы изварены были, на поминки пошли. Теперь Александр — старший. Андрей молод и бестолков. А с новгородцами надо — с толком. — Князь протянул свиток Яруну, задержал в руке. — Самолюбив Александр по молодости своей, но разумное слушать умеет, не в пример Андрею. Повеление отдашь лично.
— Все исполню, князь Ярослав.
— И о татарине. Почему он в христианство переметнулся?
— А он и был христианином, только другого толка. Говорит, в степи много таких.
— Дай-то Бог. — Князь помолчал, припоминая, не забыл ли чего сказать. — Отобедаете, поспите, как обычай велит, и — в дорогу. — Ярослав вдруг порывисто поднялся, обнял Яруна, трижды расцеловал, сказал тихо: — Прости, Ярун, Бога ради, прости за Милашу.
— Не простил бы, Сбыслава бы не привёл.
— Тайну Сбыслава в сердцах сохраним. Братоубийства боюсь, раздора боюсь, смуты боюсь. Нам сейчас покой нужен, Ярун. Ступай, ещё успеем проститься.
Ярун молча поклонился и вышел.
Конюхи прогуливали княжеских лошадей в большом конюшенном дворе, где и застал Ярун своего анду и Сбыслава. Юноша с горящими глазами смотрел, как игриво бегают по кругу молодые выхоженные кони.
— Красота-то какая, отец! — восторженно сказал он. — Особо вон тот, чалый.
— Добрый аргамак, — согласился Чогдар. — А под седлом не ходил. Видишь, как голову задирает?
— Эх, поиграть бы с ним… — вздохнул Сбыслав
— А усидишь?
Все оглянулись. У ворот стоял князь Ярослав.
— Усижу, великий князь.
— Подседлайте чалого.
— Дозволь без седла, великий князь, — взмолился Сбыслав.
— Вот как? — Князь улыбнулся. — Добро, коли так. Если три круга на нем продержишься, подарю. Взнуздайте ему коня.
— Великий князь… — Сбыслав задохнулся от радости. Пока конюхи втроём взнуздывали горячего аргамака, Чогдар сказал несколько слов, которых Ярослав не понял. Но Сбыслав быстро ответил на том же языке, и князь негромко спросил Яруна:
— Сбыслав понимает татарский?
— Анда его научил, — улыбнулся Ярун. — А ещё кипчакскому и арабскому. Хороший толмач будет, князь Ярослав.
Взнузданный жеребец яростно грыз удила, нервно перебирая передними ногами, вздёргивал головой, не давался, и его еле удерживали двое рослых конюхов. Сбыслав сбросил верхнюю одежду, перемахнул через загородку, прыжком влетел на спину неосёдланного коня.
— Пускай1…
Конюхи бросились в стороны, одновременно отпустив удила, и жеребец, пытаясь сбросить непонятную тяжесть со спины, резко поднялся на дыбы, громко заржав. Но Сбыславу не впервой было укрощать непокорных: он успел припасть к лошадиной шее и, коротко подобрав поводья, резко рванул их вниз Чалый с места сорвался в карьер, то вдруг взбрыкивая, то поддавая крупом, но юноша был цепок, как кошка, всякий раз вовремя чуть отпуская поводья, что заставляло аргамака сразу же рваться вперёд.
Так продолжалось почти два круга. Чалый пытался во что бы то ни стало сбросить седока, а всадник стремился не просто усидеть, но и убедить жеребца, что самое лучшее для него — покориться воле наездника. Все конюхи, сам великий князь, Ярун и Чогдар, позабыв о прочих делах, уже не могли оторвать глаз от захватывающего поединка яростного жеребца и упрямого ловкого юноши
— Ты учил? — спросил Ярослав.
— Чогдар, — улыбнулся Ярун. — Добрый учитель.
— Добрый наездник. — В голосе князя прозвучала гордость.
— Сейчас чалый задом начнёт бить, — предсказал Ярун.
— Не сбросит?
— Сбыслав на плечи ему съедет. Даром, что ли, без седла поскакал.
— Не в первый раз, стало быть?
— В первый раз ему, почитай, лет десять было. Жеребец вдруг остановился и упорно начал взбрыкивать, резко поддавая крупом. Сбыслав ожидал этого, всем телом чувствуя неосёдланную конскую спину, и, плотно слившись с нею, просто чуть передвинулся вперёд, к лошадиным плечам, где толчки почти не ощущались Теперь следовало выждать, когда чалый уморится, чтобы, не давая ему передышки, послать коня вперёд. И как только аргамак пропустил следующий удар крупом, Сбыслав тут же отдал ему поводья. Конь бешено рванулся вперёд, но выскользнуть из-под всадника так и не смог, потому что Сбыслав просто сдвинулся назад, крепко стиснув спину шенкелями. С гиком промчался два круга и резко осадил взмыленного жеребца точно перед самыми опытными зрителями, с торжеством воскликнув:
— Я победил его, отец!
— Молодец, — неожиданно сказал великий князь. — Твой конь отныне.
Поймал несколько удивлённый взгляд Сбыслава, нахмурился, сдвинул брови. Ему стало неуютно от собственной искренности, но выручил старший конюх:
— Дозволь, великий князь, горбушку хлеба парню дать. Пусть жеребца прикормит.
— Добро, — хмуро согласился Ярослав. И буркнул Яруну не глядя: — Жду всех троих на обеде.
Князь отменил собственное повеление Яруну после полуденного сна без промедления отъехать к Александру. Повеление предполагало, что обед не будет общим, не превратится в прощальный, но теперь Ярослав уже не мог отказаться от удовольствия отобедать с внезапно обретённым сыном. Пусть незаконным, пусть неведомым, но своим. Отважным, умелым и ловким. «Моя кровь, — с гордостью думал он, возвращаясь с конюшенного двора. — И смелость моя, и ловкость моя, и ярь моя безрассудная. Поговорить с ним надобно, порасспрашивать его, послушать…»
Он распорядился накрыть в малой трапезной, никого из ближних бояр и советников на обед не пригласил, а сел так, чтобы сын оказался через стол к нему лицом. Поглядывал на него, даже раза два улыбнулся, а начать разговор не мог, и беседу поддерживать пришлось Яруну, потому что его анда разговорчивостью не отличался, а Сбыславу по возрасту полагалось отвечать только на вопросы старших. Беседа вертелась вокруг коней, их особенностей, выездки и характера и была общей, поскольку все четверо толк в конях понимали.
— Сила татар в том, что всадник и лошадь у них одно целое. Сутками с коней не слезают, так ведь, Чогдар?
— Пересаживаются на запасную, когда конь устаёт, — пояснил Чогдар. — Каждому надо иметь три, а то и пять лошадей. Боевую, две запасные да две вьючные.
— На коня мальчонку ещё во младенчестве сажают, — сказал Ярун. — Так мы с андой Сбыслава и воспитывали. Ездить на коне раньше выучился, чем по земле ходить.
Сбыслав быстро глянул на князя, смутился, опустил глаза и почему-то покраснел. Ярослав улыбнулся:
— Татарского десятника в честном поединке убил, а краснеешь, как девица.
— Он осмелился отца плетью ударить, — не поднимая головы, сказал юноша.
— А отец сам за себя и постоять не мог?
— Мог, но не успел. Я того десятника в ответ два раза своей плетью огрел, он сразу за саблю схватился, а мне Чогдар свою саблю бросил и крикнул, чтоб я нападал, а не защищался.
— Нападение — лучшая защита, — подтвердил князь. — И не боялся? Он, поди, постарше тебя был, покрепче да и поопытнее, а?
— Я знал два боя, а он — один, великий князь.
— Что значит — два боя?
— Отец меня русскому бою учил, а Чогдар — татарскому, — смущаясь, пояснил Сбыслав. — Я знал, как десятник будет биться, а он не знал, как буду биться я.
— А мечом владеть умеешь?
— Учусь, великий князь.
— Плечи у него ещё не созрели, князь Ярослав, — рискнул вмешаться Ярун. — А меч, как известно, плечом крепок.
— Учись, Сбыслав, сам тебя проверю. — Князь помолчал, похмурился, точно не соглашаясь с собственным решением, сказал, глядя в стол: — Рано вам ещё к Александру ехать, здесь пока поживёте Так оно лучше сложится.
И, встав из-за стола, поспешно вышел из трапезной, ни на кого так и не посмотрев.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Беспощадная татарская стрела, пронзившая тело Великого княжества Владимирского, на целых семь недель застряла в деревянных стенах мало кому доселе известного городка Козельска Жители его, посовещавшись и поспорив, твёрдо решили сложить свои головы за веру христианскую. Говорили потом, будто какой-то чудом бежавший из Коломны взлохмаченный неистовый поп настолько потряс горожан проклятиями и пророчествами, что и христиане, и язычники едва ли не впервые согласно порешили город не сдавать, с чем и ввалились на княжеский двор.
— Не бывать Козельску под погаными!
— Добро, коли так, — сказал юный князь Василий. — Сложим головы свои за землю Русскую и святой православный крест.
И начались семь недель небывалого по ожесточению атакующих и мужеству осаждённых беспрерывного сражения. Татары били по городу из многочисленных боевых машин-пороков, осыпали его стрелами, лезли на приступ, сменяя друг друга. А город стоял, и горожане без сна и отдыха бились на его горящих стенах врукопашную: мужчины резались на ножах, женщины и дети лили со стен кипяток и смолу, сбрасывали на татар камни и бревна.
И никто не приходил на помощь. Ни свежие, так и не увидевшие татар смоленские полки, ни войска князя Михаила Черниговского, ни великий князь Владимирский Ярослав, аккурат в это время разбиравшийся с литовцами в земле Полоцкой. Каждый торопился извлечь пусть маленькую, но свою, личную, крохотную выгоду из горьких слез и смертных мук детей и женщин несчастного Козельска. Издревле героизм на Руси измерялся одним аршином — мученичеством.
На сорок девятый день пал самый гордый город того слёзного времени. Рассвирепевший Батый лично приказал убить всех. И всех убили. Женщин и детей, раненых и умирающих. А юный князь Василий, как говорят летописи, захлебнулся в крови.
— Злой город, — сказал Бату-хан и повелел готовить победный пир.
Пожары не тушили, трупы защитников не убирали, а раненых среди них не было. Поставили парадную ханскую юрту из белого войлока, разожгли в центре её костёр, расстелили ковры, и в назначенный час в неё первыми вошли внуки и правнуки великого Чингисхана. Бату и его друг двоюродный брат Мункэ, старший брат Бату сильный, но туповатый Орду, Байдар и Тудэн, Гуюк и племянник его Бури. Они расселись на белом войлоке почёта, и только после этого вошли их полководцы во главе с Субедей-багатуром. Вошли и остановились, ожидая, пока старый Субедей сядет на особый войлок, расстеленный отдельно между местом чингисидов и местом их воевод. И как только это произошло, молча уселись сами, без учёта чинов и заслуг, но и при этом рослый суровый Бурун-дай оказался в первом ряду вместе с коренастым улыбчивым Бастырем и любимцем Бату-хана молодым Неврюем.
— Небо любит наши победы, — сказал Бату, выждав очень важную паузу. — Разящие монгольские сабли ослепляют наших врагов, а их меткие стрелы не знают промаха…
— Меткие стрелы застряли в жалкой изгороди Злого города на целых сорок девять дней, — язвительно и громко перебил Гуюк. — Если бы русские не дрались между собой, нас бы давно отбросили за Волгу.
Его племянник Бури неожиданно захохотал. Это прервало оцепенение, вызванное неслыханной дерзостью Гуюка. Зашептались ханы на белом войлоке, заворчали воеводы. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг Субедей-багатур резко не выкрикнул:
— Чингис слышит все!…
Сразу стало тихо. Бату выдержал вторую, не менее важную паузу, сказал негромко, но достаточно ясно и чётко:
— Я сожалею о невоздержанности моих двоюродных братьев. Не меня оскорбила их неумная выходка — она оскорбила нашу доблесть и наши победы. Властью, вручённой мне сыновьями великого Чингисхана, повелеваю моим неразумным братьям немедленно покинуть мою армию, вернуться к отцам своим и рассказать им, за что именно они изгнаны.
— Мы такие же внуки Чингиса, как ты, Бату, и ты не смеешь… — начал было Гуюк, но, увидев белые от гнева глаза Бату, замолчал, опустив голову.
Первым поспешно вышел Бури. Гуюк был потвёрже характером, но и ему не хотелось через день-другой погибнуть от удушья или яда. И, выждав приличествующее его достоинству время, он удалился следом за ближайшим другом. На победном пиру наступило тягостное молчание, поскольку все присутствующие отлично знали, что подобные ссоры между чингисидами добром никогда не кончаются.
На рассвете изгнанные царевичи выехали в Каракорум вместе со свитами и личной охраной. Из всех родственников их провожал только туповатый Орду, да и то потому, что так и не понял, что же произошло, и не одобрял гнева младшего брата. А проводив, заглянул в юрту Бату:
— Уехали.
Бату промолчал, лично наполнив кумысом чашу для старшего брата.
— Зачем обижать своих братьев?
— Знаешь, почему мы побеждаем, Орду?
— Потому что мы сильнее всех.
— Потому что наш великий дед завещал нам суровый порядок. Никто не имеет права перебивать командира. Никто не имеет права смеяться над нашими победами. Никто не имеет права пить кумыс, когда чаша его сотрапезника пуста!
Последние слова Бату выкрикнул, чтобы Орду запомнил хотя бы этот пример. Орду виновато ухмыльнулся, наполнил чашу Бату, и братья согласно сделали по глотку.
— Метла чисто выметает сор, но может ли вымести сор каждый прутик, из которого она связана? Русские княжества — прутики, не связанные в метлу. И каждый князь собственным прутиком пытается расчистить себе дорогу.
— Не говори так со мною, брат! — взмолился Орду. — Я не понимаю твоих слов, потому что никогда ничего не подметал.
— Меня заставил задуматься об этом злой город Козельск, — вздохнул Бату. — Но ты прав, каждому нужно говорить то, что он хотел бы услышать.
«Каждому следует говорить то, что он хотел бы услышать, — думал князь Ярослав, внимательно слушая полоцкого князя Брячислава. — Хозяин льстив без меры, верить ему нельзя, но мы нужны друг другу…»
Совершенно неожиданно для всех, а может быть, и для самого себя, Ярослав покинул Владимир, где так звонко стучали топоры. Его не оставляла мысль, что литовцы не просто возьмут Смоленск, но переманят его жителей на свою сторону, тяжким грузом повиснув на ногах Новгорода. Мысль была мучительной, потому что Александру такой груз был бы совсем ни к чему, а выход виделся один: навязать литовцам кого-то другого для дальнейших планов. Кого-то для них неожиданного и в то же время вполне подходящего, для чего необходимо было показать, что Смоленск он, великий князь Владимирский, им так просто не отдаст. И, три дня полюбовавшись ловкостью ново-обретённого сына, Ярослав поднял дружину и ринулся к Смоленску.
Впрочем, эту спасительную мысль он выдумал сам для себя, но тут же вцепился в неё как клещ. На самом-то деле все было куда проще: он бежал от собственного незаконного, так счастливо и так не вовремя свалившегося на него сына. Он хотел расстаться с ним, отправив его в Новгород, но сил таких в его душе не нашлось. А расстаться следовало, и он сам для себя придумал предлог, чтобы сбежать.
Такой стремительности литовцы, убеждённые в бессилии Владимирского княжества, не ожидали. Ярослав легко уговорил смолян в необходимости совместных действий и столь же легко отбросил литовцев смоленскими же полками, поскольку всячески берег свои: помогло то, что полоцкий князь Брячи-слав вовремя предложил свою помощь исходя из каких— то личных побуждений. И сейчас на дружеской пирушке следовало выяснить, что у него на уме и почему вдруг он избрал союзником столь далёкого от него владимирского князя.
— Господь благоволит истинным ревнителям веры православной. — Брячислав заливался соловьём, хотя выпито было немного. — Из племени твоего, великий князь, взял Он в чертоги свои лишь брата твоего князя Юрия, упокой, Господи, его душу, да сына Федора…
— Да, — не выдержав, вздохнул Ярослав. — И ме-ды, на свадьбу наваренные, ушли на помин души.
— Александр — сила твоя, Александр, великий князь! — засиял, залучился улыбками Брячислав. — Видел я его на Фёдоровых поминках: могучий муж растёт. И ростом выше всех, и голосом мощнее, и красотой мужеской, и силой богатырской…
Говорил он что-то ещё, но Ярослав уже не вслушивался. Улыбался в бороду, вовремя поддакивал, а сам думал: «Значит, Александр: на нем лиса застряла. За княжество боишься, радушный хозяин? Это понятно: Литва да немецкий орден на границах. Но что-то тут уж очень просто для такого льстеца…»
— Хоть и христиане мы, князь Ярослав, а древние обычаи грех забывать, — продолжал тем временем Брячислав. — Ты впервые великую честь мне оказал, дом мой посетив. А по дедовским заветам третью чашу почётному гостю хозяйка поднести должна, да только хворает она сильно. Дозволь дочери моей завет сей исполнить.
— Ты хозяин в доме своём, князь Брячислав.
Брячислав с достоинством кивнул головой и хлопнул в ладоши. Тотчас же распахнулась входная дверь, и пунцовая от волнения девочка лет четырнадцати торжественно вплыла в малую трапезную. Роста она была невеликого, но столь хороша и свежа, столь непосредственна и по-домашнему уютна, что сердце опытного женолюба невольно обволокло нежностью.
— Неоценимы сокровища дома твоего, князь Брячислав. — Ярослав, улыбаясь, любовался девочкой. — Как же зовут голубоглазую жемчужину сию?
Хозяин с ответом не торопился, давая гостю время вдосталь налюбоваться. Девочка смущалась, краснела, но руки её, державшие поднос с кубком, до краёв наполненным вином, ни разу не дрогнули.
— Пожалуй высокого гостя почётом дома моего, Александра.
Дочь шагнула к Ярославу, низко склонилась перед ним и протянула поднос, на который не пролилось ни капли из переполненного кубка. Ярослав подошёл, поднял кубок:
— Пошли, Господь, счастье дому сему!
Выпил вино до дна, поставил пустой кубок на поднос и трижды поцеловал заалевшую девочку в пухлые губы. Александра ещё раз низко поклонилась и вышла, как вошла, — плавно, торжественно и бесшумно.
— Хороша твоя Александра! — с чувством сказал Ярослав. — Видит Бог, хороша!
— И разумна, и дом в руках держать умеет, когда я в отъезде, — как бы между прочим, улыбаясь, дополнил Брячислав. — Грамоте добро обучена, знает литовский, польский и немецкий. А внуки какие будут, князь Ярослав!
— Да-а, — протянул гость, все ещё пребывая в очаровании.
— Пресвятая Богородица при крещении имена назначает, — продолжал хозяин. — У тебя — Александр, у меня — Александра.
— Не просватал ещё?
— Многие сватались, да не те многие. Не их поля ягодка, мною взращённая и мною выпестованная.
Красный товар — красному купцу. — Брячислав наполнил кубки. — Коли сойдёмся да свадебку сыграем — через год внука нянчить будешь
— Добро бы она ему кубок поднесла.
— На свадьбе поднесёт.
— Своенравен он.
— От такой и своенравные не отказываются.
Долго длился этот разговор, и в конце концов Ярослав не устоял. Ни по разуму, ни по сердцу, хотя по сердцу, пожалуй, больше, чем по разуму: окружённое хищными врагами и уже порядком обессиленное Полоцкое княжество было для его сына скорее утратой, чем приобретением. Но уж больно хороша была дочь Брячислава, а вино его — крепко и обильно
От такого собственного решения князь Ярослав впал в смятение, но смятение волнующе-радостное, а потому и пир их продолжался трое суток с небольшими перерывами на сон. То ли хозяин пил более осмотрительно, то ли Ярослав в смятении своём волнующем приглушил привычную осторожность, а только в конце концов вышли они на весьма тонкую беседу, начало которой Ярослав начисто забыл.
— Не захворала жена моя, князь Ярослав. Украли её у меня, силой увезли, пока я тевтонов от границ отбивал.
— Кто?
— Слава Богу, дочку дворня спрятала…
— Кто посмел, спрашиваю?
— Слыхал я, он сейчас в Киев ушёл. Может, в Каменце жена моя горючими слезами обливается?
— Да кто обидчик твой, князь Брячислав?
— Да князь Михаил Черниговский.
Неизвестно, что повлияло на князя Ярослава больше: то ли грядущее родство с князем Полоцким, то ли причинённое тому тяжкое оскорбление, то ли хмельной угар, то ли вдруг пробудившиеся в нем воспоминания о собственной бестолковой молодости, то ли все вместе взятое. А только сорвался он с места и с малой дружиной ринулся вдруг в неблизкое Черниговское княжество. И дошёл-таки, на одном упрямстве дошёл, даже протрезвев по дороге. Дошёл, чудом каким-то избегнув встреч с многочисленными татарскими отрядами, разъездами и дозорами, расколошматил незначительную самооборону Каменца, захватил жену удравшего в Венгрию Михаила Черниговского, бояр её и множество полона и потащил все это зачем-то в Полоцк. И на обратном пути опять умудрился нигде не столкнуться с татарами, которые подтягивались к Киеву.
Действовал великий князь Владимирский то ли в состоянии молодецкого азарта, более всего уповавшего на издревле знаменитый русский «авось», то ли в лёгком умопомрачении, поскольку не смог бы объяснить, ради чего он это делает, даже на Страшном Суде. А было это всего лишь обычным, хотя и несколько запоздалым проявлением дикой удельной княжеской воли — «что хочу, то и ворочу». Точнее, её рецидивом, если вспомнить его вполне искреннюю боль, маету и смятение по возвращении в разорённый Владимир.
Опомнился он на подходе к рубежам Полоцкого княжества, когда от полоненного им солидного боярина узнал, что захваченная жена Михаила Черниговского приходится родной сестрой самому Даниилу Романовичу Галицкому, князю дерзкому и отважному, ссориться с которым было совсем не с руки. По счастью, и это миновало Ярослава очень скоро его войско, обременённое пленными и добычей, нагнал гонец самого Даниила с лаконичной письменной просьбой: «Отдай мне сестру». Князь Ярослав с огромным облегчением освободил жену Михаила Черниговского вместе с боярами и всей челядью, но награбленное и каменецких пленных не отдал, что, впрочем, было в обычае тех разбойных времён.
Все вроде было в обычае, а совесть княжеская на этот раз не находила себе места. Он не пытался ни спорить с нею, ни соглашаться, а просто отдал всю добычу будущему свояку, подтвердил сговор и чуть ли не в день возвращения выехал, не дав отдохнуть ни коням, ни дружине. Князя Брячислава восстановление чести чужими руками настолько обрадовало, что уговаривал он Ярослава остаться вяло и неинтересно, и великий Владимирский князь, до раздражения недовольный собой, отбыл из гостеприимного Полоцка. Сперва вроде бы домой, но на первом же перекрёстке свернул к Новгороду.
Старший сын князь Александр Ярославич встретил его в одном поприще от города: его заставы и дозоры действовали чётко даже в этой покойной земле. Обласкал, сопровождал стремя в стремя, все доложил и даже не ел с утра, чтобы разделить утреннюю трапезу с отцом.
— Кого изволишь пригласить, батюшка?
— Вдвоём, — буркнул Ярослав: его грызла совесть. Завтракали наедине в малой трапезной. Ярослав молчал и жевал скучно, но у сына было редкое чутьё и столь же редкое дарование ждать, невозмутимо и непринуждённо поддерживая разговор.
— Орден пока псковичей больше беспокоит, но я людей разослал, они мне все доносят. И о действиях, и о продвижениях, и даже о планах…
Ярослав слушал, ел и откровенно разглядывал сына. После предложения князя Брячислава и последующего сговора он впервые увидел сына мужем. Высоким, с широкими налитыми плечами, умным приветливым лицом. От него веяло мужественной силой и спокойной уверенностью, и Ярослав сейчас не просто любовался им, но и с горечью подумывал, а не поторопился ли он со сватовством. Но княжье слово было законом, взять назад его было невозможно, и он, терзаемый этим, неожиданно перебил Александра:
— Князя Брячислава Полоцкого знаешь?
— Как-то встречались.
— Дочь его видел?
— Не приходилось. А что?
— Просватал я тебя.
Александр молчал. Он на редкость умел владеть собой, однако новость выбила его из седла настолько, что подходящих слов не находилось.
— Подушка меж тобой и Литвой будет, — малоубедительно продолжал отец. — Да и тебе пора о моих внуках подумать, поди, уж быка кулаком на землю валишь.
— Быка валю, — скупо улыбнулся Александр. — Хороша ли невеста моя?
— Хороша! — оживился Ярослав. — Чудо как хороша.
— Надо бы поглядеть.
— Обычай не велит.
— Знаю. Я Андрея пошлю. У него на этот счёт глаз острый.
— Андрей — брат твой, дело особое. — Ярослав подумал, вдруг подался вперёд, перегнувшись через стол. — Помнишь, я тебе о Яруне рассказывал? Ну, который спас меня у Липицы? Объявился он. С сыном. И нужно его сына с Андреем на смотрины послать.
— Не родственник он нам, отец.
— Больше чем родственник! — Ярослав неожиданно повысил голос, но тут же спохватился: — Взгляд у него со стороны, понимаешь? И Яруну честь окажем.
— Как повелишь, батюшка
Ярославу не понравился не столько покорный, сколько спокойно-сдержанный ответ Александра. Если бы была у него какая-то на примете, он бы так себя не вёл. Он бы либо взбунтовался, как, допустим, Андрей, либо заупрямился бы, как покойный Федор Нет, судя по тону, женитьба на ком бы то ни было была сейчас для него безразлична. Его мучили какие-то иные, далёкие от женских утех мысли. Так вдруг показалось Ярославу, и он спросил:
— Не к месту я, похоже, со сватовством своим?
— Мне уже девятнадцать, батюшка, пересидел я в парнях Так что все вовремя. А вот душу свою настроить на свадьбу пока не могу, ты уж не серчай. Иным она занята, если по совести тебе сказать. Русь меж молотом и наковальней оказалась, и сплющат её завтра в лепёшку или добрый меч на неё откуют, это ведь не Божья — это наша забота.
— Твой Новгород татары не разоряли и, дай Бог, сюда и не пожалуют. А немцы… Ты да Псков — как-нибудь сдюжите.
— Русь для меня — не Новгород со Псковом и даже не земля Владимиро-Суздальская, отец. Русь — это все, все наследство прапрадеда моего Владимира Мономаха. А над нею тевтонские мечи с запада да татарские сабли с востока. Почему мой дядя великий князь Юрий битву на Сити бесславно проиграл и там же голову сложил?
— Татар было — несметное число…
— Не надо, отец. Такое объяснение не для князей, а для моей голытьбы да для твоих смердов, а нам правде надобно в лицо смотреть, глаз не отворачивая. Мы за них отвечаем, а не они за нас, и спросится с нас на Страшном-то Суде. С нас, батюшка. Так ответь мне, князю Великого Новгорода, своему старшему сыну, почему татары прошли сквозь земли суздальские, рязанские, северские, черниговские, как стрела сквозь простыню?
Князь Ярослав надолго задумался. Хмурил брови, крутил поседевшей головой, страдая и маясь, потому что не решался. Потом вздохнул, перекрестился, сказал угрюмо:
— Я свою дружину не отдал брату своему, когда он силы собирал для решающей битвы на Сити. Уж как он просил меня, про то я сам на Страшном Суде отвечу. А потому не отдал, что две вещи раньше его понял. Первое, что Батый в наших землях не задержится, другая у него цель. И второе, что битву Юрий не выиграет, только людей зря положит. И прав оказался, потому что так и случилось. И по-иному случиться не могло.
— Почему?
— А я тебе, Александр, задумал монгола одного в советники передать, — неожиданно хитро улыбнулся Ярослав. — Он ко мне пришёл вместе с Яруном, со своими поссорившись. Крещение святое принял, воин опытный и человек разумный. Вот ты у него и спросишь, только знай, что с норовом он.
— А я и сам с норовом! — рассмеялся Александр. — Спасибо, батюшка, за такого советника, он мне сейчас больше любой невесты нужен. Куда как больше!…
— Так посылать на смотрины Андрея вместе со Сбыславом?
— С каким ещё Сбыславом?
— Сыном Яруна. Я говорил тебе.
— Стоит ли какого-то Сбыслава в дела наши семейные посвящать? — с плохо скрытым неудовольствием спросил Александр.
— Стоит, — помолчав, очень серьёзно сказал Ярослав и вздохнул: — Когда-нибудь я тебе все объясню. Обещаю. А пока на слово отцу поверь.
— Значит, так тому и быть, — сказал Александр. — Может, и вправду чужие глаза зорче смотрят.
На том они тогда и расстались, и Александр поспешил уйти, сославшись на то, что отцу надо отдохнуть с дороги, а ему — заняться неотложными делами. Но никаких неотложных дел у него не было, а была тоскливая боль, которую приходилось скрывать, а сил на это уже не хватало. Эта боль сжала его сердце при первом упоминании о сватовстве, потому что Александр был влюблён. Влюблён впервые в жизни, и так, как влюбляются в девятнадцать лет. И чтобы объяснить своё внезапное смятение, затеял разговор государственный, отлично понимая, что иного отец просто не поддержит и даже не поймёт. А влюбился он в сестру своего друга детства, а ныне дружинника Гаврилы.
Гаврила был на редкость силён и крепок, не по возрасту сдержан и солиден, отчего все приближённые молодого князя называли его только по имени и отчеству: Гаврилой Олексичем. Он с детства был главным советником Александра, хотя официально таковым числиться по молодости не мог. Но молодость проходит, а редкое спокойствие, разумность и уменье взвешивать слова и поступки дарованы были Олексичу от рождения, поэтому он всегда выглядел старше и опытнее всех друзей детства, окружавших Александра. И сестра его Марфуша обладала не столько красотой, сколько фамильной рассудительностью, спокойствием и редким даром угадывать заботы Александра задолго до того, как они его посещали. Вот почему, едва расставшись с отцом, новгородский князь сразу же укрылся в своих личных покоях и приказал найти Гаврилу Олексича.
— Сказали, что срочно звал меня, князь Александр?
— Садись.
Гаврила сел, а князь продолжал ходить. Метаться, как тотчас же определил Гаврила и стал размышлять, что могло послужить причиной такого волнения всегда очень сдержанного и спокойного друга детства. Он верно связал этот всплеск с внезапным появлением великого князя Ярослава, их разговором наедине и теперь ждал, что из этого разговора сочтёт нужным поведать Александр.
— Отец жениться велит.
— Пора уж.
— А Марфуша как же? Ведь люблю я её, Олексич! Гаврила осторожно вздохнул. Он тоже любил свою сестру, считал себя ответственным за неё, берег и холил, но — не уберёг. Свадеб отцы, а уж тем более князья, не отменяли, дело считалось решённым после сговора, а отсюда следовало, что Марфуша удержит при себе новгородского князя в лучшем случае только до рождения законного ребёнка от законной жены.
— Ты — Рюрикович, Ярославич. Тебе о потомстве думать надобно, а не о любви. А Марфуше я сам все объясню, так оно проще будет.
— Ссадили меня с горячего коня на полном скаку, — горько усмехнулся Александр. — И кто же ссадил — родной отец, Олексич.
— Так не прыгай в это седло сызнова, — очень серьёзно сказал Гаврила. — Ни себя, ни её боле мучить не след.
— Знаю!… — вдруг с отцовским бешенством выкрикнул всегда сдержанный Александр,-но спохватился, замолчал. Сказал сухо: — В Полоцк с дарами от меня ты поедешь вместе с Андреем и каким-то там Сбыславом. Отец мне этого Сбыслава честь, что в те времена ценилось едва ли не дороже спасения жизни.
То были времена не только пустячных обид, глупых ссор и кровавых поисков правды, но и пока ещё не поколебленного двоеверия. Христианство ещё не проникло в сельские глубинки, жалось к городам да княжеским усадьбам, а деревня спокойно обходилась без него, продолжая жить, как жила веками. Маломощная Церковь, не рискуя заниматься широким миссионерством, отыгрывалась в городах, авторитетом своим всячески мешая выдвижению язычников на должностные места, сколь бы эти язычники ни были умны, самобытны и талантливы. Крещение резко облегчало карьеру, а потому многие и крестились отнюдь не по убеждению, а ради собственной выгоды, и людям с развитым ощущением собственного достоинства дороги наверх оказывались плотно перекрытыми церковными властями. Такова была простейшая, но весьма неумная мера понуждения к принятию христианства, к которой Церковь прибегала для пополнения рядов своих верных сторонников. На этой почве возникали частые недоразумения, споры и ссоры, а поскольку за ножи тогда хватались с той же лёгкостью, что и в наши дни, кровавых столкновений хватало, и побеждённые бежали туда, куда не рисковал заглядывать никакой враг на Руси, — в её нехоженые и немереные леса.
В таком лесу, притихшем и мрачном, и случилась с великим князем Ярославом обидная неприятность, о которой он никому не рассказывал и не любил вспоминать. Он возвращался во Владимир без охраны, только со слугою да двумя гриднями, когда из густого подлеска выпрыгнул вдруг плечистый парень с гривой нечёсаных волос и увесистой дубиной в руках. Замахнулся этой дубиной, испугав вставшего на дыбы коня, и Ярослав от неожиданности чудом не вылетел из седла.
— Божьи дома строишь, а народ в ямах живёт!… — орал парень, размахивая дубиной. — С голоду пухнем, с голоду, а ты у своего Христа собственные грехи замаливаешь!… Посчитаюсь я с тобой, князь, дай срок, посчитаюсь! Кирдяшом меня зовут, запомни!…
И исчез в кустах столь же неожиданно, сколь и появился. Воплей его князь Ярослав нисколько не испугался, но обиделся, долго досадовал и никому ничего не сказал про внезапное столкновение с каким-то там Кирдяшом.
Где— то в таких местах и состоялась первая встреча Сбыслава с княжичем Андреем. Княжич перекусывал в дороге, ожидая неведомого спутника, когда прискакала четвёрка всадников, а впереди неё -богато одетый дружинник. Сбыслав увидел князя ещё издалека, спешился заранее и подошёл, остановившись в трех шагах.
— Меня зовут Сбыславом, — сказал он, поклонившись. — Здравствуй, княжич Андрей.
— Узнаю жеребца. — Андрей и не глянул на нарядного дружинника. — Отец знает, что ты его украл?
— Великий князь Ярослав подарил мне его, когда убедился, что конь меня узнает.
Сбыслав щёлкнул пальцами, и жеребец тотчас же подошёл к нему, ласково ткнув мордой в плечо.
— А что это за верёвка к седлу приторочена? — не унимался княжич.
— У каждого своё оружие.
— Верёвкой отбиваться будешь? — засмеялся Андрей. — Послал мне батюшка защитничка!
Десяток охранников и княжеские слуги громко расхохотались. Сбыслав понял, что этим князь Андрей определил его роль и место, но промолчал.
— Ладно, в путь пора. — Андрей легко вскочил с попоны, бросил Сбыславу через плечо: — Твоё место-в тыловой стороже.
Сбыслав учтиво поклонился: старшим здесь был княжич, и ему принадлежало право решать, кого он видит в молодом отцовском дружиннике — то ли начальника личной охраны, то ли сотоварища в пути, то ли полноправного члена свадебного посольства.
Все определилось в обед. Решив не обострять отношений, Сбыслав старательно исполнял обязанности начальника тыловой охраны, следуя за князем Андреем, его дружинниками и челядью на предписанном татарами расстоянии двойного полёта стрелы. Поступал он так не только потому, что этот разрыв был самым разумным, а просто по незнанию русских воинских обычаев, которые предусматривали зрительную связь при всех условиях. Поэтому когда Андрею вздумалось повелеть остановиться для обеда и последующего послеобеденного отдыха на опушке, он выехал из леса с известным запозданием. Княжич уже лежал на попоне, дружинники успели расседлать коней, а челядь разжигала костёр.
— Загнал ты отцовского жеребца! — с неудовольствием сказал Андрей. — Погоди, не рассёдлывай, я прыть его проверю.
— Он ещё своенравен, княжич, и слушается только меня, — осторожно предупредил Сбыслав.
— Я тоже своенравен! — Андрей вскочил с попоны, ловко взлетел в седло. — Подай повод.
— Княжич Андрей, конь недостаточно объезжен…
— Я сказал, дай поводья!
Вырвал повод, поднял жеребца на дыбы и с силой огрел его доброй плетью из сыромятного ремня. От незнакомой боли конь сделал дикий скачок и сразу пошёл бешеным карьером. Напрасно Андрей рвал его рот удилами, изо всех сил натягивал узду: аргамак, озверев, не чувствовал ни всадника, ни боли, то вдруг становясь на дыбы, то взбрыкивая, то с силой поддавая крупом. Княжич уже потерял поводья, уже не управлял жеребцом, а просто держался за все, за что только мог уцепиться, лишь бы не оказаться на земле на глазах собственных дружинников.
И все растерялись, с разинутыми ртами глядя на взбесившегося коня, который — вот-вот ещё мгновение! — должен был сбросить на землю порядком растерявшегося княжича. Сбыслав опомнился первым просто потому, что ожидал подобного. Вскочил на ближайшего неосёдланного коня, резко свистнул. Знакомый свист на миг остановил чалого, но Сбыславу этого оказалось достаточно: он умел справиться с любой лошадью, а потому заставил ту, незнакомую, что была под ним, с такой силой рвануться вперёд, что настиг жеребца, на скаку прыгнул ему на шею и повис, поджав ноги. Аргамак попытался было встать на дыбы, но сил на это не хватило, и он со злости больно куснул хозяина за плечо. Сбыслав подхватил поводья и спрыгнул на землю, крепко взяв под уздцы разгневанно всхрапывающего жеребца.
— Успокой его, княжич, — он подал поводья Андрею. — Пусть шагом пройдётся.
И, не оглядываясь, пошёл к своим. Велел им расседлать коней, развести костёр, готовить обед.
— А ты — ловок, — сказали за спиной. Сбыслав оглянулся. Перед ним верхом на взмыленном аргамаке сидел княжич Андрей.
— А ты — смел, — улыбнулся Сбыслав. Андрей спешился:
— Эй, кто-нибудь, выводите коня. Дружинник принял повод, повёл чалого шагом в сторону от костра, людей и лошадей.
— Пойдём на мою попону, — сказал Андрей, все ещё избегая смотреть Сбыславу в глаза. — Она помягче.
Обедали они вдвоём. Говорили о лошадях, о способах их выездки, княжич поражался уменью Сбыслава цепко держаться на коне без седла.
— Татары да бродники только так коней и объезжают, — объяснил Сбыслав. — Так быстрее, конь сразу тело человеческое чувствует, силу его. Меня монгол воспитывал, отцов побратим.
— Слыхал я, монголы да татары добро из лука стреляют.
— Это кто как обучится, только стреляют они по-другому. — Сбыслав обернулся, крикнул через плечо: — Принесите-ка лук да колчан со стрелами!
Это была проверка, и сердце его чуть сжалось Но лук доставили без промедления, а Андрей спросил, загоревшись:
— По-татарски стрелять умеешь?
Вместо ответа Сбыслав встал, спросил дружинника, что протягивал колчан и лук:
— Сухое дерево видишь?
— Далековато будет.
— Ты уж постарайся.
Дружинник поднял лук, наложил стрелу, прицелился, отпустил тетиву, и стрела, с шорохом пронзив воздух, сбила кору дальнего сухого дерева.
— Хорошо! — с удовлетворением заметил Андрей. Сбыслав взял лук, не прицеливаясь, вскинул его, одновременно натягивая тетиву, но не правой рукой, в которой была зажата стрела, а левой, которой держал лук И стрела точно вонзилась в ствол.
— Не прицелившись? — ахнул княжич.
— Я целился, когда поднимал лук, — сказал Сбыслав. — Татары натягивают тетиву луком, а не сгибают лук тетивой. Вот тогда и ищут цель, потому что глаз уже лежит на стреле. Получается точнее, а главное, быстрее.
— Научишь. — Андрей, улыбаясь, погрозил пальцем. — Всем их воинским премудростям научишь. Ну что, в дорогу пора? Ты рядом со мной, Сбыслав, вдвоём ехать веселее.
Дальше они ехали рядом, ели вдвоём и спали на одной попоне. Чогдар был прав: главное было — удивить, а Сбыславу удалось сделать это дважды за один обед.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Гаврила Олексич ожидал их в одном поприще от Полоцка, как и было оговорено. Андрей горячо представил Сбыслава, Олексич отнёсся к нему с видимым уважением, но въезжать в Полоцк было поздно, и княжич предложил лёгкую дружескую пирушку. Гаврила Олексич с этим согласился, послал вперёд гонца, чтобы уведомить князя Брячислава, и сказал новому знакомцу:
— Может, подстрелишь чего? Дичи здесь много, а время к вечеру клонится.
Насторожённый Сбыслав и в этом уловил проверку, усмехнулся, выразил полную готовность, но от лука отказался:
— Для дела монгольский лук нужен, но без дичины не останемся.
Выехали втроём, прихватив двух дружинников. Андрей был недоволен, ворчал.
— Коней гонять будем, а они и так устали.
Коней берегли, ехали шагом по опушкам да перелескам, выслав для разведки дружинников. Гаврила Олексич мягко расспрашивал Сбыслава, кто да как обучал его татарской стрельбе, но в отличие от княжича выразил опасение, что так просто лучников не переучишь.
— Руки с детства приучают. Да и лук у них другой, и стрелы другие, сам говорил.
Подскакал один из дружинников, высланных на поиск зверья.
— В березняке — олениха с оленёнком.
— Гаврила Олексич, разреши одному попробовать, — взмолился Сбыслав. — Свежатиной угощу.
— Пробуй, — усмехнулся Олексич.
— Заедешь с напарником с наветренной стороны и тихо, без шума вытеснишь олениху из березняка на поляну, — наказал Гаврила дружиннику.
Тот умчался выполнять приказание, а Сбыслав, отцепив от седла аркан, старательно сложил его ровными кольцами и зажал в правой руке.
— Ждите за кустами на опушке. Дай Бог, чтоб повезло.
Густым ельником объехав поляну, Сбыслав прикинул, где может появиться олениха с оленёнком, укрылся в зарослях и стал ждать, все время оглаживая чалого, чтобы тот не вздумал заржать. С выбранного места просматривался кусок берёзовой рощи, и он терпеливо ждал, когда там появятся звери.
Дружинники верно поняли задачу: не кричали, не гнали оленей, ехали шагом, спокойно разговаривая. Насторожившаяся, но совсем не испугавшаяся олениха, услышав посторонний шум, беззвучно и неспешно повела своего оленёнка из березнячка к поляне, чтобы, оглядевшись, перебежать в безопасное место.
Сбыслав заметил оленей на опушке рощи. Подобрался, изготовился, насторожил жеребца и резко отдал ему повод, как только добыча вышла из березняка на поляну Дорога в рощу оленям была отрезана, и олениха метнулась вперёд, намереваясь пересечь поляну Но и оленёнок сдерживал её бег, и аргамак мчался намётом, и Сбыславу не нужно было догонять зверей, а лишь сблизиться с ними на удобное для броска расстояние. И, почувствовав это расстояние, он встал на стременах, раскрутил над головою аркан и ловко метнул его вперёд. И как только петля упала на шею оленёнку, резко рванул аркан на себя, левой рукой сдерживая коня. Оленёнок упал, забился, но Сбыслав на скаку с седла прыгнул на него и полоснул по горлу острым поясным ножом.
— Разделывайте, — сказал он подскакавшим дружинникам, смотал аркан, вскочил в седло и на крупной рыси подъехал к наблюдавшим за незнакомой охотой товарищам.
— Молодец, — улыбнулся Олексич. — Первый раз степную охоту вижу. Ловко.
Потом они сидели у костра, ели нежную, чуть поджаренную на угольях оленину и говорили об охоте. Собственно, разговор вели Андрей да Сбыслав, азартно перебивая друг друга, а Олексич, слушая их, удивлялся странному сходству двух совершенно посторонних молодых людей. Не внешнему, а скорее внутреннему. И поймал себя на мысли, что Сбыслав хочет и, когда нужно, умеет понравиться, но мысль эта была для него почему-то неприятной.
На следующее утро они приехали в Полоцк, где были встречены с почётом и почти родственным вниманием. После доброго разговора с тремя официальными представителями жениха Брячислав устроил большой пир, выкатив бочку вина для челяди. Однако Александры на пиру не оказалось, а появилась она лишь в самом конце в окружении трех злющих бабок от сглазу. Они поговорили с нею около часа (в основном говорил Гаврила Олексич, Андрей таращил хмельные глаза, а Сбыслав предпочитал улыбаться да помалкивать) и пришли к единодушному выводу, что невеста весьма красива, умна, добра и улыбчива. И с этим общим впечатлением и отбыли в Новгород на третий день. Неблизкая дорога, попутные охоты и вечерние беседы у костра ещё более сблизили всех троих, а на подъезде к великому городу порывистый княжич предложил Сбыславу:
— Старшим дружинником пойдёшь ко мне? Воеводой сделаю и боярство пожалую.
Ответить Сбыслав не успел. Успел только покраснеть да обрадоваться до сердцебиения.
— Нет уж, князь Андрей, хоть и лестно твоё предложение, — усмехнулся Гаврила Олексич. — Александру, как старшему, первое слово принадлежит, и я ему это посоветую. Да и батюшка твой, как мне известно, того же хочет.
Александру было обо всем доложено, но не хором, а каждым по отдельности: хоровых докладов князь не любил. О чем говорили княжич и Гаврила, Сбыслав не знал, потому что был принят третьим, но своё мнение о невесте у него имелось.
— Что хороша невеста твоя, как цвет весенний, тебе, князь Александр, уже сказали. А я добавлю только, что умна она, добронравна и очень к себе располагает.
— Беру тебя в свою дружину, — сказал Александр. — А воеводой и уж тем паче боярином моим стать, то только от тебя зависит.
И неожиданно одобряюще улыбнулся.
О дне свадьбы условились быстро, но о месте её договориться оказалось труднее. Брячислав не без оснований настаивал, чтобы торжество это отмечено было в Полоцке, на родине невесты, но Александра этот выбор никак устроить не мог.
— Мне не в Полоцке княжить, а в Новгороде. А новгородцы — люди обидчивые.
— А не там и не там, — разрешил спор Ярослав. — Венчайся в Торопце, а свадебный пир закати в Новгороде. И все будут довольны, даже Брячислав. Подуется да и отойдёт.
Так и сделали, и в Новгород князь Александр въехал с законной женой Александрой, когда там к пиру готовились. Но ещё до пира пожелал принять благословение новгородского владыки Спиридона, после чего нашёл время с ним уединиться.
— Мудро поступил, князь, — сказал владыка, — И не столь потому, что новгородцев не обидел, сколько потому, что новости у меня неутешительные. Папа Римский Григорий Девятый буллу шведам направил. Дорогонько та булла мне стала, однако точную копию имею. В булле сей Папа жалует шведам льготы франкских крестоносцев, если они оружно выступят против финнов и Господина Великого Новгорода.
— Финны отцу моему великому князю Ярославу крест целовали на верность.
— Отец твой великий князь Ярослав две тысячи только одних пленных вырезать приказал. По-твоему, финны забыли сие?
— Забыть такое невозможно, владыка, однако финны шведов очень не любят.
— О любви ты с молодой женой поговори, князь. Поговори да на север поглядывай. Зимой они вряд ли выступят, собраться не поспеют, но готовиться все одно придётся.
— Запад меня куда больше сейчас тревожит, чем север, — сказал Александр. — На западе враг погрознее.
— И Полоцку угрожает, — усмехнулся владыка. — Смотри, князь, тебе решать, где грозы грозят.
Об этой тайной беседе Александр поведал только отцу. Ярослав расспросил Александра сначала о смотринах, выведал, что Сбыслав всем пришёлся по душе, а уж потом и об опасениях владыки Спиридона.
— О граде своём святой отец душой болеет, как и должно архипастырю, — сказал он, внимательно выслушав сына. — Но ты прав— шведы зимой не полезут, а финны без драки свою землю не отдают. Конечно, из-за моего греха некоторые и переметнутся, но не там у тебя чирей зреет, не там, Александр. Глаз с запада не спускай и ни одного ратника оттуда не снимай, враг там пострашнее северного. Крестник у меня в Ижорской земле, Пелгусием звать, а во святом крещении Филиппом. Передам ему, чтобы к тебе прибыл, прими с честью, старейшина он ижорский. Расскажи ему все, что мне рассказал, и попроси за рубежами присматривать. Пелгусий — человек надёжный, верь ему. А сам на ливонцев во все глаза гляди и во все уши слушай.
Новгород устроил своему князю великий пир. Гуляли в Ярославовом дворище, во всех концах и на всех площадях не без драк, конечно, но весело и шумно, от всей души. Будто предчувствовали, что подходит пора тяжких испытаний и что многим из них не судьба дождаться второго такого же весёлого пира.
А на третий день развеселья, бубнов, дудок да плясок примчался гонец из Владимира на взмыленном коне.
— Грамота тебе, великий князь!
Ярослав принял грамоту, сдвинул брови: мало радостей они в те времена приносили. А развернув, заулыбался вдруг, стащил с пальца перстень, бросил его в серебряный кубок, лично налил вина и протянул гонцу:
— Прими за добрые вести!
— Что, батюшка? — спросила сидевшая слева от него Александра.
— Что?… — ошалело переспросил Ярослав. — Родные мои, друзья дорогие, народ Господина Великого Новгорода, сын у меня родился! Выпьем во здравие его и супруги моей Федосьи Игоревны!
Осушил до дна поданный кем-то кубок, расцеловался с богоданной дочерью Александрой, сказал, улыбаясь растерянно и счастливо:
— Сыновья на меня посыпались, будто яблоки с яблони!…
Через сутки пир начал угасать, как угасает пожар. Не вдруг, не разом, а поначалу разбившись на очаги, потом — на приятельства да товарищества и только после этого тлея где-то на родственно-семейном уровне. При этом, естественно, поднимался чад, вспоминались старые обиды и счёты, что в драчливом Новгороде легко переходило в потасовки. Тут-то и начали подсчитывать убытки, и жених был неприятно удивлён, когда столь развесело-гостеприимный Новгород предъявил ему счёт, который выставил сам посадник, при этом, правда, щедро сбросив подарки.
— Денежки счёт любят, князь Александр.
— Жмоты, — сказал Александр отцу, повелев тем не менее рассчитаться без торгов.
— На том и стоят, — усмехнулся Ярослав. — У них каждое лыко — в новые лапти, потому-то в сапогах и ходят.
Он спешил к жене, но отъезд отложил до утра, чтобы посидеть по-семейному. Хотел было пригласить Сбыслава с Яруном, но не решился, и за столом собрались сыновья да новая родня. Но родственная беседа длилась недолго, поскольку доложили, что к ним сильно рвётся странник из Ливонии.
— Зови, — распорядился Ярослав.
— Чудной он какой-то, великий князь.
— И чудного послушаем.
Позвали, и в трапезную ввалился громоздкий старик в отрепьях с грозно горящими очами.
— Сладко едите да горько пьёте! — заорал он с порога, потрясая кривым указательным пальцем с огромным жёлтым ногтем. — А братьям вашим гвозди в лбы загоняют, а сестёр ваших на глазах отцов с матерями распинают, а отцов ваших…
— Выйди, Александра, — сказал Ярослав. — Кто забивает, кто распинает, говори толком, пока за дверь не выбросили.
Княжич Василий, младший брат Александра, усадил странника, велел накормить. Но старец от хмельного отказался, налегал на скоромное и ворчал:
— Забыли вы своих за рубежами, врагам на ис-топтание бросили. О своих животах печётесь, а те животы и не в счёт вам? А я своими очами семь распинаний видел, семерых мучеников, гвоздями ко кресту прибитыми, и очи мои не померкли, а огнём зажглись неистовым. Почему же я не ослеп, когда муки сии зрел? Потому что вознесения ждал!
— Кощунствуешь, старик, — строго сказал князь Брячислав.
— Кощунствую?… За веру православную несчастные смерть на кресте приняли, лютую смерть, а куда же Христос с Матерью своею смотрели? Этого бы и дьявол не вытерпел, слезами бы умылся, а они глаза отвели. Перекрещивают Русь, а кто перекрещиваться не желает, того — на крест! На крест!
— Лютуют ливонские рыцари? — спросил Ярослав.
— Лица зри, а не рыцари! — заорал вдруг старик. — Отродье дьявольское с запада грядёт, и шеломы у них с рогами. И пощады нет, и Бога нет, и вас, князья русские, тоже нет, потому как земли ваши на себя отбирают!
— Татары у нас на хвосте, слыхал, поди? — негромко спросил Александр.
— Нету правды, — горько вздохнул старик. — Нигде нету правды Ни в Боге, ни в дьяволе, ни на небе, ни на земле, ни в вас, князья русские. Видать, ушла она в иные страны-государства за грехи наши тяжкие…
С трудом его выставили, накормив и переодев. А беседа больше не клеилась, сидели молча.
— Да, этот враг страшнее татарского, — вздохнул Александр. — Куда как пострашнее.
Князья Северо-Восточной Руси внимательно следили за медленным, но неуклонным проникновением крестоносцев в Прибалтику. Им было известно, что весной тридцать седьмого года в папской резиденции близ Рима было достигнуто соглашение об объединении ордена меченосцев Ливонии, залившего кровью земли латов, ливов и уже вторгшегося в Эстонию, с Тевтонским орденом, свершившим то же самое в землях прусов и куршей. Объединение существенно усилило их и поставило под опеку папской курии, выдавшей индульгенцию про запас под будущие земли и будущие поборы. Знали и о самой индульгенции, открыто называвшей православную Русь страной еретиков и безбожников. Знали и о способах порабощения покорённых народов, на землях которых в обязательном порядке возводились замки как опорные пункты военной, церковной и хозяйственной деятельности. Литва ещё сохраняла независимость благодаря сильной центральной власти, но таковой не было ни у латов, ни у ливов, ни у эстов. Если бы не злосчастная ли-пицкая резня, не бездарно проигранная битва на Калке, не кровавый рейд Батыя, Русь никогда не допустила бы орден к своим границам, но «если бы» — всегда горький вздох сожаления, а не суровая действительность.
— Так я пришлю Пелгусия, — сказал Ярослав, прощаясь.
С ним уезжали все родичи, даже Брячислав. И Александр никого не упрашивал задержаться, и дела были серьёзными, и жена молодой. Проводил дорогих гостей на одно поприще, как положено, но по возвращении поехал не к супруге, а к новым пестунам и советникам, прибывшим на свадьбу вместе с князем Ярославом. Их встретили с почётом, несмотря на свадебные хлопоты, выделили небольшую усадьбу рядом с княжескими хоромами, дворовых, челядь, охрану, добрых коней в конюшне и скотину для прокорма. Сбыслав поселился с ними, но нёс службу под рукой Гаврилы Олексича, а потому дома бывал редко.
— Как устроились?
— Прими благодарность нашу, князь, — сказал Ярун. — Может, отобедаешь с нами?
— И отобедаю, и кубок подниму, и побеседуем. Пока готовили угощение, Александр рассказывал о новостях, что сгустились как на севере, так и на западе, и даже о посещении неистового старца. Тут пригласили в трапезную, и беседа продолжилась уже за обедом.
— С новосельем вас, дядьки мои и советники, — улыбнулся Александр, поднимая кубок. — Люди вы опытные, воины знатные, думцы мудрые, а время и вам и мне дорого. Так что не обессудьте, с дела начну. — Осушил кубок, разгладил кудрявую, старательно подстриженную бородку, спросил вдруг: — Скажи, Чогдар, что на моем месте сделал бы сейчас учитель твой Субедей-багатур?
— Врага надо бить по частям, — подумав, неторопливо ответил Чогдар. — Неожиданно и малыми силами. Твоя сила — внезапность, а будет ли такая у шведов, если они прорвутся к твоим границам?
— Насколько я знаю от отца, шведы в тех краях давненько не появлялись.
— Чингисхан создал особый корпус для выявления тайных лазутчиков. Он следил за купцами, путниками, неизвестными бродягами задолго до того, как войско начинало готовиться к походу.
— То — великий хан, а я всего лишь приглашённый на княжение военный предводитель, — сказал Александр. — И это — Новгород, в котором целый конец занимают иностранные купцы, а добрая треть новгородцев их поддерживает.
— Тем более такой корпус тебе необходим, — сказал Ярун.
— У меня лишь малая дружина, на которую я могу рассчитывать, дядька Ярун. И любая вербовка сразу станет известной.
— Во-первых, вербовать можно и тайно, — сказал Чогдар. — А во-вторых, сама твоя дружина.
— Их знают в Новгороде поимённо.
— Сбыслава не знают, — заметил Ярун. — Пусть Олексич поручит это ему. Сбыслав умен и осторожен…
— Ну, когда ему надо, он умеет удивлять, забывая об осторожности, — улыбнулся Александр. — И удивлять умеет, и понравиться умеет, мне Олексич рассказывал.
— Так это же и хорошо, — заметил Чогдар. — Удивление привлекает людей, а уменье понравиться закрепляет привлекательность. Сбыслав — отменный охотник, нас кормил на Дону. Владеет арканом, как степняк, луком, как татарин, а монгольский лук и стрелы я ему сделаю.
— Подумай, Александр, — сказал Ярун. — Мы должны о шведах знать все, а они о нас — ничего.
— Или неправду, — заметил Чогдар. — Неправда, в которую поверил враг, — половина успеха.
Александр промолчал и молчал до конца застолья, но друзья не расстраивались, понимая, что князь думает, взвешивая все «за» и «против» В конце концов за ним лежало последнее слово, которое всегда было очень весомым.
Последнее слово так и не прозвучало во время обеда, но советники нимало не расстроились, понимая, что зерно посеяно и рано или поздно проклюнется. В конце концов в этом и заключалась их служба: сеять зёрна для урожая, который собирали не они.
Александр не утаил от Гаврилы Олексича разговора с назначенными отцом пестунами и советниками. Олексичу понравилась идея позаимствовать у монголов опыт тайной разведки, да и к предложению поручить Сбыславу главную роль он отнёсся одобрительно:
— Умеет и улыбаться, и помалкивать. Среди чужих всю жизнь прожил, такое не забывается. Только ты, князь, сам с ним поговори. Больно уж поручение ответственное да не очень почётное.
Сбыслав воспринял поручение без восторга, но и без неудовольствия. Сказал, что понимает важность, но опыта не имеет и что неплохо бы собраться всем посвящённым для обсуждения не столько того, что надо, сколько того, как надо. С этим Александр согласился и, найдя благовидный предлог, собрал всю заинтересованную пятёрку.
— Как? — спросил Ярун, когда выяснил цель тайного совещания. — Думали мы об этом с андой и на том сошлись, что так, чтоб комар носа не подточил.
— На торг Сбыслава не определишь, купцы враз поймут, с кем дело имеют, — сказал Гаврила. — Охота — лучше всего. И удовольствие знатное, и азарт всех равняет, и языки развязываются. Может, князь Александр, тебе Сбыслава ловчим определить?
— Сие преждевременно, — вздохнул Александр. — И должность эта родовитости требует, и помнит Новгород, что ты, Олексич, из Полоцка вместе со Сбысла-вом вернулся.
— Вот в Полоцке и поискать, — сказал молчавший доселе Чогдар. — На пиру князь Брячислав со мной говорил, а рядом с ним был какой-то Яков.
— То Яков Полочанин, родственник князя Брячи-слава, — подтвердил Александр. — Его тесть при дочери оставил, супруге моей Александре.
— То и знатно, — подхватил Ярун — Новгородцы его не знают, а родовитости для чина ему не занимать
— И Сбыслав при нем — вроде друга-советника, — заметил Александр — Что ж, попробовать можно.
— Сперва человека надо попробовать, — заметил Чогдар. — Умеет ли он язык за зубами держать.
— Это непременно проверим, — оживился Гаврила. — Яков — парень холостой, и высокий чин ему в молодецкой компании праздновать. Вот туда мы со Сбыславом и напросимся: Сбыслав к гостям присмотрится, а я — к хозяину. Каков во хмелю, каков в трезвости, каков с похмелья. Коль пьян да умен — два угодья в нем!
Через день после этого разговора князь Александр официально назначил Якова Полочанина своим ловчим, а неофициально посоветовал ему во всем полагаться на Сбыслава, поменьше говорить да побольше слушать. И уже на первом дружеском пиру, куда Гаврила Олексич зазвал видную новгородскую молодёжь, Сбыслав быстро сошёлся с самым известным в городе драчуном и забиякой Мишей Прушанином.
— Тут не мечи, а калиты на поясе носят, — презрительно говорил Миша, опрокинув пару кубков доброго вина. — Слава Богу, татары у Игнатьева креста остановились, а то бы бояре наши на позор без боя город сдали. Сам — сын боярский, отца и приятелей его вдосталь наслушался и в городскую дружину ушёл. По мне добрый меч да удаль дороже весов да прибыли, хоть отец и грозится наследства лишить. Плевать мне на его богатства, я с татарами посчитаться должен.
— Где ж ты их найдёшь, Миша? — улыбнулся Сбыслав. — Татары там, где конские табуны пасти можно, им трава нужна, а не земля. А вот немцы, слышал я, как раз до земли охочи. Говорят, уж в псковские земли заглядывают и к новгородским подошли. Конечно, торговые люди поболе об этом знают, им немцы препятствий не чинят.
— Спорят много, когда и до крика. Одни говорят, что, мол, захиреет Великий Новгород без заморской торговли, другие — что Святую Софию на позор немцам отдать все одно что мать родную из дома выгнать, третьи — что меж двух огней мы, и из двух зол придётся рано или поздно меньшее выбирать.
— А сам как думаешь?
— Немцы, какие ни есть, но — христиане. А татары — язычники поганые. Что ж тут думать?
— Жил я среди этих язычников. Жадны, грубы, спесью надуты, грабить горазды и нас за людей не считают.
— Вот!
— Только ни земли, ни веры нашей не трогают. У них закон строгий: чужих богов не обижать. Да и в Новгород они не полезут, далеко слишком. А до немцев — рукой подать.
Миша тогда отмолчался, перевёл разговор на другую тему, а через несколько дней новый княжеский ловчий устроил охоту. К тому времени Чогдар соорудил монгольский лук — длиннее русского и тугой до невозможности. Даже богатыри вроде Гаврилы Олек-сича и Миши с трудом сгибали его, но — русским способом, тетивой, а не левой рукой, и стрелы их летели пока что мимо цели. Вот тут-то Сбыслав и блеснул мастерством, вызвав не только удивление, но и огромное уважение. А когда показал своё уменье пользоваться арканом, чего совершенно не знали новгородцы, слава лучшего охотника сразу закрепилась за ним. Из никому не известного дружинника князя Александра он вдруг стал человеком видным и авторитетным, и теперь уж каждому лестно было поговорить с ним.
Так сложилась охотничья компания, попасть в которую хотелось многим. И Александр, и посадник щедро выдавали разрешения на охоту в своих угодьях, особенно если к этой охоте желали примкнуть разного рода почёт'ные гости, в том числе и иностранные, часто посещавшие Новгород по торговым делам.
Сбыслав передавал все затеянные или услышанные им разговоры слово в слово Гавриле Олексичу. Память была отменной, но главное заключалось в том, что Сбыслав не считал себя вправе самому решать, что достойно размышлений и княжьих ушей, а что — нет. Право это принадлежало его начальнику, с детских лет имевшему прямой доступ к Александру в любое время. Олексич был человеком весьма осмотрительным, а потому стал приглашать Сбыслава к себе домой, где и выслушивал его доклады без опасения, что их услышит кто-либо другой. Однажды это совпало с обедом, и Гаврила, выслушав подчинённого, пригласил его к столу:
— Сестра моя, Марфуша. Матушка наша у старшей сестры проживает, ну а меня Марфуша обихаживает. Жаль, что с тобой охотиться не может, хорошим была бы помощником.
— Помощником? — спросил Сбыслав, с трудом отрывая взгляд от задумчивого, трагически строгого лица девушки.
— Ты говорил, что вчера беседу на немецком языке слышал да не понял ни слова. А Марфуша немецкому обучена.
— Я три языка знаю, могу и четвёртый выучить, — сказал Сбыслав и тут же пожалел, что сказал, потому что начал краснеть.
— А что? — оживился Олексич. — Дело полезное. Может, поможешь нам, сестра?
— Попробую, — тихо сказала девушка.
— Крещёный чудин тебя спрашивает, князь, — доложил любимый слуга Александра Ратмир. — Именем Филипп. Говорит, что великий князь Ярослав велел…
— Зови, — оживился князь. — Закусить в малой трапезной накрой.
Вошёл ижорский старейшина Филипп-Пелгу-сий — рослый, степенный, немолодой. Молча перекрестился на образ в углу, молча отдал поклон.
— Здравствуй, Филипп. Или Пелгусий? Как лучше называть?
— Лучше Пелгусием. С детства привык
— Не застыл в дороге?
— Медвежья шуба и старые кости согреет.
— А старый мёд и того пуще!
Ратмйр был ловок, быстр и исполнителен, и разговор князь продолжил уже за трапезой. Подняв первый кубок за отцова крестника, сразу же перешёл к делу:
— Что о шведах слыхать?
— Сунулись было к финнам, да в снегах завязли, это знаю точно. Среди финнов смущение, кое-кто и в шведскую сторону поглядывает, известия точные. Думаю, как море вскроется, кораблями пойдут. Это бы проверить нехудо, князь Александр.
Через несколько дней предположения Пелгусия нашли косвенные подтверждения. Рижский купец на охотничьей пирушке похвастался выгодным подряд-ком:
— Канаты в Стокгольм поставить подрядился.
— Стало быть, прав Пелгусий, — вздохнул князь, когда Гаврила Олексич доложил ему о подслушанном Сбыславом разговоре. — Могут и к нам летом пожаловать.
— Значит, готовиться надо, князь Александр.
— Отец запретил с западной границы силы снимать. А готовиться, конечно, надо. Коней кормить получше, выездки делать, брони и оружие проверить. Вот ты этим и займись, Олексич, а я с дядьками потолкую.
Потолковал. Советники кое-что уточнили, подумали. Потом Ярун сказал:
— Насчёт того, что с запада войска снимать нельзя, великий князь верно сказал. И немцы обрадуются, и шведы будут знать. Своими силами отбиваться придётся. Много ли их у тебя?
— Дружина моя да новгородская городская. Ею Миша командует. Но небольшая она.
— Вели этому Мише добровольцев набрать. Не скупись, лучше у отца денег займи.
— Денег я у владыки возьму. После победы он их с бояр стребует.
— Молодец, что в победу до битвы веришь! — улыбнулся Ярун.
— Приблизить её этот… Пелгусий может помочь, — сказал Чогдар. — Пусть заранее слушок пустит, что сильно ты его обидел.
— Он — отцовский крестник.
— А ты у него дочь совратил, — очень серьёзно продолжал Чогдар. — Пусть он об этом шведам поплачется.
Александр хмуро молчал, не соглашаясь. И Ярун призадумался, сурово сдвинув брови.
— Обман противника — не обман, а военная хитрость, — вздохнул Чогдар, поняв их внутреннее несогласие. — Пелгусию станут доверять, и ты о шведах многое узнаешь. А узнав, своих людей сбережёшь
— Только без дочерей, — твёрдо сказал Александр. — Слух в голенище не спрячешь, а я недавно свадьбу сыграл.
— Придумаем что-нибудь, — усмехнулся Чогдар. — Это ведь я так, для примера. Но шведов надо обмануть. Надо, чтоб они в Пелгусия поверили, в стан свой пускали. Тогда и победа придёт.
Александр долго не соглашался. Было в нем рыцарское представление о чести, почерпнутое из сочинений Плутарха, которого он читал запоем ещё в детстве, основанное на молодости, которую ещё не пережил, несмотря на самостоятельность, властность, ответственность и женитьбу Он избрал своим примером Александра Великого, восхищался им, стремился ему подражать, выискивая в его подвигах только благородство и как-то мимо пропуская все, что не укладывалось в созданный образ, даже убийство Македонским собственного молочного брата Кли-та, не говоря уж о беспощадности к поверженным. Но довод Чогдара о сбережении его воинов, его ровесников, которых он знал поимённо, перевесил. Именно этот довод победил в нем наивное чувство личной чести, породив представление о чести полководца, в первую очередь отвечающего за судьбу родины и жизнь подвластных ему людей.
— Ваша правда.
Через несколько дней он отправил к Пелгусию Гаврилу Олексича, ясно объяснив ему, чего он должен добиться. Гаврила провёл разговор с ижорским старейшиной с присущим ему тактом и настойчивостью, хотя и путь, и переговоры потребовали времени. Сбыславу докладывать оказалось некому, но обучение языку он не прерывал, а Олексич этому не препятствовал.
У каждого человека наступает период могучего стремления любить, и Сбыслав не миновал его. Отрочество и юность он провёл в положении изгоя, поскольку оказался вне общин как бродников, так и татар, с девушками знакомиться ему запрещалось, и единственное возрастное стремление переросло в жажду, в тяготившую его самоцель. Марфуша оказалась первой девушкой, с которой ему довелось не только сидеть за столом, но и разговаривать, сердце было распахнуто настежь, и он влюбился впервые в жизни. И испытывал невероятное счастье и подъем, несмотря на то что объект его любви был по-прежнему отрешён и задумчив. Он просто не замечал этого, считая, что виноват сам, что пока ещё не заслужил её внимания, но не терзался, поскольку не знал, что Марфуша переживает горький период крушения собственной любви.
Гаврила Олексич вернулся уже весной, в самую распутицу, но с добрыми вестями. Пелгусий быстро понял, чего от него хотят, мысль одобрил и сам нашёл предлог для обиды помимо дочери, которой, к слову сказать, у него и не было. Слухи следовало распускать заранее, чтоб стали привычными, но при этом возникало одно неудобство: он лишался возможности лично связываться с князем Александром. Но и это неудобство было в конце концов разрешено:
— Я тебе, Олексич, бересту с сыном пришлю, коли надобность возникнет.
Надобность появилась в самом начале лета: берестяной свиток доставил Олексичу младший сын ижор-ского старейшины.
«Разреши сон мой, друже. Привиделось мне, будто стою я на берегу озера Нево и вижу судно, а в судне том — князья святые Борис да Глеб в одеждах червлёных. Тревожит меня видение сие».
— Что на словах передать велено?
— Отец ждёт встречи.
— Где?
— Я укажу.
Выезд на встречу обставили, как выезд на охоту. • Кроме Якова Полочанина и Сбыслава взяли Ратмира да Савку из младшей дружины, а в охотниках числились сам Александр, Ярун и Чогдар. Гавриле Олексичу князь поручил сделать смотр городской дружины Миши Прушанина, уже пополненной добровольцами, а деньги на вооружение дал владыка Спиридон по личной просьбе князя Александра.
Свидание с Пелгусием состоялось в глухом лесу, куда провёл всадников сын старейшины. В тесной охотничьей избушке с трудом разместились четверо старших. Молодёжь несла охрану, а Ратмир хлопотал у костра с ужином.
— Что шведы пожаловали, из бересты твоей понял, — сказал князь, обняв отцовского крестника. — Много ли пожаловало?
— Изрядно, и ещё ждут, потому и от берега не отходят. Командует зять короля ярл Биргер. Принял он меня, тобою обиженного, обещал заступничество, а просил проводников.
— Кони на берегу?
— На берегу, князь. Пасутся.
— Дозоры сильные?
— Сторожи держат только по Ижоре. По берегам сторожей нет.
— Вот тут-то у них и дырка, — сказал Ярун.
— Тут кто раньше поспеет, — вздохнул Александр. — Мы из Новгорода или помощь из Швеции.
— Когда обедают? — вдруг спросил Чогдар.
— В одиннадцать.
— Много едят?
— Изрядно, сам с ними ел. Набить живот любят.
— Проголодался, дядька Чогдар? — улыбнулся Александр. — Сейчас Ратмир нас на славу угостит, он это умеет.
— Я определил время твоей атаки, князь, — сказал Чогдар. — Двенадцать часов, когда животы набьют. А своим воинам ни ужинать, ни тем паче завтракать не давай, пусть голодными дерутся. Самый сладкий пир — пир победы.
А вскоре после возвращения в Новгород пожаловал посол от ярла Биргера с гордым ультиматумом:
— Я в твоей земле — если можешь, обороняйся!
— В Новгороде все решают посадник, Совет господ, владыка и вече, посол, — спокойно ответил Александр — На это нужно две недели. Если хочешь, жди здесь, если хочешь, жди там.
— Мы будем ждать две недели.
— Проводить с честью.
— Напрасно ты отпустил его, князь Александр, — с неудовольствием сказал присутствовавший на беседе посадник. — Новгород послов не отпускает.
— А я — отпускаю. Посол — человек подневольный, он передал только то, что ему велено передать
— Он выведает все о наших силах.
— Каких? — улыбнулся Александр. — В Новгороде моя младшая дружина да новгородская вольница. Он увидит их и доложит Биргеру, что Новгород к битве не готов
А когда недовольный посадник ушёл, сказал Олек-сичу.
— Передай Мише, чтоб этой же ночью начал сплавлять свою дружину по Волхову. Через двое суток выступим и мы.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Вечером того же дня князь собрал военный совет. Кроме старших дружинников, Яруна и Чогдара, на нем присутствовал и командир городской пешей дружины Миша Прушанин. Он первым доложил, что его войско уже погрузилось на судна и ждёт лишь команды к отплытию.
— Греби день и ночь, — сказал Александр. — На подходе тебя встретит Пелгусий и скрытно обведёт вокруг шведского лагеря. Наступать будешь по берегу и отрежешь шведов от кораблей. Выбери мужиков покрепче да посноровистей, пусть сходни порубят
— Понял, князь Александр
— Кони, — напомнил Ярун
— Да, кони — Александр скользнул взглядом по лавкам, где сидели дружинники. — Сбыслав, пойдёшь с Мишей. В бой не ввязывайся, пока коней не уведёшь.
— Я их до боя уведу, князь Александр, — улыбнулся Сбыслав. — Дозволишь идти?
— Ступайте
— Позволь Сбыславу совет дать, князь, — сказал Чогдар. — Зааркань жеребца, который табун водит, вскочи на него и не жалей плети. За ним остальные пойдут. Это первое. А второе — тебе пеши сражаться
Возьми мой топорик, ты им лучше, чем мечом, владеешь.
— Спасибо, дядя Чогдар. Пошли, Миша?
— С Богом! — напутствовал Александр. Сбыслав и Миша низко поклонились и вышли.
Князь вздохнул.
— Младшей дружине наступать вдоль берега навстречу новгородцам, а поведёт её Гаврила Олексич. Не давайте шведам опомниться и отрезайте их от судов. Я ударю по центру, как только вы крутую кашу заварите. Что скажете, дядьки мои?
— Все быстрота решит, — сказал Ярун. — Шведов раз в пять больше, чем всех сил в твоей руке.
— Монгольские полководцы в битвах не участвуют не потому, что смерти боятся, а потому, что в бою битва не видна, — предостерёг Чогдар. — Дозволь нам с андой за нею понаблюдать.
— Нет, — решительно сказал Александр. — Вы мне здесь нужны, в ворота немцы ломятся. А магистр посерьёзнее королевского зятя Биргера, без доброй разведки в бой не полезет. Вот вы и подумайте, как мне с их разведкой бороться.
Советом все остались довольны, поскольку были ещё очень молоды, бесстрашны и жаждали славы А Сбыслав был просто счастлив, потому что получил личное и очень ответственное поручение от самого князя Александра. И лишь одно омрачало его настроение: отплыв в ночь вместе с Мишей Прушанином, он так и не попрощался с Марфушей, которая после третьего урока начала уже неуверенно улыбаться.
Миша распределил гребцов в четыре смены, плыли без остановок, спали сидя и ели всухомятку, чтобы как можно быстрее поспеть к Неве. Несмотря на молодость и неопытность, Миша прекрасно понимал, что весь план князя Александра построен на быстроте и внезапности, а потому не жалел сил. Однако он не забывал и об охранении, и по обоим берегам скрытно шли дозоры. Впрочем, надобность в них вскоре отпала: Пелгусий, зная о его тайном продвижении, выслал навстречу своих наблюдателей под начальством сына.
— Шведы о вас и ведать не ведают, — сказал он. — Посол слух привёз, что в Новгороде паника началась.
— А задержи мы этого посла, все бы наоборот было, — сказал Сбыслав Мише Прушанину. — Князь Александр наперёд все продумал.
— Недаром в шахматы любит играть, — усмехнулся Миша.
На каторжной этой гонке выиграли сутки. Миша велел хорошо спрятать суда и отдыхать, а сам вместе со Сбыславом отправился на тайную встречу с Пелгу-сием.
— В следующую ночь обведу вокруг их застав, — сказал Пелгусий. — Место укрытое, но костёр разводить нельзя. Выставь, Миша, сторожи и жди двенадцати часов. Только есть никому не давай. Завтра день святого князя Владимира, я шведам пир обещал. Пусть обожрутся.
— Где кони? — спросил Сбыслав.
— Сын покажет. Есть скрытные подходы.
— Охрана большая?
— Трое финнов, остальные — мои, — усмехнулся Пелгусий. — Финнов уберут, когда ты скажешь.
— Что же мне, кричать, что ли?
— Зачем? Финны сына моего знают, он к ним подойдёт, их и повяжут без хлопот.
— Значит, утром. Если раньше времени табун угнать, шведы всполошатся и от пира откажутся.
В ночь сын ижорского старейшины удачно провёл новгородскую дружину к месту, откуда им надлежало атаковать. Миша выслал усиленные сторожи, остальным строго-настрого запретил есть, но посоветовал поспать перед боем. А в утреннем тумане сын Пелгу-сия вместе со Сбыславом подобрались к мирно пасущемуся табуну и залегли в кустах.
Табун был невелик — видно, шведы не всех коней свели на сушу. Присмотревшись, Сбыслав легко выделил косматого жеребца, по-хозяйски покусывавшего других лошадей и часто вскидывавшего голову, осматриваясь.
— Чуткий вожак, — сказал Сбыслав, сняв с пояса аркан. — Может увести табун к стану, если что почует. Сделаем так. Иди к пастухам, заведи разговор, но финнов бери, когда я жеребца заарканю. Не раньше. И смотри, чтоб не заорал кто.
— Не заорут.
— Разверни финнов лицом к солнцу, чтобы меня не заметили. А как увидишь, что жеребец на аркане, вяжи их сразу.
— Понял. И пошёл.
Юноша кустами обошёл лощинку, чтобы солнце светило ему в спину, и, уже не скрываясь, направился к пастухам, гревшимся у догорающего костра. Они встали ему навстречу, что-то говорили, незаметно окружив финнов. Все пока складывалось удачно, и Сбыслав, пригнувшись, скользнул в самую гущу табуна. Недовольно пофыркивая, кони уступали ему дорогу, а вожак насторожённо поднял голову. Этого было достаточно для того, чтобы Сбыслав раскрутил аркан и метнул его на вздёрнутую шею жеребца. Петля упала точно, вожак негодующе заржал, встал на дыбы и рванулся вперёд. Сбыслав ожидал, что не удержит первого рывка, но, падая, все время выбирал аркан, натягивая его изо всех сил. Жеребец оказался упрямым, вдосталь потаскал по лугу, однако аркан делался все короче и короче. Шею стягивало все сильнее, и он в конце концов остановился. Сбыслав вскочил на ноги, с силой рванул ремень на себя, пригибая лошадиную голову к земле, а подобравшись поближе, одним махом взлетел на спину жеребца. Жеребец забился, пытаясь встать на дыбы, но дыхания не хватило, и он, хрипя, помчался туда, куда направил его Сбыслав, используя аркан как уздечку. И весь табун, развернувшись, тут же помчался следом за вожаком.
К тому времени финнов уже повязали, и пастухи побежали следом за уходящими лошадьми. Сбыслав проскакал с версту, добрался до лесной опушки, почувствовав, что окончательно измотал жеребца, и, спрыгнув на землю, привязал конец аркана к дереву. Взмыленный конь тяжело поводил боками, но Сбыслав тут же ослабил ему петлю и успокоил, похлопывая по мокрой шее. Жеребец поднял голову, призывно заржал, и кони остановились, окружив его полукольцом.
Подбежали пастухи. Сбыслав велел приглядывать за табуном, ни в коем случае не отвязывая вожака. А сыну ижорского старейшины сказал:
— К новгородцам веди кратчайшей дорогой. А то ещё без меня в битву ввяжутся.
Он порядком устал в этом поединке с косматым жеребцом, но был доволен, что исполнил и повеление князя, и совет Чогдара. Все сложилось удачно, и сейчас ему больше всего хотелось добраться до боевого топорика, владеть которым Ярун со своим побратимом научили его ещё в детстве.
По молодости лет никто из новгородцев не спал. Сидели кучками, тихо переговариваясь, а Миша не отрывал глаз от песчаного круга с палкой посередине.
— Помотал меня жеребец, — сказал Сбыслав.
— Отдохни. Тень до чёрточки дойдёт, и мы пойдём. Лучников я уже выслал, они и начнут, пока мы разворачиваться будем.
Сбыслав лёг на спину, раскинув руки. Чогдар ещё в детстве научил его отдыхать, мысленно расслабляя мышцы от ступнёй до пальцев рук, и ему хватало четверти часа, чтобы полностью восстановить дыхание и вновь ощутить силу во всем теле
— Пора, — сказал Миша, вскочив. — Новгородцы, с нами Бог и Святая София!
— Новгородцы пошли! — ещё издали закричал дозорный.
— С Богом! — Гаврила Олексич вскочил в седло, выхватил меч, поймав сверкающим лезвием полуденное солнце 15 июля 1240 года. — За землю Русскую!…
Шведы, распустив пояса и ослабив застёжки броней, ещё сидели у костров, когда посыпались первые новгородские стрелы Воинами они были опытными, появление лучников паники не внесло, но все внимание их обратилось сейчас против врага видимого. И они развернулись против него, подставляя спины конному удару младшей княжеской дружины.
Так началась эта полуденная битва, которой суждено было стать образцом двух одновременных фланговых ударов на все времена средневековых войн.
Миша Прушанин, несмотря на захватывающую ярость боя, ни на миг не забывал о главной задаче: оттеснить шведов от кораблей и порубить сходни Отобранные им заранее крепкие и умелые мужики, следуя за спинами сражающихся товарищей, крушили сходни топорами, сталкивая обломки в воду. Сбыслав дрался рядом с новгородским вождём, ловко орудуя боевым топориком, против которого шведы, непривычные к такому оружию, ничего не могли поделать своими тяжёлыми мечами.
Как ни велика была внезапность двух одновременных ударов, шведы в панику не ударились Умело перестроившись на два фронта, они сдержали натиск пеших новгородцев, но с дружиной Олексича им этого сделать не удалось. Однако отступали они медленно, с уцелевших судов уже сбегала на берег подмога, Александр со старшей дружиной что-то задерживался с ударом, и Гаврила понял, что наступление рискует захлебнуться и надо решаться на действия неожиданные.
— Савка, целься на шатёр Биргера' — крикнул он — Ребята, держите середину, а десятка — за мной!.
Во главе десятки он стал смещаться к берегу, чтобы помочь новгородцам и отрезать шведов от судов со своей стороны Дружина начала ломать собственный фронт, разделяясь на три части, что заставило шведов в свою очередь расколоться на отдельные отряды. Неизвестно, как бы это повлияло на ход дальнейшей битвы, если бы не грозный топот сотен конских копыт.
Из— за береговой гряды на боевом галопе вылетела княжеская дружина. Впереди мчался Александр в развевающемся за плечами алом княжеском плаще. Слева, отстав на полкорпуса, скакал Яков Поло-чанин, справа -преданный Ратмир. Эта тройка врубилась в центр битвы подобно клину, мгновенно расстроив кое-как организованную оборону шведов и влив новые силы в чуть притормозившие атакующие фланги.
И здесь впервые появился зять шведского короля ярл Биргер. Он вышел из шатра в полном боевом снаряжении, спокойно, без торопливости сел в седло тут же подведённого жеребца и опустил забрало Странно, но звон опущенного забрала расслышали многие, потому что битва как бы замерла при его появлении.
— Мне ярла Биргера!…
Голос князя Александра все летописи отмечают особо, а здесь он прогремел подобно трубе, перекрыв лязг оружия и крики продолжавших бой новгородцев. Вероятно, Биргер тоже что-то сказал, потому что его личная охрана, подобранная из рослых, сильных я очень опытных воинов, послушно раздвинулась, образуя коридор между двумя.полководцами.
Слуга подал Биргеру копьё, но, взвесив его на руке, ярл бросил копьё на землю и вытащил из ножен длинный рыцарский меч. И Александр тут же вернул своё копьё Ратмиру, но не потому, что оно пришлось не по руке, а исходя из неписаных законов рыцарских поединков, обязывающих соперников сражаться однотипным оружием. И выхватил меч. Свой, славянский, заведомо короче рыцарского.
Они послали коней с места в карьер одновременно. Расстояние было невелико, и в голове князя билась одна мысль: рыцарский меч. «Отдать первый удар, — лихорадочно думал он — Отбить его щитом, непременно щитом. И не рубить, а ткнуть мечом в щель забрала. Только бы попасть, попасть…»
Ярл продержал своего коня перед сближением, видимо, надеясь, что противник проскочит мимо, подставив незащищённую спину. Он был опытным воином и давно отработал этот приём ещё на рыцарских поединках Но генязь зорко следил не только за Бирге-ром, но и за его жеребцом и, увидев, как вдруг резко пригнулась его морда, тут же рванул поводья, подняв собственного коня на дыбы. Для ярла это было неожиданностью, что и позволило Александру не только осадить коня, но и бросить поводья, потому что для боя ему нужны были обе руки.
Эта маленькая заминка не дала Биргеру возможности сообразить, что ему сознательно отдают первый удар. Конь его тоже был отлично выезжен, больше слушаясь шенкелей, чем поводьев, и Биргер нанёс свой удар двумя руками. Таким ударом можно было бы разрубить человека до пояса, но Александр не только был очень силён. Он с детских лет обучался рубке и на мечах, и на саблях, и пешим, и конным, а потому чуть наклонил щит, встречая удар. За такие приёмы расплачивались вывернутой кистью, но князь знал, на что он идёт. Тяжёлый рыцарский меч скользнул по поверхности щита, не ожидавший этого Биргер раскрылся, и Александр прямым выпадом вонзил острие своего меча туда, куда и намеревался: в щель между шлемом и забралом. Ярл выронил меч, упал на круп жеребца, и опытный конь тут же умчал его к своим.
Только тогда князь почувствовал острую боль в запястье левой руки Но, превозмогая её, победно потряс мечом и выкрикнул:
— Бить до победы!…
Могучий торжествующий рёв был ему ответом. И рёв этот исходил из русских глоток шведы уже поняли, что битва проиграна.
— Не давай бежать!… — кричал Гаврила Олексич, стремясь пробиться к шведскому кораблю.
Он видел, что телохранители несут по сходням раненого Биргера. Сумел пробиться, въехал на сходни, но конь не принял шаткой основы под ногами. Заметался, затанцевал, мешая рубке, и рослые стражники, не рискуя связываться с Гаврилой, просто столкнули его вместе с конём в воду. Однако он удержался в седле, заставил коня подняться на берег и вновь ринулся к судну самого ярла. Но пока пробивался, судно успело отвалить.
А Савка добрался-таки до златоверхого шатра Биргера. Спешился, ворвался внутрь, зарубив то ли слугу, то ли охранника, и топором подрубил центральный столб. Шатёр рухнул, вызвав восторженные крики русских и долгожданную панику в шведских рядах.
Князь Александр больше не принимал участия в битве. Не только потому, что болели растянутые сухожилия левой руки, но главным образом потому, что дело уже было сделано. Он сидел на холме, с которого хорошо была видна вся затихающая битва, отплывающие уцелевшие корабли, мечущиеся по берегу шведы. Ратмир откуда-то притащил воды, делал князю примочки. Это снижало боль, но рука распухала на глазах.
— Ратмир, шведы к князю рвутся!…
Голос Якова Полочанина раздался где-то совсем близко. Ратмир, сунув Александру меч, помог князю подняться и без раздумья бросился на призыв Полочанина.
Это была последняя отчаянная атака не поддавшихся общей панике старых опытных воинов. Её отбили легко и быстро, потеряв при этом всего одного человека. Ратмира. Любимого слугу князя Александра. Тогда ему об этом не сказали, но он понял, потому что его рукой занялся вернувшийся из боя Яков.
К закату битва кончилась. Шведов частью перебили, частью загнали в воду, где им осталось только утонуть. Усталая тишина опустилась на кровавое поприще, и тогда Александр спросил, не глянув:
— Ратмира нашли?
— Я его в приметное место отнёс.
Князь замолчал. Ныла рука, тупая усталость сковала тело, но больше всего ныла душа. Тоскливой, ни на миг не отпускающей болью. Возвращались друзья — усталые, счастливые, шумные, — но, увидев замкнутое суровое лицо Александра, сразу замолкали. Последним подошёл Пелгусий:
— С великой победой тебя, Александр Ярославич. Особо великой, потому что наших всего двадцать погибло, а шведов — несчётно. Прикажешь пир готовить? У меня много чего припасено, в победе твоей не сомневался.
— Русские на крови не пируют, — сурово сказал Александр.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Новгород встречал победителей колокольным звоном. Ликующие толпы горожан высыпали на площади и улицы, восторженные крики заглушали все иные шумы и разговоры, и девушки кидали цветы под ноги княжьего жеребца
У Софийского собора Александр спешился, стремительно взбежал на паперть.
— С победой тебя, Господин Великий Новгород! — Голос его перекрыл колокольный звон, который тотчас же и умолк. — С победой тебя, народ новгородский! Но дозволь сначала возблагодарить Господа нашего Иисуса Христа, преклонить колена пред заступницей нашей Святой Софией да отстоять панихиду по всем павшим на поле брани!
— Возблагодарим Господа и низко поклонимся удальцам, коих взял Он к себе, дабы служили Престолу Его так, как служили Великому Новгороду и князю Александру, нарекаемому отныне и во веки веков славным прозвищем Невского! — торжественно возвестил владыко.
Вечером посадник давал пир для победителей, приказав выкатить на площади бочки хмельного для простого люда. В Грановитой палате Новгородского детинца пировали победители, городские и духовные власти, боярство да представители людей именитых. После первых заздравных кубков, сопровождаемых криками «Слава!», после воодушевлённо пропетой хвалы князю Александру Невскому торжественная часть пира была исчерпана, возник шум, смех, отдельные беседы, и князь решил сказать, что тревожило его, ещё до того, как пирующие перепьются.
— Мужеством простых воев одержана победа на Неве-реке, но победа над ярлом Биргером совсем не означает победы над королевством Шведским. Великий Новгород — кусок лакомый, от таких не отказываются и после того, как обожглись. И если на западе стоит Псков и иные крепости, то север наш ничем не прикрыт. А на юге — татары, чудом не ворвавшиеся в новгородские пределы. Значит, надо строить добрые опоры на севере. Надо думать о завтрашнем дне, о безопасности внуков своих и о могуществе Новгорода. Это стоит денег, больших денег, и вы, господа Великого Новгорода, должны их дать. И не подаянием, кому сколько не жалко, а налогом на имущество каждого.
Княжеская речь была выслушана со вниманием и в тишине, но тишина эта стала мёртвой, как только Александр замолчал. И зависла над пирующими столами.
— Дадут они, как же, — громко сказал Миша Пру-шанин. — Для них калита куда как родины дороже.
— А ты, Мишка, хоть полгривны заработал? — ехидно спросили с дальнего стола.
— Миша славу вечную заработал, — громко сказал Гаврила Олексич. — И слава его потяжелыпе всех ваших гривен, вместе взятых.
— Ты чужие гривны не считай.
— Не с руки нам с Западом ссориться…
— Новгород нашим богатством стоит и стоять будет.
— Верно! Откупимся, коль чего не так сойдётся… Шум нарастал, в нем уже глохли отдельные слова, голоса крепчали, но Александр молчал, темнея лицом. И сидел, уронив на стол могучие руки, кулаком валившие наземь быка.
— А куда казна Биргера подевалась? Неужто поверим, будто он без неё приходил.
— Вот ты, князь Невский, на неё крепости и строй…
Александр резко выпрямился, отшвырнул кресло. Обвёл столы суровым взглядом, и шум сразу стих.
— Если Совет господ не изыщет денег на строительство укреплений, я отъеду из Господина Великого Новгорода!
И быстро вышел из Грановитой палаты.
Успокоился князь только к ночи. Ходил по палатам, распугивая челядь, и только Александра решалась к нему подступиться:
— Отдохни, не терзай себя.
— А ты чего за мной, как тень, бродишь? В тягостях ведь, о младенце подумай.
— Ты пока мой младенец. Ложись, я тебе песенку спою…
Наконец князь послушался. Лёг, и Александра прилегла рядом. Ласкала, тихо пела колыбельную, и Невский под утро задремал.
А утром, ещё до трапезы, пришли Ярун и Чогдар. Так и не уснувшей Александре осторожно доложили о них, и к ранним посетителям вышла она, запретив будить мужа. Гости низко поклонились, и Ярун сказал:
— Здравствуй, княгинюшка. Знаем, что не ко времени, но сердце не на месте. Как он-то? Уснул хоть немного?
— К рассвету только и задремал. Садитесь, гости дорогие. Не завтракали, поди? Сейчас распоряжусь.
Княгиня вышла, а гости сели. Тишина стояла, будто челядь по-мышиному по всем переходам перебегала. А потом вдруг раздались хозяйские шаги, и в палату вошёл Александр.
— Здравствуй, князь Александр Ярославич Невский, — торжественно сказал Ярун. — Разбудили мы тебя все-таки.
— Мономах завещал с солнцем вставать. Чем пир кончился?
— Не знаем, мы все вслед за тобой ушли.
— Миша Прушанин половину бояр переколотил, — усмехнулся Чогдар. — А Васька Буслай — вторую половину. Повязать пришлось да в поруб сунуть за буйство.
— Олексич вытащит, — улыбнулся Невский. — Хотел сегодня же к отцу ехать, чтобы о битве рассказать: он такие рассказы любит. Да не могу после вчерашнего. Дожать боярство надо, деньги из них выдавить! Придётся вам во Владимир поспешать, дядьки мои.
Вошла княгиня Александра. Склонилась в лёгком поклоне:
— Прошу к столу, гости дорогие.
Ярун с Чогдаром выехали через два дня. В битве они не участвовали, но поскольку были людьми ответственными, то старательно расспросили всех, в том числе и отпущенного на свободу Мишу. А Новгород гудел то ли с перепою, то ли прослышав, что боярство умудрилось обидеть на пиру победителя шведов. Гудел, но пока ещё не дрался.
Выехали после полуденного сна, когда спала жара. От охраны, а тем паче от слуг отказались, хотя князь советовал не пренебрегать высоким своим положением.
— Мы — воины, Ярославич. Сами управимся.
Управились. Но не так просто, как рассчитывали.
Переночевали в роще на попонах, положив под головы седла. Встали с зарёю, перекусили, заседлали коней и сразу же тронулись в путь, поспешая к великому князю. И ещё до обеда быстро и как-то очень бесшумно были окружены татарским отрядом в два десятка всадников.
— За меч не хватайся, — тихо сказал Чогдар. — Говорить буду я.
Говорил он спокойно и коротко, а кончилось тем, что им пришлось ехать совсем в иную сторону в татарском окружении. Правда, держались татары вежливо, хоть и насторожённо, но сути это не меняло.
— Говорят, что без разрешения начальника отпустить не могут, — пояснил Чогдар.
Ярун промолчал. Он полностью доверял своему побратиму, понимая, что в создавшемся положении Чогдару удобнее вести переговоры, но был встревожен. В конце концов не выдержал:
— Неужто набег?
— Сказали, что посланы переписывать мужское население.
— Опять ясак?
— Хуже. Для пополнения армии.
Наконец прибыли на берег реки, где горели костры, паслись рассёдланные кони и стояла юрта. Воины, сидевшие у костров, особого внимания на них не обратили, а доставивший их командир разъезда, спешившись, прошёл в юрту А они продолжали сидеть в сёдлах, пока из юрты не появился все тот же командир и что-то крикнул.
— В юрту зовёт, — сказал Чогдар, спешиваясь.
Прошли в юрту. Сидевший в ней худощавый татарин чиновничьего вида строго нахмурился и что-то сказал. Командир разъезда, сложив на груди руки, что-то виновато забормотал, и тут вдруг Чогдар, отстранив его, шагнул к чиновнику, закричав гневно и грозно. Чиновник мгновенно вскочил, виновато залопотал, кланяясь в пояс. Чогдар указал ему место у порога, чиновник тотчас же просеменил туда, а Чогдар спокойно уселся на его войлок.
— Садись рядом, анда. Он посмел сказать мне, монголу, что я должен встать перед ним на колени.
Все сразу же прояснилось, Чогдар и Ярун вдруг сделались высокочтимыми почётными гостями. Им, кланяясь в пояс, подносил кумыс сам тощий чиновник, а его воины уже разделывали барашка.
— Он прибыл переписывать всех мужчин, годных для войны, — сказал Чогдар. — Это плохо, потому что призванных бросают в наступление, первыми.
— Надо доложить об этом князю Ярославу.
— Надо соблюдать обычаи, — важно сказал Чогдар. — Они устраивают пир в нашу честь.
Пировали три дня: степные обычаи были строгими, и Чогдар не мог их нарушить. На пиру он рассказывал о великой победе Новгородского князя Александра Невского, воины громко кричали: «Урр!…» — и потрясали саблями в честь победителя шведов.
На четвёртый день выехали в сопровождении почётного эскорта. Ехали медленно, потому что обеды превращались в обильное угощение, и Чогдар воспринимал это как должное, не желая нарушать устоявшихся обычаев Впрочем, вполне возможно, что он вёл бы себя по-иному, если бы знал, что нарочный, высланный чиновником ещё в день их появления, мчится в ставку Бату-хана, нахлёстывая коня.
Великий князь Ярослав уже знал о Невской победе и был счастлив. Он встречал посланцев сына с великой честью и ещё более великой сердечностью, жадно и по многу раз расспрашивая о деталях.
— Стало быть, Сбыслав угнал коней у шведов?
— Сбыслав не только спешил шведов, князь Ярослав, — с гордостью и удовольствием рассказывал Ярун, — он прорубил дверь топориком Чогдара в рядах шведских воинов для дружинников Миши Пру-шанина.
— А Александр сразу же вызвал Биргера на поединок?
— И сражался с ним равным оружием, не уронив чести княжеской.
Чогдар помалкивал, невозмутимо выслушивая хвалу князю Александру и его дружинникам. Но когда Ярослав в третий раз стал обсуждать поединок Александра с ярлом Биргером, позволил себе вмешаться:
— Не гневайся, великий князь, но доблесть твоего сына не в поединке со шведским ярлом.
— Что ты этим хочешь сказать?
— Доблесть полководца в том, что он, наступая малыми силами, не только разгромил врага, но и потерял при этом всего два десятка своих воинов.
— Да, князь Ярослав, это — его заслуга, — сказал Ярун. — Князь Мстислав Удалой проиграл битву на Калке, имея численное превосходство, а князь Александр Невский выиграл сражение у превосходящего по силам противника, потеряв всего двадцать своих витязей. О таких победах я до сей поры что-то не слыхивал.
— Внезапность, быстрота и полное окружение, — весомо, загибая пальцы на каждом слове, пояснил Чогдар. — Твой сын — полководец, великий князь.
Князь Ярослав был достаточно опытен и закалён в битвах, но воевал по старинке, уповая на удачу да личную отвагу. Поэтому и расспрашивал в первую очередь о том, что знал, понимал и чтил:
— Ну, без доблести тоже…
— Тоже, — согласился Чогдар. — Русские — доблестные воины, потому-то Бату-хан и повелел призвать их в свою армию.
— У меня нет сил запретить ему это, — вздохнул Ярослав.
— Когда нет сил, используют хитрость, великий князь. Объяви сам запись добровольцев в армию Ба-ту-хана.
— И в чем же здесь хитрость?
— Добровольцев не бросают в бой первыми, — сказал Чогдар. — Кроме того, их хорошо готовят и хорошо вооружают.
— Чтоб я отправил православных сражаться за язычников… — Князь отрицательно покачал головой. — Церковь меня не простит.
— На Руси язычников больше, чем христиан, — сказал Ярун. — Подумай, князь Ярослав. Чогдар сказал верные слова.
— Проливать русскую кровь…
— А чью кровь ты проливал на Липице? — усмехнулся Ярун. — На такое даже татары не пойдут.
— Не пойдут, — подтвердил Чогдар. — Они не доверяют никому и не допустят, чтобы кровные народы сражались друг с другом.
Князь Ярослав не мог решиться на то, чтобы его подданные добровольно пошли сражаться на стороне вчерашних жестоких поработителей. Он ощущал это не просто как нечто глубоко безнравственное, но и как личный неотмолимый грех. И для него, много нагрешившего, преступить через новый, особо • тяжкий грех было невыносимо мучительно, особенно потому, что выбор он вынужден был делать сам.
— Как скажет Церковь, — наконец вымолвил он. — Как она скажет, так я и сделаю.
Церковь не только поддержала предложение князя о добровольцах, но и весьма обрадовалась. Её это устраивало едва ли не больше, чем Ярослава: Русь раздирало двоеверие, а отток язычников вселял надежду на окончательное торжество православия. Оставалось склонить к этому татар, но Чогдар не видел здесь особой причины для тревоги:
— Добровольцам верят больше.
А вскоре неожиданно пожаловало татарское посольство. Его возглавлял сам Бурундай, лучший полководец Бату-хана, ещё совсем недавно наголову разгромивший войска великого князя Юрия на реке Сити. В этом можно было увидеть как унижение, так и особую честь, и Ярослав предпочёл увидеть второе. Даров посольство не привезло, подчеркнув тем самым, что рассматривает Владимирское княжество землёй покорённой, но Бурундай лично преподнёс князю Ярославу богато изукрашенную ханскую саблю.
— Великий Бату-хан чтит отважных.
Переводил его личный переводчик: округлый чиновник с мягкими жестами и хитрыми глазами. Ярослав, как водится, поблагодарил, восхитился подарком — кстати, вполне искренне, поскольку сабля была и впрямь хороша, — й завёл обычный для первого знакомства разговор о здоровье хана, о трудном пути. Бурундай отвечал кратко и вполне вежливо, а потом вдруг резко что-то сказал толмачу.
— Бурундай гневается на меня, что я плохо перевожу, — сказал чиновник. — И просит тебя, князь, позвать своего толмача.
Ярослав хотел было отговориться, что такового, мол, не имеет, но вовремя заметил острый, проверяющий взгляд Бурундая и понял, что хитрить нельзя.
— Посол прав, мой толмач владеет двумя языками одинаково, и это позволит нам лучше понять друг друга.
И повелел позвать Чогдара.
— Скверно, — сказал Чогдар, надевая самую богатую одежду из всех, пожалованных ему Ярославом. — Если Бату-хан посчитает меня перебежчиком, мне несдобровать, анда.
— Скажи им, что служишь князю Александру и ни разу не обнажал сабли против татар.
— Думаю, что они уже знают об этом.
Однако первая встреча с представителями самого Бату не предвещала ничего настораживающего. Мало того, Чогдар и Бурундай совершенно одинаково приветствовали друг друга, а толстенький чиновник согнулся в три погибели и тут же вышел. От князя Ярослава это не укрылось, и он понял, что неожиданный приезд столь высокого посла объясняется не встречей Бурундая с ним, великим князем Владимирским, а встречей с Чогдаром. И встречей на равных, потому что тотчас же припомнил слова Чогдара о том, что он вырос, держась за стремя Субедей-багатура.
Чогдар переводил легко и быстро, сразу перейдя к деловой стороне, порою забывая о князе и вступая с Бурундаем в спор, который Ярославу не переводил. Впрочем, князя это скорее радовало: он не только полностью доверял Чогдару, но и понимал, чего тот добивается от сурового и неуступчивого Бурундая.
— Бурундай весьма одобряет твоё решение, великий князь, начать запись добровольцев в татарскую армию, — сказал Чогдар. — Он полагает, что Бату-хан отметит твоё усердие, однако настаивает, чтобы об этом было доложено Бату-хану лично.
Что— то в тоне переводчика насторожило Ярослава, но что именно, он никак не мог уловить. И чтобы выиграть время, успеть понять, решил уточнить:
— Это должно быть официальное посольство?
— Нет, великий князь. Докладывать должно доверенное лицо, уполномоченное на то тобою.
«Александр! — с ужасом подумал Ярослав. — Они хотят заполучить моего сына в заложники…» И спросил:
— Он назвал имя?
— Да, великий князь. Бату-хан требует меня.
Александр Невский щедро наградил воинов, особо отличившихся в сражении со шведами. Гаврила Олексич и Сбыслав получили золотые цепи за особые заслуги, правда, не с княжеской шеи, и Олексич пригласил Сбыслава отпраздновать это событие в домашней обстановке. Высокая княжеская награда да ещё и приглашение на домашнее торжество настолько взволновали и обрадовали юношу, что он невольно позабыл о свойственной ему сковывающей застенчивости. Шутил и смеялся за столом, говорил громче обычного, описывая подвиги Олекси-ча, смело смотрел Марфуше в глаза и поднимал чарки вровень со старшим другом. Вполне возможно, что он и перебрал бы тогда через край, если бы Гаврилу Олексича не потребовал к себе князь прямо посередь пира.
— Я с тобой, Олексич. — Сбыслав вскочил, трезвея на глазах.
— Ты с Марфушей. Невский и тебя бы позвал, коли бы был нужен Пируйте, скоро вернусь.
И вышел. И молодые люди остались одни, не решаясь ни поднять глаз, ни шевельнуть языком.
— Знаю, от семейного пира оторвал, — сказал Александр, как только Олексич появился в дверях. — Спешки вроде никакой нет, может, и зря оторвал, но беспокойно мне стало после этой грамоты.
Невский ткнул пальцем в свиток, лежавший на столе, и вновь зашагал по палате, заложив руки за спину.
Это всегда было признаком особой озабоченности, Гаврила знал об этом, а потому без приглашения молча сел на лавку.
— Издалека переслали, из Цесиса, дорого стала мне, да того стоит. — Александр сел к столу, взял свиток. — Это — устав Тевтонского рыцарского ордена. Писан по-немецки, так что читать буду сам и только главное. Может, квасу хочешь с похмелья-то?
— Похмелье завтра будет.
— Это ты верно сказал. — Невский развернул свиток и начал читать, с листа переводя на родной язык: — «Наш устав: когда хочешь есть, то должен поститься, когда хочешь поститься, тогда должен есть. Когда хочешь спать, должен бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца и матери, от брата и сестры, и в награду за это орден даст тебе хлеб, воду и рубище» Что скажешь?
— Нелюди.
— А нас татарами путают. Вот чем надо пугать! — князь потряс свитком. — Но — нельзя, своего человека подведём.
— Такие никого не пощадят
— Татары тоже не щадят после первой стрелы. Но коли до первой стрелы успел покорность изъявить, не трогают. Грабят, но не трогают.
— Чогдар рассказывал?
— Не только Чогдар. Жители всех городов, которые без боя сдались, все живы остались. А татары пограбили да и ушли. А церкви не грабили Ни церкви, ни монастыри. Чогдар мне объяснил, что закон Чингисхана им это запрещает. Яса называется. А это, — он опять потряс свитком, — это — немецкая яса
— Да, эти обжираться перед битвой не будут.
— Сбыслав у тебя пирует? — неожиданно спросил Александр.
— Все-то тебе ведомо, Ярославич, — усмехнулся Гаврила. — В моем доме хмель для него послаще вареного.
Александр нахмурился, по-отцовски грозно насупив брови. Потом сказал, вздохнув.
— А может, оно и к лучшему, Олексич.
К тому времени длительное молчание за столом уже прервалось путаной и горячей речью Сбыслава. Если бы не уверенность в себе, весомо оттягивающая шею золотой цепью, если бы не первые робкие улыбки Марфуши во время их занятий немецким языком, если бы не хмель, с особой силой ударивший вдруг в голову после внезапного вызова Гаврилы Олексича к князю Александру Невскому, он вряд ли отважился бы на такое откровение. Но он — отважился, выпалил все, что бурлило в нем, и замолчал, опустив глаза.
— Мне и горько и радостно сейчас, и радости во мне даже чуть больше, чем горечи, — тихо сказала Марфуша, не замечая слез, которые текли по её щекам. — Как я могла бы быть счастлива, Боже правый1… Как счастлива… Только дала я обет пред Господом нашим уйти в монастырь, как только женится брат мой Гаврила Олексич и в доме его появится хозяйка. Прости меня, витязь, ради Христа, прости меня…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Батый жестоко расправился с Киевом, брошенным собственными князьями. Киевляне под руководством воеводы боярина Димитрия с мужеством обречённых бились на стенах и улицах «Матери городов русских», однако участь города и его жителей была решена. Израненного воеводу притащили во временную ставку Батыя.
— На тебе нет вины за убийство наших послов, — сказал Бату-хан. — Сражался ты отважно, как подобает настоящему воину. Я дарую тебе жизнь и свободу, когда наши знахари излечат твои раны.
— Боль от сабель и стрел твоих воинов ничто по сравнению с болью земли Русской, — с трудом, но твёрдо выговорил боярин Димитрий. — Неужто воины твои ещё не насытили жестокость свою, а ты, хан, не натешил ещё тщеславие своё? Возьми назад дар свой и предай меня самой мучительной казни, только не лютуй боле на Руси.
— Ты не только доказал свою отвагу, но любовь к земле своей, — усмехнулся Бату-хан. — Я подумаю о твоей просьбе, когда знахари залечат твои раны.
Во время этого разговора Бурундай и Чогдар в сопровождении небольшого отряда стражи подъехали к ставке Бату-хана. В пути они почти не разговаривали, поскольку в среде монгольской воинской знати это считалось дурным тоном. Однако ещё в первый день их бешеной скачки со сменными лошадьми Чог-дар не удержался от вопроса, весьма его беспокоившего:
— Ты — знаменитый воин, Бурундай. Почему же тебя поставили во главе посольства к признавшему свою покорность Владимирскому князю?
— Потому что я знаю тебя в лицо. Ты помнишь наши встречи, Чогдар?
— Помню. Ты держался за второе стремя Субедей-багатура.
— Тогда у тебя не должно быть больше вопросов. Чогдар понял все и более вопросов не задавал. Тот ничтожный чиновник, который осмелился потребовать от него, знатного монгола, изъявления покорности, послал донесение об их встрече, и Бурундаю повелели доставить его самому Бату-хану для суда и расправы.
Но по прибытии в ставку Бурундай приказал выделить ему юрту, подобающую его прежнему высокому статусу, слугу и все мыслимые удобства для походной жизни. Два дня Чогдара никто не беспокоил, никто не ограничивал его свободы, а низшие офицеры, не говоря уже о простых воинах, с подчёркнутым почтением приветствовали его Он не обольщался, зная непростой характер Бату-хана и отлично представляя его занятость И все же здесь было над чем подумать, и он — думал.
Вечером второго дня пришёл сам Бурундай. Раскланявшись, как с равным, молча пригласил следовать за собой Они вышли из юрты, но направились не к белому шатру хана, а в иное, весьма скромное жилище, лишь нанемного больше юрты, которую отдали Чогдару. Однако у входа оказалась охрана, Бурундай вошёл один, но вернулся быстро, сам откинул полог перед Чогдаром и молча кивнул, приглашая войти.
Чогдар перешагнул порог и остановился. В центре юрты почти без дыма горел костёр, с противоположной стороны которого виднелась плохо освещённая грузная фигура. Больше в юрте никого не было, но Чогдар уже понял, кто сидит перед ним, и склонился в глубоком поклоне.
— Садись с той стороны, с какой было стремя, которого ты держался.
Чогдар прошёл на подсказанное место, ещё раз поклонился и сел. Субедей-багатур наполнил его чашу кумысом, поднял свою и сказал:
— Я давно похоронил тебя в сердце своём, но рад видеть живым.
Здесь полагалось лишь отвечать на вопросы, но поскольку вопрос не прозвучал, Чогдар склонил голову и пригубил кумыс только после того, как это же сделал великий полководец Чингисхана.
— Монголы — маленький народ, но он катит сегодня колесо времени по огромным странам и многочисленным народам, — сказал Субедей-багатур. — Почему же руки сына моего друга не помогают нам толкать это колесо туда, куда направил его Чингис?
— Меня спас от смерти русский витязь среди голой степи. — Чогдар говорил медленно, обдумывая каждое слово — Я не знал, куда ты увёл своё победоносное войско, мой господин Я долго был между жизнью и смертью, но спасший меня витязь кормил, поил и защищал меня Он стал моим андой, мы побратались по монгольскому и русскому обычаям и жили среди бродников, защищая их табуны от половецких набегов Объясни мне, мой господин, есть ли в этом моя вина
Субедей— багатур молчал, размышляя И теперь Чогдар наполнил кумысом их опустевшие чаши
— Ты ушёл служить русскому князю, исполняя волю своего анды?
— Мы вынуждены были бежать под руку русского князя, чтобы спасти жизнь сына моего анды. Защищая честь отца, он убил татарского десятника в честном поединке.
— Убийство наших людей карается смертью.
— Он служит князю Александру и доказал свою доблесть в битве на Неве, мой господин.
В тусклых глазах Субедей-багатура впервые вспыхнул огонёк:
— Мы слышали об этой битве. Кажется, князь получил прозвище Невского?
— Он потерял всего два десятка воинов, сражаясь против шведских рыцарей, в несколько раз превосходящих его силы.
— Ты подробно расскажешь об этой битве самому Бату. И рассказ твой должен ему понравиться. — Субе-дей-багатур помолчал. — А что касается сына твоего анды… Как его зовут?
— При рождении его нарекли Сбыславом, при крещении — Фёдором.
— Пусть он навсегда забудет о первом имени. Пред нашими законами провинился Сбыслав, а Федор ни в чем пред нами не виноват.
Сердце Чогдара забилось настолько сильно, что он позволил себе осторожно вздохнуть. В словах всемогущего советника самого Бату-хана он услышал ясный намёк на собственное прощение. Вопрос теперь заключался в том, какую цену за его жизнь потребует жестокий, расчётливый и проницательный внук великого Чингисхана.
На следующий день Чогдара принял сам Бату-хан. В ханскую юрту провожал его опять Бурундай и опять лишь доложил и тут же вышел. И сердце Чогдара опять стиснуло острым ощущением опасности, когда он переступал через порог. А переступив, как и полагалось, пал на колени, не смея поднять головы.
— Как ты, монгол, посмел войти в мою юрту в одежде покорённых мною русичей? — грозно спросил Бату. — Может быть, ты больше не монгол?
— Я родился и умру монголом. Как и ты, мой хан! Дерзость была неожиданной и для самого Чогдара.
Его сознательно оскорбили, а он ответил на оскорбление так, как ответил бы любому, уже не страшась никаких последствий.
— Нет, ты все-таки монгол! — рассмеялся Бату. — Тогда встань и подойди к моему костру.
Чогдар повиновался и, минуя двух стражников, пошёл вперёд, остановившись на шаг до костра. Он смотрел только на хана, приняв предложенные им правила рискованной игры, в которой уже не ожидал выигрыша. Оставалось проигрывать с достоинством, и он был внутренне к этому готов, но когда уголком глаза увидел сидевшего рядом с Бату Субедея-багатура, готовность его несколько поколебалась. Он надеялся, очень надеялся на защиту своего старого покровителя после вчерашнего разговора, но систему этой защиты понял только после очередного вопроса Бату-хана:
— Так почему же ты не потребовал у Бурундая халата, приличествующего твоему высокому роду?
— Я служу Новгородскому князю Александру Невскому, мой хан.
— Тому, который разгромил шведов, потеряв при этом, как мне сказали, всего двадцать воинов?
— Именно за эту битву он и получил прозвище Невского, мой хан.
— Опытный воин?
— Ему всего двадцать лет.
— Столько же, сколько моему сыну Сартаку, — отметил Бату. — Он рождён быть полководцем. Я высоко ценю битвы, оплаченные малой кровью, но о столь низкой цене ещё не слыхивал. Он уповал на своего всемогущего Бога?
— Он уповал на быстроту, неожиданность и отвагу. Невский вызвал предводителя шведов на поединок именно тогда, когда это было необходимо, и победил его.
— Он вырастет в грозного воина, — задумчиво сказал Бату.
Неожиданный переход от заинтересованности к угрюмой задумчивости насторожил Чогдара. Он впервые разговаривал с Бату-ханом, но хорошо знал чингисидов, а потому решил ещё раз рискнуть, высказав своё мнение до вопроса повелителя:
— Невский поглощён одной мыслью, мой хан: как оборонить Русь от нашествия крестоносцев.
— Ты осмеливаешься скакать впереди меня, — с неудовольствием заметил Бату. — Садись по левую руку и подробно расскажи нам о битве. И не забывай при этом подливать кумыс в чаши старших.
Это звучало почти прощением, но цена за это прощение названа ещё не была. Низко поклонившись, Чогдар опустился на указанное место, наполнил чаши кумысом, сделал глоток после старших и приступил к подробному рассказу
Он понимал, сколь многое зависит от того, удастся ли ему заинтересовать опытного и грозного полководца, и вдохновение пришло, как спасение свыше. Сдержанно описал подготовку к неминуемой схватке, хорошо организованную князем Александром разведку и вытекающий из всех собранных сведений план предстоящего сражения.
— Значит, шведы расположились, имея за спиной реку? — неожиданно перебил Бату.
— Да, мой хан. Причём это очень широкая и глубокая река. Видимо, они рассчитывали отступить на суда, причаленные к берегу, но князь Александр предусмотрел это и лишил их возможности маневрировать.
— Каким образом?
— Он заранее, до удара по центру своей дружиной, приказал правому и левому крылу атаковать вдоль берега, тесня противника и уничтожая сходни, по которым можно войти на корабли.
— И конница шведов не смогла вовремя отбросить их? Невский очень рисковал.
— У шведов уже не было конницы. — Чогдар позволил себе улыбнуться. — Сын моего анды Сбы… Федор ещё на рассвете угнал табун.
— Получается; что он все предусмотрел, учитель? Вопрос относился к Субедей-багатуру
— Полководцы делятся на тех, кто побеждает силой, и на тех, кто побеждает головой, — неспешно, как всегда основательно подумав, сказал старый воин. — И вторые куда опаснее первых Глаза Невского смотрят сейчас на Запад Надо все сделать для того, чтобы у него не было причин оглядываться.
— Поясни свою мысль.
— Князь Ярослав, отец Невского, предлагает поставить в наши войска добровольцев. Русичи — отважные и умелые воины и по доброй воле будут сражаться ещё отважнее. Особенно если мы поручим запись добровольцев самому князю Ярославу
— Я не доверяю побеждённым.
— А русские князья не доверяют друг другу. Вбей клин между ними, и они тут же обвинят князя Ярослава, что он переметнулся на нашу сторону.
— И мы сможем спокойно продолжать поход на Запад, добивая убегающих половцев. — Бату в упор посмотрел на Чогдара и неожиданно улыбнулся. — А ты останешься здесь.
На бесстрастном лице Чогдара не дрогнул ни один мускул, хотя он понял, что этим Бату приговаривает его к смерти. К особо мучительной казни, которой подвергали только представителей знатных монгольских родов, чью кровь нельзя было проливать. Им просто ломали хребет, как сломали его старшему сыну самого Чингисхана Джучи. Отцу Бату-хана.
— Я повинуюсь, мой хан.
— Повелеваю тебе честно и отважно служить князю Невскому. Но при этом всегда помнить свои собственные слова: «Я родился и умру монголом».
— Служить двум повелителям?
— Одному, — сурово поправил Бату. — Монголы не повелители твои, а братья по крови.
— Но мой анда — русский витязь, а побратимство предать невозможно…
— Учитель, объясни этому бестолковому, что он должен делать! — с раздражением сказал Бату
И вновь Субедей-багатур основательно поразмышлял, прежде чем говорить.
— Ты должен всем своим опытом, знаниями и саблей служить князю Александру Невскому. Ты должен помогать князю Ярославу во всех его разумных делах и поступках. Ты должен склонить князя Александра…
— У Невского — свои заботы, — перебил Бату. — Сначала — Ярослав.
— Ты должен склонить князя Ярослава добровольно, без повеления Бату-хана, прибыть в ставку с изъявлением покорности, — невозмутимо продолжал Субедей-багатур. — Ты должен без промедления сообщать нам о всех сговорах, действиях и слухах, которые могут осложнить кашу благосклонность к Невскому или его отцу. Все ли ты понял как надо?
— Я понял все, но пока не знаю как В моем подчинении только русская челядь.
— Хан повелел заменить татарских переписчиков на баскаков. Они будут следить за набором добровольцев и переправлять их к нам. Сведения будешь передавать через их людей. А чтобы они немедленно исполняли твою волю, покажешь им знак своей власти.
С этими словами Субедей-багатур достал золотую пайцзу и протянул её Чогдару.
С того дня, как Чогдар уехал вместе с Бурундаем в ставку Батыя, Ярун не находил себе ни места, ни занятия Прожив достаточно времени вместе со своим побратимом хотя и на территории бродников, но в непосредственной близости от татар, он хорошо знал как их обычаи, так и их беспощадную жестокость. Чогдар нарушил не только обычай, но и закон, перейдя на службу к покорённому врагу, что рассматривалось как измена. За это во всех случаях предполагалась смертная казнь, и Ярун не надеялся, что его другу удастся её избежать Их прощальный разговор до сей поры звучал в его ушах. Может быть, потому, что был очень кратким даже для сдержанного монгола
— Береги Сбыслава, анда
— Скажи, что во всем виноват я. Я заставил тебя служить князю Ярославу.
— Береги Сбыслава. Если они узнали обо мне, они могут узнать и о нем. У них длинные руки.
Он не обнял своего друга и анду, а низко поклонился ему, точно уже шёл на казнь.
А Ярослав донимал требованиями немедленно прислать к нему именно Сбыслава, которого жаждал наградить за подвиги в битве ча Неве.
— Его уже наградил Александр Как ты объяснишь две награды за одно сражение?
— Я имел в виду подарок. Просто подарок отца сыну, доказавшему свою доблесть.
— О том, что Сбыслав твой сын, знают только три человека. А твой старший сын умен и проницателен. Кроме того, там безопаснее. Подальше от татар.
С этим доводом князь в конце концов согласился. Ярун догадывался, что настойчивость князя Ярослава объяснялась не столько вспыхнувшей любовью к прижитому на стороне сыну, сколько стремлением искупить свой грех. В последнее время ощущение личной греховности вновь овладело великим князем, он вдруг зачастил в церковь и начал прилежно молиться, чего прежде за ним особо не наблюдалось. Правда, потрясённый разорением собственной земли, перезахоронением убитого брата и многочисленными жертвами мирного населения, Ярослав в посте и молитве провёл три дня, но по приезде Яруна оставил это занятие, посчитав, что покаялся достаточно, а появление Сбыслава вообще воспринял как знак особого благорасположения сил небесных. Теперь начинался как бы второй круг. Но если первое покаяние было искренним и отражало душевные порывы, то нынешние посещения Ярославом церкви, а в особенности её иерархов, возникли от причин вполне земных. Единогласная поддержка священнослужителями предложения о записи язычников-добровольцев в татарские войска навела Ярослава на мысль об объединении не только владетельных князей ради спасения Руси, но и самого народа, разделённого не просто границами уделов, но и двоеверием, и здесь без помощи Церкви он ничего не мог сделать. Ярун не знал истинных причин внезапного религиозного рвения великого князя, и оно ему не нравилось. А сам Ярослав скорее нащупывал почву, чем строил общий храм для всей Руси. А потому ничего никому и не говорил, поскольку пока ещё только смутно ощущал необходимость обращения к Церкви, не понимая её великого значения для судьбы всего русского народа.
— А ты чего в церковь не ходишь, Ярун?
— Я во Христа верую, а не в попов. Во Христа и во спасение своё.
— О спасении Руси думать надо.
— Русь только меч спасти может, князь Ярослав. Силу копить надо. Невский это понимает, не в обиду тебе будь сказано.
Был длинный вечер с лёгким морозцем, низкое серое небо задёрнуло землю от слабеющего в предзимье солнца, но они продолжали сидеть в густеющей темноте. Прихлёбывали медовый перевар, нехотя закусывали, перебрасывались словами, и каждый думал о своём. Они любили сумерничать вдвоём, привыкли друг к другу и не испытывали неудобств от молчания. Челядь знала о сложившихся привычках, появлялась, когда звали, и зря на глаза не лезла. А тут вдруг распахнулась дверь:
— Князь Александр во дворе!
Раздались чёткие, будто кованые, шаги, рука отстранила обрадованного отрока, и в палату, пригнувшись, вошёл Невский.
— Чего в темноте сидите? Не поймёшь, кому и поклон отдать.
Разобрались с поклонами. Забегала челядь, появился свет.
— Где жить повелишь, батюшка?
Невский выглядел усталым. Осунулось лицо, занавесились насупленными бровями карие глаза, непривычная ранняя морщина появилась на крутом переносье.
— Да ты, никак, хвораешь, сын?
— Бог миловал.
Александр отвечал кратко, катая желваки на обтянутых скулах: только борода вздрагивала. Ярослав растерялся, побежал кому-то что-то указывать…
— Стало быть, отъехал ты из Господина Великого Новгорода, — сказал Ярун.
— Умен ты, дядька Ярун, — невесело усмехнулся Невский. — Куда это отец направился?
— Разволновал ты его. А он своих волнений показывать не любит.
— Семейное у нас, — вздохнул Александр. — Я тоже не люблю. Особо если жалеть начинают.
— Я новгородцев жалею.
Князь промолчал, и Ярун понял, что не следует травить незажившие раны. Стал расспрашивать о Сбыславе, о Гавриле Олексиче, с горькой озабоченностью рассказал, как вытребовали Чогдара к самому Батыю.
— Сам Бурундай приезжал?
— Он, Ярославич.
— Мне говорили, что Бурундай лично убил великого князя Юрия.
— Того не может быть. Во-первых, тёмникам запрещено вступать в бой без крайней необходимости, а во-вторых, рыцарских поединков они не признают.
— Почему?
— Полководцам нельзя рисковать. Они за всю битву в ответе.
Вернулся Ярослав, сам позвал в трапезную. Пока сын ел, рассказывал ему о своих делах. О том, что решил объявить запись добровольцев-язычников, о роли Церкви, которую следует всемерно поддерживать.
— Думал об этом, — сказал Невский. — Только лебезить не надо: на шею сядут и ноги свесят. А помогать нужно. И не просто добрым словом, но и силой, коли понадобится.
— Да кто ж против служителей Господа осмелится…
— В Новгороде уже осмелились. Три дня вече гудело, орало, дралось и последними словами поносило владыку Спиридона. Чуть до дреколья дело не дошло, я уж своих дружинников в охрану выдвинул.
— Это в благодарность-то за Невскую победу!… — всплеснул руками великий князь.
— Чернь благодарности не знает, батюшка. На меня и владыку умелые люди её натравили. Как собаки. кинулись, а бояре — за спиной.
— А встречали, помнится, славой, хвалой да радостными слезами, — вздохнул Ярун.
— Кому — славная победа, а кому и дырка в калите. — Александр залпом выпил кубок, отёр бородку. — Добрая половина новгородских купцов с западными странами торгует, а шведы, с немцами столковавшись, морские пути перекрыли. Вот боярство и заворчало. Сперва тихо, шепотком, а потом и в полный голос. Мол, никакие победы барыша не стоят. Ну и вздули цены на все, что могли. И на меня закивали: вот, новгородцы, кто виноват, что вы животы подтянули. Прости, батюшка, но честь мне дороже новгородского княжения.
Ярослав нахмурился. Князь Александр наполнил кубок, молча отхлёбывал по глотку.
— К чарке потянуло? — с неодобрением отметил Ярун.
— Не ворчи, дядька. Сунули меня мордой в холодные помои.
— А про орден забыл? — вдруг резко спросил великий князь. — Собой любуешься, свою обиду лелеешь? Ливонские разъезды по Псковской да Полоцкой земле, как по своей, разъезжают. А с твоим отъездом и в Новгородской окажутся!
— Умыться грязью и промолчать советуешь, батюшка?
— Во имя Руси я татарской грязью умыться готов, а ты новгородской брезгуешь? Время смирения, сын, смирения и расчёта, а не ссор меж собой. Пора собирать камни, Александр Ярославич Невский, а не разбрасывать их!
Наступило молчание. Даже в глаза друг другу смотреть избегали.
— На все нужно время, князь Ярослав, — осторожно сказал Ярун. — В молодые годы и малая обида ершом в горло идёт. Себя самого вспомни.
— Где семья? — отрывисто спросил Ярослав.
— Велел Олексичу в Переславль отвезти вместе с отроками моими.
— И что делать думаешь?
— Зайцев гонять, — усмехнулся Александр. — Сбыслав обещал монгольской стрельбе меня обучить.
Ярослав хотел было что-то спросить, но вовремя опомнился. Только судорожно глотнул.
— Дозволь удалиться, батюшка, — сказал Александр, вставая. — Трое суток в седле.
— Добрых снов.
Невский, поклонившись, пошёл к выходу. У дверей вдруг остановился, резко развернувшись:
— А Новгород я немцам не отдам, отец. Не отдам!… И вышел.
— А ведь не отдаст, — улыбнулся Ярун, когда за Александром закрылась дверь.
— Обиделся он, видишь ли, — вновь заворчал князь Ярослав. — Нашёл время для обид.
— Будто ты с обидами не нянчился. Липицу вспомни.
— Ты мне не указывай, что вспоминать! — с юношеским гневом вдруг заорал Ярослав. — Не топчи мозоли мои душевные.
Ярун помолчал, ожидая, когда у князя пройдёт внезапная вспышка раздражения. А когда грозно сдвинутые брови вновь вернулись на свои места, спросил:
— За псковские земли опасаешься?
— Почивать не надумал? Тогда посиди, не до сна мне что-то, Ярун. — Князь помолчал. — За Псков боюсь. Псков — ключ к Новгороду.
— Ордену Псков не взять.
— А смутить псковитян можно. Псков исстари на варяжской торговле сидит. И земли занять могут. А вышибать всегда трудно, сам знаешь. Не смирился мой сын ещё, не смирился. Больно лихо понесло его после первой победы.
— Александр разумен, князь Ярослав. Успокоится, и все у него на места встанет.
— Время не наверстать. — Ярослав помолчал, сказал с горечью: — И Чогдара нет. А татары — есть.
Упоминание о Чогдаре полоснуло Яруна по сердцу. Да и великого князя, видимо, тоже, потому что беседа увяла в собственных размышлениях собеседников. Так молча и разошлись.
Александр уезжал в Переяславль-Залесский, всего-то два дня погостив у отца. Князь Ярослав велел Яруну сопровождать сына и быть при нем безотлучно. А при прощании сказал с глазу на глаз:
— Александр самолюбив, ещё по-детски болячки расчёсывает. Ты помни об этом, Ярун, и нажимай с осторожностью насчёт ордена. И сведения, сведения из Новгорода чтоб шли поначалу к тебе. Отбирай, с чем князя знакомить, а с чем — обождать, пока успокоится. Все ты понял, так что в добрый путь. С Богом!…
И крепко обнял Яруна.
А на следующий день приехал Чогдар. Когда доложили, Ярослав не выдержал и сам вышел навстречу.
— Не чаял, признаться, живого увидеть. И без стражи отпустили?
— Стражу я сам отпустил. Как только въехали мы в твою землю, великий князь.
— Стращали?
— Не без того. Отпустили с повелением служить князю Александру Невскому так, как служил бы самому Бату.
Это сравнение насторожило великого князя. Он уже оценил и ум, и осторожность Чогдара, прекрасно понял, что тот сказал сейчас именно то, что хотел сказать, но на что намекал при этом, Ярослав понять не мог. Однако от расспросов удержался.
Разговор продолжился за трапезой, причём начал его Чогдар:
— Сам Бату-хан соизволил принять. На беседе присутствовал Субедей-багатур, его главный советник, которого он называет учителем. Это меня и спасло, великий князь.
— Ну, и слава Богу. — Ярослав поднял кубок, пригубил, поставил на место. Подумал, спросил в упор: — Что ты должен передать мне в обмен на собственную жизнь?
— В обмен на собственную жизнь я должен защищать твоего сына и всеми мерами помогать ему в его борьбе с орденом.
— Батый стал беспокоиться о судьбе Руси? — усмехнулся Ярослав.
— Бату-хан беспокоится только о своей судьбе, великий князь. Но война Александра Невского с крестоносцами на севере помогает ему в его войне на юге, — невозмутимо пояснил Чогдар. — Цели Бату-хана и твои, великий князь, сейчас совпадают. И надо сделать все, чтобы они совпадали всегда.
— Ну и что хе я должен сделать? — хмуро спросил князь.
— Бату одобрил твоё предложение о записи добровольцев. Он отзовёт переписчиков и заменит их баскаками.
— Что такое баскаки?
— Военные чиновники. Будут забирать у тебя добровольцев и отправлять их в войска для обучения. — Чогдар помолчал. — Заодно им поручено следить за тобой, великий князь.
— Следить?
— Следить. Под видом сбора дани. Ярослав горько усмехнулся:
— Уже обкладывают. Значит, скоро и на рогатины погонят.
— Не так скоро, великий князь. Бату-хан хочет добить половцев, которых Котян увёл за Карпатские горы. Западный поход уже объявлен.
Если кровавый рейд Батыя на северо-восточные княжества Руси был всего лишь глубоким обходным манёвром земли Половецкой, то предстоящий прорыв в центральноевропейские государства предполагал фронтальный удар, то есть совершенно иную тактику и стратегию. На Руси татаро-монголы всячески избегали затяжных боев, сберегая собственные силы и время, не разоряли сдавшиеся на милость города и нигде не оставляли гарнизонов, поскольку не считали эти земли своим тылом. Достаточно сказать, что из всех двухсот девяти укреплённых городов было разрушено только четырнадцать, а население многочисленных деревень, как правило, разбегалось по лесам, в которые татары забредать не решались. За-лесская Украина, как тогда называли Северо-Восточную Русь, не являлась целью, а была всего лишь средством разрешения стратегической задачи.
И в западном походе южнорусские княжества не являлись непосредственной целью: целью была Пан-нония, в степи которой откочевал Котян с сорока тысячами своей орды. Но они лежали на направлении главного удара, оказываясь, таким образом, ближайшим тылом наступающих на Европу войск Бату-хана. И тыл этот следовало обеспечить не только для бесперебойного снабжения армии, но и для того, чтобы не получить внезапного удара в спину. Как сам Батый, так и его полководцы, а в особенности Субедей-бага-тур, уже оценили доблесть, упорство и отвагу русских организованных сил. И отлично знали, кто способен их организовать и повести за собой. Князь Даниил Романович Галицкий.
Даниил Галицкий был на двадцать лет старше Александра Невского, но его детство куда трагичнее. Потеряв в четыре года отца, Даниил с огромным трудом был спасён матерью, сумевшей увести ребёнка в Польшу к князю Лешку. Но и там было неспокойно, — и его переправили к венгерскому королю Андрею, при дворе которого он получил достойное будущего короля воспитание, а в двенадцать лет — в Волынское княжество. Воинскому мастерству его учил Мстислав Удалой в войнах с Польшей, Венгрией и с татарами на Калке. Последний пример разочаровал Даниила, и в последующих почти беспрерывных удельных войнах он обходился уже без своего учителя. А в тридцатом году сумел овладеть Галичем, воссоединив таким образом Волынскую и Галицкую земли.
Татарском^' военному руководству боевая биография князя Даниила Галицкого была хорошо известна. Князь был опытен, отважен, умен и вполне мог организовать сопротивление нашествию. Это предположение и высказал Бату-хан своему главному советнику.
— Если врагам есть вокруг какого вождя объединяться, значит, надо искать тех, кто объединяться не хочет, — сказал Субедей-багатур, помолчав, как всегда. — Говорили мне, будто есть такая земля на реке Буг. Жители её не доверяют цепким рукам князя Галицкого.
— У нас тоже цепкие руки, учитель. И об этом известно всем. Почему недруги Галицкого непременно станут нашими друзьями?
— Надо заплатить подороже.
— Поясни свою мысль.
— Мы пошлём к ним не войска, а послов. Послы должны от твоего имени, хан Бату, обещать, что мы обойдём их земли и не заставим их воинов сражаться в наших войсках.
— Договор — это весы, — сказал Бату. — А я пока вижу свою перегруженную чашу. Это подкуп, а не договор.
— Нагрузим их чашу пшеницей и просом в качестве платы за нашу милость. Кроме того, это поможет нам в снабжении армии.
Посольство было послано немедленно и вскоре действительно обнаружило вольную землю, которая называлась землёй Болоховской. Их князья были независимы, очень дорожили этим, больше опасались воинственного Даниила Галицкого, а потому согласились на все условия, предложенные татарским посольством.
Но князю Галицкому и в голову не пришло объединяться с кем бы то ни было перед татарским нашествием. Он просто оставил все свои земли и укрылся в Венгрии, бросив Южную Русь под копыта татарских коней. Видно, опять заныла рана от татарского копья, полученная им ещё на реке Калке.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
По первому снегу пришёл из Смоленской земли, не тронутой татарскими нашествиями, богатый обоз во Владимир. А Негой явился к великому князю, опередив свой обоз почти на сутки.
— Что везёшь? — спросил Ярослав, прекрасно поняв, что верный и весьма осмотрительный торговый гость не зря явился в одиночестве.
— Не гневайся, великий князь, новости невесёлые, — приглушённо сказал Негой, хотя беседа их, как всегда, протекала с глазу на глаз. — Не успел сын твой князь Александр покинуть Новгорода, как зашевелились в Ливонии. Узнал об этом от верных людей, сам поехал в Псков и еле ноги унёс.
— Псковичи выгнали, что ли?
— Ливонцы при мне Копорье взяли и к Изборску подошли. В Пскове свара великая, боярство народ мутит, город сдать хочет.
— Пскова им на копьё не взять, Негой.
— А зачем копьё, если ворота распахнуты, великий князь? Потому-то и спорят, и за дреколье хватаются. Больше всех там Твердило мутит, у него весь торговый оборот с Западом связан. Говорил я с ним, знакомцы все-таки О Руси поведал, о злом бедствии татарском, а у него — один ответ: большая калита копья ломает. И прямо сказал, чтобы я ноги уносил, пока цел.
Такие же известия получил и Ярун в Переяславле-Залесском от Миши Прушанина. Миша прямо писал, что Псков сдадут раньше, чем его береста дойдёт до князя Невского. Озабоченный советник хотел было показать послание Александру, но, хорошенько подумав, решил пока обождать. Ярославич ещё не остыл от обиды, сгоряча мог и отказать в помощи, а князья слова свои брать назад не любили.
Грозные новости накатывались волнами, приходили одна за другой Через день после отъезда Не-гоя — он у великого князя никогда не задерживался, осторожен был — к Ярославу прибыло важное и весьма представительное посольство во главе с владыкой Спиридоном, несколькими разумными боярами да Мишей Прушанином. Новгородская знать недолюбливала его за буйный нрав, но в данном случае учла особое расположение Невского к проверенному боевому соратнику.
— Немцы во Пскове, великий князь, — с горечью сказал владыка. — Отряды их уж в тридцати верстах от Новгорода жителей грабят, обозы перехватывают, а где и селения жгут. Дай Александра Ярославича.
— У моего сына — своя голова, — весьма сухо ответил Ярослав. — Если без князя невмоготу, берите Андрея.
— Нет, великий князь, без Невского Новгороду не обойтись.
— Кого Новгород обидел, тому пусть и кланяется.
— На колени встану! — чуть не со слезами выкрикнул Миша. — Ни перед кем ещё не вставал, а перед ним — встану.
— И я встану, — сказал новгородский воевода До-маш Твердиславич.
— В Переяславле сейчас Александр. Отдохните и поезжайте к нему. Как решит, так тому и быть.
— Некогда нам отдыхать, — угрюмо сказал До-маш. — Вели только коней заменить.
— Коней вам заменят. Перекусите с дороги — и с Богом.
— Напиши слово своё отцовское, великий князь, — попросил владыка Спиридон. — Сын чтит тебя.
— Напишу. Чогдар передаст.
Гостей кормили на скорую руку, не до пиров было. Пока они наспех закусывали, Ярослав написал несколько слов, вручил свиток уже готовому к отъезду Чогдару:
— Сделайте с Яруном все, чтобы Александр вернулся в Новгород. Скажешь, что я дам ему свою дружину. Её приведёт Андрей.
Чогдар молча поклонился. А посольству сказал:
— Говорить с князем Александром Невским будете, когда он вас позовёт.
Великий князь дал запасных лошадей. Поспешали, как только могли, спали в санях да в сёдлах, наспех меняли коней. За два поприща до Переяславля Чогдар сказал владыке:
— Я поскачу вперёд, святой отец.
— С Богом, сын мой.
Нахлёстывая коня, Чогдар помчался в город. А прибыв в Переяславль, первым делом разыскал Яруна.
— Немцы в Пскове. За мной — послы из Новгорода.
— Вот во что нам княжеские обиды обходятся, — в сердцах сказал побратим. — Немедля идём к Александру.
В отцовском послании, которое передал Невскому Чогдар, была всего одна строка: «ЗАБУДЬ ОБИДЫ, ПОМНИ О РУСИ», но Ярославич почему-то читал её долго и очень внимательно. Наконец буркнул Чогдару, не глядя:
— Говори, что знаешь.
Чогдар доложил все, что знал от Ярослава, коротко и точно. И замолчал. Молчал и Александр.
— Псков, Изборск, Копорье, Тесов, — начал было перечислять потери Ярун.
— Брать — не отдавать, — резко перебил князь. — Скажи Ратмиру… — Он запнулся, вздохнул, перекрестился. — Успокой, Господи… Савке скажи, чтоб воинский наряд мне приготовил.
Ярун вышел. Александр походил, подумал. А спросил не о том, о чем размышлял:
— Почему тебя из Орды отпустили?
— Потому что я тебе служу.
— И Батый это признал?
— Бату-хан высоко оценил твою победу, князь Невский. И Субедей-багатур тоже.
Александр не смог сдержать горделивой усмешки. Чогдар скупо улыбнулся и добавил.
— Сейчас вы вместе тянете одну арбу. Конь Бату-хана на юге, конь Александра Невского — на западе.
— Я понял твою мысль, Чогдар. Встречай послов и сразу — ко мне.
Новость о военных действиях ливонцев не была для Невского неожиданной. Он предполагал, что так и должно быть, что разгром шведов не остановит крестоносцев, битва на Неве скорее походила на стратегическое прощупывание, нежели на серьёзный фланговый удар. Новостью оказался сам план очередной войны: захват северных укреплённых городов с последующим ударом по центру. Это у ливонцев получилось, с помощью изменника Твердилы Иванко-вича им удалось без штурма захватить Псков, но вместо того чтобы развивать наступление в центре, крестоносцы вдруг затоптались, явно чего-то выжидая. Чего они могли ожидать? Скорее всего, ещё одной шведской вылазки: либо через финнов, либо через южное побережье Балтики. А если это так, если он верно рассчитывает стратегический план ливонцев, то следует прежде всего лишить их надежды на шведскую военную помощь…
Александр размышлял об этом, надевая с помощью Савки полный воинский наряд. Обида, которую просил забыть отец, все ещё занозой сидела в его душе, все ещё тревожила и раздражала, но сейчас о ней следовало забыть. Сейчас все мысли должны быть сосредоточены на главном: отобрать у ливонцев захваченные русские земли, отбросить подальше от Новгорода и Пскова, а там… Там Андрей приведёт отборную отцовскую дружину, о которой до времени никому знать не следует. До времени решающего сражения с основными силами ордена.
Вошёл Чогдар:
— Послы во дворе, Александр Ярославич.
— Вынимай их из саней немедля. Шуб не давай снимать, пусть им жарко станет. Ярун, останься. Савка, вели в трапезной накрывать, только чтоб без шума. Если добром порешим, добром и попируем.
— Неужто сможешь не подобру решить? — неодобрительно спросил Ярун, когда Чогдар и Савка вышли.
— Я им покажу, кто здесь князь, — проворчал Невский. — И пусть хорошенько запомнят. И ты мне в этом не мешай, дядька Ярун.
Первым в жарко натопленную малую палату вошёл владыка Спиридон, двумя руками неся перед собой нагрудный крест. Следом, теснясь, ввалилось боярство в тяжёлых неуклюжих шубах. Закланялись, касаясь пальцами пола, вразнобой приветствовали хозяина и его сове! ников. Александр молча принял благословение владыки, молча смотрел на посольстве, хмуро, по-отцовски сведя брови.
— Прости Новгороду вечевую брань, Александр Ярославич, — со вздохом начал Спиридон. — Гордыня твоей Невской победы власть над людскими душами взяла. Возомнили о себе людишки мелкие, а народ новгородский ответ сейчас держит.
— Прости, Ярославич! — выкрикнул Миша.
— Прости, князь. — Домаш согнулся в поклоне и продолжил, не разгибаясь: — Ты один Господин Великий Новгород спасти можешь.
Александр шагнул, поднял Домаша с поясного поклона:
— Ты тевтонским мечам не кланялся, Домаш.
— А я ни перед кем колен не преклонял! — крикнул Миша, со стуком падая на колени. — Но пред тобою, Ярославич, за землю Новгородскую…
— За землю Русскую встань, Миша, — строго сказал Александр, и Миша сразу поднялся. — И если все встанем за Русь Святую…
— Встанем, князь!… — вразнобой, но весьма воодушевлённо заговорило распаренное жарою и неуступчивостью Невского посольство. — На святом кресте клянёмся…
— Кто сдал Псков? — перекрывая возгласы, спросил Александр. — Кто сдал Копорье, Изборск, Тесов? Поимённо — смерть. И им, и их пособникам. Условие первое.
— Изменникам — смерть! — подтвердил Домаш.
— Всех новгородских смутьянов — в поруб. Сам их судьбу решу, и ты, владыка Спиридон, мне в этом не перечь. Условие второе.
— Они уже в порубе, — сказал Миша.
— Условие третье. Вечевой колокол должен молчать, пока я войны с орденом не закончу. Его первый удар либо победу нашу возвестит, либо — гибель земли Новгородской.
— Да будет так, — сказал владыка.
— И последнее. Я вернусь в Новгород только как полновластный князь. Ни Совет господ, ни посадник, ни ты, владыка Спиридон, моим повелениям перечить не должны
На сей раз посольство промолчало. Глядели в пол, вздыхали и даже не переглядывались Слишком уж тяжким и опасным представлялось последнее условие: издревле приглашаемый в качестве, по сути, наёмного военачальника князь требовал сейчас всей полноты власти.
— Носитесь вы, новгородцы, со своей вольностью, будто девки с девичеством, — с неодобрением сказал Ярун. — А свобода не вольности требует, а боли да крови.
Послы продолжали угрюмо молчать.
— Не самолюбие тёшу, — вздохнул, помолчав, Александр. — Спросите Чогдара, почему татары малыми силами всю Русь расклевали.
Чогдар достал из собственного колчана пучок длинных монгольских стрел, протянул Мише:
— Сломай.
Миша глянул на холодно замкнутое лицо Невского, ухмыльнулся, взял пучок двумя руками и попытался резко согнуть. Стиснул зубы, жилы вздулись на лбу, но пучок стрел даже не прогнулся.
— Стрелы у вас крепкие, — смущённо признался он, возвращая пучок Чогдару.
Невский выдернул стрелу, легко, пальцами, переломил её, бросил на пол.
— Я не самовластия ищу, я Русь в пучок собрать должен. А начинать приходится с гордого Господина Великого Новгорода. Так покажите же пример всей Руси, новгородцы, без опаски за вольности свои.
— Господин Великий Новгород принимает все твои условия, князь Александр Ярославич Невский, — торжественно произнёс Спиридон. — Приди и спаси землю Русскую.
Александр шагнул к нему, преклонил колено:
— Благослови, святой отец.
И резко склонил голову на грудь.
Обрадованное посольство во главе с владыкой после двухдневного отдыха поспешило в Новгород, но До-маша Твердиславича и Мишу Прушанина Александр оставил в Переяславле. За ними стояли новгородские дружины, без которых начало вооружённой борьбы с орденом было невозможно. Не теряя времени, Невский собрал всех своих думцев, советников и воевод, едва проводив за ворота посольство.
— Ливонцы ждут, что мы очертя голову Псков отбивать кинемся, — сказал он, открывая военный совет. — Говорите, не чинясь, что думаете. С чего лучше начинать, с чем обождать, а что и напоследок оставить.
Участники высокого совета переглядывались, мялись, но первым говорить никто не рвался. Александр усмехнулся:
— Горячие головы и в битве опасны, согласен. Тогда самых опытных спросим. Что скажете, советники мои?
Побратимы переглянулись. Ярун чуть наклонил голову, и Чогдар сразу же встал:
— Если главные силы в Пскове и вокруг него, то следует их растащить. Медведь в борть залез, значит, надо стать пчёлами.
— Жалить надо, Чогдар прав, — проворчал Гаврила Олексич.
— Было бы кому жалить, давно бы до смерти зажа-лили, — вздохнул Домаш.
— Неужто никто из Пскова не бежал? — спросил Ярун. — Неужто все под ливонцами так и остались?
— А ведь и верно! — встрепенулся Миша. — В Новгород псковичан понабежало много, говорил с ними. Злы!
— Вот ты, Миша, их ещё пуще и раззадорь, — улыбнулся Невский. — Сколоти да обучи добрую дружину. А свою отдай Домашу.
— Это как же так? Я их собирал, я их обучал, я их в битву водил, а теперь…
— А теперь отдашь, новую соберёшь и обучишь.
— А оружие да брони где взять? — не сдавался Миша. — Оружейники бесплатно и ножа-засапожника не дадут, а псковичи в одних портах к нам прибежали.
— Дадут, — сурово обронил князь. — А если кто не даст, волей своей отберу. Так им и скажи. Родину защищаем, не до барышей сейчас. Завтра же одвуконь в Новгород поскачешь, и моим именем… — Невский со стуком уронил на стол пудовый кулак. — Понял? Исполняй.
— Понял,,Ярославич. — Миша встал. — Твоим именем!…
И тут же вышел. И все почему-то засмеялись.
— Горяч, — сказал Домаш.
— Оттого-то я его в Новгород и отправит/, — отметил Александр. — У тебя, Домаш, голова похолоднее, а потому обе эти дружины ты должен в пчёл превратить.
— Лучше — в ос, — негромко уточнил Чогдар. — Пчела жало оставляет, а сама гибнет. Нам нужны осы. Ужалил и отлетел.
— Татарский бой, — усмехнулся Ярун. — Чогдар дело говорит, Ярославич.
— Ливонцы то ли шведам, то ли датчанам берега расчищают, — сказал князь. — Значит, первое дело не дать им там высадиться. Это — на тебе, Домаш, на твоих новгородских дружинах. Сперва выведай все, потом соображай, где и как бить. Второе: надо народ поднимать, без рати не обойдёмся. Рать — твоя забота, дядька Ярун. Нажми на посадника, на владыку, но народ подними, обучи и вооружи.
— Чем? Ни мечей, ни брони не хватит.
— Копьями да баграми, — сказал Домаш. — Этому их долго учить не придётся, сызмальства приучены.
— Тебе, Чогдар, лучников готовить. Чтоб коней рыцарских со второй стрелы валили. Ты, Олексич, мою дружину готовь. Оружие раздай, брони, коней замени, кому требуется. Завтра в Новгород выедете, а я — дня через три. За это время разберётесь, ещё совет проведём и начнём ливонцев щекотать. Яков и Сбыслав, останьтесь, остальные — с Богом.
Все молча вышли. Сбыслав и Яков Полочанин тоже молчали, понимая, что их задания будут только для их ушей.
— Поедешь к князю Андрею, Сбыслав. Приглядывай, горяч он не в меру, но тебя слушать должен. Отцовскую дружину пока в новгородские земли не водите. Идите к границе кружной дорогой, станьте скрытно и ждите моего гонца. Никаких охот, никаких пиров, дозоры — вокруг всего стана, чтоб и мышь не проскочила. Выедешь завтра. Ступай, на прощальном пиру свидимся.
Сбыслав молча поклонился и вышел.
— Тебе, Яков, задание особое, — приглушённо сказал Александр, помолчав. — Я о немцах должен знать все, они обо мне — ничего. Людей для этого подбирай особо надёжных, сам понимаешь. Есть у тебя такие на примете?
— Найдутся.
— Хорошо бы пару-тройку к немцам заслать.
— Постараюсь, Александр Ярославич.
— Враг у нас сильный и опытный, да, кажется, воюет по старинке. И старинку эту я должен понять… — Князь вздохнул. — В Новгород мне надо, очень надо, а я — тяну.
— Что ж так? Ждёшь чего?
— Жду, Яков. — Невский неожиданно улыбнулся. — Княгинюшка моя вот-вот рожать собирается…
Едва войско Бату перевалило Карпаты, как впереди него карающей вороньей стаей понеслись страшные легенды, докатившись в конце концов до Франции. Легенды живописали не только монгольскую беспощадность, стремительность их ударов и тучи их стрел, закрывавших солнце, но и небывалые размеры самого татаро-монгольского войска. До ужаса напуганные не столько непривычным обликом врага, сколько необычными его действиями, ратники и рыцари, успевшие убежать правители и перепуганные монахи рассказывали о несметной татарской силе. Говорили, что само войско занимает пространство на двадцать дней пути в длину и пятнадцать в ширину, что за ними по доброй воле следуют несчётные табуны диких коней, а неугодившие в цель стрелы сами собой возвращаются в колчаны всадников. Казалось, Европа готова была без боя расступиться перед нашествием неведомых полчищ, если бы было куда расступаться. Казалось, ещё одно усилие, ещё рывок, ещё одна решающая битва…
Но как раз-то сил на последнюю решающую битву у Бату-хана уже не было. Растянутый тыл оказался пройденным, а не покорённым, разгромленные в трех сражениях поляки не считали себя побеждёнными, Германия странно отступала, Котян, поссорившись с венграми, ушёл в Болгарию, и Бату вдруг ощутил, что утрачивает цель. Ощущение было настолько тревожным, что он оставил армию на верных полководцев и вернулся за советом к Субедей-багатуру который по тяжести лет уже не мог пересечь Карпаты, и даже юрту, из которой он почти не выходил, тащила дюжина особо выносливых волов.
— Ты чересчур перетянул тетиву, — сказал учитель, когда Бату объяснил ему сложившуюся обстановку. — А цель ушла. Так куда же полетит стрела, если больше нет цели?
— Моя цель — половцы Я разобью их и вернусь в Венгрию. Там есть где пасти табуны.
— Моё сердце билось вместе с сердцем великого Чингисхана, — помолчав, сказал Субедей-багатур. — Не так точно, может быть, отставая на один удар, оно билось и с его сыновьями. А сейчас оно точно замерло, и я уже не ощущаю ударов сердца великого хана Угедея.
— Угедей умер? — шёпотом спросил Бату. Советник промолчал, опустив тяжёлые веки на никогда не мигающие глаза.
— Бурундай и Неврюй добьют Котяна и без меня, — продолжал вслух размышлять Бату. — Если я опоздаю в Каракорум на курултай…
— То останешься жив, — весомо сказал Субедей-багатур. — На курултае великим ханом изберут Гуюка. А Гуюк не забывает обид.
— Его обиды настигнут меня и здесь.
— От Каракорума до Волги долог путь. И кто знает, что может случиться на этом пути?
— Ты говоришь загадками, учитель.
— Половецкая степь просторнее степей венгерских, Бату-хан. Если оградить её силой побеждённых русичей, она станет неприступной. У русичей есть два вождя, способных сделать твою орду непобедимой даже для злопамятного Гуюка. Это Александр Невский и Даниил Галицкий.
— Князь Даниил удрал в Венгрию.
— Он вернётся, когда ты уведёшь войска в половецкую степь. Но ждать — значит терять время. Чтобы его не терять, прикажи Невскому изъявить свою покорность.
— Невский смотрит на Запад. Это твои слова, учитель.
— Сделай его взор ещё более пристальным.
— Как, учитель? Ты опять заговорил загадками, а мне некогда разгадывать их.
Субедей— багатур долго молчал. Бату уже начал проявлять признаки нетерпения, когда он сказал:
— Ничто не вечно, хан, кроме разумной власти. Неразумная власть всегда ищет врагов, разумная — союзников. Может быть, это мой последний совет. Обдумай его, внук великого деда.
Он устало прикрыл глаза, и Бату тихо вышел из его юрты. Он с детства восхищался непонятной для него прозорливостью лучшего полководца монголов, прислушивался к его советам, но был достаточно опытен и самолюбив для того, чтобы не следовать им слепо и непродуманно. Тем более что напутственными словами учителя было напоминание о его великом деде.
Бату— хан всегда гордился своим высоким положением, а жена его Баракчин-хатун не уставала напоминать, что такие синие глаза, как у него, были только у самого Чингисхана. Глаза -окна души, и Бату верил, что какая-то часть великого основателя империи монголов передалась ему и, размышляя о советах Су-бедей-багатура, всегда прикидывал, как бы использовал эти советы сам Чингисхан.
А Чингис завещал никогда не оскорблять чужих богов, но молиться только своим. Мать Бату была христианкой несторианского толка, кое-что вложила в сына, но ещё больше — во внука, и его любимый Сартак не скрывал своих симпатий— к христианству, продолжая превыше всего чтить собственных богов. И Бату достаточно разбирался в многочисленных потоках и ручейках общей веры во Христа, чтобы понять разницу в поведении двух знаменитых русских князей. Александр Невский защищал православную веру и Русскую землю, не сходя с неё. Даниил Га-лицкий бежал от его войск в католическую Европу, оставив родную землю. И твёрдая последовательность Александра была куда ближе ему, чем суетность Даниила Галицкого.
Впрочем, было и кое-что ещё, что легло ему на сердце. Рассказ Чогдара о Невской битве, которую князь Александр выиграл заведомо меньшими силами, потеряв при этом всего двадцать воинов. Он не одобрял рыцарского поединка Александра с ярлом Биргером, потому что полководец, с его точки зрения, должен думать не о личной отваге, а о битве в целом и о своих воинах, но не мог ке признать мужества русского князя. А Сартак вообще пришёл в восторг, когда Бату рассказал ему о поединке, и умолял отца поскорее познакомить его с Невским.
Но если предчувствие не обманывает старого учителя? Если великий хан Угедей, отец 1уюка, и вправду уже умер или вот-вот умрёт? Что будет тогда с ним, с самим Бату? Субедей-багатур прав: на курултае великим ханом изберут Гуюка, прямого преемника Угедея. Там, в далёком Каракоруме, все решают сильные кланы, хитрые чиновники да старые ветераны, для которых он, Бату-хан, всего лишь предводитель пограничной орды на далёкой окраине, а гуюк… Гуюк — рядом. Вдова Угедея Туракина, властолюбивая, глупая и жадная, по обычаю до курултая будет править при помощи опытных советников да старых друзей, имея доступ к ханской казне. А курултай — через пять лет, когда съедутся в Каракорум все чингисиды и представители всех воюющих армий. Пять лет — большой срок. Пугающе большой срок…
Значит, надо кончать войну в Европе и стягивать войска в один кулак. И — искать союзников. Иного выхода нет.
То ли предчувствие, то ли расчёт, то ли уверения многочисленных женщин из окружения Александры оказались точными, а только через сутки после военного совета счастливый Невский поднял на руках своего первенца. И прибыл в Новгород в радостном настроении.
Думцы его времени не теряли, но новгородцы хмуро помалкивали, не очень-то рвались исполнять их просьбы и требования, и дела шли хорошо пока только у Миши Прушанина…
— Идут псковичи Ярославич! — с восторгом сообщил он — Молодые новгородцы тоже вроде бы не против, но денег требуют. Мол, семьи оставить при-дегся, а кто прокормит?
— Правильно требуют, — сказал Невский. — Я это на Совете господ решу. С глазу на глаз.
И велел посаднику в тот же день собрать Совет господ.
Совет собрался в Грановитой палате, но князь выходить к нему не торопился. Знал, что следует потомить, а потом появиться с требованиями и от этих требований уже не отступать. Он вошёл в полном боевом наряде с красным княжеским корзно за плечами, в котором ходил только на битвы. В том числе и на Невскую, и корзно должно было об этом напомнить Не поклонился и не сел, а сразу начал говорить громко и чётко, и могучий голос его гулом отражался от стен:
— Распри, козни да крикливое ваше вече ничего, кроме слез да горя, Руси не принесло. Псков сдан изменниками, побережье потеряно, под самим Господином Великим Новгородом бродят шайки ливов, чуди и прочих наёмников ордена. Они не просто грабят, они путь крестоносцам прокладывают, и если мы всех сил в один кулак не соберём, быть Новгороду пу-сту и в католическую веру перекрещену. А Русь сейчас одной святой православной верой держится, и нет у неё иной опоры.
Он замолчал, ожидая вопросов, гневных возгласов или хотя бы сдержанного перешёптывания, но истинные владетели Новгорода, потомственные «золотые пояса», тоже продолжали выжидательно молчать.
— О моих условиях вы знаете, — с прежним напором продолжал он. — Условия приняты вашими представителями, скреплены крёстным целованием, но к ним добавились новые. Новгород выставит ещё одну дружину, на которую понадобятся кони и полное вооружение. Понадобится и денежное вознаграждение добровольцам, чтобы семьи их не бедствовали, а вдовам и сиротам — двойная доля. Долю эту определять вам, потому что за спасение платят либо кровью, либо золотом.
При упоминании о золоте среди бояр пробежал лёгкий гул, но Невский поднял руку, и сразу же наступила тишина.
— Без сильного ополчения нам от ливонцев не отбиться. Враг беспощаден, опытен, вооружён лучше нас, а ключ от Господина Великого Новгорода — Псков — отныне в его руках, есть на что опереться. И опору эту придётся брать до решающей битвы. Ополчение будет собирать Ярун, и как он скажет, так должно вам и исполнить. Все расходы — только с вас, с боярства да богатых купцов. Жителей не трогать, они мужьями да сыновьями жертвуют. Спорьте хоть до драки, но когда солнце сойдёт с небосвода, я приду за ответом.
И вышел, не дав им опомниться. Он ни словом не обмолвился о том, что отец отдал ему свою лучшую, закалённую в битвах дружину не только потому, что известие о столь могучей поддержке могло подтолкнуть прижимистых торгашей стать ещё более прижимистыми, а потому, что среди них наверняка присутствовали люди, разделявшие прогерманские настроения, а знакомить орден со своими планами было совсем ни к чему. Наоборот, необходимо было создать впечатление, что Новгород оказался столь же одинок, как и Псков, и вынужден напрягать все свои силы.
Все было верно. И новые требования, и резкость, и твёрдость, и все же Невский не был доволен собой. Его терзала мысль, что он где-то упустил главное, что не сумел доходчиво, спокойно, по-человечески объяснить, какая страшная опасность нависла над всей Новгородской землёй и что опасность эта куда пострашнее татарской, потому что татары не претендовали ни на землю, ни на веру, а католический Ливонский орден отбирал и то и другое. Александр то неподвижно сидел, уставясь в одну точку, то вдруг вскакивал, коваными шагами меряя палаты и переходы, а за ним бродил Савка, предлагая то ли попить, то ли перекусить.
— Да отвяжись ты! — рявкнул в конце концов Александр. — Лучше поди на солнце глянь.
— Садится! — радостно сообщил Савка, буквально исполнив повеление князя. — Одна горбушка осталась!…
— Поправь корзно, — сказал Невский. — Про себя десять раз отсчитай и распахивай двери настежь.
Савка в точности проделал все, и князь шагнул в Грановитую палату. На миг задержался, бросив взгляд на окно («Солнце село, значит, вовремя…»), и большими, коваными, только ему присущими шагами прошёл к пустовавшему креслу, по обе стороны которого сидели владыка Спиридон и посадник. И едва он тронулся с места, как все тотчас же встали. «Решено!…» — с облегчением подумал Невский, поняв, что ершистый Совет господ с этого мгновения передаёт ему всю полноту власти.
Это была победа. Действительным хозяином Господина Великого Новгорода был в то время отнюдь не посадник, занимавшийся городскими хозяйственными делами и мало вникавший в дела иные, не владыко, осуществлявший власть церковную и, несмотря на огромный авторитет, избегавший без особой надобности лезть в дела мирские, и уж тем паче не шумное, бестолковое новгородское вече, не имевшее самостоятельности, а лишь утверждавшее уже решённое в Грановитой палате и с удовольствием заканчивающееся каждый раз потасовками. Действительными хозяевами огромного торгового города были те, у кого в руках была сосредоточена основа существования Новгородской боярской республики: деловые связи, деньги и способы их оборота. Тридцать знатнейших боярских семейств, имеющих наследственное право заседать в Совете господ, «золотых поясов» Новгорода, решающих его судьбу. И совсем не добровольно, а лишь из боязни потерять все (и власть — прежде всего), они скрепя сердце отдали Александру Невскому свои наследственные права. Только на время, с тайным расчётом вернуть все, как только князю удастся либо разгромить захватчиков, либо — на худой конец — отбросить их от границ новгородских земель.
Князь Александр прекрасно понимал вынужденность этой уступки, но с присущей ему неуклонной твёрдостью намеревался выжать из неё все, что только возможно, чтобы укрепить имеющиеся под рукой воинские силы. И уже на следующее утро созвал своих воевод и советников.
Теперь он был по-деловому краток. Сообщив об удовлетворении всех своих требований Советом господ, сказал:
— Домаш, чтоб новгородцев успокоить, выгони для начала всех грабителей за пределы земли нашей. Действуй быстро и жёстко, но разумно: вожаков вешай, остальных отпускай. Копорье возьму сам, как только Олексич дружину приведёт. Миша, оплата обещана, вдовам и сиротам — двойная доля. В свою дружину бери не только новгородцев, ижорцев бери, ладожан, всех, кому ливонцы жизнь пересолили А вы, дядьки мои, ополчение готовьте. Лучников, Чогдар, лучники мне нужны! Рыцарей мечом не перешибёшь, тут ещё думать и думать надо… Как там Субедей-бага-тур говорил?
— Если хочешь победить сильного, сам выбери место для битвы.
— Место, — вздохнул Невский. — Что ж, Псков вернём и о месте подумаем.
Вскоре Гаврила Олексич привёл Александру его дружину. Полагалось бы попировать с нею, но Невский все пиры отменил, дал сутки на отдых скорее коням, чем людям, и, ни на что более не отвлекаясь, повёл свои личные княжеские силы прямиком на Копорье. Дел было много, очень много, но что-то словно подталкивало его именно в этом направлении. Он не знал, что, и только потом понял. Предчувствие…
Он ощущал его не как нечто тревожное, а как нетерпение. Быстрота вообще была свойством его натуры, выражаясь и в любви к быстрой скачке, и в стремительной походке, и в немедленном переходе к действию, если это действие он считал достаточно продуманным. А вот размышлял неспешно, не рывками, а строго последовательно, то и дело перекатывая уже, казалось бы, продуманное назад, чтобы проверить ещё раз, чтобы убедиться не только разумом, но и чувством. И когда разум и чувство переставали в нем спорить, действовал стремительно, ни на что более уже не отвлекаясь.
Он шёл к Копорью, плотно окружив дружину дозорами («сторожами», как это тогда называлось), приказав хватать любого, кого бы дозоры эти ни встретили на своём пути А вперёд отправил Савку с десятком отроков, лично отобрав особых любителей охоты Тайный этот бросок удался вполне, и дозоры вовремя похватали кого следовало, кого не следовало, и Савка со своими отроками без шума снял стражу из вожан, которые переметнулись к ливонцам, служа не за страх Троих из стражников Савка доставил живыми, Невский допросил каждого по отдельности, обещая жизнь за правду, и выяснил, что небольшой ливонский гарнизон недавно отстроенной крепостцы и ведать не ведает о его приближении. За ночь Невский обложил Копорье со всех сторон, сосредоточив ударные отряды против трех крепостных ворот.
— Что скажешь, Олексич? — весело спросил он ближайшего друга и советника
— Дозволь на переговоры пойти, Ярославич, — степенно сказал Гаврила — Кровушку лить понапрасну — великий грех.
— А если рыцари повесят тебя?
— Вот тогда ты за меня и рассчитаешься.
На рассвете Гаврила Олексич без оружия подъехал к центральным воротам Его сопровождал трубач с пикой, на острие которой болтался белый лоскут. После первого же трубного рёва ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы пропустить парламентёра с трубачом, и закрылись, как только они въехали в крепость.
— Отметь тень, Савка, — сказал Невский. — Как только на шаг отползает, атакуем одновременно. Приказ передашь командирам лично. Заодно проверь, готовы ли у них тараны.
Савка отметил тень и напрямую, не щадя коня, помчался к изготовленным для штурма отрядам. По нему постреляли лучники со стен, но как-то и негусто, и нехотя. Савка передал приказ, лично убедился, что в середине каждого отряда припасено по доброму бревну на ремнях, которые должны были доставить к воротам три пары особо крепких дружинников, и вернулся к Невскому. Но доложить не успел, потому что крепостные ворота приоткрылись и из них целыми и невредимыми выехали Гаврила Олексич с трубачом.
— Отпустили, — вздохнул князь и перекрестился.
— Не поверили, — усмехнулся Гаврила, подъехав. — Не мог-де большой отряд подойти незаметно, а от малого мы-де всегда отобьёмся. Подумалось мне, Ярославич, что так оно даже лучше, и переубеждать их я не стал. Рыцарей там человек тридцать, а чуди да вожан раза в три поболе.
— Трубы!… — во всю мощь голоса выкрикнул Александр, выхватив меч из ножен. — Покажем, что не шутки играть пришли!…
Взревели трубы, и все три отряда одновременно помчались к крепостным воротам. Подскакав к ним, передовые расступились перед теми, кто за их спинами вёз на ремнях тараны, и тяжёлые бревна начали ритмично и гулко бить в створы ворот.
Первыми рухнули центральные ворота, и первым в крепость ворвался Невский. Впрочем, схватка была короткой: и ворвавшиеся вослед за князем всадники оказались в более выгодном для боя положении, поскольку рыцари так и не успели сесть на коней, а ритмичные удары таранов и оглушительный рёв боевых труб мало способствовали упорству кнехтов из чуди и вожан. Чудины бросились сами открывать ворота нападающим, вожане попытались было разбежаться, но дружина быстро сбила их в кучу.
— Рыцарей милую за разумность, — сказал Александр. — Чудь — за помощь, хоть и запоздалую, но не всех. И вожан не всех. Сами вытолкайте тех, кто уговаривал вас ливонцам служить, а Новгород предать. Помедлите — каждого десятого на частоколе вздёрну.
Ни вожане, ни чудины медлить не стали, буквально выбросив из толпы наиболее ретивых сторонников немцев. Было их десятка два, и все они тотчас же стали на колени.
— Изменникам — смерть, — сурово сказал Невский. — Рыцарей я Новгороду покажу, чтоб знали, что не так страшен черт, как его малюют. А вас, кнехты, милую. Расскажите, что увидели, всем в своих селениях. Повесить изменников на частоколе. Немедля!
— Князь Александр, дозволь нам самим справедливый твой приговор исполнить и тем грех с души снять. — Из толпы помилованных кнехтов шагнул рослый, заросший светлой до белизны бородой чу-дин.
— А у тебя, видать, совесть не всю ещё купили, — усмехнулся князь. — Разумные слова. Действуй.
Под руководством рослого чудина кнехты быстро развесили изменников по всему частоколу. Дружинники тем временем запрягли в найденные телеги рыцарских коней и погрузили в них все отбитое оружие.
— Добро поработал, — сказал рослому чудину Невский.
— Дозволь слово молвить, князь. От сердца слово, поверь.
— Говори.
— Дозволь послужить тебе не за страх, не за честь, а по совести. Изгои мы бессемейные и безземельные, но битвы не страшимся.
— И много ли вас таких?
— За полсотни я тебе ручаюсь.
— Как зовут?
— Урхо. Богатырь, по-нашему.
— Хорошее имя, — улыбнулся Александр. — Богатырей ценю. И верю им Я с дружиной и пленными рыцарями вперёд уйду, времени у меня мало. А ты, Урхо, спалишь крепость дотла, а телеги с оружием доставишь мне в Новгород вместе с теми, за кого поручился.
И снова Новгород встречал Невского колокольным звоном, искренней радостью и всеобщим воодушевлением. Только Чогдар почему-то не улыбался, и Александр это сразу же отметил.
— Случилось что?
— В твоё отсутствие приезжал в Новгород посланец от Бату-хана. Велено тебе без промедления прибыть в его ставку на Волге.
— Как звучало то, что передал гонец Батыя?
— «Хочу тебя видеть, чтобы показать мощь и силу державы моей», — сказал Чогдар. — Это — обычное повеление хана, другое меня насторожило. Посланцем был простой чербий, то есть младший офицер.
— Ну, так я же ещё не великий князь, — усмехнулся Александр. — Батый нрав мой проверяет, так думаю. А я обиды не покажу, и какой же чин он ко мне после этого пришлёт?
— К отъезду все готово, мы с андой подарки подобрали. Одна просьба… даже не просьба, князь, необходимость. Тебе нужен свой толмач, которому ты полностью доверяешь. Мы с Яруном решили, что ты должен взять с собой Сбыслава. Он знает не только язык, но и все обычаи. А там промахиваться нельзя.
— Со Сбыславом поеду с удовольствием.
— С Фёдором, — весомо уточнил Чогдар. — Сбы-слав убил татарского десятника, а Федор перед татарами безвинен.
— Верно, — сказал Александр. — Это ты вовремя мне подсказал, Чогдар. Пошли кого-нибудь предупредить… Федора, что мы встретимся с ним во Владимире.
— Ярун уже послал гонца к князю Андрею.
— Значит, все в порядке. — Невский вздохнул. — Не вовремя. Ох, как же это не вовремя!… И — скверно. Очень скверно.
Чогдар тоже считал, что очень скверно. Приказ включить в поездку Сбыслава он получил от того же чербия, но не от имени Бату-хана, а от имени Субе-дей-багатура. И это — настораживало.
Обоз был невелик. Пароконная телега с дарами, отобранными Яруном и Чогдаром: уж он-то знал особые пристрастия монголов, а потому и даров было немного. Такая же телега с продовольствием да пожитками, небольшая, скорее почётная, нежели боевая, стража и совсем немного челяди, которой распоряжался Савка, заменивший погибшего Ратмира. Ехали быстро, поскольку временем Невский дорожил, и скорость эту определяли князь и Сбыслав, всегда скакавшие впереди.
— Когда позовут, ноги поднимай повыше при входе в юрту, — втолковывал Сбыслав. — Споткнуться о порог — значит оскорбить хозяев. Монголы особенно следят за этим.
— Ноги у меня длинные.
— Придётся пить кумыс. Постарайся не пролить ни капли.
— Придётся, — недовольно вздохнул Александр. — Отпустил мне этот грех владыка Спиридон. Очень он противный?
— Привыкнешь, так и вкусным покажется, — улыбнулся Сбыслав. — Противно, что чаш они не моют. Летом запрещено им мыться.
— Почему?
— Религия запрещает. А может, обычай. Войдёшь в юрту, сразу опустись на колени и не вставай, пока хан не позовёт. Тогда иди прямо к нему, смотри в глаза и остановись за шаг до костра. Кстати, через огонь нельзя перешагивать ни в коем случае.
— Что-нибудь я обязательно перепутаю.
— А ты на меня почаще поглядывай, князь. И делай так, как я.
— Чем кормят они, Сбыслав?
— Федор я, — усмехнулся Сбыслав. — Смотри, князь, не оговорись. Монголы злопамятны и мстительны, дядька Чогдар меня особо предупреждал. А кормят тарой, поджаренным пшеном то есть. Редко — мясом. Кобылятиной да бараниной. Едят руками, руки вытирают о сапоги либо о войлок. Тебе могут позволить тряпицу. Ножи для еды носят на поясе, а мясо обрезают возле самых губ одним движением ножа. Ножи эти у них особенно острые. Нельзя дотрагиваться ножом до огня и ломать кость о кость.
— Хоть записывай за тобой, — проворчал Александр.
— Путь неблизкий, и так запомнишь. Если пригласят на охоту, избегай молодых птиц, а во взрослых не промахивайся. И ещё: пользуйся монгольским луком, ты из него отлично стреляешь.
— Как я понимаю, твоя задача — все сделать для того, чтобы я Батыю понравился. Так, что ли?
— Так, — помолчав, сказал Сбыслав. — Если есть у монголов хорошие черты в характере, то главная из них — преданность в дружбе. Для друга они все сделают. Даже больше, чем все.
Вечером началась гроза. Александр и Сбыслав лежали на попонах в наспех поставленном походном шатре. Вспышки молний на мгновение освещали пространство, оглушительно, с долгими перекатами рокотал гром, от ливня сотрясались полотнища.
— Чего примолк? — спросил князь.
— Мощь слушаю. Я ведь в степях вырос, здесь грозы пострашнее северных. Но я их люблю. Может, потому, что не пугал никто. Меня ведь воины вырастили. Отец нянчил да пеленал, а Чогдар кобыльим молоком выпаивал. Кобылицу для меня отдельно держали, и, отец рассказывал, я к ней сам подползал, когда есть хотел. А она ложилась и вымя подставляла. Как-то горячка схватила, так дядька Чогдар меня татарским способом на ноги поставил.
— Что за способ?
— Кровь с молоком.
— То-то ты краснеешь, как девица, — усмехнулся Александр. — Прямо как мой Андрей.
Гонца выслали заранее, а за два поприща до Баты-ева становища их встретил конный татарский отряд. Он был небольшим, и командовал им даже не чербий, а какое-то совсем уж лицо незначительное, больше похожее на чиновника, чем на войскового командира. Он спешился первым, с почтением поклонился Невскому и вполне сносно пояснил по-русски:
— Я послан встретить тебя, князь Невский, чтобы проводить в отведённую тебе юрту. Завтра утром тебя примет сам Бату-хан, но твоим людям запрещено покидать отведённое для них место.
— Со мною — мой толмач.
— Толмач есть твои уши и твои слова. Чиновник ещё раз низко поклонился, сел в седло и неторопливо двинулся в сторону от дороги. Татары молча пропустили скромный обоз Невского и последовали за ним то ли в качестве конвоя, то ли в качестве почётного сопровождения.
— Бату ещё раз напоминает тебе о смирении, князь, — тихо сказал Сбыслав. — Придётся потерпеть.
— Надо мной ливонцы меч занесли, — сквозь зубы процедил Александр. — Выдержим и это… Федор.
Они объехали огромное, беспорядочно разбросанное становище и оказались возле двух юрт, меньшая из которых выглядела весьма привлекательно. Возле входа в неё было воткнуто копьё с привязанным к нему конским хвостом, почему-то выкрашенным в ярко-красный цвет.
— Бунчук не забыли — и то слава Богу, — заметил Сбыслав.
— А почему он крашеный?
— Знак того, что жители этой юрты находятся под особым покровительством самого хана.
— Здесь вы будете жить, пока хан не соизволит отпустить вас, — сказал толмач. — Завтра утром я приеду за тобой, князь Невский.
Но до утра было ещё далеко. Князь и Сбыслав едва успели помыться и привести себя в порядок, как в юрту вбежал взволнованный Савка:
— Татары! Давешний толмач со слугами… Толмач вошёл без приглашения, с почтением поклонился у входа:
— Хан повелел снабжать тебя едой со своего стола. И тотчас же слуги внесли два серебряных блюда с дымящимся мясом, два серебряных кувшина, два кубка и — отдельно — деревянный поднос с кусками холодного мяса.
— Личный дар тебе, князь Невский, от царевича Сартака.
Ещё раз поклонившись, толмач попятился на три шага и вышел вслед за слугами.
— Это — честь, — сказал Сбыслав — Не зря дядька Чогдар им о Невской битве рассказывал — Он отрезал кусочек мяса с деревянного подноса, попробовал. — Молочная кобылятина Вяленая, копчёная и ещё какая-то. Вкусно.
— А в кувшинах что? Кумыс?
— Кумыс в кувшины не наливают — Сбыслав плеснул в кубок. — Вино, Ярославич.
— Венгерское, — определил Александр, попробовав. — И кувшины с кубками венгерские. Ханская добыча из последнего похода. Садись, Федор, пировать будем.
— Доброе вино, — оценил Сбыслав, с удовольствием осушив кубок. — Если Сартак будет присутствовать на твоей встрече с Бату, одари его чем-нибудь
— Чем?
— Не знаю. Ты — воин, и он — воин, сам подумай. Но — надо, Ярославич Бату в Сартаке души не чает, мне Чогдар рассказывал.
Утром за Невским приехал не толмач, а молодой, стройный монгол в богато расшитой одежде и при сабле, ножны которой были щедро украшены драгоценными камнями Вошёл в юрту, с достоинством склонил голову перед князем и даже представился:
— Неврюй.
— Тёмник Неврюй, — тихо пояснил Сбыслав. — Любимец Бату-хана Велит следовать за ним
— А дары?
— Он просит поручить доставку даров твоему человеку. Куда и как доставлять, скажет его человек
— Доставишь дары, Савка, — сказал князь. — Поясни Неврюю, что Савка — мой оруженосец. И что мы готовы предстать перед ханом.
Неврюй, улыбнувшись, что-то сказал.
— Ты забыл меч, князь Невский, — буквально перевёл Сбыслав. — Должно быть, оружие охране сдавать положено.
У входа их ждали кони. Не свои, а монгольские, по-иному подседланные, с наборными уздечками. Каждого коня держал под уздцы коновод-татарин, пока Невский, Неврюй и Сбыслав садились в седла. Неврюй первым тронул своего коня, за ним последовали князь и Сбыслав, а татары-коноводы замыкали кавалькаду.
Ехали шагом мимо беспорядочного нагромождения юрт, которому ещё только предстояло стать столицей Золотой Орды Сараем. Пока это был огромный стан без улиц и переулков, наполненный гамом, собачьим лаем, блеянием овец и детской беготнёй. Но все как-то вдруг расступилось, и они выехали на просторную площадь, окружённую юртами куда более светлого оттенка, чем юрты на окраине. В центре площади возвышался вполне европейского типа шатёр, покрытый золототкаными коврами, а не привычным войлоком, возле входа в который стояла рослая, хорошо вооружённая охрана. Неврюй подъехал к расположенной поодаль коновязи, спешился, бросил поводьч коноводу и жестом указал князю Александру на золотой шатёр.
— Хан Бату ждёт.
Невский и Сбыслав последовали за ним. Стража, пропустив темрика, решительно скрестила копья перед князем, но Неврюй что-то резко сказал, и путь был мгновенно открыт.
— Он сказал: пропустить с оружием, — шепнул Сбыслав, благоразумно оставивший свою саблю в юрте. — Не споткнись о порог.
Оба полотнища входа из плотного шелка золотистого цвета были подняты, и Александр успел заметить, что никакого порога нет, а вместо этого натянут шнур того же золотистого цвета. И старательно переступил через него, высоко задирая длинные ноги.
В шатре было достаточно светло. В центре его стоял самый настоящий золочёный трон, на котором восседал сам Бату, справа от него — тоже в европейском кресле, но пониже — массивный старик в скромном халате, а слева в таком же кресле — молодой человек с коротко подстриженной чёрной бородкой, в богато расшитом золотом темно-зеленом кафтане. Все это вместе успел схватить напряжённый до предела взгляд Невского, едва он переступил через шнур. Сбыслав тут же, подавая пример, упал на колени, но князь, на мгновение задержавшись, вдруг понял, что вся эта троица ждёт сейчас, как поступит он, победитель шведских рыцарей. И встал на одно колено, двумя руками сняв шлем и низко склонив голову.
— Приблизься, князь Невский, — негромко сказал Бату-хан.
Невский поднялся с колена и пошёл, глядя только в глаза Батыя. Успел подивиться их холодной голубизне и остановился за три шага до трона.
— Ты поступил разумно, без промедления исполнив моё повеление. — Бату-хан говорил медленно, чтобы Сбыслав успевал перевести его слова. — Мне известно, что тебе нелегко было это сделать, потому что западные рыцари предприняли новый поход против твоих земель.
— Я сам перешёл в наступление, великий хан… Бату коротко рассмеялся:
— Я ещё не великий хан и ты ещё — не великий князь. Но как знать, как знать. Враги почувствовали твою силу?
— Я копьём взял их крепость Копорье, повесил изменников и привёл пленных рыцарей в Новгород.
— У тебя большие потери?
— Один раненый.
— Один раненый?… — Бату не смог скрыть удивления — Это — пример для тебя, Сартак. Достойный и славный пример. Садись рядом с моим сыном, князь. Вы — ровесники, а ровесникам всегда есть о чем поговорить. Неврюй, подай кресло князю Невскому.
Тёмник молча принёс кресло. Невский поклонился хану, прошёл к креслу и сел рядом с царевичем. Они посмотрели друг на друга, и Сартак первым широко и дружелюбно улыбнулся.
Сбыслав тут же перешёл за князем, став за его плечом. Он старался переводить не только слова, но и интонации. Безукоризненность его языка не могла не обратить на себя внимания Батыя.
— Твой толмач говорит на нашем языке правильнее, чем многие из моих монголов. Он заслужил, чтобы ты представил его мне.
— Он не только толмач, хан Бату, он — мой друг и доверенное лицо. В битве на Неве он отличился дважды, за что я пожаловал ему золотую цепь. Зовут же его Фёдором. Он — сын знаменитого воеводы Яру-на, скрестившего свой меч с саблей великого полководца Субедей-багатура в битве на реке Калке.
Тяжеловесный старик, сидевший по правую руку хана, довольно крякнул, и Александр понял, что не ошибся. Он уже догадался, кто может сидеть на столь почётном месте, и говорил больше для него, чем для Батыя, помня особые наставления своих дядек-советников.
— Великий Субедей-багатур перед тобой, князь. Невский стремительно встал, прижал руку к сердцу и низко поклонился могучему старику.
— Молодость пролетает, как стрела, пущенная туго натянутой тетивой, — сказал Субедей-багатур. — Но эта стрела редко попадает в цель, потому что молодость не знает своей цели. Я прожил длинную жизнь, но впервые вижу молодую стрелу, которая дважды поразила цель. И я очень рад, что дожил до этого дня.
Невский ещё раз встал, чтобы поклониться старому полководцу, но стремительность его на сей раз была столь велика, что меч ударил Сартака по колену.
— У тебя тяжёлый меч, — улыбнулся царевич, потирая ушибленное место.
— Этот меч был со мной в Невской битве, — мгновенно нашёлся Александр. — Именно им я' поразил ярла Биргера в лицо во время нашего поединка. — Он отстегнул меч и двумя руками протянул его Сарта-ку. — Позволь подарить его тебе, царевич Сартак, в знак нашего знакомства и, надеюсь, нашей прочной дружбы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Батый задержал Александра Невского ровно на три дня. Уже в первый день начались послеполуденные пиры, на которых перед князем непременнейшим образом ставили серебряный кувшин с вином, но Невский столь же непременнейшим образом поднимал первую чашу с кумысом, желая здоровья и благополучия хозяевам, и лишь после этого переходил к вину. Поступал он так не из лести, а из желания убедить Батыя в своём искреннем уважении к обычаям грозных владык степей, которым вынужден был, равно как и его отец, платить обременительную десятину с дыма и стад, с лесов и рек. Но твёрдо решил ни о чем не просить, отлично понимая, что просящий всегда сгибает спину. Он ждал деловых переговоров, на которых вполне могла бы появиться возможность намекнуть на трудности разорённых земель, вынужденных вести тяжёлую войну с могучим Ливонским орденом. Но вместо переговоров шли беседы о битвах и воинском мастерстве, о русских и татарских обычаях, об оружии и лошадях, о степях и лесах.
На вторую ночь ударил ощутимый мороз: гроза, которую пережидали в походном шатре Александр со Сбыславом, оказалась прощальной. На степь надвигалась зима, первый ночной морозец положил травы, и Сартак с разрешения Бату-хана пригласил Невского на охоту.
— Не целься в молодых птиц, — предупредил Сбыслав.
Он и тёмник Неврюй — как выяснилось, друг детства Сартака — были приглашены тоже, но ехали чуть позади князя и царевича, соблюдая дворцовый этикет. За ними на почтительном расстоянии следовали ловчие, слуги и небольшая отборная охрана.
В отличие от молчаливого отца Сартак был весьма разговорчив, а главное, на редкость искренен. Ему чрезвычайно нравился Невский — ровесник, добившийся похвалы самого Субедей-багатура! — а потому он болтал, расписывая красоты прижатой морозом степи. Александр понимал лишь отдельные слова, которые его заставил вызубрить Сбыслав. Это ставило князя в зависимое положение, чего он совершенно не выносил, а потому и спросил вдруг разболтавшегося царевича:
— Ты говоришь по-кыпчакски?
Он имел в виду половецкий язык, но сознательно назвал половцев их родовым, а не русским именем (русские называли этих пришлых степняков половцами за цвет их волос, напоминающий полову), чтобы не поминать монгольских врагов всуе.
— Говорю! — с радостным удивлением сказал Сартак. — Его понимают все татары, а мне приходится отдавать им повеления.
— Вот и давай беседовать на их языке.
— Откуда ты его знаешь, князь Александр?
— Моей бабкой была половчанка. В наших землях шла тогда большая смута, каждый князь воевал только за себя и за свой удел. Потому-то и брали в жены половчанок, чтобы заручиться поддержкой сильных половецких ханов.
— И вера во Всемогущего Бога не препятствовала этому? — спросил, помолчав, Сартак.
Невский сразу уловил тон, каким царевич произнёс эти слова: в нем прозвучало христианское почтение. И не удержался от удивлённого взгляда. Сартак поймал его, положил руку на колено Александра, сказал приглушённо:
— Я — сторонник несторианского учения. Мы считаем православных еретиками, но тебя, Александр, это не касается. Ты — пример для меня не только потому, что так сказал мой отец.
— Постараюсь оправдать, царевич…
— Никаких царевичей и никаких князей! — решительно перебил Сартак. — Я — Сартак, ты — Александр. Мы — ровесники и друзья.
И поскакал вперёд, застеснявшись внезапного взрыва искренности. Невский догнал его, некоторое время ехали молча.
— В Ясе твоего великого прадеда сказано об уважении ко всем богам. А наши церкви и монастыри обложены десятиной.
— Я — чингисид и чту Ясу превыше Библии. Эта досадная ошибка будет исправлена. Церкви, монастыри и все священнослужители будут освобождены от всех налогов.
Сартак говорил, строго глядя перед собой и ни разу не назвав князя просто Александром. Невский понял, что он все ещё ощущает досаду от своего искреннего порыва. А может быть, не досаду, а сожаление? Как бы там ни было, а пока следовало помолчать, предоставив царевича собственным размышлениям.
Но молча ехать, по счастью, пришлось недолго. То ли Сартак чересчур углубился в собственные думы, то ли князь оказался более внимательным, но именно он первым заметил тяжёлый взлёт двух взрослых, откормленных дроф. И требовательно протянул руку:
— Лук! Лук и стрелу!
Несколько обескураженный царевич безропотно исполнил просьбу. Александр наложил стрелу, вскинул лук, прицелился и натянул лук по-монгольски…
— Отец! — восторженно закричал Сартак, вбегая в шатёр. — Александр Невский умеет стрелять по-нашему! Он одной стрелой поразил дрофу!…
В шатре в ожидании молодёжи сидели Бату и Субе-дей-багатур. Радостно взволнованный царевич умчался снимать охотничье снаряжение и готовиться к пиру.
— Ты был прав, учитель, посоветовав поближе познакомиться с Невским, — сказал Бату, тёплой улыбкой проводив сына. — Каждый день мы открываем в нем новые и весьма приятные черты.
— Постарайся прожить подольше, хан, — с неожиданной угрюмостью проворчал Субедей-багатур.
— Ты опять заговорил загадками.
— Я всегда говорил тебе правду. И сейчас скажу, хотя эта правда тебе очень не понравится.
— Так говори.
— Невский очень умен, — основательно подумав, сказал Субедей-багатур. — Если бы он был монголом, к его имени непременно добавили бы прозвище сэ-чэн. Александр-сэчэн.
Советник замолчал. Молчал и Бату: «сэчэн» по-монгольски означало «мудрый», и здесь было над чем призадуматься.
— Ты ещё не закончил разговор, учитель.
— Горячую кость обгладывают неторопливо, хан. Сартак отважен, искренен, порывист, но — простоват. Александр-сэчэн; уже объездил его, осталось лишь перехватить поводья. Так что живи подольше, хан Бату.
Бату долго молчал, хмуро сдвинув брови. Сказал, спрятав вздох:
— Я не властен над собственной смертью, учитель. Я властен над жизнью и смертью любого из моих подданных. Если в этом твоя загадка…
— Не в этом! — с неожиданной резкостью перебил старый полководец. — Ты спешишь по проторённой дороге, это легко, но бессмысленно. Тебе нужно искать друзей рядом с собой, пока враги далеко. Да, в твоей власти убить Невского, но я ничего глупее не слышал за всю свою долгую жизнь. За Невского поднимется вся Русь, и ты окажешься меж двух жерновов, которые сотрут тебя в пыль. Ответь мне, кто не смеет выдернуть поводьев из чужих рук?
— Сын у отца, — неуверенно сказал Бату.
— Сын у отца, — подтвердил Субедей-багатур. — Вот загадка, которую придётся решать.
— Как?! — выкрикнул Бату, подавшись вперёд. — Как, старик, можно решить загадку, которую решить невозможно?
— Невский мудр, но не способен на хитрость, потому что выше любой хитрости. Рассудителен, потому что понимает, куда именно клонит собеседник, уже в начале беседы. Благодарен, потому что слишком горд для того, чтобы просить. Исполнен искреннего почтения к старшим, потому что очень силён сам.
Бату насторожённо молчал.
— Наконец, он очень любит своего отца.
— Все сыновья любят своих отцов, — проворчал хан. — Это естественно, но какой вывод должен сделать я?
— Оскорбление отца больше личного оскорбления. Благоразумно было бы не унижать князя Ярослава повелением прибыть с изъявлением рабской покорности.
— Мои рабы не должны знать исключений! — резко сказал Бату.
— Сделай вид, что ты про него забыл, — осторожно подсказал Субедей-багатур. — Он удивится, встревожится и приедет на поклон сам.
Бату, размышляя, медленно кивал головой.
Вечером был прощальный пир, а на утренней заре Невский выехал домой. Его провожали Сартак с Не-врюем и сотней гвардейской стражи Бату-хана. И опять князь с царевичем ехали впереди, опять Сартак болтал ни о чем, а Александр лишь поддерживал беседу, недоумевая, до какого же предела их решили провожать с таким почётом.
Рубежом оказались две новые юрты из серого армейского войлока, расположенные прямо подле дороги. Перед той, что была побогаче и повмести-тельнее, стоял бунчук с соловым конским хвостом. Четыре дня назад, когда Александр проезжал по этим местам, никаких юрт здесь не было, и это его удивило.
— Отец повелел продолжить ямской путь до стольного города великого князя Ярослава, — улыбнулся Сартак. — На каждом перегоне гонцы смогут менять коней, а посольства и торговые караваны укрываться от непогоды. Это ещё более сблизит нас, Александр.
— По твоей просьбе, Сартак? Прими мою благодарность.
— Гонец, исполняющий мою просьбу, обгоняет тебя на три перегона, и ты узнаешь о ней по приезде. Мысль о ямской дороге подсказал отцу Субедей-багатур. Такому полководцу, как князь Невский, не следует терять время попусту, сказал он.
— Я воспользуюсь этой дорогой, как только вышвырну ливонских рыцарей из наших земель.
— Буду ждать тебя с победой. — Сартак опять улыбнулся, но на этот раз с некоторым смущением — Федор научил меня двум русским словам. До свидания, Александр.
Прощальные слова Сартак произнёс по-русски с немыслимым акцентом И Невский повторил их:
— До свидания, Сартак.
На этом они тогда и расстались. Сбыслав получил от Неврюя богато отделанную саблю, а Сартак лично надел князю на безымянный палец дорогой перстень с изумрудом. Это Александра несколько расстроило, потому что оружие он любил несравненно больше драгоценностей, но Сбыслав все объяснил:
— Ты же вручил ему боевой меч, князь.
— Ну и что? Вполне естественно отдарить меня тем же.
— Естественно для нас, но не для монголов. Обмен оружием — начало обряда побратимства.
Обратный путь проделали куда быстрее, потому что не связывал обоз. Пустые телеги плелись, как могли, а князь со Сбыславом, Савкой и небольшой охраной гнали, сколько выдерживали кони, потому что ямской путь ещё не достиг Владимира. Здесь уже стояла зима, на поля лёг снег, и, въехав в родные места, все придержали коней и торжественно перекрестились.
— Заедем к отцу, попаримся — и в Новгород.
— Даже сына не навестишь?
— Недосуг мне, Сбыслав, — вздохнул Невский. — Этой зимой Псков брать надо.
Князь Ярослав настолько обрадовался благополучному возвращению сына, что и от слезы не удержался. Смахнул её с бороды ладонью, улыбнулся смущённо:
— Старею, сын. Что сперва — баню или пир?
— Баню, батюшка. Грехи смыть.
— А может, потом попаришься? — В глазах великого князя светилось что-то радостное, уже не имевшее отношения к возвращению сына. — Есть за что полные кубки поднять.
— Что-нибудь из Новгорода? — оживился Александр.
— В Новгороде вроде все в порядке, но не оттуда нежданные вести пришли. От Батыя два гонца друг за другом пожаловали.
— Ну, с этим и обождать можно. Гони нас в баньку, отец!
Баня ждала: как раз с этого дня Ярослав велел топить её круглосуточно. Парились долго, с огромным удовольствием, поддавая парку и нещадно хлеща друг друга вениками. Но как ни шумно, как ни весело было, Александр все время думал о странной радостной искорке, которая светилась в глазах отца, гадая, с чем приятным мог прислать гонцов хан Батый.
Все разъяснилось на пиру. Подняв первый кубок, как положено, за счастливое возвращение, Ярослав тут же велел заново наполнить их, с долей добродушного лукавства поглядев на сына.
— А ты не зря в Орду съездил.
— Не томи, батюшка.
— Два гонца — два известия. С какого начинать?
— В том порядке, в каком гонцы приезжали. Невскому нужна была последовательность явно приятных новостей, чтобы попытаться понять ход мыслей Батыя. Этим он хотел проверить свою собственную способность вести государственные переговоры, которые, кстати сказать, вёл впервые в жизни, и опыт мог пригодиться.
— Хан Батый освободил мои и твои земли от десятины на все время войны с ливонцами! — торжественно возвестил Ярослав. — Так что, сыны мои дорогие… — Великий князь запнулся, но никто и бровью не повёл, приняв это обращение, как обращение старшего к младшим. — Не зря вы, значит, к самому дьяволу в пасть залезли. Вот за вас и выпьем до дна кубки свои!
И, подавая пример, лихо, как в молодости, осушил кубок до дна да ещё и перевернул его.
— Добрая новость, батюшка, — улыбнулся Александр, подумав, что о ней совсем не следует знать новгородцам, а особенно — Совету господ. — Ну а вторая в чем?
— Закуси сперва, — усмехнулся Ярослав. — За это время кубки наполнят. Сбыслав, ты что это на капусту навалился? Мясо, мясо молодому есть надо, плечи для меча крепить!
— Мясом нас татары обкормили, — сказал Сбыслав. — А вот капустки у них нет, великий князь.
— И второй гонец с доброй новостью прискакал. — Ярослав поднял заново наполненный кубок — С повелением Батыя освободить церкви, монастыри и всех священнослужителей от всяческих поборов.
— Сартак! — неожиданно для самого себя громко сказал Невский. — Вот, стало быть, каков подарок его… Мы на этом подарке, батюшка, не только Церковь поднимем, но и к себе привяжем покрепче. И будет стоять Русь православная, как утёс в море, и никакая буря ей не страшна станет!…
В Новгороде их ожидали тоже добрые новости. Гаврила Олексич с княжеской дружиной Невского отбил Изборск, Домаш Твердиславич с новгородцами взял Тесов, а Миша с только что сколоченной из псковичей, ладожан, ижорцев и новгородских добровольцев второй дружиной гонял разрозненные ливонские отряды, рассудив, что бои, стычки да преследования — лучший способ обучения. Об этом с радостью доложил Домаш, потому что Олексич был чем-то явно озабочен и особого оживления не выказывал.
Как ни странно, князя скорее озадачила, чем обрадовала эта череда приятных известий. Он не был суеверным, но странная пассивность ливонцев его насторожила. «Значит, к Пскову стягиваются, — думал он. — Там кулак соберут, чтобы меня под стенами встретить и потрепать перед решающей битвой». Но о своих соображениях никому не сказал, решив сначала все разузнать у Якова Полочанина в личной беседе.
— Обоз с оружием, что в Копорье отбили, в Новгород пришёл?
— Пришёл, Ярославич, — сказал Домаш. — А с обозом — семь десятков чуди под командой Урхо. Миша их в свою дружину забрал.
— Не зря, значит, я ему поверил, — усмехнулся Александр. — Вели, Домаш, пир готовить.
На пиру Невский рассказал о поездке в ставку Батыя, а Домаш — о подробностях битвы за Тесов. Гаврила Олексич о взятии Изборска говорил мало и без особой охоты. Но было шумно и весело, поздравляли друг друга с удачами, и озабоченность Олексича заметил только Сбыслав. Встревожился и, выбрав удобную минуту, спросил с глазу на глаз:
— Что с Марфушей?
— Пока ничего, но… — Гаврила вздохнул. — Похоже, в монастырь пожитки собирает. Может, оно и к лучшему. Не знаю пока. Сам ещё не разобрался.
— Обидел её? — нахмурился Сбыслав.
— Нет. — Олексич помолчал, прикидывая, стоит ли рассказывать, но поделиться хотелось. — В Из-борске ливонцы заложников держали. И среди них — вдова боярская с дочерью: мужа у неё рыцари на кресте распяли, когда он в их веру перекрещиваться отказался. На глазах у жены и дочери. Псы — одно слово. Ну, я их решил к Марфуше отвезти: усадьбу у них спалили, родных нет, достатка тоже. И страшного натерпелись превыше сил человеческих. — Он вздохнул. — А зима, бездорожье, путь неблизкий, и… — Он вдруг улыбнулся. — легла мне на сердце дочь боярская, Сбыслав. Худа была, одни глазищи в пол-лица. И улыбаться разучилась, думал, что навсегда. А при расставании улыбнулась вдруг, и будто теплом меня обдало, Только от Марфуши ничего не скроешь. Я — обратно, в Изборск. Отряд там организовал для самообороны, два десятка дружинников оставил и — назад, в Новгород с пленными и захваченным оружием. И — сразу домой. Глянул: оттаяла моя Несмеяна. И порозовела, и улыбается. А вечером мне Марфуша и говорит: «Вот твоя половиночка, братец ты мой дорогой. Сыграем свадебку, и уйду я в монастырь с лёгкой душой. Грех свой великий замаливать…»
— Грех?… Какой грех, какой? — с отчаянием спросил Сбыслав.
— Неужто не знаешь? — искренне удивился Олексич. — Так ведь любовь у них была с князем Александром. А ему отец на Брячиславне Полоцкой жениться велел…
Этот разговор состоялся, когда Невский уже ушёл, а пир замирал, увядая в хмелю. Вместе с князем ушли и Ярун с Чогдаром, сославшись на усталость, а на самом-то деле — чтобы побеседовать с Александром по душам. Доложили, что ополчение готово и уже обучается, что лучшие стрелки из лука отобраны придирчивым Чогдаром. А потом потребовали, чтобы князь подробно рассказал о каждом дне в ставке Батыя, не упуская никаких мелочей.
— Выходит, выделили тебя с великим князем Ярославом из всех удельных князей, — сказал Ярун с явной озабоченностью. — И десятину отменили, и Церковь особо отметили. Почему так сделано, анда? Чингисиды зазря и в глаза-то не глянут. Может, стравить нас с другими князьями да княжатами хотят?
— Говоришь, с мечом тебя к Бату-хану пропустили? — ещё раз уточнил Чогдар.
— Я хотел в юрте его оставить, но тёмник Неврюй напомнил мне, чтоб непременно меч с собой взял.
— Значит, это заранее решено было. Такая честь оказывается только особо уважаемым полководцам, — продолжал неспешно размышлять Чогдар. — И огнями при входе не очищали?
— Нет, прямо в шатёр провели. Шатёр Батый из Венгрии привёз. Шатёр и трон венгерского короля. И даже вино предложили, но я по твоему совету, дядька Чогдар. с кумыса начал.
— Правильно сделал. Монголы любят, когда гость уважает их обычаи Чингисхан требовал ссорить между собой покорённые народы, а Субедей-багатур делать это умеет. Нет, похоже, что здесь — другой замысел. Похоже, что Бату-хан очень нуждается сейчас в союзниках. А это может означать, что…
Чогдар неожиданно замолчал. Невский и Ярун выжидательно молчали тоже, отлично понимая, что только Чогдар знает таинственную душу завоевателей и может дать наиболее верное толкование всей цепочке их неожиданных поступков.
— Много юрт вокруг ханского шатра? — неожиданно спросил Чогдар.
— Очень много. Стоят кое-как, будто их из горсти высыпали, — сказал Невский. — Ни улиц, ни проулков, а народу — тьма.
— Будут там и улицы, и проулки, — усмехнулся Чогдар. — Думается мне, что Бату отводит свои войска из западных стран, несмотря на приказ великого хана Угедея пробиваться в глубь Европы. А неисполнение повеления великого хана карается смертью, от которой не спасает даже родство с самим Чингисханом. В каком случае можно рискнуть и не исполнить повеления великого хана? Только в одном: когда великого хана уже нет в живых.
— Ну, это только предположение, Чогдар, — усомнился Ярун. — Тут ещё бабушка надвое сказала.
— Вероятное предположение, весьма вероятное, — сказал Невский. — Батый собирает вокруг себя все свои силы. С какой целью он так делает, Чогдар?
— Если Угедей и вправду умер, то через пять лет на курултае будет избран новый великий хан. Бату — любимый внук Чингисхана, но его отца Джучи не любила армия, и в конце концов ему сломали хребет. И сделано это было по настоянию тех самых ветеранов, которые подпирают трон великого хана в Каракоруме. Они не позволят провозгласить Бату новым великим ханом, потому что боятся за собственные жизни. Смерть отца должна быть отмщена. Что тогда делать Бату? Искать союзников, что он и начал делать. Я размышлял, идя от конца к началу, от следствий к причине, и тебе, князь Александр, судить, насколько мне это удалось.
— Я очень благодарен тебе, дядька Чогдар. Как по-твоему, какими силами располагает Батый?
Чогдар пожал плечами:
— Бату-хан воюет шесть лет. Он пополняет свою армию за счёт покорённых им народов: ты сам говорил, что большинство уже говорит по-кыпчакски.
— Так мне сказал Сартак.
— Он сказал правду. В армии Бату-хана стало очень много заволжских тюрок: мы с Яруном столкнулись с одним из них. Только не сделай из этого вывод, что можно поднять восстание.
— Мне тоже нужны союзники. Католические рыцари куда опаснее для Руси, чем осевшие в степях татары, с которыми, как выяснилось, можно не только говорить, но и торговаться. — Александр встал. — Вы очень помогли мне сегодня. Очень. Идите почивать, мне предстоит ещё одна беседа.
— Мало спишь, Ярославич, — посетовал Ярун. — Гляди, не загони себя раньше времени.
— Надо, дядька Ярун, надо, — вздохнул Невский. — Ливонцы — враг нешуточный.
Советники вышли, и тут же в двери заглянул Савка.
— Пришёл?
— Ждёт.
— Зови. Вина подай да еды, какая под руку подвернётся. Проголодался я что-то.
— К вину ветчина хорошо идёт, Ярославич.
— Давай, давай.
Савка приоткрыл дверь, разминулся на пороге с Яковом Полочанином.
Яков был на пиру, поднял первый кубок и тут же ушёл, сославшись на срочные дела. Пока Савка накрывал на стол, он и Александр перебрасывались ничего не значащими словами, но как только Савка управился со своими обязанностями, князь сразу же отпустил его. И Савка вышел, с особой тщательностью прикрыв за собою двери.
— Рассказывай, Яков.
— Троих мне удалось просунуть в Псков, хотя щёлочка была узенькая. Один — по торговой части, двое пристроились при Твердиле. Люди надёжные, смотреть и слушать умеют.
— Как передают, что видят и слышат?
— Через торговца.
— И что именно?
— Выделю главное, Ярославич. Первое: войска ли-вонцев стягиваются к Пскову, а в лоб его не взять. Второе— сильно лютуют рыцари. Церкви какие позакрывали, в каких конюшни устроили. Народ бурлит внутренне, в голос побаиваются. Но до времени все.
— До времени не давай им подниматься, — строго сказал Александр. — Время я укажу.
— Такой наказ я уже отдал. Один из моих людей завёл знакомство с воротниками. Пока приглядывается, прощупывает их. Если все будет ладом, сговорит ворота тебе открыть.
— Вот за это выпить стоит, — сказал князь, наливая кубки. — Ты ешь, Яков, попировать от души нам с тобой не удалось сегодня.
— Ничего, Ярославич, мы ещё попируем. Мы попируем, а враги наши кровавыми слезами умоются.
— Ты чего-то осерчал, Яков.
. — Полоцк литовцы взяли. Твой тесть, а мой родич князь Брячислав в сечи пал. Только сегодня узнал об этом…
Никогда ещё в короткой жизни Сбыслава не было такой мучительной ночи. Бессонница сменялась короткими провалами забытья, которые не приносили облегчения, переполненные кошмарами и видениями Он впервые испытывал тупую, безнадёжную боль в сердце, впервые понял, что такое отчаяние, впервые ловил себя на мысли, что ненавидит Невского, и тут же испуганно гнал эту мысль. Он не был религиозным, поскольку вырос среди воинов, не умевших молиться, а лишь исполняющих необходимые обряды, да и то кое-как, и не знал, как получить облегчение в откровении. Он страдал, метался и маялся, потому что физически ощущал, сколь дорога ему Марфуша, ныне уходящая от него навсегда.
Его кумир, вождь, друг и живой, зримый пример князь Александр Невский оказался причиной гибели всех его юношеских надежд и тайных мечтаний. Оказался обманщиком чистой, бесхитростной девушки, отдавшей князю свою святую первую любовь, вручившей ему не только своё сердце, но и своё будущее, свою честь да и саму жизнь свою Сбыслав не желал разбираться в далёких от его забот отношениях между князем-отцом и князем-сыном, не желал задумываться над политическими расчётами владетелей, не желал признавать, что и сама-то первая любовь князя Александра могла оказаться всего-навсего юношеским увлечением, не желал понимать, сколь часто власть имущие оказываются рабами сложившихся обстоятельств, что они куда менее свободны в своих поступках, чем последние среди их подданных. Ничего он не желал понимать, потому что с обострённой болезненностью переживал крах собственной первой любви. И чувствовал, что должен исчезнуть из Новгорода, в котором пока ещё жила Марфуша, и с глаз Невского, который сломал её жизнь.
— Отпусти меня к своему брату Андрею, князь Александр.
— Ты мне нужен здесь, Сбыслав.
— Андрею я нужен больше, чем тебе. Никогда ни о чем не просил, князь Александр, а сейчас — Богом прошу.
В пустых, словно отсутствующих глазах Сбыслава, в напряжённом тоне его голоса было что-то настолько незнакомое, что Невский решил не настаивать. Однако он не привык, чтобы ему перечили, а потому сразу же отыскал причину для собственного отступления:
— Добро, отпущу. Только ты сначала заедешь в Пе-реяславль и от моего имени прикажешь, чтоб ни словечком не обмолвились Александре, что князь Брячи-слав погиб. Отец мне говорил, что она после родов до сей поры в себя прийти не может.
Сбыслав тут же выехал, объяснив Яруну, что исполняет повеление Невского. И всю дорогу с непонятым самому себе злорадством думал о том, что едет если не к виновнице Марфушиного безутешного горя, то уж, во всяком случае, его причине. А приехав, с княгиней видеться не стал, но ближней её боярыне сказал, что князь Брячислав погиб. Боярыня заголосила, запричитала, а Сбыслав вскочил на коня и помчался к князю Андрею. И всю дорогу был весьма доволен своей утончённой местью.
Пожалел он о ней потом. Когда умерла княгиня Александра.
Но это несчастье случилось не вдруг и не сразу, а потому и не помешало Невскому со всей свойственной ему решимостью готовиться к взятию Пскова штурмом. «На копьё», как тогда говорили. Решимость объяснялась долгими тщательными размышлениями, итог которых он и сообщил ближайшим соратникам:
— Ливонцы уже стянули и продолжают стягивать в Псков все силы. И нам надо вытянуть их оттуда. Бери обе новгородские дружины и иди в Ливонию, До-маш. Жги их замки, которые послабее, вешай фогтов, изменников, перебежчиков и рыцарских прикормы-шей беспощадно. И — вперёд, вглубь, пусть решат, что ты в их земли мстить пришёл. Тогда за тобою бросятся: добро-то спасать надо. Подпусти, жаль, как Чогдар советует, но в битву не ввязывайся. Уводи их от Пскова подальше. Понял задачу?
— Нагнать страху и оттянуть от Пскова войска, Ярославич. Когда оттяну и запутаю, поспешать к вам.
— Верно, Домаш. Ступай и не медли. — Невский обождал, когда новгородский воевода выйдет, и продолжил: — Гонца — к Мише. Пусть ведёт свои отряды к Пскову, только без лишнего шума. Готовь мою дружину, Гаврила Олексич. К Пскову сам её поведу.
— Двумя дружинами Псков взять надеешься? — спросил Ярун. — Гляди, Ярославич, маловато сил у тебя для такого города.
— Тремя, — уточнил Александр. — К тому времени Домаш подойдёт.
А сам подумал, что взял бы и двумя, если бы лазутчики Якова вовремя открыли ему ворота.
— Главная наша сила — быстрота, решительность и внезапность. Всех подозрительных задерживать, всех явных разведчиков вешать немедленно. И с виселиц не снимать! Пусть для страха повисят, пока я Псков не возьму.
И так твёрдо сказал, так решительно прозвучал трубный его голос, так грозно сверкнули глаза, что все поняли: Псков будет взят.
А Чогдар — мысли он читал, что ли? — сказал с глазу на глаз:
— Псков ты и двумя дружинами возьмёшь, если перед тобой ворота откроют. Обид много накопилось, а обиды у воинов ярость рождают.
— Верно ли я решил Домаша в Ливонию послать, дядька Чогдар?
— Субедей-багатур как-то сказал, что все полководцы делятся на тех, кто побеждает силой, и на тех, кто побеждает головой, — скупо улыбнулся Чогдар. — Всегда побеждай головой, князь Невский, и равного тебе не будет в Русской земле.
В триединство побед Александра Невского уже верили все его подчинённые — от воевод до рядовых ратников: внезапность, решительность и быстрота. Верили, как верят в удачливого полководца, понимая, что и внезапность, и решительность, и быстрота зависят от каждого, а значит, и сама битва тоже зависит от каждого её участника. Это осознание своего личного вклада в исход сражения сплачивало войска Невского сильнее самой жестокой дисциплины, даже той, которой славилась монгольская армия: каждый воин проникался уверенностью в собственных силах, ощущал плечи соратников и был готов к самым неожиданным действиям противника. И не боялся этого противника, зная, что он, он лично, сильнее, быстрее и решительнее любого врага.
И все любили своего молодого могучего вождя, как ни одна армия тех кровавых и бурных времён.
Странное предчувствие Субедей-багатура обернулось пророчеством, а весть о кончине великого хана Угедея привёз Бату сам бывший советник правителя Монгольской империи мудрый китаец Ючень. Едва войдя в юрту и распластавшись ничком, он громко сказал:
— Ключ иссяк, бел-камень треснул.
Бату— хан не удивился известию о смерти Угедея потому, что с детских лет безоговорочно верил в таинственную прозорливость своего главного советника и учителя. Зато он настолько был поражён появ-» лением советника покойного великого хана, что не удержался от вопроса, который ему, внуку Чингисхана, задавать было неуместно:
— Что заставило тебя, советник, передать мне весть, для которой сгодился бы любой сотник?
— То же, что, я надеюсь, удержит тебя, хан Бату, от поездки в Каракорум на курултай.
— Ты боишься, что Гуюк осмелится поднять руку на лучшего и проверенного помощника его отца?
— В этом у меня нет ни малейших сомнений, хан Бату. Твой улус далеко от палачей Гуюка, а кроме того, ты — любимый внук великого Чингиса, и цвет твоих глаз обещает тебе великую силу и великую власть.
Именно об этом без устали толковала Бату его любимая жена Баракчин-хатун, мать Сартака. И это поразило хана больше, чем появление Юченя. Он лично наполнил его чашу кумысом и велел послать за Субе-дей-багатуром.
— Отец, Субедей-багатур не в состоянии подняться с ложа, — растерянно доложил Сартак, узнавший эту новость от посланца.
— Он болен?
— Да, отец.
— Надо немедленно идти к нему. — Бату-хан был растерян настолько, что казался испуганным. — Мой учитель не может уйти в иной мир, не дав мне последнего совета…
Субедей— багатур встретил его словами:
— Вызови Чогдара и оставь его при себе. Чогдар умен и хорошо знает Ярослава Владимирского и Александра Невского. В них сейчас твоё спасение, синеглазый внук Чингиса…
Об этих воистину исторических событиях, про-изошедших в огромной и доселе единой Монгольской империи, Невский ничего не знал. А если бы и знал, они вряд ли изменили бы его действия. Он основательно и неторопливо все продумал, принял твёрдое решение и отказываться от него не собирался.
Войска князя Александра быстро стягивались к Пскову, широко разбросав дозоры. Это было новшеством: до сей поры русские полководцы не утруждали себя ни разведкой, ни особым охранением, по старинке ограничиваясь «сторожами», лишь сообщающими о появлении противника. Но и Домаш Твердиславич, и Миша Прушанин, получив строжайший наказ Невского, без колебаний хватали всех встречных, лишая противника сведений о действиях новгородских дружин. А Домаш, вторгшись в ливонские земли, прилюдно и беспощадно вешал немецких старост-фогтов, их наушников и предателей из местного населения, не препятствуя, впрочем, бегству женщин и детей. Не потому, что жалел: на войне — воюют, жалеют после войны, а потому, что эти насмерть перепуганные беженцы разносили слухи, многократно умноженные собственным ужасом.
— По моим сведениям, рыцарские отряды начали покидать Псков, — доложил Яков Полочанин.
— Молодец Домаш. Удалось уговорить псковских воротников открыть нам ворота?
— Все не удастся, но за одни ручаюсь, Ярославич. У каждых ворот — ливонская стража. Её ещё переколоть надо.
— Знаешь, Яков, одни лучше, чем все, — подумав, сказал Невский. — Рыцарям в самом Пскове бой навязать нужно. Улицы узкие, а город — чужой. Во что бы то ни стало пусть откроют мне только центральные ворота. О времени сообщу загодя. И неплохо бы псковичам оружие как-то передать.
— А где его взять, Ярославич? За пару добрых мечей да кольчуг ныне деревеньку отторговать можно, после ливонского погрома татей много развелось. Разбойничают и чудь, и латы, и литовцы, да и сами псковичи из разорённых мест.
— Мечи да лёгкую бронь я тебе дам, Домаш пять саней из Ливонии прислал. Как в Псков это переправить, вот вопрос.
— Это не вопрос, — улыбнулся Яков. — Мой торговый человек в город сено поставляет для рыцарских коней. Туго у них с конским кормом, Ярославич.
— Петлю затянем, ещё туже станет.
Петля для Пскова уже готовилась. На подходе к городу войска шли только в сумерках да ночами, в короткое светлое время отстаиваясь в лесах. Вскоре подоспел и Домаш с новгородской дружиной, своевременно оповещённый гонцами. Расположились на расстоянии ночного перехода, сосредоточившись против трех основных ворот, и Невский велел отдыхать без шума, песен и даже без костров. Удар должен был быть внезапным, а время его требовалось точно согласовать с Яковом Поло-чанином.
А Яков вдруг перестал получать вести от своих лазутчиков, что весьма тревожило его. Встревожился и Невский, но поскольку был человеком действия, решил объехать новгородские дружины вместо бесплодных размышлений. Хотя думал о прервавшейся цепочке постоянно, потому что взять знаменитую псковскую крепость ударом в лоб было невозможно. В неё можно было только ворваться через открытые ворота, что и сделали ливонцы руками предателя Твердилы Иванковича.
У Домаша все выглядело по-хозяйски основательно. Уставшие от боев в Ливонии дружинники отдыхали, точили оружие, латали одежду, ухаживали за лошадьми.
— Каков хозяин, таков и двор, — удовлетворённо отметил Невский.
— Нам передых ко времени, — сказал воевода. — И люди устали, и кони подбились.
— Сено-то есть?
— Овёс есть, — улыбнулся Домаш. — В последнем замке хозяин запасливым оказался, я и прихватил этот запас с собой. Могу, Ярославич, и с тобой поделиться, ежели попросишь.
— Не попрошу, — усмехнулся Невский.
С этой доброй усмешкой он и отъехал в дружину Миши Прушанина. Но усмешка исчезла ещё на подъезде, когда князь услышал звон молота, почуял запах горящих углей и увидел пылающий горн.
— Кузню развернул? — рявкнул он, грозно сдвинув брови.
— Кузня у меня в низинке, никто не углядит, — спокойно пояснил Миша, нисколько не испугавшись княжеского рыка. — Передо мной — речка, снег сдуло, и коли кони поскользнутся, мне пехом поспешать к Пскову придётся.
— А о чем раньше думал, воевода?
— Раньше со мной Урхо не было.
Только сейчас в красноватом свете горна Александр узнал в рослом чумазом, полуголом, несмотря на мороз, кузнеце чудина из Копорья, которому поверил сразу и в котором, как выяснилось, не ошибся. Урхо поклонился ему и вновь взялся за рычаг мехов, раздувая угли.
— При чем тут чудин?
— При том, что в их краях льда больше, чем снега, — терпеливо продолжал объяснять Миша. — И потому они совсем другие подковы куют. Сам глянь, Ярославич.
Он взял из кучи уже готовую подкову, протянул Невскому. Князь внимательно осмотрел её, повертел, тронул пальцами шипы.
— Остры и длинны. Затупятся быстро.
— До Пскова хватит. А конь на льду устойчив и страха не знает. Сам проверял.
Александр молчал, задумчиво продолжая вертеть в руках подкову.
— Скоро ль на Псков поведёшь, Ярославич? — спросил Миша.
— Вестей оттуда нет, — вздохнул Невский. — А без вестей куда же вести? На стены?
— На ворота оно бы сподручнее, — вздохнул и Прушанин.
— Особо — на открытые, — буркнул князь. — Пустой пока разговор, Миша.
— Дозволь, князь, словцо сказать. — Урхо низко поклонился. — Ты мне поверил, а я в тебя поверил, князь Невский. Дозволь помочь чем могу.
— Чем же ты помочь мне можешь?
— Я в Псков пойду. И разгляжу все, и ворота открою, какие укажешь и когда укажешь.
— Да в тебе — добрая сажень росту! — с неудовольствием сказал Александр. — Сразу приметят — и в петлю.
— И хорошо, если приметят, князь. Я у ливонцев год служил, многих кнехтов знаю, даже рыцарей. И по-ихнему говорю. Скажу, что от своих отбился, от новгородцев бегу.
— А если тех встретишь, кого я в Копорье отпустил? — помолчав, спросил Невский.
— В улей не залезешь, так и меду не поешь. Поверь мне, Александр Ярославич. Я себе клятву дал до смерти тебе служить.
— Поехали! — вдруг решительно сказал князь.
— А подковы как же? — оторопел Миша.
— Подковы сам откуёшь, — усмехнулся Невский. — Ишь, какие плечи наел…
К рассвету князь вместе с Урхо, Савкой и двумя личными телохранителями вернулся в свою дружину и велел тотчас же разыскать Якова. Чудина он до времени велел Савке спрятать, а заодно подыскать ему положенное кнехту оружие. А как только появился Полочанин, сразу же рассказал ему о новом лазутчике.
— Скажешь чудину о своих людях. Вместе — сподручнее.
— И хочется, и колется, Ярославич, — вздохнул осторожный Яков. — Он год у ливонцев служил, а ну как опять послужит? И моих людей погубит, и тебе Пскова не видать.
— Мне его и так и так не видать. — Невский помолчал, сказал твёрдо: — Верю я ему. И Миша верит: мы с ним поговорили, пока Урхо копоть с себя смывал. Да и выхода иного у нас нет, Яков. А Псков брать надо, без Пскова я эту войну, считай, проиграл…
Урхо благополучно переправили в Ливонию, где все ещё помнили нашествие новгородцев, хотя они и отошли в свои земли. Засылкой лазутчика кружным путём лично руководил недоверчивый Яков Полоча-нин, который и доложил Невскому об успехе задуманного.
— Наблюдал я за ним, Ярославич, сколько мог. На моих глазах к нему ещё семь кнехтов пристали. Я в кустах хоронился, но видел сам.
Ждать пришлось долго, почти что до Рождества Христова. Морозы стояли настолько свирепые, что Невский был вынужден разрешить костры.
— Только в шалашах и шатрах.
— Угорят, Ярославич, — усомнился Домаш.
— А татары почему не угорают? Потому что над костром в юрте — дырка. Дым вытягивает, а тепло остаётся.
Невский жадно подмечал все полезное не потому, что видел в учении некую самоцель, а потому, что по-иному поступать не мог. Стремление перенести чужой опыт на собственную почву всегда опережало в нем расчётливую оценку: интуиция срабатывала раньше.
Воины его грелись у костров и спали в тепле. Правда, шестеро новгородцев Домаша угорели насмерть, а в Мишиной дружине запылали два шалаша, но люди быстро приладились, обвыкли и уже не мёрзли на лютом морозе. Невский научил своих людей бороться с холодом в тяжких походных условиях, что было чрезвычайно важно для Руси, воевавшей, как правило, только в зимнее время, щадя посевы.
Вести из Пскова пришли, когда никто, кроме самого князя, в них уже не верил: в ночь перед Рождеством. Армия Невского Рождество отмечать не собиралась не только потому, что в ней не было священников, а потому, что сам состав её на две трети был языческим. Завет Христа «не убий» в те времена понимался буквально и никак не сочетался с основной задачей профессионального дружинника. Но Рождество Христово совпадало с днём солнцеворота, древнейшим языческим праздником славян, и к нему — готовились. И мяса раздобыли, и хмельное князь разрешил. Правда, только пиво, но и тому были рады.
— Из Пскова монашек пришёл! — взволнованно прошептал на ухо Яков, ворвавшись в шатёр Невского. — От Белого известия.
Белым они условились именовать Урхо. Поэтому князь без всяких расспросов накинул шубу и вышел вслед за Полочанином.
Монашек в драной рясе был тощ, молод и мал. Присев йа корточки, он грел у костра захолодевшие руки, но тут же встал и низко поклонился, когда вошли Александр и Яков.
— Не вскакивай, грейся, — сказал Невский. — И говори, с чем пришёл да кто послал.
— Послал человек сажённого росту, — как-то особо подчёркнуто ответил монашек, послушно присев у костра. — Велено передать только самому князю Александру Ярославичу Невскому.
— Я — Невский.
Монашек внимательно посмотрел на Якова Поло-чанина, которого, видимо, ему описали точно. Яков кивнул, и только после этого посланец Урхо начал говорить то, что ему было велено.
— С нужными людьми встретился. С воротниками главных ворот договорился. Торговый человек попался с оружием, претерпел все пытки, ничего не сказал и был мученически распят, упокой, Господи, душу его…
Монашек встал, торжественно перекрестился и отдал поклон на восход. Князь и Полочанин перекрестились тоже.
— О семье узнай, — буркнул Александр Якову. — Продолжай.
— Оружие понемногу достают сами Стражу перережут и ворота откроют, когда ты повелишь.
— В Рождество не успеем. — Невский задумался. — Какие ещё праздники отмечают рыцари?
— Праздник Обрезания Господня
— На какое число приходится?
— На шестое января.
— Вот в этот день пусть и открывают. Как только мои трубы услышат. Вели накормить его, Яков. Горячего, горячего дай
— Благодарствую, — монашек поклонился. — Прозяб я сильно А путь неблизкий, во тьме проскользнуть надобно.
— Как ты из Пскова выбрался?
— Протоиерей отец Арсений добрый совет дал. Миро, дескать, у нас кончилось, а как без него богослужение творить? Иуду проклятого Твердилу Иван-ковича пришлось о помощи просить. Уговорил он фогта меня, хилого раба Божия, за миром послать.
— А коли на возврате миро показать потребуют? — спросил Яков
— Так ведь оно у меня с собой, — робко улыбнулся монашек. — Отмолю пред Господом грех сей. Может, отпустит мне его.
— Отпустит — Невский вдруг шагнул к монашку, обнял его, поцеловал в лоб — Ступай с миром.
А вернувшись в свой шатёр, сказал Савке
— Скажешь Гавриле, чтоб немедля точна к Яруну в Новгород слал Пора ополчение к Пскову подтягивать
В ночь на б января Невский выдвинул все три дружины к самому Пскову Взяв на себя центральные ворота, приказал остальным оцепить крепость, а как только ливонцы откроют ворота для бегства, врываться в город и бить врага нещадно, пока оружие не бросит и наземь не ляжет
— Трубить мои трубы будут, поэтому свои оставьте, чтоб ошибки не вышло
Рёв княжеских труб застал рыцарей на заутрене в соборе, превращённом ими из православного в католический. Пока ливонцы соображали пока выбегали из собора да искали своих оруженосцев с лошадьми, Невский уже ворвался в город через распахнутые ворота, и для рыцарей начался воистину ад кромешный Город был враждебным, узкие улочки его вели неведомо куда, и на каждой улице, в каждом переулке ливонцев ожидали засады, завалы, внезапные нападения псковичей, а то и просто жерди, вовремя просунутые сквозь забор под ноги рыцарских коней
Удар был внезапным, стремительным и беспощадным. Семь десятков отборных ливонских рыцарей пали в битвах на узких улочках, множество ратников и кнехтов из чуди и вожан Победители встретились с ликующим народом на вечевой площади в звоне колоколов и восторженных криках псковичей
А Невский задержался, высматривая с седла кого-то среди толп ликующего народа И, увидев сажённую белоголовую фигуру, махнул рукой и спешился
— Прими мой поклон, богатырь, и вечную благодарность. — Он трижды расцеловался с Урхо. — Цепь ты заслужил, а чтоб ждать её веселее было… — Он с трудом сорвал с пальца отцовский перстень и попытался было надеть его на палец Урхо, но перстень никак не влезал.
— Не трудись, Ярославич, я его на груди носить буду. И два богатыря расхохотались столь оглушительно, что вдруг притихла даже шумная вечевая площадь. И взревела ещё оглушительнее, когда князь Александр Ярославич поднялся на паперть собора.
— С победой вас, соратники мои! — Трубный его голос перекрыл шум, все затихли. — Псков свободен, и вы, псковичи, свободны отныне и навсегда!
Вновь ликующе взревела площадь. Невский поднял руку, и шум сразу стих.
— Пленных рыцарей беру с собой — новгородцам показать. А добыча — вам. Отощали вы за время ливонского господства. Пленных фогтов вам отдаю. Сами решайте, что с ними делать.
— На виселицу их!… — дружно ответила плошадь.
— Значит, так тому и быть. Но погодите, успеете ещё повесить.
Князь повернулся к стоящему на коленях Твердите Иванковичу. За ним услужливые псковичи поставили и его семью. Жену, двух дочерей и сына. Невский долго смотрел на них, а народ ждал, затаив дыхание.
— С сыном изменника вопрос ясен: дурное семя щадить нечего. А женщины в чем провинились? Отпусти их, Псков. Будь великодушным в первый день своей свободы.
Женщинам тут же развязали руки. Но не позволили матери проститься с сыном и мужем, и все трое ушли, рыдая навзрыд. А площадь продолжала молчать, выжидающе глядя на князя.
— Что вы на меня уставились? — тихо спросил Александр и неожиданно рявкнул во всю мощь: — Сами решайте, псковичи!…
Площадь загудела, народ бросился на предателя и его сына, и слабые крики их утонули в мстительном рёве. Невский обошёл бушующую толпу, сел на коня, которого держал Савка, но с места сразу не тронулся
— Может, зря я их на мучения отдал? — вздохнул он.
— Нет, не зря, Ярославич, — сурово отрезал всегда улыбчивый Савка. — Их не за Псков так казнят. Их за всю Русь в землю сейчас вбивают!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Гонец, посланный в Новгород за ополчением, нашёл там одного расстроенного Яруна.
— Чогдара Батый к себе вызвал. А лучники его у меня в ополчении. Немного их, правда, придирчив мой побратим, зато стреляют отменно.
И без промедления повёл кое-как вооружённое холопское ополчение к Пскову. Под руку князя Александра.
А в день, когда был взят Псков, на дружинном победном пиру Невский появился вместе с Урхо. На чу-дине было княжеское полукафтанье, поскольку никакое иное влезть на него не могло.
— Вот вам, дружина моя, новый боевой товарищ. Все вы его знаете, и всем вам ведома и сила его, и отвага, и верность, и то ведомо, что именно ему мы обязаны тем, что взяли Псков малой кровью. А потому и поднимем первый кубок за его здравие.
Кубков было много, радостного шума и общего веселья тоже, но где-то между пятым и седьмым кубком Гаврила Олексич, запечалившись вдруг, сказал сидевшему рядом князю:
— Отпусти ты меня в Новгород, Ярославич. Не задержусь, туда — обратно да сутки в Новгороде.
— Случилось что?
— Зазноба у меня там, — вздохнул Олексич. — Зазноба там, а заноза — здесь. — И гулко ударил себя кулаком в грудь.
Невский усмехнулся:
— Хорошо, что сердца слушаешься. Поезжай, Олексич… Да, пошли кого-нибудь из дружинников порасторопнее к князю Андрею. Пусть ко мне поспешает. Ливонцев отбросили, но главная битва ещё впереди.
Зная князя Андрея, Гаврила Олексич послал к нему опытного дружинника, которого Андрей должен был помнить. А дружиннику сказал:
— Нрав Андрея тебе, Будимир, ведом, наверняка гульбой сейчас занимается. Гульбу прекратить, дружину поднять и двигаться немедленно. У Невского счёт на дни пошёл.
А сам тотчас же выехал в Новгород. Но не в санях, верхом с верным слугою-оруженосцем, потому что спешил. И не очень-то придерживался извилистой разъезженной дороги, а спрямлял её, где только мог. Не потому лишь, что дорога петляла, как змея, а и потому, что по ней потоком шли обозы с продовольствием, оружием и одеждой для воинских сил князя Александра. И, укорачивая напрямую очередную дорожную петлю через лес по совсем уж заметённой тропке, был внезапно остановлен тремя десятками заросших по брови, кое-как вооружённых мужиков.
— Стой, боярский выродок!…
Олексич вместе со слугой-оруженосцем в силах был пробиться и ускакать, но на незнакомой лесной тропе мог оказаться завал, и тогда отбиваться было бы куда сложнее. Да и коня мог потерять, а пешком до Новгорода добираться было совершенно немыслимо.
— Шубу сымай!…
— Шубу? — Гаврила расстегнул шубу и расправил её, чтобы быстрее выхватить меч, если дело дойдёт до схватки — А рожи-то у вас новгородские.
— Жердями1 Жердями его с коня спешьте сперва!. — громко крикнул кто-то, до времени скрывавшийся под еловой заснеженной лапой. — Он же мечом пробьётся, для того и шубу расстегнул!…
— Правильно атаман говорит, пробьюсь, — спокойно сказал Олексич, лихорадочно припоминая, где он слышал этот голос. — А не пробьюсь, так половину из вас порешу. Я — дружинник, я с рыцарями воевал, пока вы тут купчишек грабили.
Лесная ватага озадаченно примолкла. Потом кто-то — не тот, что под елью хоронился, — выкрикнул:
— Жердями, сказано вам! Жердями его…
— Молчать!… — изо всех сил рявкнул Олексич, почувствовав, что перехватывает разговор. — Молчать, когда с вами воин говорит, золотую цепь получивший за Невскую битву. Мы вчера Псков на копьё взяли, Новгород все силы напрягает, чтоб ливонцев отбросить, а вы татьбой занимаетесь? Совесть-то есть у вас или труха гнилая вместо неё? Ну, порешите вы меня, правую руку Невскому отрубите, и рыцари сюда ворвутся. Что делать тогда новгородцам, отцам и матерям вашим, братьям и сёстрам? В лесах всю жизнь отсиживаться?
— Невского наши бояре из Новгорода выгнали, — не очень уверенно сказал атаман под елью. — Врёшь ты все, шкуру свою спасаешь.
— Это Гаврила-то Олексич врёт? — неожиданно возмутился оруженосец, хлопнув себя руками по бёдрам — Ну и глупый же ты, парень. Да вчера на дружинном пиру.
— Правда, что ты — сам Олексич? — спросил атаман, не обратив внимания на выкрик оруженосца.
— Буслай, что ли? — усмехнулся Гаврила, с огромным облегчением почувствовав, что драки не будет. — Ну, вылезай, чего хоронишься? Мало, видать, я тебя в поруб сажал за буйство твоё. Вылезай, вылезай, узнал ведь.
Из— под ели скорее смущённо, чем неохотно, вылез добрый детина в драной шубе, с мечом на поясе и без шапки. Шапку ему заменяла грива давно не стриженных волос. Подошёл, глянул искоса и опустил голову.
— Ну, я.
— Разбоем занимаешься? Смотри, Буслай, матери скажу, она тебя прилюдно за волосья оттаскает.
Ватага засмеялась.
— Цыц! — крикнул легендарный драчун Господина Великого Новгорода. — А почему, Олексич? Да потому, что по этой дороге те купчишки товары возят, которые и Новгород продали, и самого князя Невского из него выгнали. Вот мы им калиты и дырявим.
— А не лучше ли рыцарскую броню дырявить, Буслай? С твоей-то силой, с твоим-то уменьем.
— Так ведь не простят нам, поди, Олексич, — вздохнул атаман. — Нагрешили…
Гаврила встал на стременах, поднял руку:
— Именем князя Александра Ярославича Невского прощаю вас, если добровольно в ополчение перейдёте под руку воеводы Яруна!
— Веди, — сказал Буслай. — За князя Невского да землю Русскую и помереть не страшно.
Испытание выпало не только Гавриле Олексичу, но и гонцу Невского Будимиру. Правда, не в дороге. Олексич был прав, напомнив дружиннику о непредсказуемости князя Андрея, нрэв которого очень уж напоминал нрав его отца Ярослава в молодости. Стоять на границе новгородских земель, имея строгий запрет даже на охоты, — такое испытание требовало выдержки, спокойствия и воли, то есть как раз того, что постоянно, изо дня в день, Андрей проявлять был не в состоянии. Он скучал, терзался, изнемогал в тоске, но все же как-то держался, пока не вернулся Сбы-слав. На радостях начались бесконечные пиры, переросшие вскоре просто в попойки, которым странно молчаливый Сбыслав почему-то не препятствовал. А прежде, до поездки в Орду, мягко, но твёрдо не давал князю разгуляться. И неглупый Андрей это быстро подметил.
— По девице маешься?
— Нет у меня девицы.
— Ну, девицы всегда есть, — улыбнулся Андрей. — Тут неподалёку — сельцо, боярин стар и хлебосолен, а девки у него!… На любой вкус.
Раньше и речи не могло быть ни о каком сельце: Сбыслав строго исполнял повеления Невского. А стоило ему уехать — и сельцо появилось. Только не появилось желания воспрепятствовать: угнетала его тоска, тяжесть на сердце и равнодушие. Отговаривался он вяло, и Андрею не составило труда уговорить друга.
Поехали с небольшой, умеющей помалкивать охраной. И хозяин угощал на славу, и красные девки подносили кубки с поцелуями, и не догадался никто, что Сбыслав целует женщину впервые в жизни…
И дальше было — тоже впервые в жизни, только не прибавило это Сбыславу радости. Не ощутил он порога, через который перешагнул, не почувствовал он ни нежности, на благодарности к той, которая помогла ему наконец-то стать мужчиной. Он почувствовал чисто физическое, телесное облегчение, а душа так и осталась в неведении, не присутствуя при этом, а как бы глядя со стороны, сквозь занавес тоски.
— Ну, как девка? Понравилась? — спросил наутро Андрей.
— Понравилась, — ответил.
И остались ещё на неделю Пока Будимир не отыскал их в этом сельце.
— Как посмел войти ко мне? — по-отцовски сдвинув брови, с гневом спросил князь Андрей.
— Я во Псков вошёл без ливонского дозволения, князь, — с суровым достоинством сказал Будимир. — Старший брат твой князь Александр Невский повелел передать, чтобы ты немедля поднимал дружину отцовскую и поспешал к нему.
— Я сам знаю, что мне делать!
— Ладно, ночь подожду. А утром поскачу прямо к великому князю Ярославу, доложу о твоих утехах, а заодно и о просьбе Невского передать дружину под руку Гаврилы Олексича.
Ничего такого Невский не говорил, но Будимир знал, как разговаривать с вздорным княжичем.
— Ступай вон! — вскочив, заорал Андрей. — Вон!…
— Горяч ты, князь, — улыбнулся Сбыслав, ощутив вдруг прилив прежних сил. — А ну как отец лишит тебя возможности горячность эту в решающей битве Невского с ливонцами проявить? Дружина-то все равно уйдёт. С тобой или без тебя — это сам решай.
— Ну так собирай её, чего сидишь? — крикнул Андрей и вышел, громко хлопнув дверью.
Через сутки дружина выступила. Вёл её хмурый и очень недовольный Андрей.
Получив повеление хана, Чогдар не стал задерживаться в Новгороде, но задержался у великого князя, отослав гонца на ближайшую ямскую станцию, поскольку до Владимира татары их ещё не довели. Он не был встревожен этим внезапным вызовом, но все же думал, зачем и кому — самому Бату или Субедей багатуру — он вдруг понадобился. Посланный за ним сотник от ответов уклонялся, поэтому Чогдар и решился на свидание с Ярославом.
Он помнил совет своего покровителя, неисполнение которого могло быть расценено как нарушение приказа, хитрить не умел и перешёл к делу, едва опрокинув первый кубок:
— К Бату надо ехать добровольно, великий князь.
— Знаю, — вздохнул Ярослав. — Да вот — беда у нас. Невестка моя до сей поры с постели не встаёт. Александр с Андреем в Ливонии, а ну как, не дай Бог, преставится, когда я в отъезде буду?
— Невский не знает о её болезни?
— И не должен знать, — нахмурился великий князь. — С тревогой на сердце войска не водят.
Ярославу и впрямь нельзя было уезжать, и Чогдар об этом больше не говорил. Старался, как мог, отвлечь Ярослава от тяжких дум, рассказывал о Яруне, об ополчении, о лучниках, которых обучал стрелять. Так прошло три дня, он уже собирался в дорогу, когда от Невского примчался гонец с сообщением, что князь Александр взял Псков.
— Вот этой радостью от Батыя и сам прикроешься, и меня прикроешь, — сказал великий князь. — Отслужим благодарственный молебен, попируем и — распрощаемся. Ненадолго, надеюсь.
Распрощаться пришлось навсегда. Но тогда они этого не знали.
Ещё издали, едва въехав на площадь, Чогдар увидел перед ханским шатром бунчук с длинным чёрным хвостом, обёрнутый чёрным войлоком. И придержал коня.
— Кто умер?
— Не знаю, — растерянно сказал сотник
— Нашего учителя, великого полководца Субе-дей-багатура больше нет среди нас, — угрюмо сказал Бату-хан. — Тело его следует сейчас в Каракорум, где будет предано земле с ханскими почестями. Траурный караван ведёт мой брат Бёрке, которого я отозвал с Кавказа. Ты опоздал проститься с андой собственного отца, Чогдар.
— Я…
— Твоя печаль больше, чем твоя вина. — Бату вздохнул. — Перед кончиной он вспомнил о тебе. Ты заменишь его возле моего стремени и возле моего трона. Такова его последняя воля.
— Кто же может заменить Субедей-багатура?
— Угедей умер, — не слушая, продолжал Бату. — Угедей умер, и Каракорум отозвал тумены Гуюка и Бури. То, что ты сейчас услышишь от меня, должно умереть в твоём сердце.
— Оно умрёт там.
Бату сам наполнил чашу Чогдара кумысом. Чогдар с поклоном принял её двумя руками и почтительно выпил вслед за ханом.
— У меня осталась тысяча чжурчженей и тысяча мангутов. Всего две тысячи монголов, остальное — кипчаки, татары, аланы и русичи. На курултае великим ханом провозгласят Гуюка. Это сказал знающий человек Ючень, сбежавший ко мне. Но куда бежать мне, мой советник?
— Никуда, мой хан, — спокойно ответил Чогдар. — Надо искать союзников в русских княжествах, и такие союзники есть. Князь Александр Невский взял Псков и этой зимой даст ливонцам решающую битву.
— И ты убеждён, что он выиграет её?
— У меня нет сомнений.
Бату задумался, и Чогдар сам наполнил чаши кумысом.
— Ты убеждён, что он не поднимет восстания против меня?
— И в этом у меня нет сомнений. Князь Александр очень умен для того, чтобы драться на два фронта. А ливонцы для него куда опаснее, чем мы.
Последнее Чогдар сказал с известным напряжением, но вовремя Бату почувствовал это и улыбнулся
— Мой анда — русский воевода Ярун, — тотчас же напомнил Чогдар -Яна. собственном опыте убедился, сколь русские верны законам побратимства.
— Ты второй раз говоришь мне об этом. Как я должен понимать твою забывчивость?
— Земли завоёвывают, сидя в седле, но управлять с седла землями невозможно, мой хан. Я не очень доверяю китайцам, но Ючень мудр и искушён в делах правления.
— Этим он и будет заниматься. Только налогами и казной, и ничем более. Зачем ты напомнил мне о своём побратимстве, Чогдар?
— Невский много рассказывал мне о Сартаке, которому подарил свой победоносный меч, — осторожно, обдумывая каждое слово, сказал Чогдар — Может быть, наступило время, когда Сартаку следует подарить свою саблю князю Александру?
Бату задумался, хмуро осмысливая услышанное. Взял наполненную Чогдаром чашу, отхлебнул глоток.
— Субедей-багатур считал тебя своим сыном, потому что твой отец был его андой. Есть ли подобный обычай у русичей?
— Да, мой хан. Я считаю сына своего побратима своим сыном, а он меня — своим вторым отцом.
Бату неожиданно тихо и облегчённо рассмеялся
— Мой мудрый учитель Субедей-багатур не ошибся со своим последним советом. Насколько я знаю, у русских есть обычай всегда пить за что-то.
Выпьем за здоровье и победы князя Невского, Чогдар!
И первым поднял чашу с кумысом.
В ожидании отцовской дружины Невский вновь отправил Домаша терзать ливонцев в их землях, усилив его удары самостоятельно действующей дружиной Миши Прушанина. Вновь запылали замки и селения, закачались на виселицах предатели и фогты, и беженцы заметались по всем дорогам. Заодно новгородцы отбивали запасы продовольствия и сена, потому что Псков голодал, а обозы из Новгорода медленно тащились по зимним дорогам.
Была и ещё одна причина, почему князю Александру необходимо было держать рыцарей в постоянном напряжении. За спиной ордена стояла вся Европа, из которой бесперебойно шли не обозы с продовольствием, а рыцарские отряды. Пополнение это было неиссякаемым, тогда как новгородцы напрягали последние силы, но кроме припасённой на крайний случай дружины великого князя Ярослава помощи ждать больше не приходилось. И Невский трепал противника, не давая ему опомниться, как только мог и где только мог.
Так продолжалось до весны, хотя самой-то весны как-то особо не чувствовалось. Ночью по-прежнему стояли сильные морозы, днём, если распогоживалось, на солнце таяло, но уже к вечеру замерзало снова Доман и Миша, посовещавшись, решили поберечь коней и спешили свои дружины, пригнав всех лошадей Невскому.
— Разумно, — сказал князь. — Кони отдохнут и подкормятся.
Конские табуны привели самые опытные, знающие толк в лошадях дружинники Миши Прушанина. Их старший и докладывал князю Александру о причинах такого решения, а после княжеского одобрения протянул Невскому увесистую торбу.
— Миша велел тебе передать. Отряд в пять рыцарей нам попался, сдаться не пожелали, гордые очень. Положили мы их, а Миша наказал подковы с их коней тебе отвезти.
Князь внимательно осмотрел подковы. Шипы на них были тупыми и закруглёнными.
— Как по-твоему, давно коней ковали?
— Нет, князь Александр, — сказал старший, обследовав подковы. — Ковка свежая, даже заусенцы не стёрлись.
— Понятно, — усмехнулся Невский. — Савка, покорми гостей да Урхо ко мне мигом!
Урхо появился тотчас же. Тщательно изучил Мишин подарок, усмехнулся:
— На льду ливонцев встречать решил, Ярославич?
— Не решил ещё. Но ты собери кузнецов, обучи их своей ковке и раздувай горны. Чтоб на всю отцовскую дружину подков хватило. Так, про запас. На всякий случай.
Урхо сменил богатую одежду старшего дружинника на кожаную робу кузнеца и раздул горны. А Невский велел Савке разыскать Якова Полочанина.
— Ливонцы собираются в Дерптском епископстве во главе с магистром, — сказал Яков. — Помощь рыцарям подходит чуть ли не ежедневно. Слух прошёл, что Папа издал буллу о новом крестовом походе против еретиков, то есть против нас, православных. Но относительно буллы ещё надо проверить.
— Когда могут выступить?
— Уже на полях руку набивают, верные люди сами видели. Выстраиваются клином — железной свиньёй, как новгородцы говорят. В середине клина и позади него бегут кнехты. Кнехтам выданы прямоугольные щиты, мечи, копья, а лучникам — луки с короткими тяжёлыми стрелами. Говорили мне, что такой стрелой можно кольчугу пробить, а у нас все ополчение в тегиляях: поскупился Новгород.
— Значит, к ближнему бою готовятся, — вздохнул Александр. — Рыцарские кони в броне?
— В броне. Панцирь на груди и железная пластина на морде. Переносье прикрывает.
Александр задумался. Спросил вдруг:
— Сколько полная рыцарская броня весит?
— Не взвешивал, Ярославич… — растерялся Поло-чанин.
— Так взвесь! — резко сказал Невский, но тут же взял себя в руки. — Конь в броне, рыцарь в броне — с места рысью не тронешься, разгон нужен. Зато коли разгонятся — не остановишь.
— Одно слово — свинья, — вздохнул Яков. — А брони я взвешу. Моё упущение, князь.
— Срочно вели Домашу одного такого рыцаря мне привезти. Живого или мёртвого, но лучше живого. И потом пусть дружину отводит свою и Миши Прушанина тоже… — Невский подумал, похмурил-ся: — К Чудскому озеру.
Домаш был на редкость исполнительным человеком, но и до него дошли слухи, что ливонцы получили крупное рыцарское пополнение и усиленно готовятся к решающему сражению. Понимая, как Невскому дорого время, он сразу же отправил дружину куда было указано, оставив при себе небольшой отряд наиболее опытных воинов. И, выполняя приказ, напал на рыцарский дозор, но воинское счастье на сей раз ему изменило, и князю Александру доставили в смертных санях не ливонского рыцаря, а самого Домаша Твердиславича.
— Эх, Домаш, Домаш… — только и сказал Невский.
Он не просто любил новгородского воеводу за доблесть и преданность, рассудительность и спокойное достоинство. Он уже определил ему место в битве именно с учётом этих качеств — самое трудное, в центре боевого порядка во главе «чела», то есть центрального полка, на который падал первый, и самый тяжкий, удар ливонской «железной свиньи». Теперь вместо него приходилось искать такого же стойкого и опытного командира, и Александр все время думал об этом.
Вскоре подошёл Ярун с ополчением, и Невский тут же спросил у него совета.
— Отдай мне свою спешенную дружину, а Гаврилу Олексича поставь на левую руку во главе дружины покойного Твердиславича.
— А почему не наоборот? — без улыбки спросил князь: сейчас ему было не до улыбок
— А потому, Ярославич, что за моей спиной встанет ополчение, а они меня знают и мне верят.
— Ну, а ополчением кто командовать будет?
— Есть такой, — улыбнулся Ярун. — Олексич ко мне Буслая привёл с его татями. Уж его-то мои ополченцы хорошо знают, как раз для них воевода.
— Это правда, драться он умеет, — в глазах Невского блеснула усмешка. — Они с Мишей пол-Новгорода переколотили. — И, подумав, добавил: — Как только Андрей отцовскую дружину приведёт, собери всех воевод, дядька Ярун. Место поедем искать, где с ливонцами встречаться.
До прибытия дружины Невский не терял даром времени. К нему водили знатоков Чудского озера из местных жителей, каждого он подробно расспрашивал, и в результате у него сложилось мнение, что лучшего места для битвы, чем урочище Узмень, ему не найти. И как только пришла отцовская дружина, ночью выехал в урочище с воеводами, советниками и опытными воинами, на которых полагался.
К тому времени вернувшийся Гаврила Олексич уже принял осиротевшую дружину Домаша. Он не беспокоил Александра — да и никто не беспокоил, каждый занимался своим делом, и даже перестановки в командовании воеводы провели без его участия, — но радость настолько распирала его, что не выдержал и приехал к Невскому чуть раньше назначенного часа.
— Что в Новгороде слыхать? — отрывисто спросил князь.
— О моей свадьбе разговоры, — широко улыбнулся счастливый жених. — Почтишь присутствием, Ярославич?
— Когда?
— После битвы с рыцарями.
— Чего же не до? — усмехнулся Невский.
— Так боязно молодую вдовой оставлять.
— С такими мыслями ко мне больше не подходи.
— Шучу я так, Ярославич, — Гаврила Олексич продолжал несокрушимо улыбаться. — В битву женихом идти надо. Ярости больше.
— Мне не ярость твоя нужна, а ясная голова, — проворчал Александр. — Ярости у твоих дружинников хватит, каждый за Домаша посчитаться хочет. В Буслае уверен?
— Уверен, Ярославич. Он в Новгород во славе мечтает вернуться.
— Тогда ступай и вели ему с нами на озеро ехать. Есть у меня одно соображение насчёт его ратников.
Из отцовской дружины Александр взял с собой в урочище только князя Андрея да почему-то Сбыслава. Но отряд выглядел внушительно, потому что воевод, советников да опытных воинов, мнением которых Невский дорожил, набралось много. Поспешали всю ночь, к рассвету прибыли на крутой берег урочища Узмень, где их ждали два местных рыбака.
— Что углядели, отцы? — спросил Невский.
— Иди за нами.
Старики отвели князя на высокий обрыв. Впереди смутно поблёскивало огромное озеро, левее чернела одинокая скала.
— Вороний камень, — пояснил один из стариков. — До другого берега, Соболицкого, семь вёрст.
— Снег в этом месте ещё зимними ветрами сдуло, — добавил второй. — Видишь, как лёд блестит?
— Сбыслав, проскочи до Вороньего камня и глянь оттуда, виден ли обрыв, на котором мы стоим.
Осторожно сведя аргамака на лёд, Сбыслав вскочил в седло и помчался к скале. Все молча смотрели за ним, и когда конь упал на льду, многозначительно глянули на князя.
— У него жеребец ещё не перекован, — с неудовольствием отметил князь Андрей.
— У ливонцев тоже, — усмехнулся Александр. — А что, отцы, куда тут ветер по утрам дует?
— С берега, Александр Ярославич. Утром с берега, вечером с озера. Всю зиму так.
Вернулся Сбыслав. Ввёл чалого на обрыв, пешком подошёл к Невскому.
— От Вороньего камня обрыв не виден, Ярославич. Лёд припорошен снегом, скользко. Даже коня не удержал.
— Не побился твой аргамак? — спросил Андрей.
— Он падать умеет.
— Савка, накорми да обогрей наших проводников, — сказал Александр. — Примите мою благодарность, отцы, очень вы мне помогли.
Дождался, когда Савка уведёт рыбаков, сказал негромко:
— Стало быть, здесь их и встретим. О чем думаешь, дядька Ярун?
— Место доброе, — согласился Ярун. — Даже ветер с берега, лучникам стрелять сподручнее. Только с чего это рыцари на льду битву принимать станут, Ярославич? Воины они опытные.
— В Палестинах эти опытные воевали, — заметил Яков Полочанин. — А полезут потому, что так им Псков легче обойти.
— Если так прикидывать начнём, то и бить нас начнут, — вздохнул Невский. — Нельзя врага недооценивать, нельзя, товарищи мои, за это большой кровью расплачиваются. Будем с читать, что по доброй воле на лёд они не полезут. Значит, надо их сюда заманить.
— Субедей-багатур туменом пожертвовал, чтобы Удалого на Калку привести, — сказал Ярун.
— Он и людей не считал, и с людьми не считался. — Невский нахмурился, подумал, вдруг оживился. — Ярун и Андрей, выделите лучших всадников под команду Сбыслава, оденьте их поярче да понаряднее, мой стяг дайте. Разгроми их дозоры, Сбыслав, заставь «свиньёй» построиться и приведи эту «свиньк» сюда в боевом порядке.
— Понял тебя, Ярославич! — радостно заулыбался Сбыслав.
— Только не горячись, очень прошу, не горячись, — предупредил князь. — В битву не ввязывайся, кусай их беспрестанно, но вовремя отходи. Олексич, дай ему двадцать добрых лучников для прикрытия.
— Я тебе укажу, кого именно, — сказал Ярун. — Мне Чогдар их уменье показывал. Только проследи, чтобы им новые лапти сплели. Свежее лыко хорошо лёд держит.
— И пусть Урхо лично у всех коней подковы посмотрит. — Невский помолчал, мысленно проверяя самого себя — Так, с передовым полком вроде разобрались. Теперь о дружинах правой и левой руки. Главная задача: не позволять рыцарскому клину развернуться Трудно придётся, знаю, но надо, надо заставить ливонцев атаковать головной полк в лоб Чело в чело
Князь замолчал, представив себе всю жестокость предстоящего столкновения разогнавшейся рыцарской «железной свиньи» со стоящей в пешем строю собственной дружиной. Он понимал, что жертвует ею, но иного выхода не видел. Да и не было этого иного выхода
— Поначалу надо сдержать их, дядька Ярун. Порыв сбить, сломать само рыло «свиньи», а когда поймёшь, что сбил, расступись и жми с боков. Саму голову жми, но напора не ослабляй.
— Я понял, Ярославич.
— Тогда они на тебя, Буслай, навалятся.
— Сдюжим, Александр Ярославич. — Буслай гулко вздохнул вдруг пересохшим горлом
— Помолчи, — строго одёрнул Невский. — Мне от тебя не сила нужна, а воинское соображение. Дюжь сколько сможешь, только пятиться не забывай. К обрыву вот этому их подводи. А когда почуешь, что обрыв рядом, расступись. Быстро расступись, чтоб ли-вонцы в берег врезались. Рыцари тяжёлые, кони их к этому времени устанут, вот тут-то они и затопчутся. Вот тогда пусть мужики твои за багры хватаются и начинают рыцарей с сёдел стаскивать. А которые половчее, пусть ножами-засапожниками жилы их коням режут. Свалка должна начаться, и тогда мы с братом отцовской свежей дружиной по тылу их ударим. Сзади.
— Чтоб и внукам заказали в землю Русскую соваться! — восторженно воскликнул Миша Прушанин.
— За внуков не поручусь, а дети — не сунутся, — улыбнулся Невский.
И все — вразнобой, недружно — рассмеялись, но смех тот был напряжённым, словно смеялись они через силу…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Однако дня решающей битвы князь Александр тогда не назначил. Не от него зависел этот день, а только от готовности войск.
— Когда перековку коней закончишь, Урхо?
— К пятнице управлюсь.
— К четвергу, — подумав, сказал Невский. — В пятницу утром дружина должна выступить.
— Будет к четвергу, если ещё кузнецов дашь.
Александр отправил к Урхо всех кузнецов, которых сумели разыскать псковские власти. Теперь он не делал тайн из подготовки своих войск к сражению.
— В ночь на субботу санные обозы псковичей должны быть на Узмени. Все выгрести из города, селищ и весей.
А на последнем военном совете сказал коротко:
— Суббота. Передовой полк выезжает в ночь. Тогда же начинают строиться дружины и ополчение. Сбыслав, ты готов? Тебе первому горячие щи хлебать, первым и выедешь.
— Готов, Ярославич. И я готов, и дружина моя готова.
— Все проверить лично, воеводы. Каждый нож и каждый ремешок. Все, кончили советоваться.
Урхо сам подковал чалого. Обнял Сбыслава:
— Скачи смело. Там встретимся.
Перед отъездом Сбыслав заехал к отцу. Ярун не отлучался из дружины, строго исполняя повеление Невского. Впрочем, он сделал бы то же самое и без всяких повелений.
— Вижу, аркан захватил.
— Пригодится, — улыбнулся Сбыслав. — Спасибо тебе, что Будимира мне отдал.
Ему было совсем не до улыбок: отец выглядел не просто озабоченным, но и усталым. Но он улыбался ему, как улыбался только в детстве.
— Ты отдохни перед битвой. Очень прошу, отец.
— Знаешь, кто твой отец? — неожиданно спросил Ярун, помолчав.
— Самый опытный воевода, — опять улыбнулся Сбыслав.
— Твой отец… — Ярун вдруг замолчал, помотал седой головой. -Да, сын. Великий князь Ярослав наградил меня золотой цепью за битву на Липице. Я уже потерял счёт своим боям.
У Сбыслава больно сжалось сердце.
— Это — последний, отец Потом ты уйдёшь на покой и будешь нянчить моих детей. Береги себя для внуков.
Он крепко обнял Яруна, вскочил на жеребца и умчался, не оглядываясь. Не мог он оглянуться, сил у него на оглядку уже не было.
Не успела за Сбыславом осесть снежная пыль, не успел Ярун вернуться к своей дружине, как из Владимира на измотанном коне примчался вестник.
— Тебе послание от великого князя Ярослава, боярин.
Ярун развернул свиток:
«КНЯГИНЯ АЛЕКСАНДРА БРЯЧИСЛАВНА ПРЕСТАВИЛАСЬ. САМ РЕШИ, КОГДА СКАЗАТЬ СИЕ АЛЕКСАНДРУ. ЯРОСЛАВ».
— Сядешь в моем шатре и будешь сидеть, пока все войска не уйдут, — сказал он гонцу, спрятав свиток на груди и удержав себя от крёстного знамения. — Потом ешь, пей, баню требуй — челядь все сделает. Но если проговоришься, что с вестью от великого князя прискакал, она… она тоже все сделает. Понял меня?
— Понял, боярин.
— Ступай. Слуга проводит.
«Вестник, — думал он, возвращаясь в дружину. — С недоброй вестью, ох, какой недоброй… И Сбыславу чуть не проговорился. К чему бы все это?… Господи, упокой душу рабы твоей Александры…»
Все были заняты своими делами, спали урывками, и проводить Сбыслава пришёл только Гаврила Олек-сич.
— Шафером пойдёшь ко мне?
— А когда же свадьба?
— А как ливонцев разгромим, так и сыграем. Олексич пребывал в отменном настроении, шутил, улыбался. Теперь он верил в свою судьбу.
— А что же Марфуша? — тихо спросил Сбыслав.
— Проводил я её в монастырь. — Гаврила вздохнул, но, правда, не слишком горестно. — Сразу после сговора и ушла. Теперь, сказала, есть у тебя хозяюшка, братец ты мой.
Сбыслав ожидал, что растревожится, что защемит сердце, но ничего не ощутил, кроме лёгкой грусти. Либо все мысли его были сейчас заняты только предстоящей битвой, либо перегорела в нем его первая любовь…
Дружины и отряды, пешие и конные, шли и шли на Чудское озеро к урочищу Узмень вслед за передовым полком Сбыслава. Там уже стоял княжеский шатёр, подбитый для тепла сукном, откуда к Сбыславу вышел и сам Невский.
— Войска пошли?
— Должны уже идти Ополчение обогнал по дороге.
— Трудно будет в клин ливонцев сбить.
— Думал об этом, Ярославич. Лучников по обе стороны поставлю, чтоб по кнехтам стреляли. Рыцари станут их прикрывать, а прикрыть можно только клином.
— Может быть. У меня отобедаешь или с дружиной?
— С дружиной, Ярославич. Ты уж прости.
— И это верно, — скупо улыбнулся Александр. — Поедите и ложитесь спать. Ввечеру разбудят, и сразу — по коням. Побереги себя.
— Ты себя береги, Ярославич. Ты — спасение Руси, а мы — лишь меч в твоей деснице.
Поздним вечером Сбыслава разбудил Савка:
— Наказ тебе от князя. Есть не давать, сразу — в путь.
В поводу свели коней на лёд. Будимир чуть не упал. Смешно замахал руками, кто-то из дружинников рассмеялся.
— Что ж ты Урхо не попросил подковать себя? Сбыслав вскочил в седло, разобрал поводья Чалый поводил ушами и недовольно фыркал, кося глазом. Сбыслав успокаивающе похлопал его.
— Второй раз не упадёшь, не бойся. Посадите лучников на коней, им сегодня много бегать придётся. Будимир, возьми двоих и — в дозор. Ну, с Богом!…
До Соболицкого берега добрались быстро. Кони поначалу осторожничали, но, убедившись, что не скользят, пошли ходкой рысью. Увидев впереди лесистый пологий склон, Сбыслав остановил чалого, поднял руку, и дружина тут же осадила коней.
— Лучникам спешиться и разбиться на два отряда, как учил. Княжеский стяг должен быть всегда со мной.
За правым плечом. Ждём Будимира. Не разговаривать и ничем не звенеть.
Будимир вскоре появился, но — левее. Подъехал к Сбыславу.
— Ливонцы идут к озеру походным порядком. Дозор из кнехтов мы порешили, тела я бросил на дороге. Она — левее, Сбыслав.
— Веди.
Будимир отвёл передовой полк к месту, куда выходила дорога. Ливонцы ещё не появлялись, но из прибрежного леса уже доносился перестук копыт, тяжкий топот и лязг оружия.
— Лучники, встаньте по обе стороны выхода на озеро. Рыцарей пропустите, стрелять только по кнехтам. Глядите, чтоб не обнаружили нас раньше времени.
— Мы на лёд ляжем, — сказал старший. — До поры.
— Пору сами определяйте.
— Кнехты — в тёмном. И определить легко, и целиться легко.
— Ступайте. Дружина, товарищи мои, братья мои, исполним с честью повеление князя Невского.
— Исполним с честью, — осторожным гулом откликнулась дружина. — Веди нас, воевода.
Сердце Сбыслава билось гулко и радостно. Он впервые самостоятельно командовал отборным отрядом и ощущал сейчас такой подъем, на котором не оставалось места для страха. Все заполнила высокая гордость воина, защищающего сейчас не своего князя, не свой удел, а всю землю Русскую.
Гул и топот огромного войска вдруг замер. Сбыслав с тревогой оглянулся на Будимира.
— Дозор свой нашли, — усмехнулся опытный воин. — Сейчас разведку вышлют и на нас поглядят.
— Дружине не двигаться, — сказал Сбыслав. — Ждите моей команды. Стяг повыше!
Последние слова он выкрикнул громко, потому что из леса на берег один за другим выехали пять рыцарей в белых накидках с красным католическим крестом, закованных в броню с ног до головы. Занимался тусклый рассвет субботы 5 апреля 1242 года.
Вероятно, рыцари увидели их, потому что придержали коней, а потом четверо осторожно спустились на лёд.
— Один с докладом назад поскакал, — сказал Будимир. — Все правильно, сейчас в гости пожалуют.
Проехав немного, рыцари остановились, точно спускались только для того, чтобы опробовать лёд. Но в лесу за их спинами вновь возник шум, топот и звон, закачались голые кусты, и на берегу показались всадники в белых накидках поверх кованых рыцарских лат.
— Мечи у них длиннее наших, — сказал Будимир Сбыславу. — И тяжелее. Не старайся отбивать, старайся извернуться.
Рыцари спускались на лёд, подстраиваясь к первой четвёрке. И ряд за рядом, ряд за рядом все появлялись и появлялись на берегу.
— Сколько же их… — растерянно прошептал какой-то дружинник.
— Сколько есть, все наши будут! — громко сказал Сбыслав. — Кидай на лёд полушубки, дружина! Мёртвым не холодно, а живым скоро жарко станет!…
И первым бросил на лёд крытый алым сукном полушубок.
Не ожидая выезжающих из леса, спустившиеся на чуть припорошенный снегом озёрный лёд рыцари тронули коней. Число их все время возрастало, потому что помощь подходила уже сплошным потоком, но передовые ехали пока шагом, то ли поджидая, то ли не решаясь перевести коней на рысь.
— Ждём, ждём, ждём… — все время повторял Сбы-слав, точно отсчитывая появлявшихся противников.
Головной отряд ливонцев опробовал-таки медленную рысь. Однако кони шли неохотно, с опаской, а один заскользил вдруг, чудом не упав Дружина облегчённо расхохоталась, поняв своё преимущество, а рыцари тут же придержали лошадей.
— Что, не нравится? — весело крикнул один из дружинников.
— А где же кнехты? — озабоченно спросил Сбы-слав, перестав считать то и дело выезжающих из лесу ливонцев
— Появятся, — усмехнулся Будимир — На скользком льду без лучников им никак не обойтись
Головной отряд окончательно остановился. Стало чуть посветлее, рыцари стояли совсем близко, и дружинники с удивлением разглядывали боевые шлемы с птичьими когтями, рогами и звериными лапами на некоторых из них.
— То рыцари именитые, — пояснил Будимир. — А вот и кнехты.
На лёд высыпала пехота. Оскальзываясь и падая, поспешила к передовому отряду. И тут же по обе стороны их тёмного пятна появились новгородские лучники Кнехты падали от их стрел, пока не сообразили остановиться, прикрывшись щитами.
— Пора! — крикнул Сбыслав, выхватив меч из ножен. — Бери их в клещи, дружина!…
Воинами ливонцы были многоопытными, но медлительными. Их тяжёлые длинные мечи не подпускали дружинников близко, но при этом и сами ливонцы почти не двигались с места, поскольку в узкие прорези шлемов следить за юркими всадниками им было трудно Закованные в броню лошади на льду чувствовали себя неуверенно, и дружинники пока легко уходили от рыцарских ударов.
— Не давай себя окружать!… — кричал Сбыслав, бросая чалого из стороны в сторону. — Поглядывай за лучниками, Будимир!.
Лучники пока держали кнехтов в глухой обороне за щитами. Их лёгкие стрелы летели дальше, да и сами они были подвижнее, а новые лапти почти не скользили на льду. В первые минуты боя все складывалось удачно.
Но из леса на озеро все шли и шли как рыцари, так и кнехты, и рано или поздно преимущество русичей обречено было утонуть в численном превосходстве противника. Это понимал и каждый дружинник, и каждый лучник, но приказ на отход мог дать только сам воевода.
Сбыслав понимал, что отходить придётся, но откладывал своё решение. Ливонцы упорно продолжали наращивать силу головного отряда, но строиться «железной свиньёй» не торопились, а время шло «Кнехты!… — вдруг сообразил Сбыслав. — Лучники с ними без нас не управятся…» И, увернувшись от очередного рыцарского выпада, крикнул:
— За мной! Заходи им с тыла!…
Будимир с частью дружины держал ливонцев с левой стороны, но Сбыслав был уверен, что он поймёт, как надо действовать. И, горяча чалого, повёл своих дружинников в обход огороженного длинными мечами рыцарского отряда. Обогнул неповоротливый ливонский строй, проскочил под носом подходивших к ним подкреплений и с разгона обрушился на засевших за щитами кнехтов. Удачно проломил заслон из щитов и занёс меч на легко вооружённую пехоту. За ним з брешь ворвались его дружинники, яростно работая мечами, и кнехты не выдержали удара. Строй их рассыпался, и они побежали, сразу став удобной целью для новгородских лучников.
— Отходи!… — закричал Сбыслав. — Не гоняйтесь за ними! Не гоняйтесь!…
Он видел, что Будимир уже повёл своих всадников к лучникам, которые с ходу прыгали на крупы дружинных коней.
Разгром первого отряда кнехтов был столь стремительным, что рыцари не успели тронуться с места, чтобы помочь своей пехоте. Кони дружинников уже не боялись льда, уже приспособились к нему, а потому и мчались на полном скаку. Сбыслав обвёл своих всадников вокруг головного ливонского заслона, на ходу сбросив с коня на лёд спешившего от берега одинокого рыцаря, и вновь оказался перед ними. И ливонцам снова пришлось разворачивать своих тяжёлых, медлительных лошадей.
— Отходим! Пусть кони отдышатся!
Он на рыси отвёл дружину, оставшись в пределах видимости противника. Но ливонцы пока за ними не двинулись, то ли ожидая подкрепления, то ли решая, что делать с кнехтами. Подъехал Будимир.
— За такой налёт тебя сам Невский похвалил бы, воевода. Теперь ливонцы подумают, как им кнехтов уберечь.
— А на берег они не уйдут? — обеспокоенно спросил Сбыслав.
— Да они по всему озеру за нами гоняться будут! Сколько ты потерял?
— Трое ранены, один убит. А у тебя?
— Двое убито, — вздохнул Будимир. — Гляди, Сбыслав, ливонцы перестраиваются.
Рыцари усвоили урок. Подходившие к ним подкрепления не пристраивались позади головного отряда, а становились по бокам, наращивая крылья.
— Похоже, «свинья» зарождается? — сказал Будимир.
— Возьми половину дружины, обойди их слева и ещё раз потрепи кнехтов. Я их с морды покусаю, пока ты обходить будешь.
Второй удар прошёл не столь удачно, как первый. Кнехтов частью порубили, частью разогнали, но и сами при этом потеряли пятерых дружинников. Ливонцы были настороже, несмотря на то что Сбыслав отчаянно атаковал их в лоб, отвлекая от Будимира.
— Вовремя мы их клюнули, — отдуваясь, сказал Будимир. — А что «свинью» строят, это точно. Им из обоза длинные копья везут, сам успел углядеть.
«Железная свинья» росла на глазах. Сбыслав беспрестанно налетал на её вытягивающуюся морду, кусал и жалил, как только мог, но в последней атаке перед ним неожиданно выросла щетина длинных рыцарских копий. Он потерял трех человек, сам еле усидел в седле, получив касательный удар в левое плечо, и понял, что пора прибегнуть к последнему средству. К отступлению, переходящему в бегство, но бегство к своим. К выстроенным для битвы войскам Александра Невского.
И вспомнил о битве на Калке, о которой ему много рассказывали и отец, и Чогдар. Сейчас он повторял тот манёвр, который когда-то позволил Голямбеку заманить Удалого на место решающей битвы ценою собственной жизни.
Только этим способом ему удалось бы выполнить приказ князя Александра буквально: привести усталую «свинью» к месту, которое Невский выбрал для решающего сражения. И вновь вспомнил о Калке и Субедей-багатуре.
Нелегко пришлось его дружине. Ливонцы шли на медленной рыси, хорошо прикрыв свою пехоту крыльями клина. Шли упорно, строго держа равнение в рядах и на ходу отбивая стремительные удары дружины Сбыслава длинными копьями. Потеряв ещё десяток дружинников, он счёл, что раздразнил рыцарей достаточно, и прекратил налёты, изображая обречённое бегство, однако точно с такой же скоростью, с какой двигалась ливонская «свинья». А разглядев в лёгком рассветном сумраке выстроенные в боевом порядке войска Невского, велел своим дружинникам, как было условлено, прибавить ходу, оторваться от клина и рассыпаться по обе стороны, чтобы не оказаться между молотом и наковальней.
Выстроенные строгим клином рыцари приближались медленно, но упорно. Крылья клина надёжно прикрывали пехоту, впереди, на острие атаки, располагались наиболее опытные бойцы в рогатых шлемах, выставив перед собой длинные, прочно упёртые в опоры копья. Никто не отставал и не выходил из рядов, и вся эта мощная, закованная в железную броню «свинья», как называли такое построение новгородцы, казалась — да и была — устрашающе неудержимой. И тяжёлый вздох пронёсся над полками русичей, на которые вот-вот должна была обрушиться тяжкая, несокрушимая, как молот, сила первого удара. Удара с разгона, пусть не очень большого, не столь стремительного, но подготовленного всей огромной тяжестью неторопливо рысящей «свиньи».
Но на подходе к выстроенным загоном («пяток», как это тогда называлось) полкам русичей, где опорной стенкой служила дружина Невского, подпираемая сзади ополчением, а левым и правым забором — новгородские дружины, перед атакующими с ходу ливонцами выросли вдруг лучники, и сотни стрел одновременно ударили по рыцарским лошадям. Заржали первые раненые кони, пугая остальных, сбили строй, и железная рыцарская «свинья» потеряла накопленный разбег. А лучники продолжали осыпать стрелами, не отходя и не пятясь, чтобы не потерять прицел и скорость стрельбы. Они понимали, что обречены, что будут растоптаны рыцарскими конями или иссечены рыцарскими мечами, но за их спинами стояли сейчас последние русские полки.
Нет, десятилетиями отработанный ливонский строй не распался. Но смешался, на считаные секунды потеряв строгую стройность и накопленный разбег, и рыцарям пришлось начинать его снова. Но уже не с рыси, а с шага, потому что копыта их коней утратили чувство надёжного сцепления с чуть прикрытым снегом озёрным льдом. При вклинении в поставленный русичами «пяток» ливонцам все же удалось немного разогнать лошадей, однако их первоначальный удар был существенно ослаблен, и дружина Невского, которой командовал Ярун, сдержала натиск.
И все утонуло в звоне стали, треске ломаемых копий, лошадином ржании и рёве тысяч человеческих глоток
В битву вступила не только дружина Яруна, но и новгородцы. Рыцари атаковали их походя: главные их усилия были направлены на то, чтобы поддержать рвущийся вперёд клин и не ослаблять его напора. Но и Гаврила Олексич, и Миша Прушанин сами одновременно ударили по обеим сторонам «свиньи», выполняя указание Невского — сковать ливонцев, не дать им развернуться и выпустить пехоту, а затем навязать свой бой, тесный и вязкий, в котором плохо видящие в узкие прорези неповоротливые рыцари теряли преимущества своего тяжёлого вооружения. Такая тактика требовала жертв, на каждого бронированного всадника бросались по три-четыре дружинника, но кто же считает жертвы в бою? Жертвы считают после боя.
Невероятный звон и грохот битвы соответствовали её накали и самой значимости её: здесь решалась судьба будущего всей Руси. От неистового рёва яростных глоток глохли обозники из Пскова, прибывшие в урочище Узмень с многочисленными санными обозами, качались верхушки елей, разбежались и затаились звери, стонала вся округа, и птицы далеко облетали это страшное ледовое побоище. Некогда было перевести дух, некогда было утереть ни пот, ни кровь, некогда было помочь раненому другу выползти из горячей кровавой каши. Некогда, и один Бог знает, сколько раненых растоптали чужие копыта и свои сапоги да лапти… Бесплатный сыр во все времена бывает только в мышеловках. Валюта истории — кровь да муки человеческие.
По крутому обрыву Узменьского урочища среди женщин и стариков обозников метался Яков Полоча-нин. Ему Невский приказал подготовить все, что может понадобиться после кровавой сечи: обозы для раненых, шубы, полости, сено, горячую воду и похлёбку для уцелевших. Князь предусмотрел все, и Яков исполнил все, но от этого ему было не легче. С высокого берега он видел, как бьются и как гибнут его товарищи, слышал их крики и стоны, а потом… потом перестал видеть.
Вместе с криками, хрипами и предсмертными стонами из распалённых глоток десятков тысяч людей вырывались клубы пара. Они застывали в морозном воздухе, пеленой зыбкого тумана покрывая поле сражения, и красное солнце без лучей вскоре повисло над побоищем, тускло отражаясь в клинках и латах. И ни обозники на берегу, ни Александр Невский у Вороньего камня уже ничего не могли разглядеть, уже потеряли из виду саму битву
— Что видишь, Савка? — кричал князь Андрей снизу.
— Ничего не вижу!… — отзывался с вершины Вороньего камня Савка. — Марево над ними!… Туман…
А Невский молча мерил озёрный лёд у подножия камня коваными шагами. За ним метался Андрей.
— Что делать?… Что делать, брат?… Если Ярун не сдержит удара, мы опоздать можем…
— Не спешить, — резко сказал Александр. — И Ярун не подведёт, и дружина сдержит. Все сдержат!…
Яруну приходилось тяжко. Он был немолод, пять раз ранен в предыдущих боях, да и силы были уже не те. Сердце то начинало бешено частить, то вдруг замирало, и тогда он лишь вяло отбивал рыцарские удары. Но ни на шаг не отступал, подавая пример, и пока ещё счастливо уворачивался от длинных ливонских мечей. Никаких команд он отдавать не мог, потому что все слова глохли в рёве и звоне, да дружина его и не нуждалась сейчас ни в командах, ни в советах.
Ливонцам пока не удалось разорвать единый строй княжеских воинов. Дружинники дрались сплочённо, вовремя прикрывая левое плечо соседа, остановив первый натиск и навязав тесный и вязкий бой на месте. Они падали от рыцарских копий, но место павшего тотчас занимал воин второго ряда, не давая вновь поднять копьё. И каждый раненый, каждый умирающий делал то же самое, руками хватая пронзившие их копья и постепенно лишая рыцарей этого опасного оружия, зачастую ценой собственной жизни. Таков был закон дружинного братства и дружинной чести: умирая — помогай товарищам своим.
За спинами погибавших дружинников стоял грозный рёв сотен мужицких глоток: только так могли поддерживать сейчас княжеских воинов мужики Буслая. Ливонцы предполагали, что за дружиной окажется ополчение, видели ожидающих своей очереди угрюмых смердов, но не видели да и не могли видеть почти отвесного озёрного берега позади них. Не разглядели смертельной ловушки, подстроенной Невским, и изо всех сил стремились сейчас попасть в неё. Левое плечо Яруна прикрывал Урхо, поскольку щиты здесь ничем помочь не могли. В такой тесноте ими уже нельзя было пользоваться, они мешали соседям, и полагаться приходилось на друга слева да на собственный меч. И другом и живым щитом Яруна в этой битве был светловолосый чудин.
Урхо сражался без боевого шлема, потому что не смог подобрать ничего подходящего для собственной головы. Он приспособил мисюрку — кольчужное оголовье с железной верхушкой, прикрывавшей темя, — и соломенные кудри его, достигавшие плеч, взмокли и потемнели от пота. Меч чудин отковал для себя сам, так как обычные мечи были для него легки и маловаты, и пока уверенно отбивал им выпады рыцарей, норовя при этом свободной левой рукой перехватить древко копья. Дважды ему удавалось вырвать эти копья из ливонских рук, а один раз и стянуть с седла зазевавшегося рыцаря, которого тут же добили дружинники.
Железный, ощетиненный копьями клин все же заставил попятиться дружину. Отступали они одновременно, и это входило в задачу, которую поставил Невский: сдержать первый натиск, медленно отойти, ввести ополчение в битву и с двух сторон зажать рыло «свиньи». Но при отступлении дружинники невольно начали рвать строй, в разрывы кое-где уже вторглись рыцари, что было чрезвычайно опасно. Ярун скорее уловил это своим затуманенным сознанием, чем понял всем предыдущим опытом воина и воеводы, на мгновение оглянулся, проверяя, насколько многочисленны эти разрывы, потерял из виду противника, и тотчас же тяжёлый меч опустился на его шею, проломив кольчужное оголовье.
— Я почувствовал его боль, Ярославич, — рассказывал Невскому впоследствии Сбыслав. — Такая боль вдруг свела мне шею, ты и не поверишь…
— Верю, Ярунович, — вздохнул Александр. Отступая под натиском «железной свиньи» вместе со своим передовым полком, Сбыслав отошёл клёвому крылу русского построения, оказавшись на левом фланге осиротевшей дружины новгородцев, которой после гибели Домаша Твердиславича командовал Гаврила Олексич. Пропустив острие клина мимо себя, он повёл дружину в наступление, не давая правому крылу крестоносцев возможности развернуться. Здесь было полегче, попросторнее, чем в том месте, где «свиное рыло» столкнулось с княжеской дружиной Яруна. Бой приняли только два-три внешних ряда рыцарей, а основная масса продолжала рваться вперёд, чтобы не нарушать построения, да и задержавшиеся для отражения фланговой атаки крестоносцы вынуждены были лишь обороняться, что давало новгородцам известные преимущества.
— Эх, про багры не подумали! — сокрушался Олексич, хотя никто не мог его слышать в грохоте битвы. — Поддых бы им, поганым…
Тот же манёвр предпринял и Миша Прушанин со своей дружиной, яростно налетев на левое крыло атакующего клина крестоносцев. И здесь два-три ряда рыцарей вынуждены были остановиться и принять навязанный им бой, что не только не позволило развернуть крылья, но в известной мере и облегчило участь княжеской дружины. Новгородские дружинники Миши бились с неистовым, почти восторженным кличем, беря пример со своего разудалого вождя, который не мог сражаться молча просто в силу собственного неуёмного нрава: для него каждая битва была всего лишь продолжением весёлых вечевых потасовок.
Потом, после побоища, когда начались воспоминания, рассказы и беседы, дружинники князя Александра никак не могли понять, что заставило Урхо прикрыть своим телом тяжело раненного Яруна. Но он — прикрыл, и тотчас же два копья вонзились в его широкую, как телега, спину, пробив кольчугу насквозь. Чудской богатырь нашёл в себе силы привстать и резко повернуться, тяжестью собственного тела вырвав оба древка из рыцарских рук. Как ни странно, но эта двойная гибель на какое-то крохотное мгновение остановила бой, что позволило дружинникам сомкнуться, а затем в порядке отступать, втягивая крестоносцев в свежие ряды разъярённых мужиков Буслая.
Тем временем на левом крыле Сбыслав, предоставив новгородцам самим нажимать на рыцарей, успел собрать своих конников и во главе их внезапно для ливонцев прорвался внутрь клина, на зажатую крыльями собственного прикрытия пехоту. Пробил второпях неровно построенное щитовое заграждение, обрушив на кнехтов мечи и копыта, и они заметались в тесноте, уходя от мечей и копыт и путая строгий рыцарский строй.
Но ливонцы быстро оправились и от этого внезапного удара. Рыцари внутренних линий клина тут же развернули своих коней против немногочисленных всадников Сбыслава, со всех сторон набегала пехота, грозя полным окружением, и Сбыслав сорвал голос, собирая своих людей. Прорываться назад, к Олекси-чу, было уже поздно, и он без колебаний повёл свой небольшой отряд к дружине Миши Прушанина, атакующей левое крыло крестоносцев. Немногие вернулись из этого дерзкого налёта, но главное было достигнуто: они ещё раз задержали ливонцев, смешали строгое построение клина и ослабили силу его натиска на неопытное и плохо вооружённое ополчение.
Мужики Буслая встретили рыцарей столь бесстрашно и дружно, что те поначалу даже несколько растерялись: противник сражался неизвестными им способами. Смерды не придерживались единой линии, кидались вдруг, скопом, пятеро на одного, бросали драные полушубки на мечи и тут же хватались за них, стаскивая рыцарей с сёдел. Их тяжёлые топоры и дубины гнули железо доспехов, ливонцы глохли и теряли сознание от грохота ударов по глухим шлемам, мужики гибли десятками, но на месте павших тут же оказывались другие.
— Бей их, мужики!… — неистово орал Буслай, размахивая припасённым колуном на длинной ручке, при удачном ударе которого шатались и падали рыцарские кони.
Ливонцам самое время было раздаться и выпустить из глубины клина пехоту, чтобы та стрелами расчистила им путь. Но все их попытки развернуться упорно сдерживали отошедшие на обе стороны «свиной головы» дружинники Невского, обретшие новое дыхание и новую ярость. Клин затоптался, сзади его поджимали накатывающиеся ряды рыцарей из глубины, которым уже невозможно было остановиться. В пылу схватки Буслай уже позабыл о приказе Невского чуть отступить и пропустить рыцарей к береговому обрыву, но ливонцы обречены были сами исполнять тактический замысел своего противника: им необходимо было во что бы то ни стало вырваться из свалки, а прорываться оказалось возможным только вперёд. Воинами они были опытными, а потому утроили свои усилия, понимая, что в этой сумятице все преимущества перешли на сторону оборонявшихся.
Острие клина затупилось, уткнувшись в дружное и отчаянное сопротивление, разгон «железной свиньи» захлебнулся в тесной и вязкой обороне, и рыцарям пришлось скорее проламываться на простор, чем с ходу пробиваться к нему. Но они проломились, частью изрубив, частью потоптав упрямых мужиков. Проломились, успели дисциплинированно перестроиться, набрать новый разгон и… и на этом разгоне упёрлись заново созданным остриём в непреодолимый береговой обрыв урочища Узмень. Кони их завязли в наметённом под крутым берегом снегу, клин стал плющиться, расползаться, а сзади накатывали все новые и новые волны рыцарей и кнехтов.
— Упёрлись!… — в восторге заорал Савка с вершины Вороньего камня. — Рылом в обрыв упёрлись!…
— Наш черёд, брат, — облегчённо вздохнул Александр, перекрестившись и надевая боевой шлем. — За Русь!…
Закалённая в боях, хорошо отдохнувшая дружина великого князя Ярослава на ходкой рыси ударила с тыла в ливонский клин. И хотя не успевших принять участие в сражении рыцарей в нем было несравненно больше, чем в голове «свиньи», им пришлось останавливаться и разворачиваться для боя. Это требовало времени, но как раз времени Невский им и не дал. Кони отцовских дружинников были перекованы, лучше держались на льду, а значит, хорошо слушались повода и не боялись скачки. Да и сами дружинники были куда подвижнее и легче закованных в глухие латы, грозных, как башни, но и неуклюжих, как башни, рыцарей Они привыкли сражаться в монолитном строю, но всадники князя Александра не дали им возможности выстроиться. Битва сразу распалась на отдельные схватки, в которых малоподвижные и плохо видящие сквозь узкие прорези шлемов ливонцы были обречены.
А ударного мощного клина более не существовало. Упёршись в крутой обрыв, он разбился, сплющился, распался на две плохо организованные группы, которые цепко держали новгородские дружинники. Уцелевшие ополченцы во главе с Буслаем тут же навалились на них снова, в ход пошли багры, крючья, топоры да ножи-засапожники Рыцарей стаскивали с сёдел, резали сухожилия их лошадям, прыгали на крупы позади всадников, хватали их и вместе с ними падали на окровавленный лёд, и нет слов, чтобы описать всю ярость и жестокость этого побоища.
Вначале организованнее всех сопротивлялись кнехты. До сей поры они сплочённо бежали внутри клина, лишь изредка, если удавалось, завязывая скоротечные бои в разрывах рыцарского строя Теперь, когда этого строя не стало, кнехты, огородившись щитами, образовывали островки сопротивления, защищаясь стрельбой из луков и не пытаясь спасаться бегством. Кажется, они первыми поняли, что ливонцы потерпели поражение, и выжидали сейчас, когда угаснет ярость, чтобы сдаться победителям на милость.
Но рыцари продолжали сопротивляться упорно и умело, то ли из гордого чувства собственной избранности, то ли просто потому, что понимали, сколь опасно отступать по льду, подставляя противнику беззащитную спину. Умело отбиваясь от ливонских мечей и нанося мощные ответные удары, князь Александр ни на миг не упускал из виду сражения в целом. Он не мог увидеть всего, находясь в центре схватки, но по реву и звону битвы, по скученности воинов отчётливо представлял себе общую картину Голова «свиньи» была практически отрезана, не могла уже выбраться из капкана и повлиять на дальнейший ход битвы, но ещё вполне боеспособная огромная масса центра не утратила пока возможности развернуться, прорваться, выставить заградительный отряд и под его прикрытием организованно отойти к Соболиц-кому берегу.
— Савка!… — закричал он, не оглядываясь, понимая, что верный оруженосец прикрывает сейчас его левое плечо. — Скачи к Олексичу! К Олексичу!… Пусть загнёт своё крыло и отрежет рыцарям отход!…
Савка помчался, ища кратчайший путь меж остервенело сражающимися группами. Он сумел прорваться, передал Гавриле приказ Невского, от него тут,же поспешил к Мише Прушанину, но пересечь поле битвы вторично ему не удалось. Может быть, поторопился, может быть, понадеялся на удачу, может быть, не успел увернуться, а только тяжкий тевтонский меч нашёл его незащищённую спину…
В невероятной сумятице решающей рукопашной схватки Гаврила Олексич все же умудрился исполнить приказ Невского и закрыл рыцарям отход к Со-болицкому берегу. И вовремя: они начали отступать по знакомому пути, но вразброд, без команды, стихийно, и новгородской дружине Олексича удалось повернуть их в иную сторону. В глубину озера, в обход дружинников Миши Прушанина. Миша увидел в панике отходящих ливонцев и бросился наперехват, вскочив на потерявшего седока ливонского коня и далеко опередив своих дружинников. И здесь удача изменила неистовому новгородскому воеводе: с разбега он не сумел отвернуть чужого коня от прямого удара мечом. Жеребец упал вместе с всадником, и Мишу Прушанина втоптали в лёд копыта тяжёлых рыцарских коней…
Это заметил Сбыслав и помчался на помощь вместе со своими уцелевшими дружинниками из передового заслона. За ними с яростным рёвом бежали новгородцы, ослеплённые неистовой жаждой мести. Сбыслав первым доскакал до раздавленного безды-ханного друга, спешился, упал на колени, поднял окровавленную голову…
— Вдогон!… — прокричал кто-то рядом.
Подле остановил коня радостно возбуждённый князь Андрей с мечом в руке.
— Мишу убили…
— Вдогон, Сбыслав! Мише уже не поможешь!…
Паническое бегство охватило всех ливонцев. Уносили ноги из кровавой сечи рыцари, нещадно понукая коней. Кони скользили, часто падали, и тогда на неуклюжего спешенного рыцаря скопом бросались новгородцы. Бежали кнехты, побросав щиты и луки, без сопротивления подставляя беззащитные спины, но новгородцы на них не разменивались. Их яростной целью были только рыцари, и в этом преследовании пленных они не брали.
Отрезанные от ближайшей до спасительного противоположного берега дороги, ливонцы просто стремились уйти подальше от ярости победителей, поэтому и убегали в неведомую им сумрачную даль огромного ледяного пространства. Бежали они вразнобой, каждый сам по себе, но при этом инстинктивно старались держаться вместе, поближе друг к другу. Не для обороны — они о ней уже не думали, — а из страха перед неизвестностью, из боязни заблудиться, а то и потеряться в сумрачных и безмолвных ледяных просторах.
За ними упорно гнались и конные, и пешие, и остановить их было сейчас невозможно. Конные дружинники, во главе которых скакали князь Андрей и Сбыслав, висели на хвосте отступающих, не задерживаясь в схватках, а стремясь лишь сбить, спешить рыцарей, предоставляя остальное пешим Новгородским дружинникам, потерявшим двух любимых своих воевод. Спешившийся рыцарь на льду да в одиночестве сражаться уже не мог (лишь наиболее упорные из них обречённо отмахивались мечом), и подавляющее большинство опускалось на колени, кладя перед собой меч. Первым из них не повезло, потому что новгородцы ещё не утолили ослепляющей жажды мести, но последующих уже просто вязали, надевали им петли на шеи и вели в тыл.
Это потом объяснили, что бегущие, не знающие особенностей Чудского озера рыцари с ходу вылетели на место, где били ключи, а потому и лёд над ними был тонок. Лёд тонок, а ливонцы тяжелы, да — с бега, да — скопом, и это стало последней точкой как их массового бегства, так и массового преследования. Раздался треск, по льду побежали трещины, и чёрная смертная вода хлынула поверх него.
А рыцарские кони не могли остановиться. Увлекаемые общим потоком бегущих, они вылетали на треснувший, во многих местах уже залитый водой лёд, падали, кроша и ломая его, и огромная прорубь все росла и росла. Закованные в броню рыцари камнем шли ко дну вместе с лошадьми, и только лёгкие кнехты некоторое время ещё держались на плаву, цепляясь за ускользавшие из рук обломки льдин.
И многим из настигающих ливонцев русских дружинников не повезло тоже. Распалённые скачкой кони не слушались поводьев, всадники поздно замечали опасность и десятками летели в последнюю купель вослед за рыцарями.
Не удержал коня и князь Андрей. Правда, он успел выдернуть из стремян ноги, а попав в воду, успел и уцепиться за льдину, но льдина вертелась в проруби, и князь вертелся вместе с нею.
Сбыслав ещё издали учуял опасность и начал осаживать своего аргамака. Спрыгнув с седла, он схватил притороченный аркан, свободный конец которого был надёжно закреплён за луку седла, бросился к краю ледяного пролома и метнул аркан Андрею. Князь из последних сил барахтался в проруби, судорожно цепляясь за льдину закоченевшими руками. Однако у него хватило сил, чтобы поймать петлю.
— Держись!… — кричал Сбыслав. — Держись, вытащу!…
Он стал тянуть Андрея к себе, с трудом удерживаясь на мокром скользком льду. И — не удержался: вдруг поехали ноги, и Сбыслав тут же оказался в ледяной воде. Но аркан из рук не выпустил, хотя окунулся с головой.
— Тонем!… — отчаянно выкрикнул Андрей. — Тонем, брат, тонем!…
Сбыслав не мог ответить: от холода перехватило горло. Но — свистнул. Свистнул негромко, сведёнными от холода губами, но вымуштрованный чуткий конь среди воплей людей, треска льда и шумных всплесков воды уловил знакомую команду. Уловил, осторожно развернулся и во всю прыть помчался назад. Аркан натянулся, чалый чуть дёрнул боком, заскользив вдруг, но удержался на ногах и снова погнал вперёд, вытаскивая на крепкий лёд Андрея и Сбысла-ва. Выбравшись из полыньи, Сбыслав первым делом ножом перерезал аркан и подхватил Андрея.
— Бежать надо! Бежать, Андрей, а то заледенеем…
— Сил нет, Сбыслав…
— Через силу бежать. Через силу!…
— Погоди… Отдышаться дай…
— Нет! — кричал Сбыслав, колотя кулаками князя. — Вперёд! Вперёд, Андрей!… Помрём ведь…
Он силой заставил князя Андрея встать, потащил за собой, вцепившись в кольчужное ожерелье и все время крича: «Вперёд, вперёд!…» И Андрей покорно, хотя и через силу бежал за ним, и то ли ледяная вода, то ли горячие слезы текли по его юному, неузнаваемо осунувшемуся лицу…
А жеребец, ошутив свободу, остановился и призывно заржал. Качаясь и падая, Сбыслав и Андрей кое-как добежали до него.
— За стремя хватайся!… — задыхаясь, из последних сил прокричал Сбыслав. — За стремя!…
Так, держась за стремена по обе стороны чалого и громыхая обледеневшими кольчугами, они добрались до своих. До самого Александра Невского.
— Снимите с них железо! — гаркнул Александр. — Шубы им и свежих коней!…
— Он… Он спас меня, Александр… — задыхаясь, бормотал Андрей. — Он, Сбыслав…
— Не забудут этого ни сыны наши, ни внуки, ни правнуки, боярин Сбыслав Ярунович!… — торжественно воскликнул Александр Невский.
И, сняв боевой шлем, широко перекрестился на темнеющий восток.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Князь Андрей и новожалованный на поле брани боярин Сбыслав Ярунович на свежих конях быстро добрались до самого Узменьского урочища, хоть путь их был завален трупами, умирающими и ранеными, а конские копыта скользили по обильно пролитой крови. От неимоверной усталости и всего пережитого князь сразу же впал в беспамятство, а Сбыслав, выпив две добрые чарки горячего мёда, ощутил вдруг небывалый приступ голода. Яков Полочанин, уложив Андрея в шатре под тремя шубами, угощал молодого боярина тут же, жадно расспрашивая о побоище.
— До смертного часа глаза мои кровь не забудут, а уши — крики людские, — угрюмо сказал Сбыслав. — Тяжкое испытание послал Руси Господь, и больно душе моей, Яков.
— Но побили ведь их. Побили, побили!…
— Сам поглядишь. Тебе трупы да раненых вывозить.
— Слышишь трубы княжеские, Ярунович?
— Стоны я слышу. — Сбыслав встал. — И жив ли отец, не знаю. И где чалый, спаситель мой? Хоть бы Догадались попонами его прикрыть… Дай коня, Яков. И обозников на лёд гони, там раненых много.
Толком не отдохнув — да дело молодое! — он добрался до центрального места побоища. Ревели трубы, заглушая стоны, уцелевшие дружинники и ополченцы в запале ещё что-то кричали, размахивая оружием, плакали и смеялись одновременно, но князя Александра Сбыслав не нашёл. Зато нашёл своего аргамака. Он стоял под княжеским стягом, заботливо укутанный попонами. Сбыслав обнял его за длинную шею, поцеловал в морду, угостил краюхой хлеба, густо посыпанной солью.
— Пить тебе не давали? Вздохнул чалый.
— Терпи, нельзя сейчас. И меня жди. Я отца найти должен.
Оскользаясь в крови, он долго бродил по истоптанному льду. С ним заговаривали, кто-то обнимал, кто-то целовал — Сбыслав потом ничего не мог вспомнить. Растаскивая тела убитых, всматривался в смертные лица, расспрашивал раненых и уцелевших, да во все всмотреться, всех расспросить было невозможно.
Стон стоял над застывшим Ледовым побоищем, точно стонало все огромное Чудское озеро. Страшный, уходящий в небытие стон умирающих, истекающих кровью, замерзающих воинов, превратившихся вдруг в беспомощных парнишек, зовущих маму. И слово это витало поверх всего поля сражения в тяжких испарениях отлетающих душ.
Стало уже темно, но кто-то сунул Сбыславу факел, кто-то помогал ему растаскивать тела: он потом не мог вспомнить этих добрых людей, как ни старался. Его качало от невероятной усталости, но он упрямо искал отца. И — нашёл.
— Прощай.
Почему— то рядом оказался Буслай с кое-как перевязанной головой.
— Ярун, что ли?
— Отец.
— Куда же ты его тащишь? Эй, мужики, подсобите боярину. — Буслай обнял Сбыслава за плечи. — Обопрись на меня, я — здоровый. И слезы не удерживай, я тоже реву. Все мы сейчас — дети…
В стонущем окровавленном поле мелькали факелы. Обозники и женщины из Пскова подбирали раненых и вывозили их на берег, оставляя мёртвых до утра. Хотели помочь смердам, тащившим тело Яруна, но Буслай не дал-
— К Невскому его. То сам воевода Ярун. Сменяя друг друга, мужики-ополченцы дотащили тяжёлое тело воеводы до княжеского шатра на берегу. Смерды, сняв шапки и низко поклонившись Яруну, ушли, а Буслай остался. Сбыслав снял с отца шлем, бережно перебирал седые спутанные кудри.
— Железо с него сними, — тихо сказал Буслай. — Холодно в нем, поди.
Вдвоём они с трудом стащили броню с начинавшего коченеть тела. Сбыслав стал оправлять сбившуюся, залитую кровью одежду, наткнулся на свиток за пазухой, развернул.
— Что там? — спросил Буслай.
— Князя найди.
Буслай сразу же ушёл, не спрашивая, зачем да почему. Не до того было: все в этот час говорили коротко, отрывисто, потому что в душах ещё не улеглась битва. Ещё воевала душа каждого, ещё кипела и пенилась, и покойными были только мёртвые.
Быстро подошёл Невский. Опустился на одно колено, снял шлем.
— Дядька мой… — Поцеловал Яруна в лоб, поднялся. — В Псков отвезёшь его. Там отпевать будем. Скажи Якову, Буслай, чтоб розвальни дал. Осиротила тебя судьба, Ярунович.
Сбыслав молча протянул Александру послание великого князя Ярослава.
Во всех соборах, церквах, а то и просто у братских могил на погостах отпевали погибших. И хоть великая была победа, хоть каждый и ощущал её, скорбно было во Пскове и в Новгороде. Невский старался попасть на все последние поклоны, ел урывками, почти не спал, почернел и осунулся настолько, что борода торчала клином.
— Простит меня княгинюшка моя, что не простился я с нею.
Князь Андрей свалился в горячке, Гаврила Олексич тяжко страдал от ран, и Александра повсюду сопровождали Сбыслав и Яков Полочанин да иногда Бус-лай, которого заметно приблизил Невский, будто увидел в нем знакомые черты погибшего Миши Пру-шанина. А как засыпали последнюю братскую могилу, сказал:
— Принимай Мишину дружину, Буслай.
— Не потяну, Ярославич.
— Потянешь.
На следующий день Невский выехал в Новгород, оставив отцовскую дружину на Будимира во Пскове. Это удивило Сбыслава, но Александр лишь буркнул в ответ:
— Отсюда до литовцев ближе.
— Дружину потрепали сильно, Ярославич.
— Этим Будимир займётся. А ты, боярин, отвезёшь Андрея во Владимир, расскажешь отцу о побоище и выпросишь для меня его дружину.
Невский был хмур и озабочен. Внезапное известие о кончине жены, большие потери и огромное напряжение последних недель выбили его из привычной колеи. Он понимал, что орден потерял ещё больше и тоже нуждается в мире, но велел Якову По-лочанину разговаривать с его послами как победитель, твёрдо отстаивая свои условия. Успех следовало закрепить, и, буркнув Сбыславу о литовцах, князь сознательно выдал свой замысел. Впрямую не поддерживая ливонцев, Литва косвенно помогала им, захватывая соседние русские княжества, и гибель Брячислава Полоцкого, помноженная на смерть его дочери, камнем висели на совести Александра. Сбыслав сразу понял причину такого решения, потому что знад о смерти княгини Александры, но Яков не знал и заспорил, утверждая, что и сил мало, и людям отдохнуть надобно.
— Я сказал!… — рявкнул Невский, и Литовский поход был решён.
— Трепал я литовцев многажды, — вздохнул великий князь Ярослав. — Воины они упорные, да и сил у них сейчас поболе, чем у Александра, но победы дух умножают. А такой, как победа ледовая, на много поколений хватит.
Этот разговор возник, когда князь Андрей уже настолько поправился, что начал принимать участие в беседах. А ещё до этого, в первый же день приезда во Владимир, он рассказал отцу, кто его спас, хотя сам Сбыслав об этом не обмолвился ни словечком. И в первый же вечер, когда Андрей, поведав о подробностях спасения, ещё метался в поту и жару, великий князь принёс ларец, открыл его и торжественно надел на шею Сбыслава тяжёлую княжескую цепь.
— Это цепь твоего отца, Сбыслав. Носи с честью. А ночью молился и плакал счастливыми слезами, поражаясь Провидению Господню, которое восчувствовал в переплетениях судьбы, гордился отважными сыновьями и глубоко скорбел о Яруне.
— Бог дал, Бог взял. Все мы в руце Его.
Андрей выздоравливал медленно, и великий князь с молодым боярином каждый вечер засиживались допоздна. Сбыслав подробно рассказывал о Ледовом побоище, а князь Ярослав жадно расспрашивал, восторгался, горевал и умилялся. Он всегда был человеком открытым, порою непредсказуемо импульсивным, но с годами растерял дерзкое своё упрямство, стал мягче, добрее и сентиментальнее. Постепенно отходил от общерусских дел, перестал видеться с Не-гоем, а после взятия Невским Пскова окончательно замкнулся на собственном княжестве. Строил церкви и монастыри, не только упорно насаждая христианство, но и, пользуясь ханской милостью, ловко пряча в их имуществе собственные доходы от татарских баскаков. И совсем уж неожиданно для многих в тот жестокий век открыл первый приют для вдов, сирот и обесчещенных девиц.
— Дружину Александру надобно заново собирать, отец, — сказал Андрей, впервые оставшись на вечернюю беседу. — Он её в лоб поставил, под удар самых отборных рыцарей.
— Подсоблю. — Великий князь долго смотрел на осунувшегося, повзрослевшего сына, улыбнулся вдруг: — В Переяславль не хочешь поехать? Отдохнёшь, поправишься.
— Да ну! — отмахнулся Андрей. — Скучно там.
— Там дочь Даниила Галицкого гостит. Приехала на похороны княгинюшки Александры да и задержалась. Девица красивая, собой видная, так что не заскучаешь. Вместе княжича Василия пестовать будете.
— А Сбыслав? — помолчав, спросил Андрей.
— Сбыслав мне нужен, — сказал великий князь. — Батый велел Александру после победы над ливонца-ми в Орду приехать, а он не сможет сейчас. Значит, о побоище Сбыславу придётся рассказывать. Да и мне пришла пора хану поклониться, от этого уже не отвертишься. А ссориться с ними нам сейчас совсем не с руки, сыны мои. Не с руки. Так что поезжай-ка, Андрей, в Переяславль один, а мы со Сбыславом — в Орду. Так-то оно вернее будет. И князю Невскому поспокойнее. Как рассудишь, боярин?
— Ехать надо, — сказал Сбыслав. — Татары обидчивы и злопамятны, особенно в мелочах. А там Чог-дар пока в чести.
— Стало быть, как воды спадут, так и выедем, — решил Ярослав. — А ты, Андрей, сейчас в Переяславль собирайся. Пока Даниловна там гостит.
Но в Орду выехали нескоро, и великий князь знал, что выедут они нескоро, а говорил так только для того, чтобы поскорее спровадить Андрея в Переяславль. Уж очень ему понравилась чернобровая рассудительная дочь Даниила Галицкого, а сватать Ярослав любил.
Да и дел было невпроворот. Отсеяться следовало с большим запасом, потому что вся тяжесть ливонской войны легла на Псков и Новгород, которым и в мирные-то времена не хватало своего хлеба. И беженцев с тех опалённых сражениями земель уже появилось немало, и князь полагал, что появится их ещё больше, когда подсчитают новгородские семьи потери своих кормильцев. Поэтому решил вдоль всех дорог, ведущих к Новгороду, засеять «сиротскую долю». Так тогда назывались посевы репы, гороха, редьки да брюквы, брать которые мог любой нуждающийся в пропитании. И о жильё для беженцев подумать следовало, а вопрос этот был сложным, потому что и своих бездомных да безземельных ещё хватало со времён татарского нашествия. И великий князь вместе с думными боярами да церковными иерархами давно уж ломал над этим голову. Привычный мир изменился как-то сразу, вдруг, и некогда беспечный, своенравный и своевольный Ярослав менялся вместе с этим миром.
— Господи, не покинь меня во дни мои многотрудные, — истово молился он вечерами. — Господи, вразуми меня…
Андрей вместе со Сбыславом уехали в Перея-славль. Впрочем, Сбыслав лишь довёз туда Андрея, распрощавшись чуть ли не на пороге. Уж очень боялся он столкнуться глазами с той боярыней, которой сказал когда-то о гибели князя Брячислава.
И опять вечерами они долго сидели за беседой. Исчерпав в конце концов тему самого побоища, перешли на его участников, которых знал великий князь и о которых подробно расспрашивал. Так дошли до Гаврилы Олексича, и Ярослав вытянул из Сбыслава сведения о свадьбе, отложенной до победы.
— Негоже, Сбыслав, в такой час радостный друга бросать. Поезжай, отгуляй свадьбу, мой подарок молодым передашь.
И была свадьба, не очень-то шумная, но — дружная. Олексич ещё покряхтывал от болей в переломанных рёбрах, но держался молодцом, как и положено жениху Одно огорчало: Невский не смог почтить их своим присутствием, залечивая внутреннюю боль и досаждающие мысли стремительными бросками и яростным мечом. Но о свадьбе не забыл: прислал Якова Полочанина с дарами из Литвы.
А ведь хотел приехать и, что уж греха таить, мог приехать Но в последний момент дела повернулись неожиданно.
— Литовцы просят о свидании, Ярославич, — доложил Яков за сутки до намеченного отъезда на свадьбу.
— Я бить их пришёл, а не видеться с ними.
— Намекают, что этого хочет Миндовг.
— Миндовг?…
Имя великого князя Литовского было хорошо знакомо Невскому. Не только потому, что князь был дерзок в замыслах и удачлив в битвах, но и потому, что был ровесником Александра. Об этом когда-то поведал хорошо знавший литовцев покойный Брячислав, и совпадение поразило Невского, потому что позволяло сравнивать судьбы. Общим оказался не просто год рождения — общими оказались задачи, которые ставила жизнь перед молодыми князьями: борьба с удельной раздроблённостью мечом и с внешней опасностью — тонким расчётом.
— Сведи меня с ним и поезжай в Новгород Яков оговорил время и порядок свидания и отправился на свадьбу А Невский в назначенный вечер выехал в оговорённое место с двумя отроками и небольшой стражей во главе с Будимиром.
На опушке леса их ждал литовский отряд той же численности. От него отделился всадник в нарядной одежде и лёгком шлеме с белым султаном.
— Миндовг, — определил Александр, тронув коня навстречу
Съехались, остановившись в шаге друг от друга, и Миндовг первым снял шлем и склонился в седле
— Прими поклон, великий князь Невский, — по-русски довольно свободно сказал Миндовг.
— Прими и ты мой поклон, великий князь Литовский.
Они сблизились и крепко пожали друг другу руки.
— Неподалёку — уединённый хутор, — сказал Миндовг. — Если ты не против, мы могли бы поговорить там за кружкой доброго литовского пива, князь Александр.
Хутор стоял на острове посреди болота, к нему вела почти невидимая тропа, но Миндовг хорошо её знал. Там их ждала немногочисленная челядь, в доме был накрыт стол. Князья, не сговариваясь, взяли по одному отроку, приказали страже совместно охранять их и уселись друг против друга.
— Я очень благодарен тебе, Александр, — сказал Миндовг после первой заздравной кружки. — Больше того, я — твой должник, потому что ты выполнил за меня добрую работу — набил заносчивые морды моим своенравным племянникам.
— Сочтёмся, — без улыбки отметил Невский. — Ты прикрыл ливонцам правое крыло в этой войне, а я-то думал, что орден такой же враг Литвы, как и Руси.
— Даже больше, — вздохнул Миндовг. — Только Литва — не Русь, и крестоносцы — не татары. И если тебе приходится лишь притоптывать в лад татарскому барабану, то я вынужден плясать под ливонскую дудку. И при этом прикидывать, когда же мне принять католичество, чтобы спасти свой народ.
— Вера скрепляет народы.
— Какая, Александр? Наша с тобой, то есть княжеская? Она кончается за порогом наших усадеб, а народ живёт так, как жили его предки, и верует в то, во что веровали предки. И я все время прикидываю, с кем же мне выгоднее быть: с чужим Богом или со своим народом?
— Выгоднее?
— Ты тоже прикидываешь, князь. Прикидываешь, кому что обещать, кому как сказать, кого чем пожаловать. А ведь тебе куда легче, чем мне. Ты отбиваешься от запада и востока, а я — на все четыре стороны: на севере — от крестоносцев, на западе — от Польши, на юге — от Даниила Галицкого и на востоке — от тебя. А ведь я с орденом пить пиво не собираюсь. Я с тобой хочу его пить.
— Пиво сначала надо сварить, Миндовг.
— Давай варить, Александр. — Миндовг помолчал. — В Кенигсберге перед собором каждый день собирается орущая толпа Им показывают покалеченных твоими воинами рыцарей, а рыцари поясняют, что ты — азиатский варвар хуже татар Но рыцарям верят в Европе, потому что так угодно Папе, и все готовятся к новому крестовому походу против русских еретиков. Орден вот-вот придёт в себя и начнёт наращивать силы.
— И ты опять займёшь место на их левом крыле, — усмехнулся Александр.
— Если мы с тобой ничего не предпримем, меня заставят занять это место. У нас в запасе не так-то много времени, чтобы помешать этому, Александр Ты повёл против меня отцовскую дружину, потому что твою собственную потрепали крестоносцы, а у Европы опытных воинов — бездонная бочка. Через десять-пятнадцать лет они соберут могучую армию и вновь ринутся на тебя. «Дранг нах остен» написано на их знамёнах, потому что в Европе стало тесно.
— Где собираются уцелевшие после ледового разгрома рыцари? — помолчав, спросил Невский.
— В земле куршей.
— Совсем рядом с тобой, Миндовг, — улыбнулся Александр.
— Потому-то я и пригласил тебя на это свидание, — буркнул Миндовг, наливая пиво в кружки. — Перестань клевать меня в задницу, и я отточу свой клюв.
— Литовцы убили моего тестя, полоцкого князя Брячислава.
— Каждый из нас, Невский, собирает в единое целое свои народы. Перед нами великая цель, которую нельзя разменивать на кровную месть. Недопустимо разменивать.
— Перед нами — великая цель, — задумчиво повторил Александр.
Он прихлёбывал густое чёрное пиво, неторопливо размышляя. Литовский князь открыто дал понять, что добьёт самых опытных рыцарей до подхода основных подкреплений из Европы, если Невский прекратит Литовскую войну. Это было выгодное предложение: выигрывалось время для того, чтобы передохнуть, восстановить собственную дружину, залечить раны. Миндовг все больше нравился ему, хотя его расчётливое, по сути торгашеское отношение к религии досадно противоречило представлениям Александра. Кроме того, требовалось выяснить, почему столь важный договор великий князь Литовский решил провести с глазу на глаз, без хитроумных советников.
— Если ты поверишь в моё слово так, как я поверю в твоё, нам не понадобятся ни письменные обязательства, ни свидетели, — пояснил Миндовг, когда Александр прямо спросил его об этом. — У ливонцев много купленных языков и купленных ушей.
— Когда ты можешь выполнить свою долю наших условий?
— Через год после того, как ты прекратишь войну против меня. Нам невыгодно обманывать друг друга, Александр.
— Ты опять заговорил о выгоде, — с неудовольствием сказал Невский. — Вера для тебя — товар, военный договор — тоже товар. Неужели все продаётся и все покупается?
— Все, когда речь идёт о судьбе народа. О том, выживет он или будет растоптан, как растоптаны пруссы, курши, твои половцы. И ты тоже что-то продашь, что-то купишь, когда на кон будет поставлено само будущее русичей. Мы оба готовы к любым мукам в загробном мире, только бы народы наши избежали ада на земле. Или я ошибся в тебе, Александр?
— Не ошибся, Миндовг, — улыбнулся Невский и протянул через стол руку. — Вот тебе моё слово.
Из Каракорума вести приходили более или менее регулярно: перед бегством Ючень построил прочную цепочку из своих людей. Но вести были неутешительными. До курултая власть по законам Ясы принадлежала вдове Угедея Турачине, однако войском безраздельно распоряжался Гуюк. И, судя по всему, подтягивал к столице империи верные ему тумены, отодвигая подальше сторонников Бату-хана. Казней, правда, ещё не было, но как Ючень, так и Чогдар не сомневались, что, собрав надёжных сторонников, Гуюк начнёт устранять неугодных ему офицеров и чиновников.
Бату свято исполнял последнюю волю Субедей-ба-гатура, повелев Чогдару находиться при нем в качестве главного советника. Однако пока обязанности последнего сводились к частым беседам с ханом, в которых особой надобности в советах не возникало. Для себя Чогдар объяснял это свойственной Бату недоверчивостью, старался быть кратким и точным в ответах, когда к нему обращались с вопросом, и — ждал, понимая, что иного ему сейчас просто не дано. Кроме того, существовал лукавый, умный и проницательный Ючень, своевременно подбросивший Бату-хану мысль о строительстве собственной столицы. В этом был резкий вызов Каракоруму и всей центральной власти, что особенно нравилось властителю Золотой Орды.
Степную столицу, заранее названную Сараем (Дворцом), строили по плану Юченя, согласованному с Бату-ханом. План предусматривал центральную площадь с огромным ханским дворцом, от которой расходились прямые дороги по основным направлениям: в собственно Монголию, на Кавказ, в Крым, в Киев, Рязань и Владимиро-Суздальское княжество.
Пленных и рабов хватало, кибиточный город рос со сказочной быстротой, дороги с обязательными ямскими поставами на каждом дневном перегоне протягивались, естественно, медленнее, но строительная лихорадка заменяла вынужденное отсутствие военных походов Будущая столица оказалась главным занятием как для хана, так и для его окружения, вокруг неё были сосредоточены все ожидания, советы и споры, и главный строитель — а таковым, естественно, стал Ючень — мудро и неторопливо подбирал ключи ко всем сколько-нибудь значимым сердцам.
Это не ускользнуло от Чогдара, насторожило, но особенного беспокойства не вызвало. Во-первых, возведение города и прокладка дорог требовали денег, в которых надлежало отчитываться по окончании работ, а Бату отличался известной скупостью. А во-вторых, и это главное, наследник престола царевич Сартак не разделял общего восторга, относился к Юченю насторожённо и демонстративно предпочитал ему Чогдара.
— Даже приручённая лиса по ночам жрёт кур из хозяйского курятника, — громко говорил он, нимало не беспокоясь о том, что эти слова тут же повторят Юченю. — Поедем на охоту, Чогдар, у меня першит в горле от поднятой пыли.
Однако Ючень был опытным царедворцем, отлично понимал, что Золотая Орда есть его последнее прибежище, а её владыка не вечен. Он изо всех сил избегал споров, а уж тем паче прямых столкновений с любимым сыном властелина и был подчёркнуто почтителен с Чогдаром. Бату-хан все видел и все понимал, но ни во что не вмешивался, не давая перевеса ни одной из сторон в этой возне под войлоком. Чогдар нужен был ему не столько для грядущих войн, сколько ради упрощения отношений с северными русскими княжествами, Ючень — для той же роли на востоке, а потому преждевременно было кого-то выдвигать в первый ряд перед собственным троном. Наоборот, небольшой раскол среди вельмож сейчас выглядел предпочтительнее показного единодушия, поскольку достаточно ясно выявлял их настроения и надежды на будущее. Все зависело от завтрашнего дня, но сам завтрашний день от Бату уже не зависел. Все решали сто сорок тысяч монгольских воинов и неисчерпаемая казна Чингисхана. И — рука, которая получит на грядущем курултае право первой залезть в эту казну.
— Господин главный советник, могу ли я испросить разрешения уделить мне совсем немного вашего драгоценного времени?
Ючень умел быть на редкость медоточивым, сладким до приторности, но Чогдар терпел, не позволяя себе даже сдвинуть брови. Только улыбка — мягкая, вежливая, поощрительная — должна была служить отмычкой будущей беседы.
— Внимательно слушаю вас, господин старший советник. Не угодно ли присесть?
Ючень первым явился на беседу с глазу на глаз, доселе такого не случалось. Следовательно, возникли какие-то новые обстоятельства, грозящие пошатнуть неустойчивое равновесие под войлоком. Чогдар прошёл хорошую школу в юности, держась за стремя самого Субедей-багатура, а потому был подчёркнуто вежлив, сам наполнял чаши кумысом и ни о чем не спрашивал. Говорящий первым всегда высовывается из-за собственного щита, каким бы лукавством он ни обладал.
— Важные известия из Каракорума, господин главный советник Источник заслуживает доверия.
Ючень замолчал, но Чогдар лишь поощрительно улыбнулся.
— Гукж уговорил свою матушку ханшу Туракину предоставить христианам-несторианцам преимущественные права, весьма похожие на те, которые великий Бату-хан даровал Русской Православной Церкви.
И вновь китаец многозначительно помолчал, но, не дождавшись ни слова от собеседника, вынужден был сам продолжать разговор.
— В монгольской армии много христиан, господин главный советник. Да, внешне они соблюдают обряды своей племенной религии, тем более что не-сторианство обходится без церквей. Веруют во Христа, но не признают божественности Божьей Матери, считая её Христородицей, то есть обыкновенной женщиной, лишённой святости. Римская Католическая Церковь считает их самыми греховными еретиками. Греховнее православных и, главное, опаснее их.
И опять — молчание. Ючень очень хотел вовлечь Чогдара в беседу, но Чогдар строго руководствовался правилом Субедей-багатура, вызубренным ещё в детстве: «Никогда не иди туда, куда тебя подталкивают».
Однако молчание затянулось, и он вынужден был сказать:
— Я слушаю очень внимательно.
— Благорасположение к несторианам не может не насторожить католическую Европу. Особенно если Гуюк попробует привлечь на свою сторону православные русские княжества. Рим вынужден будет благословить новый крестовый поход.
— Русские княжества далеко от Каракорума.
Это был пробный шар. Чогдар решил прибегнуть к нему, потому что понял главное: Гуюк избрал Европу целью собственного великого похода. Кроме захвата несметных богатств, этот поход преследовал ещё одну задачу: полное развенчание Бату-хана как полководца, не сумевшего закрепиться в Центральной Европе. Ход был неплохо продуман, но успех его зависел от выбора православных русских княжеств, и Чогдару необходимо было знать, что предпринял Каракорум для привлечения их на свою сторону. Или — что может предпринять.
— В Золотую Орду уже послан гонец с предупреждением ханши Туракины, что отныне ярлык на великое княжение будет выдаваться русским князьям только в Каракоруме, господин главный советник, — со значением произнёс Ючень.
Это известие означало, что Гуюк перешёл к решительным действиям по ограничению власти Бату-хана, и, по сути, являлось объявлением ползучей негласной войны за влияние на русские православные княжества. А силы были далеко не равны, даже если не брать во внимание бездонную казну Чингисхана.
— Осознаешь ли ты, первый советник, особое значение сообщённых мне сведений? — тихо спросил Чогдар.
— Ни одна живая душа не узнает о них без вашего повеления, господин главный советник
— В том числе и сам Бату-хан.
— В том числе и сам Бату-хан, — послушно повторил Ючень, уловив блеск секиры палача в холодных глазах Чогдара.
— Ощути, насколько прочно я запечатал твой язык, Ючень. Если ощутил, ступай. Все новости будешь передавать мне лично. Учти, я — воин и принимаю решения очень быстро.
Полученные известия имели настолько грозовой оттенок, что Чогдар сразу же пошёл к хану, как только Ючень, пятясь, покинул его шатёр. Он был убеждён в молчании китайского советника не столько потому, что верил его слову, сколько потому, что знал о его трусости, но поторопиться все же следовало.
По счастью, Бату сразу же принял его. Коротко изложив суть многозначительных вестей, Чогдар замолчал, предоставляя хану время взвесить их, осознать и сделать выводы. Хан молчал долго, и на его бесстрастном, замкнутом для всех глаз лице ничего не отражалось.
— Князь Ярослав способен сказать «нет»? — наконец спросил он.
— Скорее, не способен. Он слишком много грешил в юности.
— Да, — вздохнул Бату. — Грехи молодости всегда подтачивают твёрдость старости. Значит, он может оказаться податливым на лесть, а в Каракоруме льстить умеют. Повели ему прибыть ко мне.
— По моим сведениям, он сам готовится предстать перед тобою.
Бату— хан задумчиво покачал головой.
— Подождём. Как по-твоему, что будет с нами, если Гуюк, став великим ханом, решится на европейский поход?
— Мы исчезнем, как пыль на ветру, мой хан.
— Мы исчезнем, — согласился Бату. — А русские княжества превратятся в дойную корову ненасытного Гуюка. Значит, мы должны воспрепятствовать этому походу. Как? Став поперёк пути на Волге? Но разве может плетень сдержать степное половодье?
— Это возможно только с помощью русских дружин.
— Невский не станет помогать нам, если его отец поддержит Гуюка. Что можно сделать, чтобы князь Ярослав отказался от совместного похода на католиков? Не отвечай сейчас, Чогдар, но все время думай об этом. Мой учитель Субедей-багатур очень любил тебя…
Орду, оставленный Бату-ханом главнокомандующим, выводил татарские войска из Центральной Европы через Болгарию, чтобы не пересекать вновь разорённые земли. Он был старательным исполнителем и плохим полководцем, сознавал это, а потому во всем, что касалось боевых действий, полагался на Бурундая. Даниил Галицкий, правильно поняв татарский манёвр, тут же вернулся в свои княжества, однако, будучи человеком дальновидным, предпочёл временно осесть на севере своих владений И здесь неожиданно получил предложение о мирных переговорах.
Предложение поступило от литовцев. Обезопасив себя с востока, Миндовг решил то же самое сделать и на юге. чтобы без особого риска исполнить данное Невскому обещание. Даниилу, озабоченному восстановлением былого могущества своих земель, предложение о мире было на руку, и свидание состоялось.
— Я знаю о твоих настроениях, князь Даниил, но должен прямо сказать, что буду бить крестоносцев всегда и везде, даже если мне самому придётся для этого принять католичество, — сказал Миндовг.
— Татарские язычники тебе милее христиан?
— Между татарами и Литвой стоит Александр Невский, а между мною и католиками нет никого, князь Даниил.
— Следует ли мне из сказанного тобой сделать вывод, что мы не должны влезать в дела друг друга? — помолчав, уточнил Галицкий.
— Ради этого я здесь. — Миндовг неожиданно улыбнулся. — Впрочем, как знать, может быть, нам стоит когда-нибудь подумать о делах семейных? У меня растёт дочь, у тебя — сын. Родственные связи крепче всех договоров, князь Даниил.
Пока Даниил и Миндовг решали вопросы дружественного невмешательства, Александр сворачивал боевые действия в Литве. Он понимал, что при таком повороте событий теряет Полоцкое княжество, но дробить силы было и неразумно, и опасно. Ливонский орден медленно и упорно наращивал мощь: Миндовг лишь подтвердил то, о чем доносили Невскому его собственные разведчики. Настало время думать о союзниках, и в этом смысле великий литовский князь преподал Александру весьма полезный и своевременный урок. И Невский выехал в родовое Переяславское княжество, минуя Новгород, а дружину оставил на Бу-димира.
Ехал он с небольшой охраной и почти без всяких дорожных осложнений, если не считать стремительной и победной стычки с крупным литовским отрядом в глухом уголке смоленских земель. В стычке никого не потеряли, литовцы исчезли в лесах, а как въехали в родное княжество, конь Невского потерял подкову.
— Стало быть, здесь и заднюем. Тут где-то усадьба старого отцовского друга. Дайте мне заводного коня, пока этого будете перековывать.
И выехал один, а потом радовался, что один выехал. Всю жизнь радовался.
Он быстро разыскал усадьбу, в которой был ещё отроком вместе с отцом. К ней вокруг озера вела полузаросшая дорога, но Невский решил сократить путь и поехал напрямик через рощу, держась озёрного берега. Стояло знойное лето, жарким настоем смолы и земляники дышал сосновый бор, в безветрии звенели комары
И неожиданно совсем рядом раздался девичий смех. Александр придержал коня, отвёл рукой сосновую лапу.
В десятке шагов от него на берегу озера сидела немолодая матрона в окружении смешливых молоденьких девушек. Распущенные волосы их были украшены венками из белых кувшинок.
— Васса! — вдруг строго крикнула матрона. — Хватит купаться! Вылезай!…
Из воды на берег неторопливо стала подниматься стройная, совсем ещё юная девушка в длинной белой рубашке из тонкого, хорошо выделанного полотна. Рубашка была насквозь мокрой — девушка в ней купалась, — липла к телу, а солнце просвечивало её насквозь…
Сердце Александра бешено забилось. Изо всех сил сдерживая дыхание, он осторожно опустил сосновую ветку и шагом тронул коня в лес. Подальше от берега…
Он раньше девушек добрался до усадьбы. Старый отцовский друг невероятно ему обрадовался, закатил пир, и на этом пиру барышня Васса поднесла дорогому гостю кубок чести.
На другое утро он выехал в Переяславль и улыбался всю дорогу. Но если бы знал, кого в это время принимает отец, улыбка бы надолго сошла с его лица…
— Прелат Римской церкви Доменик! — доложил ближний боярин.
— Ох, не к месту, не к месту! — всполошился Ярослав. — Что делать, Сбыслав, что делать?
— Принять.
Прелат был учтив и любезен. Восторгался просторами, восхищался реками и всячески избегал богословских споров, сразу обозначив свою позицию:
— Мы вместе веруем во единого всемогущего Бога, великий князь. И считаем, что настала пора забыть о наших религиозных разногласиях пред новым1 испытанием Божьим — нашествием нечестивых из диких степей. И православный князь Михаил Черниговский уже дал согласие участвовать во вселенском Лионском соборе.
Гость, не обозначив дня отъезда, вежливо поучаствовал в предложенной Сбыславом охоте, ловко уходил от неудобных для себя вопросов и с удовольствием рассказывал, сколь богата и сильна Европа. Ярослава это вполне устраивало — он никогда не любил излишних напряжений ума, но Сбыслава весьма тревожила причина, побудившая католического прелата вдруг заявиться в православное княжество. И как только Доменик однажды вскользь помянул о татарах, Сбыслав тут же заявил с подчёркнутой резкостью:
— Татары не видят в нас еретиков в отличие от Римской Католической Церкви!
— Это естественно, мой юный вельможа, — вежливо улыбнулся прелат. — Они — язычники Им не дано постигнуть великого учения Христа
— А нам, православным, дано?
— Заблуждения — путь к познанию, мой юный вельможа.
— И ты, прелат, приехал развеять наши заблуждения?
— Я приехал с надеждой познакомиться с великим полководцем князем Александром Невским, которым восторгается вся Европа, мой…
— Чтобы подсыпать яду в его кубок?
— Сбыслав, Сбыслав, — встревожился Ярослав. — Не надо спорить с высоким гостем.
— С высоким лазутчиком, — презрительно сказал Сбыслав. — Доложи своим магистрам, что Русь — жива, прелат!
И вышел. Он был раздражён и встревожен и почему-то все время думал о князе Александре.
— Извини, высокий гость, несдержанность боярина, — смущённо бормотал Ярослав. — Молод ещё.
— К счастью, не все так думают, — натянуто улыбнулся Доменик — Князь Даниил Галицкий придерживается иного мнения, что всегда обеспечит ему могучую поддержку Европы. Я очень надеялся увидеть твоего сына, великий князь, Александра Невского, деяния которого хорошо нам известны, но, видимо, не судьба. Пора домой. Путь неблизкий.
На следующий день прелат Доменик убрался восвояси как раз в то время, когда Невский подъезжал к родному Переяславлю.
— Брат приехал!… — радостно закричал Андрей. — Княжна Даниловна, это же брат мой родной, сам Александр Невский!…
Никогда Александр не видел брата столь восторженно вдохновлённым, сияющим и звонким. А увидев легко сбегающую по ступеням крыльца чернобровую красавицу, понял, что легкомысленного и взбалмошного Андрея настигла-таки первая любовь.
— Меж нами — сговор, — таинственно поведал в бане Андрей. — Если отцы не благословят, тайно обвенчаемся…
— Благословят, — улыбнулся Александр.
А про себя подумал вдруг, что если бы объединились в прочный братский союз три князя — и Русь была бы спасена, и Литва. Сначала подсобили бы Миндовгу выбросить рыцарей из Прибалтики, а потом — все вместе — и с татарами разобрались. Или — наоборот: сначала разгромили бы татар, а потом все дружно — рыцарей… И горько усмехнулся, поняв вдруг, что навсегда расстался с мечтами на льду Чудского озера.
Отслужил панихиду по своей княгинюшке, поиграл с сыном, попировал с братом и его возлюбленной и, не задерживаясь, выехал к отцу. И всю дорогу Думал о странном чувстве, которое возникло в нем после знакомства с дочерью Даниила Галицкого. Всем хороша была девица — и красотой, и статью, и умом, а что-то восставало в нем не против неё, а против её брачного союза с Андреем. А потом понял что: воля. Скрытый за девичьей скромностью огромный запас воли, которой так не хватало князю Андрею…
Он не стал говорить отцу о своём прозрении. Наоборот, он всячески подчёркивал важность этого союза, намекал, что Андрею давно пора остепениться, чем очень радовал великого князя, мечтавшего об этой свадьбе.
— Даниил Галицкий — владыка могучий, — говорил отец. — Его вон Европа поддерживает. Большой выигрыш, если мы такого родственника заполучим.
Александр поддакивал, а сам думал, что Даниила Галицкого поддерживают как раз те силы, с которыми он, Невский, уже дважды скрещивал мечи. И невольно вспомнил рассуждения князя Миндовга о вере: похоже было, что Галицкий придерживался такого же мнения во имя спасения собственных земель. Не народа, на них проживающего, а самих земель как таковых.
Сбыслава в тот первый вечер за столом с ними не было: он чувствовал себя виноватым, побаивался гнева Невского, не зная, что Ярослав ни словечком не обмолвился ни о госте, ни тем более о ссоре с прелатом. Александр воспринял это без всякого удивления, полагая, что боярину не место за родственной беседой, даже если этот боярин и спас любимого сына. А вот Ярослав чувствовал себя неуютно, страдал, вздыхал и хмурился. И в конце концов не выдержал:
— Может быть, позовём Сбыслава? Мне с ним в Орду ехать, может, у тебя какие пожелания…
Бормотал, суетился и страдал хранящий великую тайну князь. Если бы не добытая самим Сбыславом мечом и отвагой слава и почёт, ему, пожалуй, было бы проще. Но прижитой сын доказал, с точки зрения Ярослава, своё право на признание родственных отношений и личное княжеское достоинство, а вот сказать об этом… Нельзя было сказать, никак нельзя, и это обстоятельство терзало и мучило великого князя настолько, что он так и не сказал о неожиданном госте. И терзаемый виной Сбыслав тоже не сказал.
Александр встретил Сбыслава очень приветливо, почти сердечно. «По-родственному, — ликовал великий князь. — Чует сердце, чует!…» Но дело было не в чутьё Невского, а в дружинном братстве: князь Александр тепло приветствовал боевого друга, личной храбростью доказавшего свою преданность, не более того. И кубки стали чаще осушаться, и беседа потекла оживлённее.
— Я не задержусь у тебя, отец, ты уж прости, — сказал Александр, когда Сбыслав ушёл и пришла пора расстаться на ночь. — Вот в Орду провожу непременно, а сейчас… — Он вздохнул. — Дружину надо заново создавать. А поездки не страшись. Спутник у тебя надёжный, толмач отменный, да и вообще Сбыслав для нас с Андреем вроде как брат.
Признание сдержанного немногословного старшего сына привело Ярослава в сильнейшее волнение, от которого он первое время вообще ни слова не мог вымолвить. А пока справлялся с заиканием, успокоился и сказал совсем не то, что собирался:
— Я перед отцом его, Яруном, в долгу неоплатном. А он в Ледовом побоище пал.
— Понимаю, отец. Мы все перед ними в долгу.
— Знал бы ты тяжесть его…
На следующий день пир начался рано, потому что Невский решил на заре отъехать к своей дружине. А поскольку он оказался прощальным, Сбыслав явился на него в лучшей одежде с княжеской цепью на груди.
— Красный ты жених, боярин! — улыбнулся Александр. — Вернётесь из Орды — и окрутим его, отец.
И снова сердце Ярослава замирало от умиления, снова он боролся с мучительно сладостным желанием прямо сейчас, за пиршественным столом, сказать правду, признать Сбыслава своим законным сыном и тем снять с души тяжкий камень греха. И — не решался, колебался, вздыхал, пока вдруг не доложили:
— Посланец из Орды, великий князь!
— Проси.
Вошёл статный молодец в полутатарском-полурусском наряде с изукрашенной саблей на поясе Сдержанно поклонился и сказал на чистом русском языке:
— Здрав будь, великий князь Ярослав. Здравы будьте, князья и бояре. От главного советника великого Бату-хана Чогдара с поклоном есаул Кирдяш.
— Кирдяш?… — Ярослав, багровея, поднимался из-за стола. — Не ты ли, холоп, на меня, своего господина, дрыном замахивался?…
— Что было, то быльём поросло. А нынче я — казак, вольный человек, командир личной охраны Орду-хана, князь Ярослав.
Все это молодец выпалил с вызовом и дерзкой насмешкой, словно заранее готовился произнести именно эти слова и именно так, как произнёс.
— Убавь голос, не с равным говоришь, — негромко, но очень весомо сказал Сбыслав. — Говори, что велено, и убирайся.
Кирдяш посмотрел на молодого боярина с княжеской цепью во всю грудь и неожиданно улыбнулся:
— Никак Сбыслав? Тебе — особый поклон от Чогдара. — Поклонился, вновь оборотился к Ярославу: — Воевода прав, прости мою дерзость, великий князь. Чогдар велел передать тебе, чтоб ты поторопился в Золотую Орду. Это очень важно, так он сказал.
— Все? — грозно спросил Ярослав, все ещё ощущая глубокую обиду.
Есаул поклонился с куда большей почтительностью-
— Дозволь личную просьбу, великий князь
— Нет!
— Дозволь ему, отец, — тихо сказал Невский. — Ты же сам разрешил добровольную запись в татарские войска. Вот он и записался, и отвагой в битвах завоевал и чин, и волю. Так, Кирдяш?
— Так оно и было, князь Александр Ярославич. И ещё — награда от Орду-хана. — Сотник достал из-за широкого татарского пояса замшевый мешочек, встряхнул: тяжело звякнуло золото. — Дозволь мне выкупить у тебя, великий князь, отца и мать, брата и сестру. Если посчитаешь, что золота здесь мало, буду твоим должником.
— Отпусти их без выкупа, отец, — сказал Александр. — Храбрость золотом не измеришь.
Ярослав угрюмо молчал.
— Отпусти, — умоляюще вздохнул Сбыслав. Ярослав быстро глянул на него и неожиданно улыбнулся-
— Отпускаю на полную волю.
— Благодарю тебя нижайше, великий князь. — На сей раз Кирдяш отдал полный поклон, коснувшись пальцами пола Выпрямился, широко, счастливо улыбнулся. — Вечный должник твой, Ярославич!…
И вышел. Все заулыбались с радостным облегчением, а Невский сказал:
— Не будем же множить врагов, но будем везде искать союзников. И воспрянет Русь1…
Александр уезжал на утренней заре, а потому и пир рано кончился. Разошлись по покоям, но задолго перед рассветом Невского внезапно разбудил отец.
— Не спится? — улыбнулся Невский. — Мне тоже. Верно мы сделали, отец, когда дозволили смердам-язычникам в татарские добровольцы записываться.
И Церкви облегчение, и нам проще, и… им попросторнее. Собственной отвагой теперь жизнь свою устраивают. Как Кирдяш.
Не об этом он думал, не о добровольцах-язычниках. В полудрёме то и дело возникало перед ним одно видение: девушка в белой, плотно облегающей тело рубахе, выходящая из воды. Васса… Но отец озабоченно молчал, вздыхал, хмурился и на слова сына не обратил внимания.
— Не вставай, не вставай. — Ярослав присел на ложе, уронив руки меж колен. — Всю ночь не спал, молился, у Господа совета спрашивал. И — решился.
Великий князь замолчал. Александр с тревогой посмотрел на него:
— Что с тобой? Худо?
— Худо, — тотчас же согласился Ярослав. — До чего же тяжко мне тайну свою великую в душе носить. А тут — расстаёмся. Когда свидимся, один Бог знает, да и свидимся ли вообще…
— Ну что за мысли, отец. Сказал, что приеду.
— Не перечь мне, Александр, не надо. Тебе как старшему все скажу, а ты сам решишь, что с тайной этой делать, ежели не суждено мне будет вернуться. А до того никому не говори, никому. Запрещаю.
— Все исполню, — тихо сказал Невский, почувствовав, что отец его серьёзен сейчас, как никогда.
Великий князь помолчал, борясь в душе с последними сомнениями. А потом спросил вдруг, глядя в пол:
— Сбыслав на Андрея похож?
— Очень, — Александр улыбнулся. — Прямо как брат родной, все заметили.
— А он и есть брат. И твой, и Андрея. Он — мой сын. От Малаши, невесты Яруна. Я силой увёз её.
И наступило длительное молчание. Ярослав испытывал тревожное облегчение. Будто сбросил камень с души, а вот куда сбросил, было пока неясно. А Невский, ощутив огромную, жаркую радость, быстро опомнился, и жар этот радостным крупным потом выступил на лбу.
— Сбыслав об этом знает?
— Нет. Знали трое, но Ярун погиб, а Чогдар далеко. Да и не скажет никогда: он Яруну, побратиму своему, клятву дал. Знаем теперь об этом только мы с тобой, Александр.
— И никто не должен больше знать, — жёстко сказал Невский. — Никто, ни одна живая душа. Я сейчас же уеду, не хочу со Сбыславом встречаться, трудно мне. Ты уж прости.
И стремительно вскочил с ложа.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Александр уехал спешно, ещё до рассвета, наспех перекусив. Великий князь был растерян и подавлен, понимал и в то же время не хотел понимать сына, но не перечил Странно, но после Ледового побоища он вообще перестал ему перечить. Даже в мелочах. Будто поменялся с сыном прожитыми годами.
Невский нещадно погонял коня, словно убегал и от отца, и от вдруг свалившегося на голову брата, и от себя самого Признание Ярослава было столь непредсказуемо пугающим, столь угрожало смешиванием всех планов и расчётов, что он никак не мог собрать воедино разбежавшиеся мысли. Перед ним чередой проходили многочисленные младшие братья, любимый Андрей со своей первой любовью, сложные отношения с татарами, с Миндовгом, с Новгородом, собственной дружиной, но думать сейчас он ни о чем не мог. Даже о Вассе. Он, победитель шведов и крестоносцев, князь, удостоенный личного прозвища, умеющий предугадывать события и всегда точно знающий, чего он хочет, был растерян, как парнишка на льдине, внезапно оторвавшейся от берегового припоя.
Нет, он ни в малой степени не изменил своего отношения к Сбыславу. Он по-прежнему любил и уважал его, как любят и уважают отважного и преданного соратника, но внезапно обретённый брат самим своим возникновением путал устоявшийся порядок, а тайна его происхождения могла оказаться сильнейшим оружием в руках любого противника, будь то ли-вонцы, татары или жадные и недальновидные собственные удельные князья А Невский так близок был к осознанию своей исторической миссии собирателя и спасителя русских земель…
И все могло рухнуть. Мог проговориться отец, в минуту отцовской расслабляющей нежности доверившись вздорному и, увы, неумному Андрею Тайну мог в собственных или ордынских интересах использовать Чогдар, шепнув о ней жестокому и беспощадному Бату-хану Могли. Случайно или по стечению обстоятельств, но — могли, потому что тайна перестаёт быть управляемой, если о ней знает кто-то ещё, кроме тебя самого Александр был в меру доверчивым, но недоверчивым был сам век, в котором доверие продавалось и покупалось в зависимости от желания и цены. Значит, перед тем как начать действовать, следовало просчитать желания и готовность платить за них.
И Невский остановил коня. Спешился, походил, подумал. А потом вновь сел в седло и свернул с Новгородской дороги к усадьбе у озера с белыми кувшинками, из которых девушки так любят плести венки.
За конём Александра ещё не успела осесть пыль, когда из княжеских хором выбежал Сбыслав.
— Уехал Ярославич? — растерянно спросил он. — А я и попрощаться-то с ним не успел
— Спешил он очень, — вздохнул великий князь. — Привет тебе просил передать и… и просьбу, чтобы ты о подарках хану подумал.
Как раз в этот день Бату получил подарок от старшего брата. Сам Орду-хан прибыл в Сарай накануне, но о даре не обмолвился ни словечком, потому что его обозы ещё не подошли. Только загадочно ухмылялся и был весьма доволен собой
А вот Бату был собой недоволен. Вести, сообщённые ему Чогдаром, угрожали не столько его жизни — жизнь была судьбой, с которой спорить не следовало, — сколько власти, которую он безгранично расширил сам. Но укрепил ли он её? Четыре тысячи монголов — Бату не принимал в расчёт войска покорённых народов — против ста сорока тысяч монголов Гуюка— сопоставление, не внушающее довольства. Рассчитывать на дружины Невского сейчас нельзя: они зализывают раны, нанесённые рыцарями, а для такого лечения нужно время. Чогдар напомнил ему о Данииле Галицком, вернувшемся в свои владения, но Даниил бежал от самого Бату в католическую Европу, и неизвестно, какие обязательства вынужден был взять на себя за собственное спасение. Это необходимо проверить, но проверка тоже потребует времени. Значит, надо выигрывать это время. Как его можно выиграть? Показным смирением, иных способов нет А первый знак смирения — исполнение повеления ханши Туракины направить князя Ярослава в Каракорум за ярлыком на великое княжение. И прав Чогдар: не нужно торопить Ярослава с приездом в новую столицу Золотой Орды Сарай. Пусть Ярослав потянет время со своей личной ответственностью перед Каракорумом.
А Каракорум разгневан не на шутку. Самовольное строительство второй столицы в Монгольской империи было чудовищно дерзким вызовом, и, судя по копившимся неприятностям, с ним лучше бы было подождать Но Ючень так мягко убеждал, так льстиво упрашивал, что, кажется, пришла пора с ним навсегда расстаться Но не сейчас, все зависит от того, как Каракорум примет князя Ярослава…
— Прости, брат, я распутывал собственные мысли. Что ты говорил мне?
— Я привёз тебе славный дар из польских земель, Бату Позволь показать его.
Бату молча кивнул*
— Доставить мой дар* моему великому брату! — крикнул Орду.
Два рослых молодых нукера тотчас же внесли в тронный зал вновь отстроенного дворца большой скатанный ковёр. Положив его перед Бату-ханом, низко поклонились ему и, взявшись за край, развернули одним рывком, выкатив к ногам хана стройную золотоволосую девушку в белом платье Девушка тотчас же вскочила, гневно сверкая большими голубыми глазищами.
— Хороша? — с торжеством спросил Орду. — Её зовут Гражина, и ярости в ней, как у барса. Её захватил десятник Кирдяш и отдал мне, как абрикос с дерева.
— Хороша, — протянул Бату, мгновенно припомнив, что блондинки всегда были слабостью Гуюка. — А главное, к месту, брат мой. Прими мою благодарность.
Он тотчас же повелел увести Гражину в свои личные покои, дать служанок и приставить стражу. И улыбался в подстриженную бороду, уже зная, какой ценный подарок поедет в обозе князя Ярослава в Каракорум. Дар, который, без сомнений, отвлечёт Гуюка от его бурной деятельности и заключит в собственные объятия.
Все это промелькнуло в голове Бату-хана, когда он вежливо наполнял чашу Орду кумысом Братья сделали по глотку, и младший сказал, неторопливо утерев бородку ладонью:
— Ты порадовал моё усталое сердце, Орду. Ты отлично руководил войсками, ты привёз богатую добычу, а дар твой превышает все добрые слова. Я знаю, что всегда могу опереться на твоё могучее плечо.
— Всегда, Бату — прочувствованно признался Орду.
— Я пью мёд из твоих уст, брат. И запомню вкус этого мёда. Может быть, мне придётся попросить те— • бя…
Бату неожиданно замолчал.
— Жду твоих повелений, брат.
— Просьба, Орду, только просьба. Ты старше меня, мы оба внуки великого Чингиса, и я могу лишь просить.
— Проси, — согласился несколько опешивший от такого заряда лести простоватый Орду.
— Отдохни пока, — серьёзно сказал Бату. — Хорошо отдохни, потому что просьба будет. Будет, Орду.
И поднял чашу с кумысом.
Ярослав выехал в Золотую Орду, когда уже встали первые морозы и лёг первый снег. До этого неторопливо отбирал дары, лично и весьма придирчиво ощупывая каждую меховую шкурку: Александр сказал, что татары особенно ценят именно такие подарки. Потом пришла уборочная, потом — что-то ещё, что позволило потянуть с отъездом, хотя Сбыслав не забывал мягко напоминать о необходимости поторопиться. А он все тянул и тянул, потому что необъяснимо боялся этой поездки. И, назначив день, сутки молился, а после говел, испросив у архиепископа отпущения всех грехов загодя.
Он очень надеялся, что Александр исполнит своё обещание и приедет проводить его, но Невский так и не приехал. «Боится свидания со Сбыславом», — с горечью понял Ярослав, но удивлённому этим Сбыславу объяснил, что князь Александр, видно, очень уж занят.
— Я теперь ему не помощник Сам дела вершит. Правда, из Переяславля примчался Андрей, но был каким— то странным. Не к месту улыбался, не к месту спрашивал, не к месту восторгался княжной Настасьей Даниловной Галицкой, все -не к месту. Ярослав настолько расстроился, что прервал его восторги в самом неподходящем месте:
— Обнимитесь, сыны, и — с Богом.
Братья обнялись с искренней любовью, не обратив внимания на очередную оговорку. А великий князь только крякнул с досады.
Выехали с отборной охраной и огромным растянувшимся обозом: великий князь не скупился на подарки. Обоз неспешно тянулся позади, ехали только в светлое время и, хотя запрягали затемно, за день еле-еле добирались до очередной ямской поставы. Зато, правда, ночевали в тепле и удобстве, и Ярослав не мог не отдать должного татарской заботе о дорогах, до которых у русских князей никогда почему-то не доходили руки. Утром, плотно позавтракав, выезжали вперёд с личной челядью и отборными отроками и до обеда не останавливались, коротая путь в бесконечных беседах.
Великий князь очень любил эти неспешные беседы ни о чем. Он уже оценил Сбыслава, понял, что он и умнее, и сдержаннее Андрея, но живее и откровеннее Александра, вечно занятого своими, не всегда понятными отцу мыслями. Признанный им, но не объявленный во всеуслышанье, по сути, тайный сын с каждым днём казался ему ближе и понятнее старших, законных сынов, и разговоры текли легко и непринуждённо. Он не смущал отца непререкаемой резкостью Александра и не раздражал взбалмошностью Андрея: он успокаивал, не поддакивая и не льстя.
— Бог ожидал покаяния христианского и обратил татар вспять после разгрома на Калке, — говорил Ярослав. — Но мы не вняли гласу Его, и Бог позволил татарам вернуться. И ни один из князей не пришёл друг другу на помощь. И я не пришёл, хотя стоял с дружиной совсем рядом с несчастным Козельском. И в этом великий мой грех.
— Может быть, не великий грех, а великое прозрение, — сказал Сбыслав. — Козельску невозможно было помочь даже ценой собственной гибели не только потому, что татар было больше, а потому, что они находились на вершине победной славы.
— Ты говоришь разумные слова, но разум и грех живут не в одном гнезде. От греха ноет сердце, а не голова, если жива душа.
— Разве душа не живёт в каждом христианине?
— Если бы, Сбыслав, если бы… — Ярослав грустно усмехнулся. — Я прожил большую… нет, не столько большую, сколько грешную жизнь и понял, что все люди состоят из душ живых и душ мёртвых.
— Ты имеешь в виду христиан и язычников?
— Я имею в виду всех разом. И среди христиан есть души мёртвые, и среди язычников — души живые. Мне трудно это объяснить тебе, я — не поп, но твёрдо знаю, что это — так. И ты всегда старайся окружать себя живыми душами, Сбыслав. Живыми, какому бы Богу они ни поклонялись.
Да, стареющий великий князь чрезвычайно ценил эти беседы. Как всякий человек, проживший богатую событиями жизнь, он ощущал потребность передать накопленный опыт следующему поколению, но это следующее поколение не желало воспринимать чужого опыта просто потому, что он — чужой. Андрей немедленно уплывал легкомысленными думами своими в собственный мир, глядя отсутствующими глазами, а Александр тут же приводил пример из текущей жизни, требующий сегодняшнего решения, после чего отец, как правило, обиженно замолкал. А Сбыслав — слушал и задавал вопросы с живой заинтересованностью, а не просто из вежливости, что теплом обдавало изношенную душу Ярослава.
Впрочем, где-то на середине их неблизкого пути Ярослав прекратил назидательные беседы. Помрачнел, стал часто задумываться и задавать вопросы Сбыславу. О монголах и татарах, об их законах и обычаях. Сбыслав отвечал коротко и только по существу, не загромождая память необязательными подробностями, а стараясь, чтобы великий князь запомнил главное. О пороге, которого нельзя касаться, о кумысе, которого нельзя пролить, о первых поклонах хану и о первом взгляде на него.
— Кумыс очень противный? — Ярослава мучила предстоящая проба неизвестного напитка, хотя он загодя получил отпущение этого греха.
— Вроде густой сыворотки, — ободряюще улыбнулся Сбыслав. — Когда свыкнешься, вкусным кажется.
— Ты свыкся?
— С детства. Чогдар поил. Монголы кумыс целебным считают.
— Хмельной?
— Как наше пиво. Много выпьешь, так и захмелеть можно.
— Напиваются?
— Редко, пьяных не любят. А если и напьются, то никогда не бранятся и не дерутся.
— Зачем же тогда пьют? — искренне удивился Ярослав.
За два дня до прибытия в Сарай Сбыслав посоветовал великому князю надеть княжескую одежду, самую богатую шубу и пересесть в сани.
— Для чего же в сани?
— В любой час может появиться ханская почётная стража. Ею может командовать даже тёмник, но ты, великий князь, принимай его, сидя в санях.
— Спесь, что ли, сбиваем?
— Спесь с них этим не собьёшь, но честь свою подчеркнуть следует. Пусть знают своё место. И ещё… — Сбыслав смутился. — В Орде меня зовут Фёдором, великий князь. Забудь о Сбыславе, очень прошу. Сбыслав убил татарского десятника, такого они не забывают.
— Это я знаю, — проворчал Ярослав, нехотя усаживаясь в расписные княжеские сани.
Сбыслав укутал медвежьей полостью его ноги, вскочил в седло, поправил богато отделанную саблю — подарок тёмника Неврюя — и занял своё место впереди растянувшегося каравана. — В первый день этих перемен ничего не произошло, и великий князь был недоволен. Удобное и тёплое место в санях лкшг. то его приятных бесед со Сбысла-вом.
— Ты поторопился.
— В нашем положении лучше на сутки поторопиться, чем на час запоздать, великий князь. Завтра утром нас непременно встретят.
Сбыслав оказался прав: едва тронулись после завтрака, как впереди послышался конский топот, и к обозу подрысила гвардейская сотня под ханским бунчуком. Впереди ехал тёмник Неврюй и неизвестный Сбыславу могучий монгол в теплом халате из золочёной парчи. Именно он первым и подскакал к Сбыславу.
— Где князь Ярослав?
— В санях, мой господин, — почтительно склонившись в седле, сказал Сбыслав, мгновенно сообразив, что обогнать Неврюя может только более знатный вельможа.
— Ты монгол?
— Я — русич, но меня воспитал Чогдар, анда моего отца Яруна.
— Что-то слышал о тебе. Стой здесь. Позову, когда придёт нужда.
Незнакомый вельможа поскакал к саням, а к Сбыславу подъехал Неврюй. Улыбнулся, как доброму знакомому:
— Мне приятно, что ты не позабыл моего подарка.
— Приветствую тебя, отважный Неврюй, — поклонился Сбыслав. — Прости за вопрос: что это за вельможа?
— Орду-хан. Старший брат Бату.
— Я должен быть возле моего князя! — встревожился Сбыслав.
— Не спеши, — усмехнулся Неврюй. — Орду очень гневается, когда нарушают его повеления.
— Но великий князь ни слова не понимает по-монгольски!
— А Орду — по-русски. Они в равном положении, сын Яруна.
Но великий князь и старший брат великого хана Золотой Орды были совсем не в равном положении. Ярослав сидел в богатых санях, а Орду — в седле. Кроме того, Орду знал, кто перед ним, а Ярослав — не знал, и поэтому хан поклонился первым, а князь лишь кивнул головой, на что, впрочем, Орду не обратил никакого внимания. Он старательно, как всегда, исполнял наставления своего брата, а потому торжественно отбарабанил заученное приветствие. Ярослав не понял ни единого слова и сердито потребовал позвать Сбыслава, что Орду воспринял как ответное приветствие и ещё раз поклонился.
— Хорошо они беседуют, — тихо рассмеялся Неврюй. — Будь внимательным, боярин, сейчас Орду подаст тебе знак.
Орду и впрямь, не оглядываясь, поднял руку, видимо посчитав, что дословно выполнил наказ любимого брата. Нарядный тёмник хлопнул чалого и сказал Сбыславу:
— Зовёт. Быстро!
Вторую неделю Невский гостил в усадьбе у пруда с белыми кувшинками, позабыв о всех неотложных делах. И не только потому, что с каждым днём юная Васса нравилась ему все больше, но и потому, что ощущал, как постепенно сходит на нет его тревога, как улетучиваются беспокойные мысли, как прежняя твёрдая уверенность вновь поселяется в его душе. Он не отказывался от кубка, но не любил пиров за бессмысленную, с его точки зрения, трату времени, с удовлетворением обнаружил эту же черту и в хозяине, и ему было хорошо.
Хозяева догадывались, по какой причине старший сын великого князя, знаменитый победитель крестоносных рыцарей, вдруг избрал местом отдыха их скромное поместье: держась в присутствии девушки вполне естественно, Александр ничего не мог поделать с выражением собственных глаз. Но ничего не смел объяснить даже намёком, хотя формальный срок траура уже истёк. Он не попрощался с Александрой Брячиславной, не проводил её в последний путь, и это до сей поры камнем лежало на его сердце. А мечтать он не любил, хотя с удовольствием предавался мечтам в отрочестве, но тяжесть меча, поднятого ещё в юности, навсегда убила все мечтания, заменив их продуманным и многократно взвешенным расчётом. Нет, он не огрубел, не стал суше от этой замены. Просто ему довелось прямо из юности шагнуть во взрослую жизнь, минуя молодость. И, может быть, поэтому он впервые ощутил, что такое первая любовь, ясно поняв, что Марфуша была всего-навсего увлечением, а Александра — политической необходимостью.
И отъехал со смятением в душе, ни слова не сказав о своих чувствах ни родителям Вассы, ни самой девушке. А — хотел, очень хотел и признаться возлюбленной, и заручиться благословением, но… Но внутренне уже ощущал себя великим князем, обязанным прятать личные пристрастия во имя политических интересов, ради завтрашнего благополучия всей Русской земли. Всей: он никогда не забывал о своём прапрадеде великом князе Владимире Мономахе.
Но на обратном пути думы о Сбыславе его больше не тревожили. Они уже улеглись в душе его, уступив своё место думам иным. Конечно, очень выгодно было бы взять в жены вторую дочь Даниила Галицкого — не Настасью, чтобы не рассориться с влюблённым Андреем, — но женитьба братьев Ярославичей на двух сёстрах из одного гнёзда усилила бы прежде всего самого князя Даниила. Породниться с Миндовгом? Но Миндовг откровенно признался, что готов принять католичество во имя спасения Литвы. А он, Александр, размышлял о своей готовности пойти под венец во имя чисто политических соображений, и в этих соображениях православие оставалось главным условием возрождения могучего государства, его незыблемым фундаментом. Да и сколько дочери Миндовга может быть лет? Восемь? Десять?… Ждать, пока подрастёт?
Может быть, он бы и пришёл к выводу, что должен подождать. Но где-то там, под внешним слоем мыслей, как в засаде, таилась главная: жениться на дочери Батыя. Во и-мя прочного мира для Руси…
К этому времени Гаврила Олексич окончательно оправился после ран, полученных на льду Чудского озера, и деятельно занимался княжеской дружиной. Марфуша приняла иночество под именем Меланьи. У самого Гаврилы родился первенец, наречённый Иваном, в семье царили мир да любовь, и Олексич был счастлив, как никогда доселе.
— Ярославич?!
— Здравствуй, Гаврила Олексич.
После пира, на котором настоял хозяин, после того, как была представлена молодая жена и показан младенец, боевым друзьям наконец-таки удалось уединиться. Гаврила обстоятельно доложил о дружине, о состоянии коней и вооружения и замолчал в некотором удивлении, потому что гость слушал рассеянно, вполуха, и мысли его были далеко.
— Чем обеспокоен, Ярославич?
— Что? — очнулся Невский. — Отец в Орду уехал. Вместе со Сбыславом. А я не проводил.
— За Сбыславом как за каменной стеной!
— Это верно. Только на душе смутно, Олексич.
— Жениться тебе нужно, Александр Ярославич, — решительно сказал Гаврила. — Вот я женился, и всем сразу стало хорошо. И мне, и супруге моей, и… Мар-фуше.
— В монастыре? — усмехнулся Александр.
— Успокоилась она там. И ты успокоишься, Ярославич. Мир в душу войдёт, а смута — выйдет. Поверь.
— Мир не в душе нужен, а на Руси. И — долгий, долгий мир. Чтоб не только сын твой, но и внук меча в руки не брал. Вот тогда и людишек прибавится, и силы вернутся. — Александр вздохнул. — Может, мне ради такого дела на Батыевне жениться, Олексич?
— Шутишь все, — неодобрительно заметил Гаврила.
— Не до шуток сейчас. Ты вон дружину никак собрать не можешь.
— Рожать сынов нужно в любви и согласии, а не от Батыевых дочек. Пригляди девку красную, княжну или боярышню. Самому недосуг, так я тебе пригляжу.
— А что, Олексич, может, ты и прав, — вдруг улыбнулся Невский. — Сватом моим будешь?
— За честь почту великую!
— Считай, договорились, — сказал князь и опять замолчал.
— А кого сватать-то? — с некоторой растерянностью спросил Гаврила. — Есть кто на примете?
— На примете есть, только… Виноват я перед Александрой. И пока вину эту с души не сниму…
— Да в чем ты виноват, в чем? — горячо зашептал Олексич. — В том, что Ярун, упокой, Господи, его душу, послание тебе не передал? Так в том его вина, а не твоя.
— Нет на нем вины, потому что не мог он такое известие мне перед решающей битвой передать. Не мог. Вот и припрятал до конца, а конец его раньше нашёл, чем нас — победа.
— Так, Ярославич, — сокрушённо покивал головой Гаврила и перекрестился. — Только вины на тебе нет, Александр Ярославич. Никакой нет вины, не терзай ты свою душу.
Бату принимал великого князя Ярослава с подчёркнутым вниманием. Позволил не проходить очищение огнём перед входом во дворец, не падать ниц и пить вино вместо кумыса. И три дня вёл короткие и вполне мирные беседы ни о чем. Все это очень нравилось Ярославу, но совсем не нравилось Сбыславу. Бату-хан явно тянул время, но ради чего тянул, Сбы-слав понять не мог, а Чогдар избегал встреч наедине.
— Сам найду тебя, когда будет нужно.
Главному советнику хватало забот и без великого князя. Неприятные вести продолжали поступать из Каракорума не только через посредство мудрого и дальновидного Юченя. Гуюк, лишённый доступа к казне, нашёл способ привлечь на свою сторону монгольских офицеров, раздавая китайские шёлковые ткани направо и налево, откровенно заигрывал с несторианами и весьма благосклонно отзывался о православии. Он явно готовился к западному походу, чтобы заодно навсегда похоронить Золотую Орду под копытами своей армии.
Да и с запада известия были настораживающими. Даниил Галицкий упорно добивался единовластия в борьбе с собственным боярством, Михаил Черниговский в открытую заигрывал с католичеством, а Ба~ ту вынужден был вывести войска с правобережных земель Днепра. Единственной его опорой могли стать северные княжества Руси, но Гуюк был несоизмеримо сильнее, а обещания сильного всегда весомее обещаний загнанного в угол. В создавшемся положении Бату видел единственную возможность спасти свою власть и себя самого только в каком-то очень хитром ходе. Хитром и неожиданном для Каракорума. Но — каком?…
Именно это он намеревался обсудить с Юченем с глазу на глаз: врождённая недоверчивость оказалась сильнее всех заветов Субедей-багатура. Нет, он не отстранял Чогдара: он поручал ему дела западные, только и всего. Побратим русского воеводы, обласканный великим князем Владимирским, мог оказаться не совсем беспристрастным в самом главном совете.
«Никогда не доверяй своей первой мысли. Первая мысль может прийти и из живота, если ты слишком много выпил кумыса».
Так говорил Субедей-багатур, и Бату вовремя вспомнил его слова. И тогда же подумал, что два советника лучше, чем один, если первый будет слышать советы второго, а второй — не знать, что он слышит. И сам спрятал Чогдара за шёлковыми занавесями позади трона до того, как вошёл Ючень.
— Как заставить Гуюка совершить непоправимую ошибку? — спросил Бату без всяких предисловий.
— Если позволит великий хан, я бы подумал об охоте, — вкрадчиво начал Ючень. — Все готово к удовольствию, ловчие расставлены, загонщики погнали дичь на господина, господин пришпорил коня, а конь — захромал. Что потребует господин?
— Свежего коня, — угрюмо сказал Бату.
— Свежего коня, — учтиво улыбнулся китаец. — Но пока его подвели, дичь ушла. И снова надо расставлять ловчих и рассылать загонщиков. И заново гнать дичь.
Бату хмуро молчал.
— Неожиданность — первый шаг к растерянности, великий хан. А растерянность — первый шаг к ошибке.
— Ты боишься, — бледно улыбнулся Бату. — Чего ты боишься, мудрый? Проговориться?
— Нет, великий хан. Советник только советует, решения принимает повелитель.
— Куда я должен вбить гвоздь, чтобы захромал конь Гуюка? — уже с раздражением спросил Бату. — И что это за конь? Я не вижу вывода, который должен вытекать из твоей басни про охоте
— Я имел в виду растерянность, мой повелитель. — Ючень склонился в низком поклоне. — Хан Гуюк должен ощутить пустоту. Пустота — второй шаг от растерянности к ошибке.
Бату откинулся к спинке трона, полузакрыв глаза. Китаец юлил, чтобы не попасть на крючок, это было понятно. Но понятным оказалось и то, что он обязан был проглотить этот крючок. В конце концов, советники для того и существуют, чтобы брать на себя ответственность в советах, которые впоследствии можно объявить плохими. Даже преступными, если это станет необходимым.
— Хромота не создаст пустоты. Её можно излечить. Или не заметить.
— Ты совершенно прав, великий хан. Конь должен пасть.
— Конь Гуюка?
— Запасной конь хана Гуюка, мой повелитель. Он вынужден будет либо искать замену, либо вообще отложить ханскую охоту.
— Ты имеешь в виду охоту на меня?
— Повелители любят охотиться на тигров, великий хан.
«Он почти проговорился, — с удовлетворением подумал Бату. — Осталось совсем немного». И спросил:
— Какой масти должен быть запасной конь Гуюка?
— Русой, мой повелитель.
— Такой масти нет, китаец.
— Она появится, если ты, великий хан, исполнишь повеление ханши Туракины.
— Долог путь от Сарая до Каракорума, — вздохнул Бату. — На столь долгом пути русый конь может пасть сам собой от многих причин.
— Может, великий хан. Но тогда, — Ючень понизил голос, — тогда жеребёнок может больно лягнуть не Каракорум, а — Сарай.
— Да, осиротевший жеребёнок ищет ласковую руку, — задумчиво сказал Бату. — Ступай, китаец. Я хорошо запомнил твои слова, и мне будет над чем подумать.
Пятясь и низко кланяясь, Ючень покинул тронную залу.
— Все слышал? — спросил Бату, когда Чогдар появился из-за шёлковых занавесей.
— Да, мой хан. Юченю легко советовать, он не ломал хлеб сдавшем Ярославом.
— Хороший ответ воина, Чогдар. Но мне нужен совет советника.
Чогдар угнетённо молчал.
— Однажды ты порадовал меня, заявив, что умрёшь монголом. Ты не жалеешь об этих словах?
— Я родился, живу и умру монголом, — Чогдар вздохнул. — И понимаю, как важно найти выход, чтобы спасти Золотую Орду.
— И Русь, — тихо подсказал Бату. — Русь Александра Невского. Поход Гуюка сметёт её с лика земли. Вместе с нами. Значит, он не должен состояться.
— И ради этого, по мысли Юченя, должен пасть старый конь, — невесело усмехнулся Чогдар. — Кто же пустит в него последнюю стрелу?
— Орду. Мой старший брат.
Это был пробный шар: Бату не спускал с Чогдара насторожённых глаз. Но советник отрицательно покачал головой, так и не заметив, что за ним следят.
— Нет, мой хан, это невозможно. Каракорум ополчится на тебя вместе с князем Александром. Нет, ты должен быть вне подозрений. Рука должна быть либо из Каракорума, либо…
Чогдар внезапно замолчал. Бату подождал немного и тихо, осторожно повторил:
— Либо?…
— Либо она вообще не нужна. Если князь Ярослав откажется принимать участие в большой охоте Гуюка.
Уверенная улыбка впервые появилась на озабоченном лице степного властелина:
— Ты успокоил мысль, которая как овод жужжала в моей душе. Ючень петлял, как заяц на волчьей тропе. Для начала он рассорил меня с Каракорумом, уговорив строить собственную столицу, а когда это ему удалось, попробовал навсегда развести меня с Невским. Побеседуй с князем Ярославом, пока этого не сделал лукавый китаец, вздумавший пить кумыс из двух чаш одновременно.
— Постараюсь направить великого князя по нужной нам тропе. — Чогдар поклонился и пошёл к выходу.
— Пришли ко мне моего брата, — сказал Бату. — Ючень не решится пренебречь приглашением вместе поохотиться, а Орду очень точно умеет промахиваться.
— Это лучше публичной казни, — улыбнулся Чогдар — Тайные враги должны исчезать без следа.
— После твоего разговора с князем Ярославом я сам сообщу ему о поездке в Каракорум. Его путь зависит от вашего свидания, но он не должен об этом знать. Ступай. Не забудь прислать ко мне Орду.
Чогдар молча поклонился.
— Прости, великий князь, что не сразу навестил тебя.
— Таким гостям всегда рады, — Ярослав добродушно улыбнулся вошедшему Чогдару.
Он был доволен, а Сбыслав просто счастлив. Пировали почти как прежде, князь расспрашивал о новой службе, о Сарае и дворцовых обычаях, а Сбыслав рассказывал о Ледовом побоище, о гибели отца, о воинской мудрости Александра Невского. Чогдару было не очень удобно прерывать дружескую беседу, но все же он нашёл повод повернуть разговор в нужное ему русло.
— Новгородские, псковские да и твои земли, великий князь, большой урон понесли. И не только людьми. Городки дадеревни пожжены, скот порезан, посевы вытоптаны. Руси сейчас, как никогда, мир нужен.
После этого вступления Чогдар предполагал перейти к обсуждению вечного союза с Золотой Ордой и крайней опасности каких бы то ни было договорённостей с ближними и дальними соседями. Но Ярослав тут же вцепился в начало беседы, пропустив мимо ушей многозначительный конец:
— Твоя правда, Чогдар. И беженцев поток, и голод стучится. Но я, сколь только мог, расширил посевы…
Князь долго и с удовольствием распространялся о собственной предусмотрительности, перевести беседу в иное направление уже не было возможности, и Чогдару оставалось только попросить Сбыслава проводить его.
— Посети мою юрту, Федор Ярунович. Все не так просто, как представляется князьям.
В охраняемой снаружи юрте горел огонь, за которым ухаживал молчаливый отрок. Он подал кумыс и тут лее исчез, тщательно задёрнув за собою полог.
— Гуюк готовит поход в Европу, — сказал Чогдар, наполнив чашу гостя. — Путь пролегает через наши степи, а потому неминуемо коснётся Руси. Ты знаешь военные законы монголов и понимаешь, чем это грозит.
— Прокорм огромного войска, дополнительная дань и насильственная мобилизация, — вздохнул Сбыслав. — Владимирская Русь вряд ли поднимется после этого похода.
— Конница Гуюка растопчет Золотую Орду и превратит русичей в рабов, — жёстко сказал Чогдар. — Гуюк беспощаден, вероломен и лжив. Сейчас ему нужны союзники, почему Ярославу и велено прибыть в Каракорум за ярлыком на великое княжение.
— Он примет этот ярлык с благодарностью, потому что тщеславен и уже не умен.
— Примет. А в благодарность за него заключит с Каракорумом союз против Бату. То есть против собственного народа.
— Да, он не откажется от великого княжения. Не откажется…
Сбыслав погрузился в тревожную задумчивость. Чогдар дал ему время поразмышлять, поднял чашу с кумысом.
— За здоровье князя Александра Невского, Сбыслав.
— Я понимаю твою мысль, Чогдар, — сказал Сбыслав, пригубив кумыс. — Невский сначала думает о Руси и русском народе и только потом — о себе.
— Боюсь, что не до конца понимаешь, потому что не представляешь, что сделает Гуюк, заручившись поддержкой князя Ярослава.
— У него будут развязаны руки.
— Он пошлёт убийц к Невскому, — Чогдар произнёс эту фразу медленно, выделив каждое слово. — Бату видит в князе Александре могучего завтрашнего союзника, а Гуюк — завтрашнего вождя общерусского восстания против второго монгольского нашествия. Не удивлюсь, если узнаю, что убийцы уже скачут к нему.
— Его надо предупредить! — встревожился Сбыслав. — Ты должен это сделать, Чогдар.
— Я непременно это сделаю, но куда он денется от тайных убийц из Каракорума? Они могут быть русичами, половцами, немцами — кем угодно, казна Чингисхана неистощима.
— Он может укрыться в Европе. Временно.
— Европа с удовольствием выдаст его Гуюку.
— Вот тут ты ошибаешься, Чогдар, — улыбнулся Сбыслав. — Европа очень хочет с ним познакомиться. Князя Ярослава с этой целью навещал прелат Римской Католической Церкви Доменик. Но я понял его козни и сделал так, что он быстро убрался восвояси.
— Невским заинтересовались римские католики? — спросил Чогдар, старательно прикрывая насторожённость удивлением. — Это весьма любопытно. Расскажи об этом прелате подробнее, Федор.
Молодой боярин с удовольствием поведал отцовскому побратиму все, что знал о прелате Доме-нике. О разговорах на пирах и охоте, о его вопросах и своих ответах, о ссоре, которую он устроил нарочно, чтобы поскорее избавиться от назойливого разведчика. Чогдар слушал внимательно, ни разу не перебив А когда Сбыслав закончил рассказ, уточнил:
— Значит, князь Михаил Черниговский дал согласие участвовать в Лионском соборе?
— Так сказал прелат Доменик
— А Даниил Галицкий?
— О нем он не говорил. Почему ты спрашиваешь об этом, Чогдар?
— Потому что мы — и Русь, и Золотая Орда — стоим на порубежье Запада и Востока, Сбыслав. И нам должно быть ведомо все. И дела Рима, и дела Каракорума. Будь очень внимательным там, сын моего анды. Так уж случилось, что от решения князя Ярослава зависит не только судьба наших народов, но и жизнь Александра Невского
Вечером того же дня Бату услышал подробный пересказ этой беседы от своего главного советника. Долго молчал, размышляя. Потом сам наполнил чашу Чогдара кумысом и сказал:
— Значит, князь Михаил Черниговский Правда, от него мало что зависит, но мой дед повелел сурово наказывать перебежчиков. А что же Даниил Галицкий?
— Боярин Федор Ярунович о нем ничего не знает.
— Но мой советник знать должен все! — резко отрубил Бату.
Чогдар молча склонил голову.
— Ты очень вовремя подсказал этому молодому боярину, что Гуюк может подослать к Невскому убийц. (Хан тут же сменил гнев на милость.) Кстати, это вполне вероятно, и от нас к Невскому не должны проникать непроверенные люди. Завтра я приму князя Ярослава и объясню ему, что ярлык на великое княжение выдают только в Каракоруме. А тебе следует продолжить разговоры с боярином Фёдором…
С шумом вошёл Орду. Преклонил колено перед Бату-ханом-
— Прости, великий брат мой. Я целился в сайгака, но моя проклятая рука послала стрелу в спину твоего советника Юченя!
Выпалив эти слова, Орду громко расхохотался. Он очень любил шутки именно такого свойства.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
У Гражины было не столько тяжёлое, сколько сумбурное детство. Родившись в польской вельможной семье, она впервые попала в плен в пять лет, поскольку владения её отца располагались в неустойчивом треугольнике, стороны которого граничили с Гали-чиной, Венгрией и собственно Польшей. Ровно через год она оказалась пленницей галичан, была возвращена в лоно родной семьи, но через три года вновь оказалась в венгерском плену. Такая смена обстановки продолжалась вплоть до тринадцати лет, из чего она вывела вполне определённые правила поведения: не плакать, не жаловаться, никогда не говорить правды и изощрённо кокетничать во имя спасения собственной жизни. Оставаясь католичкой, она уже ни во что не верила, в том числе и в родную семью, полагаясь только на собственные силы.
В четырнадцать её взял замуж венгерский вельможа, порядком поизносившийся в беспутной жизни. Детей у него — во всяком случае законных — не было, и истрёпанный граф, который оказался на сорок лет старше своей красавицы полячки, вознамерился получить от неё долгожданного наследника, ради чего полгода копил силы под наблюдением отцов Церкви, убедившей его не трогать соблазнительную супругу в прямом смысле слова. Однако нашествие татар спутало его расчёты, поскольку при поспешном бегстве он потерял собственную жену.
Гражину перехватил по дороге Кирдяш со своими десятью головорезами. Но, разобравшись — а он был весьма сообразительным парнем, — решил не прикасаться к столь роскошной добыче. Следует сказать, что обиженная невниманием мужа, истосковавшаяся полячка сделала все возможное, чтобы побудить витязя на дерзкие поползновения, но все оказалось напрасным: Кирдяш устоял перед изощрённым соблазном и впоследствии не пожалел об этом. Он подарил ненадкусанный персик самому хану Орду, за что получил не только офицерский чин, но и добрую калигу с золотом. А смертельно оскорблённая мужским невниманием Гражина вскоре в прежнем же естестве оказалась запертой в золочёной клетке самого Бату-хана.
У неё было все, что она могла пожелать. Даже полуподруга-полунаперсница-полуслужанка Ядвига. У неё не было только одного: свободы выбора. Выбор сделал Бату, едва Гражина вскочила на ноги, когда её выкатили из ковра.
Среди утончённой роскоши её заточения никогда не появлялся ни один мужчина. А ни разу не испытавшая ни первой боли, ни первого наслаждения пленница, зная все о первой боли и последующих упоительных мгновениях только из рассказов наперсниц, вынуждена была предаваться радужным мечтаниям и плотской тоске, разнообразя то и другое лишь периодическими истериками. И — ждать неизвестно чего.
Впрочем, не так уж неизвестно. Познав собственную цену всем опытом своей сумбурной жизни, Гражина прекрасно понимала, что и на сей раз её либо подарят, либо обменяют, либо продадут. Таковы были три занавеса, наглухо задёрнувшие перед нею виды собственного будущего. И неистовая тигриная ярость постепенно вызревала в её порывистой, неуравновешенной и недоброй душе.
А Сарай жил неторопливой, незаметной, но весьма напряжённой жизнью. После несчастного случая на охоте состоялись шумные и весьма почётные похороны советника Юченя, так как Бату не хотел, чтобы Каракорум догадался о провале своего разведчика. А потом — уже тихо, втайне — правительство занялось тщательным подбором подарков будущему великому хану Гуюку, правящей до времени ханше Туракине и особенно — влиятельным вельможам. Выискивались наиболее умелые среди знаменитых русских оружейников и золотых дел мастеров, привозились — одна к одной — волоокие русские красавицы с косами до пят, создавались команды из кузнецов, плотников, скорняков и резчиков по камню и дереву. Отряды баскаков шныряли по всем русским княжествам, отбирая лучших из лучших, иногда захватывая их силой, реже — подкупая выгодной работой на чужбине. Бату начал играть в большую игру, ставки были высоки, и в средствах он не стеснялся. Вынужденная отдавать своё основное богатство Русь нищала на глазах, что выводило из себя даже степенного, уравновешенного Гаврилу Олексича.
— С Прусской улицы всех оружейников Орда сманила! И с Торговой стороны Карпа-кольчужника со всем семейством!
— Богато платят. Мы столько не можем.
— А сами с чем останемся?
— Новых вырастим, Олексич. Народ у нас даровитый.
— И с тобой не советуются. Обидно, Ярославич.
— Не той обидой маешься. Сильными станем — первыми кланяться начнут.
Невского беспокоила возросшая активность Орды и больно задевала их бесцеремонность: о нем словно забыли. Словно и не было похвальных слов Субедей-багатура, благорасположенности Бату, дружеских знаков Сартака. Но сделать он ничего не мог: в новгородских землях татары никого не принуждали ехать в далёкий Каракорум, обещая лишь хорошие заработки. А на Руси нелёгкий штучный товар резко подешевел не по капризу заказчиков, а потому, что бесконечные раздоры, нашествия да войны вконец разорили страну и уважающие свой труд мастера готовы были ехать за тридевять земель ради спокойствия и достойной их таланта оплаты. Александр это понимал, отъездам не препятствовал, но ему было досадно.
— Родину не любят, жадобы, — ворчал Гаврила.
— Трудно Русь в непогоду любить, Олексич. Знобко в ней сейчас. Знобко, страшно и голодно.
— Все вроде — так, а все одно — не так.
Кроме беспокойства, досады и обиды, Невский ошущал и маету, но совсем по иному поводу, нежели Гаврила Олексич. Дева у пруда снилась по ночам, маняще улыбаясь на утренних зорьках, а думы о ней не исчезали и днём. Ничего подобного он прежде никогда не испытывал, это радовало, но — изматывало, потому что не отпускало. А поехать к ней зимой не решался, поскольку подобное посещение невозможно было объяснить простым желанием отдохнуть от государственных дел. Он жаждал доброй беседы, но сильно расстроенный утечкой наиболее мастеровитых рук Гаврила Олексич пребывал в постоянном несогласии и для душевных бесед никак не подходил.
— Марфуша варенья прислала и записку. — Олексич зачитал письмо, не спрашивая Александра: — «ЧУЮ, ЧТО НЕСПОКОЙНА ДУША ТВОЯ, БРАТЕЦ МОЙ СВЕТЛЫЙ. ПОВИДАЙ МЕНЯ, ОБЛЕГЧИ ДУШЕНЬКУ…»
— Едем! — вдруг решительно сказал Невский, скорее почувствовав, чем поняв, как нужна ему сейчас женщина, когда-то сделавшая его мужчиной.
Собрали даров для всей обители — стерлядки да осетрины, сёмги да сигов, грибков да меду. А для Мар-фуши князь припрятал личный подарок — золотой крестик доброй псковской работы. Выехали на следующее утро.
— Здравствуйте, светлые витязи, защитники и устроители земли Русской! — в пояс поклонилась бывшая разумница Марфуша. — Примите благословение от грешной черноризицы Меланьи.
Расцеловались по-родственному. Инокиня всплакнула, Александр нахмурился, а Гаврила поспешно сказал:
— Дары сестре-хозяйке вручу.
И тут же вышел, как то было условлено с князем. Но заранее условиться — одно, а остаться наедине с первой любовницей — совсем иное, и Невский, смутившись, забормотал что-то об отце, отъехавшем в Орду, о дружине, об Андрее. Но, упомянув о Настасье, тут же угрюмо и замолчал.
— Смущён не ты, князюшко мой, смущено сердце твоё, — тихо сказала Марфуша. — Доверься ему, отпусти на волю его.
— Правду ты сказала, Марфуша…
— Прости, князь, Меланья я во иночестве.
— Прости, сестра Меланья. Не было у меня никаких тайн от тебя, все тебе выкладывал, и легко мне было жить, — вздохнул Александр. — А сейчас навалились эти тайны на меня так, что задыхаюсь я под ними.
— Я душу тебе свою подставлю. Переложи, сколь нужным сочтёшь, за тебя все отмолю.
— Встретил я девицу, добрую и разумную, — Невский говорил, не поднимая глаз. — И будто обожгла она меня, будто… — Александр помолчал. — Но я — князь, я Руси принадлежу, а не воле собственной. Скажи, сестра, имею я право на любовь, как человек, или должен, как князь русский, просить Батыя отдать мне в жены дочь?
— Бог душу дарит, а Матерь Божья — сердце любящее, — тише, чем обычно, сказала монахиня. — Когда посещает человека истинная любовь, сама Пресвятая Матерь Божия в сердце его заглядывает. Покорись её выбору, Александр, и благодать Небесная сойдёт на тебя.
— Значит…
— Покорись любви, и обретёшь покой.
— Благодарю, благодарю тебя, Мар… сестра, — горячо сказал Невский, впервые улыбнувшись. — Камень ты сняла с души моей.
С грустной, еле обозначенной, но очень взрослой улыбкой смотрела на него Марфуша. Князь смутился, полез за пазуху, достал крестик.
— Прими на память о грешном Александре. Монашенка отрицательно покачала головой:
— Золота без греха не бывает. А моя опора — смирение гордыни моей. Как же наречена дева, избранная тобою?
— Васса.
— Васса, — со странным, гулким выдохом повторила инокиня, согнулась в поясном поклоне и, не разгибаясь, добавила торжественно, будто клятву произнесла: — Еже-день повторять буду имя сие в своих молитвах. Бога и Матерь Его Пресвятую буду молить, чтобы родила тебе жена, наречённая Вассой, сильных сынов и здоровых дочерей, дабы никогда не пресёкся высокий род твой на Святой Руси…
Крупные слезы одна за другой гулко капали на каменные плиты пола…
На обратном пути из монастыря Невский был грустен, молчалив и задумчив. А едва войдя в палаты, сказал:
— Собирайся.
— Куда? — несколько оторопел Гаврила.
— Сватать меня. Кого ещё возьмёшь?
— Андрея. Тесть будущий кто, князь или боярин?
— Друг отцов. До боярина не дослужился. Не все ли равно?
— Это я насчёт подарков. Каждой рыбке — свой червячок, Ярославич.
— Золотая рыбка! — вдруг рявкнул Александр. — Полюбил я её, ясно это тебе?…
После столь громогласного рыка Олексич больше с расспросами к Невскому не приставал. Но подарки подобрал, рыку этому соответствующие, да и в состав посольства, сопровождающего уполномоченных князем сватов, включил людей знаменитых и известных. А когда все было готово, лично приехал за князем Андреем.
— Сватать люблю! — живо откликнулся Андрей. — Но не за так, Гаврила Олексич. Слово дай, что за меня к князю Даниилу Галицкому старшим сватом пойдёшь, тогда хоть сейчас с тобой выеду.
— Считай, что уже дал, — улыбнулся Гаврила. — А где же невеста твоя, князь?
— К отцу отпустил. Сватов ждать да наряды шить. Андрей собрался быстро, и через неделю сваты с весьма крупным обозом (Гаврила Олексич не забыл слов о «золотой рыбке»!) выехали в неблизкую усадьбу. Ехали не торопясь, подлаживаясь под медленный обоз, часто останавливаясь, чтобы не заморить лошадей. Князь Андрей и, как правило, Олексич часто обгоняли караван, чтобы поохотиться и тем скрасить унылые общие обеды. Иногда к ним присоединялся и Яков Полочанин, которого Гаврила с трудом выпросил у Невского для большего представительства, поскольку остальные бояре были в возрасте, предназна-чаясь в основном для совместных воспоминаний с хозяином и — почёта. Но Яков добровольно взял на себя обязанность приглядывать за обозом, а потому часто задерживался где-то в хвосте.
— Европу хочу поглядеть, — болтал неугомонный Андрей. — Моя Настасья Даниловна много чудесного рассказывала о ней.
— Что же чудесного-то?
Гаврила Олексич настолько утомился от болтовни князя, что частенько подумывал, не напрасно ли он его пригласил сватом: дёрнул же черт за язык… Однако лукавить и подлаживаться он не умел, а потому быстро усвоил тон плохо скрытого раздражения и всегда — супротив. Что бы при этом ни говорил Андрей. Но князь был на редкость легкомысленным, чужого настроения не замечал, а своё скрывать не считал нужным.
— А то хотя бы, что города у них — сплошь из камня. А у нас только церкви, монастыри да хорошо, если крепости. Даже терема княжеские из дерева строим.
— Жить в каменных палатах не пробовал? Сыро в них. И душно.
— Зато снаружи — вид. Сразу видно: дворец. А у нас — просто большая изба.
— Зато коли сгорели при набеге, то отстроить заново да получше прежнего — неделя топорного стука.
— Зато у них неверующих нет. Чуть что — сразу еретиками объявляют и — к палачу.
— Вот палачей у них хватает. Это ты точно сказал.
— Их вера народ вокруг государя сплачивает! — горячился Андрей. — А наша Церковь? Татарские руки лижет!
— Зато людей живьём не жжёт. И к крестам не приколачивает.
Гаврила Олексич старался — по возможности, конечно — говорить спокойно и вразумительно, но Андрей разгорячился не на шутку:
— Её отец князь Даниил Галицкий единения добивается. Единения всех славян для борьбы с проклятыми татарами!
— Чтоб католиков сюда запустить? Они живо Русь в свою поганую веру перекрестят.
— По доброй воле! По доброй воле только!… Олексич не придал значения этому разговору: болтает влюблённый юнец, ну и пусть себе болтает. А потому и не пересказал его князю Александру, не желая огорчать его. А напрасно. Это были первые ростки того бурьяна, который с трудом, болью и кровью пришлось выкорчёвывать Невскому с помощью острых сабель тёмника Неврюя.
Но то случилось нескоро: бурьяну суждено было ещё прорасти. А дела текущие складывались пока вполне благополучно. Сватовство удалось на славу: и старый хозяин был счастлив, и супруга его в чувственный обморок упала от такого известия, и, главное, сама Васса разрыдалась восторженными слезами.
Да, все пока было хорошо. Яростная ссора братьев, после которой Невский, исчерпав все возможности вразумить Андрея, помчался в Орду, чтобы предупредить о готовящемся антитатарском восстании и попросить помощи против младшего брата, была ещё впереди…
— В Каракорум поедешь ты, Орду. Так мы решили с советником, — Бату кивнул на скромно помалкивающего Чогдара. — Отдашь Гуюку самый низкий поклон, подтвердишь нижайшую покорность и скажешь, что я не смог приехать только потому, что заболел.
— Ты заболел, мой брат? — с беспокойством спросил Орду.
— Нет, — с неудовольствием отмахнулся Бату. — Я заболею, когда ты будешь поздравлять нового великого хана Гуюка после курултая.
— Хан Бату почувствует это, — счёл нужным пояснить Чогдар.
— Ага! — согласился ничего не понявший Орду. — У меня хорошая память, и я все запомнил.
— Ты всегда был для меня примером, старший брат, — проворчал Бату. — Потом ты лично передашь Гуюку мой подарок Хорошо бы сначала завернуть его в кошму, а потом развернуть перед великим ханом, чтобы она выкатилась к его ногам.
— Кто должен выкатиться?
— Гражина.
— Но я подарил её тебе от любящего сердца, мой брат.
— Знаю, Орду, но я слишком стар для таких роскошных подарков. Береги её пуще глаза в пути.
— Я возьму сотню отборной стражи под начальством есаула Кирдяша. Он подарил Гражину мне, я — тебе, а ты — Гуюку. Я все запомнил, великий брат мой.
— Это хорошо, — утомлённо вздохнул Бату. — И ты запомнишь все, что скажет тебе мой советник Чогдар перед самой поездкой. Каждое слово запомнишь, Орду, это очень и очень важно. И сделаешь так, как он скажет.
— Да, мой великий брат.
— Это очень важное задание, и поэтому я доверяю его только тебе, старший брат.
— Я все исполню, брат.
— Все, что скажет Чогдар. Слово в слово.
— Слово в слово.
Орду ушёл. Бату упорно молчал, сдвинув брови и занавесившись от всего мира непроницаемой броней внутреннего отстранения, в котором монголы не знали равных. Чогдар обождал вполне приличествующее самым глубоким размышлениям время, неторопливо наполнил чаши кумысом и позволил себе осторожно вздохнуть.
— Он сделает, — тихо сказал Бату. — Он все сделает, как надо нам, мой советник.
— А поймёт ли хан Орду, что именно нам надо?
— Это зависит от тебя, Чогдар. Орду глуп, но не окончательно бестолков. Постарайся неторопливо внушить ему прежде всего порядок его поступков. Орду раб порядка. Если он его усвоил, он будет двигаться точно по твоей дороге.
Бату помолчал, подумал, поднял свою чашу. Чогдар следом за ним отхлебнул глоток, выжидающе глядя на хана.
— Дорога моего брата должна быть прямой, как стрела, — наконец сказал Бату. — Без петель и крутых поворотов. Тогда он пойдёт по ней без колебаний.
— К сожалению, мой хан, эту дорогу нельзя сделать стрелой, — вздохнул Чогдар. — Её изгибы зависят как от поведения Гуюка, так и от поведения князя Ярослава. Предположим, Гуюк не потребует от владимирского князя участия в Западном походе.
Бату отрицательно покачал головой:
— Только в том случае, если он сам откажется от похода. Но это невозможно. Чтобы спокойно править, он должен уничтожить меня. А для этого есть только один путь: переманить русичей на свою сторону.
— Ты прав, мой хан. Но позволь высказать второе предположение. Ярослав откажется от союза с Гую-ком.
— И не получит ярлыка на великое княжение. Как-то ты сказал мне, что князь бессмысленно растратил свою молодость на женщин и жалкие схватки за власть, Чогдар. У изношенной души нет сил противиться тщеславию.
— За его спиной — сыновья, и прежде всего — Александр Невский, мой хан. В старости думают не столько о своей славе и власти, сколько о славе и власти сыновей.
— О славе сыновей — да. О власти их — никогда. Разве что — на смертном одре. Но…
Бату неожиданно замолчал. И молчал долго. Настолько, что Чогдару пришлось заново наполнить чаши.
— Но я поговорю с ним.
И улыбнулся столь змеиной улыбкой, что по спине Чогдара вдруг пробежал холодок.
— О чем, мой хан? — тихо спросил он, хотя подобных вопросов не дозволялось задавать повелителям.
— О вечном чувстве вины отцов перед сыновьями. Оно существует. Существует, Чогдар, это необъяснимое чувство вины. Именно под его влиянием мы и балуем своих сыновей, и многое прощаем им или делаем вид, что просто не замечаем их выходок.
— Даже перед Александром Невским?
— Он тоже — сын. А Ярослав — отец. И за что-то ему должно быть очень стыдно, что-то должно его тревожить. У отца всегда длиннее жизнь, чем у сына, потому что он идёт из прошлого, а сын уходит в будущее. Два каравана с разной поклажей, лишь совпавшие на каком-то отрезке пути.
Бату поднял свою чашу и неожиданно улыбнулся, задумчиво покачав рано поседевшей головой. Но улыбка его была очень печальной. Скорее даже горькой, как показалось Чогдару.
Орду очень возгордился прежде всего тем, что ему поручено представлять на великом курултае самого Бату. Однако редко посещавшее его ощущение своей особой значимости никоим образом не отразилось на его дотошной, даже въедливой исполнительности. Он отчётливо представлял трудности и опасности невероятно длинного, рассчитанного на огромный срок пути, высокую значимость собственной миссии и бесценность даров, предназначенных будущему великому хану всей Монгольской империи, а потому первым делом основательно подумал о защите. Однако ничего особенного в голову ему не пришло, кроме уже оговорённого начальника стражи Кирдяша и сотни его отборных головорезов.
— Бери только тех, в ком уверен, — важно втолковывал он есаулу. — Может, и от трех сотен отбиваться придётся.
— А полтораста нельзя взять? — спросил осторожный Кирдяш.
— Сто, — отрезал Орду, показав при этом почему-то растопыренную пятерню. — Так велел сам Бату-хан.
Ничего подобного Бату не велел, его брат сам назвал число боевой охраны, но ссылка на повеление избавляла от споров, которых Орду не выносил.
— Большой обоз будет? — Есаул решил двигаться окольным путём.
— На конях и на волах, — пояснил Орду — Получается два, потому что мы с князем Ярославом оглохнем от тележного скрипа, если будем ехать с воловьей скоростью.
— Два обоза, — продолжал рассуждать Кирдяш, надеясь хоть что-то втолковать своему высокому начальнику. — Значит, придётся делить стражу пополам. Пятьдесят — конному обозу, пятьдесят — воловьему.
— Должно быть сто!
— Сто никак не получается, хан Орду. Сто хватит, чтобы охранять тебя и князя Ярослава, а кто же будет охранять обоз? А там ведь не только еда для нас, там — подарки великому хану.
— Там — Гражина.
«Стало быть, полячка у них — как калита с золотом: друг друга подкупают», — подумал Кирдяш, но вслух сказал:
— Тем более, хан Орду. Сто и сто — две сотни, меньше никак не выходит.
— Сто и сто — две сотни, — повторил, сложив в уме, Орду. — А нужно — по сотне на обоз. Отбери двести пятьдесят.
Такая арифметика Кирдяша устраивала, и он сразу же попросил дозволения уйти, пока Орду снова не занялся сложением.
— В конном обозе главные — я и князь. Да ещё его толмач, боярин Федор. В воловьем — Гражина. Она должна ехать в удобной юрте и не ведать ни о каких трудностях. Во второй юрте поедут её служанки, надо, чтобы она сама их выбрала. Придётся спросить разрешения моего брата, чтобы ты её навестил. Я скажу, когда.
Вскоре Орду сообщил через посыльного, что Кирдяш может повидаться с Гражиной, рассказать ей о грядущем мучительно длинном путешествии и о совершенно особом вознаграждении по достижении Каракорума. И есаул в сопровождении двух тощебородых старцев, говорящих только по-монгольски (это предусмотрительный Кирдяш проверил ещё по дороге к золочёной клетке), был препровождён в тщательно охраняемую часть ханского дворца.
— Кого видят мои очи? Моего бессердечного спасителя!
Гражина принимала неожиданных гостей, продуманно расположившись на ковровом ложе среди якобы небрежно разбросанных подушек. Просторная гостиная являла собой странную смесь Востока и Запада, но для этой встречи была избрана азиатская аранжировка. «Знает, куда повезут, — подумал наблюдательный и далеко не глупый Кирдяш. — Ох, ловка девка! С такой — ушки востро…» И, поклонившись со сдержанной почтительностью, сказал приглушённо:
— Старики ни бельмеса ни по-польски, ни по-русски, но лучше их отсадить подальше.
— Посадите почтённых старцев в самые почётные кресла, — небрежно распорядилась хозяйка.
Татарские служанки тотчас же отвели аксакалов в дальний угол, где стояли огромные кресла явно венгерского происхождения. Они не сопротивлялись, но один из них что-то наставительно втолковывал служанкам.
— Ты — подарок, — сказал Кирдяш, когда процедура усаживания была благополучно завершена.
— Я родилась подарком и всю жизнь была им. Ты никогда не представлял себе жизнь подарка, витязь? Драгоценности, богатые наряды, меха, исполнение капризов — и вечная золотая клетка.
Гражина начала злой иронией, но закончила горькой усмешкой. И есаул удержал вздох, уловив искренность этой горечи.
— Все мы — рабы, что на коне, что в клетке. Стоит ли об этом думать, Гражина? Надо просто жить.
— А что это значит — просто жить, витязь?
Кирдяш помолчал, теребя кисти широкого татарского пояса. Он понимал, что хитрая паненка перехватила разговор, но это обстоятельство пока его особенно не тревожило. Судьба у них была общей, в конце концов, он сам признался ей в этой общности, только Гражина не обратила никакого внимания на вырвавшееся признание, поскольку умела думать лишь о себе самой.
— Я был простым смердом князя Ярослава Деревенька наша угодила на путь Батыевых коней, народ по лесам разбежался, а от изб — одни угольки. А зима лютая, татары все запасы выгребли, так бедствовали, что дети к утру замерзали. А князь, вместо того чтобы избы людям строить, начал церкви возводить, мужиков от пашни отрывая. Не стерпел я, в леса ушёл, одиноких купчишек, которые и сами-то концы с концами не сводили, грабил да пугал. Ну, жил. Зло жил, непросто, себя терзал и ненавидел за такое житьё. А потом по своей воле в татарские войска ушёл. К месту, я по природе — буян. Приметили, в десятники выдвинули. И еды вдоволь, и одёжа, и конь добрый; ещё-то чего, спрашивается? Ан нет, все едино спал плохо. А потом вон тебя полонил, хану Орду отдал, за что мне — офицерский чин и горсть золота. И помчался я тогда во Владимир отца с матушкой да брата с сестрой на волю выкупать. Все готов был отдать князю Ярославу за их свободу. Только Невский да боярин Сбыслав… Нет, не Сбыслав, — поспешно спохватился Кирдяш. — Сбыслав — это другой. Боярин Федор Ярунович упросили князя Ярослава без денег моих родных отпустить.
— Щедро.
— Щедро, — согласился есаул, в запале от собственной исповеди не уловив насмешливой иронии. — Отвёз родных к бродникам, избы им поставил, скотину купил — и живут! И я живу. И сплю хорошо, потому что с совестью в полном согласии. Я сплю, и она — спит, я бодрствую, и она — бодрствует. И понял я тогда, что жить, просто — жить, можно только с совестью в ладу.
— А что это такое: совесть?
— Ну… Не знаю. В душе она. Если растревожишь, спать по ночам не даёт. Значит, она есть.
— Душа, совесть, бессонница, — презрительно, через оттопыренные губы сказала Гражина. — Тебе бы не в офицеры идти, а в монахи. Они эту жвачку все время отрыгивают и жуют, жуют и отрыгивают. Как коровы. Что наши, католические, что ваши, православные, — одного поля ягоды.
— Я попам не верю, — нахмурившись, сказал Кир— -дяш. — Попы врут без всякой совести, а наши боги, древние, никогда не врут.
— Все врут, витязь, — усмехнулась Гражина. — Князья и ханы, попы и твои древние идолы — все! И чтоб этим враньём не захлебнуться, надо совесть себе подчинить, а не ей подчиняться. Приструнить её, как служанку, и сразу легче жить станет. Тем более что никакой совести вообще нет. Выдумка это. Выдумка, витязь! Сабля да отвага — вот и вся твоя совесть.
— А что же тогда есть, если нет совести? Ведь что-то же должно быть! Не скоты же мы и не звери.
— Что?… И скоты и звери, успокойся. Скоты и звери, но и скотам и зверям одно нужно, чтобы жить не тужа. Одно-единственное!
— Что же им нужно, коли совести в них нет? Что, барс ты синеглазый в девичьем облике?
— Что?…
Гражина вдруг подалась вперёд, в синих глазах замелькали золотистые искорки. Выкрикнула в лицо есаулу:
— Свобода!…
Наконец— то Бату соизволил назначить деловую встречу, о чем Ярославу шепнул Сбыслав, увидев, что с повелением прибыл сам Неврюй, любимец великого хана и личный друг Сартака. Поэтому оба готовились и одевались с особой тщательностью.
— Стареем мы, князь Ярослав, стареем, — со вздохом сказал Бату. — А сыновья наши растут и мужают, и в этом единственное утешение старости.
Беседа начиналась странно, однако Ярослав уже привык во всем полагаться на Сбыслава. И, сокрушённо покачав головой, вздохнул в свою очередь.
— Твоя правда, великий хан. Сейчас только и понимаешь, что наши сыны и есть наше богатство.
Сбыслав сразу насторожился: Бату повёл не тот разговор, на который он рассчитывал, перекинувшись с Неврюем несколькими словами. Поэтому старался переводить очень точно, передавая не только интонацию, но даже вздохи.
— В Китае ходят бумажные деньги. Тоже богатство но — без веса. Без уверенности в руке. — Бату извлёк из складок халата золотистую бумажку. — Говорят, за этот листочек можно купить верблюда, но я не ощущаю такой покупки в своей ладони.
— Это какой-то обман, — согласился Ярослав, вежливо осмотрев бумажную купюру. — Золото есть золото, а это… Это не золото.
— А считается золотом. Как сыновья, князь Ярослав. Все считаются твоими детьми, но все ли они из чистого золота? Как проверить, золото они или бумажка, на которой написано, что она — золото?
— По весу, великий хан. Только по весу.
— А где же весы?
— В сердце отцовском
— Там место совести, а не весов. Грехи молодости изнашивают наши сердца, так можно ли им доверять?
— Грехов там много, твоя правда, великий хан, — сокрушённо вздохнул Ярослав. — Коли молодость — калита с мечтами, то старость — калита с грехами. Время расплаты, так Господь наш рассудил.
— Время расплаты, — согласился Бату. — И много ты грешил, князь Ярослав?
— Много, — строго сказал князь и перекрестился. — Прости, Господи, грехи мои вольные и невольные.
— Бог у вас добрый, — усмехнулся хан. — Все прощает.
— Ах, кабы все… — Ярослав сокрушённо помолчал и тихо добавил: — Есть грехи непрощаемые, великий хан.
— Что же тяготит твою совесть, князь Ярослав? К сыновьям несправедлив был? Обижал их?
— А кто из отцов не обижает сыновей, великий хан? И я обижал. Но невольно, без расчёта и зла.
«К чему он ведёт беседу? К чему?» — лихорадочно соображал Сбыслав, старательно переводя.
— Тем, что властью до сей поры не поделился?
— Н-нет, — подумав, но все же не очень уверенно сказал князь. — Власть только сперва для себя, а потом — для сынов.
— И ты готов отдать её сыновьям?
— Вживе — нет, — сурово ответил Ярослав.
— Значит, все-таки ради своей власти в Каракорум поедешь? — со странной медлительностью улыбнулся Бату. — Ярлык на великое княжение там теперь выдают, князь Ярослав. Путь долог и труден, хватит ли сил?
— У нас иначе нельзя, великий хан. Держать власть — значит уделы держать. Отдашь её — тут же уделы перегрызутся. Не-ет, на Руси власть вживе не отдают.
— Даже Александру Невскому?
«Вот оно, главное…» Сердце Сбыслава ёкнуло, но голос не дрогнул.
— Даже ему для его же блага, — вздохнул великий князь. — Сейчас он — за моей спиной.
— А так — за моей будет, — неожиданно резко сказал Бату.
Ярослав смешался, улыбнулся неуверенно, развёл руками:
— Не гневайся, великий хан, но… не управишься ты с уделами, всяк в свою сторону тянуть станет. Такая замятия начнётся…
— Значит, только после смерти с властью расстанешься, князь Ярослав? Не раньше?
— Раньше никак невозможно, великий хан… Ярослав замолчал, пытаясь поймать взгляд Бату-хана, и — не поймал. Не мог поймать, потому что Бату в упор смотрел на Сбыслава.
— Ты поедешь вместе с моим братом Орду, — сказал Бату-хан, не обратив никакого внимания на бормотание князя. — Он будет представлять меня в Каракоруме. Прислушивайся к его мудрым советам, боярин Федор Ярунович…
Заключительную фразу беседы Сбыслав перевёл без обращения. Это было просто, потому что Бату немыслимо искажал русские имена то ли сознательно, то ли из-за трудностей их произношения, а князь настолько был погружён в собственные мысли, что не обратил на это никакого внимания. Последние рассуждения хана о власти повергли великого князя в смятение, поскольку понять их истинный смысл он никак не мог. Что в них содержалось: собственные невесёлые мысли самого Бату, намёк ему, Ярославу, что настала пора подумать о добровольной передаче власти, или угроза отобрать её своим повелением, если великий князь не пожелает понять намёка? Последнее соображение казалось ему предпочтительным, и Ярослав, потерзав-шись, спросил об этом Сбыслава.
— Не думай об этом, великий князь, — успокоил его Сбыслав. — Бату ссориться с Каракорумом не станет.
А сам думал, что Золотая Орда уже поссорилась с империей и что в словах Бату — скорее предупреждение, чем угроза. Предупреждение, что любая оплошность там, в Каракоруме, здесь будет стоить Ярославу великого княжения, несмотря на ярлык самого Гуюка. С этой целью был упомянут и Александр Невский как вероятный преемник: именно это казалось главным и именно это — настораживало. Уж слишком прямолинейной была эта догадка, а прямолинейность никогда не числилась в арсенале монгольской придворной дипломатии.
«На Руси власть вживе не отдают», — вдруг вспомнились Сбыславу дважды повторенные слова Ярослава. И сразу же другое всплыло в памяти: разговор с Чогдаром. «Гуюк пошлёт убийц к Невскому, как только заручится поддержкой Ярослава», — сказал тогда главный советник Бату.
Чогдар — главный советник. Главный, значит, у Бату-хана нет от него секретов.
Кое— как, сославшись на необходимость встречи с Неврюем (другого имени просто не пришло в голову), Сбыслав уговорил Ярослава отпустить его тотчас же. Бросился искать Чогдара, но -не нашёл. Решил ждать подле ханского дворца, и тут на него наткнулся Кирдяш.
— Повезло мне, боярин. Я как раз за тобой иду, Орду разрешил юрту осмотреть. Заодно и с главным подарком познакомлю: ехать-то нам — стремя в стремя.
— Я Чогдара жду.
— Он — у хана вместе с Орду, там — длинный разговор. Пойдём, не пожалеешь. Да и случай такой второй раз может не представиться.
Идти с есаулом Сбыславу не хотелось, но возвращаться к Ярославу не хотелось больше: беседа с Бату все ещё звучала в его ушах. Со вздохом согласился, а потом… Потом пришлось часто вспоминать об этом согласии.
Нарядная, хорошо утеплённая юрта стояла на огромной платформе, опиравшейся на множество больших деревянных катков. Рядом достраивалась вторая такая же платформа, и поэтому юрты на ней ещё не было.
— Через всю степь поволокут, аж до Каракорума, — пояснил Кирдяш. — По тридцать шесть пар волов в каждую. То-то скрипу будет: дёгтя татары не признают.
— Для хана Орду?
— Орду — воин, его в юрту не заманишь. В этой главный подарок для хана Гуюка поедет, а во второй — её служанки.
— Кого — её?
— Подарка. Погоди здесь, мне велено ей юрту показать.
Кирдяш тут же исчез, и Сбыславу сразу стало неуютно. Он был в богатой одежде (одевался ведь с особым тщанием!), с Неврюевым даром на поясе, а вокруг сновали славянские плотники да мрачные половецкие рабы. Деваться было некуда, и он вошёл в юрту.
Юрта, затянутая изнутри красным (татары особенно любили этот цвет) китайским шёлком, выглядела подготовленной для показа будущей хозяйке: в центре располагался аккуратный очаг, вокруг него лежали ковры и многочисленные подушки, а часть жилого круга была огорожена шёлковым занавесом. Сбыслав сел у занавеса и приготовился ждать.
День начался загадочно, и это его тревожило. Последние слова Бату адресовались ему, но сказаны были так, чтобы их и слышал, и запомнил Ярослав: «Прислушивайся к его мудрым советам, боярин Федор Ярунович». Мудрые советы хана Орду, над которым добродушно подсмеивались все старшие офицеры? Для чего сказал эту фразу Бату? Фразу, в которой явно не сходились концы с концами… Для него? Вряд ли. Значит, для великого князя. Зачем?… Какие советы вложат в голову туповатого, но старательно исполнительного Орду перед выездом в Каракорум?…
Привычный перестук топоров за стеной роскошной юрты внезапно перекрылся какими-то иными звуками, но Сбыслав уже настолько погрузился в размышления, что ни к чему не прислушивался. И очнулся от насмешливого возгласа:
— О, ясновельможный пан! Да простит он глупую девицу, что вторглась в его мысли без разрешения.
У входа стояла Гражина во всем великолепии красоты и наряда. Сбыслав тотчас же вскочил, поклонился и поспешно сказал, что разрешения должен был бы испросить он…
— Ясновельможный пан тоже подарок?
— Это боярин великого князя Ярослава Сбы… Федор Ярунович, — пояснил вошедший следом Кирдяш, вновь споткнувшись на имени.
— О, какое разочарование, ясновельможный пан, — Гражина улыбалась самой обворожительной из всех своих улыбок — Два подарка в одни руки могли бы следовать в одной коробке.
— Эту тигрицу зовут Гражиной, — пояснил Кирдяш. — Будь осторожен, боярин, её когти изодрали не одно мужское сердце.
— Какое прекрасное имя, — скованно улыбнулся Сбыслав.
— Ясновельможный пан находит его прекрасным? Я польщена и смущена одновременно. В таких словах всегда есть надежда, без которой не прожить бедной сироте, особенно когда её везут все дальше и дальше от руин отчего дома. Чего ты стоишь за моей спиной, есаул? Вели подать венгерского.
— А что скажет Орду?
— Ты больше думай о том, что скажу ему я. Кирдяш недовольно хмыкнул, но вышел из юрты.
Молодые люди остались одни, и наступило молчание.
— Как я сегодня счастлива, — тихо сказала Гражи-на и вздохнула. — Встретить вас в этом желтолицем аду, пан Сбыслав…
— Сбыслав?…
— Таково настоящее имя ясновельможного пана, не так ли?
— Имя — для Руси. Для желтолицего ада я — Федор.
— Я догадалась. Но позвольте мне без посторонних называть вас славянским именем. Умоляю, ясновельможный пан. Мы — два славянских цветка в безбрежном жёлтом океане…
Вошёл Кирдяш с серебряным кувшином и тремя чарками.
— Твоя старшая служанка подняла вой, — сказал он, наполняя чарки.
— Огрей её плетью, есаул.
— Так я и сделаю в следующий раз.
— Я открываю счёт счастливым дням! — Гражина подняла чарку.
— С новосельем тебя, тигрица, — усмехнулся Кирдяш.
— С нововесельем, — строго поправила Гражина. — С моим нововесельем, рыцари!
Она лихо опрокинула чарку, по-детски причмокнула, хотела что-то сказать, но не успела. Раздался рык, и в юрту ворвался Орду.
— Ты посмела принять постороннего мужчину, несчастная? — заорал он с порога. — Я посажу тебя в клетку, а его запрягу вместо вола!…
— А я расцарапаю себе лицо и скажу великому хану, что ты пытался силой овладеть подарком самому Гуюку! — гневно, с горящими глазами выкрикнула Гражина. — Не смей приходить ко мне без приглашения! На это имеет право только есаул Кирдяш и… и мой друг боярин Федор Ярунович!
И запустила серебряной чаркой в лицо старшего брата Бату. Орду легко поймал чарку, раздавил её в ладони, усмирил тем собственный гнев и неожиданно добродушно улыбнулся.
— Вот такой ты мне больше нравишься. А пить надо кумыс. Или кровь с молоком. Они дают здоровье.
Кинул на ковёр раздавленную чарку и вышел из юрты.
Огромный обоз, которому предстояло пересечь Великую Степь, собирался в военном лагере под охраной ханской гвардии. Сюда свозили меха из Руси и узорчатое оружие с Кавказа, трофейные рыцарские доспехи, золотые и серебряные изделия русских и европейских мастеров, посуду и драгоценности, мёд и воск, вина и сладости. Здесь все переписывалось и грузилось в повозки под бдительным оком любимой жены Бату Баракчины, матери Сартака. Когда все было готово, она же и доложила Бату, спросив лишь об одном:
— А как будут добираться до Каракорума русские умельцы?
— Пешком, — ответил Бату.
— Это очень далеко.
— Дойдут.
— Дозволь хоть несколько повозок для детей и женщин, мой синеглазый хан.
Бату улыбнулся, ласково провёл жёсткой ладонью по седеющей голове жены:
— Ты очень разумна. Распорядись.
Ему было наплевать на русских мастеров не столько из присущего монголам равнодушия к судьбам покорённых народов, сколько из-за того, что эти мастера предпочли Каракорум Сараю. Но он искренне любил свою старшую жену и порою исполнял её просьбы
Великий князь Ярослав был предупреждён, подарки будущему великому хану и правящей ханше Туракине подобраны, огромный обоз готов к путешествию по Великой Степи, но у Бату не было ощущения, что он все сделал как надо Любая незамеченная ошибка могла свести на нет всю его тонкую игру и даже подтолкнуть Гуюка к новому нашествию, и поэтому он тянул с отправкой обоза, понимая при этом, что перетягивает лук, не отпуская стрелу в полет. Неизвестно, сколько времени он пребывал бы в колебаниях, если бы Чогдар не огорошил его малоприятной новостью:
— Даниил Галицкий присоединил к Волынскому княжеству галицийские земли. Кроме того, он уже дал согласие на брак своей дочери с братом Александра Невского Андреем.
— У этого Андрея большая дружина?
— Нет Но его очень любит князь Александр
— Как Бурундай мог допустить усобицу между русскими?
— Бурундай сам привёз эти известия и просит твоего дозволения доложить лично, мой хан
Бурундай доложил, что никакой драки меж волын-цами и галичанами не было и он не имел повода вмешиваться. С точки зрения Бату, это было хуже, чем усобица: русичи начали искать союзов. К этим поискам он отнёс и сообщение о сватовстве Андрея: любовь в столь высоких сферах даже не предполагалась. Бату хмуро размышлял, Чогдар и Бурундай молча ждали, что он скажет.
— Бурундай лично отвезёт моё повеление Даниилу Галицкому. Повеление должно быть письменным. И очень коротким.
— Какова его мысль, мой хан?
— Два слова: «Дай Галич». Он не поймёт и приедет ко мне. Ничего не объясняй ему, Бурундай, но напомни, что ты стоишь в двух дневных переходах.
Даниил Галицкий и в самом деле ничего не понял. Кому он должен был «дать Галич»? Когда? В какой форме и почему? Повертел грамоту в руках и спросил об этом молчаливого Бурундая.
— Повеления хана не требуют моих пояснений, князь Даниил.
— Но меня призвали на княжение сами галицкие бояре.
— Тебе придётся объяснить это самому хану Бату, князь. Иначе я спрошу об этом галицких бояр, мои ту-мены стоят в двух дневных переходах. Выбирай, но лучше подумай о подарках хану.
Даниил Галицкий счёл за благо подумать о подарках. А пока думал, пружина, закрученная им на западе, раскручивалась на востоке.
— Когда кони начинают тянуть в разные стороны, нужно обрубить постромки самой застоявшейся, — сказал Бату. — Завтра отправишь караван в Каракорум, а сегодня повелишь боярину Федору прийти ко мне.
Из этих слов следовало, что хан последние наставления Сбыславу намеревался дать с глазу на глаз. Чог-дара это обеспокоило, о чем он и сказал, передавая повеление.
— Никогда не доверяй чингисидам, Сбыслав, но всегда выполняй их повеления слово в слово. Это единственный способ выжить под их властью. Отныне тебе предстоит действовать даже без моего слабого щита. Орду вспыльчив, но добродушен и отходчив. Гуюк — лжив и злопамятен.
— Ты уже предупреждал меня об этом, Чогдар. Я знаю степные законы, не волнуйся за меня, дядька.
— Ты — сын моего покойного анды, — вздохнул Чогдар. — О ком ещё мне беспокоиться, кроме тебя?
— О князе Невском.
За Сбыславом явился сам Неврюй, что резко повышало значимость аудиенции. Придирчиво осмотрел наряд Сбыслава, улыбнулся:
— Мы не скоро увидимся с тобой, боярин.
— И увидимся ли вообще, — невесело усмехнулся Сбыслав.
— Будем надеяться. — Неврюй вдруг понизил голос. — Тебя ожидает очень важный разговор. Сужу об этом по тому, что хан лично приказал мне охранять покои, в которых будет проходить беседа.
Бату хорошо продумал предстоящий разговор, а потому начал его сразу, без длинных вступительных рассуждений, которых требовал степной этикет.
— Союз между мной и Русью предопределён самим Небом. Русь — это либо запад, либо север: либо Даниил Галицкий, либо Александр Невский. Кто из них окажется моим союзником, а кто — моим врагом, зависит только от тебя, боярин Федор.
Сбыслав молча склонил голову: время вопросов ещё не настало.
— Есть такая индийская игра: шахматы. Ты умеешь в неё играть?
Сбыслав ещё раз молчаливо поклонился.
— Мат тебе ставить не будут: конец игры невыгоден 1уюку. Но ему нельзя и проигрывать эту партию. Отсюда следует, что тебе постараются навязать вечный шах. Наполни наши чаши, боярин.
Сбыслав налил кумыс, отхлебнул после глотка старшего, как того требовал обычай, и терпеливо ждал, когда Бату опять начнёт разговор.
— Князь Ярослав играет в шахматы?
— Я много раз играл с ним и всегда с трудом проигрывал, хан Бату.
— Так я и думал, — усмехнулся Бату. — Значит, он с восторгом уцепится за выигрыш, который ему подсунет Гуюк. Но его выигрыш означает наш проигрыш. Наш. Меня и князя Невского. Как ты выйдешь из такого положения?
— Из-под вечного шаха выйти невозможно, хан Бату.
— Думай, боярин, думай сейчас, там думать будет поздно.
— Выигрыш ничто, если проигравший не сможет им воспользоваться.
— Не сможет им воспользоваться, — с удовольствием повторил Бату. — Твой конь на верном пути, боярин.
— Но вечный шах — не путь, а лишь топтание на месте.
— Из-под вечного шаха тебя выведет Орду. Он так и не научился играть в мудрые игры, но при подсказках способен передвигать фигуры.
— Я не осмелюсь подсказывать внуку великого Чингиса.
Бату молчал, прихлёбывая кумыс. Опорожнил чашу, которую тут же наполнил Сбыслав, вздохнул:
— Ему подскажет человек, который будет представлять меня без всякой огласки.
— Я буду иметь право знать его?
— Это ты, боярин. Ты будешь представлять меня для Орду в Каракоруме.
Сбыслава бросило в жар. Пока он приходил в себя, Бату достал золотую пайцзу и протянул ему.
— Благодарю за великое доверие, хан, но даже золотая пайцза — ничто для чингисидов
— Пайцза даст тебе свободу передвижения в логове змей, боярин. А чтобы ты представлял мою волю перед моим братом, нужно что-то очень простое… — Бату задумался. — Простое, очень простое, потому что сложное не удержит его голова…
— Слово? — рискнул подсказать Сбыслав.
— Слово может быть сказано кем-то случайно. А вот… Поговорка! — Бату встрепенулся. — «Ключ иссяк, бел-камень треснул». Он знает её.
— Её знают все монголы. Случайность не исключается, хан Бату.
— Если ты скажешь, что эту поговорку ему просил напомнить я, случайности не будет.
— Пожалуй, — согласился Сбыслав.
— Гуюк ни под каким видом не должен воспользоваться плодами своего выигрыша, — сказал хан и сам наполнил чаши. — Когда нет в живых выигравшего, нет и победы.
Сбыслав подавленно молчал.
— Только этим ты спасёшь Русь от второго нашествия и сохранишь жизнь Александру Невскому, — почти торжественно сказал Бату. — Подними свою чашу, боярин. Мы выпьем за твой подвиг во имя твоей родины и наших народов. Да будет!…
— Да будет… — глухо откликнулся Сбыслав.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Никогда ещё не было у Сбыслава такой мучительной, бессонной ночи. Не потому, что волновался перед отъездом в Великую Степь: по молодости его манило в неизвестность, в путешествия, в новые страны, к новым народам. И даже не потому, что конец путешествия означал начало большой и очень сложной игры, в которой ему ни в коем случае нельзя было проигрывать Нет, он не мог уснуть потому, что волею могущественного хана стал не просто единственным ферзём на шахматной доске хитро задуманной партии, но одновременно и единственным игроком, знающим заранее, какой именно ход должен сделать противник. Он сейчас не думал ни о Руси, ни о Золотой Орде, ни даже об Александре Невском, которого искренне любил и почитал, — мысли его заняты были только собственным всемогуществом Он ощущал его физически — до ломоты плеч, до головокружения, до сладкой тянущей боли в сердце, ведь под его дудку обязаны были сплясать самые гордые и заносчивые чингисиды. И это недоброе чувство настолько заполняло его душу, что в ней уже не оказалось места сожалению И ни на мгновение не возникало мысли о той страшной цене, которую предстояло ему заплатить за торжество собственного тщеславия.
Нет, неверно, неверно: вначале она шевельнулась, эта мысль, такая мелкая, жалкая и ничтожная по сравнению с грандиозной задачей, поставленной самим Всемогущим Небом перед ним, вчерашним сиротой, подпаском у бродников. И шевелилась, пока на помощь не пришла простая железная логика: кто-то ведь должен уступать место завтрашнему дню. И что такое одна человеческая жизнь по сравнению с судьбами двух народов?…
Однако Бату никогда не стал бы великим ханом, если бы шёл к цели одной тропой. В то время когда он намёками давал понять Сбыславу, что тот должен делать, Чогдар прямым солдатским языком отдавал приказ есаулу Кирдяшу:
— Следи за боярином Фёдором, помогай ему, ни во что не вмешивайся и все запоминай. Когда настанет время расспросов, все без утайки выложишь Бату. Все. Ты понял?
— Значит, не выгораживать Сбыслава, а… топить?
— Докажи, что не случайно вчерашний смерд князя Ярослава стал есаулом хана Орду.
Кирдяш криво усмехнулся, помотав головой:
— Не по-нашему это.
— Что именно?
— Своих предавать.
— Насчёт своих ты вовремя мне напомнил, есаул. Ты поставил своим родным дома, купил им скотину и коней, и это очень правильно. Они хорошо устроились, я навещал их.
— Ты хочешь сказать, советник…
— Я уже сказал, Кирдяш, — сухо ответил Чогдар. — Дома легко горят, а чужих бродники охотно продают в рабство Не вернись к разбитому корыту, как говорят славяне.
— Я сделаю все, как ты велел, — сквозь зубы процедил Кирдяш.
— И с голов твоих родных не упадёт ни один волосок. От Бату ты получишь чин, который тебе и не снился, а от меня — калиту с золотом в приданое твоим сёстрам. Ступай и все исполни.
Ах, как невыносимо скрипели оси у огромных платформ с юртами и десятков арб и повозок! Как стонали волы, как ревели верблюды и как весело ржали кони, почуяв дорогу…
Великий князь Ярослав тоже ехал в юрте, установленной на платформе: так распорядился Бату, учитывая возраст и высокое положение путешественника. Но собственный верховой конь Ярослава всегда был под рукой, и князь при желании мог отвести душу в привычном седле. И это скрашивало бесконечно однообразное, нудное скрипящее путешествие через всю Монгольскую империю.
Да и Сбыслав постоянно находился рядом. Правда, он несколько изменился со времени той незабываемой дороги в Золотую Орду, когда они вдвоём уезжали вперёд и вели бесконечные добрые беседы: стал суше и строже, мало улыбался, ещё реже — шутил, и вертикальная складочка, что начала вдруг возникать на его переносье, выглядела особенно значительной, когда в ответ на просьбу Ярослава проехаться вместе вдоль всей огромной ленты каравана он строго вздыхал:
— Не могу, великий князь, ты уж прости. Я должен находиться при хане Орду безотлучно.
А караван, начинаясь сторожевым дозором есаула Кирдяша и заканчиваясь стадом баранов да табунком лошадей, взятых в дорогу для прокорма, растянулся на много вёрст. Его бдительно охраняли отборные воины Кирдяша и личная почётная стража хана Орду, но приглядывать за порядком следовало, и Сбыслав, Кирдяш, а то и сам Орду два-три раза в день непременно объезжали медленно ползущую ленту от головы до хвоста и от хвоста до головы.
В этих надзорных поездках Сбыслав непременно заглядывал в нарядную юрту главного подарка. Гра-жина неизменно встречала его приветливой улыбкой, тут же приказывала служанкам удалиться, оставляя только особо доверенную Ядвигу, скорее наперсницу, нежели прислугу. Ядзя умела молчать, лгать и изворачиваться не хуже своей госпожи, была осторожна и сообразительна и прекрасно понимала, что её собственная судьба целиком зависит от расположения хозяйки.
— Ясновельможный пан стал большим начальником?
— Большим стал караван. И расстояние от него до Сарая.
Сбыслав начал говорить медленно и коротко, важно вздыхать и строго сдвигать брови на переносице. Наблюдательная хозяйка мгновенно отметила эту перемену, сделала правильный вывод, но иногда переполнявшая её злая ирония одерживала верх над выверенной осторожностью.
— Но расстояние до Каракорума будет при этом сокращаться. Каким же станет ясновельможный пан, когда мы окажемся на окраине столицы полумира?
— Я утрою свою бдительность и своё недоверие.
— Пан боится моего внезапного побега с погонщиком волов?
— Пан ничего и никого не боится. Однако дар может помутнеть от тоски, злости и несварения желудка.
— Понимаю. Твою бдительность щедро оплатили, — сухо сказала Гражина, вдруг перестав кокетничать. — О неподкупности славян мне с детства толковали во всех дворах Европы. Может быть, все дело только в цене?
Именно после этого разговора она круто изменила не только темы разговоров со Сбыславом, но и само своё поведение. До сих пор их отношения строились на дружеской иронии для всех и понимании собственных полунамёков только для самих себя. Однако хмурая важность молодого боярина отринула эту форму общения, сделав невозможным равенство юности. Это был вызов, и Гражина его приняла. У неё было своё оружие, которое, правда, следовало применять осмотрительно и — небольшими дозами.
В древнейшем искусстве обольщения Гражина имела весьма солидный опыт, несмотря на юный возраст. Для неё это была не самоцель, не способ самоутверждения, а средство выживания, которое она интуитивно постигла ещё в детстве. Понравиться означало уцелеть, получить лучшую еду, платья, сласти, место в доме, который всегда оказывался чужим. Она взрослела, а условия не менялись, и дом продолжал оставаться не гнездом, а клеткой, в которой безопаснее было жить любимым зверьком, нежели просто зверьком на продажу. К природному кокетству и обаянию добавлялся опыт, а поскольку она была достаточно умна, то опыт наиболее изощрённый и отточенный, проверенный, продуманный и действенный.
Пред таким противником Сбыслав был беззащитен. В нем жило постоянное, изматывающее по ночам желание любить, но он не знал, что это такое, поскольку ни разу не встретился с ответной влюблённостью, даже для Марфуши он оказался просто соломинкой, брошенной утопающему. Силы были далеко не равны: Гражина намеревалась штурмовать крепость, в которую ещё не прибыл гарнизон.
А степь была заснеженной, морозной, бескрайней и пугающе чужой. А колёса скрипели, волы стонали, караван тащился с черепашьим упорством и скоростью, и время остановилось
— Меня впервые продали, когда мне было пять лет. Нет, даже не продали, а выменяли на кровного жеребца. Ты не знал матери, а я росла вообще без родителей, мы оба — яблочки, закатившиеся в сухой бурьян далеко от родимого ствола…
Это была дальняя разведка боем в поисках подступов к сердцу собеседника, и если Гражина прекрасно разобралась в том, что из себя представляет Сбыслав, то молодой боярин и до сей поры видел в ней только прекрасную оболочку. А внезапное вознесение его в сферы высокой ханской политики настолько кружило голову, что вдруг возникшее внимание девушки он воспринял всего лишь как дань его личным достоинствам, оценённым самим Бату-ханом. Это ласкало самолюбие, разогревало тщеславие и глушило все прочие чувства. Даже осторожность, не забывать о которой ему настоятельно советовал Чогдар.
В первом разговоре Гражина не позволила себе ни одной слезинки. Голос её звучал тихо и печально, робкая улыбка как бы подсвечивала горесть пережитого, а редкие вздохи служили скорее демонстрацией роскошной груди, нежели боли одиночества.
— Мне было шесть лет, когда я впервые поняла, что у меня нет ни защитников, ни даже сочувствующих, что я живу в мире, в котором каждый сражается только ради себя. Помню, меня ввели в залу, в которой находились одни мужчины, и… — Гражина очень рас-считанно помолчала и столь же рассчитанно потупила глаза. — Совлекли с меня все одежды. Все, до единой. И мужские глаза рассматривали обнажённого ребёнка, как рассматривают товар…
На самом— то деле ничего подобного с нею никогда не случалось, но задача требовала сочинения, а не истины, потому что сочинение воспринимается чувствами, а любая истина -только разумом. На этом этапе требовалось включать именно чувства, и глаза Сбыслава тут же отразили их включение. «Святая простота! — подумала она. — Ну, тогда не жди пощады, заносчивый представитель хана!…» И вздохнула:
— Наверно, я говорю что-то совсем тебе неинтересное. Прикажи служанке подать вина.
— Нет-нет, рассказывай.
Он сам принёс вино и сладости, сам наполнил серебряные чарки. И от вздоха не удержался:
— Представляю, каково тебе было…
— И это — только начало, мой витязь, — загадочно сказала Гражина. — Только начало…
— Даниил Галицкий приближается к Сараю, мой хан, — доложил Чогдар. — С ним небольшая охрана, обоз с дарами и Бурундай.
— Он не успел подружиться с князем?
— Бурундай суров и неприветлив с детства.
— Пусть утроит свою неприветливость, — усмехнулся Бату. — Он должен довести Галицкого до раздражения, которое придётся скрывать в моем дворце.
Чогдар лично передал это повеление Бурундаю, посоветовал поселить князя Даниила в юрте на окраине Сарая и выдержать там два-три дня. Бурундай так и сделал, не без удовольствия определив Галиц-кому совсем уж бедное жильё. И ушёл, не сказав ни слова. Еды не давали, князь, его отроки и небольшая охрана питались всухомятку тем, что захватили с собой, но Даниил испытывал не раздражение, а весьма серьёзную озабоченность, не понимая, за что ему демонстрируют столь подчёркнутое невнимание.
Бурундай объявился через два дня. Вошёл в юрту с плетью в левой руке и мокрых сапогах, сказал, даже не притронувшись к лисьему малахаю:
— Следуй за мной один.
У входа в юрту ждали две монгольские лошади, на которых князь Даниил и Бурундай добрались до ханского дворца. Здесь знаменитый тёмник велел спешиться, сдать меч охране на входе и ожидать. Сам полководец тут же скрылся во дворце, но ждать князю пришлось недолго. Тот же Бурундай вскоре попросил идти за ним.
Князь Даниил шёл следом за на редкость неприветливым тёмником, высоко задирая ноги во всех дверных проёмах, хотя никаких порогов там не было. Только перед входом в тронную залу оказалась натянутая верёвка, через которую Галицкий благополучно перебрался, увидел восседавшего на троне хана и тут же преклонил колена.
— Приблизься, князь Даниил Галицкий, — сказал Чогдар, исполнявший на этой встрече обязанности толмача.
Галицкий выпрямился, прошёл к трону, ещё раз низко поклонился и, как того требовали монгольские обычаи, уставился на хана, стараясь не моргать.
— Ты привёз мне Галич? — мягко спросил Бату, выждав некоторое время просто для важности.
— Я привёз тебе свою покорность, великий хан.
— Это разумно: покорность важнее городов, которые я могу взять сам. Король Венгрии отказался сдать мне свою столицу, а я все равно сижу на его троне. Ты узнаешь его трон, князь Галицкий?
Подтверждение означало, что князь Даниил бывал на приёмах у венгерского короля, отрицание могло вызвать сомнения в его правдивости, но Галицкий соображал быстро:
— Твоё могущество попирает троны государей, великий хан.
— Такой ответ требует заздравной чаши, — усмехнулся Бату. — Он понравился мне, и поэтому я позволяю тебе пить венгерское вино из венгерского серебра, князь Галицкий. И вспоминать о Венгрии, в которую ты так любишь от меня бегать.
Князь Даниил насторожился, соображая, чего больше в словах хана: добродушной иронии или скрытой угрозы. Но владыка степей улыбался вполне благосклонно, и Галицкий предпочёл на время забыть о скрытой угрозе.
Наконец— таки появилось вино, и Даниил сделал глоток с видимым облегчением. Дикарский напиток из немытых чаш вызывал в нем неодолимое отвращение, да и Церковь всегда решительно выступала против богопротивного кумыса. Чогдар подметил это, подумав, что Галицкий совершает сейчас пусть мелкую, но незабываемую ошибку.
А Бату стал ещё ласковее. Тут же пожаловал Галиц-кому доброе звание «мирника», приняв тем самым его земли под свою защиту, вежливо расспрашивал о здоровье, о семье.
— До нас дошёл слух о твоей семейной радости, князь Галицкий. Так ли это, или степь, как всегда, переполнена злыми ветрами да сладкими слухами?
— Если великий хан имеет в виду сватовство князя Андрея Владимирского, то я пока не дал дочери своего благословения, — осторожно сказал Галицкий.
— Что же удерживает тебя от родства со столь сильными русскими князьями?
— Я ещё не видел жениха, великий хан.
— Тогда сделай крюк на обратном пути, чтобы поглядеть на него
— Я непременно воспользуюсь твоим советом, великий хан. Однако мне бы хотелось… — Даниил спохватился. — Я позволю себе просьбу, великий хан.
— Любопытно было бы узнать, чего желает столь знаменитый князь, известный даже, как мы слышали, во французском городе Лионе.
«Он знает все о Лионском соборе! — со страхом подумал Галицкий. — Он просто ждёт моего подтверждения» И сказал, поклонившись:
— Бояре города Галича добровольно пригласили меня на княжение, великий хан. Однако без твоего соизволения я не смею принять эти земли под свою руку.
— Эти земли оказали неразумное сопротивление моему старшему брату хану Орду. Могу ли я, всего лишь младший брат, распоряжаться его собственностью.
— Но, великий хан, жених моей дочери был бы счастлив, узнав, как возросло её приданое.
— Неразумное сопротивление, — словно не слыша его, задумчиво сказал Бату — Неразумное упрямство тоже есть неразумное сопротивление. Как мне выйти из этого круга, князь Галицкий?
«Лионский собор, — верно понял Даниил. — Какое счастье, что я отказался участвовать в нем…»
— Я стараюсь избегать неразумных решений, великий хан, — сказал он. — Меня пытались заманить на Лионский собор, но я понял, насколько это неразумно, и решительно отказался.
— У всех ли князей Западной Руси хватило на это мудрости?
— Мне неизвестно, кто из князей был на Лионском соборе, великий хан.
— Не надо хитрить, здесь знают все, — по-русски сказал Чогдар, переводя последние слова князя Даниила.
— Прошу великодушно простить меня, великий хан, — тотчас же подхватил Галицкий. — Я совсем забыл, что на Лионский собор князь Михаил Черниговский послал митрополита Петра Аскерова. Но сам ехать отказался.
Видит Бог, он хотел спасти своего родственника. Но и татары знали все, и земля Галицкая была такой желанной.
— Чем же занимался Лионский собор, кроме молитв и проклятий безбожникам' Что ведомо тебе, князь Галицкий, твоим советникам или галицийским боярам?
Вежливая беседа постепенно оборачивалась жёстким допросом: Бату умел играть на всех струнах. И улыбка стала холодной, точно вдруг примёрзнув к устам.
— Папа Иннокентий Четвёртый объявил крестовый поход на Восток, великий хан. Но подписи князя Михаила Черниговского нет под согласительным документом.
— Но там есть подпись митрополита Петра Аскерова, не так ли? Ему не следует возвращаться из Европы, а тебе, князь Галицкий, следует подумать о новом митрополите. Он должен полностью разделять твоё отношение к Золотой Орде: ярлык, который ты можешь получить, предусматривает твою покорность. Ты подтверждаешь свою покорность нам, князь Галицкий?
— Клянусь в этом именем Господа и Пресвятой Богородицы, великий хан.
— Я испрошу прощения у своего старшего брата, — вздохнул Бату. — Завтра мой советник вручит тебе ярлык на княжение в галицких землях
— Благодарю тебя, великий хан. — Князь Даниил склонился в низком поклоне.
— Да, ещё одно. Если Михаил Черниговский хочет получить ярлык на свои земли, пусть без страха жалует в Сарай. Не отговаривай его, князь Галицкий.
— Я сошлюсь на свой пример, великий хан. Даниил, пятясь, покинул тронную залу.
— Что скажешь, советник? — спросил Бату.
— Он предаст тебя, мой хан
— Но не сейчас, — улыбнулся Бату. — Когда человеку дарят его собственный халат, это обидно, но все же лучше, чем ничего. Обида — ничтожная монета, чо если Галицкий начнёт складывать свои обиды в копилку Передай Невскому, чтобы очень хорошо слушал и был весьма осторожен в обещаниях.
— Гонец выедет на заре.
— Когда идёшь с хромым, надо припадать на собственную ногу, чтобы хромота спутника была не так заметна, — вдруг сказал хан. — Пусть эти слова скажет Невскому твой гонец, Чогдар. Невский сам разберётся, где и когда ему следует чуть поджать свою ногу.
Князь Даниил намеревался на обратном пути из Сарая посетить Владимир и без совета Бату. Однако не ради близкого знакомства с будущим зятем, а ради свидания с Александром Невским Он понимал, что его поездка на поклон к степному владыке не останется незамеченной, а поскольку его земли лежали у западных границ Руси, то совсем не мешало заручиться поддержкой известного Европе русского полководца.
А мелкие монетки обид, тускло позвякивая, продолжали одна за другой падать в глубокую копилку его души. Он понимал, что не следует их холить и лелеять, что подобный груз способен лишь отяготить его, досадовал на себя, но ничего не мог поделать. Мешала и княжеская гордость, и личная слава, и прожитые годы, и то саднящее ощущение потревоженной совести, когда во спасение от её голоса ищут обид и копят их, хотя следовало корить прежде всего себя. Ведь мог же он, мог не выдавать Михаила Черниговского, сославшись на свою неосведомлённость Но испугался, что ярлыка не получит, что Галич потеряет, что…
И знаменитый князь изо всех сил сам заволакивал ясный разум пеленой обид, ничтожных по сравнению с его высоким положением и с предстоящими высокими делами. Бату верно просчитал влияние непомерного княжеского самолюбия на все последующие поступки князя Даниила.
Галицкий вполне достойно держался на пиру, терпеливо выслушивая восторги безмерно счастливого князя Андрея, благодушно улыбался, изо всех сил скрывая растущее раздражение. Ему не терпелось поскорее уединиться с Невским, излить душу и потолковать о возможных совместных действиях против безбожных татар. Но эта беседа состоялась только поздним вечером, когда наконец-таки угомонился не в меру возбуждённый жених.
Князь Александр предполагал, о чем зайдёт беседа наедине… За сутки до приезда Даниила Галицкого примчался личный гонец Чогдара, передавший странную фразу Бату, которую после некоторого размышления Невскому удалось разгадать Ему советовали очень мягко, дипломатично отказаться от авантюрных предложений обиженного князя Галицкого, сохранив свободу действий для себя В этом его интересы полностью совпадали с интересами Золотой Орды, поскольку Александр Невский уже здраво осознавал, что борется не за личную власть, не ради уязвлённого самолюбия, а только во имя сохранения Руси как внутренне самостоятельного, уже сложившегося народа со своими традициями, языком и религией. Не державы и даже не государства, а — народа, во имя которого можно и должно идти на все мыслимые жертвы
— Сердце от обиды заходится, — вздохнул Галицкий, как бы настраивая на вполне определённый лад предстоящую беседу.
Подобное начало хозяину не понравилось, потому что звучало как-то не по-воински и не по-княжески.
Он сам никогда не жаловался и не терпел подобных откровений.
— Кострами очищали? — резче, чем намеревался, спросил он. — Заставляли кумыс пить? Галич отобрали? Нет? Стало быть, и обиды твои пустые, князь Даниил Романович. Тебе честь оказали как воину, и не след черноту в душе своей копить.
— Злее зла честь татарская, — криво усмехнулся Галицкий. — Нехристи гордость русскую попирают, а вы, князья Владимирские, потакаете им в попирании сём.
Не так складывалась беседа, совсем не так, как было нужно князю Даниилу. Он нахмурился, отхлебнул из кубка и только было решил начать разговор по-иному, как разговор этот перехватил Александр.
— Есть у нас поговорка: «В Ростовской земле князей — в каждом селе». Слыхал такую? Растаскали мы землю собственную по уделам и множим число их. Под рукой моего прадеда Юрия Долгорукого пятнадцать уделов было, а под рукою отца — к полусотне подходит, и все на прежней земле, в Великом княжестве Владимирском. Какая уж тут гордость, когда в каждом селе — один конь, да и тот хром на обе ноги. Вот о чем голова болит, князь Даниил Романович: как земли заново в единую горсть собрать.
— Другая у нас поговорка, князь Александр, — вздохнул Галицкий. — «Лучше убитым лежать, чем полоненным бежать». Разве ж позволят тебе поганые прежнюю силу княжества восстановить? С бедного легче три шкуры содрать, нежели у богатого одну шубу отнять, разве не знаешь об этом? И они знают. Вот о чем головы наши болеть должны, князь Александр Ярославич.
— С больной головой в битву не лезут.
— А на лечение времени нет! Батый пугает больше, чем кровь льёт, и пугает жестоко, это он умеет. Почему пугает? Не потому ли, что на иное уж и сил-то не хватает? А вы, князья Владимирские, передышку ему даёте. Грызть его надо сейчас, со всех сторон грызть!
— На радость крестоносцам, князь Даниил Романович? Этого они только и ждут. На две стороны мечом не намашешься.
— Европы испугался? Там такие же, как мы. Тому же Богу поклоняются и кумыс не пьют. Всегда договориться можно.
— Договориться? — усмехнулся Невский. — Сорок лет назад Константинополь добро договорился с рыцарями: месяц город грабили, а разграбив, спалили. Где сейчас православная Византия, из которой наша святая вера пришла? Нет её: на том пепелище — Латинская империя. То же и с Русью будет, если мы с тобой их клятвам поверим и спинами к ним оборотимся.
— Это смотря как договориться, князь Невский. Католики унию предлагают…
— Тех же щей, да пожиже влей!…
Нет, не сумел Невский поджать ногу, шагая рядом с хромым. Тем более что Галицкий шагал размашисто и гнала его не только личная обида, но и личный расчёт: отбросить татар от своих земель мечами воинов Северо-Восточной Руси. Князь Александр понял это сразу и сразу же ощетинился, уже с трудом сдерживая гнев.
— Сам Папа Римский присягнуть готов, что ни один воин на нашу землю не вступит, если мы унию подпишем. Русь спасём, Невский, отчину нашу!
— Как раз-то Русь и потеряем, князь Галицкий. Русь — это народ, а не просто земля оттич и дедич. Сам народ! Его вера, обычаи, законы, его песни и пляски.
— Так что же, по-твоему, лучше отатарить её, лишь бы власть свою не утерять?
— Власть мне вручил народ, когда Невским нарёк. И я ему служу, ему, народу русскому, а не собственным расчётам. — Александр посмотрел на красного от сдерживаемого гнева Галицкого, улыбнулся неожиданно. — Полно, Даниил Романович, орать-то друг на друга. Поднимем кубки да остудимся малость. Так-то оно лучше будет. Почти что родственники, считай.
Они долго и неспешно прихлёбывали из кубков, стараясь не глядеть друг на друга, но постепенно приходя в себя. «Родственники, — хмуро размышлял Га-лицкий. — Что ж, тогда разговор ещё продолжим, князь Невский. По-родственному, через любимого братца…» И сказал с горечью:
— На Руси князья всегда первыми себе крамолу куют. Судьбина у нас такая, что ли…
— Нрав у нас и до сей поры варяжский, а не судьбина, князь Даниил Романович, — вздохнул Невский. — Пращур наш Рюрик и с того света нам покоя не даёт. «Это моё и это — моё тож». Разве не так, брат Рюрикович?
Через три дня Галицкий отъехал все с тем же раздражением против самого себя, от которого так и не удалось избавиться. Невский не пожалел и не посочувствовал, и это тоже стало обидой.
Конечно, татары, только татары были повинны в том, что ему, самому князю Даниилу Романовичу Га-лицкому пришлось выдать тайные планы князя Михаила Черниговского, и тут личной вины его нет и быть не может. Эта спасительная мысль наконец-таки утвердилась в нем, потеснив растревоженную совесть, и князь Даниил обрёл и прежнюю страсть к бурной деятельности, и прежний покой. Враг, заставивший его внутренне терзаться столько времени, был найден, пощады ему быть не могло, но следовало поступать крайне осторожно, чтобы татары, чего доброго, не подсказали Михаилу Черниговскому, кому тот обязан немилостью самого Вату. Но он все же назначил своего хранителя печати митрополитом вместо Петра Аскерова, как того требовала Золотая Орда.
Гуюк знал о караване, в котором ехал князь Ярослав Владимирский за получением ярлыка на собственные земли, как то было заведено у монголов для правителей покорённых народов. Как только огромный обоз переправился через Волгу, впереди его помчались гонцы, с каждым перегоном увеличивая разрыв. Сарай не делал из этого тайны, потому что личным представителем хана Вату и был назначен его старший брат.
Насколько Каракорум недолюбливал Вату, настолько же благоволил к Орду. Добродушный и недалёкий внук Чингисхана очень не любил ссор, страдал из-за них и старался сглаживать все шероховатости хотя бы между ближайшими родственниками. При этом он сам лично ни на что не претендовал, к власти не стремился, поскольку до ужаса боялся ответственности, и был вполне доволен судьбой. Властный, умный, жестокий и недоверчивый Вату был не просто полной противоположностью старшего брата, но противоположностью активной и непредсказуемой, что вызывало хмурую озабоченность в Каракоруме. К этому примешивались и личные мотивы: как сама ссора Вату с Гуюком, так и тёплые проводы изгнанного из Западной армии Гуюка старшим братом её командующего. Такое не забывалось даже в те свирепые времена, и Вату знал, кого послать вместо себя на великий и смертельно опасный для него курултай.
Гуюк это сразу же понял, сказав с усмешкой:
— Так и быть, пожалую Бату мирником. Если согласится, может быть, и хребет спасёт.
А караван полз через Великую Степь с каждого тусклого рассвета и до каждого тусклого заката. Стонали волы, свистели бичи, скрипели арбы, и замертвс падали от страшной усталости и холода рабы-погонщики. Но ничто не могло остановить этого неукротимого движения, и умерших хоронили по ночам.
Десятники будили своих людей ещё затемно, когда чуть подсвечивался восток. Рабы и рядовые жевали поджаренное пшено, запивая его кипятком, и спешили по своим раз и навсегда определённым местам. И тотчас же появлялся сам Орду, не позволявший себе ни единого опоздания. Молча проезжал вдоль растянувшегося каравана, следя за порядком, а когда трогались в путь, непременнейшим образом отправлялся завтракать в подвижную юрту князя Ярослава. У входа в неё всегда ожидал Сбыслав, чтобы переводить слова своего повелителя, но беседы никогда не возникало: Орду молчал, как валун, а Ярослав бормотал случайные слова, что, впрочем, не мешало им вполне дружелюбно относиться друг к другу.
Иногда их раннюю трапезу посещал и Кирдяш. Осунувшийся, почерневший от морозных ветров, злой, но неунывающий. Ему приходилось несладко, поскольку он каждую ночь тщательно проверял стражу, досыпая днём в седле. Ярослав с трудом выносил его посещения, но Орду всегда радовался появлению начальника охраны, и строптивому князю оставалось только терпеть собственного холопа за собственным столом.
— И естся у тебя, великий князь, и пьётся добро! — говаривал Кирдяш, осушая кубок старого медового перевара.
— Могущий пити да пьёт, — через силу улыбался Ярослав.
Сбыслав нехотя переводил Орду каждое сказанное слово, нехотя ел и нехотя пил, потому что с некоторых пор мысли его были далеко. В самой середине каравана.
Во время их ранних трапез Гражина ещё нежилась в пуховиках. Иногда спала, но чаще в сладкой полудрёме вспоминала последнее свидание с молодым и некогда таким заносчивым боярином и хорошо продумывала свидание следующее. Добыча её уже пугалась в сетях, иногда пытаясь разорвать их, но при этом запутывалась ещё больше. Теперь следовало неспешно накидывать петельку за петелькой, делая это мягко и в отлично рассчитанный момент, к главный дар Бату-хана был невероятно доволен собой. Затеянная игра не только давала возмжность поработить возомнившего о себе выскочку, но и так мило скрашивала нудную дорогу, так развлекала и отвлекала одновременно, что порою тигрица чувствовала себя почти счастливой.
Гражина всегда сама выбирала, о чем должна быть беседа, не только потому, что это входило составной частью в искусство обольщения, но и потому, что Сбыслав с женщинами беседовать так и не научился. Он был способен на сумбурную вспышку искренности, как то однажды случилось наедине с Марфушей, но не более того, почему и прикрывался вначале сковывающей застенчивостью, а потом — гщеславной надменностью. И то и другое равно раздражало собеседницу, что в конечном итоге и навело Гражину на мысль проучить заносчивого и нелюбезного молодого человека.
Обычно они встречались после обеда, когда князь Ярослав, по заведённому издревле обычаю, ложился поспать часа два-три. Хан Орду полагал, что Сбыслав в это время находится при князе, а князь — что он сопровождает Орду. Таким образом сами собой возникали два часа свободы, и верная наперсница Гражины Ядзя осторожно проводила Сбыслава в юрту, а его коня привязывала к платформе, на которой ехали служанки.
Гражине уже удалось не только заставить русского боярина внимательно слушать себя, но и слушать сочувственно При последующих встречах она старалась углубить достигнутое и добилась этого довольно легко Теперь пришла пора от сочувствия переходить к заинтересованному искреннему взаимопониманию, как мостику, способному соединить две души, заброшенные жестоким роком в жёлтый степной ад. Для этого необходимо было заставить жертву рассказывать о себе, и чегременно — о детстве, ибо ничто так не расслабляет мужчин, как воспоминания о былой безмятежности, защенности и бестревожности собственного сущеествования. И это ей тоже удалось.
Монотонно скрипела и раскачивалась платформа, а вместе с нею и юрта, стонали волы, и ничего больше не было в мире
— Я не помаю своей матери. Она умерла, когда мне был всего месяц, и моей кормилицей стала кобыла. Чогдар говорил, что она ложилась и подставляла мне вымя.
— Чогдар?
— Побратим моего отца. Он теперь — главный советник самого Бату-хана.
— Какая высокая честь!
— О, Чогдар стоит её. Он не только обучил меня всем видам монгольского боя, но и языкам.
— А что же твой батюшка?
— Он пал в Ледовом побоище.
Сбыслав тяжело вздохнул, подумав, как бы гордился сейчас отец невероятными, скачкообразными успехами сыча, ставшего не только воеводой и боярином, но и особо доверенным лицом самого Бату-хана. Гражина тоже вздохнула:
— Не печалься, мой витязь. Горем горю не поможешь.
И осторожно нежной рукой, почти невесомо коснулась его длинных вьющихся волос. Сбыслав вздрогнул, но не отодвинулся, а, наоборот, непроизвольно подался вперёд, точно его качнула вдруг дёрнувшаяся платформа. «Ого! — мелькнуло в голове Гражины. — Костёр готов, осталось высечь искру…» И она мягко, с подчёркнутым нежеланием убрала руку. Они помолчали.
— Я очень любил отца, — сказал Сбыслав, точно оправдываясь — Он заменял мне матушку, деда, бабку — всех вместе. И спас меня, когда мы бежали от татар через студёную зимнюю степь.
— Бежали от татар? — Гражина удивлённо подняла тщательно подбритые брови. — Зачем же было бежать, если побратим твоего отца был знатный монгол?
— Так уж случилось. — Сбыслав помолчал, колеблясь, стоит ли посвящать Гражину в свою главную тайну, но желание похвастать собственной удалью оказалось сильнее благоразумия. — Мы жили у брод-ников, и однажды в их станицу приехал татарский отряд. Отец не снял шапки, и татарский десятник ударил его плетью. А я вырвал у него плеть и огрел его ею по лицу. Десятник выхватил саблю, но Чогдар бросил мне свою, и я уложил татарина в честном поединке.
— Сколько же тебе было лет?… — искренне ахнула Гражина.
— Четырнадцать или пятнадцать, но я тогда умел неплохо постоять за себя. А уж за отца…
— Витязь мой!…
Она вдруг распахнула объятия, и Сбыслав упал в них, точно его опять толкнула вовремя качнувшаяся платформа. Упал и крепко прижал к себе девушку, жадно, судорожно и поспешно целуя все, до чего мог добраться: шею, ушки, щеки…
— В цепи их, Кирдяш!…
Молодые люди отпрянули друг от друга. У входа стояли Кирдяш и хан Орду.
Кирдяш выжидающе смотрел на Орду, не торопясь ни выполнять его приказа, ни звать стражу.
— Его — в цепи, а с нею я сам поговорю, — уточнил хан, немного отойдя от гнева.
А молодые люди продолжали молчать, хотя уже пришли в себя от первого ужаса и сейчас судорожно соображали, что же делать. Сбыслав после первого окрика вскочил, но за саблю не хватался и головы повинно не опускал: в запасе у него был щит против любых действий Орду, о чем он никогда не забывал.
— Не гневи его, боярин, — негромко сказал Кирдяш, подойдя к Сбыславу. — Дай мне саблю, и все обойдётся. Он отходчив, и будет лучше, если я тебя уведу.
Сбыслав тоже считал, что лучше уйти; но оставалась Гражина. Он понимал, что не может облегчить её участь, однако уходить без прощального жеста было слишком позорно. А потому, вручая саблю есаулу, он поймал-таки напряжённый взгляд Гражины и сказал:
— Выиграй время, и я спасу тебя. И вышел вслед за Кирдяшом.
Весь этот разговор шёл на русском языке, почему Орду и не понял ни единого слова. Да и понимать-то было некогда, поскольку он пытался оценить создавшееся положение. С одной стороны, искренняя вспышка праведного гнева была вполне закономерной, но с другой… С другой — драгоценный дар Гуюку и толмач русского князя, которому покровительствует Чогдар. Здесь требовалось некое равновесное решение, но подобная потребность просто не умещалась в его вечно затуманенной голове, приспособленной кое-как разбираться с одной задачей, но уж никак не с двумя одновременно. Поэтому единственным выходом для него всегда была и оставалась солдатская последовательность любых действий и любых поступков.
— Ты дерзнула пойти против повелений моего великого брата, — сказал он, грозно сдвинув брови. — За это полагается смерть, но я сделаю ещё страшнее. Я изуродую твоё лицо, выколю один глаз и отдам тебя вонючим погонщикам,
— И тем нарушишь повеление своего великого брата. — Гражина ещё не пришла в себя, ещё не выстроила обороны, но умела прекрасно владеть собой и выигрывала время. — Явиться к хану Гуюку без такого подарка, как я…
— Подарок будет, — Орду раздвинул губы в злой ухмылке. — Твоя служанка Ядвига тоже молода и златокудра…
«Ядзя!… — мелькнуло в голове Гражины — Ах ты, гадюка подколодная!…»
— Это ведь она сказала мне о ваших тайных встречах, за что достойна высокой награды.
«Он выполнит свою угрозу! — с ужасом поняла Гражина. — Надо отвести его мысли, отвести мысли!…» И сказала, заставив себя насмешливо улыбнуться:
— Ядвига сказала тебе то, что должна была завтра сказать я. Но она глупа, а глупость либо слишком спешит, либо очень опаздывает, но никогда не попадает в нужный момент. Я встречалась с боярином князя Ярослава с единственной целью: выведать его тайну для справедливого суда хана Бату.
— Ты вертишься напрасно, змея. Мой сапог уже прижал твой хвост.
Гражина молча пожала плечами. Она забросила приманку, и теперь оставалось только ждать, когда вкус её оценит тупой мозг Орду.
— Какая тайна?… — спросил Орду, наконец-таки сообразив. — Боярин Федор — сын анды главного советника моего брата.
— Боярин Сбыслав.
— Что?… — Орду поморгал. — Какой ещё Сбыслав?
— Тот, который убил вашего десятника в станице у бродников. Если мне не изменяет память, за это полагается смертная казнь?
Орду молчал, честно пытаясь разобраться в новом повороте разговора. Да, за убийство полагалась смертная казнь без всяких исключений и вне зависимости от того, когда именно было совершено преступление, — это Орду знал твёрдо. Но при чем тут боярин Федор?… И кто такой боярин Сбыслав?…
— Настоящее имя боярина Федора Яруновича — Сбыслав, — терпеливо растолковывала Гражина. — В молодости он убил вашего десятника и бежал во Владимирские земли под защиту князя Ярослава.
— Опять изворачиваешься?
— Спроси у него сам. — Она помолчала, но поскольку хан никак не мог прийти к какому-либо решению, добавила: — Меня готовили для ханского ложа, Орду, и учили не только вашему языку, но и Ясе твоего великого деда. И я готовилась тоже, почему и решила выведать у боярина всю правду, чтобы он не избежал справедливого возмездия, как того требует закон самого Чингисхана. Ступай.
И утомлённо откинулась на подушки. Сердце её бешено билось, потому что сейчас должно было решиться все. Вся её судьба. Но глупый хан ещё топтался, и Гражина расслабленно добавила:
— Да, и пришли ко мне Ядзю Она поступила правильно, и я хочу её отблагодарить.
Орду яростно хлопнул плетью по сапогам и вышел. Слезы тут же хлынули из глаз Гражины, но она поспешно вытерла их, вскочила, наполнила два разных серебряных кубка вином, достала ладанку, высыпала из неё весь яд в тот кубок, который был поменьше. Поставила их на поднос у входа и вновь устало раскинулась на подушках.
Все это время Кирдяш и обезоруженный Сбыслав ходили неподалёку от платформы, поскольку караван продолжал двигаться. Сильный морозный ветер сёк лица, проникал сквозь шубы, есаул мёрз, но боярин не замечал ни ветра, ни холода. Преступление его было велико, а значит, плата за прощение должна была ему соответствовать. Он быстро нашёл чем расплатиться, но считал преждевременным предлагать столь дорогостоящую цену, а потому думал и думал, изыскивая более простой способ собственного спасения.
Наконец из юрты появился хан Орду. С платформы сел в седло, хмуро сказал Кирдяшу:
— Вели поставить мою юрту и развести огонь. Есаул тотчас ускакал, а Орду столь же хмуро приказал Сбьтславу следовать за ним.
— Где твой конь?
— У юрты служанок.
— Значит, у тебя его нет. Пойдёшь пешком. Последние слова хан сказал злорадно, поскольку в них содержалась высшая форма презрения. Но Сбыслав не торопился со своим признанием и покорно шагал рядом с седлом. «Ничего, потерпим, — зло думал он. — Будет и на моей улице праздник…»
Орду водил Сбыслава с добрый час, продемонстрировав его унижение не только погонщикам, но и страже. Боярин продрог до костей, пока наконец хан не повернул к своей походной юрте. Возле неё стоял Кирдяш, доложивший, что огонь разведён. Орду важно кивнул, и в юрту они вошли втроём.
— Останься у порога, раб, — сурово сказал Орду, проходя к огню. — Знаешь, кто это, есаул?
— Боярин и толмач князя Ярослава…
— Это — убийца нашего чербия, сбежавший к князю Ярославу! И зовут его не боярин Федор, а — Сбыслав. Так?
— Да, моё рекло — Сбыслав, а христианское имя — Федор.
— Ты убил чербия?
— В честном поединке. Спроси об этом у Чогдара, он был свидетелем.
— Чогдар далеко, а закон — рядом. Но я спрошу Чогдара при тебе, когда ты вернёшься в Сарай рабом. А сейчас снимешь одежду, наденешь отрепья, и есаул отведёт тебя к погонщикам волов.
— Хан Бату повелел мне кое-что сказать тебе, Орду.
— Я сам спрошу у своего брата, что он тебе повелел!
— Повторяю Хан Бату повелел сказать тебе… Сбыслав говорил раздельно, нажимая на каждое слово, чтобы Орду не только умерил свой торжествующий гнев, но и услышал и, главное, вспомнил то, что должен был знать.
— Так говори1
— Прикажи есаулу выйти из юрты. — Сбыслав позволил себе усмехнуться. — Пусть пока проведает Гражину.
— Сначала отдай мне кинжал, — хмуро сказал Кирдяш.
— Пусть проведает Гражину, — сквозь зубы процедил Сбыслав, не спуская глаз с растерянного хана.
— Проведай Гражину, — послушно повторил Орду. Красные пятна выступили на обветренных скулах Кирдяша. Он громко, с вызовом вздохнул, но послушно покинул юрту. Сбыслав спокойно прошёл к огню и, присев на корточки, протянул к нему иззябшие руки.
— Как ты смеешь греться у моего костра без моего дозволения… — грозно засопел Орду.
— Бату-хан повелел сказать тебе— «Ключ иссяк, бел-камень треснул», — негромко сказал боярин, не глянув на хозяина
— «Ключ иссяк, бел-камень треснул», — почему-то послушно повторил Орду, но опомнился. — Ты?!
— Но… Но ты был у Гражины?… Зачем ты был у Гражины?…
— Я высоко чту тебя, хан Орду, — вздохнул Сбыслав. — И буду высоко чтить всегда. Но ты должен отчитываться передо мной, а не я — перед тобой. Так повелел твой великий брат хан Бату.
— Да, да, он говорил мне, говорил… — в полной растерянности забормотал Орду. — Что я должен делать?
Сбыслав не успел ответить. Заколыхался войлочный полог, и в юрту вошёл Кирдяш.
— Служанка Гражины добровольно выпила яд…
Князь Михаил Черниговский больше отличался чванством и суетностью, нежели хладнокровием и расчётом. То намереваясь дать отпор татарам, то вдруг бросая собственный город и спасаясь бегством за границу, он терял, не решаясь ничего спасти, и в результате потерял все. Даже собственную жену, которую захватил князь Ярослав, пока муж обретался в бегах, но отдал, как только этого потребовал Даниил Галицкий, Судьба, которую он созидал для себя собственными руками, оказалась судьбой изгнанника. Михаил Черниговский постоянно ощущал собственное унижение, но сил признать, что виновником является он лично, в душе не нашлось. Зато в ней нашлось иное: желание во что бы то ни стало разыскать того, кто обрёк его на унизительную жизнь вечного беглеца и просителя. И вскоре он с известным облегчением отыскал супостата, сломавшего всю его доселе такую распрекрасную жизнь: татары. Нечестивые язычники, сатанинская саранча, заклятые враги христианского мира. С этим воинственным стягом он метался по всей Центральной Европе, но европейские властители были заняты своими делами, воевать за Черниговские земли и уязвлённое самолюбие князя Михаила никто не рвался, и тому пришлось воротиться в Чернигов. Но как же неспокойно было на душе, как металась она ночами, как терзала, суетливого честолюбца! Вот что пишет Карамзин об этой странице Михайлова жития:
«Узнав, что сын его, Ростислав, принят весьма дружелюбно в Венгрии, что Бэла 4-й, в исполнение прежнего обязательства, наконец выдал за него дочь свою, Михаил вторично поехал туда советоваться с Королём в средствах избавить себя от ига Татарского, но Бэла изъявил к нему столь мало уважения и сам Ростислав так холодно встретил отца, что сей Князь с величайшим неудовольствием воротился в Чернигов, где сановники Ханские переписывали тогда бедный остаток народа и налагали на всех людей дань поголовную от земледельца до Боярина. Они велели Михаилу ехать в Орду. Надлежало покориться…»
Пока готовили дары да обозы, князь Михаил решил потолковать с Даниилом Галицким, который, по слухам, в Орде был принят с почётом. Вообще-то родственники друг друга недолюбливали, что, впрочем, естественно: деятельный, энергичный и знающий, чего он хочет, Галицкий был полной противоположностью князю Черниговскому. В иных обстоятельствах Даниил постарался бы избежать свидания, но совесть была нечиста и чувство вины перед мужем собственной сестры и до сей поры нет-нет, а тревожило его.
— Обложили нас треклятые агаряне. — Князь Михаил решил начать беседу со вздоха: привык к таким запевам во время слёзных блужданий по властительным дворам Европы. — Отвернул Господь лик свой от Святой Руси.
— Стало быть, не такая уж она святая, — не сдержался Галицкий: его всегда раздражал родственник, а теперь стал невыносимым, поскольку из-за него тревожилась собственная совесть. — Смирению Господь учит, а не суетным вздохам.
— Значит, ехать советуешь? — спросил Черниговский, уловив хозяйское неприятие начала беседы.
— От поклонов голова не отваливается, князь Михаил.
— А честь наша княжеская?
— Нам с тобой о чести говорить не пристало. О чести один Невский толковать может, потому что он с мечом на своей земле стоял, пока мы с тобой по Европам бегали.
Галицкий завидовал Невскому, а после беседы с глазу на глаз и невзлюбил его, но сейчас перед ним сидело суетливое ничтожество, которое хотелось только царапать да унижать. Ведь из-за него же, из-за его неумной суетливости ему, князю Даниилу Галиц-кому, пришлось выложить Батыю правду о Лионском соборе и его решениях.
— Боязно, — тяжело вздохнул князь Михаил.
Это прозвучало искренне, как предчувствие, и Га-лицкий ощутил эту искренность. Налил вина, протянул кубок князю
— Нам, князь Михаил Всеволодович, время нужно выигрывать. Покорностью, смирением, унижением — чем угодно, но выигрывать. Ждать, когда Батый от нас отвернётся. А он — отвернётся: на востоке, в самой Монголии, у него дела тревожные.
— С равным — смирен, с высшим — почтителен, но как мне покорность изыскать в сердце моем перед немытой гадиной степною? Как? Где -силы взять для покорности и смирения моего?
Сказано было с таким искренним надрывом, что князь Даниил понял вдруг, что не от слабости души метался Михаил Черниговский, а только от слабости разума своего.
— В вере Христовой, князь.
— Верую, — Черниговский широко, истово перекрестился. — Верую в Отца и Сына и Святаго Духа. Верую в Пресвятую Богородицу Деву Марию. Верую в грозных архангелов Господних, в воскрешение из мёртвых и в Страшный Суд тоже верую И чту, высоко чту угодников Божиих, мучеников и страстотерпцев, блаженных и юродивых. На сём камне стою, князь Даниил Романович, и с того камня не сойду и до смерти своей…
Князь Михаил Всеволодович Черниговский, человек совсем негосударственного ума и тем паче негосударственного поведения, мелочный и суетный, трусоватый и честолюбивый, не сошёл с Христова камня в свой страшный последний час. Жизнь его не была примером последующим поколениям, но смерть — была, почему Церковь и причислила его к лику святых. Жить недостойно, но умереть достойно — такой же подвиг, как и достойно жить.
Михаил прибыл в Сарай с внуком Борисом, любимым боярином Фёдором и небольшой свитой. Это случилось утром, и, как ни странно, всех прибывших на поклон к Бату тотчас же повели к дворцу прямо из саней Бывалых — а таковые нашлись в свите — это обеспокоило, но князь не обратил внимания на них, продолжая идти вперёд с высоко поднятой головой. Поверх шубы успели набросить алое княжеское корз-но, и оно знаменем развевалось за ним.
Так они пешком дошли до дворца, перед которым на сей раз ярко полыхали четыре священных костра. Перед ними стоял верховный шаман в длинном чёрном одеянии и островерхой шапке. Он поднял руку, шествие остановилось, и шаман что-то выкрикнул.
— Ты должен пройти меж огней, князь, — шепнул Федор. — Пройти и поклониться
— Не будет так, — с неожиданной для него твёрдостью сказал Черниговский. — Я пришёл поклониться их царю, а не идолам.
— Он говорит, что тогда ты умрёшь, — тихо сказал Федор. — Поклонись, князь, мы отмолим твой грех.
— Нет! — вдруг громко выкрикнул Михаил и, сорвав с себя корзно, сунул его Борису. — Возьми славу мира, внук, я возжаждал славы небесной.
— Кара-гулмус! — Шаман упёр палец в князя. — Кара-гулмус!…
Из— за его спины появились обнажённые по пояс помощники с длинными жертвенными ножами в руках. Свита испуганно подалась назад, и только боярин Федор не оставил своего князя в смертный час, разделив его участь.
— Мужи достойные, но смерть им была предначертана свыше, — равнодушно отметил Бату, когда ему доложили о казни Михаила Черниговского и его боярина Федора.
В кровавый тот день Чогдара в Сарае не было: Бату послал его на юг, к Сартаку который отвечал за зимовку скота в Кубанских степях. Вернулся он спустя часа два после бессмысленной и, главное, совсем не по адресу исполненной казни, когда русским только-только отдали истерзанные тела князя и боярина, а кровь ещё не всосал мокрый истоптанный снег. Поспешно порасспросив свидетелей о происшедшем, Чогдар прошёл прямо к Бату.
— Я казнил предателя, как того требуют законы Чингиса.
Чогдар хмуро молчал: ему не по душе была эта показная никчёмная жестокость. Впрочем, и хан испытывал нечто вроде угрызений. Досаду совести, если так можно выразиться. Она скреблась внутри, и Бату, не спросив ни о Сартаке, ни о зимовке, начал подробно рассказывать о казни, за которой лично наблюдал из дворца.
— Мы вновь напомнили о своей суровости, и правильно сделали. И толпа поддержала нас: голову князю отрубил русский доброволец именем Доман. Такое рвение достойно награды.
Чогдар склонил голову, по-прежнему пребывая в отрицающем безмолвии. Бату недовольно пробурчал:
— Вижу, но не понимаю. Объясни.
— Моя обязанность — говорить правду. Если я неправильно понимаю свою обязанность, повели мне удалиться.
— Я слушаю.
— Кровавый скакун спотыкается чаще рабочей лошади, это понятно. Непонятно, как он умудрился споткнуться на ровной дороге.
— Мне нужна ясность! — зло выкрикнул Бату. — Я не желаю распутывать твои заячьи петли.
— Судя по первым словам, ты доволен казнью Михаила Черниговского. Но есть человек, который возрадуется больше тебя.
— Кто?
— Гуюк, мой хан. Этот подарок ему куда дороже белокурой Гражины.
Бату недовольно засопел: Чогдар налгупал его досаду, которая, правда, несколько запоздало возникла в его душе.
— В то время как Гуюк всячески заигрывает с православными, ты начал их прилюдно каогогп
— Православные не посылают своих представителей на католические соборы!
— Не слышал, что князь Михаил принял католичество.
— Он сделал бы это завтра!
— Вот завтра его и следовало казнить.
— Замолчи, раб!… — рявкнул Бату.
Наступило тягостное молчание. Хан раскраснелся от гнева, но от гнева на самого себя, а не на своего советника Досада превратилась в саднящую занозу, а Чогдар вгонял её ещё глубже в его душу.
— Я не собирался этого делать, но повздорил с Ба-ракчин, — проворчал наконец Бату. — Она соскучилась по внуку, а я не могу отозвать Сартака с зимовий по капризу женщины. Как там мой внук Улакчи?
— Здоров и весел.
— Скажешь это Баракчин. — Бату помолчал. — Ты прав, Чогдар. Во всем виновато дурное настроение с утра.
— Боюсь, что я испорчу тебе его ещё больше, К нам спешит католический посол Плаио Карпини.
— Может, мне лучше уехать к Сартаку на зимовья?
— Наоборот, мой хан. Вызови Сартака сюда и прими посла с большой честью. Но ничего не обещай, а лучше всего отправь его к Гуюку. Пусть Каракорум сам разбирается с католиками. И как бы там ни разобрались, православным это все равно не понравится.
— Недаром тебя любил Субедей-багатур. — Бату расплылся в довольной улыбке. — Отдохни с дороги и навести вечером Баракчину. Она тоскует по своему маленьком^' внуку.
Чогдар поклонился и вышел. Отдых и впрямь был необходим: он устал безостановочно гнать с Кубани, лишь меняя коней на поставах. Да и для беседы с любимой женой Бату требовалась свежая голова: Баракчин сочетала мужской ум с женской проницательностью, умела и незаметно подсказать, и столь же незаметно выведать то, что ей было нужно. Правда, более всего её занимали свои дети и внуки, и тут следовало держать ухо востро, потому что Сартак пристрастился на Кубани к местному вину, забыв целительный кумыс.
Он вышел на дворцовую площадь, где ещё толпился народ, жадно обсуждавший подробности утренней казни. Кого здесь только не было: татары, кипчаки, остатки разгромленных Бату торков, переселённые сюда с Днепра для ухода за скотиной берендеи, русские язычники, бежавшие от церковных и княжеских преследований, мордва и черемисы, бродники и волжские болгары. В этом многоязычии сами собой выделились два языка, ставшие основными в общении как городских обывателей, так и пришлых по своим делам: кипчакский и русский, на котором говорили не только собственно русичи, но и бродники, торки, берендеи, мордва и многие иные, покорённые победителями или насильственно переселённые ими в эти места из русских княжеств.
— …Я же холоп его, смерд поротый был!… — захлёбываясь в торжествующем восторге, по-русски рассказывал коренастый мужчина в полутатарской одежде с простой шашкой, заткнутой за широкий пояс. — Уж помытарил меня князюшко мой, повластни-чал, дочку мою себе забрал за долги. Но посчитался я с ним, посчитался!… Как рубанул, так и голова набекрень…
Чогдар остановился, с усилием припомнив названное Бату имя.
— Доман?
— Доман, господин, — живо откликнулся беглый язычник, сияя всем обликом своим и готовностью исполнить что ни повелят.
Чогдар прикинул расстояние, чуть отклонился назад и, выхватив саблю, нанёс знаменитый монгольский удар от левого плеча к правому. Сверкающая улыбкой голова слетела с плеч, в небо ударил фонтан крови, тело какую-то долю секунды ещё стояло, но тут же и рухнуло наземь. Чогдар отёр полой халата лезвие, кинул саблю в ножны и, не оглядываясь, пошёл к коновязи сквозь враз примолкшую, поспешно расступающуюся толпу.
Ещё на Лионском соборе, призвавшем католический мир к новому крестовому походу на татар, а заодно и на всех еретиков, было принято решение направить посольство к правителям Монгольской империи. Папа Иннокентий IV руководствовался при этом не только возможностью выиграть время для организации активной борьбы с татарами, не только сбором известий о таинственных степняках, но и ходившими по Европе слухами, что где-то на Востоке, в сердце диких степей, существует некий оазис христианства, возглавляемый каким-то пресвитером Иоанном. Главой посольства был назначен шестидесятичетырехлетний францисканский монах Иоанн Плано Карпини, ученик самого Франциска Ассизского, человек разумный и весьма опытный, поднаторевший в спорах с сектантами и еретиками, твёрдый в вере и лично преданный Папе Иннокентию. И в пасхальное воскресенье 16 апреля 1245 года Плано Карпини выехал из Лиона к монгольскому хану, имея на руках личное послание Папы. Направившись через Польшу, посольство в Ма-зовии повстречалось с князем Васильком, братом Даниила Галицкого. Он растолковал Карпини, что без подарков ехать в ханскую ставку неразумно, если не бессмысленно вообще, снабдил их мехами и помог добраться до Киева, откуда и начиналась собственно Монгольская империя, и по пути Карпини с горечью отметил пустынность и разоренность русских княжеств, опустошённых татарским нашествием и беспрестанными набегами литовцев.
— Покарал нас Господь за княжьи усобицы, — вздохнул Василёк. — А коней вам менять надобно. Татары ни сена, ни соломы на зиму не заготавливают, и лошади их обучены снег копытить и кормиться сами.
Карпини приказал сменить изнеженных европейских лошадей на неприхотливых татарских и тут же выехал в Сарай через опустевшую, заснеженную и метельную землю Половецкую, запивая натаянной из снега водою полусырое пшено.
— Папский посол приближается к Сараю, — доложил Чогдар. — Сартак обгоняет его на день пути. Ещё раз прошу, мой хан, встретить их весьма торжественно. Это непременно дойдёт до Гуюка, он вынужден будет поступить также, что очень не понравится православным.
Бату долго размышлял. Навечно обветренное, красноватое лицо его дрогнуло в усмешке.
— Придумай послу личное поручение к князю Ярославу. Такое, чтобы он вынужден был встретиться с ним в Каракоруме. Это не понравится ни православным, ни католикам.
Ранним утром прибыл с Кубани Сартак, а к вечеру и Плано Карпини. Чогдар объяснил царевичу необходимость пышного приёма и его ритуал, и через сутки папскому послу сообщили, что хан Золотой Орды готов его принять.
В среду Страстной недели, ровно через год по выезде из Лиона, Плано Карпини бестрепетно прошёл меж двух очистительных огней и был допущен шаманами во дворец. Францисканец, старательно подобрав полы длинной орденской одежды, ловко перешагнул через протянутую поперёк дверного проёма верёвку, увидел восседавшего на троне хана и преклонил колена.
— Встань и проследуй, — сказал Чогдар.
Карпини поднялся с колен и, как его учили, пошёл прямо к трону, искоса внимательно оглядев тронную залу.
На сей раз народа в ней было много и даже играла музыка, замолкавшая, когда кто-нибудь начинал говорить. На троне восседал Бату-хан вместе с Баракчин, его братья, дети и родственники сидели на скамьях, а остальные вельможи на ковре у их ног — мужчины на правой, а женщины на левой стороне. Рядом с троном стоял Чогдар, свободно переводивший с сарацинского языка на монгольский.
Карпини громко назвал себя, свой сан и цель прибытия и вручил Чогдару письма Папы Иннокентия. Чогдар указал ему место на левой стороне, внимательно просмотрел письма и передал Бату-хану экземпляры на татарском языке. Пока хан неторопливо читал их, Карпини подали вино в золотом кубке, и тотчас же тихо заиграла музыка, варварская для итальянских ушей папского посла.
Закончив чтение, Бату поинтересовался здоровьем Папы Иннокентия и его высокого посла, и аудиенция была закончена. Хан, чингисиды и вельможи покинули тронную залу под пение невидимого хора. Карпини и Чогдар остались одни.
— Тебя уведомят, когда хан примет решение, посол, — сказал Чогдар. — И повелят ехать в Каракорум к хану Гуюку. Дорога туда и длинна, и трудна, но в моей власти сделать её проще и легче.
— Прояви добрую власть, великий вельможа. Пощади старость мою и немощность.
— Я дам тебе ярлык на проезд по государственным постам. Если исполнишь мою личную просьбу.
— Говори, великий вельможа.
— В Каракорум выехал русский князь Ярослав. Ты увидишься с ним в Каракоруме и передашь от меня небольшую посылку.
— Что в посылке, если смею спросить?
— Грибы да огурцы солёные, — усмехнулся Чогдар. — Стосковался князь Ярослав по родимой пище.
— И больше ничего? — недоверчиво спросил Карпини, не сумев скрыть удивления.
— И больше ничего, — успокоил посла Чогдар. — От меня поклон ему и его боярину. И ещё…
Он замолчал.
— Ещё?…— осторожно напомнил посол.
— Боярина зовут Федор Ярунович. У него могут возникнуть просьбы к тебе. Обещай исполнить.
— Но я — посол Папы.
— Боярин знает наши обычаи, и просьбы его не будут выходить за рамки заведённого порядка, не беспокойся. Кроме того, он — человек очень влиятельный и может оказать тебе большую помощь.
— Я все исполню, великий вельможа.
В пятницу Страстной недели Плано Карпини получил повеление срочно отбыть в Каракорум, следуя по государственным поставам.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Сбыслав более не рисковал встречаться с Гражиной, хотя решение это далось ему тяжело и мучительно, тяжелее и мучительнее вынужденного расставания с Марфушей. Шагая по ступенькам крутой служебной лестницы, он взрослел вместе с каждой её ступенью, и если любовь к Марфуше была ослепительным увлечением юного и наивного дружинника, то внезапно настигшая его страсть к Гражине оказалась мужской страстью много испытавшего и многому научившегося воеводы и боярина. Она билась в нем вместе с сердцем, ночами опережая размеренные удары и мешая не только спать, но и думать, пить и есть днём. Он мрачнел и худел, но твёрдо держал себя в руках, отлично понимая, что второй ошибки ему не простит даже добродушный, превыше всего и всех почитающий брата-правителя хан Орду.
Он гнал из души все мечты и воспоминания. Он не в меру перегружал себя работой, став придирчивым, суровым и неразговорчивым. Он твёрдо решил добиваться только благоволения тех, от кого зависела его судьба, и в данный момент — хана Бату. Потом, потом он замолит свой великий грех перед Невским небывалой преданностью и старательной службой и только после этого позволит себе подумать о личной судьбе. Не о любви — хватит горьких опытов! — о выгодной невесте из могущественной семьи. Может быть, даже княжеской. А пока исполнит то, что повелел Бату-хан.
Когда Сбыслав утвердился в этой мысли, когда окончательный выбор был сделан, он успокоился. Успокоился, но уже не стал ни менее придирчивым, ни менее суровым, ни более разговорчивым. Это осталось в нем, в его душе навсегда, точно так же, как на теле воина навсегда остаются шрамы былых сражений.
— Мужаешь, Сбыслав, — с удовлетворением отметил Ярослав. — Ну, и слава Богу, так и должно.
Но Сбыслав не возмужал. Он просто стал другим, хотя сам искренне не замечал этого.
А скрипящий караван их уже миновал злые ветры и снега и тащился сейчас по зеленеющей, усыпанной расцветающими тюльпанами и по-весеннему щедрой монгольской степи. Радостно ржали кони, мычала уцелевшая скотина, и даже рабочие волы шагали бодрее. А Сбыслав с гордостью думал, как же предусмотрительно он поступил, оставив чалого во Владимире на отборном овсе, душистом сене и ключевой воде.
— Обманули мы зиму, — улыбался в густо поседевшую бороду князь Ярослав. — Глядишь, и татар этих обманем. Обманем, Сбыслав, с Божьей помощью…
— С Божьей помощью не обманывают, князь Ярослав.
Молодой боярин говорил эти слова с улыбкой, изо всех сил сдерживая раздражение. В душе по-прежнему занозой сидела Гражина, он запретил себе видеть её хотя бы издали, твёрдо придерживался этого запрета, но легче ему не становилось.
И с Кирдяшом отношения разладились. Внешне они ничем этого не выражали, но внутренне каждый был скован и немногословен, кое-как выдавливал улыбку и старался уйти под любым предлогом. Словом, изменилось все, что должно было измениться, а что не должно, то тоже изменилось, но по какой-то иной, чужой, не своей воле, и Сбыслав впервые в жизни ощутил полное одиночество. Ему бы ужаснуться вовремя, что-то изменить, шагнуть навстречу сердечному теплу, а он съёжился клубком и выбросил во все стороны колючки.
В ежедневных беседах, которые с удовольствием вёл Ярослав со своим боярином, Сбыслав участвовал только своим присутствием. Кратко отвечал, сухо улыбался, скованно кивал, никогда не проявляя ни желания вступать в разговор, ни даже показного интереса. Но великий князь умудрялся ничего не замечать.
Чаще всего Ярослав вспоминал родину, и чем дальше они уходили от неё, тем чаще и теплее вспоминал. Не проявляя особого беспокойства, он предавался добрым воспоминаниям, в которых непременно присутствовали его старшие сыновья Александр и Андрей. Он упивался этими воспоминаниями, детством и отрочеством любимых сыновей, их юной дерзостью и бесшабашностью, мог часами говорить о каких-то пустяках, не замечая, что терпение Сбы-слава уже исчерпано, что держится он одной волей своею, что пора заканчивать нудно затянувшуюся беседу.
— Каждый из братьев — на особинку, и ты, Сбыслав, тоже. Будто от разных отцов…
Даже таких оговорок, вылетавших из таявшей от любви души, не замечал Сбыслав. Впрочем, великий князь их тоже не замечал. То ли потому, что прошло время, то ли оттого, что удалились они от родимой Руси на бессчётные расстояния, то ли просто потому, что одряхлел вдруг от злого бесконечного скрипа тысяч незнакомых с дёгтем колёс, свиста бичей, стона волов и рабов.
Караван двигался теперь заметно быстрее: и солнце вставало пораньше и попозже садилось, и люди стали расторопнее, и скотина шагала веселее. Теперь останавливались ещё засветло, и рабы-погонщики, едва выпустив из ярем волов, чёрным скопом бросались вместе с ними на пастбище. Рвали съедобные травы прямо из-под копыт скотины, выкапывали коренья и, едва отерев их, с жадностью запихивали в рот и жевали, жевали. И никто не препятствовал: стража и сама собирала черемшу.
С каждым переходом приближался Каракорум.
Даже Гражина знала, как быстро он приближается, несмотря на то что судьбой и заботами есаула Кирдя-ша была надёжно изолирована от всех, кто мог что-либо сообщить ей. И в самом деле была одна, даже без привычной и некогда любимой наперсницы Ядвиги, с таким торжеством поднявшей когда-то мило предложенный хозяйкой малый серебряный кубок с венгерским вином. Но не бесилась, не сходила с ума от тоски и ровно ничего не обещающего одиночества. Она думала, холодно и спокойно раскладывая карты собственной судьбы.
Опасно оставлять тигрицу без внимания. Но об этом вспомнили потом, когда вспоминать было поздно. Да и вспомнил-то, собственно, один Кирдяш, так и умерший наедине с этими воспоминаниями.
Все мы умираем наедине с собственными воспоминаниями. В каком бы веке мы ни жили.
С каждым днём приближался Каракорум. Однако увидеть столицу огромной Монгольской империи было суждено далеко не всем спутникам скрипучего каравана. В неё были допущены только вольные и невольные русские мастеровые-переселенцы, чиновники, сопровождающие дары Бату, Гражина со своими служанками да рабы-погонщики. И хан Орду, который сам этого пожелал.
Гигантский обоз, доставлявший к хану Гуюку великого князя Ярослава, личного представителя Бату и драгоценные дары, был остановлен в трех поприщах от Каракорума. Отряд ханских гвардейцев, заведомо превышавший стражников Кирдяша, перекрыл все пути, и впервые за все время путешествия скрип несмазанных осей прекратился при ослепительном свете весеннего солнца.
— Мне хана Орду, — резко сказал выехавшему навстречу Кирдяшу Бури: он командовал этим отрядом. — Отправляйся за ним, есаул. Остальным не трогаться с места.
И наступило молчание, прерываемое лишь вздохами усталых волов. Молчала охрана, молчали переселенцы и рабы, слуги и погонщики, татары и русские. А Сбыслав на всякий случай укрыл Ярослава в его юрте, попросив не высовываться, пока обстановка не прояснится.
Кое— что все же сообразив, Орду надевал парадный халат, когда Кирдяш сообщил ехму о требовании командира монгольских гвардейцев. Требование не произвело на Орду никакого впечатления, если не считать, что он весьма недовольно засопел при этом. Он по-прежнему неторопливо подбирал оружие, соответствующее личному представителю Бату и -халату.
— Кто осмелился позвать меня?
— Не знаю, — пожал плечами Кирдяш. — Халат на нем дорогой.
— Я огрею его камчой за грубость, — проворчал Орду, садясь в седло.
Однако угроза так и осталась угрозой. Как только Орду и Кирдяш приблизились к монгольским гвардейцам, их командир спешился и направился к ним. Хан придержал коня, а Бури, подойдя, вдруг припал к его ноге:
— Великий хан Гуюк и весь Каракорум приветствуют тебя, мудрый и великодушный хан Орду!
Гуюк ещё не был избран великим ханом, но приветствие настолько оказалось лестным, что Орду не обратил внимания на весьма многозначительную оговорку.
— Здравствуй и ты, Бури, — суровое лицо хана расплылось в улыбке. — Хорошо ли перезимовали ваши стада и ладно ли чувствует себя хан Гуюк?
— Зима была суровой, хан Орду. Но весна пришла пораньше, и Гуюк решил отъехать на юг, к стадам. Русских мастеров, все дары и рабов решено оставить в Каракоруме.
— Со мною следует русский князь Ярослав, — важно сказал Орду. — Ему тоже ждать в Каракоруме, пока не иссохнет степь?
— Курултай состоится в летнем стане ханши Тура-кины Сыр-Орде. Там собирают всех гостей и послов, и для князя Ярослава поставлен достойный шатёр.
— А где должен быть я?
— Ты волен выбирать своё место сам, великодушный Орду, — Бури вежливо поклонился. — Ты — гость особого почёта.
Орду не смог сдержать самодовольной улыбки. Но, поулыбавшись, вдруг спохватился:
— С князем Ярославом едет боярин Федор, его толмач и советник. У него должна быть отдельная юрта.
— Ему поставят юрту, хан Орду.
— Да, мой брат в знак примирения прислал Гуюку рабыню, достойную его внимания.
— Гуюк примет этот дар от тебя в Каракоруме, как только русский князь будет размещён со всеми удобствами в Сыр-Орде.
— А где мой брат Бёрке, который сопровождал печальный караван Субедей-багатура?
— Гуюк отпустил его после похоронного обряда. Бёрке спешил на Кавказ.
Это известие Орду весьма обрадовало: рабски подчиняясь Бату, он вовсе не желал подпасть под влияние хана Бёрке, но чувствовал, что попадёт непременно. Бёрке был умен, расчётлив, умел выжидать и старался действовать неожиданно. Орду хорошо помнил общие детские игры, в которых он всегда проигрывал именно Бёрке: Бату иногда позволял себе великодушие, добровольно уступая старшему брату, но Бёрке не сделал этого ни разу.
— Я хочу как можно скорее увидеть Гуюка, чтобы лично вручить ему бесценный дар моего брата Бату.
Орду выехал в Каракорум вместе с бесценным даром, почётной стражей и Бури. Кирдяшу было приказано сопровождать русских мастеровых и остальные дары в столицу, а гвардейцы хана Гуюка препроводили князя Ярослава, Сбыслава и челядь в отведённое им место в летней ставке ханши Туракины. Впрочем, по повелению Гуюка гвардейцев вскоре сменил Кирдяш со своими стражниками. Так закончился суровый переход через Великую Степь, и все были довольны. Кроме боярина Сбыслава.
Ни Бури, ни тем более Гуюк не обратили на русского боярина никакого внимания. С чисто монгольским высокомерием они его просто не замечали, а если их взгляды когда-либо случайно останавливались на нем, то холодно и отрешённо смотрели сквозь, будто молодого советника и толмача князя Ярослава вообще не существовало на свете. Для тайного повеления Бату в этом заключалось огромное преимущество, но Сбыслав был ещё очень неопытен, по-юношески обидчив и безмерно раздут собственными представлениями о себе самом. О своих достоинствах, своей прозорливости и своём особом месте в большой ханской игре. Бесспорно, искорки всего этого были в действительности, но он самолюбиво раздувал их, стремясь к огню, способному ярко высветить лично его в будничных сумерках, в которых замечали только облечённых почти божественной властью, не задумываясь над тем, что если это ему и удастся, то он и окажется первым, кто сгорит в его пламени.
Но пока он был отрезан от высшей власти и понятия не имел о том, что там происходило.
Орду представил Гражину Гуюку столь же эффектно, как когда-то представил её хану Бату: дар внесли в ковре и выкатили из него к ногам Гуюка.
— Эта кобылка ещё необъезжена, — с удовольствием отметил Орду. — Но строптива.
— Я сделаю её покорной после курултая, — самодовольно улыбнулся Гуюк. — Добрая камча любит нежную кожу.
Он сказал эти слова, не зная, что Гражина уже достаточно понимает монгольский язык. Впрочем, если бы и знал, то сказал бы то же самое, потому что никогда не утруждал себя подбором слов в разговорах с рабынями. Но беда, как выяснилось, заключалась в том, что гордая полячка, с детских лет считавшая себя дорогим подарком, никогда не ощущала при этом рабской сущности подобного положения. Жёлтый ад Азии отличался от разноцветного ада Европы прежде всего тем, что называл вещи своими именами.
Летняя резиденция ханши Туракины Сыр-Орда ещё только строилась, а точнее — росла вширь, поскольку приглашённые как на грядущий курултай, так и на жительство просто ставили юрты на свободном месте или разбивали шатры. Прибывавшие военачальники жили в отдельных поселениях вместе с охраной, для иностранных гостей и послов выделили особую часть степного города, и только князь Ярослав пользовался особой привилегией. Во-первых, он имел право на личную охрану, которой командовал Кирдяш, а во-вторых, его просторный шатёр стоял в непосредственной близости от ставки хана Гуюка.
Это обстоятельство переполнило его гордостью. Поделиться было не с кем, и он едва ли не ежедневно напоминал об этом особом почёте Сбыславу.
— Рядом поселили. Плетень к плетню. Стало быть, ценят меня тут
Сбыслав прекрасно понимал причину особого внимания Гуюка к старому князю, с трудом терпел самодовольные признания, но в конце концов не выдержал и стал сбегать под любыми предлогами. Бродил с Кирдяшом по Сыр-Орде, которая росла на глазах, бессистемно застраиваясь юртами и шатрами. Кирдяш подмечал все новое, необычное, удивлялся, много говорил, но Сбыслав отвечал коротко, зачастую невпопад. Он думал, что ему, пожалуй, так и не удастся выполнить возложенную на него судьбой тайную задачу, потому что Орду все ещё оставался в Каракоруме вместе с Гуюком.
— Гляди, боярин, торговлишка зашевелилась!
Летнее стойбище росло неудержимо, что вполне естественно привело к возникновению торговых рядов. Сбыслав на это почти не обратил внимания, но Кирдяш очень оживился:
— Пойдём по рядам потолкаемся, а? Говорили мне, шелка тут дешёвые. И вообще любопытно.
Сбыслав отказался, вернулся к себе, а вскоре явился Кирдяш с новостями:
— Среди торговых людей и наши оказались. Русские. Торгуют тут помаленьку, говорят, выгодно. Один из них сказал, что с князем Ярославом давно знаком. Негоем его зовут. Из Смоленска, что ли.
— Знаю Негоя, знаю, — обрадовался Ярослав, услышав об этом. — Надо бы повидаться. Скажи, чтоб пришёл.
Негой явился сразу же, как только передали ему княжеское приглашение. Степенно вошёл, степенно поклонился, не отказался от угощения. Чувствовалась в нем уверенность и довольство собой, собственной решимостью и оборотистостью, почему он говорил непривычно много и непривычно покровительственно.
— Зря мы пугаемся их, великий князь, пра-слово, зря. Торговля здесь и выгоднее, и безопаснее, потому как торговых людей они не обижают и поборы у них твёрдые. Путь, правда, неблизок, зато товары тут особые. Китайские да индийские. Товары редкие.
— То-то я их на Руси не видел, — угрюмо заметил Сбыслав.
— Обнищал на Руси покупатель, — вздохнул Негой. — То набег, то война, то дружка с дружкой. Какая ж торговля, когда народ размахался? А торговым людям порядок нужен. Спокой и порядок, почему мы товары свои на Русь и не возим.
— А с кем же тогда торгуете? — спросил Ярослав.
— С купцами ордынскими. Они — люди надёжные.
— С Ордой торгуете, а Русь без торговли хиреет, — вздохнул Ярослав — Все о своей выгоде печётесь.
— Торговли без выгоды не бывает, великий князь. Вот ужо наведёте порядок, мы и вернёмся. И дом там, и семейство там.
— А вера Христова?
— С верой тут не притесняют, любому Богу молись, когда хочешь. Даже больше скажу, великий князь. К православным они сейчас очень привержены, даже поборы нашему брату снизили. Все вроде бы ладно, да тоска гложет. — Негой тяжело вздохнул, сокрушённо покачав головой. — И народ чужой, и земля чужая, и даже ветер наш сюда не долетает…
Собеседники никак не разделили его тоски. Это может показаться странным, но Сбыслав был озабочен тайными поручениями Бату-хана, Кирдяш исполнял те же обязанности, что и в Золотой Орде (только здесь было вольготнее), а князь Ярослав пребывал в сладком томительном ожидании небывалого почёта и ошвы. И ещё его наполняло чувство личной самоценности, которое на родине не ощущалось с такой силой не только потому, что имя старшего сына сияло куда ярче, но и потому, что каждодневные дела отбирали все силы, не давая ни славы, ни удовлетворения. А здесь… здесь можно было тешить своё самолюбие и чувствовать свою значимость, не испытывая при этом ни забот, ни хлопот. То есть всего того, что действует на дряхлеющие натуры с особой неумолимостью, болезненно терзая лохмотья изношенной воли.
За все теперь отвечал любимый старший сын Александр. За безопасность границ и торговлю. За отношения с Западом и Золотой Ордой. За разорённый Псков и грозящий Новгороду очередной голод. За вдов и сирот. За раненых и искалеченных боевых товарищей. За достойное содержание всех дружин. И за все великое княжество, ещё не залечившее ран после кровавого нашествия Батыя.
И почти все эти обязанности оказались для Невского внове. С юных лет став приглашённым князем Новгородской боярской республики, Александр всегда оставался предводителем её вооружённых сил, отвечающим только за внешнюю безопасность и спокойствие на границах новгородских земель. Хозяйственными делами занимался посадник, внешней и внутренней политикой — Совет господ, торговые связи были отлично отлажены, и даже уровень семейных и бытовых ссор строго контролировался как обычным правом, так и решающим словом новгородского владыки. А на долю князя оставалась боевая готовность дружин, состояние их коней и вооружения, сторожевая пограничная служба да поддержание княжеского авторитета как последней инстанции в случае нарушения согласия между исполнительной и законодательной властью в лице посадника и Совета господ. При отсутствии внешней угрозы Новгород весьма часто приглашал на княжение даже детей, учитывая авторитет и реальную силу отцов, всегда готовых помочь сыновьям при малейшем осложнении обстановки. В этих случаях мальчик оказывался просто-напросто заложником Господина Великого Новгорода, что вполне устраивало обе стороны.
— Господин Великий Новгород отпускает тебя, Александр Ярославич Невский, с условием, что отдашь ты сына своего Василия на княжение, — торжественно возвестил посадник в ответ на просьбу Невского отпустить его во Владимир на время отсутствия уехавшего в Орду отца.
На этом и расстались. Князь Александр полагал, что ненадолго, что и отец его вскоре вернётся, и он сам в случае нужды будет наезжать в Новгород, но и отца отправили в Каракорум, и дел оказалось столько, что ни о каких отлучках из Владимира уже не могло быть и речи.
Втайне Невский предполагал, что пестуном его малолетнего сына княжича Василия останется Гаврила Олексич, но при решающем разговоре старый друг лишь вздохнул и горестно покачал головой:
— Прости, Ярославич, запалённый конь долго не служит. Поручи это Якову, так оно надёжнее будет.
— Яков мне во Владимире нужен.
— Кашель меня бьёт, князь Александр, дурной кашель. Видать, все здоровье моё на Чудском льду осталось. Подсоблю, сколь могу, но ты Якова все же оставь при княжиче. Я тебе всегда правду говорил и сейчас говорю. Слишком уж много сил та Ледовая битва у нас забрала.
Ледовое побоище и впрямь унесло столько жизней, сил и средств, что Невский, узнав даже приблизительное число, ужаснулся. Все вместе взятые потери всех предыдущих войн, сражений и боевых стычек не шли ни в какое сравнение с потерями на льду Чудского озера. Новгород и Псков оказались обескровленными, да и огромное Владимирское княжество ещё не могло похвастаться приростом мужей, способных уверенно взяться за оружие. Затяжные -л как бы перетекающие одна в другую войны последнего десятилетия истощили людские запасы всех земель Северо-Восточной Руси, отток язычников-добровольцев в войска Золотой Орды добавил свою лепту в потери, и Невский отчётливо понимал, что в создавшемся положении необходимо всеми путями и средствами избегать военных осложнений по крайней мере к течение добрых двадцати лет. Вопрос касался уже не национальной гордости и уж тем паче не княжеских амбиций: вопрос встал о самой судьбе народа русского. Быть ему или не быть.
Жестокая борьба с жадной до чужих земель Европой, постоянная угроза с Запада и столь же постоянный экономический и моральный нажим с Востока определили внешнюю политику Северо-Восточной Руси на весь остаток тринадцатого столетия. От её правителей обстоятельства потребовали, выражаясь современным языком, уменья пройти по качающейся проволоке над бездонной пропастью. И первым на эту наткую опору ступил князь Александр Ярославич Невский.
Неожиданно из Орды приехал чербий — младший офицер татарских войск из добровольцев-русичей. Привёз поклон от Чогдара и просьбу собрать малую посылочку с любимыми яствами князя Ярослава.
— В Каракорум римский посол едет, — пояснил чербий.
Близкие слуги советовали послать малосольных огурчиков в меду да солёных груздей, до которых великий князь был большим охотником. Александр добавил сушёной рыбки (тогда она называлась «ветряной», передал чербию:
— Ты в Каракорум поедешь?
— Пока мне неведомо.
— Ну, ступай. Чогдару поклон. Грустно ему было разговаривать с молодым — пушок на щеках — чербием: почти все старые, прове-рерные боями друзья и советники либо пали в битвах, либо были покалечены настолько, что уже не мот ли исполнять прежних обязанностей. Но не только пустоты в личном окружении заставляли Невского днями и ночами ломать голову над тем, как облегчить жизнь потерявшим работоспособность боевым товарищам, как обеспечить прожиток тысячам вдов и сирот. Отцовской казне он сам нанёс тяжёлый удар, сгоряча, не зная всех обстоятельств, выпросив у него денег на восстановление, а заодно и перевооружение собственной, крепко потрёпанной в последней битве дружины. Теперь-то он знал все: отец еле сводил концы с концами, раздавая пособия вольным землепашцам, чтобы народ не помер с голоду. Знать-то знал, но калеки оставались калеками, вдовы — вдовами, а сироты — сиротами, и надо было, необходимо было где-то раздобыть средства для того, чтобы им помочь. С этой мыслью он ложился спать и вставал с нею же.
И вдруг из Новгорода приехали старые друзья.
— Что с Василием?
— Княжить учится, — усмехнулся Яков Полоча-нин. — Соратников ему мы подобрали добрых и знающих, а Буслай помощь обещал. Он сейчас — в чести. В посадники нацелился.
— А я попрощаться с тобой, Ярославич, заехал, — сказал, вздохнув, Гаврила Олексич. — Псков моей тёще земли вернул, да усадьба сожжена дотла, восстанавливать хозяйство надо, а то детей не прокормлю. Отпустишь, Ярославич?
Боевой друг мучительно кашлял, застенчиво сплёвывая кровь в тряпицу. Он осунулся, постарел и похудел, и Невский с болью понял, что дни его сочтены. Переглянулся с Яковом.
— Тяжки тевтонские мечи, Ярославич, — невесело усмехнулся Полочанин. — А у Гаврилы и казны нет, и усадьба сожжена, и жена — в тягостях.
— Второго сына ждёшь? — улыбнулся Невский.
— Это — как Бог даст, — откашлявшись, серьёзно сказал Олексич. — Но прожиток семье я дать должен. Успеть, пока на ногах стою.
— Не смогу я отблагодарить тебя как должно за труды твои ратные, — сокрушённо вздохнул Александр. — Ты уж прости князя своего, Гаврила Олексич.
— Ты меня великой честью жаловал, князь Александр Ярославич. А честь для воина дороже золота. Куда как дороже.
За вечерней дружеской пирушкой сам собою зашёл разговор о делах, о трудностях, с которыми нежданно-негаданно пришлось столкнуться Невскому.
— Баловал меня Господь до Ледовой битвы, — вздыхал Александр. — Помалу жертв требовал за победы наши, и, видно, возгордился я. А на льду столько потерял да стольких искалечил…
— Не ты терял, не ты калечил, — строго сказал Гаврила. — Враг достался нам в силе великой, конный и оружный, а ты его разгромил наголову и тем Русь спас. Вот о чем потомки наши думать будут, вот за что вечно пред тобою склоняться.
— Так-то оно так, Олексич, да не о том тужит князь, — сказал Яков. — О том он тужит, что не каждому достойному на боярышне жениться довелось.
— Этой кручиной и я маялся, когда пластом после битвы лежал. Прикидывал, сколько искалеченных, сколько вдов да сирот на Руси окажется. И о том, как бы получше устроить их, тоже думал… — Гаврила Олексич вдруг оживился. — Помнишь, Ярославич, как пред Невской битвой ты меня к Пелгусию посылал? Ижорцы — рыбаки отменные, чем и кормятся, а рек да земель свободных у них на всех достанет. Так, может, тебе с Пелгусием поговорить? Невода чинить и безногий может.
— А безрукий? — усмехнулся Яков.
— А безрукий за кусок хлеба лямку от невода по берегу потащит! — неожиданно резко ответил всегда спокойный и очень сдержанный Гаврила Олексич.
За столом наступило неуютное молчание.
— Не так важно, как кто к труду своему примерится, как то, что люди при общем деле будут, — сказал Александр. — Олексич прав насчёт Пелгусия. Человек он добрый, мудрый, отцов крестник к тому же. Если бы ещё согласился рыбу нам напрямую поставлять, без новгородских налогов. Разорительны они для меня.
— Псковичей да новгородцев ижорцы бы приютили, и то было бы славно, — вздохнул Гаврила. — Доверь мне, Ярославич, самому с Пелгусием поговорить.
— Ты же вроде на Псковщину уезжать собрался?
— С этим погодить придётся. От усадьбы — одни головешки, отстроиться сперва надо.
Князь вдруг встал и молча вышел. А Полочанин сказал виновато:
— Ты уж прости меня, Гаврила Олексич. С языка сорвалось.
— Я так и понял.
И оба улыбнулись друг другу, как в былые времена. Вошёл Александр. Протянул Олексичу кожаный мешочек:
— На усадьбу тебе. Прости, что больше не могу.
— Что ты, Ярославич…
— Бери, бери, пока не передумал. Мы с тобой не один кусок хлеба пополам ломали, чего уж там…
Измотанный кашлем и болями Гаврила вскоре ушёл спать, а князь и Яков продолжали неторопливо беседовать, прихлёбывая медовый перевар. А потом Полочанин спросил неожиданно и без всякого повода:
— На Запад совсем не оглядываешься, князь Александр?
— Под ноги смотрю, как бы на ровном месте не споткнуться, — хмуро сказал Невский. — А что там нового?
— Зашевелились ливонцы. Из Европы подкрепления чуть ли не ежедневно идут, лагерь в Куршской земле организовали. И всех новых там битые тобою на льду рыцари нашему способу боя обучают. Кольчуги наши рубить учат, мечи переламывать, от мужицких багров спасаться. Так что лет через пять готовься к новому свиданию.
— Большой лагерь?
— Большой. А будет ещё больше: рыцари-то со всей Европы идут.
Невский вскочил, заметался по малой трапезной, печатая кованые шаги. Остановился перед Яковом столь внезапно, что Полочанин невольно встал.
— Поедешь к Миндовгу и скажешь… Нет, спросишь, с кем он намеревается пить литовское пиво. Если ответит сразу, отдашь ему моё послание. Я утром напишу. И быстро поедешь, Яков, быстро!… Чем быстрее, тем скорее беду предотвратим. Или горько о той встрече пожалеем, которую ты мне когда-то устроил…
Прежде чем разбираться в целях, стремлениях и действиях великого литовского князя Миндовга, надо понять условия, в которых он вынужден был осуществлять свои намерения. Точнее, свои мечты о свободном, едином и сильном княжестве Литовском, над которым висели не только тевтонские, но и русские мечи.
Литву населяли два родственных литовских племени: аукштайты на востоке и жемайты («жмудь» древнерусских летописей) на западе. Именно им, же-майтам, выпало на долю отражать первые попытки тевтонской агрессии, что во многом и определило их суровый и недоверчивый характер. Отступив в непроходимые болота и труднодоступные для рыцарей дремучие леса, они не только сохранили независимость, но и весьма успешно отражали немецкое нашествие. Князю аукштайтов Миндовгу удалось объединить два родственных народа, что и сделало его великим князем. Однако за согласие надо было платить, и Миндовг не предпринимал никаких серьёзных шагов, не заручившись поддержкой жемайтов.
— Привет тебе, посол князя Александра Невского.
— Поклон тебе, великий князь Литовский. Миндовг встретил Якова Полочанина у входа, проводил к резному столу, усадил на резную скамью.
— Как чувствует себя князь Александр?
— Здоров. Велел спросить тебя, когда же ты угостишь его кружкой доброго литовского пива?
Миндовг улыбнулся:
— Тевтоны Клайпеду заняли, последний замок жемайтов на побережье. Злы мои родственники, аж зубами скрежещут.
— Не понял, великий князь. Ты уж прости.
— Я в пятнадцать лет без отца остался, и добрый наставник мой совет дал поискать жену в землях же-майтов: их князь в битве пал, оставив малолетнюю дочь. Я поехал к ним с дружбой, строго исполнил все обычаи, заколол чёрного козла на святой горе Рамби-нас во славу бога Перкунаса и его жены Лаймы и попросил у старейшин руку княжеской дочери. И получил не только красавицу, жену, но и великое литовское княжение. А ровно через год мои объединённые силы наголову разгромили тевтонов у Шяуляя, после чего остаткам Тевтонского ордена ничего не оставалось делать, как объединиться с орденом ливонцев.
— Ты в шестнадцать лет разгромил рыцарей? — удивлённо спросил Яков.
— Повезло, — усмехнулся Миндовг. — С той битвы жемайты окончательно уверовали в меня, но я ждал повода, чтобы в битву их вела ярость, а не только моё повеление. Жемайты сдержанны и медлительны, но в ярости своей идут до конца.
— Рыцари создали учебный лагерь…
— …у озера Дурбе, — подхватил Миндовг. — Лагерь обнесён крепким тыном, имеет трое ворот: на запад, север и восток. У каждых ворот — ночная стража из четырех кнехтов. Мои разведчики давно следят за этим рыцарским гнездом.
— К лагерю есть скрытые подходы?
— Нет, тевтоны умеют выбирать места для своих лагерей. Но нет и южных ворот, потому что с юга лагерь прикрывает непроходимое болото.
— Понимаю, ты хочешь ударить с юга, — сказал, помолчав, Полочанин. — Но как ты сам перейдёшь это болото?
— По мосту, — улыбнулся Миндовг: у него было сегодня хорошее настроение. — Я не терял времени даром и приказал построить кулгринду.
— Что построить?
— Подводную дорогу в болоте, меня научили этому жемайты. Строится дубовый мост двенадцать шагов в ширину, грузится камнями, уходит в воду, но в трясину ты не провалишься. Я переправлюсь с юга, без шума сниму стражу, разобью таранами все ворота одновременно и ворвусь в сонный лагерь. Рыцарям некогда будет надевать панцири, а без брони они такие же воины, как и литовцы. Нет, хуже: литовцам есть за что умирать. Что скажешь, боярин?
Яков основательно прикинул весь военный план литовского полководца. Сказал с осторожностью:
— Твой план всем хорош, великий князь, только…
— Договаривай.
— Ты не очень представляешь, что надо делать, ворвавшись внутрь. Где спит командир, где стоят рыцарские кони, где хранится оружие и брони? Твои разведчики не были в самом лагере. Не гневайся, великий князь.
— Не были, — нахмурившись, сказал Миндовг. — Тевтоны не подпускают литовцев даже к воротам… — Он неожиданно вскинул голову, спросил в упор: — Ты говоришь по-немецки?
— Говорю, — растерянно подтвердил Яков.
— Латынь знаешь?
— Немного…
— Вот мы с тобой и пойдём в лагерь. Мы с тобой — странствующие монахи-францисканцы.
— Творить честной крест по-католически? — нахмурился Полочанин.
— Ты — воин или поп? — рявкнул Миндовг. — Готовься, учи их молитвы и тренируй руку для католического перекрестья. Сейчас будем обедать, а пока дай мне послание Невского.
Может быть, потому, что Миндовг рано лишился отца и матери, в его характере сохранилась достаточная доля юношеского азарта. Он не просто был смелым — литовцы вообще не из трусливой породы, — он был смел авантюрно, любил риск и понимал в нем толк, чего, к примеру, был начисто лишён его ровесник Александр Невский, не избегавший риска только в том случае, если цель этот риск оправдывала. Он уже загорелся, рьяно готовился к предстоящей разведке и лично подвергал испытаниям Якова Полочанина, проверяя знания католических обрядов, которые знал в совершенстве. Поступал он так, конечно же, не ради собственного авантюрного решения, а потому, что понял, насколько прав был Полочанин.
Через сутки им доставили грубошёрстные францисканские плащи с капюшонами, и Миндовг заставил Якова тут же надеть эту одежду и надел её сам, чтобы привыкнуть к ней и достаточно её обмять.
— Говорить буду я, — наставлял он. — У тебя — обет молчания. Грешник ты, боярин.
Через три дня их тайными тропами перебросили в окрестности озера Дурбе. День они понаблюдали за рыцарями, а на рассвете их, уже наряжённых францисканцами, провели к западной дороге. Великий князь Литовский и боярин князя Невского вышли на неё и побрели к лагерю, бормоча по-латыни католические молитвы
В лагерь их пропустили беспрепятственно. Рыцари просили благословения, преклоняя колено и снимая шлемы, но благословлял только Миндовг, а Яков, пряча лицо, без устали бормотал католические молитвы. К счастью, рыцари латынь не понимали, и все сходило с рук.
Желающих получить отпущение грехов было достаточно, тем более что среди них оказались и боль-' ные, которых пришлось навещать, и монахи бродили по всему лагерю, где хотели. Трудности возникли тогда, когда рыцари вознамерились задержать их до приезда епископа, но Миндовгу удалось убедить хозяев, что негоже задерживать Божиих людей, давших обет отслужить заупокойную мессу над водами Чудского озера.
Через сутки их отпустили, дав на дорогу хлеба, соли да луку Когда лагерь скрылся из глаз, они юркнули в лес и вскоре были среди своих.
— Ты отважный воин, боярин, прими мою благодарность, — сказал Миндовг. — На тебе — склад с броней и тяжёлым вооружением, веди своих людей прямо к нему. Что не удастся увезти с собой, изломать и сжечь. А сейчас спи весь день. В полночь выступаем.
Весь день Миндовг уточнял с командирами отрядов порядок их действий внутри рыцарского лагеря. Кому и как разбираться с противником, с продовольственными складами, с лошадьми и — особо — со старыми воинами. С теми, которые уцелели в Ледовом побоище и сейчас стремились передать свой тяжкий опыт прибывшему из Европы пополнению.
— В плен не брать, — сурово наказывал Миндовг. — Каждый мёртвый рыцарь — кружка литовского пива князю Александру Невскому
Якова Полочанина разбудили за час до выступления, но есть он не стал, помня слова Чогдара, что самый сладкий пир — пир после победы Выступили в полной темноте, и Яков подивился бесшумности передвижения довольно большого и хорошо вооружённого войска. Жемайтийская пехота была в лаптях, а княжеская дружина старательно обвязала лыком все оружие и железные сочленения броней, чтобы ненароком не звякнуть металлом. Вскоре началось болото, но войско не сбавило шага, продолжая идти в воду. Яков с некоторой опаской тронул следом своего коня — ему дали кряжистую и сильную лошадь местной породы жемайтукай, привыкшую к болотам, бродам и переправам, — и конь послушно зашагал в чёрную воду, то ли зная, что там есть прочная опора, то ли чувствуя её. «Кулгринда, — вспомнил Полочанин. — Подводный мост…»
Выйдя из болот, войско разбилось на три отряда и разъехалось, чтобы сосредоточиться против каждых лагерных ворот. Разведчики бесшумно подобрались к часовым и сняли их, и тотчас же все три отряда пошли в атаку. И опять Полочанин очень удивился: литовцы атаковали не только без труб и бубнов, что обычно делали русские для поддержания духа своих воинов, но даже без крика, столь обычного при любом штурме. Нет, Миндовг воевал исходя не из обычаев, а из реальных условий, и Якову это понравилось. «Надо будет Невскому рассказать…» — подумал он, и в этот момент одновременно раздались тяжёлые глухие удары. Литовцы проламывали таранами лагерные ворота, и опять — без труб и воплей атакующих. Только тяжкие удары дубовых брёвен по дубовым воротам…
Прикрытые этими ритмичными ударами, конные дружинники Миндовга приблизились к воротам. Воины сбросили лыко с оружия, обнажили мечи и, как только рухнули первые ворота, столь же молчаливо ворвались в лагерь.
Штурм занял совсем немного времени, и немногим рыцарям удалось спастись бегством, потому что возле ворот и шли основные стычки. Лишённые коней и практически безоружные, рыцари метались по всему лагерю, но литовские конные дружинники не преследовали их. Их добивала жемайтийская пехота, которая метала топоры с тридцати шагов, всегда безошибочно попадая в цель.
— Поклон Невскому передашь, боярин, — сказал Миндовг после боя. — И скажешь ему, что я всегда готов к новому союзу.
На память о битве Яков увозил личный подарок великого Литовского князя — кинжал в дорогих ножнах и литовский пояс, связанный и изукрашенный женой Миндовга Лаймой.
Яростная степная весна была в самом разгаре. Буйно цвели тюльпаны, неумолчно орали птицы, ожило все зверьё, и звон комаров не затихал ни ночью, ни днём.
Вместе со степью бурно расцветала и летняя ставка ханши Туракины Сыр-Орда. Юрт, кибиток и шатров стало столько, что даже любознательный Кирдяш опасался заходить далеко в их бессистемное нагромождение, чтобы не заблудиться, и стал придерживаться центральной торговой площади, где завёл много знакомцев среди монгольских и иностранных купцов.
Начали прибывать и посольства покорённых стран, спешащих засвидетельствовать свою покорность завтрашнему великому хану монголов. Приехали два грузинских царевича, представитель армянского царя, посол багдадского калифа со своими слугами и свитами, но без личной охраны, что сразу же отметил князь Ярослав. Все посольства размещали на особо отведённой территории недалеко от Золотого шатра Гуюк
— Все вместе, а меня — отдельно, — с торжеством сказал Сбыславу Ярослав. — Хоть и плетень к плетню, а мы и тут — на особинку!
Сбыславу казалось, что князь глупеет на глазах, что прежнее величественное достоинство все заметнее заменяется в нем самодовольной спесью. Он понимал, что виной тому немыслимо тяжкий путь через Великую Степь, ловил себя на вдруг возникающей острой жалости к старику и тут же пугался этой жалости, поспешно вытесняя её раздражением Но он ошибался. Князь Ярослав не впал в старческое слабоумие, был ещё достаточно бодр для своих лет, отдавал себе отчёт в происходящем, но испытывал при этом огромную неуверенность. Оторванный от сыновей, от привычной, устоявшейся жизни и привычных забот, он боялся внезапного ханского гнева, раздражения, каприза, которые могли привести к роковому — не столько для него, сколько для его княжества — решению не давать ему, лично ему, Ярославу, ярлык на великое княжение. Это привело бы к непредсказуемым последствиям, нарушило бы устоявшийся порядок, вызвало бы цепь интриг в среде удельных князей и могло бы если не навсегда, то на весьма длительное время лишить его сыновей, внуков и правнуков великокняжеского достоинства и власти. Ярослав был младше Константина и младше Юрия, он лишь случайно, стечением обстоятельств, занял великокняжеский стол, ясно понимал и эту случайность, и то, что удержать этот стол в своём роду может только с помощью монгольских ханов. Если бы это зависело от Бату, Ярослав бы особенно не беспокоился: за его спиной стоял Александр, к которому явно благоволила Золотая Орда. Но здесь, в сердце Монгольской империи, властвовал враг Бату, о чем Ярослав прекрасно был осведомлён. Здесь имя его сына могло послужить толчком для совершенно обратных действий: стремясь насолить Бату, Гуюк вполне мог бы нанести удар по зарождавшемуся союзу Золотой Орды с Владимирским княжеством, лишив его, князя Ярослава, ярлыка на великое княжение. Вот что беспрестанно мучило Ярослава, вот почему он с такой детской непосредственностью подмечал особые знаки внимания со стороны завтрашнего великого хана Гуюка.
Ничего этого Сбыслав не был в состоянии понять. Он твёрдо знал одно: Гуюк будет всячески льстить князю Ярославу, чтобы заручиться его поддержкой как в своей борьбе с Золотой Ордой, так и в грядущем походе на Западную Европу. Это ему объяснили доходчиво и ясно, на этом основывалось его особое задание, и только его, Сбыслава, личное вмешательство могло в конечном итоге спасти как Русь, так и Александра Невского. И, искренне жалея Ярослава, он невероятно раздражался признаками растущего в нем слабоумия. Разумеется, со своей точки зрения, потому что иначе не в состоянии был объяснить мелочные, по сути детские, восторги старика.
А вскоре любопытный, общительный, неутомимый, а потому и много чего знающий есаул Кирдяш огорошил новостью:
— Попы твои приехали, князь!
— Какие мои попы? — оторопел Ярослав.
— Ну, не твои, не твои. Православные. Я на торгу со служкой их познакомился.
— Не шутишь?
— Был бы крещёным, перекрестился бы.
— Ко мне позови их, — разволновался князь. — Непременно пусть придут. И поскорее! Я ведь почти год как не говел, а в стране этой басурманской…
Ярослав примолк, опасливо поглядывая на есаула.
— Верное слово, великий князь, басурманская страна, — вздохнул Кирдяш. — Я хоть и не крещёный, а все же свой, владимирский. И так мне все тут… не наше все. Ладно, приведу я к тебе попов, ежели служка не соврал.
Служка не соврал, и через день к Ярославу пожаловали трое: священник средних лет, невысокий дьякон с могучей грудью и молоденький, навечно, казалось, перепуганный чем-то пономарь. Все трое сразу же повалились в ноги, возопив:
— Здрав буди, великий князь! Оборони и защити нас от злобы и неистовства агарян нечестивых!…
Ярослав лично поднял их с колен, обласкал, успокоил, и они поведали ему о своих горестях, внезапно, молнии подобно, на них свалившихся.
— Из Рязанской земли мы, великий князь, — рассказал священник отец Евген. — Мирно жили, богобоязненно, нашествие претерпели, пожары и смертоубийства, думали, что прошли уж испытание Господне. Да вдруг налетели нечестивые, схватили нас троих и, с родными попрощаться не дозволив, погнали через степи сюда. В сёдлах спали, в сёдлах ели, в сёдлах нужду малую справляли, поверишь ли, великий князь! Все скорее, все — бегом, бегом, в жажде великой и в сухоядении плетью нас сюда гнали. За что, зачем, почему — никто ничего не говорил…
— Знать, Господь Всемилостивый ко мне вас прислал, — с чувством сказал Ярослав. — Мне в подмогу пред испытанием великим. Говеть желаю, святой отец. Назначь мне пост, испытание да молитвы укажи, которые читать мне надобно, к исповеди и очищению духовному готовясь. Знак то Божий, что здесь вы оказались в самое роковое и важное для Руси время. Великий знак!…
Князь Ярослав не успел толком ни поста выдержать, ни всех служб и молитв, положенных церковным чином, отстоять, как в Сыр-Орду с шумом, рёвом труб и кликами толпы прибыла ханша Туракина. Мать хана Гуюка, вдова Угедея и регентша Монгольской империи дс решения великого курултая. Её обнесённая тыном ставка располагалась на берегу небольшого озера, ворота всегда были на запоре и бдительно охранялись усиленной стражей. Молча проехав через гигантское скопище юрт и шатров под оглушительный рёв труб и крики толпы, ханша скрылась в огромном, богато украшенном шатре и более оттуда не появлялась. Это дало возможность отцу Евгену кое-как, второпях и не совсем по чину, причастить жаждущего спасения великого князя к церковным таинствам, отпустив ему все его грехи. И, как оказалось, вовремя: через несколько дней приехал сам Гуюк со свитой, гвардией, вельможами и ханом Орду, который тут же навестил Ярослава.
— Завтра с послами и вельможами пойдёшь славить ханшу Туракину.
— Как славить?
— Сидеть на коне, пить кумыс и кричать хвалу, когда другие закричат.
— Кумыс?! — Ярослав пришёл в ужас, все говение оказывалось напрасным, а он так старался.
— Ладно, вино пей, — смилостивился Орду.
Сбыслав уточнил: славить полагалось четыре дня, причём каждый день — в новом платье. У князя было три парадных наряда, но оказавшийся тут же Кирдяш обещал что-нибудь придумать.
На следующий день утром князь Ярослав выехал на коне с доброй сбруей славить Туракину. Со всех сторон к распахнутым настежь воротам ставки вдовой ханши ехали монгольские вельможи, и серебро так сверкало на сбруях, что князь приуныл. Однако быстро утешился и даже возгордился, убедившись, что он — единственный из всех иноземцев, удостоенный чести сидеть в седле. Остальные стояли на собственных ногах в тяжёлых парадных одеяниях, млели и прели, но кричали слова хвалы, как только кто-либо из вельмож начинал вопить. Поорав, вельможи спокойно разговаривали друг с другом и все время пили кумыс. Гремели трубы, а как только они замолкали, начинались песни хора, спрятанного где-то за шатром. Потом очередной вельможа выкрикивал хвалебные слова, все — пешие и конные — подхватывали их, и все начиналось сначала.
В первый день вельможи были одеты в белые халаты, а действо продолжалось ровно четыре часа. На второй день они сменили одежду на темно-красную, а орали хвалу и пили кумыс на час меньше. На третий халаты оказались синими, и хвала сократилась до двух часов. А на четвёртый день Кирдяш ничего придумать не смог, и князю пришлось ехать в парадной шубе, а вельможи оказались в алых халатах. Ярослав прел в соболиной шубе под, как на грех, особо ослепительным солнцем. Правда, мука сия продолжалась всего час, после чего к хвалящим впервые вышла ханша Туракина. Постояла, послушала хвалу, махнула рукой, и ритуал был завершён.
— Только мне разрешили в седле сидеть, заметил? — с невероятной гордостью сказал князь Сбы-славу. — Великая честь нам оказана. Великая!
Сбыслав уже обратил внимание на особую честь, сразу выделившую русского князя из множества послов и представительств иных стран. Это весьма насторожило его, и он постарался встретиться с Орду до того, как Гуюк повелит Ярославу явиться к нему.
— К князю Ярославу во Владимир приезжал личный посол Папы Римского прелат Доменик. Скажи об этом Гуюку. И добавь, что Ярослав в любое время может переметнуться к католикам.
Исполнительный Орду доложил, но Гуюк пренебрежительно отмахнулся:
— Навет, мой добрый Орду. Наши разведчики ничего об этом не сообщают, а им ли не знать. Завтра мы устроим православный молебен, а после него сразу же пригласим русского князя на беседу.
Утром к Ярославу примчался навечно перепуганный пономарь:
— Хан повелел молебен отслужить в своё здравие, великий князь!
— Одеваться! — князь хлопнул в ладоши. — И боярина ко мне. Живо!
Когда появился Сбыслав, Ярослав пребывал в торжественно-приподнятом настроении. Даже что-то гнусаво напевал под нос.
— Православный молебен в собственное здравие Гуюк заказал. Может, и вправду к нашей вере склоняется? То-то бы ладно было, как думаешь.
— Думаю, что им верить нельзя.
— Ну, с верой кто же играет? Чужого Бога обидеть — великий грех.
— К союзу против Бату он тебя склонять будет, князь Ярослав, — вздохнул Сбыслав. — Ничего не уступай, будь твёрдым, очень прошу.
— Ну, этот-то хан посильнее Батыя будет.
— А Батый — ближе. И с Невским у него дела неплохо складываются. И церкви наши да монастыри он от поборов освободил. Помни об этом, князь, ни на что не поддавайся.
Но Ярослав слушал уже вполуха. Великое княжение, ради которого он проделал далёкий мучительный путь, было совсем рядом — руку протяни. И он уже протянул эту руку, он уже ощущал в ней сладкую тяжесть подтверждённого высокого звания, уже стращал им своенравных удельных владык, уже прокладывал новые торговые пути и выгодно женил своих младших сыновей…
Молебен во здравие будущего великого хана монголов прошёл по полному чину, и князь Ярослав воодушевлённо подпевал маленькому церковному хору. И Гуюк вместе с Орду отстояли всю службу, правда, так и не сняв высоких ханских шапок и ни разу не перекрестившись. А как только закончилась служба и отец Евген благословил всех присутствующих, Гуюк молча кивнул Ярославу и сам откинул золочёную парчу входа.
В шатре Гуюк предложил князю вина, пил кумыс, вежливо расспрашивал о здоровье, как того требовал степной обычай. Закончив обязательное при переговорах вступление, сказал задумчиво:
— Здоровье семьи и её достаток — что ещё нужно благородной старости? А ей ещё нужна уверенность в безопасности рубежей. Ей нужны поверженные во прах враги и трепет соседних народов.
«Так, — подумал Сбыслав, старательно переводя ханскую речь. — Он перешёл к смыслу этой встречи».
— В старости особенно тщательно надо считать врагов.
— Христос учит прощать своих врагов, — смиренно вздохнул Ярослав.
— Прощать после того, как они покорно склонили свои головы перед тобою, — весомо сказал Гукж — И внимательно пересчитывать эти склонённые головы, чтобы никого не забыть. Ты пересчитал своих врагов, князь Ярослав?
— У меня врагов что грехов, а грехов что врагов.
Князь ответил маловразумительно, но Сбыслав постарался перевести его ответ в точности. И осторожно порадовался: ему показалось, что Ярослав вовремя заметил ловушку и сейчас всеми силами пытается её миновать.
— Хороший ответ, — Гуюк тихо посмеялся. — Не оставляй же своих грехов во вьюках своих внуков. Знание своих друзей и точный счёт своих врагов — поводья твоей победы. Понимаю, что это нелегко, потому что друзья улыбаются при свете солнца, а враги скалят зубы в ночи, но я искренне люблю тебя, великий князь, и искренне желаю помочь.
— Он назвал меня великим князем? — со счастливой, но пока ещё неуверенной улыбкой спросил Сбы-слава Ярослав. — Великим? Ты точно перевёл?
— Я всегда перевожу точно, — сухо ответил толмач: ему очень не понравилось княжеское оживление.
— Значит, все решено? Он ведь не мог оговориться, правда? Слава тебе, Господи…
— Известно ли великому князю имя его главного врага?
То ли Гуюк понимал русский язык, то ли легко высчитал причину княжеской радости, а только далее он обращался к Ярославу как к великому князю, ни разу не позволив себе оговорки.
— Его имя — католическая Европа, и твой старший сын Александр это хорошо понял. У тебя не будет покоя, пока ты не поставишь сапог на шею своего врага. Помоги же своему сыну сокрушить крестовых рыцарей, великий князь.
— Европа очень сильна…
— Против нас двоих не устоит никто, — гордо сказал Гуюк. — В нашем государстве должно всходить и заходить солнце, так говорил мой великий дед Чингисхан. И оно будет всходить и заходить в нем, если мы протянем друг другу руку дружбы.
— Мой сын Александр изрядно потрепал рыцарей, но понёс большие потери, — лопотал Ярослав, стремясь найти хоть какую-то причину, только бы не ввязаться в военный с оюз с Гуюком. — Наши дружины требуют новых людей, коней, оружия…
— Я дам тебе денег. Много денег, и ты восстановишь свои силы в прежней славе. А потом, когда Европа рухнет к нашим ногам, я отдам тебе всю Русь, великий князь. И дети твои будут одни править в ней, как мои дети во всей остальной части мира.
— Но, великий хан…
— Нет, русские полки не пойдут в Европу под мечи крестоносцев. Они будут обеспечивать мой тыл от неразумных. Только мой тыл, великий князь, это не так-то трудно будет сделать после моего первого удара.
— Только тыл?
— Только тыл и дороги, по которым пойдёт снабжение моей армии.
— И ты… ты, великий хан, готов дать в этом высокую клятву?
— Клянусь памятью деда моего!
— Да, — вздохнув, сказал Ярослав. — Это — высокая клятва, великий хан. И мои дети будут княжить на всей Руси?
— Твои дети будут княжить на всей Руси. И больше никто. Ни одна ветвь рода твоего.
— Думай, князь Ярослав, — по-русски негромко сказал Сбыслав. — Это — петля. Смертельная удавка для Руси. Это — второе нашествие…
— Это — счастливый случай, который не выпадет второй раз, — резко оборвал Ярослав. — Передай хану, что на этих условиях я согласен на союз.
— Поклянись и ты, — сказал Гуюк, когда Сбыслав перевёл ему последнюю фразу Ярослава.
Он выкрикнул что-то, чего Сбыслав не перевёл. И тотчас же в шатёр вошёл отец Евген, торжественно неся перед собою наперсный крест.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Из Галича вернулся опечаленный Андрей. В городе своенравные бояре начали бурную антикняжескую возню, и Даниил был вынужден покинуть его. Недолго думая, он бросился за подмогой к татарам, татары двинулись к городу, и тут уж стало не до свадьбы. Тем более что Даниил Галицкий вовремя одумался, помчался на запад, втравил в борьбу венгров и поляков, а пока все три силы колотили друг друга, напрочь позабыв о первоначальной цели, умчался на север и стал ждать, чем все это закончится. А князь Андрей, несолоно хлебавши, возвратился к родному очагу.
— Да все образуется, — сказал Александр. — Кто бы кому бы ни намял бока, а князь Даниил Романович своего не упустит. И Галич вернёт, и дочь за тебя выдаст.
Он тоже вынужден был отложить свою свадьбу. Не до того ему было, хотя сослался он на отцовское отсутствие А на самом-то деле и хлопот хватало, и беспокойства, потому что от Якова Полочанина не поступало пока никаких известий.
Через несколько дней Яков вернулся сам. Очень довольный, с драгоценным кинжалом и богатым поясом на кафтане.
— Миндовг в пух и прах разгромил рыцарский учебный лагерь на озере Дурбе, — сияя, доложил он. — Старые рыцари перебиты все до единого, а заодно и много молодых. Оружие и брони Миндовг частью увёз, частью изломал и все спалил дотла. Мы с ним прикинули, что рыцарям теперь лет десять головы ломать, не меньше.
— Слава Тебе, Господи! — Невский с облегчением перекрестился. — Одной занозой меньше. Теперь главное — восток.
Он походил, печатая кованые шаги. Отхлебнул стоя вина, похмурился.
— Мы с Андреем в Орду поедем и отца будем ждать там. Там сейчас судьба Руси решается, Яков, там. Нам бы лет пятьдесят без войн — и воскреснем. Ты за меня здесь останешься за боярами приглядывать.
Стали готовиться к поездке, которой Андрей был даже рад: тоска заедала. Однако пока готовились, пока подарки отбирали — важное было дело, поскольку, как выяснилось, татары оказались очень обидчивыми, — всполошился капризный Новгород. Как да почему — никто понять не мог, а сына Александра Невского тем не менее из города выгнали, пригласив вместо него князя Ярослава Ярославича Тверского, сына отбывшего в Каракорум великого князя Ярослава. Узнав об этом, Невский рассердился не на шутку, поднял дружину и повёл её на Новгород. К счастью, ума у родного брата хватило: убрался восвояси без брани, новгородцы согласились принять назад княжича Василия, но времени на этом потеряли немало.
— Глупцы Русь на куски дерут, — раздражённо говорил Невский, вернувшись с этого малопочтенного похода — Это — моё, то — моё и то моё тож. Жадность нас губит, Андрей, и губить будет, покуда за всю землю Русскую думать не научимся. Таких нещадно бить надо, про всякое родство забыв. Чтоб им и впредь неповадно было.
Промолчал тогда князь Андрей. То ли ещё по-юношески испытывая любовь и почтение к старшему брату, то ли просто час его ещё не пришёл. Он вообще вернулся из Галича не только очень расстроенным, но и во многом иным. Избегая впрямую спорить с Невским о том, что враг с Запада куда опаснее врага на Востоке, стал ссылаться на особенности Руси, на её традиции, имея в виду чаще всего как бы само собой разумеющееся право её князей как представителей единого Рюриковского рода отстаивать собственную независимость.
— Пращур наш Ярослав Мудрый это завещал.
— Резню на Липице завещал?
— Так уж сложилось, брат. Прошлое не переделаешь.
— Гнилое прошлое с корнем вырвать надо! Андрей несогласно замыкался и уходил. Невский понимал, что он на перепутье, в чем-то пытается разобраться, что-то переосмысливает, и старался не очень нажимать. Брат перестал говорить о татарах, будто и не было их вовсе, и князь Александр втайне считал, что он понял необходимость долговременного союза с ними. И это Невского сейчас вполне устраивало.
Наконец они выехали в Орду, благополучно добрались до Старая, где их встретил Чогдар. Встреча была тёплой, почти родственной, но даже на дружеском пиру главный советник золотоордынского хана ни словом не обмолвился о том, когда же их примет Ба-ту или хотя бы царевич Сартак. Поразмыслив, Невский понял причину, он сам предпринял эту поездку, цели её хану были неясны, и потому он выжидал, когда князь Александр изложит их его советнику. Но Чогдар в первый вечер избегал деловых разговоров, откровенно ограничив беседу кругом семейных и дружеских воспоминаний
— То, что Миндовг вырезал самых опытных волков, заставит орден сильно призадуматься.
— Он расчистил мой западный тыл.
— Западный тыл расчистил ты сам, князь. Литовские мечи подняла против рыцарей твоя верная политика. Врага хорошо бить чужими руками. И держать чужими руками. Но для этого надо точно знать, что для тебя в этих чужих руках — мёд или яд.
На этой многозначительной фразе тогда и закончился их разговор. А продолжился через день, когда Чогдару удалось соблазнить князя Андрея охотой, на которую его пригласил тёмник Неврюй.
— Гуюк готовит второе нашествие. Он объявил себя покровителем православия и врагом католической Европы и уже стягивает в Каракорум войска из Персии и Китая.
Чогдар помолчал, давая Невскому время хорошенько обдумать новости. Потом добавил, подчёркнуто понизив голос:
— Это — приманка. На самом-то деле он хочет уничтожить Бату и окончательно поработить Русь, которая вынуждена будет кормить его прожорливое войско.
— Ты отправил Андрея на охоту не из-за этого разговора, Чогдар.
— Ты мудр, князь, — усмехнулся Чогдар. — У меня есть люди при Данииле Галицком. Он ведёт крупную двойную игру и с Западом, и с нами. Ему нужен ты, вот почему он отложил свадьбу и отправил Андрея к тебе.
— Андрей ни о чем подобном со мною не говорил, — сказал Невский. — Правда, признался, что считает удельных князей вправе самим решать свои внешние дела.
— Ты не находишь, что это — подход к оправданию их противоордынских настроений?
— Возможно, — сказал Невский, подумав. — Но ты знаешь моего брата. Андрей прост, такие петли не для его разума.
— Они вполне по силам разуму Галицкого.
— Меня куда больше беспокоит отец в Каракоруме, чем Андрей, Чогдар.
— Меня тоже. Без согласия великого князя Гуюк не пойдёт на нас. Но — лесть, посулы, уговоры. Выдержит ли этот нажим его усталая душа?
— С ним — Сбыслав.
— Что может сделать молодой боярин, исполняющий роль толмача?
— Он не только боярин и толмач. Он… Невский осёкся. Поднял голову, в упор посмотрел на Чогдара.
— Сбыслав не знает о том, о чем знаем мы с тобой и князь Ярослав, — тихо сказал Чогдар. — Однако во имя спасения Руси он способен на крайности. Ты представляешь себе эти крайности?
Невский угрюмо молчал. Чогдар налил вина, придвинул кубок.
— Не пришла ли пора подумать о новом брате, князь Александр? Твоя левая рука должна стать столь же могучей, как твоя десница.
И поднял свой кубок.
Разговор Гуюка с Ярославом не шёл у Сбыслава из головы. Хан переиграл великого князя по всем статьям, переиграл легко, одними посулами, ничего, по сути, не дав, но получив слово о военном союзе, подтверждённое клятвой на кресте. Случилось то, чего так опасались в Золотой Орде: завтрашний великий хан монголов обеспечил своё наступление на Запад поддержкой всех русских сил, и теперь помешать этому могла только внезапная и, главное, своевременная смерть Ярослава.
Не впрямую, намёками и беспощадным анализом обстановки как Бату, так и Чогдар давно подготовили к этой мысли Сбыслава. Но оказалось, что быть готовым и осуществить подготовленное и продуманное на деле — разные вещи. Бестрепетно размышляя об этом, Сбыслав и представить не мог, сколь трудно придётся ему, когда настанет пора действовать. Отчаяние и реальная, физически ощутимая боль в сердце вдруг разом обрушились на него, мешая сосредоточиться, подумать, сплести хоть какие-то силки, попав в которые, Ярослав оказался бы клятвопреступником, за что, по монгольским законам, полагалась только смертная казнь. Тогда бы встал вопрос о новом великом князе, что потребовало бы много времени, и Русь была бы спасена.
Да, Русь была бы спасена от второго нашествия…
Он не думал о своей жизни. Он думал о жизни великого князя Ярослава, которую необходимо было оборвать. И Сбыслав почти не спал и почти не ел, худел, мрачнел и метался, напрасно надеясь убежать от самого себя.
— Опять не ешь ничего, Сбыслав? Что с тобой?
— Мутит меня что-то.
На третий день Сбыслава разыскал есаул Кирдяш:
— Хан Орду ждёт тебя вечером.
Сбыслав помолчал. И молчал, когда Кирдяш зашёл за ним, чтобы проводить в юрту своего хана.
— Холодно у них тут, — возмущался есаул. — Вроде лето, а по ночам зуб на зуб не попадает. Непутево живут!…
— Гуюк сказал, что ярлык на великое княжение князю Ярославу передаст его мать, ханша Туракина.
Всем послам положено чтить её и славить, а она угощать славящих на том пиру будет. Обычай такой. А меня Гуюк попросил представлять всех потомков великого Чингисхана. Как старшего внука.
Последние слова Орду сказал, раздувшись от важности. Но Сбыслав ясно расслышал почему-то только одно: угощать. И белкой шмыгнула мысль: «Травиться там у вас…» Он сразу же изгнал её из головы, постарался тут же забыть…
— Я передам князю Ярославу.
Орду явно ждал каких-либо поручений или хотя бы вопросов, но Сбыслав вдруг заторопился, словно рассчитывал на то, что мелькнувшая нечаянно мысль останется здесь. А ночью опять не спал, опять вздыхал и ворочался, но эти два слова — «травиться там» — время от времени вдруг возникали в голове. А под утро в тягостной полудрёме подумалось, что хорошо бы, князь Ярослав съел на пиру что-то, заболел бы и помер. И никто бы не был виноват: на роду, видать, такая смерть написана ему.
Утром он постарался избавиться от предрассветных мыслей, впервые почувствовал, что проголодался, ел и пил вдосталь. А великий князь Ярослав очень радовался:
— Слава Богу, Сбыслав, слава Богу! То хворь местная из тебя выходит, я тоже два дня есть ничего не мог. Как на руки их гляну, так с души воротит.
Двумя днями позже вдруг объявился Негой. Князь обрадовался старому знакомцу, сразу же принял. А Негой сказал:
— Посол от самого Папы Римского прибыл. С тобой, великий князь, встретиться хочет, толмач его говорил.
— Зачем? — Ярослав испугался: Гуюку могла не понравиться такая встреча.
— Вроде из самого Владимира тебе посылка.
— Посылка?… Какая посылка?
— Не знаю, великий князь.
— У ханши Туракины сами собой встретитесь. — У Сбыслава вдруг зачастило сердце. — Там все послы будут, никто и внимания не обратит, князь Ярослав.
— Да, да, у ханши Туракины, — Ярослав обрадовался столь простому решению щекотливого вопроса. — Так и скажи толмачу. Там и договоримся, где посылку передать. А сюда нельзя ему, никак нельзя.
Он уже хотел было выгнать Негоя, как выгоняют дурного вестника. Но помедлил, досада прошла, да и давний знакомец рассказывал вещи любопытные.
— Золотых дел мастер из Ростова Кузьма говорил мне, что новый шатёр хану Гуюку ставят. Богатый шатёр, столбы золотом окованы. Кузьма в нем трон из слоновой кости соорудил.
И трон, и шатёр Гуюку понравились. Он милостиво улыбнулся золотых дел мастеру из Ростова, велел Бури щедро отблагодарить его, но домой пока не отпускать.
— Со мной на Русь вернётся. Хватит ему на Бату работать.
Этот разговор случился как раз в тот день, когда Негой приходил к князю Ярославу. А когда последние приготовления в коронационном шатре был завершены, Гуюк назначил час великого курултая.
— Допусти к войлоку почёта князя Ярослава, мой добрый Орду.
— Он — не монгол.
— Правильно. Но потому-то и допусти. Его одного из немонголов Единственного. От такой чести он до самой смерти пить из моей ладони будет.
Орду был очень недоволен нарушением древних обычаев. Но спорить с будущим великим ханом не решился, только сопел, вздыхал и гонял приближённых, поскольку отвечал за всю церемонию.
— Скажи князю Ярославу, что Гуюк удостоил его великой чести, — велел он Кирдяшу.
Есаул доложил, и это известие вызвало смятение как у князя, так и у его ближнего боярина. Ярослав едва не лишился речи, а Сбыслава бросило в жар: он понял смысл дерзкого хода Гуюка. Хан вынуждал единственного официального представителя Руси принимать участие в церемрниале провозглашения Гуюка великим ханом всей Монгольской империи. Это возмутило бы и русских князей, и русскую Церковь, неминуемо раскололо бы все русское общество, внесло смуту и расчистило бы Гуюку путь к окончательному покорению русского народа. «Невскому конец, — с ужасом думал Сбыслав. — Зачем тогда Ледовое побоище? Зачем столько жертв? За что погиб отец'…» Ему стало так плохо, что он бы, вероятно, упал или натворил Бог знает что, если бы не вовремя пришедшая мысль: «Бату и Чогдар предполагали именно это. И поручили мне спасти Русь. А с нею и Золотую Орду. Из двух зол выбирают наименьшее…»
Накануне Великого курултая — церемонии провозглашения Гуюка великим ханом Монгольской империи — Сбыслав не сомкнул глаз. Сказать, что он строил планы, о чем-то думал, значило бы не сказать ничего. Он ни о чем не думал. Он не мог думать— перед ним разверзлась бездна, и ничего, кроме черноты, он в ней не видел. Просто метался без сна.
Утром 24 августа тысячи людей в парадных одеждах двинулись к коронационному шатру Гуюка, стоявшему на берегу ручья в горделивом одиночестве. С рассветом началось славословие, перемежаемое хвалебными песнями. Это продолжалось мучительно долго, до полудня, когда все вдруг смолкло, и старый седой шаман повернулся лицом к югу, подняв руки. И тотчас же все монголы, а вслед за ними и остальные присутствующие на церемонии тоже повернулись лицами на юг и тоже воздели руки. Началась длинная заунывная молитва с резкими выкриками шамана и хором голосов, пока верховный шаман вдруг не развернулся лицом к северу, дико выкрикнув:
— Вот он, светлый!
Все повернулись. За их спинами на белом, без единого пятнышка, жеребце сидел Гуюк в торжественном ханском наряде.
— Объявляю вам сына своего! — выкрикнула ханша Туракина, поднятая офицерами на золототканом ковре.
Орду, как старший, подошёл к Гуюку, подержал стремя и протянул руку, на которую и опёрся будущий великий хан, спешиваясь. В полном молчании повёл его в шатёр, занавеси которого были высоко подняты, где и усадил его на отделанный золотом трон из слоновой кости работы русского мастера Кузьмы Ростовчанина. Следом за ним двинулись остальные приглашённые, но в сам шатёр вошли только чингисиды, видные полководцы и — самым последним — князь Ярослав. А войдя, преклонили колени.
— Мы хотим и требуем, чтобы ты повелевал нами! — громко провозгласил Орду, и все присутствующие в шатре повторили его слова.
— Желая иметь меня великим ханом, готовы ли вы исполнять мою волю? — спросил Гуюк. — Являться, когда позову вас, идти, куда велю, и предать смерти всякого, кого наименую?
— Готовы! — хором ответили ханы, полководцы и толпа за шатром.
— Слово моё да будет отныне разящей саблей монголов! — выкрикнул Гуюк.
Орду и Бури подошли к трону, помогли Гуюку спуститься вниз и усадили на расстеленный по полу белоснежный войлок Почёта. Вельможи, находившиеся в шатре, тотчас же подняли войлок, а с ним вместе и нового великого хана. И князь Ярослав тоже держался за уголок этого белого войлока.
— Над тобою Небо и Всевышний, под тобою земля и войлок! — торжественным хором возвестили ханы и полководцы. — Если будешь любить наше благо, уважая ханов и вельмож по их достоинству, то царство Гуюка прославится в мире, земля покорится тебе, и Бог исполнит все желания твоего сердца. Но если обманешь надежду подданных, то будешь презрен и столь беден, что самый войлок, на котором сидишь, обратится в дыру.
Вельможи бережно опустили войлок Почёта. Гуюк встал, и все, кто находился в шатре и за его пределами, опустились на колени.
— Прими дары наши, великий хан1 — возопило и поле, и шатёр, и ритуал был завершён.
Начался пир, всем присутствующим развозили кумыс и варенное без соли мясо. В том числе и вельможам: пир был ритуальным. Князь Ярослав сумел избегнуть чаши с кумысом, но мясо пришлось есть, и он давился от отвращения: несолёная жирная баранина застревала в горле.
— Великий почёт Руси оказали, — с торжеством объявил он пробившемуся к нему Сбыславу.
— А как угощение? — холодно спросил Сбыслав.
— Потерпим, потерпим! Во имя Руси…
— Во имя… — вздохнул Сбыслав.
Вечером того же дня великий хан Гуюк принял послов. Он сидел на троне слоновой кости под зонтиком, украшенным драгоценными камнями. Плано Карпини оказался первым европейцем, увидевшим зонтик; этот предмет настолько его поразил, что он трижды упомянул о нем в своих воспоминаниях. Равно как и о пяти сотнях телег, нагруженных золотом, серебром и китайским шёлком: Гуюк был едва ли не самым богатым властелином своего времени, что потрясло князя Ярослава.
— Он мир завоюет!
Сбыслав тоже подумал об этом, но от замечаний воздержался. Он был раздавлен пышным днём коронации, потому что ясно осознавал, что судьба не оставила ему иного выхода, кроме того, о котором он до сей поры вспоминал только как о запасном, а потому и почти невероятном.
— Господин позволит ничтожному монаху задать вопрос?
Сбыслав оглянулся. Перед ним в рясе францисканского ордена стоял папский посол Плано Карпини.
— Имя вашего превосходительства Федор Яруно-вич?
Карпини говорил по-русски. Кое-как, но объясняться можно было без переводчика, и Сбыслав молча поклонился.
— Его высокопревосходительство господин главный советник Бату-хана просил передать вам, господин, свой нижайший поклон.
— Произнесённое вами имя не следует часто поминать в этой земле, господин посол.
— Извините мою ошибку. По просьбе упомянутого лица я привёз подарок его сиятельству князю Ярославу.
— Примите мою благодарность, я представлю вас князю. Но не сейчас и не здесь. На приёме у ханши Ту-ракины, если вы не против.
Карпини рассыпался в благодарностях, а Сбысла-ва опять бросило в жар. Он сделал первый шаг, ещё не продумав всего пути, но уже понимая, что это — путь. И как только Карпини отошёл, тут же принялся искать Орду: первый шаг — самый трудный — требовал второго. Не менее трудного.
Найти хана Орду было несложно, сложно было увести его для разговора наедине. Самодовольный Орду раздулся от важности, оказавшись главной персоной в окружении великого хана. Тем более что перед тем, как появиться Сбыславу, Гуюк сказал ему с глазу на глаз:
— Знаешь, о чем мечтает сейчас твой великий хан, Орду? О бесценном даре, который ты мне доставил. Я уже повелел разбить для неё шатёр.
Это был намёк на щедрую награду. А Орду, несмотря на воинский аскетизм и прирождённую доброту, очень был неравнодушен к дорогому оружию. И решил во что бы то ни стало выпросить его у счастливого великого хана.
— Я занят, — с неудовольствием сказал он. — Зачем ты меня тревожишь?
— Ключ иссяк, бел-камень треснул, — сквозь зубы процедил Сбыслав.
— Да, да, — Орду сразу присмирел. — Что я должен делать?
— Исполнять то, что я прикажу. Первое: рассказать Туракине, что князь Ярослав поддерживает связь с католиками через прелата Доменика.
— Великий хан Гуюк не поверил…
— А Туракина должна поверить! Пусть она спросит о Доменике самого Ярослава, когда будет вручать ему ярлык. И пусть обратит внимание, как его будет поздравлять Плано Карпини.
— Я обращу её внимание.
— Что она сделает, увидев все своими глазами?
— Туракина — сибирячка и сделает то, что скажет ей шаман.
— А что он скажет?
— Не знаю.
— Он должен сказать… — Сбыслав гулко проглотил ком в горле. — Два слова: тихая смерть. Тихая смерть, запомнил? Тихая — значит, без боли. Без боли. Так повелел Бату.
— Без боли, — послушно повторил Орду, привычно не вдумываясь в смысл произносимых слов. — Так повелел Бату.
Князь Андрей был в восторге от охоты. Он так много говорил о ней, что Чогдар с усмешкой заметил:
— Он променяет на охотничьи забавы любое княжество.
— Жена не позволит, — буркнул Невский. — Может быть, дать ему волю, Чогдар?
То ли Чогдар услышал в этих словах намёк, то ли хотел услышать, а только через несколько дней тот же Неврюй предложил Андрею большую охоту в Кубанских степях. На сайгаков и ланей, волков и парду-сов, не считая других объектов. Туда собирался целый караван: охотники, загонщики, ловчие, охрана, челядь, рабы для чёрной работы и рабыни для утех. И князь Александр с облегчением дал на это своё согласие: они с Чогдаром понимали друг друга без слов.
— Завтра с Дона вернётся Сартак, — сказал Чогдар, когда охотники уехали. — А послезавтра он подарит тебе, князь Александр, свою боевую саблю. Не выходи из юрты, пока я не позову.
Обмен боевым оружием служил прологом к обряду побратимства. Невскому рассказывали об этом и Ярун, и Чогдар, и Сбыслав, и он шёл на него не просто с открытым забралом, но и с полным пониманием необходимости этого поступка. Татары отличались изощрённым коварством не в силу собственного национального характера, а потому, что, по их представлениям, обман являлся делом почётным, им хвастались, как военной хитростью. Но своих не обманывали никогда и ни при каких обстоятельствах: подобное приравнивалось к предательству, за что полагалась смертная казнь. А побратим становился не просто своим, но, согласно Ясс, считался ближе и надёжнее брата, потому что побратима воин избирал сам, лично, а в рождении брата принимали участие многочисленные монгольские боги, как чёрные, так и белые. Брат оказывался непредсказуемой смесью Добра и Зла, в которой человек был неволен, в то время как побратима он выбирал только по собственной воле.
Александр Невский хорошо разбирался в этой казуистике. Природа одарила его поразительным талантом продумывать ход событий на много шагов вперёд. Но он знал и о строгих обычаях, предшествующих торжественному обряду. Особое внимание здесь отводилось размышлению, на что и намекнул Чогдар в последнем разговоре. И князь Александр терпеливо ждал в отведённой ему юрте.
Через два дня появился очень серьёзный, почти торжественный Чогдар.
— Ты готов, князь Невский?
— Я готов.
Александр потянулся было за мечом, но Чогдар остановил его:
— Ты уже вручил своё оружие Сартаку. Там, — он выделил это слово, — передашь боевой меч ещё раз. И повторишь за царевичем слова, которые он произнесёт.
Они молча прошли во дворец, в который попали не через парадный, а через боковой вход. И оказались не в тронной зале, а в маленькой комнате, устланной коврами. На низеньком столике стояла серебряная чаша, наполненная кумысом.
Бату и Сартак уже ждали их с суровыми, непроницаемыми лицами. Но Невский поклонился только царевичу, понимая, что великий хан Золотой Орды присутствует здесь только как свидетель. Чогдар тут же подал ему меч, когда-то подаренный Сартаку, а Александр, взяв его, стал с другой стороны столика с серебряной чашей.
— Не горит трава без огня, не греется сердце без боевого друга, — торжественно произнёс Бату.
Сартак вынул из-за пояса саблю в дорогих ножнах и через столик двумя руками протянул её Невскому. Князь, приняв её, тотчас же двумя руками протянул свой меч царевичу. Сартак, чуть выдвинув лезвие меча, поцеловал его:
— Пусть твоё оружие отныне разит только наших общих врагов.
— Пусть твоё оружие отныне разит только наших общих врагов, — эхом откликнулся Невский, в точности повторив все действия царевича.
Затем оба закатали левые рукава и протянули руки над чашей. Бату собственным ножом надрезал вену Александру, а Чогдар — Сартаку. Густая кровь закапала в чашу Когда кумыс порозовел, Невский, как старший по возрасту, сделал первый глоток и протянул чашу Сартаку. В неторопливом, торжественном молчании они допили кумыс, и царевич впервые улыбнулся:
— Здравствуй, анда Александр.
— Здравствуй, анда Сартак.
И крепко, по-братски обнялись.
Двое ворот ставки ханши Туракины были распахнуты настежь, хотя стражу подле них не убирали. Во дворе с утра горели костры, над которыми висели огромные казаны, и ветер разносил грубый запах баранины далеко окрест, до самой Сыр-Орды. Мать великого хана монголов готовилась к большому приёму.
Готовились и многочисленные гости: официальные послы, представители многих властителей зависимых, полузависимых и пока ещё не покорённых монголами стран, цари, князья и ханы вассальных государств. От Жёлтого до Красного моря простиралась тогда власть степных вл' тык — едва ли не самого малочисленного народа в собственной гигантской империи.
Князь Ярослав готовился к этой особо знаменательной для него встрече с раннего утра. Сегодня должна была осуществиться его вожделенная мечта, сегодня он должен был получить ярлык на великое княжение, не только подтверждающий главенствующее значение Владимирского княжества среди всех прочих русских княжеств, но тем самым и уберегающий Русь от распада и междоусобиц. Он воспринимал это как отпущение великих грехов собственной молодости, как очищение души, как знак особой милости Господа, которому усердно молился с ранним проблеском зари. Испытывая необыкновенное, праздничное оживление, старый князь весело распевал стихиры, не обращая внимания на суровое, замкнутое лицо родного сына, прижитого в истинной любви.
Несмотря на внешнюю суровость, Сбыслав был отчаянно пуст. Пуст до сухого стука, как гнилой орех с червивой сердцевиной. Он гнал из души все чувства, волей удерживая лишь последовательность собственных действий и не позволяя себе даже помыслить об их результате. Для него этот день должен был решить все. Во имя спасения Руси.
— Мы должны поторопиться, князь Ярослав.
— Но ещё рано, Сбыслав. Негоже мне в такой день бежать поперёд всех.
— Я хочу знать порядок И сделаю так, чтобы ты получил ярлык в самом начале приёма.
На самом— то деле он хотел поскорее увидеться с Орду, узнать, что тому удалось сделать, подтолкнуть его и направить И ещё ему хотелось, чтобы все уже кончилось, чтобы наступило завтра.
К счастью, они оказались не первыми. Это утешило самолюбие князя Ярослава и устраивало Сбыслава. Оставив князя в компании грузинских царевичей, он сумел быстро разыскать хана Орду.
— Ты сказал Туракине, что князь Ярослав через прелата Доменика поддерживает связь с Католической Церковью?
— Сказал, но она недоверчива. Как и её сын великий хан Гуюк
Это расстраивало все планы, но Сбыславу некогда было сейчас размышлять.
— Говорил с шаманом?
— Как велел мой брат Бату.
— Когда он скажет ханше о решении богов?
— Без совета с ним Туракина здесь не появится. Я лишился дорогого перстня, но шаман нагадает как надо.
— Скажи ханше, чтобы она сразу же вручила князю Ярославу ярлык.
— Сначала ей должны пропеть хвалу, — важно сказал Орду.
— Значит, после того, как пропоют! — резко оборвал Сбыслав.
Он кричал на чингисида: за это полагалась смерть. Но он уже ни о чем не мог думать. Он тронул камень, но камень не полетел вниз, а лишь чуть покачнулся.
Впрочем, внук Чингисхана воспринял резкость как нечто само собой разумеющееся. Как доказательство права молодого русского боярина говорить голосом самого Бату, а не просто отдавать распоряжения от его имени. И удесятерил старательность.
А приглашённые подъезжали и подъезжали В огромном шатре стоял приглушённый гул голосов, но никакого движения не замечалось. Все держались своих мест, раз и навсегда определённых суровыми монгольскими офицерами. И, перетасовывая гостей по каким-то неведомым распоряжениям, они весьма деликатно вывели в первый ряд князя Ярослава ещё до того, как вернулся Сбыслав.
— Почёт оказали, — тихо торжествовал старый князь.
Сбыслав промолчал. Он уже приметил Карпини, стоявшего чуть ли не в последнем ряду, и сейчас размышлял, как же ему сделать то, что он успел придумать. Но тут взревели трубы, приподнялись крылья расшитого китайскими шелками полога, и четыре дюжих гвардейца внесли окованный листовым золотом трон, на котором важно восседала ханша Туракина. Следом шествовал надутый спесью Орду. Все присутствующие преклонили колени, трубы оборвали рёв, и невидимый хор затянул хвалебную песню.
Наконец хор смолк Туракина чуть повернула голову, украшенную осыпанной драгоценными камнями тиарой, и Орду почтительно склонился.
— Русский князь Ярослав! Приблизься!… — торжественно, но очень уж громко возвестил он.
Ярослав поспешно и почему-то ссутулившись просеменил к трону, преклонил колено. Набелённое лицо ханши не выразило никаких чувств, будто и не было здесь ни старого русского князя, ни вообще кого бы то ни было. Сказала что-то Орду.
— Мать великого хана монголов ханша Туракина вручает тебе, князь Ярослав, ярлык на великое княжение в землях твоих! — прокричал Орду. — Властвуй, но всегда помни об этом часе!
Вновь пожалованный собственным званием Ярослав, кланяясь, удалился, облагодетельствованный и безмерно счастливый. Однако своё место отыскал не сразу, потому что Сбыслава нигде не было видно, а он в толпе запомнил только его. Однако его толмач и боярин вскоре появился, но не один. За ним, шаг в шаг, следовал посол Римского Папы Плано Карпини
— Позвольте сердечно поздравить вас, ваше высочество…
Карпини, улыбаясь самой широкой из всех францисканских улыбок, говорил и говорил, но Сбыслав не слушал его. Они стояли в первом ряду гостей прямо против трона, на котором восседала недоверчивая сибирячка Туракина, и Сбыславу казалось, что он видит злой огонь в её зелёных недобрых глазах…
Потом опять ревели трубы, звучали хвалебные песни, а в перерывах Орду представлял гостей Тура-кине: кто, откуда, какие привёз подарки. На последнее делался особый упор, потому что монголы любили подарки, как дети. Сбыслав знал об этом, но его удивило, что дары князя Ярослава ни разу не упоминались. А поразмыслив, понял, что сделано это вполне осмысленно: власти Каракорума тем самым подчёркивали, что в данном случае дарят они и что их подарок просто невозможно с чем-либо сравнивать.
К тому времени все приготовления к пиру были уже завершены. Мясо отварено и разделано, кумыс разлит в чаны, все припасы выложены на низкие столы, возле которых были расстелены ковры. Орду пригласил присутствующих к трапезе, и все направились во двор. Молчаливые офицеры-распорядители не сортировали гостей по чинам и званиям, но для великого князя Ярослава сделали исключение, проводив его прямо к столу самой ханши Туракины.
Ханский стол ломился от мяса, жира и мисок с кумысом, но более ничего на нем не было. Рядом с великим князем Ярославом вскоре оказались грузинские царевичи, посол багдадского халифа, представитель армянского царя, князьки и ханы покорённых монголами народов. Заревели трубы, и к столу вышли присутствующие на празднестве младшие чингиси-ды во главе с Орду и самой Туракиной. Они встали с противоположной стороны стола, и ханша заняла место точно против великого князя Ярослава. И враз оборвался трубный рёв.
— Мать великого хана монголов ханша Туракина жалует тебя, великий князь русский, угощением из собственных рук! — торжественно выкрикнул Орду.
Туракина взяла самый жирный кусок баранины и начала впихивать его в рот князя Ярослава. Князь давился, судорожно глотая несолёное мясо, по лицу его тёк жир и слезы, он мучительно задыхался, но не посмел ни закрыть рта, ни отодвинуться от стола…
Великий князь не спал всю ночь. Мутило, тошнило, он страдал, изнемогая от озноба и обильного пота одновременно. Сбыслав ни на шаг не отходил от него, все понимая и задыхаясь от боли в сердце Под утро Ярослав чуть забылся, и Сбыслав тут же помчался искать Орду, оставив великого князя на попечение верного слуги
— Я исполнил повеление моего великого брата, — с гордостью сказал Орду — Я всегда исполняю его повеления, боярин.
— Так исполни их до конца. — Сейчас Сбыслав ненавидел самодовольного хана так, как не ненавидел никогда и никого. — Скажи Гуюку, что князь Ярослав занемог и поэтому мы должны уехать. И сегодня же, сейчас же отправь Кирдяша к Бату-хану.
— Кирдяш — начальник моей охраны…
— Делай, как сказал! — почти истерически выкрикнул Сбыслав. — Я сам пошлю Кирдяша в Сарай твоим именем, занимайся нашим отъездом!
— А я…
— А ты останешься здесь следить за каждым шагом Гуюка.
Сбыслав быстро нашёл есаула, передал ему приказ Орду срочно выехать к Бату и вручил свою золотую пайцзу.
— Меняй коней, спи в седле, но лети стрелой, Кирдяш.
— Ты знаешь, что я расскажу хану, боярин, — недобро усмехнулся есаул.
— Правду!
Кирдяш выехал без промедления, Орду добился разрешения Гуюка на отъезд князя Ярослава, и на следующее утро небольшой караван покинул Сыр-Орду. Его сопровождал важный чиновник великого хана, сотня охранников и много заводных лошадей. Гуюк сразу понял, что случившееся — дело рук его суеверной и глупой матери, а потому русский князь не должен был умирать в его ставке.
На третий день — уже в пути — князь Ярослав впал в забытьё, а на теле его стали проступать странные синие пятна. Сбыслав не отходил от него, но душа была пуста. И душа, и сердце. Все уже выгорело в нем, он наблюдал за агонией спокойно и отстраненно, но последние слова расслышал, приникнув ухом к посиневшим губам:
— О возлюбленные мои, плод чрева моего… храбрый и мудрый Александр и поспешный Андрей… милый Василий и удалый Сбыслав… храните мир, храните Русь…
«Зачем он меня-то в родственный поминальник вплёл?…» — со странной, болезненно щемящей досадой подумал Сбыслав.
И больше никаких чувств не шевельнулось в нем. Даже тогда, когда он закрывал глаза собственному отцу…
Загнав добрый десяток лошадей, Кирдяш добрался до Сарая в немыслимо короткий для тех времён срок. Весь в пыли, шатаясь от усталости, подошёл к страже, прохрипел пересохшим горлом:
— К великому хану. Из Каракорума.
Он был принят сразу же. Вошёл в малую залу, пал ниц.
— Князь Ярослав мёртв, великий хан. Его отравила ханша Туракина по наущению боярина Федора Яруновича…
Кроме Бату, в зале находились Чогдар, Сартак и Невский. Никто не двинулся с места, только князь Александр побледнел как полотно. И перекрестился.
— Ступай, — тихо сказал Бату. — Вечером расскажешь подробно.
Кирдяш встал, низко поклонился и вышел. И наступило тягостное молчание.
— Боярин спас меня и тебя, Александр. — Бату вздохнул. — Но решать тебе.
— Решение одно, — сурово сказал Невский. — Отдаю его в твои руки.
Через два дня из Сарая по направлению к Великой Степи выехал небольшой отряд. Вёл его Кирдяш. Невский следовал за ним и угрюмо молчал, если не приходилось утешать потрясённого Андрея. Ханская гвардейская стража, которой командовал Неврюй, ехала поодаль: даже тёмник не решался нарушить скорбь осиротевших братьев Ярославичей.
— Чувствовал я, сердцем чуял, что татарва проклятая батюшку отравит, — то и дело принимался бормотать Андрей. — Калёным железом выжигать их, осиновый кол им в чёрную душу…
Князь Александр с ним не спорил. Молча обнимал за плечи, брат успокаивался на время, а потом вновь бормотал проклятья. Слаб он был да и не весьма умен при этом, а таким всегда враги требуются. Привычнее им с ними. А главное — понятнее и легче. Размышлять не надо, все ясно и, главное, проще: вот они, враги, бейте их…
Все мысли Невского были сейчас заняты убийством отца. Он вспоминал разговоры с Бату и Чогда-ром, взвешивал их, рассматривал в новом, трагическом свете, осознавая, что неокрепшими, неопытными руками Сбыслава сотворила Золотая Орда это чёрное дело, а теперь руками братьев убирает свидетеля, ставшего ненужным и весьма опасным. А Сбы-слав и знать не знал, что убивает собственного отца. Он убивал старого тщеславного князя, гордо думая, что тем спасает Русь. И действительно спас её ценою двух жизней: князя Ярослава и своей. Отца и сына, ибо за отцеубийство только одна кара — смерть.
Вскоре дозоры донесли, что скорбный караван приближается. Братья погнали коней и остановили их, запалённых, только возле кибитки с глухим дубовым гробом. Спрыгнули с коней, бросились к последней домовине, припали. Сбыслав молчал. Худой, постаревший, страшный.
— Умер в дороге, почти в сознание не приходя, — тихо сказал Сбыслав. — Вас поминал перед кончиной, братья Ярославичи, и меня. Почему-то…
— Ты… Ты!… — Андрей, оторвавшись от гроба, двинулся к нему.
— Убери его, Кирдяш, — сказал Невский.
Есаул силой увёл Андрея. Неврюй отозвал охрану, сопровождавшую тело великого князя, челядь — всех, кроме Сбыслава. Молча, прижав руку к сердцу, поклонился гробу и братьям и — отъехал.
— Отпевали?
— Нет. Гуюк задержал священников.
— Почему?
— Думаю, для того, чтобы сохранить при себе свидетелей крёстного целования. Покойный князь Ярослав целовал крест на верность Гуюку.
— Ты убил его, ты!… — истерично кричал Андрей издали: его в железных объятиях держал Кирдяш.
— Я спасал Русь. И тебя, князь Александр Яросла-вич. Как мог, — тихо сказал Сбыслав.
Он не просил прощения, не винился, ничего не пытался объяснить. Он говорил Невскому, во имя чего свершил то, что свершил. Невский понял это: разум его был омрачён только болью, да и в сердце ненависти не было.
— Ты убил отца. Отца. Нашего отца, Сбыслав, — он глубоко вздохнул, унимая боль. — Ты повинен в смерти.
— Как повелишь, князь Невский.
Сбыслав ответил очень тихо, губы его судорожно задрожали, но он унял эту дрожь и не опустил головы. Андрей вырвался из объятий Кирдяша, подбежал, закричал что-то глупое, мелкое, жалкое, даже беспомощное.
— Убей его, — резко сказал Невский.
— Что?… — опешил Андрей.
— Убей его, — сурово повторил князь Александр. — Только не вопи, как баба.
— Я?… — Андрей гулко сглотнул. — Я не могу. Он спас меня, спас, помнишь?…
— Возьми моего чалого, князь Андрей, — сказал Сбыслав, и Невский услышал горькую насмешку в его тоне. — Добрый конь, он во Владимире.
— Нет, ты сам, сам, — бормотал Андрей. — Ты — старший, ты…
— Кирдяш, уведи его, — резко сказал Невский. Есаул обнял Андрея за плечи, отвёл Александр и Сбыслав остались одни. И оба молчали.
— Я не могу убить тебя, не могу!… — вдруг со стоном выкрикнул Невский.
Закачался, закрыв лицо руками.
— Отдай палачу.
— Ты убил отца, Сбыслав, — тяжело вздохнув, сказал Александр — Собственного отца.
— Неправда, — прошептал Сбыслав, вспомнив вдруг предсмертные слова князя Ярослава. — Нет, нет, что ты!… Мой отец — воевода Ярун.
— Мы с тобой — братья. Ярославичи мы, Сбыслав. Ярославичи.
Сбыслав молчал. Неживая серость заливала лицо, он старел на глазах. Выкрикнул неожиданно:
— Кирдяш!
— Что? — недовольно спросил есаул.
Но подошёл, оставив князя Андрея одного. Сбыслав снял подаренную Неврюем саблю, протянул:
— Убьёшь меня.
— Ты мне не командир… — начал было Кирдяш, но замолчал, глянув на Невского.
— Не ведал, что творю, — горько вздохнул Сбыслав. — Прости меня, Александр.
— Понимаю, ты ведь и вправду думал, что Русь спасаешь. Сейчас каждый в одиночку Русь спасает, а надо бы — всем вместе. — Вдруг шагнул к Сбыславу, порывисто обнял. — Прости. Не оставили нам татары иного выхода, брат. Прости и прощай.
Князь Александр смотрел вслед Сбыславу, надеялся, что он оглянется, но брат скрылся за холмом, так и не оглянувшись. И Невский грузно осел на землю, стиснув голову ладонями.
Подошли Андрей и Неврюй, позволивший себе приблизиться, когда Сбыслав скрылся за холмом.
И все молчали в до звона напряжённом ожидании.
Наконец вернулся Кирдяш Протянул Неврюю саблю в дорогих ножнах.
— Он велел тебе передать.
Неврюй взял саблю, резким ударом о колено переломил её и отбросил в сторону.
ЭПИЛОГ
Осталось досказать немногое. Старшие Ярославичи сыграли свадьбы и были счастливы, но не своим счастьем жил тогда человек. Каждый пытался по собственному разумению спасти Русь, и князь Андрей по сговору с Даниилом Галицким начал активную подготовку к восстанию. Исчерпав все доводы, Невский вынужден был рассказать о заговоре Бату, предав тем самым собственного брата. Тёмник Неврюй в пух и прах разнёс заговорщиков, Андрей бежал в Швецию, но вскоре вернулся, по просьбе Невского был прощён и смирно жил в Суздале.
А Невский весь остаток своей недолгой жизни посвятил сплочению Руси и освобождению её от участи покорённой страны. И в конце концов заключил договор с братом Бату великим ханом Золотой Орды Бёрке. Договор предусматривал вассальную зависимость Руси, при которой подать с каждого её жителя (с «дыма») более не взималась. Русь облагалась общей данью, которую собирал князь, за что Золотая Орда брала на себя защиту её внешних границ. Именно за этот подвиг Православная Церковь и причислила Александра Ярославича Невского клику святых.
Есаул Кирдяш стал тёмником, хотя эту должность, по обычаю, имели право занимать одни монголы По этому возможности его были немного ограниченны: он обязан был набирать в свой корпус только русских добровольцев и служить только на восточных границах Монгольской империи.
А гибель великого князя Ярослава и его сына Сбы-слава оказалась напрасной: Гуюк не изменил своих планов и двинул-таки все свои войска на Запад, имея в виду прежде всего разгром Золотой Орды и окончательное порабощение русских княжеств. Но внезапно умер в начале похода.
О причине его смерти знал только тёмник Кирдяш. Ему рассказал хан Орду, вскоре после того погибший в битве на юге Китая.
— Он лежал на ковре в походной юрте, а рядом валялся серебряный венгерский кубок, — по секрету поведал он. — Гражина кричала мне в лицо, что жёлтый ад уже никогда не придёт в Европу. И хохотала как безумная. Я повелел зашить её в сырую верблюжью кожу и бросить в степи…