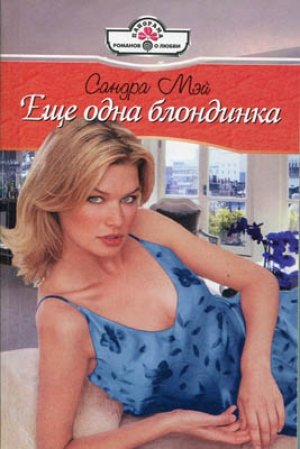
1
Утренний сон был спокоен и окрашен в мягкие пастельные тона. Как всегда. Потом во сне взошло солнце, и это значило, что в реальной жизни Джеймс отдернул тяжелые шторы и распахнул окно, выходящее в сад. Сон аккуратно взмахнул бледными крыльями и улетел вслед за ночью. Настало утро. Приблизительно... двенадцать тысяч пятьдесят третье по счету. Согласитесь, цифра внушительная и потому вселяющая уверенность. Если и не в завтрашнем, то уж в сегодняшнем дне – точно.
Человек откинул одеяло с правого края постели и спустил ноги на пушистый ковер. Встал, расправил могучие плечи, обтянутые бледно-лиловым шелком пижамы. Подошел к окну. Через несколько секунд повернулся и отправился в ванную. Примерно на шестом шаге, не снижая скорости, попал босыми ногами в тапочки.
Через пятнадцать минут он уже был умыт, гладко выбрит, причесан, одет в элегантный домашний костюм, а тапочки сменились мягкими домашними туфлями-мокасинами. Свежий аромат цитруса и морского бриза овевал человека, и черные волосы лежали ровно и гладко, лишь слегка позволяя себе завиваться на кончиках, – там густая шевелюра человека была все еще чуть влажной.
Ровно в половине девятого человек сидел за столом, покрытым хрустящей и белоснежной скатертью, перед ним стоял изящно сервированный завтрак, кофе благоухал, а в руках человека почтительно шелестели страницы, пахнущие типографской краской. Разумеется, «Таймс».
Что-то потревожило идиллический покой столовой... Нет, не вздох, скорее, эхо вздоха, и человек с недоумением выглянул из-за газеты. Соболиная бровь слегка выгнулась в немом вопросе, и синие, словно Средиземное море, глаза нашли в углу комнаты виновника беспокойства.
– Джеймс?
– Простите, милорд. Я немного задумался.
– Ничего страшного. Будьте добры, скажите Мерчисону, что в десять меня ждут на Даунинг-стрит.
– Слушаюсь, милорд.
– Благодарю вас, Джеймс.
Газета, словно набежавшее облако, скрыла от лакея невозмутимое лицо его хозяина, и Джеймс Бигелоу бесшумно выскользнул из комнаты. Пройдя по коридору примерно двадцать три с половиной шага, Джеймс позволил себе куда больше, чем эхо вздоха.
– Черт, что за несчастный парень! Интересно, если я однажды опрокину на него кофейник, он хоть как-то на это прореагирует? МЕРЧИ!!!
Последнее восклицание относилось к шоферу, который мирно дремал на крылечке. После столь энергичного призыва он пробудился и вопросительно взглянул на опечаленного приятеля и коллегу.
– Что случилось, Джимми? Почему ты орал?
– Не обращай внимания. Захотелось услышать человеческий голос, а то страшно по дому ходить. Не поверишь, Мерч, я стал плохо спать. Прислушиваться к скрипам и шорохам. Вчера кухарка уронила нож – у меня чуть сердце из ушей не выпрыгнуло.
– Нервишки, Джимми.
– Какие нервишки, Мерч? Мне двадцать четыре года, я служил в кавалерии, откуда им взяться, нервишкам-то...
– С другой стороны, Джимми, а куда им деться? Молод ты еще, вот в чем дело. Папаша твой, дай ему Бог здоровья, прослужил в замке сорок пять лет, я служу уже тридцать восьмой год... Мы привыкли.
– Стало быть, ты понимаешь, о чем я?
– Само собой!
– Тогда скажи, как ему это удается?
– Ну... я не думаю, что в этом есть что-то особенное...
– Ему тридцать три года, Мерчи! Он – молодой мужик. Красивый, богатый, спортсмен, бизнесмен, умница, закончил аж два университета...
– И что?
– Да ничего хорошего! Он ведет себя так, как будто ему СТО тридцать три, и врачи пообещали ему еще столько же при условии, что он не будет вообще ни на что реагировать.
Мерчисон ухмыльнулся.
– Да, уж у него-то нервишки не шалят. Весь в папашу. Я как сейчас помню, едем это мы со старым лордом по трассе, вдруг нас подрезает какой-то придурок, и наша колымага плавно уходит в кювет. А кювет – не кювет, а овраг, и на дне камни и всякая дребедень. Так вот, с меня семь потов сошло, даром что я бывший танкист, а этот старый пень негромко так мне и говорит: «Мерчисон, если вас не затруднит, в следующий раз предупреждайте меня заранее, что собираетесь ехать проселочной дорогой. Немного трясет». Даже в лице не переменился.
– Во-во. Только твоему лорду было тогда уже под семьдесят, а этому всего тридцать три.
– Да что ты к нему привязался? Думаешь, лучше служить у какого-нибудь бездельника, который целыми днями и ночами шляется по увеселительным заведениям и летает на Ривьеру, чтобы перекинуться в картишки?
Джим Бигелоу в отчаянии махнул рукой.
– Сам не знаю, почему меня это так злит. Так и хочется сунуть ему в брюки булавку...
Деликатное покашливание, донесшееся сзади, заставило Джима подскочить и залиться багровым румянцем, а Мерчисона – поспешно встать по стойке «смирно». Их хозяин стоял в дверях, одетый в повседневный (страшно дорогой и безмерно элегантный) деловой костюм, и безмятежно глядел немного в сторону, явно стараясь не смущать своих слуг.
– Я был бы вам крайне признателен, Джеймс, если бы вы воздержались от подкладывания булавок в мою одежду. Я сегодня ужинаю в клубе. Вернусь в десять. Мерчисон, через пять минут выезжаем.
С этими словами молодой человек величаво спустился по ступеням и ушел в сад. Джим Бигелоу перевел дух и посмотрел на Мерчисона. Тот неопределенно хмыкнул и отправился в гараж. Утро продолжалось.
Молодого человека в безупречном костюме звали Джон Малколм Ормонд, граф Лейстер. Ему действительно было тридцать три года, и от отца, старого графа Лейстера, он унаследовал громадное состояние, старинный замок на юго-востоке Англии, особняк в Лондоне и невозмутимый характер. Старый граф Лейстер покинул сей мир десять лет назад, будучи весьма пожилым человеком. Джон был поздним ребенком, матери почти не помнил, смерть отца переживал очень тяжело, однако виду не подавал. Это было бы неприлично.
Джону Ормонду природа своих даров отвесила щедро и полной мерой. Он был высок, широкоплеч, атлетически сложен и удивительно красив. Его внешность так и просилась на очередной портрет в фамильной картинной галерее, украшавшей старинный замок Ормондов. Замок Форрест-Хилл располагался неподалеку от знаменитой реки Эйвон, построен был в четырнадцатом веке и с тех пор ни разу не менял владельцев.
Ормонды были знатным семейством, в родстве с королями, и Джон Ормонд считался одним из самых завидных женихов Англии. Великосветские красавицы кусали изящные локотки и тщетно бросали на невозмутимого графа пылкие взоры: Джон Ормонд был безукоризненно вежлив и... холоден.
Скажем прямо – хотя нам и неприятно об этом говорить, – некоторые несостоявшиеся невесты графа Ормонда настолько обозлились на него, что даже запустили слух (да, да, увы!) о якобы имеющей место не вполне, так сказать, традиционной ориентации интимных предпочтений красавца-графа. Однако репутация Джона была еще более незыблемой, чем его хладнокровие, и слухи умерли в зачатке, не успев отравить умы лондонского общества. А вскоре в «Таймс» появилась заметка о том, что граф Лейстер объявляет о своей помолвке с мисс Меделин Уайт, дочерью сэра Бартоломью Уайта, графа Эпсома. Домыслы злоязыких красавиц были окончательно забыты, свет успокоился, и все пошло по-прежнему.
Джон Ормонд действительно получил два диплома – Оксфорд и Сорбонна прекрасно уравновесили друг друга, дав ему экономическое образование и степень магистра по истории Средних веков. Молодой человек говорил на нескольких языках, прекрасно ездил верхом, в юности боксировал за Оксфорд, а затем участвовал в авторалли от Сорбонны. Его бизнес, связанный с высокотехнологичными производствами, процветал в мере достаточной, но не избыточной, позволяя ему заниматься делами семьи, замком и, в некотором роде, личной жизнью, хотя в наше время мало кто склонен относить к данной области собирание и изучение средневековых фолиантов и пополнение и без того гигантской библиотеки замка Форрест-Хилл.
В последнее время молодому графу Ормонду стали настойчиво предлагать заняться политикой, и в данный момент он ехал на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с премьер-министром. Джон не любил поспешных решений и, хотя политика его совершенно не привлекала, не спешил сказать «нет». Стоило все тщательно взвесить, обдумать – и принять решение. Для того и дана человеку голова. В десять он будет у премьер-министра, в двенадцать – в офисе, а в два часа – ланч в клубе. Вечером их собирает старина Монтегю Спайк, однокурсник по Оксфорду, это утомительно, но необходимо. Часа вполне хватит. В десять он будет дома.
Как всегда. Никаких неожиданностей.
Беседа с премьером вышла на редкость увлекательной и полезной. Тепло прощаясь с главой кабинета министров, Джон уже точно знал, что политика не для него, зато во главе страны стоит человек, отлично разбирающийся в скаковых лошадях. Отказ Джона был принят с пониманием, и они расстались друзьями.
Визит в головной офис «Ормонд текнолоджи» был чистой формальностью. Все сотрудники Джона были прекрасными профессионалами, и его функции сводились лишь к выслушиванию возможных претензий и просьб личного характера. На этот раз ни того, ни другого не наблюдалось, разве что секретарша Мэгги попросила отгул в связи с помолвкой. Джон внимательно выслушал ее доводы, одновременно вполголоса бормоча что-то в телефонную трубку, – и через десять минут посыльный вручил заалевшейся и невыразимо хорошенькой Мэгги корзину белых и розовых лилий. Девушка прижала руки к груди и уже собралась пылко поблагодарить своего босса, но Джон Ормонд суховато улыбнулся и покинул офис.
Ровно в два часа Джону Ормонду подали карту вин, и он, как всегда, заказал «Шато-Лафит» пятьдесят девятого года. Потом были полтора часа полного покоя и безмятежного чтения газет, смакование кофе и непродолжительная беседа с престарелым герцогом Ланкастером, касавшаяся в основном сельскохозяйственных тем. Герцог был заядлым огородником и в Лондоне появлялся только на пару дней раз в полгода, когда палата лордов совсем уж никак не могла обойтись без его голоса.
Потом Джон сидел в библиотеке клуба в полном одиночестве, если не считать двух сладко спящих старичков-старожилов. Мягкие кресла библиотеки весьма располагали к легкому сну... Сам Джон взял из книжного шкафа старинное издание трудов Бернара Кемпийского, однако уже через четверть часа отложил книгу. Мысли лениво текли маленькими ручейками, постепенно сливаясь в общий поток...
Ормонды пришли из Франции. Переплыв Ла-Манш, сражались под английскими знаменами, получили из рук короля земли и золото, укоренились, и в тысяча триста девяносто шестом году неподалеку от Солсбери вырос белоснежный замок Форрест-Хилл. Стройные башенки, белые стены, облицованные известняком, – этот замок не походил на серые, приземистые, массивные замки Англии. Скорее, он напоминал о французских замках, в изобилии построенных на берегах Луары, таких же белых и легких, словно устремленных в небо...
Арман Бассенкур, первый из рода, взял, а вернее, украл в жены красавицу Гленис, а потом король произвел Армана в рыцари и пэры, и на свет появился лорд Арманд. Уже его сыновья, воспитанные на английский лад, стали Ормондами, ну а в пятнадцатом веке владельцы Форрест-Хилла стали графами, и маленькая золотая корона увенчала фамильный стяг – английский лев бережно сжимает в когтистой лапе хрупкую лилию.
Ормонды всегда были близки ко двору, однако, как ни странно, лишних почестей не жаждали. Из славного семейства вышли отличные полководцы и солдаты, а вот государственных деятелей не было. Странно – ведь в те времена большинство знати посвящало жизнь именно этому. Видимо, что-то в крови, лениво думал Джон, глядя на золотые язычки огня, скачущие по смолистым поленьям. Все Ормонды превыше всего ценили собственную семью. Известен случай, когда Ричард Ормонд отказался стать правой рукой короля Карла Второго, так как его жена должна была родить первенца. Капризный король разгневался и отослал строптивца в ссылку, в замок. Ричард Ормонд потом вспоминал, что это были лучшие несколько лет его жизни, хотя было ему тогда всего тридцать три...
Ормонды не изменили себе на протяжении веков. Прадед Джона, отличившись при королеве Виктории, просил о высшей милости – позволить ему не являться на заседания палаты лордов, потому что его супруга не переносит лондонского смога. Дед восемнадцать раз отказывался от поста в кабинете министров. И, наконец, отец...
Джон тяжело вздохнул при мысли об отце. Уже десять лет, как Артур Ормонд упокоился в мире на фамильном кладбище в Форрест-Хилле, а тоска по нему все не отпускает Джона.
Отец был его единственным настоящим другом, товарищем, хотя у них была громадная разница в возрасте. Джон родился, когда Артуру Ормонду было уже пятьдесят три года, а его супруге Джиллиан сорок пять. Несмотря на серьезные опасения врачей – еще бы, такие поздние роды! – мама не отказалась от единственной возможности родить ребенка после двадцати лет отчаяния и постоянных походов к врачам. Через год после рождения Джона ее не стало. Возможно, скептики не поверили бы ему, но Джон до сих пор помнил легкий запах лаванды и прикосновение удивительно мягких рук. Портрет леди Джиллиан, висящий в библиотеке Форрест-Хилла рядом с портретом отца, был для Джона чем-то вроде иконы. Хрупкая, очень красивая женщина с грустными и добрыми глазами...
Отец не женился во второй раз, не стал прибегать к услугам нянь. Кормилица из деревни, как предписывают классические романы, тоже не понадобилась, так как Джону был уже год. Его няней, матерью и служанкой стал отец. Кадровый военный, моряк, красавец-офицер Артур Ормонд, граф Лейстер. В пятьдесят четыре года он ушел в отставку и посвятил себя сыну. Джон никогда не грустил и не тосковал, как это случается с детьми, оставшимися без матери. Он с самого младенчества усвоил одну непреложную истину: вокруг него незримой и мощной стеной стоит Семья. Его семья. И что бы ни случилось в мире вне этой стены, внутри всегда будет безопасно и спокойно.
Отец был главным в системе мироздания маленького Джона, однако в Семью входили и другие. У отца был младший брат, «непутевый Гарри», а еще – тетушка Гортензия. Дядя, Гарольд Ормонд, был младше папы на два года, тетя – на девять лет. Гарри давно уехал из Англии, о нем разговор особый, ну а тетя...
Гортензия Ормонд славилась своей красотой до войны, беспримерной отвагой во время войны... и отвратительным характером после войны и по сию пору. Джон, впрочем, прекрасно знал, что последнее утверждение не слишком верно. Ведь тетя Гортензия жила в Форрест-Хилле вместе с ним.
Несмотря на свою красоту, юная Гортензия так и не вышла замуж. Злые языки утверждали, что жених бросил ее у алтаря, но сама тетя недвусмысленно прояснила эту ситуацию специально для юного Джона.
– Я его выгнала! Да, выгнала, потому что нельзя же связывать свою жизнь с человеком, который утверждает, что Ассигнация может выиграть у Реформы. Кто это? Стыдись, юный Джон! Впрочем, это было очень давно, можешь и не помнить. Ассигнация – это паршивая кобыла из паршивой конюшни самого паршивого заводчика в Аскоте. Согласна, у нее хорошие сухожилия, но на длинных дистанциях она сбоила. А Реформа – о, что за кобылка! Маленькая, бабки белые, а сама вся рыжая, словно огонек. Она легко обходила фаворитов в первый год своего участия в скачках, и я сразу поняла, что на нее можно ставить в ближайшие пять лет...
Юный Джон робко кашлянул и осторожно поинтересовался:
– Прости, тетя, а... твой жених, он...
– Он оказался форменным ослом! Сказал мне со снисходительной улыбкой, что после свадьбы подарит мне Реформу вместо пони. Ну я и... Ужасный вышел скандал, но ведь жизнь показала, что я приняла правильное решение!
– Твой жених оказался плохим человеком?
– Да я понятия не имею, кем он оказался! Нет, я про то, что Реформа взяла все призы, а потом еще три года побеждала на всех крупных скачках. В войну она погибла, бедняжка. Бомба попала прямиком в конюшню.
Со временем Джон заподозрил, что не только кобыла Реформа стала причиной разрыва тетки со своим женихом. Однако Гортензия всегда помнила, что девиз Ормондов – сдержанность, и больше они на эту тему не разговаривали. Собственно, скачки – вот единственное, что могло вызвать у Гортензии сильнейшее воодушевление. Во всех остальных случаях она была хладнокровна, сдержанна и в высшей степени невозмутима. Настоящая леди с головы до ног, что не помешало ей записаться в рядовые санитарки во время войны, а ко времени высадки в Нормандии уйти на фронт.
Теперь о боевом прошлом Гортензии напоминала лишь ее страсть к охоте, причем не на лис, как это водится у аристократии, а на уток. Тетя еще до недавнего времени била уток влет, причем не прекращала охоту до первого промаха. Судите сами – если в такие дни на кухню Форрест-Хилла поступало тридцать, а то и сорок тушек, хорошо ли ее научили стрелять?
Последние года три Гортензия оставила охоту – зрение сдавало, а проигрывать она не любила. Деятельная натура, бурлившая под прикрытием облика невозмутимой светской дамы, требовала выхода, и Гортензия занялась своими подружками. В рекордно короткие сроки она переругалась со всеми, кто еще помнил ее первый бал, потом перешла на более молодых приятельниц и к настоящему моменту тосковала практически в полном одиночестве, ибо единственным, кто сносил ее острый язычок с христианским смирением, был преподобный Аластер Хикс, викарий их прихода. Жена викария боялась тетки Гортензии как огня и все время сказывалась больной, чтобы не приходить по воскресеньям на чай.
Тетя была невысокого роста, очень подвижная седая старушка с ярко-синими, как у всех Ормондов, глазами. Узнав о помолвке племянника, она воспрянула духом, ибо с ранней юности терпеть не могла семейство Уайтов и с наслаждением предвкушала появление юной Меделин в качестве невестки. Уж она отведет душу... Впрочем, зная Меделин...
Джон вздохнул. Ему ведь тоже предстоит привыкать к своей будущей жене. Менять привычки. Уступать. Возможно, от чего-то отказаться...
Железный порядок – это от отца, военного моряка. Хладнокровие, сдержанность, безупречные манеры... А вот замкнутость, тяга к одиночеству, нелюбовь к шумным сборищам – это его, Джона, личное. Потому что одним из самых больших страхов широкоплечего красавца-графа был страх оказаться в дурацком положении. Джон Ормонд, синеглазый идол девушек и дам высшего света Лондона, понятия не имел, что делать, когда над тобой смеются. Ему казалось, что это – катастрофа. Конец света.
И еще: его страшно раздражало малейшее нарушение порядка. Джон понятия не имел, откуда берется это раздражение, но он физически не мог сидеть за столом, если одна из салфеток случайно загибалась не в ту сторону. Не мог читать, если замечал, что книги на полке стоят не в том порядке. Не переносил, когда кто-нибудь случайно ронял на себя (и не замечал этого) пепел от сигары или сигареты... Ведь в подобном случае неприлично делать замечание, а не делать невозможно.
Джон слегка поморщился, потому что вспомнил о вечерней встрече с однокурсниками. Вот и еще одно событие, которому лучше было бы не случаться. Конечно, традиции надо соблюдать, но...
У кресла неслышно материализовался из воздуха метрдотель. На серебряном подносе лежал узкий конверт с телеграммой.
– Прошу прощения, мистер Ормонд. Вам телеграмма. Срочная.
– Благодарю вас.
– С вашего разрешения...
Метрдотель растаял в полутьме библиотеки, а Джон с непонятным трепетом вскрыл конверт.
«Приезжай немедленно срочно скорее не в силах перенести это одна жду Гортензия».
Первой мыслью было облегчение – с самой теткой все в порядке. Второй мыслью стала почти неприличная радость – вот и повод не ходить на сегодняшний мальчишник. Наконец, третье – неясная тревога: что же случилось?
Джон Ормонд, граф Лейстер, торопливо, но величаво спустился по широкой мраморной лестнице своего клуба, кивком поблагодарил швейцара, услужливо распахнувшего перед ним дверь, уселся на заднее сиденье своего «бентли» и коротко приказал Мерчисону:
– Домой. А потом домой.
– Простите, сэр?
– Я имею в виду в Форрест-Хилл.
– Сегодня, сэр? Но мы доберемся только ночью...
– Вы что, темноты боитесь, Мерчисон?!
Джон повысил голос, что случалось с ним приблизительно раз в пять лет, и Мерчисон испуганно вцепился в руль.
– Простите, сэр. Слушаюсь, сэр. Сколько у меня будет времени до отъезда? Я хотел бы заправиться...
– Полчаса.
– Хорошо, сэр. Спасибо, сэр.
Уже у самого дома, выходя из машины, Джон слегка замешкался и негромко бросил:
– Я был несдержан. Извините, Мерчисон.
Ошеломленный бывший танкист только кивнул на прощание, провожая взглядом широкую спину своего хозяина.
Джон открыл дверь собственным ключом. Хорошо смазанные петли не скрипнули, и молодой человек шагнул по направлению к холлу...
Дикий вопль потряс воздух. Джон в недоумении уставился на сидящего на полу Джима. Вокруг живописной кучей валялись свежевыглаженные рубашки графа.
– В чем дело, Джеймс?
– Господи... Как вы меня напугали, милорд!
Соболиная бровь вздернулась на полсантиметра, как давеча утром.
– Интересно. Что ж, в мое отсутствие можете заняться своими нервами.
– Вы уезжаете, милорд?
– Через полчаса... нет, уже через двадцать шесть минут. Собирать ничего не надо, я возьму с собой только бумаги. Да, и отдайте завтра эти рубашки в стирку.
С этими словами Джон Ормонд удалился к себе в комнату, а Джим Бигелоу понуро принялся сгребать разбросанные рубашки в кучу. Вот удивятся в прачечной...
Появление Мерчисона заставило парня подпрыгнуть на месте и снова уронить безвозвратно загубленные рубашки. Старый шофер с недоумением посмотрел на младшего товарища.
– Что это ты скачешь, Джимми?
– Черт, Мерчи, не делай так больше. Я же говорил – меня теперь от резких звуков трясет.
– Ты с нами?
– Не. Он не берет. И слава тебе господи, хоть передохну от тишины. Клянусь, как только вы уедете – поставлю приемник на всю громкость и велю кухарке петь во все горло народные песни. Папе привет.
– Передам.
– Когда вас ждать?
– А я знаю? Я даже не знаю, чего это он на ночь глядя сорвался.
– Знаешь, Мерчи, наверное, что-то в замке случилось. Сюда звонила леди Гортензия. У нее такой голос был... трагический.
– А сама старушка...
– Не, с ней все в ажуре. А уж про остальное она мне, сам понимаешь, не сказала.
– Намек понял. Узнаю, в чем дело, позвоню.
– Ладно. До скорого, Мерчи.
– Будь здоров, Джимми.
Через двадцать две минуты Джим проводил взглядом сверкающий автомобиль, уносящий его хозяина из Лондона.
Джон Ормонд откинулся на мягкие кожаные подушки и раскрыл папку с бумагами. Волноваться он будет позже, когда узнает, что, собственно, произошло, а пока можно поработать.
Он смотрел в бумаги и не понимал ни слова. Мысли бродили далеко от вопросов бизнеса, то и дело возвращаясь к его семье. Зачем его вызвала тетушка? Что мог означать этот панический текст телеграммы? Ох, если она опять...
В прошлый раз подобная история случилась давно, лет семь или восемь назад. Джон тогда уехал по делам во Францию. Телеграмма Гортензии настигла его в Лионе, и молодой человек на всю жизнь запомнил чувство паники, которое охватило его при прочтении следующего текста:
«Не уверена доживу ли до завтра чего ждать от идиотов».
Несясь на машине сквозь ночную мглу, молодой Джон Ормонд перебирал в уме все возможные трагические ситуации. Слишком свежа еще была в памяти смерть отца, смерть вполне достойная, без боли и страданий, давно ожидаемая – и все равно внезапная. Теперь Джон ехал в аэропорт и страшно боялся за тетушку Гортензию. До холодного пота. До синевы под глазами. До колотья в сердце...
Самолеты, слава богу, летали, а в ночное время пробок на дорогах не было. За рекордно короткий срок Джон Ормонд преодолел расстояние, на которое его предки в пятнадцатом веке тратили несколько недель, и ворвался в родное гнездо. Дело в том, что последней его относительно связной мыслью по дороге было: тетя лежит без чувств, готовясь отдать Богу душу, но хочет попрощаться с любимым племянником. Позвольте, но почему же тогда телеграмма написана от первого лица? И кто такие «идиоты»?
Ответ на вопросы спустился по широкой дубовой лестнице. Тетя Гортензия была элегантна, свежа, румяна и в прекрасном, хвала Господу, здравии.
– Джонни, мой милый, как ты здесь оказался?
После этого вопроса Джон Ормонд опустился на дубовый табурет, предназначенный для того, чтобы ставить на него ногу и зашнуровывать или чистить обувь. Секундой позже он протянул тетке смятую телеграмму. Гортензия бросила на нее короткий взгляд и музыкально рассмеялась.
– Боже, и ты примчался? Мой ангел, дай я тебя поцелую. Джонни, это всего лишь фигура речи.
– Фигура... речи?!
– Ну да. Понимаешь, лорд Давенсфилд и его курица потащили меня на скачки в Эпсом. Я не зря не хотела ехать, у меня с утра было отвратительное настроение...
– Фигура речи...
– И вот мы приезжаем, а они говорят – ставим на Шайтана. Я им – какой Шайтан, он уже ноги до коленок стер, ему же лет десять, но они уперлись и убедили меня, что их знакомый букмекер сказал, что дело верное. Я в жизни не слушалась букмекеров, Джонни, но тут бес попутал! И конечно! Их дохлый Шайтан пришел первым от конца. Плакали мои денежки!
– Много?
– Что? А, нет. Десять фунтов. Тут дело в другом...
Джон прикрыл глаза. Липкий ужас последних нескольких часов отпускал, но руки еще подрагивали. До Гортензии тоже дошло, что с племянником что-то не то. Она с тревогой и смятением посмотрела ему в лицо.
– Боже, прости глупую старую клячу, малыш! Я не подумала... Ты решил, что мне и в самом деле плохо, да? Джон, я выжившая из ума старая кошелка! Мне нет прощения!
Джон открыл глаза и улыбнулся побледневшими губами.
– Наоборот, тетечка. Это прекрасно.
– Что именно?
– Вы живы и здоровы. Ничего не случилось. Думаете, мне было бы легче, если бы в этой телеграмме и впрямь сообщалось, что вы не доживете до утра?
Тогда все закончилось хорошо. Вот интересно, что на этот раз выкинула его эксцентричная – насколько могут быть эксцентричными Ормонды – тетушка?
Машина подвезла Джона к самому крыльцу, и через минуту он уже был в просторном светлом холле, устланном коврами. Гортензия стояла на самом верху лестницы, кутаясь в свою любимую шаль. Сердце Джона оборвалось. На этот раз все было серьезно. Гортензия Ормонд выглядела настоящей старухой.
– Тетя... что случилось, дорогая? Вы...
– Со мной все хорошо, малыш. Спасибо, что приехал. Дело в том... дело в том, что Гарри умер.
2
Через полчаса Джон сидел в библиотеке, служившей ему еще и кабинетом, и в третий раз перечитывал письмо от мсье Жювийона, поверенного в делах мистера Гарольда Ормонда, умершего три дня назад в Париже, в возрасте восьмидесяти четырех лет.
Письмо было довольно кратким и сугубо деловым. Неведомый мсье Жювийон сообщал о кончине дядюшки Гарри и о том, что одним из наследников и душеприказчиком покойного становится Джон Малколм Ормонд, граф Лейстер, племянник усопшего. Означенному графу Лейстеру надлежит срочно приехать в Париж и ознакомиться с завещанием, чтобы оно поскорее вступило в силу. «Дело не терпит отлагательств», поэтому мсье Жювийон будет счастлив встретиться с молодым графом в любое время суток сразу по прибытии последнего в Париж.
Гортензия сидела у камина и задумчиво гладила Снорри Стурлуссона, здоровенного и доброго, как теленок, ирландского волкодава. Громадный пес лежал у ее ног, но его голова без усилий доставала до колен тети Гортензии, а из-под серых лохматых бровей на хозяйку с тревогой и сочувствием смотрели шоколадные глаза. Джон со вздохом отложил письмо.
– Тетя Гортензия... Мне только одно кажется странным – почему этот поверенный так настаивает на срочности? Нет, я в любом бы случае поехал в Париж немедленно, и никаких проблем в этом нет... Может, он думает, что я так сильно мечтаю о наследстве, что мне захочется приехать как можно скорее?
Тетка усмехнулась и вдруг шмыгнула носом. Это вышло так по-детски, что Джону стало нестерпимо жаль ее, старую, маленькую, одинокую... Нет, он никогда ее не покинет, но ведь умерли ее родные братья, те, с кем она выросла в этом самом замке. Джон знал, как Гортензия переживает, читая в газетах некрологи, то и дело оплакивая бывших приятелей и даже недругов. Он ее понимал. Эпоха уходила в прошлое...
Гортензия испустила душераздирающий вздох – и заговорила совершенно нормальным голосом. Даже чуть саркастически, как показалось Джону.
– Вообще-то я не винила бы его, думай он подобным образом. На наследство Гарри клюнул бы и индийский аскет.
– Тетя, мне неловко напоминать, но я миллионер, да и ты тоже...
– Гарри был миллиардером.
– Ну и... Что?!
– Миллиардером. Год назад у него было два с половиной миллиарда долларов. Разумеется, в фунтах, да еще с налогами, это уже не та сумма, но сам понимаешь...
– Погоди. Я что-то не припомню, каким бизнесом он занимался?
– Любым, о котором не пишут в газетах.
– Не понимаю.
Гортензия потрепала Снорри по лохматой голове и посмотрела племяннику в глаза.
– Друг мой, боюсь, что настала пора сообщить тебе о некоторых темных страницах нашей семейной саги.
– Не пугай меня, тетя. Дядя Гарри торговал наркотиками?
– Что ты, что ты! Эх, говорила я тогда Арчи, надо было с самого начала тебе рассказать... Неси бренди. Ночь будет долгой.
Согласно некоторым неписаным законам мироздания, в каждом сообществе должна быть хоть одна Паршивая Овца. Та самая, на которую можно свалить все плохое, что происходит в жизни данного сообщества. Паршивая Овца необходима, как ветрянка ребенку. Именно в борьбе с Паршивой Овцой сообщество крепнет и сплачивается. Именно Паршивая Овца показывает, как, в сущности, хорош этот мир и люди, его населяющие. Паршивую Овцу можно ставить в пример – разумеется, не подражательный, а назидательный. Паршивой Овцой и ее незавидной судьбой и карьерой можно пугать детей. Неуверенный и закомплексованный человек рядом с Паршивой Овцой чувствует себя сильным и прекрасным. Одним словом, Паршивая Овца – незаменимый член сообщества. Уберите ее – и через некоторое время сообщество рухнет.
Гарольд Декстер Ормонд, младший брат Артура Ормонда и средний ребенок в семье, был классической Паршивой Овцой. Родившийся в начале века, он жадно впитывал в себя все то, что принято называть пороками, хотя на самом деле к порокам это не имело никакого отношения.
Артур был серьезен и целеустремлен – Гарри весел и беззаботен. Артур прилежно учился – Гарри предпочитал гонять с деревенскими мальчишками по окрестным лесам и полям. Артура отдали в военное училище – Гарри, пришедшего вслед за ним, выгнали через полгода, после того как большинство педагогов поставили начальству ультиматум: или этот мальчишка уйдет, или они все пойдут в действующую армию. На любую войну. В любую точку мира.
В колледже, а потом в университете Гарри вызывал теплые чувства только у преподавателей словесности, ибо только словесность и была его сильной стороной. В самом широком смысле слова. Когда одноклассники бывали не слишком хорошо готовы к уроку – по кругу шла шапка, и Гарри Ормонд в течение всего урока разливался соловьем, на ходу сочиняя цитаты из классики и пугая учителей истинно драматическими взрывами и паузами во время выступления. На экзамене он с ходу сочинил еще один сонет Шекспира, и учитель литературы прослезился, сказав: «Как жаль, что этого талантливого юношу, несомненно, ждет тюрьма. Если не виселица...».
Лондон Гарри лет до тридцати наблюдал исключительно в вечернее время. Днем он спал, а часов в шесть вставал, приводил себя в порядок и бросался в омут удовольствий и приключений. Знатоки обещали молодому человеку раннюю смерть от цирроза печени, однако Гарри был свеж, словно роза, не знал вкуса утреннего кофе, а любителей чая с молоком искренне жалел. Все букмекеры Англии знали Гарри в лицо, вышибалы в пабах соревновались в количестве выдворений Гарри из этих заведений, барменши в возрасте до тридцати считали его своим братом, а после тридцати – сыном. Одним словом, Гарольд Ормонд был великолепной, классической, почти идеальной Паршивой Овцой.
При всем этом он был добр, отзывчив, терпим к чужим слабостям и недостаткам и совершенно не жаден. Младшие сыновья английских семейств не могут рассчитывать на титул, если у их старших братьев есть наследники. Но именно Гарри уговорил почти отчаявшуюся и уверовавшую в свое бесплодие Джиллиан Ормонд отправиться на лечение во Францию, именно он теребил старшего брата, заставляя его возить жену на самые различные курорты. И именно Гарри тридцать три года назад стал крестным отцом маленького Джона и плакал от счастья во время службы. Никто из Ормондов никогда не позволил бы себе столь открыто проявлять свои чувства, а некоторые и вовсе не понимали, чего это он радуется, – титул-то уплыл. Но Гарри не обращал внимания. Точнее, он просто не допускал возможности, что кто-то может так думать. Гарри любил мир и людей, его населяющих, философски относясь к плохому и от души радуясь хорошему.
Тридцать три года назад он уже бывал в Англии только наездами. Потом тоже появлялся редко, чаще писал короткие смешные открытки. В детстве Джон любил дядю Гарри, хотя практически не виделся с ним.
Отец тоже, несомненно, любил своего младшего брата, а Гортензия – еще и жалела, но оба они хмурились при упоминании этого имени и явно что-то скрывали. Со временем, когда Джон уже вырос, он решил для себя, что дядя Гарри, вероятно, совершил что-то недостойное и благородно удалился подальше от семьи, чтобы не компрометировать свою безупречную родню.
На самом деле все обстояло не совсем так. Или совсем не так – кому что нравится.
Среди обширного и весьма разнородного в социальном смысле круга знакомых и приятелей Гарри Ормонда были молодые актрисы. Явление вполне обычное и не слишком шокирующее. Герцог Алистер Бедфорд, например, даже женился на балерине. Правда, театр она сразу бросила, но факт есть факт... Во всяком случае, в тридцать три года – роковой «брачный» возраст Ормондов – Гарри влюбился. В певичку из мюзик-холла.
Семья пришла к выводу, что это немножечко чересчур, и Гарри было поставлено жесткое условие: прекратить позорить фамилию и немедленно расстаться с девушкой. Гарри вспылил – и уехал из страны. Он вернулся на историческую родину Ормондов, во Францию, снял небольшую квартирку на Монмартре и исчез из поля видимости на несколько лет. А для Джона – практически навсегда.
Молодой граф Лейстер слушал свою тетку, подавшись вперед и даже, кажется, немного приоткрыв от изумления рот. Истинная история жизни Гарольда Ормонда весьма смахивала на авантюрный роман...
Гарри воевал в Сопротивлении, был связным и исполнителем акций устрашения против немцев. Потом, годы спустя, воевал в Алжире. Иностранный легион наградил его тремя орденами и пятью медалями, а всем известно, что там награды не даются просто за выслугу лет.
В середине шестидесятых Гарри уехал в Африку. Чем он там занимался, сказать трудно, но, по выражению тети Гортензии, «уж не учителем в воскресной школе работал, это точно». Алмазы издавна считались лучшим способом разбогатеть – в маленьком кошельке могло уместиться многомиллионное состояние. Гарри Ормонд, по всей видимости, не ограничился маленьким кошельком.
Последние двадцать лет он безвыездно жил во Франции, приезжал только на похороны старшего брата. Джон запомнил красивого, очень загорелого и мужественного старика с широкими плечами и идеально прямой спиной. Синие глаза дяди Гарри были полны слез, и он плакал, не стесняясь своего горя, как когда-то не стеснялся своей радости.
Он провел в замке всего несколько дней, за это время они с Джоном пару раз поговорили, только вот Джон никак не мог вспомнить – о чем. Слишком сильна была тогда боль утраты, и молодой человек в те дни действовал и разговаривал скорее автоматически. Возможно, дядя Гарри принял его сдержанность за нежелание поддерживать отношения с непутевым членом семьи. Во всяком случае, с тех пор они больше никогда не виделись.
И вот теперь Джон Ормонд стал душеприказчиком и одним из наследников громадного состояния Паршивой Овцы, Гарольда Декстера Ормонда. Завтра он отправится в Париж.
Спал Джон, несмотря ни на что, хорошо. Как всегда. Завтрак ему подали в половине девятого, вещи он уложил заранее, так что в десять тетя Гортензия уже махала ему платком с высокого крыльца, а толстый и величавый дворецкий Бигелоу, отец молодого и излишне нервного Джеймса, оставленного в Лондоне, лично уложил небольшой чемодан в багажник. Неутомимый Мерчисон довез графа Лейстерского до Дувра всего за два с небольшим часа. И в два часа пополудни Джон Ормонд взошел на борт парома через Па-де-Кале – патриархального и уютного парома, который связывал две страны-сестры уже не одно столетие.
Разумеется, можно было бы воспользоваться самолетом. В принципе, Джон давно мог позволить себе даже частный самолет, однако сегодня утром он понял, что ему очень хочется отправиться во Францию именно на пароме. Тихий плеск волн, вопли чаек, запах моря, шезлонги и клетчатые пледы на палубе, пожилые леди и джентльмены, детишки, шныряющие под ногами... И возможность еще раз хорошенько все обдумать. Привести в порядок мысли, взбаламученные рассказом тети Гортензии и собственными воспоминаниями.
Джон стоял, облокотившись на поручни, и провожал бездумным взглядом белый пенный бурун, убегающий от борта. Он вспоминал отца, дядю Гарри, вспоминал свое детство... И вдруг впервые в жизни отчетливо пожалел, что у него нет брата или сестры. Старших, младших – неважно. Просто брата или просто сестры. Способных понять его. Выслушать его. Посоветовать, как поступить.
У него не было друзей ближе отца. То есть вообще не было близких друзей, а также подруг.
С женщинами он всегда вел себя по-джентльменски, хотя в юности пара романов у него случилась. Скажем так, он приобрел определенный опыт в определенных отношениях. Сам Джон никогда бы не употребил слово «любовница». Хотя при чем здесь женщины...
Меделин. Мисс Уайт, его официальная невеста. Гортензия ее терпеть не может.
Черноволосая красавица с бледным породистым лицом. Сама Утонченность. Такт, сдержанность, безукоризненность. То, что ему надо.
А что ему вообще надо? Хочется ли ему жениться? Да, тридцать три года – это роковая цифра, Ормонды с давних пор женятся в этом возрасте. Не все, разумеется, но наиболее яркие представители рода... А кто сказал, что Джон – наиболее яркий?
Джон прищурился и посмотрел на высокую симпатичную девушку в джинсовой куртке. Девушка вспыхнула и кокетливо улыбнулась синеглазому красавцу, но Джон, честно говоря, ее даже не видел. Он напряженно и почти с отчаянием пытался вспомнить черты лица Меделин...
Отец женился на маме, когда ей было двадцать пять. Влюбился с первого взгляда и любил до самой смерти. Меделин тоже двадцать пять. Джон влюбился в нее... да нет, нельзя сказать, чтобы чувство вспыхнуло и прямо-таки опалило его сердце. Уайты были соседями Ормондов, Меделин он знал с детства, причем в детстве (ее, разумеется, Джон тогда уже учился в Оксфорде) она была довольно страшненькой. Носила железки на зубах и косила, кажется.
Во время учебы в Сорбонне Джон жил во Франции. Кстати, интересно, почему они тогда не виделись с дядей Гарри? Не иначе, старый авантюрист искал в то время свои алмазы. Или уже нашел? Так вот, Меделин. Он вернулся домой и нашел ее изменившейся к лучшему, то есть без железок и косоглазия. А лет пять назад Уайты начали намекать на возможность брачного союза между их семействами. Отец к тому времени уже умер, тетя Гортензия только фыркала в ответ на все упоминания о Меделин Уайт, а сам Джон...
Он принял это как должное. Как неизбежный факт биографии. Все люди женятся рано или поздно. Почему бы ему не жениться на Меделин? Джон печально усмехнулся. Собственно, его мнения никто особенно и не спрашивал. Они с Меделин вообще не говорили о чувствах. Просто с какого-то момента она стала появляться в свете вместе с ним, советоваться с ним по разным вопросам, а еще чуть погодя появилось объявление о помолвке. Честно говоря, с тех пор прошло уже почти четыре года... Наверное, надо ускорить события? Но уверен ли он, что хочет жениться на Меделин?
Гудок парома возвестил о пересечении границы Франции. Джон вышел из своего транса, недоумевающе взглянул на девушку в джинсовой куртке, слегка поклонился ей и отправился бродить по парому. Возможно, кто-нибудь другой взвыл бы от тоски, находясь на этом самом пароме, но Джон Ормонд никогда не тосковал. Его размеренная и распланированная жизнь просто исключала такую возможность. Если нет другого занятия, кроме прогулки вдоль борта, – значит, будем гулять. Это в любом случае полезно – ведь здесь такой воздух!
Еще через час этот самый воздух наполнился ароматами, которые менее воспитанный человек назвал бы вонью – и был бы совершенно прав. Впереди раскинулся славный портовый город Кале, встречая пассажиров патриархального парома запахами мазута, тухлой рыбы, дыма, карболки и еще бог знает чего. Пассажиры оживились, начали собираться, хотя до прибытия оставалось еще минут сорок, не меньше.
Из Кале, пройдя паспортный контроль и карантинную службу, Джон отправился в Париж поездом. В купе, слава богу, он ехал в полном одиночестве, смотрел в окно и в который раз пытался понять: откуда берется такая разница в погоде Франции и Англии? В Дувре шел мелкий дождь, больше подходящий поздней осени, здесь же, в Кале, Аррасе, Амьене и Форш-лез-О, проносящихся за окном скоростного поезда, царила самая настоящая весна. Вишни осыпались душистым белым снегом лепестков, изумрудная трава не оставила ни одного островка черной земли, небо наливалось густой бирюзой, а солнце было воистину золотым. Странно, очень странно. И в то же время объясняет, почему дядя Гарри предпочел жить во Франции. С его характером в тумане долго не просидишь.
Сам Джон, по меланхолическому складу характера, к туману относился хорошо. Больше всего он любил позднюю осень в Форрест-Хилл, когда листья почти облетели с деревьев, и только могучие тисы стоят в своей густой темно-зеленой мантии. Холмы становятся песочно-серыми и какими-то призрачными. Небо приобретает жемчужный оттенок, низкие тучи иногда проливаются дождем, и воздух влажен и чист. Пахнет дымом – это жгут палую листву в садах. Тетя Гортензия каждый день ставит в вазы лохматые хризантемы и величественные георгины. Последние розы особенно терпки и ароматны, но однажды утром встаешь – а лепестки почернели по краям! Это значит – идет зима. В такое время все стремятся уехать в Лондон, где жизнь, приемы, театры, гости, праздники, суматоха – и туман. Настоящий, лондонский, когда в двух шагах не видно совсем ничего, и даже старожилы путаются по дороге домой с работы, хотя, казалось бы, это и невозможно. Туман...
Джон задремал.
Он проснулся ровно за пять минут до прибытия на парижский Центральный вокзал. Как всегда. Эта привычка выработалась у Джона с годами и была крайне полезна во время деловых поездок. Он мог приказать себе заснуть и проснуться в любое время, а потому ему удавалось отдохнуть даже в не самых комфортабельных условиях. Впрочем, к скоростному поезду это не относилось.
Париж уже окутала вечерняя фиолетовая дымка. Горели огни витрин, иллюминация на Елисейских Полях, зажглась стрела Эйфелевой башни, и толпы гуляющих парижан и туристов заполнили площади и бульвары. Древний и вечно юный город не любил тратить время на сон.
Джон доехал до гостиницы, из номера позвонил мсье Жювийону, однако на месте того не оказалось. Попросив передать, что звонил мсье Ормонд, Джон повесил трубку, потом разделся, сложил в отдельный пакет использованную рубашку, убрал пакет – строго в правый верхний угол чемодана! – и отправился в душ. Затем переоделся, внимательно изучил свою слегка осунувшуюся физиономию в зеркале, недовольно хмыкнул и решил пройтись по городу.
Ночь окончательно вступила в свои права, и неоновый свет заливал улицы, делая лица всех женщин странно прекрасными и слегка порочными, а лица мужчин – немного опасными и взволнованными. Влюбленные целовались на всех перекрестках и на всех скамейках, из открытых дверей и окон ресторанов разносились самые разные и соблазнительные ароматы, современный асфальт под ногами неожиданно сменялся брусчаткой, помнящей тяжелые башмаки революционеров Парижской Коммуны... Джон Ормонд шел по Парижу и наслаждался своим одиночеством.
В маленьком ресторане на Монмартре он замечательно поужинал, выпил красного вина, а потом еще некоторое время сидел, вспоминая годы учебы в Сорбонне и те, давнишние прогулки по ночному Монмартру. Где-то здесь, в Париже жила его первая женщина... Амели. Ее звали Амели, и она была черноглазой, кудрявой, яркой и веселой, точно птичка. Она была старше Джона на два года, а в том, что касалось плотской любви, – на целую жизнь. Он был горд и немного испуган тем, что она выбрала его, потому что никогда не осознавал себя тем, кем был на самом деле, – красивым мужчиной. Тогда – красивым мальчиком.
Амели привела его к себе домой, и подружка, делившая с ней квартиру на пятом этаже старого дома, с веселым смехом собрала вещи и ушла. Джон был смущен, но Амели только рассмеялась и махнула рукой: мол, все в порядке.
Потом был ужас и жар, неумелое волнение и невыносимая волна нежности, щенячья гордость от свершившегося и ощущение, что в этот миг он может одной рукой перевернуть весь мир. Немного мешало то, что Амели все время смеялась. Тихо, словно крошечный колокольчик звенел в темной комнате. Это мешало Джону тогда, это оказалось неприятным воспоминанием и сейчас. Он так и не смог понять, смеялась она от счастья или же над его неопытностью?
Бурный роман с веселой медичкой Амели закончился через неделю. За это время Джон только-только успел приобрести некоторую уверенность в себе и начал получать удовольствие от процесса, но в конце безумной недели в студенческой столовой услышал случайно разговор двух однокурсниц своей первой женщины. Вряд ли они были ее подружками, потому что в звонких голосах сквозила явная неприязнь. Джон всегда умел владеть собой, поэтому дослушал все до конца, не показав вида, что слушает.
Выяснилось, что Амели заключила пари на то, что просто возьмет «английского девственника» за одно очень деликатное место и уложит в постель в течение первого же дня знакомства. Самое отвратительное заключалось в том, что пари она заключила со своим собственным дружком, который жил с ней уже полгода, – для ветреной медички такой срок приравнивался едва ли не к десяти годам законного брака. Амели выиграла пари, и теперь Клод – так звали ее дружка – должен был везти ее в Ниццу.
Вечером того же дня Амели сообщила ему, что уезжает на некоторое время в деревню на практику. Джон невозмутимо поинтересовался, как называется деревня, – не Ницца случайно? На секунду она опешила, и эта секунда растянулась в сознании юноши на целую вечность. Он мечтал, чтобы все оказалось неправдой, а если и правдой – то чтобы в этот момент Амели раскаялась и призналась, что влюбилась в него по-настоящему. Однако секунда истекла, и Амели по обыкновению звонко расхохоталась, сбросила с себя халатик, под которым ничего не было, и предложила, раз уж он все знает, заняться на прощание любовью. Джон повернулся и молча вышел из квартиры.
После того случая у него никого не было года четыре. Он ничего не чувствовал, глядя на женщин. Даже посещение стрип-бара в Америке, куда он попал совершенно случайно вместе с коллегами по бизнесу, просто не зная, куда именно его приглашают, не вызвало у него никаких плотских желаний.
Джон нахмурился и поднялся из-за столика, махнул рукой официанту. Тот с благодарностью принял щедрые чаевые и вполголоса заметил:
– Мсье без машины? Лучше взять такси и не класть портмоне в наружные карманы. В этом районе полно шпаны...
– Благодарю. Я не боюсь маленьких хулиганов.
– Я не подозреваю мсье в трусости, но... в нашем районе даже полицейские оглядываются, прежде чем войти в подъезд.
– Всего доброго.
Джон вышел из ресторана и некоторое время постоял, глядя по сторонам и решая, стоит еще погулять или все же взять такси и ехать в гостиницу. В этот момент из-за угла высыпала группа тех самых, о ком предупреждал его официант, и Джон снисходительно усмехнулся. Подростки от тринадцати до семнадцати, не больше. Все в немыслимых брюках, бесформенных куртках, огромных армейских ботинках или стоптанных кроссовках. Банданы и бейсболки, перевернутые козырьками назад, придавали им вид маленьких пиратов, на лицах и в прищуренных глазах горел вызов.
Джон лишь мельком посмотрел на них и стал высматривать такси. Рядом с ним в один миг оказался худенький паренек в бандане и безразмерных джинсах, чудом державшихся на бедрах. Из-под банданы на лоб падал клок соломенных волос, зеленые глаза горели на чумазом и хищном лице. Голос у паренька оказался под стать внешнему виду.
– Ух ты, какой законный кентяра, ребя! Сдается мне, он не прочь меня усыновить. Папочка, купи мне сигаретку?
С этими словами малец нахально подскочил к Джону и повис у него на руке. Джон был настолько ошеломлен, что некоторое время вообще не двигался, а потом опомнился и стряхнул этого неуместного Гавроша. Парнишка отлетел в сторону и немедленно заныл плаксивым голосом:
– Ребя, вы видели, как этот фраер меня ударил! Нехорошо обижать маленьких, дядечка. За это Боженька наказывает... камушком по кумполу.
Джон Ормонд ощутил некоторое беспокойство. Нет, физически и теоретически ему ничего не стоило справиться хоть с двумя десятками этих малолеток, но он не представлял, как это сделать на практике. Не бить же детей? С другой стороны, от этих волчат исходил острый запах агрессии, настоящей, звериной злобы. Так стая одичавших собак окружает одинокого путника и ждет, когда он дрогнет хотя бы на долю секунды, чтобы вцепиться ему в горло и разорвать на клочки. Едва подумав об этом, Джон Ормонд ощутил первый приступ паники. Это не было настоящим страхом, нет, ведь он все же был потомком воинов и рыцарей, но идиотизм ситуации заключался в том, что противника было просто неприлично бить...
Спас его официант. Он выскочил из кафе и разразился гневными воплями, призывая на голову шпаны одновременно гнев Господний и всю парижскую полицию. Недовольно бурча и ворча под нос грязные ругательства, подростки обтекли стоявшего столбом Джона с двух сторон и скрылись во тьме. Кто-то на прощание ухитрился пройтись ему по ногам тяжеленным ботинком, и Джону показалось, что это был тот самый, с соломенным клоком волос на лбу.
Официант энергично замахал руками, подзывая такси, и вскоре Джон уже ехал к гостинице. Настроение было испорчено, и потому молодому человеку хотелось спать. У ярко освещенного подъезда гостиницы такси остановилось, и шофер повернулся к пассажиру. Джон полез в один карман. В другой. В карман брюк. Портмоне не было.
Он точно помнил, что спрятал его в карман, расплатившись с официантом. Потом тот еще посоветовал переложить портмоне из внешнего кармана, и Джон тогда машинально похлопал себя... да, именно по правому карману пиджака. Портмоне было на месте.
Джон нагнулся и пошарил на полу машины. Портмоне не было. Граф Лейстерский выпрямился и некоторое время посидел без всякого движения. Шофер терпеливо ждал. Счетчик тикал.
Этот парень повис у меня на правой руке. Обхватил мою ногу ногами, вцепился в рукав. Нет, я бы почувствовал. Или нет?
Джон перевел взгляд на таксиста.
– Мсье извинит меня? Мне нужно подняться в свой номер и взять чековую книжку. Потом портье даст мне наличные, и я... Разумеется, за простой я тоже оплачу.
На смуглом лице таксиста-араба выразилась вся скорбь его многострадального народа. Джон почувствовал, как предательский румянец стыда наползает откуда-то из-под воротничка, и торопливо продолжил:
– Я... на меня напали... Банда подростков украла у меня портмоне. Я уважаемый человек, я не стану вас обманывать. Хотите – пойдемте вместе?
Таксист поджал губы и покачал головой, а затем лаконично изрек:
– Залог давай. Гостиница ходить – черный ход уходить. Али знает, не первый год работать.
– Но... у меня документы остались в портмоне.
– Часы давать. Ключи давать. Пиджак давать. Все равно залог Али. Иначе звать ажан. Иначе жулик.
Семивековая гордость Ормондов вскипела в груди Джона, и он царственным жестом сдернул с запястья золотой «Ролекс». Молча вышел и отправился в гостиницу. На все манипуляции с чековой книжкой и охами-вздохами портье ушло около десяти минут, по истечении которых Джон Ормонд направился к выходу, намереваясь заплатить недоверчивому негодяю-таксисту исключительно по счетчику и ни сантимом больше.
Такси перед гостиницей не было. Джон стоял, глупо вертя головой по сторонам и постепенно понимая, что...
Сзади за плечом сочувственно вздохнул портье.
– Что вы ему оставили, мсье Ормонд?
– Часы.
– Дорогие? Хотя, что я спрашиваю...
– «Ролекс». Отличные часы.
– Да, согласен. Приблизительно... десять лет работы этого парня, без выходных и перерывов на сон и еду. Мне очень жаль, мсье Ормонд.
– Но как же...
– Боюсь, что так. Это не красит Париж, но такова правда жизни. Не расстраивайтесь. Вы запомнили улицу, на которой вас обокрали?
– Да. Кажется. Это Монмартр, маленькая улочка неподалеку от ратуши.
– Участок Сен-Мартен. Вам стоит позвонить туда.
– Зачем?
– У вас пропали документы. Эти подонки возьмут деньги, а остальное выкинут в ближайший бак с мусором. Если повезет, полицейские смогут их найти.
Джон вышел из ступора и устало кивнул.
– Да, вы правы. Я плохо соображаю. Трудный день. Завтра я позвоню в полицию. Ужасно глупо все вышло. Не жаль денег, но вот сама ситуация...
– Понимаю вас и сочувствую. Лет десять назад я вез маме домой свою первую зарплату. Скрутил ее трубочкой, заколол булавкой и спрятал в самый дальний карман сумки. Не поверите – в метро разрезали так, что я ничего и не почувствовал. Денег было – кот наплакал, но обидно и противно – до слез.
Джон почувствовал небывалое. Ему захотелось топать ногами и грозить кому-то неведомому кулаками. Возможно, немного повизжать от ярости. Последний раз он испытывал такое в пять лет, когда тетя Гортензия отобрала у него Атлас звездного неба и отправила спать.
Джон Ормонд повернулся и молча прошествовал в свой номер, сухо кивнув портье на прощание. Через десять минут в номере погас свет, а еще через две минуты Джон заснул мертвым и черным сном смертельно усталого и ошеломленного бедами мира сего человека.
3
В половине девятого утра следующего дня Джон Ормонд сидел в ресторане своего отеля и с отвращением смотрел на яичницу. Яичница в ответ робко и подслеповато таращилась на него желтыми глазками и тихо скворчала. Джон Ормонд тяжело вздохнул и отодвинул от себя сковороду. Кофе заставил его скривиться, ну а круассаны он сроду не любил. Одним словом, утро не принесло облегчения после вчерашних событий, и молодой граф Лейстерский чувствовал себя совершенно разбитым и каким-то... растерянным, что ли? Это было новое для него чувство – обычно он привык к тому, что жизнь катилась по отличным рельсам, ровной колее, четкой лыжне и – по чему там еще катится жизнь?
Он залпом выпил грейпфрутовый сок, съел мандарин, проглотил косточку и окончательно расстроился. Поднявшись в номер, он сделал пару деловых звонков, а потом с некоторым озлоблением набрал номер мсье Жювийона, намереваясь сделать тому замечание. Велел звонить в любое время, а сам не появляется дома!
Однако из телефонной трубки зажурчал настолько чарующий голос, а извинения мсье Жювийона были столь искренни и живописны, что Джон решил повременить с нотациями. Они договорились встретиться в одиннадцать в конторе мсье Жювийона. На вопрос Джона, почему бы им не встретиться прямо в особняке дяди Гарри, поверенный немного замялся и уклончиво ответил, что на то есть некоторые деликатные причины. Человек с более подвижной психикой и развитым воображением был бы заинтригован. Возможно, он даже позволил бы себе пофантазировать на тему безутешной молодой любовницы старого флибустьера, которая искренне оплакивает своего благодетеля и собирает нехитрые пожитки, так как не имеет отныне никаких прав... Человек с более циничным складом ума предположил бы, что означенная любовница торопливо прибирает к рукам все, что плохо лежит, а душка-поверенный с ней в сговоре... Однако Джон Ормонд не принадлежал ни к тому, ни к другому типу личности. Он любил порядок во всем, он уважал размеренное течение жизни и потому рассудил, что встреча с поверенным – то есть лицом официальным – и должна проходить в официальной обстановке, ничего особенного.
Итак, в одиннадцать часов безукоризненно и строго одетый молодой аристократ с невозмутимым и бесстрастным видом протянул пожилой секретарше мсье Жювийона свою визитку. Подсиненные кудряшки взметнулись, и пожилая женщина весьма приличного вида отколола номер – всплеснула руками и всхлипнула:
– Боже, как вы на него похожи, на нашего бедного Того!
Джон Ормонд почувствовал, что пол покачнулся у него под ногами.
– Го... Кого?
– Ну на вашего дорогого дядюшку, на кого же еще? Вы себе не представляете, какая это утрата для нас. Все девочки в бакалее рыдают уже третий... нет, четвертый день, а мсье Фермой, молочник, закрыл свою лавку в знак траура. И мальчики на бульваре Распай переживают, а разве им можно волноваться – все-таки возраст!
Джон собрал рассудок в кулак, хотя это было нелегко. В мозгу возникали совершенно бредовые картины. Бакалейщицы, рыдающие по усопшему миллиардеру... Седовласые мальчики с бульвара Распай... Того...
Мсье Жювийон распахнул дверь своего кабинета и укоризненно взглянул на секретаршу, а потом обратился к Джону.
– Не осуждайте ее, мсье Ормонд. Натали проработала у меня сорок лет, ваш дядя знал ее с тех пор, когда она пришла совсем молоденькой девочкой. У нас были прекрасные отношения, можно сказать, дружеские. Ваш дядюшка был очень легким человеком, дорогой мой. Его любили абсолютно все. Он словно сеял свет вокруг себя. Примите наши искренние соболезнования и поверьте, что мы скорбим вместе с вами и всей вашей семьей.
Джон только кивнул в ответ. Неожиданно стало очень жаль дядю Гарри, а еще – что он, Джон, по какой-то дурацкой причине совершенно не общался со своим крестным. Между тем поверенный сделал широкий жест пухлой ручкой, приглашая молодого человека пройти в кабинет.
Мсье Жювийон был маленьким и пухленьким, весьма подвижным старичком, о котором так и хотелось сказать: он кругленький и катается, как мячик. Легкий жемчужный пух венчиком окружал розовую и блестящую лысину, на пухлом мизинчике интимно поблескивал изящный золотой перстень с опалом. Черные глазки пристально и дружелюбно смотрели из-под лохматых седых бровей, но на этом набор растительности на голове мсье Жювийона заканчивался. Он был гладко выбрит, не носил ни усов, ни бороды, ни баков, хотя последние ему бы очень пошли. Одет поверенный был в самый настоящий и прекрасно пошитый черный сюртук, а галстук ему заменял бирюзовый шелковый платок, заколотый золотой булавкой. Одним словом, мсье Жювийон прекрасно смотрелся бы и во времена Наполеона, и во времена де Голля, и совершенно не выглядел старомодным сегодня.
Он пригласил Джона присесть, сам обежал стол, плюхнулся в кресло и энергично придвинул к себе толстую папку с бумагами.
– Ну-с, мой друг, – вы позволите так вас называть? Приступим. Да, и еще раз прошу у вас прощения. Вчера я даже не имел возможности предупредить, когда вернусь. У меня был трудный день.
– У меня тоже. Забудем об этом. Я здесь, и мы можем все обсудить.
– Да, разумеется. Что ж, возьмем быка, так сказать, за рога. Общее состояние вашего дядюшки оценивается... минуточку... в два с половиной миллиарда американских долларов. Правда, нужно отметить, что большую часть составляет недвижимое имущество, как то: музеи, галереи, два дома моды, виллы в Монако, Швейцарии и Малайзии, два коралловых атолла...
– А...
– Потом, потом... Три острова в Тихом океане, два из них необитаемые, четыре банка, два рыболовецких сейнера в Северном море и один Национальный парк в Кении. Эта недвижимость, разумеется, приносит определенный доход, но, в некотором роде, совершенно, пардон за каламбур, недвижима. В том смысле, что ее нельзя обратить в наличные. Я бы даже сказал, что подобным образом ваш дядюшка просто поддерживал экономику сразу нескольких государств.
Джон только прерывисто вздохнул. Паршивая Овца! Позор семьи! Кого боги желают наказать, у того отнимают разум...
– ... Таким образом, реальная сумма, подлежащая разделу и имеющая реальный денежный эквивалент, составляет порядка... шестидесяти миллионов долларов.
– Слава богу!
– Да, мне тоже нравится. Вот список тех, кому причитаются доли. Напротив суммы.
– Налоги уже, разумеется...
– Ни-ни-ни! Ни боже мой!
– В каком смысле?
– Ваш дядюшка был принципиальным противником налоговой системы. Все деньги, которые получат наследники, лежат на офшорных счетах и не подлежат налогообложению. Мсье Гарольд позаботился о том, чтобы суммы заблаговременно были переведены на личные счета.
– То есть на момент смерти у дяди...
– Не было ничего. Ну, в метафорическом смысле, разумеется. Дом на месте, утварь, картины, посуда, драгоценности – все это никуда не делось. Ваш дядя очень уважал вас, молодой человек. Он считал, что именно вы сможете достойно и профессионально уладить все формальности. Именно поэтому вы и назначены душеприказчиком.
Джон просматривал бумаги со смешанным чувством зависти и восхищения. Документы были составлены идеально.
– Мсье Жювийон, а что это за «особое условие», которое мне надлежит выполнить?
– О, именно это на самом деле и является предметом нашей беседы. Все остальное более-менее понятно, а вот с этим пунктом... Я ведь говорил вам о деликатности вопроса?
– Да, но я...
Маленький поверенный посерьезнел, сцепил ручки на круглом животе, и во взгляде, устремленном на Джона, отчетливо нарисовалась скорбь.
– Дело в том, мой друг, что вы становитесь душеприказчиком и наследником только при выполнении одного условия вашего дяди.
– Я слушаю.
– Вы не можете от него отказаться, потому что такова предсмертная воля Гарольда Ормонда, и он считал вас человеком чести.
– Разумеется, но я...
– Он ни в коем случае не имел в виду, что жажда денег заставит вас поневоле принять на себя эти обязательства, будучи прекрасно осведомлен, что вы и сами – человек далеко не бедный.
– Да что это за обязательство?
– Вы, дорогой Джон, должны будете принять на себя обязанности опекуна одной особы. Юной особы. Ранее эту роль выполнял ваш дядя, относясь к этому в высшей степени серьезно, и теперь эта роль возлагается на вас.
Джон пожал плечами. Такое прозаическое завершение столь интригующего рассказа даже несколько разочаровало его.
– Я вовсе не имею намерений отказываться от этой роли, мсье Жювийон. Опека – это не самое сложное дело в жизни. Моя тетя, Гортензия Ормонд, в течение последних десяти лет состоит под моей опекой. Благотворительный фонд Ормондов опекает три детских приюта в Англии и два детских госпиталя во Франции...
– Здесь немного другое. Означенная юная особа должна войти в вашу семью и жить вместе с вами. Ее доля указана в завещании, она достаточно велика, и по достижении двадцати трех лет она, то есть особа, станет одной из самых обеспеченных девушек в мире. Но некоторые обстоятельства ее рождения и детства вынудили мсье Гарольда настаивать на том, чтобы данная особа жила в вашей семье на правах ее члена.
Джон проявил некоторое нетерпение.
– Короче говоря, мсье Жювийон, есть некая девочка, которую я должен увезти с собой в Англию, поселить в Форрест-Хилле и дать ей нашу фамилию.
– Последнее – не обязательно.
– Что ж, как угодно. Меня совершенно не расстроило бы и такое условие. Я не вижу в данном пункте ничего сверхординарного. Вот если бы дядя Гарри завещал мне своего любимого крокодила с непременным условием содержать его в моей собственной ванне...
Маленький поверенный стремительно перегнулся через стол и страстно выдохнул в лицо опешившему Джону Ормонду:
– Поверьте мне, это было бы гораздо проще!
Через полчаса Джон Ормонд в общих чертах ознакомился с историей дядиной воспитанницы. Ее звали мадемуазель Арно, Жюльетта Арно, ей было семнадцать, впрочем, скоро должно было исполниться восемнадцать, и в доме дяди Гарольда она проживала последние четыре года. Судя по всему – в этом месте Жювийон красноречиво, но непонятно округлил глаза – девочка происходила из довольно бедной семьи, родных у нее не было, а причина, по которой Гарольд Ормонд забрал ее к себе, была мэтру Жювийону неизвестна.
– Видите ли, мой дорогой, мы взрослые люди, да и время сейчас не то, что раньше. Я сторонник прямых формулировок. Мсье Гарольд прожил бурную и разнообразную жизнь. Он объездил весь мир, побывал в различных переделках, добился успеха, заработал баснословное богатство – одним словом, мой друг, его жизни с лихвой хватило бы на десять человек. Такие люди, как правило, просто не успевают завести полноценную семью. Женщины вашего дядюшку обожали, скажу прямо.
Тут Джон слегка покраснел. Истинная причина отношения дяди Гарри к неизвестной девчонке приобретала весьма пикантную окраску...
– Мсье Жювийон, я не хотел бы выглядеть любопытным и нескромным, но... Вы имеете в виду, что эта девочка может быть... моей родственницей?
– Изящно. Но недоказуемо. Гарольд никогда об этом не говорил. А ведь он был солдатом, он умел выражаться прямо. Да и ханжеством не страдал. Друг мой, я ничего не могу сказать вам наверняка. Лично мое мнение – не поверенного, а друга мсье Ормонда – заключается в том, что, будь эта девочка его внебрачной дочерью или внучкой, он бы сам дал ей свою фамилию и официально признал бы факт отцовства. Но, поскольку документов на сей счет нет, я не стану этого утверждать со всей уверенностью. Теперь вы знаете все, что знаю я.
Джон склонил голову и ненадолго задумался. Потом взглянул в глаза мэтру и просто сказал:
– С меня достаточно того, что дядя Гарри просил позаботиться о ней. Я собираюсь забрать прах дяди сегодня вечером, а завтра отплыть в Англию. Если для оформления бумаг потребуется больше времени, просто скажите.
Жювийон прищурился и стал напоминать толстого и доброго кота из мультфильма.
– Ах, кровь есть кровь. Он в вас не ошибался, мой мальчик. Да и я тоже не сомневался ни на миг, едва только взглянул в ваши синие глаза. Нет, все бумаги в порядке, и вы можете отправляться в путь, как планировали. Сложность только в одном...
– В чем же?
– Жюльетта пропала.
– Как?! И вы только сейчас говорите мне об этом?!
– Видите ли... Мы, в некотором роде, знаем, куда она пропала. Мы – это я, Натали и мадам Клош, домоправительница Гарольда.
– Так почему же вы не вернете ее назад?
– А вот в этом, мой друг, и заключается деликатность данной ситуации. Я не зря заметил, что крокодила в ванне содержать было бы намного легче. Что там! Это было бы просто приятно!
Мсье Жювийон пришел в крайнее волнение и, вскочив, забегал по кабинету. Джон решительно поднялся вслед за ним.
– Ерунда. Она уже взрослая девушка, вполне разумная и должна понимать, что ей хотят только добра. В каких отношениях она была с дядей? Я имею в виду... они были дружны?
Двусмысленность собственной фразы покоробила Джона, и он почувствовал, как румянец стал гуще. Однако мэтр ничего не заметил, ибо бегал вдоль большого окна, то и дело взмахивая ручками.
– Да в том-то и дело! Положа руку на сердце, мадам Клош и я сотню раз предлагали ему отдать Жюльетту в хорошую школу-пансион. У нее жуткий характер, мой друг, просто жуткий. Гарольд в ответ только смеялся и говорил, что на войне было гораздо страшнее, а уж в джунглях Амазонки и вовсе водятся такие хищники, по сравнению с которыми мадемуазель – тихий ангел. Честно говоря, он ее очень любил. А она его... знаете, наверное, все-таки да. Но в таком случае – тщательно скрывая это от окружающих.
Джон тихо и медленно произнес:
– Она сбежала из дома четыре дня назад, верно?
– Да. Но откуда вы...
– Простое предположение. Дядя Гарри ведь умер четыре дня назад.
– Да! И она не явилась ни на панихиду, ни на прощание в крематории!
– Что ж, мсье Жювийон, поверьте мне, это еще не показатель ее черствости. Вы говорите, что знаете, где она?
– Да. Почти наверняка.
– Тогда поехали. У нас будет мало времени на первое знакомство, но я надеюсь, мы сможем найти общий язык. Да, я должен что-то подписать? Где? Здесь?
– Погодите. Не спешите. Это ведь...
Четкая, ровная, элегантная подпись легла на листы гербовой бумаги. Джон Малколм Ормонд, граф Лейстер, тридцати трех лет, принимал отныне на себя все обязанности опекуна мадемуазель Жюльетты Арно, семнадцати лет. Мэтр Жювийон вздохнул – и прослезился.
Через полчаса они заехали в изящный особняк на рю Гренель, где их встретила пышная красавица средних лет, мадам Клош. Глаза у нее были заплаканы, глубокий траур оттенен лишь белоснежным воротничком строгого платья, но племянника «дорогого мсье Гарольда» она встретила радушно и приветливо. Несмотря на предложение Джона отправиться на поиски Жюльетты немедленно, мадам настояла, чтобы они с мсье Жювийоном слегка перекусили и выпили кофе.
При этом мадам сердито махнула фартуком куда-то в сторону Сены.
– Никуда она не денется! Видели ее сегодня, не волнуйтесь. Паршивая овца...
Джон слегка вздрогнул. Опять это выражение!
– Вы не поверите, мсье Ормонд, я уж на что впечатлительная, а за эту злющую кошку не волнуюсь ни капельки. Она пропадает четвертый день, да только я никогда не поверю, чтобы нашелся в Париже такой злодей, который причинит ей хоть какой-то вред и останется при этом в добром здравии.
Джон кашлянул.
– Мадам Клош, я допускаю, что у девочки может быть дурной характер, но ведь ей всего семнадцать...
– Вот-вот! Страшно подумать, что она будет вытворять в девятнадцать! К счастью, я этого не увижу. Мсье Жювийон из-за нее чуть жизни не лишился...
– Клотильда!
– Я правду говорю! Я и мсье Гарольду всегда говорила – хотите сильных ощущений, так заведите тигра. Или обезьяну. Оно безопаснее.
Джон невольно улыбнулся.
– Интересная у меня будет воспитанница. Всего за час с небольшим ее сравнили с крокодилом, тигром и обезьяной, причем все не в ее пользу. Она всего лишь девочка...
– Ох, не знаю...
– Клотильда!!!
– Что «Клотильда»?! Ничего я не говорю, только в мое время, ежели кто шлендрал по ночам и домой ночевать не заявлялся...
Джон успокаивающе положил ладонь на руку разбушевавшейся мадам Клош.
– Вы же сами говорите, она может за себя постоять. В любом случае, ваши мучения с ней закончились. Теперь за нее отвечаю я.
– Спаси вас Господь, милый молодой мсье Ормонд! Человек вы хороший, дядя вас очень любил, уж я-то знаю. Все ваши фотографии стоят у него на камине, я и не убирала. Может, захотите их взять с собой?
Мадам Клош мигом забыла про неведомую пока Джону Жюльетту и унеслась – насколько позволяла ее комплекция – в кабинет покойного хозяина. Вернулась она, держа в руках довольно толстую стопку фотографий.
– Я уж из рамок их вынула, ладно? Так они и места меньше займут, да вы их, наверное, в альбом вставите...
Джон разглядывал фотографии с изумлением и едва ли не со слезами на глазах. Он был уверен, что мадам Клош принесет ему пару-тройку фото, традиционных в такой ситуации: голый младенец, прыщавый юнец на велосипеде и молодой человек в университетской мантии...
Мама и Гарри держат маленького Джона на руках.
Гарри с ужасом и благоговением прижимает к груди белый кулек, не сводя с него глаз.
Гарри и отец о чем-то разговаривают рядом с детской коляской, сидя на холме неподалеку от замка.
Джон в матросском костюмчике.
Джон на пони.
Джон в ванне.
Джон выдирает страницу из книжки.
Джон едет в колледж – лицо испуганное, уши торчат, в глазах отчаяние...
Джон с отцом на велосипедах – это во время первых оксфордских каникул.
Джон около Вандомской колонны.
Джон у Триумфальной арки.
Джон у ворот Сорбонны.
Джон в строгом костюме садится в «бентли»...
Сердце билось где-то в горле, и молодой граф Лейстер не в силах был поднять глаза на мэтра Жювийона и мадам Клош, притихших и пригорюнившихся у стола.
Ему было стыдно, невыносимо стыдно и больно.
Он ни разу не попытался найти дядю Гарри, хотя проучился в Сорбонне три с половиной года. Ни одну из этих фотографий он дяде не посылал. Это делали отец и тетя, причем наверняка по просьбе самого Гарри. На фотографиях была запечатлена вся жизнь Джона. Жизнь, которую он подчинил железному распорядку, которую расписал по минутам и которой страшно гордился. А в это время дядя Гарри, повидавший в сто раз больше жизни, чем Джон, трепетно собирал фотографии любимого племянника и крестного сына, выставлял их по порядку на каминной полке, радовался его победам, гордился его успехами, переживал за его неприятности...
Его ничтожным, пошлым, крошечным победам... Его скучными успехами... За его игрушечные беды...
Красавец, авантюрист, солдат и герой, золотоискатель и первопроходец, любимец женщин, Гарольд Декстер Ормонд. Паршивая Овца. Человек, взявший на воспитание другую Паршивую Овцу, Жюльетту Арно.
Джон поднял голову. В синих глазах дядиными бриллиантами переливались слезы.
– Я не оставлю ее, дядя. Никогда. Я ее не брошу, не откажусь от нее. Не волнуйся, дядя Гарри. Прости меня.
Мэтр Жювийон вскинул брови, но мадам Клош незаметно и весьма чувствительно пихнула его в бок. Мэтр пискнул и затих. Джон опомнился и встал, смущенный и потому немного сердитый.
– Благодарю вас от всего сердца, мадам Клош. Вы даже не представляете, как помогли мне сегодня. Мэтр, поедемте. Девочку надо поскорее забрать. Вечером я заеду в часовню, а завтра утром мы отправимся в Англию.
К удивлению Джона, на поиски Жюльетты, помимо мэтра Жювийона, с ними отправился рослый и плечистый парень, которого истошным воплем призвала с заднего двора мадам Клош. Парень был немногословен, крайне широкоплеч, одет в камуфляжные брюки, заправленные в армейские башмаки, и футболку без рукавов, открывавшую мощные бицепсы, расписанные морской татуировкой. Мадам Клош с гордостью хлопнула парня по спине и сообщила, что это ее Жанчик, младшенький, месяц как из армии. Джон с недоумением посмотрел на мэтра, но тот насупился и сообщил, что в молодые годы ничего не боялся, а вот к старости как-то оробел.
Что имел в виду мэтр, выяснилось, когда они вылезли из машины на набережной Сены и спустились к самой воде, ведомые неугомонным поверенным. Жанчик замыкал процессию, а Джон покорно шел за мэтром Жювийоном вдоль знаменитой реки. Вскоре они вступили под первый мост, и тогда Джон признал глубоко в душе, что без Жана Клоша здесь было бы... скучновато. И страшновато.
Времена классических клошаров миновали, но и современные бродяги были вполне живописны. Однако не они были способны встревожить Джона Ормонда, взрослого и сильного МУЖЧИНУ.
Группы пьяных подростков. Парни постарше, все в кожаных куртках и с бритыми затылками. Размалеванные девицы, занимающиеся любовью со своими приятелями прямо на гранитных плитах. Наркоманы в поисках дозы, с тревожными, бегающими глазами. Лежащие без движения, уже словившие свой кайф, с булавочными точками зрачков в широко открытых и закатившихся глазах.
Джон шел и не верил своим глазам. Там, наверху, на мосту кипела жизнь. Современный западный город, столица Франции, бурлил и сверкал, там ездили машины, там была полиция, там было светло и безопасно, а здесь копошилась и смердела... тоже жизнь. Беспросветная, опасная, недоверчивая к чужакам – но жизнь.
Одна из девиц ухмыльнулась и потянулась к Джону, отчего он едва не свалился в воду. Пахло от девицы убийственной смесью дешевых сигарет, вчерашнего перегара и приторно-сладких духов. Зрачки у девицы были малюсенькие, хотя под мостом было сумрачно, а на голом животе виднелась непристойная татуировка.
Они почти бегом миновали первый мост, а минут через десять нырнули под второй. Здесь молодежи не было, и Джон почти с умилением смотрел на тихих, интеллигентных клошаров, смирно сидевших на картонных коробках вдоль стены и куривших одну сигарету на шестерых.
Под третьим мостом мэтр сделал стойку, словно охотничья собака, почуявшая дичь. Невдалеке стояла небольшая группа подростков – мешковатые джинсы, бесформенные куртки, бейсболки и банданы...
Мэтр Жювийон откашлялся и рявкнул неожиданно мощным басом:
– ЖЮЛЬЕТТА!!!
Один из подростков повернулся к подошедшим.
Зеленые глаза на чумазом хищном лице. Соломенный клок волос, падающий из-под бейсболки. Тяжелые армейские ботинки.
Очень знакомый Джону хрипловатый голос сказал с очень знакомой Джону интонацией:
– Опа! Гляньте, ребя, какой кентяра привалил в наши эмпиреи! Эй, Суперпупс, так это и будет теперь мой новый папочка?
Вчерашний подросток, стащивший у Джона Ормонда портмоне, бедная сиротка, взятая на воспитание дядей Гарри, загадочная Жюльетта Арно, которой предстояло войти в замок Ормондов и стать его полноправной обитательницей – все они сейчас стояли перед Джоном и мэтром Жювийоном в виде худенького подростка, в чьих зеленых глазах горели вызов и насмешка.
Джон откашлялся и сказал слегка севшим голосом:
– Жюльетта, добрый день. Я – племянник дяди Гарри, и я собираюсь предложить тебе... вам переехать в Англию...
Он замер, чувствуя, что фраза получилась на редкость дурацкой. Как выяснилось, схожее чувство посетило и группу подростков, поскольку они немедленно разразились хриплым и визгливым хохотом, предлагая и свои варианты знакомства (внук деда, чувак чувихи, козел козы и т.д.), а также хлопая Жюльетту по плечу и поздравляя ее с обретением нового родственника. Сама девушка только хмурилась и кусала губы, а потом резко повернулась и пошла прочь.
4
Мэтр Жювийон набрал воздуха в грудь и собрался уже окликнуть девушку, но тут Джон молча опустил тяжелую ладонь на плечо маленького поверенного.
– Не надо. Я должен сам.
Он в два шага догнал Жюльетту, заступил ей дорогу и сказал спокойным, размеренным голосом:
– Послушайте меня, мадемуазель. Я понятия не имею, что чувствуете вы, но лично для меня известие о столь... неожиданном наследстве стало сюрпризом. Кроме того, я понятия не имею, как обращаться с юными девами вашего типа, но, если вы дадите мне шанс, мы попробуем установить некое подобие консенсуса...
– Отвали. И перестань трендеть, как старый патер.
– Простите? Я не совсем понял...
– Я сказала, не надо вешать мне лапшу на уши. И опекунов мне тоже не надо. Я большая девочка.
– Сожалею, но законодательство в данном случае говорит другое.
– Мне на... плевать, что там и кто говорит. К Кошелке я не вернусь. Суперпупс сам умрет при одной только мысли о том, что я опять буду под его присмотром. Тебя... вас я не знаю и знать не хочу. И с какого перепуга я должна ехать в какую-то Англию с незнакомым фраером? Может, вы меня собираетесь запереть в замке и растлить?
– Что?!
– Что слышали. У меня здесь своя компания...
– Малолетних хулиганов.
– А не ваше дело. Мне с ними нравится.
Джон прищурился, и в синих глазах зажегся опасный огонек.
– Послушайте, если вам семнадцать, то в здешнем обществе вы – самая старшая.
– Фи, дяденька, как неприлично! О возрасте женщины говорить некрасиво. Это тайна, которую она уносит с собой в могилу.
– И будьте уверены, могила вас ждет очень скоро. Вам уже пора переходить в следующую группу, а оттуда путь на небеса превращается в финишную прямую.
– Ох, красиво заливаете, жаль, сегодня не воскресенье, а мы не в церкви. Я не проститутка, если вы на это намекаете.
– Вы ею станете, мадемуазель Арно, если будете продолжать подобный образ жизни. А даже если и не станете – в тюрьму попадете все равно.
– Это за что это?!
– За воровство. Или скажете, что не знаете, о чем я говорю?
– Ничего я вам не скажу, и вообще – шли бы вы отсюда. Неровен час, испачкаете костюмчик или своими шикарными колесами вляпаетесь в крысиное дерьмо. Я с вами не еду.
– Дядя Гарри...
– Не тычьте мне в нос своим дядей Гарри! Вы когда с ним виделись последний раз? Разоваривали? Писали письмо? Сейчас не девятнадцатый век, а я – не олигофрен. Просто и ваш дядюшка, и вы сами волнуетесь за свои деньги! Еще бы – такой широкий жест, мильёны долларов бедной сиротке, какая досада, что она наверняка начнет их спускать не по делу. Вот вы и прискакали со своим опекунтвом. В глазах всех Суперпупсов и Кошелок – Загородный герой, денежки под присмотром, а там – мало ли что там дальше может случиться. Поем в вашем замке грибного супчика...
– Прекратите, вы! Хватит нести бред!
– Не нравится – чешите отсюда. Да, кстати, мильёны тоже можете забрать. Обойдусь.
– Последний раз спрашиваю: вы едете со мной?
Зеленоглазое чудовище поманило Джона пальчиком, и он машинально наклонился к ней. Ростом девчонка была ему чуть ниже груди...
И тут она ему подробно и очень спокойно объяснила, куда, каким образом и с какой скоростью он должен идти вместе с деньгами, Англией и своим опекунством.
Пару секунд Джон стоял на месте и просто смотрел на этот маленький ротик – впрочем, нет, ротик был не маленький, совершенно нормальный и даже очень симпатичный. Розовый такой... чувственный, можно сказать. Если бы не слова, которые только что вырвались из этого ротика.
Через пару секунд холодное презрение хорошо воспитанного человека победило шок, и Джон Ормонд процедил сквозь зубы:
– Что ж, мадемуазель сделала свой выбор. Она желает оставаться в сточной канаве и продолжать зарабатывать на жизнь умыканием чужих кошельков. Увы, ничего подобного я лично предложить мадемуазель не могу. Позвольте откланяться.
Он развернулся и пошел прочь, чеканя шаг. Кто-то из подростков изловчился и подставил Джону ногу, и молодой граф Лейстер с мстительным наслаждением наступил на нее всем своим весом. Разочарованный вой несся ему в спину, и неожиданно Джон почти воочию представил их всех в образе бродячих, шелудивых, трусоватых и злобных дворняжек.
Вздор. Каждый должен заниматься своим делом. Жить своей жизнью. Возможно, дяде Гарольду приспичило заниматься благотворительностью от недостатка ощущений, но Джон не умеет и пока не испытывает к этому благородному занятию никаких склонностей. Есть опекунские советы, есть пансионы для таких, как Жюльетта Арно, там работают профессионалы, умеющие работать с подростками, вот пусть они ею и занимаются!
Память совершенно некстати подкинула воспоминание. Когда «Благотворительный фонд Ормондов» начал свою деятельность пять лет назад, Джон впервые встретился с этими самыми профессионалами. Он был уже взрослым, успешным и уверенным в себе мужчиной, боссом огромной компании – и все же встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, мисс Хайтекстон, повергла его в состояние, близкое к панике. Пожалуй, именно тогда Джон Ормонд понял, что творилось в концлагерях во время Второй мировой. Он с содроганием рассматривал тогда влажные пятнистые стены, мутные стекла, забранные решеткой, колючую проволоку, щедро увивавшую ограду неказистого здания. И еще детей. Таких же точно детей, озлобленных, враждебных, сквернословящих и курящих дешевые сигареты...
С тех пор он исправно перечислял крупные суммы на счета разных приютов, потому что считал, что глупо пытаться осчастливить сразу всех, нужно оказывать конкретную помощь конкретным людям. Но в приюты больше не ездил. Никогда.
Джон упрямо тряхнул головой, отгоняя неприятное воспоминание, и решительно подхватил мэтра Жювийона под руку.
– Пойдемте.
– Но... девочка...
– Девочка уже большая, она так сказала, и у меня нет повода ей не верить. Возможно, она просто молодо выглядит. Лично я за всю свою жизнь не слышал столько ругательств, сколько она выдала за три секунды. К тому же она не хочет ехать.
– Но, дорогой мой... Так нельзя!
Джон остановился и сурово посмотрел на расстроенного мэтра.
– Мне что, перекинуть ее через плечо и увезти силой? Она не ребенок, мэтр! Меньше чем через год она сможет голосовать и быть избранной.
– Но вы...
– Да, я подписал бумаги, я ее опекун. Не волнуйтесь, ни один сантим, цент или пенс из ее доли наследства не пропадет, я лично буду следить за счетами, которые придут из пансиона...
– Какого пансиона?
– Для трудных подростков, куда ее отправит опекунский совет, раз она категорически не хочет ехать со мной.
– Мсье Ормонд...
– Мэтр?
– Вы обещали. Я слышал. Вы обещали дяде. На кухне.
– Это была минутная слабость. Я расчувствовался и представил себе милое дитя в кудрях и фартучке, которое останется совершенно одно перед лицом жестокой жизни. Что же делать, если на самом деле милое дитя может скрутить эту самую жизнь в бараний рог?
Лицо мэтра выражало досаду и озабоченость, Жан Клош спокойно курил в сторонке, сплевывая в воду и завороженно следя за рейфом плевков по течению. Джон почувствовал, что с него на сегодня достаточно.
– Поехали, мэтр. С вашего позволения, из вашего офиса я свяжусь с инспекторами...
Они уже поднялись на набережную и направлялись к машине, когда взвыли сирены и несколько полицейских машин на бешеной скорости съехали вниз, к воде, и перегородили оба выхода из-под моста. Джон замер на полуслове, мэтр вздохнул, а Жан неожиданно подал голос:
– Вот вам и решение. Легавые щас всех заметут. Посидит на киче пару дней, а вы пока спокойно оформите все бумажки. Не переживайте вы так, мэтр. Мсье прав. В приюте ей самое место. Бешеная. Молодая. Глупая.
Джон смотрел в сторону темного жерла, где скрылись полицейские в легкомысленной голубой форме. Внезапно он опять вспомнил зарешеченные мутные окна, колючую проволоку... И почти воочию – как бьется в руках плечистых надзирательниц худенькая девчонка с соломенными растрепанными волосами, как кричит, беззвучно разевая рот, и из зеленых глаз текут злые слезы.
Полицейские машины взвыли, развернулись и на бешеной скорости умчались прочь. Джон проводил их взглядом и повернулся к Жану.
– Куда они поехали? Я никого не видел.
– Известно, не видели. Их всех на ту сторону выгнали и в фургон загрузили. Теперь в участок повезли. Здесь недалеко, три квартала. Сен-Мартен.
Джон вздрогнул. Потом решительно шагнул к машине.
– Едем.
Мэтр сердито спросил:
– Ко мне в офис?
– Да нет же! В полицию. В Сен-Мартен.
Полицейский участок был чистеньким и бедненьким на вид. Казенная голубая краска бросала на лица всех входящих чахоточную тень, стрекотала где-то невидимая машинка, то и дело звонили телефоны, пахло дрянным кофе, сигаретным дымом и тоской. Вокруг сновали люди в форме и в штатском, иногда по коридору проводили каких-то темных личностей, закованных в наручники, размалеванных девиц, отчаянно кокетничающих со всеми подряд, клошаров, безропотно прижимающих к себе драные полиэтиленовые пакеты, источающие вонь всех окрестных помоек.
Мэтр Жювийон ориентировался здесь гораздо лучше и снова стал провожатым. Вскоре они с Джоном (Жан застенчиво улыбнулся и распрощался с ними у входа в участок) вошли в маленькую, чудовищно прокуренную комнатку, в которой сидели, стояли и говорили по трем телефонам одновременно человек восемь. Мэтр безошибочно вычислил главного и шагнул к столу у окна.
– Могу я поговорить с вами, мсье? Четверть часа назад сюда доставили группу подростков из-под моста Ле Шапе...
– Банду.
– Что? Возможно, возможно. Предпочел бы именовать их группой вплоть до решения суда. Позвольте представиться, мэтр Жювийон, адвокатская контора «Жювийон и Ренан».
– Комиссар Прево. Полагаю, с вами рядом – мэтр Ренан?
– Что? О, нет. Ренан, к сожалению, скончался лет двадцать назад, оставив мне свою долю. Это – мсье Жан Ормонд, наш гость из Англии.
– Польщен, но продолжаю оставаться в неведении. Мсье Ормонда интересует работа парижской полиции?
Джон нахмурился и шагнул ближе к столу. Сарказм комиссара, возможно, был вполне объясним, но графу Лейстерскому, честно говоря, осточертел Париж и хотелось домой.
– Вы задержали группу несовершеннолетних, комиссар, и меня интересует одна из задержанных. Жюльетта Арно, семнадцати лет.
– Да? Очень возможно, что там есть и такая, почему она вас так интересует? Не успели расплатиться с ней за работу?
Взгляд Джона потемнел, густые брови сошлись на переносице.
– Я прекрасно понимаю, что у вас нелегкая работа, комиссар, но это все равно не дает вам права оскорблять людей. Я являюсь опекуном девушки и хочу забрать ее отсюда.
Некоторое время комиссар хмуро изучал ловко подсунутые мэтром Жювийоном бумаги, а затем рявкнул куда-то в сторону коридора:
– Анри, если вы закончили с группой юных дарований, тащи сюда девицу Арно и ее дело заодно.
Еще несколько минут комиссар с повышенным интересом изучал конфигурацию пятен на своем столе, Джон смотрел в окно, а мэтр вздыхал и вертел головой во все стороны.
Потом из коридора явились два рослых полицейских в форме, а между ними, волоча ноги и шмыгая носом, шла мадемуазель Арно. Бейсболки на ней уже не было, и Джон увидел, что ее соломенные волосы заплетены в несколько десятков косичек, на манер африканских. Девушка кусала губы, но не плакала.
Комиссар взял у одного из полицейских папку, открыл ее, пролистал, а затем поднял голову и бесцветным голосом сообщил:
– Сожалею, господа, но девица Арно не может быть отпущена. На нее заведено уголовное дело.
Жюльетта вскинулась, потом встретилась глазами с Джоном и тут же залилась румянцем, опустила голову, а секундой позже на черную футболку с изображением волчьей головы упала единственная слезинка. Рядом задушенно всхлипнул мэтр Жювийон. Джон быстро спросил:
– В чем ее обвиняют? Есть ли доказательства?
– Она украла кошелек. В кошельке находилось несколько кредитных карт, документы и водительские права, а также крупная сумма наличными. Кошелек обнаружен при обыске обвиняемой. Разумеется, это могло бы быть и совпадением, но сегодня утром мы приняли заявление от гражданина Великобритании. Он сообщил, что его ограбили вчера вечером, описал приметы похитителя и назвал имя свидетеля ограбления – официанта из ресторана «Кифара». Таким образом, господа, дело раскрыто. Кстати, мсье Ормонд, вот ваш бумажник.
Комиссар впервые поднял голову и с некоторым ехидством посмотрел на Джона. Тот ответил ему невозмутимым ледяным взглядом и повернулся к мэтру Жювийону.
– Я могу что-то сделать, мэтр?
– Разумеется, мой друг, разумеется, вы можете отозвать свое заявление и не подавать на девочку в суд, но я бы вам советовал...
Мэтр поманил к себе Джона и горячо зашептал ему на ухо. Через секунду Джон возмущенно выпрямился.
– Мэтр, это же шантаж!
– Исключительно для пользы дела, мой дорогой! Ведь как все удачно складывается – и волки целы, и овцы хоть куда!
– Я не могу.
– Тогда позвольте мне.
– Нет. Я сам.
Джон подошел к Жюльетте и решительно приподнял согнутым указательным пальцем ee подбородок.
– Даю пять секунд на раздумье – Англия или тюрьма.
– Вы... вы...
– Три секунды. Вы едете? Да или нет?
– Да!!! Чтоб вам лопнуть!
– Комиссар, я забираю свое заявление.
– Что?
– Я отзываю свое заявление об ограблении и удостоверяю, что мадемуазель Арно является членом моей семьи и имеет полное право хранить у себя некоторые принадлежащие мне вещи и документы, а также денежные суммы.
Комиссар с тоскливой ненавистью посмотрел на всю троицу, потом отвернулся и буркнул:
– Снимите с нее браслеты. Всего хорошего, господа. И мой вам совет – в гостях хорошо, а дома лучше. Не тяните с отъездом.
– Это что, угроза, комиссар?
– Ну что вы, мсье Ормонд. Я же при исполнении. Просто сие прелестное дитя уже давно у нас на заметке. Если она останется под юрисдикцией Франции, то в следующий раз я ее упеку, и никакие опекуны не помогут. Запомнила, девочка?
Жюльетта угрюмо кивнула.
Потом все трое в полном молчании вышли из участка и сели в машину. Мэтр осторожно заикнулся о том, чтобы заехать и обрадовать мадам Клош, но Джон сурово прервал его.
– Мэтр, честно говоря, я спешу. Если у мадемуазель Арно есть вещи, которые она хотела бы забрать из дома, мы заедем и заберем их, но я планирую отплыть сегодня четырехчасовым паромом.
Мэтр истово закивал.
– Хорошо, хорошо, хорошо. Жюли, девочка моя, тебе надо домой?
– Нет.
– Джинсы? Куртка?
– Нет. Все на мне.
– Но ведь у тебя целый шкаф...
– Не нужны мне ваши поганые тряпки, понятно?! Я буду ходить вот в этом, в том, что мне нравится! И в Англию так поеду.
Джон прервал начинающуюся баталию.
– Мы приедем в Лондон около полуночи. Переночуем. С утра у мадемуазель... мисс Арно будет время посетить магазины и выбрать все, что ей потребуется. Под вещами из дома я имел в виду дорогие ее сердцу безделушки, но мисс Арно, по-видимому, не страдает сентиментальностью, тем лучше. В таком случае мы едем в отель. Там я вас оставлю и поеду забрать прах дяди Гарольда.
– Она сбежит!!!
– Не сбежит. Через полчаса во всех полицейских участках появится ее фотография, а к вечеру она отправится в тюрьму. Мисс Арно остаточно умна, чтобы понять – заявление можно написать еще раз.
Жюльетта забилась в угол сиденья и с ненавистью процедила:
– Обложили, легавые! Взяли на понт! Вытащили с кича, а теперь...
– Вот что, мисс. Попрошу вас впредь следить за своей речью. Вы не дитя трущоб, которым хотите прикинуться. Я говорил с вами всего пять минут, но мне этого хватило, чтобы понять – вы усердно играете роль, которая вам не к лицу и не по возрасту. Вы вполне способны выражаться по-человечески, наверняка прочитали в жизни несколько книг, к тому же вы не трудный подросток, а взрослая девица. Поэтому, если вам не трудно, прекратите этот балаган!
– А если трудно?
– Тогда просто помолчите.
В машине воцарилась гробовая тишина. Жюльетта надулась и съежилась в маленький комочек, Джон невозмутимо смотрел прямо перед собой, а мэтр взирал на Джона с благоговением истинного христианина, узревшего явление Архангела с трубой и карающим мечом.
Уже в гостинице, слегка приотстав от Жюльетты и придержав за локоть Джона, мэтр горячо прошептал:
– У вас истинный талант воспитателя, мой друг! Даже Гарольду не удавалось заставить ее замолчать, а вы... Нет, каково?! Буря и натиск! Штюрм унд... забыл, неважно. Скажите, мой дорогой, а вы это серьезно – насчет вторичного заявления?
– Абсолютно.
– Нибелунг! Викинг! Карл Великий! Я есмь рука дарующая и карающая! Полечу, успокою Клотильду. Скажу ей, что наша Паршивая Овца в руках прекрасного пастыря. Друг мой, прощаюсь и желаю удачи. Помните – во Франции вас всегда ждут с распростертыми объятиями.
Джон с мягкой иронией посмотрел на маленького поверенного.
– Не хотите поцеловать милое дитя на прощание?
Мэтр хмыкнул и без тени смущения заявил:
– Ни малейшего желания! Я уже стар для экстремального спорта. К тому же боюсь лишиться носа или уха, я к ним привык.
Джон покачал головой.
– Врете, мэтр. Вы ведь привязаны к ней. Я видел ваше лицо там, у моста. Вы меня почти ненавидели, сознайтесь?
Мэтр посерьезнел.
– Знаете, мой дорогой... Жюли ужасна, это факт. Но в то же время она очень молода и очень несчастна. Кроме того, Гарольд ее любил. По-настоящему, он иначе и не умел. Стало быть, есть в ней что-то хорошее? Когда она убегала из дома в тринадцать лет, доводя его до сердечного приступа, я ругал ее, предлагал отправить обратно в приют. Знаете, что он мне говорил в ответ? «Мы с тобой, Жюв, прошли несколько войн, любили женщин, дрались до крови – и выжили. Мы старые, но все равно – ружчины. Теперь надо помочь выжить малышке. Ей труднее – ведь она женщина».
– Мэтр, вы... тоже воевали?
– Что, трудно поверить? Да, мой дорогой, в одном полку с вашим дядюшкой. Мы с ним рыли неразлучны вплоть до алмазной эпопеи. К тому времени Ренан уже втравил меня в дело, адвокатура всегда была прибыльным бизнесом, и я с Гого не поехал, о чем до сих пор жалею. Так-то. Ну... до свидания, мой дорогой.
Мэтр Жювийон приветственно взмахнул ручкой и покатился к выходу, а Джон смотрел ему вслед и все никак не мог представить смешного толстячка в камуфляжной форме и с тяжелым автоматом на плече...
Он оставил Жюли в номере, лично запер ее на ключ и уехал, попросив портье особо проследить за окнами.
В небольшой старинной церкви он отстоял заупокойную мессу и принял из рук почтенного епископа небольшую урну с прахом Гарольда Декстера Ормонда. Теперь можно было возвращаться домой.
На паром они с Жюли прибыли в полном молчании, не глядя друг на друга и не испытывая от этого ни малейшего неудобства, хотя на самом пароме их появление вызвало самые различные эмоции. В самом деле, более странной пары и представить было нельзя. Высокий, широкоплечий и синеглазый красавец в дорогом сером костюме и белоснежной рубашке, сжимающий в одной руке зонт, а в другой – элегантный портплед, безупречно причесанный, невозмутимый и неотразимый. И непонятное бесполое существо с сотней белесых косичек на голове, в мешковатых и грязных джинсах, безразмерной куртке и линялой футболке с оскаленной мордой волка. Первое, что сделала воспитанница графа Лейстерского, взойдя на палубу, – стала энергично отскребать что-то с толстой подошвы своего жуткого ботинка. Для этого она использовала поручни, а когда пожилая дама в шляпке с вуалью, подпрыгнув, обернулась на скрежет, пояснила с кривой ухмылкой:
– Дерьмо пристало, воняет.
Пожилая дама стала нервно озираться в поисках кого-нибудь из охраны или команды, но в это время элегантный синеглазый красавец невозмутимо взял девицу за локоть и практически уволок вниз, в каюту. Здесь он усадил Жюли на стул, а сам засунул свой багаж под диван. Повернулся к Жюли и холодно сообщил, что теперь она может идти куда угодно. Девушка опешила и с подозрением уставилась на своего надсмотрщика.
– Это почему это? И зачем было тащить меня сюда?
– Чтобы вы не довели до инфаркта почтенных и приличных людей. И не сбежали по глупости.
– А теперь, значит, можно доводить? И сбегать?
– Пожалуйста. Мы вышли из порта. Вы хорошо плаваете?
– Совсем не плаваю. Но если эта посудина будет плыть с такой скоростью – утоплюсь.
– Мир станет лучше. Во всяком случае – чище.
– Я мылась!
– Не сомневаюсь. Хотя бы раз в своей жизни это делал всякий.
– Слушайте, зачем вы меня везете в Англию, если я вам так противна?
– Мне противны не вы, а образ, который вы себе избрали. Я считаю ваше поведение ребячеством, которое извинительно для ребенка, к тому же мальчика, но отвратительно во взрослой девушке.
– Веду себя, как умею.
– Врете. У вас правильная речь – когда вы не вставляете в нее всякий словесный мусор. У вас ухоженные ногти. Хорошие зубы. Чистая кожа. На шее золотая цепочка. Дорогое белье.
– Что? Да как вы...
– Оно, извините, торчит поверх ваших брюк, потому что они сползли почти до колен, и просвечивает сквозь футболку.
– Это заниженная талия!
– Глупости. Талия располагается у всех примерно в одном и том же месте. Ее нельзя занизить или завысить. Варьируется только объем, но он у вас вполне... гм... симпатичный.
– Откуда вы взялись, такой... старорежимный!
– Сначала объясните, зачем вам эта игра?
– Я не играю.
– Играете, причем плохо. Вы ведь не так вели себя с дядей?
– Откуда вам знать? Вы же с ним не общались.
– А откуда это известно вам? Вы же провели свое трудное детство исключительно на помойке?
Она исподлобья посмотрела на Джона и вдруг расхохоталась.
– Ладно, сдаюсь. Вы меня удивили, опекун. Я думала, вы ни на кого, кроме себя, не смотрите. А вы глазастый. Ногти, зубы... Даже на трусы мои пялились втихаря – о, пардон, сорвалось.
Она села поудобнее, достала из глубин куртки смятую пачку сигарет и закурила. Джон еле удержался, чтобы не отобрать у нее ядовитое курево. Девчонка явно провоцировала его.
– Вообще-то я родом именно из того слоя общества, который так широко и разнообразно представлен под мостами Сены. Моя мать была девушкой по вызову. Отец – неизвестен. Очень может быть, что в роду у меня были кровавые маньяки – не боитесь?
– Не боюсь. Дальше?
– Дальше – больше. Моя мать отдала меня в услужение хозяину одного ресторанчика, у него были дети – мои ровесники, и он согласился взять меня на воспитание. Сама мамаша продолжала трудиться по своей прямой профессии, и немудрено, что вскоре она словила туберкулез. Мсье Гарольд нашел ее в больнице, куда приехал с проверкой в качестве префекта округа. Вы ведь не знали, что ваш дядюшка был префектом? Его очень уважали все вокруг, особенно комиссар Прево. И тут облом – комиссару пришла телега, что Гарольд Ормонд в юности занимался грязными делишками на алмазных копях в Кимберли. Прево чуть не плакал, когда шел к Гарольду с ордером, но долга не нарушил. А ваш дядюшка и говорит: мол, обещал я одной бедной женщине, что привезу ей попрощаться ее дочурку. А Прево уперся – под арест и все. Тогда дядя Гарольд сунул ему в зубы, дал деру, забрал меня у ресторанщика и в бега... Вы улыбаетесь, жестокий?
– Я плачу. Потом вы с дядей Гарри перелезли через стену, оказавшуюся стеной женского монастыря, и старик-сторож, которого дядя Гарри когда-то своими руками вытащил из-под рухнувшего башенного крана, пристроил вас у себя до тех пор, пока Прево не успокоится...
Жюльетта восторженно взвыла.
– Откуда вы знаете? Дядя Гарри вам писал?
– Нет, не он. Его друг. Виктор Гюго. Так и назвал свое письмо: «Отверженные», том первый.
Жюльетта опять рассмеялась. Только теперь это был вполне девичий, мелодичный и звонкий смех, и даже несколько чумазое личико стало гораздо симпатичнее и мягче.
– Вы опять меня уели, опекун.
– И беру свои слова насчет плохой игры обратно. У вас прирожденный дар рассказчицы. Хорошая фантазия, бойкий стиль. Будете и дальше дурака валять?
– Буду. Но не сильно. Вам так хочется узнать мою подноготную?
– Хочется – это неправильное определение. Больше всего мне хотелось бы, чтобы я не становился вашим опекуном. Но раз уж я им стал, хочется верить, что когда-нибудь вы будете со мной откровенны. Сами. Без расспросов с моей стороны.
– Ага, поняла. Это когда я проникнусь вашей добротой и благородством.
– Ну, например. Идете наверх?
– Иду.
– Отлично. Тогда я передохну в каюте.
– Я передумала. Развлеку вас лучше разговором.
– О нет. Тогда пройдусь я.
С этими словами Джон поднялся и быстро вышел из каюты.
Он прогуливался уже с полчаса, когда до него донесся визгливый голос какой-то дамы.
– ... Говорю, вам, офицер, из окна соседней каюты сыплется какой-то мусор!
– Из иллюминатора, мадам.
– Какая разница! Его относит прямо на мое окно!
– Иллюминатор, мадам.
– Боже, какой упрямый... Да сделайте что-нибудь!
– Какой у вас номер каюты, мадам?
– Восемнадцатый. А мусор летит из двадцатого.
Джон похолодел. Двадцатый номер принадлежал ему... и маленькой змее Жюли!
Он стремглав слетел по трапу, пронесся по коридору и вломился в номер, даже не подумав постучать. Жюльетта испуганно повернулась от открытого иллюминатора... Когда он разглядел, ЧТО она держит в руках, ярость залила его волной раскаленной лавы, и он с ревом схватил девушку за плечи, не замечая, что по ее лицу текут слезы и вызваны они отнюдь не его эффектным появлением.
– Маленькая дрянь! Эгоистка! Шпана! Не сметь! Слышишь? Я тебя ненавижу...
– От... пус... ти... те... Мне больно!
Он отшвырнул ее от иллюминатора и трясущимися руками стал неловко закрывать крышку урны, на дне которой осталось совсем немного праха его дяди Гарольда.
Остальное только что развеяла по ветру малолетняя Паршивая Овца, опекуном которой он так неосмотрительно согласился стать.
5
Джона трясло от ярости, и руки все прыгали и прыгали по тяжелой крышке урны. Вдобавок заболело сердце, и это совсем уж никуда не годилось, потому что он никогда в жизни ничем не болел.
Она скорчилась в углу каюты, маленькая, испуганная, зареванная, и только теперь ему пришло в голову, что плакать она начала еще до его появления в каюте.
Джон осторожно поставил урну на стол и спросил все еще срывающимся от ненависти голосом:
– Тебе доставляет удовольствие причинять боль? Ты в детстве мучила котят? Отрывала мухам лапки? Объясни, что значит эта идиотская и жестокая выходка? Кто дал тебе право издеваться над прахом человека, который был к тебе добр?
– Я не издевалась...
– Ты даже не понимаешь, что сделала. У тебя отсутствует представление о добре и зле. Нет его у тебя...
Она вдруг метнулась вперед дикой кошкой, сжала кулачки, засверкала зелеными глазищами.
– Говорите, говорите все, что вам захочется! Мне наплевать! Потому что я знаю, что права, а вы все равно не имеете права меня стыдить, потому что вы его бросили, а не я! Вы ни разу ему не позвонили и не написали! А он вас так любил! Так гордился вами! Господи, да я раз триста слышала про ваше рождение и крестины! Про то, как вы орали так, что описали священника! Про то, как он привез вам трехколесный велосипед!
Джон ошеломленно уставился на разъяренную девушку, даже пропустив мимо ушей убийственное упоминание о позорном инциденте на собственных крестинах. А Жюли все бушевала.
– Вы ни черта не понимаете, мсье Сноб! И сказать вам про это было нельзя, вы бы все равно не дали. Но я ведь ему обещала!
– О чем вы говорите?!
– Он так и говорил – хороший мальчик, но уж больно правильный, точно старик. Только вы не старик. Вы старикашка, мерзкий, нудный, такой правильный, что зубы сводит!
– Жюльетта! Успокойтесь и объясните мне...
– Дядя Гарольд велел развеять часть его праха над морем, вот что!
В каюте повисла тишина. Мертвая. Джону казалось, что он слышит стук своего сердца. Он молча и как-то неловко сполз со стула на пол, на коленях подполз к поникшей Жюли и осторожно взял ее за плечики... Какой же хрупкой она была под всеми этими тряпками! Джон замер, боясь снова причинить ей боль.
– Жюли... Это правда?
– Какая разница, что я отвечу? Вы же все равно не поверите маленькой дряни.
– Я не знал ничего...
– Никто не знал. Старый Жюв тоже. Дядя Гарольд не внес это в завещание. Сказал это мне перед самой смертью. Велел развеять между Англией и Францией, а часть оставить, чтобы вы похоронили его в своем родном замке... Он сказал, что только мне может это поручить, потому что я найду возможность это сделать. Я почти сделала, вы бы и не заметили.
– Ты плакала по нему?
– Не ваше дело.
– Ты плакала по нему. Ты сбежала из дома от горя, потому что не могла пережить его смерть. Ты его любила.
– Не ваше дело.
– И он тебя любил. Он тебе помогал, а ты стала для него тем, чем не смог стать я. Семьей. Ребенком. Другом.
– Не ваше...
– Прости меня, девочка. Прости, пожалуйста. Хочешь, на колени встану?
– Вы уже на коленях...
– Меня зовут Джон. И, возможно, я твой брат... Как бы там ни было на самом деле. Так что давай перейдем «на ты» и попробуем еще раз. Заново. Идет?
– Идет. Не врешь?
– Нет. Не вру.
И тогда она сделала самую неожиданную вещь. Она вдруг доверчиво и абсолютно по-детски подалась вперед и прильнула щекой к груди Джона. Замерла, прижавшись всем телом, а он так и не снял руки с ее плеч.
Джон Ормонд окаменел, превратился в соляной столп. Поклонник японской теории «личного пространства», он никогда не любил тесных контактов, вроде дружеских объятий и поцелуев при встрече. Даже с Меделин они ходили под руку, не касаясь друг друга телами (впрочем, она тоже любила эту теорию). Однако сейчас Джон Малколм Ормонд чувствовал себя более чем комфортно, хотя в одной маленькой каюте сошлись воедино все идиотские случайности, которые могли с ним произойти.
Он стоял на полу, на коленях, он только что пережил страшный и едва ли не первый в жизни приступ ярости, он обнимал молоденькую девушку, прижавшуюся щекой к его груди, и был к тому же опекуном этой девушки! С тем, прошлым Джоном Ормондом такого произойти не могло никак и никогда. Однако новый Джон Ормонд нравился самому себе гораздо больше.
Нет, нельзя сказать, что сразу после этого они стали друзьями. Напротив, на смену доверчивым объятиям пришли неловкость и смущение, поэтому остаток плавания они провели в разных концах палубы, причем Джон бездумно смотрел на медленно темнеющее небо, а Жюльетта курила и лениво плевала в пенную кильватерную дорожку.
В лондонском поезде она задремала, завернувшись в свою жуткую куртку, и Джон мрачно подумал, что надо бы эту рвань каким-то образом у девушки изъять и вообще приодеть ее... В результате всех этих размышлений он и сам заснул, а проснулся только на вокзале Ватерлоо, потому что проводник тряс его за плечо. Такое случилось впервые в жизни, и Джон изумленно смотрел на проводника, а потом перевел взгляд на соседнее место – и тут же с воплем вылетел на перрон. Жюльетта с недоумением смотрела на него снизу вверх. Она сидела на корточках, прислонившись спиной к фонарному столбу, и курила сигарету.
Устыдившийся Джон с благодарностью принял из рук профессионально невозмутимого проводника свой портплед и повернулся к воспитаннице.
– Поехали?
– Как скажете.
– Мы же перешли на ты?
– Трудно привыкнуть. Не гони волну, чувак. Шучу.
– Серьезно, откуда ты всего этого набралась?
– Машины с шофером у меня нет, езжу на метро. Общаюсь с ребятами. Училась в школе.
– Я тоже учился в школе.
– Видимо, у нас были разные школы. Куда мы едем?
– Домой.
– В замок?
– Нет, в замок мы поедем завтра днем. Надо купить тебе одежду.
– Проще говоря, приодеть и отмыть замарашку, прежде чем показывать ее обитателям замка. Там все графья, как ты?
– Не графья, а графы. И их там больше нет. В Форрест-Хилле живет моя тетушка, родная сестра дяди Гарри. Ее зовут Гортензия.
– Старуха?
– Ей семьдесят пять.
– У-у-у!
– Не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Тетя прекрасно выглядит и вообще...
– Я ничего такого в виду не имею. Просто... Надо полагать, моих сверстников в замке нет?
– Собираешься сколотить новую компанию?
– А что, нельзя?
– Да нет. Найдешь – пожалуйста. Только учти, это не Париж. Даже совсем не Париж.
– Это я уже поняла. Начать с того, что здесь все говорят по-английски.
– Кстати, ты говоришь по-английски?
– Йес, сэр! Я говорю, пишу и читаю по-нглийски. И по-французски. По-французски я еще и ругаюсь. А по-итальянски умею петь. Вот так: О соле, о соле мио-о-о...
Джон вздрогнул и слегка попятился – голос у воспитанницы был на редкость пронзительный и громкий. Хотя слух у нее имелся, это надо признать.
Несколько юных джентльменов, томившихся рядом со своими матерями, восторженно заулюлюкали, какая-то дама неодобрительно поджала губы. Практически все любопытные смотрели не на поющую оборванку, а на молодого лорда, сопровождавшего ее. По-человечески это было понятно и объяснимо, но Джон Ормонд едва не сгорал со стыда. Еще не хватало встретить знакомых...
Насчет этого обошлось. Они без потерь миновали здание вокзала и вышли на стоянку такси, где Жюльетта мгновенно подкатилась к рослому полисмену, подхватила его под руку и заявила во весь голос, к тому же с отчаянным акцентом:
– Папочка фотографировать меня с полицай! Я обожать мучкулистые английские бобики.
«Мучкулистый бобик» слегка нахмурился, но одновременно и приосанился, потому что еще не решил для себя, кто перед ним находится: малолетняя хулиганка или эксцентричная иностранка. Джон воспользовался паузой и уволок Жюльетту в такси.
По дороге она металась от окна к окну, восторженно верещала, дергала Джона за рукав – одним словом, вела себя в точности как обезьянка в зоопарке. Возле дома, воспользовавшись паузой, пока Джон доставал с заднего сиденья портплед, мисс Арно рысцой обежала машину, поманила пальчиком водителя и, когда тот высунулся, кинулась ему на шею с поцелуями и громогласными воплями благодарности за прекрасную экскурсию, которую он совершил для них по столице Великобритании. Бедолага был настолько ошеломлен, что даже не кричал, только взмахивал руками и дико вращал глазами. К счастью, Джон быстро заметил безобразие и спас достойного члена профсоюза от малолетней бандитки.
Уже на песчаной дорожке, ведущей к дому, Джон строго и сердито растолковывал Жюли:
– Пойми ты, ради бога, пора перестать вести себя, как испорченный мальчишка, и начать вести себя...
– Как испорченная девчонка.
– Ну почему испорченная, Жюльетта...
– Нельзя же резко менять устоявшуюся жизнь. От этого бывают инфаркты. Начнем с испорченной девчонки.
– Хорошо. То есть ничего хорошего в этом, конечно, нет. Да, и еще одно. Есть разница между шалостью и безобразной выходкой. Убедительно прошу тебя не устраивать диких прыжков и туземных танцев с выкриками, как только что с таксистом. У нас в семье это не принято...
Говоря это, Джон машинально отпер дверь своим ключом. К сожалению, он начисто забыл о слабых нервах своего молодого слуги Джеймса Бигелоу.
Этот достойный молодой человек как раз выходил из кухни, собираясь открыть окна на втором этаже, чтобы проветрить кабинет и спальню. Позади Джеймс оставлял теплую компанию в составе шофера Мерчисона и кухарки, именно Мерчисону Джеймс и продолжал объяснять нечто, очень важное:
– Да пойми ты, Мерч, это совершенно ничего не значит, раз фотофиниш показал... О ГОСПОДИ!!!
Это Джеймс обернулся и увидел в полутьме прихожей своего хозяина, а вместе с ним... Это было уже неважно, потому что неожиданность появления лорда Ормонда и расстроенные нервы Джима произвели совместный залп по его психике, и бедняга заорал от всей души и во все горло.
Джон вздрогнул, едва не выронив портплед, а Жюльетта с готовностью заорала в ответ и запрыгнула опекуну на руки. Так они и стояли, в высшей степени карикатурная и нелепая группа, причем Джим и Жюли вопили, а Джон никак не мог сориентироваться, что делать сначала, – заткнуть обоим рты, стряхнуть с себя Жюльетту или сразу убить обоих. Выбежавшие на шум Мерчисон и кухарка всплескивали руками и преувеличенно жизнерадостно здоровались с хозяином, пытаясь перекричать весь этот гвалт. Одним словом, Бедлам!
Когда через четверть часа кухарка принесла в гостиную чай, Мерчисон удалился к себе, а Джим на вытянутых руках унес на заднее крыльцо куртку гостьи, Жюльетта с восхищением посмотрела на своего опекуна.
– Класс! Значит, говоришь, не принято шуметь и выпрыгивать из кустов... Ладно, будем считать, это он мне так обрадовался. У твоей тетки крепкие нервы?
– Даже не думай!
– Я просто спросила. Понимаешь, если такими же воплями меня встретит еще и она, я серьезно закомплексую.
– Джеймс жаловался на усталость. Я виноват сам. Мы слишком тихо вошли.
Жюльетта хмыкнула.
– Тут у вас не поймешь, не то тихо себя вести, не то в бубен бить по прибытии. Ладно, как скажешь. Завтра по магазинам?
– Да, если ты не против. Я понятия не имею, что тебе нужно, так что, прошу тебя, давай без представлений. Просто выбери необходимое, а я заплачу.
– Вот это кле... хорошо! Дядя Гарольд всегда норовил сам купить шмотку и преподнести ее мне, и Кошелка тоже. Правда, дядины подарки были прикольные, а вот Кошелкины – ужас. Юбочки, платьица – с души воротит!
– Я надеюсь, мы не ограничимся покупкой исключительно джинсов и армейского обмундирования? Платье девушке тоже иногда нужно надевать...
– Хорошо, но только одно!
– Жюльетта, в замке бывают приемы, приезжают гости...
– Хорошо, два. Но не больше. И не надо мне про приемы. Сроду я на них не ходила, во, судя по журналам, на них тетки одеваются в основном в бриллианты.
Джон усмехнулся. Он прекрасно помнил прошлогодний конфуз леди Огилви, когда новомодное платье в буквальном смысле соскользнуло с ее узкого тела, изнуренного многолетними диетами, и бедняжка осталась только в фамильных бриллиантах. Как выяснилось, под эту эксклюзивную модель не следовало надевать белье...
– Что до приемов, то могу тебя сразу утешить – или расстроить, не знаю, – они в замке бывают редко. Однако два раза в год – обязательно. Ты приехала накануне летнего сбора всей нашей дальней и ближней родни, он будет через месяц с небольшим. Отличный повод со всеми познакомиться и представить тебя.
– Зачем это?
– Затем, что ты теперь тоже член нашей семьи.
– Вот еще! Я сама по себе.
– Это было просьбой дяди Гарри.
– Не слишком-то ваша семейка прислушивалась к его мнению, пока он был жив.
– Ты во многом права, но не стоит с предубеждением относиться к незнакомым людям. Например, тетя очень любила своего брата, мой отец скучал по нему...
– Давай не будем сегодня, а, граф? А то опять поссоримся, наговорим ерунды. Я остаюсь при своем. Дядя Гарольд был страшно одинок при живой семье всю свою жизнь и умер тоже в одиночестве.
– Принимаю упрек.
– И не надо за мой счет пытаться прорваться в Царство Божие на халяву! Я не испытываю ни малейшей благодарности за то, что меня, малютку, вырвали из грязи и ввели в свой дом такие большие люди. Я вообще терпеть не могу благодетелей.
– А как же дядя?
– А он никогда в жизни благодетелем не прикидывался. Был нормальным пацаном.
– О господи!
– Так говорят, извини. Это сленг. Он был отличным дядькой. Не устраивал бесплатную столовку именно по воскресным дням и именно в своем приходе. Взял – и открыл их штук десять по всему Парижу. А к нему самому в дом вообще мог прийти любой, Кошелка накормила бы от пуза и с собой дала.
– Значит, и мадам Клош не так уж плоха, как ты говорила раньше?
– Никогда я не говорила, что Кошелка – плохая! Я говорила, что я с ней жить не могу, и это чистая правда. Так ведь и она со мной не может! Она знаешь что делала? Заходила ко мне в комнату тайком и поливала Оззи святой водой. Он весь сморщился...
– Кого, прости?
– Оззи. Ну... Осборна.
– Это твой...
– Это не мой любовник, не мой хомячок и не мой ручной крысеныш. Это рок-музыкант. Его портрет висел у меня на двери. С тобой все ясно, граф. Хоть про битлов-то ты слышал?
– Да. А почему мадам Клош поливала его святой водой?
Жюльетта вздохнула и махнула рукой.
– Завтра объясню. Зайдем в музыкальный отдел супера и прикупим мне музончика. Мой остался в Париже.
– Я предлагал тебе заехать домой.
Неожиданно девушка закусила губу, и в зеленых глазах блеснули слезы.
– Из-за скукоженного Оззи и пары кассет возвращаться туда, где дядя Гарольд... Это чересчур. К тому же я ненавижу прощаться и собирать вещи. Это напоминает мне приют.
– Ты выросла в приюте?
– Я выросла гораздо раньше. В приюте я просто смогла не загнуться. А твой дядя мне помог. Все, концерт окончен. До завтра. Да, я сплю голая, так что не надо ко мне врываться с криком «Доброе утро, деточка!».
– Хорошо, Джеймс постучит в дверь.
– Этот малый из коридора? Класс! Его надо отдать в шапито уткой.
– Кем?!
– Уткой. Ну подсадным... Знаешь, когда клоун выливает на кого-то из публики ведро воды или бьет по голове курицей... Это же не просто зритель, с ним заранее договариваются. А если у него будет хорошая, искренняя реакция, то ему и деньжат приплатят. Видел наверняка?
– Боюсь, что нет. Я не бывал в цирке.
– Ой! Как же ты жил-то, граф?
– Вообще-то... довольно неплохо. А зачем выливают воду на зрителя?
– Чтобы смыть с него пот трудового дня. Для смеха, естественно.
Джон с возмущением посмотрел на Жюли.
– Не вижу ничего смешного в унижении человеческого достоинства.
Жюльетта усмехнулась.
– Действительно, что это я. Ладно, клоунов вычеркиваем. В Лондоне есть шапито?
– Понятия не имею.
– Так узнай. Я – дитя, мне нужны развлечения.
– В Лондоне масса театров, концертных залов, художественных галерей...
– Не-ет, я дитя другого склада. Моя душа отягощена пороками, я воспитана на шуточках площадного балагана, мое детство прошло в цирковых опилках.
– Опять врешь?
– Отчасти. Спокойной ночи. Куда мне идти?
– Я провожу.
Он сам не знал, почему смутился, пропуская ее вперед и идя следом по лестнице. Возможно, потому, что без своей куртки и бейсболки, умытая и более-менее успокоившаяся, Жюльетта куда больше походила на молодую девушку, чем на хулиганистого пацана. Довольно симпатичную девушку, надо это признать. И уж во всяком случае – взрослую.
Он дождался, когда она войдет в приготовленную комнату для гостей, и торопливо попятился обратно к лестнице. В этот момент юная нахалка повернулась и скроила ангельскую рожицу, сложив губки бантиком.
– А поцеловать на ночь, папочка?
Джон Ормонд, потомок солдат и военачальников, бежал с позором.
Проснулся-то он, как всегда, ровно в восемь, но это не было похоже на прежнее мирное пробуждение от крепкого и здорового сна. Джону весь остаток ночи снились трудные подростки и юные девы в армейских башмаках. Они бегали по Форрест-Хиллу и хулиганили, а он пытался скрыться от них в самых дальних покоях родового замка, открывал дверь за дверью, но везде были эти маленькие мерзавцы... ПOTOM ему приснилась Жюльетта, она смотрела на него внимательно и немного грустно, а шотом он ее поцеловал в губы, и тогда клоун в клетчатом пиджаке вылил на него ведро воды и ударил по голове живой курицей. Даже во сне Джон вспыхнул от стыда и унижения, и чувство это было столь нестерпимым, что он проснулся, рывком сев в постели. Джеймс раздвинул портьеры, поздоровался с хозяином и поплыл к дверям.
– Джеймс?
– Да, милорд?
– Завтрак, как обычно, но на двоих. Мерчисону передайте, пусть будет готов к десяти. Мы поедем в Торговый центр, пробудем там часа два, затем вернемся домой, соберем вещи и отправимся в Форрест-Хилл. Вы едете с нами.
– Слушаю, милорд...
– Что-то еще, Джеймс?
– Я позволю себе заметить, милорд... В торговом центре вы не отделаетесь двумя часами.
Неожиданно Джон заинтересовался.
– Вы так думаете, Джеймс?
Ободренный слуга взмахнул руками и авторитетно заявил:
– Не меньше четырех! Даже моя невеста Молли – девушка редких достоинств, но с крайне маленькой зарплатой – проводит там часа три с лишним. А молодой мисс потребуется много вещей.
– Что ж, вы, наверное, правы... А я совершенно в этом не разбираюсь.
– Милорд простит меня, но леди Элис в Лондоне.
– Джеймс! Вы гений.
С этими словами Джон Ормонд выскочил из постели и кинулся к телефону. Потрясенный Джеймс тихо выскользнул за дверь и отправился будить молодую мисс. Многое он повидал в жизни, разные потрясения испытывал, но никогда не думал, что доживет до такого.
Его хозяин, сэр Джон Ормонд, забыл надеть пижаму и спал в костюме Адама!
Сам сэр Джон Ормонд заметил это, лишь повесив трубку и отправившись в душ, однако мысли его были заняты другим, и он не стал расстраиваться на эту тему.
Леди Элис Шоу была его троюродной теткой по маме. Она была старше Джона всего лет на десять, в отличие от остальных родственников, и потому он привык относиться к ней скорее как к старшей сестре. Леди Элис была красива, умна, богата, замужем за политиком, ключительно для собственного удовольствия занималась любимым, хотя и несколько необычным для аристократки делом... Одним словом, она невыносимо скучала в своем загородном доме в Эссексе и часто наезжала в Лондон. Просьба Джона о помощи была принята с восторгом и энтузиазмом.
В половине девятого Джон сидел за столом и готовился основательно подкрепить силы, потраченные на галльских берегах. Жареный бекон, омлет, холодные почки, рыба, кофе, сок, тосты, джем, масло – истинно английский завтрак ждал графа Лейстерского, и Джон уже взялся за нож, когда...
В столовую ворвался вихрь, вопросивший разгневанным и звенящим голосом:
– ГДЕ МОЯ КУРТКА?!
Джон вздохнул. Это испытание, которое Господь послал ему в наказание за слишком четко отлаженную и бесперебойную жизнь. Помимо всех прочих мучений, испытание это, по всей видимости, предполагает отказ от завтраков. И обедов. И вообще от еды.
– Доброе утро, Жюльетта.
– Виделись! Я спрашиваю, где моя куртка?
– В чем дело, там было что-то ценное?
– Не ваше собачье дело! Это МОЯ куртка, ясно? Почему мне ее не отдают?
– Джеймс!
– Да, милорд?
– Где куртка мисс Арно?
– Она на заднем дворе, милорд. Осмелюсь заметить... на улице уже двадцать четыре по Цельсию. Очень жаркая весна в этом году... мисс.
Жюльетта плюхнулась на стул и придвинула к себе сок.
– Давайте внесем ясность. Я не собираюсь изображать из себя бедную сиротку. Я ношу такую одежду – и буду ее носить, это понятно?
– В десять нас ждут в Торговом центре.
– Кто еще?
– Моя тетя по матери, леди Элис Шоу.
– Ну, если по матери, то все в порядке. А зачем она нас там ждет?
Джон кашлянул.
– Только не сердись. Я действительно ничего не понимаю в таких вещах. Подозреваю, что ты из чистой вредности можешь ограничиться джинсами и набором носовых платков. Леди Элис могла бы посоветовать...
– Ясно. Платьица и юбочки. Бог с тобой, я сегодня выспалась. Надеюсь, она не запретит мне зайти за кассетами? Потому что в этом случае мне придется быть невежливой.
Джон улыбнулся.
– Мне кажется, Элис тебе понравится. И она не запретит тебе зайти за кассетами, в этом я совершенно уверен.
Они подъехали к Торговому центру, и Жюльетта выскочила из машины, с нетерпением оглядываясь по сторонам.
– Где твоя тетушка? Разве истинные леди опаздывают на встречи?
– Опаздывают, и еще как!
Джон не сдержал улыбки при виде ошарашенного лица Жюльетты. Многие именно так и реагировали при первой встрече с леди Элис Шоу.
Невысокая женщина с точеной фигуркой. Высокая грудь, крутые бедра. Копна черных волос перехвачена на лбу кожаным шнурком. Черный кожаный комбинезон облегает тело, подобно второй коже. Легкомысленная джинсовая курточка от Версаче расшита стразами. Высокие ботинки из мягкой кожи имитируют обувь байкеров, но сшиты на заказ и весят не больше балетных пуантов. Тонкие пальцы обеих рук унизаны серебряными перстнями, в одном ухе пять серег, в другом три. Эффектный макияж, добродушная улыбка. Знакомьтесь – Черная Элис, один из самых успешных музыкальных продюсеров Великобритании, специализирующийся на тяжелом роке.
– Рад тебя видеть, Элис. Это – Жюльетта.
– Рада встрече, Джонни. Жюльетта – это очень длинно. Как тебя зовут друзья?
– Жюли. Иногда – Джу. Так меня называл дядя... мистер Ормонд.
– Отлично. Жюльетта, она же Джулия, она же Джу. Джонни, ты с нами не пойдешь?
– Я нужен?
– Только чтобы поднести сумки. Ладно уж, сиди в кафе и читай свои газетенки. Мы обойдемся без тебя. Джу, предлагаю так: сначала необходимое, а на закуску – для души. Идет?
Жюльетта несмело улыбнулась. Элис ей явно нравилась, но девушка еще не избавилась от своей природной подозрительности.
– Вообще-то идет, но... мсье... мистер Ормонд, сколько я могу потратить?
Джон почему-то опять почувствовал, что краснеет, а нахалка Элис от души веселилась и не сводила с него глаз, в отличие от Жюльетты, которая смотрела в пол и сама явно чувствовала себя не в своей тарелке.
– Давай, давай, не жмись, папочка.
– Элис, если я еще и от тебя услышу этот жаргон... Жюльетта, мы же договорились, по имени и «на ты». А что до денег – ты можешь тратить сколько угодно. Вот карточка. Элис покажет, как ею...
– Я знаю, как ею пользоваться. Но это твои деньги?
Джон занервничал.
– Не волнуйся, я потом вычту из твоих. Довольна?
– Хорошо. Идемте... леди Элис.
– О, как ужасно это звучит! Все мои сорок два года в этих словах – ЛЕДИ ЭЛИС! Нет уж, моя дорогая! Просто Элис. На ты. И без выпендрежа. Договорились?
– Договорились.
– Умница. За это возьму тебя на концерт «Роллингов». Племяш, не скучай.
Парочка почти мгновенно исчезла в ближайшем бутике, а Джон едва не пустился в пляс. Как хорошо, когда кто-то делит с тобой ответственность! Вскоре он уже с удобствами расположился в кафе и развернул «Таймс», но мысли его то и дело возвращались к Жюльетте Арно.
Кажется, девочка начинает превращаться в нормального человека. Она уже улыбается, вряд ли ей теперь придет в голову желание хулиганить...
Значит, можно домой. В Форрест-Хилл. Покой и умиротворенность. Они с Жюльеттой окончательно подружатся, будут вместе гулять, она станет больше читать, к осени они обсудят тему колледжа...
Если бы Джон Ормонд знал в эту минуту, КАК он ошибается, он бы сам попросил официанта налить ему в кофе ложечку цианистого калия...
6
Джеймс Бигелоу оказался совершенно прав. Джон успел поговорить по телефону – четырнадцать раз, перечитать «Таймс» – три раза, выпить кофе – без счета, позавтракать – два раза, задуматься, не случилось ли с его дамами чего-нибудь фатального, – сто пятьдесят раз.
Время неумолимо приближалось к ланчу, от кофе звенело в ушах, «Таймс» лежал в мусорной корзине, а граф Лейстерский задумчиво листал журнал «Роллинг Стоун», услужливо предложенный официантом, видевшим, как Джон целовал в обе щеки Черную Элис.
Нельзя сказать, что Джон Ормонд был совсем уж старомодным и консервативным мужчиной, никогда не сталкивавшимся с молодежной субкультурой. И он в студенческие годы ходил на дискотеки, и у него когда-то были записи пресловутых «роллингов» и «битлов», однако фотографии в журнале его неожиданно заинтересовали и слегка шокировали.
Молодые девицы в боевой раскраске североамериканских индейцев, женоподобные юноши, с ног до головы затянутые в кожу, гитары, барабаны, мотоциклы... Откровения рок-звезды о первом просветлении, случившемся после приема неведомого наркотика... Его собственная тетка в окружении совершеннейших монстров с длинными гривами, бородами и серьгами в ушах. Подпись: «Черная Элис свидетельствует: это круто, чуваки!».
Джон прекрасно знал мужа своей тетки, благодушного сэра Эндрю, председателя Комиссии Ее величества по проблемам фермерских угодий. Сэр Эндрю любил свой сельский дом, гольф и спаниелей. Ни при каких условиях Джон не мог себе представить, что Элис, выходя к завтраку, говорит своему супругу «Это круто, чувак!», имея в виду хорошо приготовленные яйца-пашот.
Пролистав еще несколько страниц, молодой граф Лейстер с удивлением понял, что начинает понемногу понимать этот странный язык. Что ж, это полезный опыт, учитывая характер его юной воспитанницы. Хотя Диккенс, на его взгляд, был все-таки круче. И вообще, уж он-то точно клевый чувак...
Жюльетта посмотрела в зеркало и рассмеялась, запрокинув голову. Элис присоединилась к ней, а худощавый смуглый визажист Жози сокрушенно поцокал языком и изрек:
– Таких, как вы, девочки, нужно сечь розгами. Это же надо! Тысячи женщин умоляют меня сжечь их волосы, чтобы стать стопроцентной блондой, а здесь... Натуральная золотистая блондинка издевается над своими волосами и просит остричь ее наголо. Нет, нет и еще раз нет! Элис, дай мне рекомендации, немедленно!
В зеркале отражался зеленоглазый одуванчик с румяными щеками. Расплетенные косички дали изумительный эффект, на голове у Джульетты солнечным облаком переливалась прическа «мелкий бес». Элис отсмеялась и серьезно сказала:
– Я рекомендую тебе Волшебника Жози, Джу. Давай повременим с радикальными стрижками. Жози, давай что-нибудь асимметричное. Юная дева, только что вставшая с постели, что-то в этом роде.
– Хорошо. Юная леди готова?
– Я не леди, я мадемуазель.
– Бьен! Шарман! Манифик! Раз вы родились во Франции, у вас должно быть врожденное чувство прекрасного и природный шик. Поболтайте о чем хотите, дамы, а вот зеркало я уберу. Люблю театральные эффекты, грешен.
И Жози принялся колдовать, а дамы – болтать.
Элис оказалась замечательной собеседницей. Жюльетта уже и не помнила, когда и с кем в последний раз так упоенно обсуждала тряпки, которыми, в общем-то, никогда не увлекалась. Элис выдернула с полки кипу модных журналов, и они углубились в дебри современной моды. Руки Жози невесомо порхали над головой Жюльетты, и настроение у нее стремительно улучшалось.
Потом Жози отступил в сторону и скромно потупился, а Жюльетта недоверчиво рассматривала в зеркале незнакомую юную красотку. Густая грива пшенично-золотистых волос ниспадала ей на плечи, из-под неровной челки сияли изумрудами огромные и счастливые глаза, а полуоткрытые розовые губы, как ни пошло это звучит, напоминали розовые лепестки, и ничто иное.
Попрощавшись с Жози, они ринулись в водоворот бутиков, и вокруг Жюльетты закружился вихрь из шифоновых юбок, смелых топов, романтических блуз, шелковых ботфорт, расшитых стразами, туфелек, босоножек, кроссовок, байкерских ботинок, джинсов, шелковых брюк, футболок, кружевного белья, невидимых глазу чулок, флакончиков, тюбиков, кисточек, пуховок, баночек...
Элис прятала улыбку, глядя на раскрасневшуюся девушку, вертевшуюся перед огромным зеркалом в одних трусиках и лифчике. Жюльетта рассматривала туфли на высоченном каблуке и щебетала, словно птичка, мешая французские и английские слова. Она ничем не напоминала больше того диковатого подростка в мешковатых и грязных тряпках, презрительно цедящего слова сквозь зубы. Хрупкая, изящная, с молочно-белой кожей, она была прелестна и женственна. Элис отметила и вполне сформировавшуюся фигурку, и длинные стройные ноги с изящными лодыжками, и то, как легко это златовласое чудо держалось на высоких каблуках.
– Джу, деточка, а что ж мне врали про детей трущоб и отвратительные манеры? Ты держишься, как маленькая принцесса.
Жюльетта опомнилась, ойкнула, подхватила одежду и умчалась за ширму. Элис рассмеялась и закурила длинную тонкую папиросу, вставив ее в изящный мундштук. Она была очень довольна. Ей удалось блестяще провернуть операцию по превращению мальчика в девочку. Грязные тряпки, столь дорогие сердцу Жюльетты Арно еще утром, ныне лежали в углу сиротливой серой кучкой, и девушка только небрежно махнула рукой, когда одна из продавщиц предложила упаковать старую одежду в пакет и отнести в машину.
– Думаю, я больше не буду это носить. Ой, Элис, я очень легкомысленная, да?
– Ты прелестна, прости мой жаргон. И согласись – в новой одежде удобно и приятно. А если ты захочешь шокировать Гортензию, просто скажи так: ученые недавно доказали, что лошади – тупые.
– Старушка любит лошадей?
– Старушка без запинки назовет тебе всех чемпионов скачек с довоенных времен, причем с фамилиями жокеев, тренеров и владельцев. Ее ненавидят все букмекеры Объединенного королевства.
– Ого! Она мне уже нравится. Я представляла себе засушенную старую деву, читающую на ночь Руссо и Шарлотту Бронте. А насчет лошадок мы с ней споемся.
– О, ты тоже специалист?
– Не я. Дядя... Мсье Гарольд. Он здорово в этом разбирался. Мог часами рассказывать мне про скачки тридцатых годов. Я, кстати, тоже знаю всех чемпионов тех лет.
– Тогда дело в шляпе. Гортензия будет в восторге. В этом отношении она страшно одинока. Джон не отличит кобылу от жеребца. А Гортензию к скачкам тоже пристрастил Гарри. С детства таскал ее в Аскот.
Жюльетта вынырнула из-за ширмы и села на стул напротив Элис. Теперь на ней тоже были джинсы, но сидели они прямо по фигурке, а еще девушка выбрала светлую шифоновую блузку в романтическом стиле, джинсовую безрукавку, расшитую стразами, и мягкие полусапожки из тончайшей замши с приспущенными голенищами. На шею она повязала изумрудный шелковый платок... Маленький и прелестный ковбой, только без шляпы и лассо.
Элис ласково смотрела на девушку и молчала. Потом задумчиво протянула:
– Да, просто удивительно, как слепы бывают вполне умные и взрослые люди... Джу, ты отлично выглядишь. Как насчет ланча с покойником?
– Что-о?!
– Джон Ормонд умрет на месте, когда тебя увидит. А для ланча самое время.
Увидев Элис, Джон вежливо приподнялся со стула и церемонно поклонился ее очаровательной светловолосой спутнице.
– Добрый день, мисс Элис, все в порядке? Где ты оставила моего Гавроша?
Над столиком повисла тишина, звенящая от беззвучного, с трудом сдерживаемого смеха. Потом смех прорвался, и Черная Элис рухнула на стул, а рядом с ней уселась на корточки и визжала от избытка чувств золотоволосая нимфа. Этот визг показался Джону подозрительно знакомым, но он все еще медлил, настороженно присматриваясь к веселящимся дамам. Потом на его невозмутимом лице отразилось такое безбрежное изумление, смешанное с восхищением, что Жюльетта, неведомо почему, почувствовала, как ее душа взмывает к небесам.
– Элис! Это фантастика! Как тебе... нет, как вам обеим это удалось?! Боже! У нее есть руки! Ноги! Фигура! Мисс, вам уже говорили сегодня, что вы очаровательны?
С этими словами синеглазый красавец торжественно склонился над ручкой Жюльетты, и тут она даже вздрогнула.
Уж очень мужским было это прикосновение. По спине девушки пробежала дрожь, превратившаяся в приятную щекотку. Кровь бросилась в лицо, в ушах слегка зазвенело, словно золотые колокольчики начали вызванивать нежную мелодию... А еще жар побежал по руке, от того места, где ее кожи коснулись губы Джона Ормонда. Теплые, улыбающиеся губы, только что поцеловавшие ее руку не шутливо, не как взрослый мужчина целует ручку маленькой девочки, нет! Это был молчаливый комплимент очаровательной молодой женщине, и все это Жюльетта поняла в сотую долю секунды, а поняв, смутилась.
Еще три дня назад ее смущение наверняка вылилось бы в какой-нибудь хулиганский выпад, в нарочито хриплый смех, в непристойность, – но сегодня, сейчас это было невозможно. Что-то с ней сделалось за этот день. Может, Жози оказался колдуном? Или тряпки действительно способны влиять на того, кто их носит? Жюльетте Арно впервые в жизни отчаянно хотелось нравиться мужчине. Хотелось упиваться этим восхищенным огнем в синих глазах, хотелось быть уверенной в том, что этот высокий мужественный красавец видит в ней женщину, а не капризную маленькую девчонку, обузу, навязанную волей умершего родственника.
Джон, видимо, тоже что-то почувствовал, потому что выпустил ее руку и немного суетливо отступил на шаг назад, огляделся и стал преувеличенно активно подзывать официанта.
Потом они ели и разговаривали. Элис рассказывала какие-то байки из жизни знаменитостей, Жюльетта реагировала с живым интересом, а Джон сидел и отчаянно завидовал, потому что девочка знала, о ком идет речь, а он понятия не имел, и это впервые в жизни раздражало его. Конечно, ему не приходило в голову, что он в каком-то смысле ревнует к Элис, к тому, как быстро и легко она завоевала доверие зеленоглазой девчонки, и сейчас они, как две закадычные подружки, взахлеб обсуждают какого-то Кавердейла и особенности его последнего альбома. Одним словом, Джон Ормонд был взбудоражен, раздражен... и счастлив. Жизнь неожиданно обрела новые краски! И только когда Элис поднялась и сообщила, что ей пора, молодой граф Лейстер впервые за последние пару часов спохватился и посмотрел на собственные часы. Такого с ним не случалось давно. Если еще точнее – никогда не случалось. Раньше он всегда контролировал свое время. Сегодня время принадлежало Жюльетте.
Они тепло попрощались с Элис и уселись в машину. Мерчисон пробудился от сладкого сна и невозмутимо завел мотор. Через полчаса они приехали домой и отправились по своим комнатам, собирать вещи.
Выяснилось, что у Жюльетты нет чемодана, и тогда Джон, отчего-то смущаясь, предложил ей свой, большой, удобный, из мягкой телячьей кожи. Девушка с восторженным уханьем уволокла его в комнату, а Джон некоторое время постоял в коридоре, силясь справиться с сердцебиением. Эти совместные сборы были настолько... интимными! Как будто мы одна семья, подумал он внезапно.
Дурачок, холодно возразил прежний Джон Ормонд, затаившийся до времени в глубине души. Вы и есть теперь одна семья, разве ты не помнишь завещание дяди Гарри?
Помню, но я имел в виду не это, уперся нынешний Джон Ормонд. Мы собираем вещи, точно мы... молодая пара!
Ого! Докатился! Она сопливая девчонка. Пардон. Она несовершеннолетняя. И вполне возможно – твоя близкая родственница.
С чего ты это взял?
С того. На покое поразмышляешь. Через месяц мэтр Жювийон пришлет бумаги и дневники дяди Гарри. Тогда все и прояснится. Но и без того ясно – не будет пожилой человек настаивать на том, чтобы совершенно постороннюю девчонку, невесть откуда взявшуюся, приняли в семью в качестве ее полноправного члена.
Вот именно, пожилой человек! Дяде Гарри было восемьдесят четыре!
Значит, с ее матерью он мог встречаться, когда ему было за шестьдесят. Для мужчины это не возраст, в особенности для Ормонда... Может, она не дочка, а внучка? Еще похлеще, тогда она – твоя племянница.
Глупости. Не может этого быть!
Ты просто не хочешь, чтобы так было. Она тебе нравится.
Еще раз глупости. Она – трудный подросток из Парижа, она курит и ругается скверными словами...
Она красавица, у нее шикарная грудь, длинные ноги, золотые волосы, она читала Гюго и говорит на двух языках, а кроме того, умеет прикидываться тем, чем не является на самом деле. Артистичная натура со склонностью к авантюризму. Вполне в дядином духе.
В этом месте перепалки Джона со своим вторым «я» в дверь постучали. Джеймс скорбно сообщил, что готов выехать немедленно, и Джон не сразу понял, о чем идет речь. Выяснилось, что его молодой слуга вполне разумно предпочел ехать в замок на собственном малолитражном автомобиле, чтобы не мешать хозяину. Джон заподозрил, что парень испытывает некоторые опасения перед Жюльеттой. Он совершенно явственно ее побаивался, а вот почему...
– Разумеется, Джеймс, вы правы, это очень мило с вашей стороны.
– Что вы, милорд. Я могу взять багаж. Тогда к вашему приезду все будет готово. Папа... Мистер Бигелоу звонил, комнаты для молодой леди готовы. Леди Ормонд пригласила из деревни Элли, она будет прислуживать мисс Арно. Вас уже ждут.
– Отлично. Джеймс, вы можете ехать. Вы не могли бы по дороге сказать мисс Арно, что примерно через полчаса мы отправляемся?
– Нет!!!
– Что?
– То есть... я хотел сказать, мне не coвсем удобно стучаться к молодой леди. Она принимает душ, и я...
– Хорошо, Джеймс. Я сам скажу ей, попозже. До встречи.
– Всего доброго, милорд.
Джеймс Бигелоу с явным облегчением ретировался, а Джон неожиданно ухмыльнулся. Во всем этом кроется какая-то тайна, подумал он. Малый явно испуган, но когда она успела...
Полчаса растянулись вдвое, и выехали они через час с небольшим. В машине было вполне комфортабельно, имелся даже мини-бар с напитками, так как Джону довольно часто приходилось совершать продолжительные поездки из Лондона в замок и обратно. Жюльетта мгновенно снова превратилась в трудного подростка, едва оказалась в салоне «бентли», – в Торговый центр они ездили на другой машине. Она издала восторженный вопль и принялась скакать на кожаных подушках, а потом в полном восторге обняла сзади за шею Мерчисона и завопила:
– Отдать швартовы, чиф! Мы отплываем!
– М... мисс... Мне не видно... Вы сдвинули фуражку...
– О, пардон! От избытка чувств. Дадите порулить, чиф?
– Я... мистер Ормонд...
– Жюльетта, перестань дурачиться.
– Почему?
– Что почему?
– Почему перестать дурачиться? Мы едем на конфирмацию? Или у тебя такой старый автомобиль, что от прыжков он развалится?
– От прыжков он не развалится, но ты мешаешь мистеру Мерчисону, а насчет порулить не может быть и...
– Я умею! Дядя Гарольд меня научил. Мы с ним ездили в Дакар на джипе.
Джон мысленно сосчитал до десяти. Еще бы! Как он мог забыть про воспитание дяди Гарольда? Уж конечно, он ее не крестиком вышивать учил...
– Тебе нет восемнадцати, у тебя нет прав, к тому же ты не знаешь дорогу.
– Так никто ж не увидит! За городом нет полиции.
Сраженный этим доводом, Джон на некоторое время онемел, а пришедший в себя Мерчисон неожиданно перекинулся в стан противника.
– Вообще-то, мистер Джон, не доезжая замка можно было бы, там ведь частное владение...
– Мерчисон! И вы?!
– Так я же рядом буду сидеть, и потом, раз мистер Гарольд научил мисс, то все в ажуре. Он здорово водил, мистер Гарольд-то. Он и в войну...
– Все. Следите за дорогой, Мерчисон. Жюльетта, сядь и уймись. Чтобы скоротать время, могу рассказать об истории Форрест-Хилла.
– Я сама могу тебе рассказать историю Форрест-Хилла. Построен в четырнадцатом, сожжен почти дотла в шестнадцатом, полностью восстановлен в нынешнем виде в конце восемнадцатого. Стиль – позднее французское Средневековье, облицовка известняком, как у замков Луары. Основатель – сэр Арман Бассенкур. В начале двадцатого века проведены коммуникации, горячая вода идет от котельных... Твою родословную рассказывать?
Потрясенный Джон еле успел закрыть рот, когда невозможная девица повернулась и уставилась на него своими зелеными глазищами. Через секунду любопытство, вслед за кошкой, погубило и графа Лейстерского.
– Родословную не надо, скажи лучше, почему тебя так боится Джеймс?
– Он мне должен кучу денег.
Пришлось опять срочно считать до десяти.
– Могу я узнать подробности, мисс Арно?
– Не можешь, потому что это страшная тайна, но так и быть, скажу. Я его шантажирую.
– Джеймса? Чем?!
Жюльетта расплылась в ехиднейшей улыбке.
– Он пришел меня будить сегодня утром, а я сплю голая, я тебе говорила.
– Он проявил нескромность?! Джеймс?!
– Нет. Но он думает, что да. Я сказала, что если он не даст мне сигаретку, то я скажу тебе, что он ко мне приставал и пялился на меня.
– И все это время ты была... неодетой?
– Почему? Я давно оделась, я вообще встаю в семь. Но ты же этого не знал бы.
– И что же было дальше?
– Он дал мне сигаретку.
– Я все еще не понимаю...
– А потом мне стало скучно, и я сказала, что буду молчать, если он отвалит мне сто фунтов. Сказала, что я из каморры, что у нас длинные руки и что если до босса дойдет, что к его девчонке приставал англичанин, Джимми отрежут уши... и еще разные части тела.
– Бред какой!
– Во-во. Полный! Но он купился.
– Бедный Джеймс!
– Он смотрит слишком много детективов и читает комиксы.
– Жюльетта, ты понимаешь, что он может распустить слухи среди прислуги и тогда...
– Отлично! Я уже все продумала. Периодически я буду подбрасывать ему листки бумаги с отпечатками Кровавой Руки. Он у меня попрыгает!
– Тебе дать сто фунтов?
– Зачем?
– Но ведь ты просила их у Джеймса.
– Я их ВЫМОГАЛА, сечешь разницу? Это же интереснее. Ты в детстве не играл в шпионов?
– Нет.
– Напрасно. Очень увлекательно. Можно, я покурю?
– Нельзя. Откуда у тебя... ах, да. Жюльетта, я тебя очень прошу, повремени с баловством, когда мы приедем в замок. Дай тете время привыкнуть к тебе.
– А ты уже привык?
Она спросила это с детской непосредственностью, чуть склонив голову на плечо, и Джону вдруг невыносимо захотелось ее поцеловать – такая она была в этот момент хорошенькая. Разумеется, виду он не подал, только сухо кивнул и скептически заметил:
– Как ни странно, начинаю привыкать. К тому же ты сегодня прекрасно выглядишь.
– Спасибо, мсье Сноб.
– Почему ты считаешь, что я сноб?
– Потому что ты судишь по одежке. Меня умыли, приодели, причесали – и ты ко мне сразу привык. Но ведь и вчера под мостом через Сену это была я. И на пароме. И в поезде. И сегодня за завтраком. Это все та же я, изменилась только упаковка. Значит, на самом деле тебя не волнует, что я из себя представляю. Только внешние приличия. А если я надену вечернее платье, но буду при этом есть руками и сморкаться в скатерть?
– Это юношеский максимализм. На самом деле я полагаю, что твои фокусы – это точно такая же одежда, как и все эти новые вещи. Твой камуфляж. На самом деле тебе не свойственно есть руками и шантажировать слуг.
– Интересно, а какая я на самом деле?
Она смотрела с вызовом, но в глубине изумрудных глаз таились грусть и страх. Он вдруг подумал, что она отчаянно нуждается в любви и сочувствии. Не во внешнем, а в настоящем, как там, на пароме, когда она прильнула к его груди, а он не отнял рук.
Джон прямо и серьезно посмотрел ей в глаза и ответил:
– Ты – одинокая. Грустная. Слабая – в силу возраста, сильная – в силу обстоятельств. Недоверчивая на всякий случай. Отчаянно нуждающаяся в поддержке. Упрямая и потому скрывающая все это. Достаточно?
Она закусила губу, и в глазах блеснули слезы.
– Ты гонишь, фраер! Строишь из себя великого психолога, потому что получил аж две корочки и сидишь на миллионах. Тебе же на самом деле наплевать на меня! Я для тебя диковина, вроде зверька...
– Еще ты грубая, несдержанная, плохо воспитанная, психованная, неуправляемая, сквернословящая, курящая врушка. Так лучше?
Она замолчала и некоторое время смотрела на него, а потом неожиданно расслабилась, потянулась всем телом, изогнулась на кожаном диване, чуть подалась к нему так, что блузка распахнулась на груди, и поинтересовалась хриплым воркующим голосом профессиональной соблазнительницы:
– А как насчет моей красоты, милорд? Неужели вас не сводит с ума эта белоснежная кожа, этот изгиб бедра, эти шелковистые волосы и кроткий взгляд? О, какое счастье, что судьба сделала вас моим опекуном! Клянусь, я отплачу вам сторицей за вашу мудрость и доброту! Все уловки гурий Эдема померкнут рядом с ласками, которыми я осыплю вас в ночной мгле, когда уснет глухая тетя Гортензия и не в меру бдительный Джеймс Бигелоу! Я прокрадусь к вам в спальню, мой господин, и вы не пожалеете, что удочерили меня...
В следующий миг она оказалась на коленях у окаменевшего графа Лейстерского и обвила руками его шею. Мерчисон бросил короткий взгляд в зеркальце, ухмыльнулся и покачал головой, а Джон все еще не мог ни шевельнуться, ни вымолвить хоть слово. Жюльетта склонилась к самому его лицу...
И довольно чувствительно укусила его за нос.
Джон Ормонд стряхнул ее с себя, словно ядовитого скорпиона, и довольная нахалка тут же залилась звонким хохотом. Ошеломленный Джон краем глаза отметил, что и Мерчисон улыбается и крутит головой, беззвучно шепча что-то себе под нос.
– Знаешь, что...
– Не ругайся, не ругайся, ну, пожалуйста! Это же Анжелика – королева ангелов! Неужели не читал?
– Я тебя... я тебе...
– Ну, Джон, ну не злись, ты очень смешной, когда злишься, у тебя глаза становятся, как у пекинеса.
– Как у кого?!
– У пекинеса. Им нельзя злиться, потому что у них глазки выскочить могут, я один раз видела, а вообще они очень милые собачки. На коврик с ножками похожи.
– Я... похож на коврик с ножками?!
– Нет, просто у тебя сейчас тоже глазки выскочат. Ты поверил, да? Испугался?
Он с шумом выдохнул воздух и откинулся на спинку сиденья, испытывая сильнейшее желание выпить виски. Неразбавленного. Тем временем его беспокойное наследство уже переключилось на другое. Теперь Жюльетта стояла на коленях, к нему спиной, облокотившись на соседнее с Мерчисоном кресло, и увлеченно расспрашивала шофера о датчиках и рычажках, расположенных на приборной доске. Самое интересное, что старый танкист охотно ей отвечал, и, видимо, оба испытывали от беседы искреннее удовольствие. Джон ослабил узел галстука, потом подумал – и совсем содрал его с шеи.
Примерно через час она заснула, как засыпают маленькие дети: мгновенно и крепко, свернувшись калачиком и подложив под щеку ладошку. Румянец окрасил нежные щеки, губы были полуоткрыты, а ресницы оказались густыми и длинными, едва ли не до середины щеки. Джон вдруг почувствовал, как теплая волна неведомого доселе чувства заливает его сердце. Почему-то именно сейчас он по-настоящему понял, что отвечает за эту девочку, так доверчиво спящую напротив него. И еще. Ему очень хотелось прикоснуться к ней. Провести пальцем по нежной щеке. Отвести упавший на глаза золотой локон. Услышать ее легкое дыхание, ощутить его душистое тепло на своих губах...
Вместо всего этого он просто снял пиджак и осторожно укрыл Жюльетту. Она заворчала и нахмурилась во сне, но тут же завернулась в пиджак и заснула еще крепче. Джон недрогнувшей рукой открыл мини-бар и достал непочатую бутылку виски.
Мерное движение машины укачало его, и Джон Ормонд заснул вслед за своей подопечной, продолжая сжимать в руке пустой бокал. Сначала ему снилось море, потом луга вокруг замка, по которым ходили серо-зеленые волны травы... Потом ему стало сниться, что он скачет по этим волнам на коне, причем все быстрее и быстрее. Вот уже небо и земля слились воедино, и ветер бьет в лицо от бешеной скачки... А вот Мерчисон, он сидит и восторженно хлопает себя по коленкам руками, причем обеими, так что непонятно, кто же держит руль?
Еще через пару секунд сон испарился, и все разъяснилось. Мерчисон сидел на пассажирском сиденье, вполоборота к Джону. Он действительно хлопал руками по коленкам и восторженно ухал, а за рулем – за рулем сидела эта зеленоглазая ведьма!
Первым желанием Джона было рявкнуть на них обоих, но потом он просто посмотрел в окно и понял, что это было бы несколько неосмотрительно.
«Бентли» – машина тяжелая и обстоятельная. Испокон веку на ней ездили только важные особы, которым лихачить не пристало, но на самом деле мощный мотор способен выжимать скорость до двухсот миль в час. Хотя почему ДО? Именно двести. По крайней мере, сейчас об этом свидетельствовал спидометр. Беда в том, что «бентли» очень тяжел, на нем нельзя резко тормозить и не рекомендуется выписывать на дороге кренделя. Можно не вырулить...
Джона привел в чувство восторженный вопль Жюльетты:
– Нет, ну что за ласточка! Дядя Мерчи, я влюблена в нее! Давайте назовем ее Агнессой? Давай, милая, давай!
Джон откашлялся, чтобы ненароком не напугать зарвавшихся преступников, и кротко поинтересовался:
– Почему Агнессой?
– А? Ты проснулся? Потому что Агнессой звали единственную женщину-пирата. То есть женщин было много, но капитаном была только Агнесса Бургундская.
– Понятно. Тогда давайте назовем ее Жюльеттой.
– Правда? Джон, ты серьезно?
Дрянная девчонка вознамерилась обернуться, и Джон мысленно застонал, но в глубине души вынужден был признать: дядя Гарри отлично ее выучил. Вела она абсолютно профессионально, чувствуя машину и не напрягая рук. Через минуту она сбросила скорость, и Мерчисон одобрительно хмыкнул.
– Отлично, мисс Жюли. Вы получите права с закрытыми глазами. Это я вам говорю, а я за рулем сорок лет, начинал на танке.
Джон возвысил голос.
– Ничего, что я тут сижу, мои дорогие? Я вам не мешаю?
– Что ты!
– Простите, милорд.
– Только не вздумай ругаться! Я перелезла и силой отобрала у дяди Мерчи руль.
– Да нет, милорд, ну вы ж сами видите, девчонка... то есть молодая мисс... водит как бог!
Дядя Мерчи. Девчонка. Как бог. Начинал на танке. С ума сойти можно.
Джон решительно потребовал восстановить статус-кво, и вскоре Мерчисон свернул на узкую, идеально заасфальтированную дорогу, ведущую к замку. Жюльетта успокоилась – то есть видимо успокоилась, потому что сидела прямо, зажав ладони между коленями. В душе Джона зародилась робкая надежда, что она волнуется перед встречей с замком и его обитателями...
Тетя Гортензия, в элегантном брючном костюме и почему-то в тирольской шапочке с пером, встретила их на крыльце. Поодаль выстроился весь штат прислуги во главе с представительным и незыблемым, как сама английская монархия, дворецким Бигелоу, отцом молодого Джеймса. Сам молодой Джеймс, несчастная жертва шантажа, маячил на заднем плане. Снорри Стурлуссон серо-бурым изваянием сидел на нижней ступеньке, свесив на сторону малиновый язык и завершая собой скульптурную композицию «Добро пожаловать в Форрест-Хилл».
Джон помог Жюльетте выйти из машины и торжественно подвел ее к лестнице. Жюльетта шла мелкими шажками, опустив глаза и являя собой образец ангельского поведения. Беспокойство шевельнулось в душе молодого графа, но Джон не внял этим шевелениям.
– Тетя, позволь представить тебе нашу гостью и нового члена семьи Жюльетту Арно, воспитанницу дяди Гарольда.
– Здрасти.
– Добро пожаловать, мое милое дитя. Форрест-Хилл рад встрече с такой милой и очаровательной девушкой. Надеюсь, вам у нас будет хорошо и вы очень скоро почувствуете себя как дома, ведь этот замок на протяжении многих веков был родовым гнездом нашей семьи, куда теперь войдете и вы, чему я очень рада, ибо...
Что тетя Гортензия собиралась сказать дальше, осталось тайной навеки, потому что милая и очаровательная девушка вскинула глаза, застенчиво улыбнулась и громко сказала:
– Тетечка Гортензия, я дико извиняюсь, но где у вас здесь сортир? Я уже час, как страшно хочу писать!
Немая сцена. Занавес.
7
Месяц спустя. Форрест-Хилл.
– Алло! Алло, мэтр? Это Джон Ормонд. Я говорю, Джон Ормонд! Из Англии. Здравствуйте. Я вас не разбудил? Простите. Почему шепотом? Обстоятельства. Нет, я совершенно здоров. Да, благодарю вас. Ей тоже поклон. И ее сыну. Сейчас, одну секунду, я только посмотрю... Нет, ничего. Показалось. Мэтр, я звоню по очень важному поводу. Мне срочно нужны дядины бумаги. Все. Почему срочно? Потому что это вопрос жизни и смерти. В определенном смысле. Считайте, что я умираю от любопытства.
О, ОНА-то прекрасно поживает. И действительно прелестна, тут не поспоришь. Скепсис? Нет, что вы, это чисто нервное. Все отлично. Что? Нет, ОНА прошла акклиматизацию хорошо. Можно сказать, прошла мимо акклиматизации. И замок ей нравится. Ей все нравится. Она постриглась, сейчас уже загорела. Ездит верхом на лошади и на машине. На какой? На моей. Я тоже езжу. Иногда.
Сейчас, одну минуточку, я попробую закрыть дверь. Вот. Теперь можно говорить погромче. Нет, никто не болен, почему вы... Ах, тихо говорю? Просто хочу сохранить этот звонок в тайне. Замок большой, вы правы, но с некоторых пор я стал озираться и заглядывать под кровать перед сном.
Тетя здорова, благодарю вас. Кстати, они подружились. Что объединяет? Конюшня. В прямом. Они вместе ездят на скачки. О да! Букмекеры подумывают об эмиграции. Раньше они надеялись, что тетя скоро уйдет на покой, но теперь у нее появилась достойная замена.
Можно сказать, что мы тоже подружились. Только я теперь плохо сплю, забываю, что хотел сказать, вздрагиваю от громких звуков и все время чего-то жду. Чего именно? Иногда мне кажется, что с самым большим нетерпением я жду собственной кончины. Все равно, каким образом. Лучше, конечно, быстро и безболезненно, но если мне твердо пообещают, что никого не допустят ко мне в камеру попрощаться, тогда я согласен даже на пытки перед смертью.
Да, мэтр, относительно крокодила в ванне вы были совершенно правы. Милое, в сущности, животное. По крайней мере, не слушает рок-музыку. Впрочем, тут я сам виноват. Не надо было знакомить их с Элис. Это моя тетя. Да-да, леди Шоу. Вы знаете? Ах, концерт в Руане. Что вы говорите, неужели вызывали войска? Так пехоту же! А надо было танки. Я теперь в курсе.
Да нет, что вы, какой скепсис! Не до скепсиса. Вы пришлите бумаги поскорее, ладно? О, это многое может изменить, мэтр. Я даже боюсь произносить словами. Только чувства. Ха! Знаю ли я, что я сделаю?! Главное, чтобы полиция этого не узнала ПРЕЖДЕ, чем я это сделаю.
А если кроме шуток, мэтр, – я сам виноват. Не надо было начинать. Кесарю – кесарево, и так далее. Да ничего не произошло, просто...
Просто я не знаю, как мне жить дальше, мэтр. Весь мой мир рухнул в одночасье, и оказалось, что он был не настоящим. А в настоящем мире не настоящим оказался я сам.
Я просто не успеваю, мэтр. Я не догоняю, как она выражается. Я думал, что смогу ее чему-то научить, что-то ей дать, а на самом деле учить надо меня. Нет, ей некогда. Она занята. Как – чем? Жизнью! Она живет, понимаете? Каждый день, каждый час, каждый миг приносят ей радость. Она засыпает, по всей видимости, с улыбкой на устах. Просыпается тоже с ней.
Нет, почти не плачет. Она плакала только на похоронах. Так странно, я вспомнил дядю Гарри. Она так на него похожа, боже мой. Знаете, мэтр, он плакал от счастья, когда я родился, а еще рыдал, когда умер мой папа. Никто из нас не проронил ни слезинки – это же неприлично! – а дядя Гарри плакал. Я еще подумал – мужчины ведь не должны плакать, но теперь я понимаю. Что понимаю? Да то, что я тридцать три года прожил идиотом. Бесчувственным и слепым.
Нет, нет, мэтр, вы не волнуйтесь, я в порядке. В полном порядке, и все... э-э-э... чики-пуки! Не слышали такого выражения?
На самом деле она так уже давно не говорит. Вы ее не узнаете, мэтр. Что вы! Да перестаньте! Она – прелестная, умная девочка, много читает, на прошлой неделе взялась рисовать. Музыку слушает. Нет, ЭТО – не музыка. Она теперь и нормальную слушает. Забавно, она сказала, что от Шуберта хочется плакать и в носу щекотно, а Вивальди, по ее мнению, был человеконенавистником. Знаете, мэтр, а ведь он действительно был жуткий тип. Кто? Да Вивальди. Ой, все, мне пора. Мэтр, умоляю, бумаги поскорее пришлите! Да. Да. Передам. Обязательно. Всех благ.
Джон Ормонд торопливо положил трубку и с независимым видом вышел из библиотеки. Быстрым шагом спустился по лестнице, углубился в сад, дошел до старинного фонтана, изображающего плачущую нимфу, и уселся на деревянную скамью.
Нимфа уже вторую неделю, как перестала плакать. Теперь у нимфы были розовые щечки и улыбающийся рот. Сегодня на голове у нее был еще и венок из ромашек.
Нимфа, честно говоря, легко отделалась. Гораздо хуже приходилось абстрактной скульптуре, три года назад подаренной Джону Меделин Уайт. Скульптура являла собой человеческую фигуру, предположительно – рыцаря в латах. Все конечности этого Железного Человека были на шарнирах, и он мог менять позу, чего, впрочем, раньше никогда не делал.
Месяц назад спокойной и размеренной жизни Железного Человека пришел конец. Жюльетта Арно задалась целью извлечь из скульптуры максимум пользы в эстетическом смысле, и теперь по вечерам на кухне заключались пари, в каком виде несчастный рыцарь предстанет перед обитателями замка утром. Подбоченившимся, с цветком «в зубах». С корзинкой на локте, в кокетливо повязанном платочке. С дымящейся сигаретой в железных пальцах. В костюме индейца. Переодетый доктором, пожарным, полицейским...
Джон невольно улыбнулся воспоминаниям. Да, этот месяц был богат событиями...
После своего триумфального появления в замке Жюльетта милостиво дала обитателям время передохнуть. Два дня она сидела в своей комнате, спускалась только к обеду, гулять не ходила, сигарет не стреляла, музыку громко не заводила. На третий день состоялись тихие, скромные, очень камерные похороны праха дяди Гарри в семейном склепе, и там девушка рыдала, не стесняясь своих слез и вообще не обращая ни на кого внимания.
Придя в замок, она умылась, переоделась – и сообщила Джону, что теперь началась новая страница в ее жизни и посвятить эту страницу Жюльетта намерена своей новой семье. Сказано – сделано.
Тетка Гортензия, растроганная поведением девушки на похоронах, почти простила ей шок первой фразы, с которой Жюльетта появилась в Форрест-Хилле, а вскоре разговор случайно зашел о лошадях – и лед был сломлен окончательно. Джон тогда еще подумал, как хорошо...
На самом деле в тот день он утратил своего единственного союзника. Тетка безоговорочно прониклась уважением к познаниям Жюльетты в конном спорте, а вслед за теткой в стан врага потянулись и слуги. Подсказанные ею лошади неизменно выигрывали, благосостояние слуг росло, а пропорционально ему – и уважение к молодой мисс.
Мерчисон, в обход Джона, испросил у Гортензии разрешения давать мисс Жюли машину. Джеймс Бигелоу, отчаянно подлизывавшийся к юной бандитке из каморры, ходил за ней хвостом, помогая ухаживать за ее лошадью (бывшей любимой чалой кобылой Джона), таская за ней этюдник (когда ей взбрело в голову заняться живописью) и забывая при этом о своих прямых обязанностях. Поэтому Джон Ормонд, граф Лейстерский, уже месяц без малого сам обслуживал себя, сам вставал по утрам, сам следил за своей одеждой и сам ходил в деревню за почтой. Разумеется, это было ерундой, на дворе двадцатый век, но дело было в том, что рушились незыблемые устои привычного распорядка жизни Джона Ормонда. Привычный патриархальный мир Форрест-Хилла уступал натиску жизнелюбивой и мощной энергии юного создания по имени Жюли Арно.
Даже Снорри Стурлуссон пал жертвой ее хулиганства и обаяния. Ирландский волкодав, потомок могучих псов Кухулина и Фердиада, Снорри при одном ее появлении начинал вести себя, словно щенок, которого приласкал хозяин. И однажды даже Гортензия чуть не лишилась чувств, когда в гостиную вошел слегка смущенный Снорри, обритый совершенно непристойным образом.
В тот день Джон сорвался. Он схватил Жюли за руку, приволок ее в библиотеку и долго кричал, пытаясь добиться ответа на два вопроса: «зачем?» и «как ей это удалось?». Когда он охрип и смолк, Жюли кротко объяснила, что сначала хотела избавить пса от репьев, а потом ей захотелось посмотреть, как бы мог выглядеть гигантский доисторический пудель. В довершение всего дверь в библиотеку распахнулась и сам пострадавший ворвался внутрь. Отчаянно виляя хвостом и в душе раскаиваясь, Снорри Стурлуссон облаял Джона, решительно осудив его поведение по отношению к Жюльетте.
Потом были мраморная нимфа и Железный Человек, потом дрессированные мышки, из-за которых кухарка разбила фарфоровую супницу семнадцатого века, еще потом – переклеенные за ночь обои в спальне дворецкого Бигелоу (неечастный едва не слег от ужаса, заснув при патриархальных ромбах с букетами роз, а проснувшись при размноженных на цветном ксероксе портретах пресловутого Оззи Осборна).
И ведь не ленилась же она совершать все эти глупости! А самое противное заключалось в том, что Джон понял не так давно. Злился и негодовал только он. Он один. Только он не понимал, что смешного в прибитых к полу сапогах садовника. В остриженном под пуделя Снорри. В гонках на самокатах, которые она устроила для деревенских ребятишек.
Джон злился, пытался призвать ее к порядку, норовил серьезно поговорить с тетей, а в результате стал едва ли не изгоем. Веселый смех в каминном зале по вечерам замолкал мгновенно, как только он появлялся в дверях. Кстати, эти вечера стали куда более оживленными. Даже жена викария превозмогла свой ужас перед тетей Гортензией.
Он ничего не мог поделать со своей детской, абсолютно дурацкой обидой, нараставшей как снежный ком, и от этого бессилия злился еще сильнее. Но в глубине души росло и крепло, постепенно обретая четкие очертания, еще более страшное ощущение. На самом деле Джон боялся именно его – боялся, но шел ему навстречу, словно влекомый мощным магнитом.
Эта хрупкая девочка, этот зеленоглазый бесенок, эта неугомонная бестия Жюли Арно снилась ему по ночам.
И в этих снах ему было наплевать, что она несовершеннолетняя!
Джон Ормонд испытывал самую настоящую плотскую страсть, вожделение... Назовите это тысячей других имен, их будет недостаточно. Он хотел ее, этого золотоволосого эльфа с огромными, вечно изумленными и хитрыми глазами цвета изумруда. Он помнил запах ее прозрачной кожи. Знал наизусть почти незаметный рисунок из крошечных родинок у нее на щеке. Чувствовал ее приближение издалека. Боялся смотреть ей в глаза – и не мог не смотреть.
Он, взрослый, тридцатитрехлетний мужчина, был беспомощен перед юной девушкой, даже не догадывавшейся о том черном пламени, которое бушует в душе ее опекуна. По крайней мере, ему очень хотелось верить, что она не догадывается. Иначе выход мог быть только один – застрелиться.
Джон с маниакальным упорством следил за Жюльеттой, отыскивая в непроизвольных движениях, интонациях, поворотах и наклонах ее головы и в прищуре глаз черты сходства со своими родственниками. Себя он в расчет не брал. Он и так знал, что Жюли похожа на него. Нет, не внешне. Она слишком хрупка и юна. Но она понимала его с полуслова, догадывалась, о чем он скажет в следующий момент, часто заканчивала за него фразы...
Джону и в голову не приходило, что для всего этого могут быть и другие объяснения.
Он с мрачным и тоскливым ужасом видел в ней дядю Гарри. Он не хотел давать ужасу Имя, но в глубине души знал его.
Если Жюли действительно дочь дяди Гарри, то она его, Джона, сестра. Если внучка – племянница. В любом случае его страсть к ней – преступление, не только перед законом, но и перед Природой. Перед Богом.
И даже будь они чужими по крови... Как он мог даже представить себе, что этот ребенок узнает о его чувствах?!
Сзади в кустах раздался шорох, и Джон поднялся со скамейки, весь в собственных переживаниях. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал его душераздирающие вздохи! Достаточно и того, что все чаще он стал просыпаться посреди ночи с криком «Жюли!». А уж что ему перед этим снилось...
Кусты затрещали, и из них вылетела маленькая молния. Взметнулись по ветру золотые волосы, два изумруда полыхнули лукавыми огоньками совсем близко, тонкие сильные руки обхватили Джона за шею, а звонкий голос возвестил:
– Попался, граф!
А в следующий момент произошло то, что бывает в жизни сплошь и рядом. Разум опоздал. Чувства пришли к финишу первыми.
Синеглазый мужчина крепко сжал девушку в объятиях и с глухим стоном боли и отчаяния впился в ее изумленно раскрывшиеся губы.
Это не было дружеским, отеческим, шутливым или каким бы то ни было еще поцелуем. Честно говоря, больше всего это походило на самоубийство. Обреченный и сгорающий в огне собственной страсти, Джон целовал Жюльетту в первый и последний раз в своей жизни. Он знал это с первого мгновения, но сделать ничего не мог. Сейчас девочка испугается, и ее гибкое маленькое тело беспомощно забьется в его руках, а потом она его возненавидит и уедет из замка.
И ничего подобного не случилось. Более того, куда-то исчезла девочка. В объятиях Джона восхитительными изгибами и загадочными поворотами таяло в сладкой неге тело Женщины, прекрасной, мудрой, умелой, обольстительной, желанной и желающей. Прошел первый миг удивления и бездействия, и Жюли ответила на его поцелуй с такой страстью, с таким жаром, что он немедленно потерял остатки разума.
Теперь он целовал ее шею, плечи, глаза, щеки, а потом оказалось, что его губы ласкают ее соски, и она уже почти полностью раздета, а на нем самом нет рубашки, и кровь его гудит, выпевая грозную и древнюю песнь, зажигающую пламя под стиснутыми веками и расплавляющую тела, как жидкое золото...
Он остановился за секунду до Конца Света. Словно на всем скаку поднял над пропастью на дыбы упряжку взбесившихся коней. Почти отшвырнул от себя тяжело дышавшую Жюли, и что-то внутри его тела отозвалось мучительным стоном.
– Прости меня... Слышишь, прости... Только не уходи... Это безумие... Я виноват, только не уходи...
– Джон...
– Девочка, прости! Я не должен был... Господи, за что... Прости меня, девочка...
– Джон!
– Я больше не взгляну на тебя, клянусь. Я уеду из замка. Прошу тебя, прости...
Жюли до крови закусила губу, стоя на коленях в песке, почти голая, в расстегнутых джинсах, без футболки, прижимающая руки к бешено вздымающейся груди с напряженными, болезненно чувствительными сосками. Поцелуи Джона еще не остыли на ее коже, но он уже был далеко, за тысячу лет и миль от нее.
Огромный, смуглый, широкоплечий красавец стонал раненым зверем, скорчившись в двух шагах от нее, и переливались на мощной спине шары мускулов, огромные кулаки били землю, словно вымещая на ней всю боль, которая рвалась с губ мужчины, добровольно отказавшегося от любви в эту минуту....
– Прости меня, маленькая... Прости... Только не уходи... Я уйду... Ты не уходи... Это твой дом... Ты – жизнь. Ты – свет. Я оказался ненастоящим. Игрушечные победы. Смешные поражения. Это твой дом. Прости...
Она потянулась к нему, трясясь от ужаса, но полная решимости остановить этот страшный сухой плач, этот звериный стон, который так не вязался с привычным обликом графа Джона Ормонда... Впрочем, привычному сегодня пришел конец. Навсегда.
Он шарахнулся от ее прикосновения, точно она прижгла его раскаленным железом. Стремительно поднялся, подхватил рубашку и ушел, не оглядываясь.
Жюли бездумно провела рукой по опухшим и саднившим губам. На руке осталась кровь. И ее вкус на языке.
Она медленно подобрала футболку, натянула ее, морщась, словно от боли. Негнущимися пальцами застегнула джинсы. Поднялась и пошла к замку. Почти у самой лестницы криво ухмыльнулась, хлопнула себя по лбу и развернулась на сто восемьдесят градусов.
Она туда не пойдет, хоть вы ее убейте. Не сейчас. Чуть позже. Когда утихнет боль в груди. Когда разорвется наконец это проклятое сердце. Когда она сможет осмыслить то, что с ней сейчас произошло. Назвать вещи своими именами.
Ее только что оттолкнул человек, в которого она влюбилась без памяти. Единственный мужчина, которому она была готова добровольно сдаться в рабство.
Бедная, глупая Жюльетта Арно!
Гортензия Ормонд с недоумением посмотрела на Джеймса Бигелоу. Так могла бы посмотреть Клеопатра на раба, сообщившего ей, что у нее сегодня вид так себе.
– Что вы сказали, юный Джеймс? КАКИЕ звуки доносятся из комнаты моего племянника?
– Странные, миледи...
– Интересно. Что же это за звуки? Виолончели? Волынки? И почему вы берете на себя смелость упоминать о них?
– Миледи, я очень извиняюсь, но... Это рыдания.
– Чьи?!
– Ну... вероятно... мистера Джона, миледи. Это же его комната.
Гортензия с раздражением отодвинула тарелку с беконом и забарабанила пальцами по столу.
– Джеймс, в последнее время мне не нравится ваше состояние. Вы, голубчик, приехали из Лондона совершенно издерганным. Надо бы попросить доктора осмотреть вас. Звуковые галлюцинации...
– Миледи, я очень извиняюсь, но это не галци... не глюки, короче! Я хотел позвать мистера Джона завтракать, подошел к двери, а из-за нее – рыдания. Такие... глуховатые. Мужские. Согласитесь, какой мужчина может рыдать в комнате мистера Джона? Вы бы пошли, послушали...
Гортензия поднялась из-за стола и решительно направилась к дверям. В этот момент из коридора выплыл Бигелоу-старший.
– Миледи, звонила мисс Уайт. Она приедет сегодня шестичасовым поездом.
– Еще лучше! Только ее здесь и не хватало.
– Кроме того, осмелюсь доложить, мисс Жюли видели бегущей по лугу в сторону леса.
– Какого леса?! До него же пять с лишним миль!
– Ее видел мальчишка Джонса, миледи. Он ехал на велосипеде из деревни, чтобы передать в замок утренние телеграммы...
– Короче, Бигелоу!
– Мисс Жюли пробежала мимо, вся в слезах и босая.
– Очень интересно. Что за дом такой, все с утра в слезах. Бигелоу, позовите, пожалуйста, мистера Джона завтракать.
– Он просил передать, что не будет завтракать, миледи.
– Почему? То есть... я хотела спросить, с ним все в порядке?
– Боюсь, что нет, миледи. У его сиятельства был очень странный голос. Такой, я бы сказал, трагический. И глухой.
Гортензия мрачно посмотрела по сторонам.
– Ничего не понимаю. В такую рань – и уже все расстроены. Когда успели? Бигелоу, отнесите завтрак в комнату к его сиятельству. Скажите ему, что мисс Жюли убежала в лес босиком. Он опекун, пусть сделает что-нибудь. И принесите мне свежий кофе, этот остыл.
– Слушаю, миледи.
Через пять минут, когда Гортензия Ормонд поднесла к губам чашку с кофе, за дверями столовой раздался грохот и звук очень торопливых шагов. Хлопнула входная дверь. Заинтригованная леди подскочила к окну и увидела, что ее племянник, граф Лейстерский, бегом удаляется от замка в сторону леса. Примечательным являлось то, что граф Лейстерский был босиком. Леди Гортензия возмущенно фыркнула и посмотрела на Снорри Стурлуссона, который ответил ей кротким взглядом.
– Что ты лежишь, пудель-переросток? Беги, ищи! Ищи Жюли, ну? Ищи Джона!
Огромная тень метнулась, едва не свалив по дороге Бигелоу, открывшего дверь. Дворецкий степенно сообщил:
– Миледи, его сиятельство бросился на поиски мисс Жюли и завтракать не будет.
– Бигелоу! Прекратите! Уберите кофе. Налейте мне мадеры. Я ничего не понимаю, а от этого у меня болит голова. Что происходит в этом доме?
– Не могу знать, миледи.
– Ладно. Думаю, далеко они босиком не убегут.
Он бы ее в жизни не нашел, если бы не Снорри. Громадный пес догнал хозяина, и Джон превратился в ведомого. Волкодав несся, нагнув морду к земле, и возбужденно гавкал. Потом он вдруг остановился и через мгновение резко повернул налево. Там, в небольшом овражке, они с Джоном и увидели Жюльетту. Девушка сидела на земле, обхватив коленки руками, и молчала, глядя прямо перед собой. Она и головы не повернула в сторону Джона, но произнесла:
– Если ты еще раз извинишься, я умру. Нажрусь белены и умру. Страшной смертью, с поносом и судорогами.
Джон спустился в овражек, сел рядом, стараясь не коснуться ее плечом. Но Жюли и не думала придвигаться к нему. Она сунула в угол рта травинку и заговорила монотонным, лишенным всяческих эмоций голосом.
– Я родилась в Англии. Мать была наполовину англичанкой, наполовину француженкой. Работала в театре. Потом ее уволили, и она уехала во Францию. Мне было три года. Потом она умерла, а меня отдали в детдом. Там жилось хреново, иначе говоря – отвратительно. Помимо всех иных прелестей, мы здорово голодали, особенно весной. Потом-то яблоки, вишни – прожить было можно, а вот в марте и апреле – беда. В пять лет я научилась воровать. А в шесть – стырила лопатник у одного старичка. Он играл в шары на бульваре Распай, а мы там промышляли. Короче, я сделала ноги, а этот дедуган как дернет за мной – что твой конь! Поймал, отнес обратно, посадил на лавочку. Накормил пирожками. Лопатник забрал, деньги из него выгреб и мне отдал. Санта-Клаус! Так мы с Гарольдом и познакомились.
Ему не дали меня удочерить. Тогда в Марселе поймали шайку педофилов, с тех пор органы опеки во всех на всякий случай видели растлителей. Ну а тут, тем более, одинокий и ни разу не женатый дед, англичанин, богач. Ясно – педофил. Дяде Гарри разрешили встречаться со мной только в людных местах, три раза в неделю, по два часа. Мы с ним весь Париж обошли за первый год. Разговаривали, каштаны ели. Он меня научил на велосипеде кататься. С собой в приют я его не брала, старшие наверняка отобрали бы. Так дядя Гарри за мной и приходил – с маленьким велосипедом.
И все это время он добивался, чтобы меня ему отдали. Сколько он бумаг перетаскал в этот опекунский совет – жуть! Но даже Суперпупс, хоть он и специалист по крючкотворству, не смог ничего ускорить. Правда, виделись мы уже почти каждый день, я обедать к дяде Гарри ходила, а спать возвращалась в приют. В четырнадцать лет меня к нему отпустили насовсем. Прямо в день рождения.
Читать и писать – это все он меня научил, не учителя. Приносил мне книги из своей библиотеки, покупал гору пирожков, мороженого – и я сидела на бульваре и читала взахлеб. Когда уже переехала, он предложил пойти в колледж, но я же только что вырвалась к нему из одной тюрьмы, зачем мне была другая? Я сказала, что не пойду, что хочу остаться с ним. Жюв ругался, Кошелка стыдила меня, а дядя Гарри был рад. Я видела, хоть он и не показывал вида.
Я очень его любила, Джон. Он был очень хороший человек, твой дядя Гарри. Добрый – я таких не встречала и, наверное, не встречу. Ни один ребенок мимо него без конфетки или без шарика не проходил. Клошары у него питались посменно. Не наглели, записывались поочередно, а он смеялся: разве можно наесться на неделю?
Он меня никогда не воспитывал, не жучил, хотя характер у меня с малолетства был умереть – не встать. Но и слушалась я только его, дядю Гарри. А потом, когда он умирал, мне стало так страшно и так тошно, что я опять в приют отправлюсь... Тут он мне и сказал про тебя. Говорит, хороший человек, не обидит. Смешно! Разве меня можно обидеть, такую?
– Можно...
– Заткнись, Джон. Не начинай. Думаешь, я тюрьмы испугалась там, в участке? Нет. Просто... как-то странно все повторилось. Портмоне я у тебя сперла, а ты оказался тем самым, кого дядя Гарри мне в опекуны определил. Судьба. Я решила с ней не спорить.
Мне очень у вас нравится. И ты не злись за мои шуточки, я не по злобе. Я с детства привыкла – чем тошнее жизнь, тем шире должна быть улыбка. Иначе погибнешь. Как в цирке, где ты ни разу не был. Даже если больно до слез – улыбайся!
– Тебе было у нас... больно?
– Нет. Мне было хорошо. Дядя Гарри уже научил меня не чувствовать себя сиротой. А вы – вы его семья, я это поняла. Вы его любили, и он вас любил. Мне хотелось вас развеселить. Растормошить как-то. Вроде получилось, только вот тебя разозлила...
– Что ты! Я просто... Я совсем неправильно жизнь прожил, Жюли. Хотел, чтоб все было тихо, спокойно. Мне казалось – это самое главное. Ты все изменила.
– Да уж. Это я могу.
– Пойдем домой?
– Посидим еще. У меня нос распух и глаза до конца не открываются.
– У меня тоже.
– Джон! Ты ревел?!
– Ну... нет!
– Ты ревел! Как девчонка!
– Перестань. Я не ревел. Но мне было очень тошно.
– Мне тоже.
– Жюли, а дядя Гарри ничего не говорил... насчет удочерения, отцовства...
– Ох, чудной же ты парень, граф! Ну спроси ты прямо – не его ли я доченька, в незаконном браке прижитая? Отвечаю – нет. Мы же случайно с ним познакомились. Правда, он очень переживал, когда я про свою маму рассказывала. Сказал, что в молодости тоже любил актрису, да вы ему жениться не разрешили.
– Ну меня тогда на свете не было...
– Он не обижался. Говорил, что сам был дурак. Не надо было в истерику впадать и дверью хлопать. Надо было по-своему делать. Назло всему. Вот он потом всю жизнь и делал по-своему. Так что я ему не дочь. Но он мне – отец. Настоящий. Любимый. И любящий.
– Я тебе завидую.
– Еще чего. У тебя же был свой отец. И ты его любил, а он тебя вообще обожал. Дядя Гарри рассказывал... Я ведь все-все знаю, и про Форрест-Хилл, и про вас всех. Про маму твою, как она все не могла ребеночка родить, а потом рискнула, родила тебя. Плохие люди так не сделают.
– Жюли. Только не ешь белену...
– Джон, не надо. Мне и так плохо. Я... у меня ведь ничего такого никогда не было. Ни с кем. Кошелка, правда, сомневается, но это ее дело. Я под мальчика всю жизнь косила и с пацанами дружила, чтобы меня не завалили в первой же подворотне. Матери у меня нет давно, а с дядей Гарри мы проблемы пола не обсуждали по понятным причинам. Так что... давай, не будем ни о чем таком говорить. Все и так ясно.
Джон прикусил язык. Все внутри у него рвалось и орало совершенно противоположное: ничего тебе не ясно, глупая, ведь я же умираю от любви к тебе, я жить без тебя не могу, я задыхаюсь, когда тебя нет рядом, я живу только тобой одной!
Но разум наверстывал упущенное. Не усложняй ее и без того запутанную жизнь. Она совсем девчонка, у нее все впереди. Пройдет первый морок, туман рассеется, и она заскучает рядом с тобой. На смену страсти придет отчуждение, потом презрение, равнодушие... Ты будешь жить в своем мире, она уйдет в свой. Не ломай ей судьбу. Помоги, как помог дядя Гарри, бескорыстно и ничего не требуя взамен.
Сумерки наплывали со стороны леса. Трава стала мокрой. Посвежело. Они просидели здесь целый день и даже не заметили этого.
Поднимаясь, девушка охнула и почти упала обратно на землю.
– Что такое, Жюли?
– Ногу подвернула, когда бежала. Думала, пройдет, а она распухла...
Он вскинул ее на руки, очередной раз поразившись ее хрупкости. Золотые волосы теплой волной упали ему на плечо.
Он пойдет медленно-медленно. Он не испугает ее ни словом, ни взглядом, ни жестом. Сдержит дыхание. Утихомирит бешено бьющееся сердце. Но он будет идти долго-долго, и у самого сердца, на груди его будет лежать девочка с зелеными глазами. Девочка, которую ему никогда не назвать своей женщиной. Девочка, растопившая ледяной панцирь его души.
Он подошел к крыльцу и вымученно улыбнулся.
– Все руки оттянула!
– Не ври, граф. У меня вес пера. А это еще кто?
Джон вскинул глаза и замер, инстинктивно прижав Жюли к себе.
Черноволосая и бледнолицая дива каменным изваянием высилась на верхней ступеньке лестницы. Мелодичный голос разнесся по всей аллее – так, по крайней мере, показалось Джону.
– Мы вас заждались. Леди Гортензия развлекла меня разговором, и теперь я в курсе событий, в которые ты, милый, не удосужился меня посвятить. Так это и есть твоя воспитанница? Подойди, милая девочка, я познакомлюсь с тобой.
Жюльетта медленно перевела взгляд на Джона. Лицо ее приобрело безмятежно-придурковатое выражение, и она прошептала восторженным сценическим шепотом, прекрасно различимым для окружающих:
– Папочка! Так это моя мамочка? Какая красавица! Спасибо тебе, добрый, милый папочка!
С этими словами она птицей спорхнула с его рук – он даже не успел удивиться насчет ноги, – взлетела по лестнице и повисла на шее ошеломленной и испуганной Меделин, покрывая ее лицо горячими и на редкость слюнявыми поцелуями. При этом она продолжала верещать в полный голос и называть Меделин «мамашей».
Меделин чудом удалось стряхнуть с себя новообретенную «дочурку», после чего мисс Уайт метнулась в холл и уже оттуда прокричала срывающимся голосом:
– Джон! Я жду тебя в кабинете. Нам надо серьезно поговорить!
8
Возможно, некоторый оттенок малодушия в этом был, но Джон отправился в библиотеку не сразу. Для начала он пошел к себе в комнату, принял душ и переоделся. Пиджак и галстук были его латами, в них он чувствовал себя защищенным. Мешали только глаза. Он задумчиво рассматривал свое отражение в зеркале и не узнавал их.
Растерянные. Грустные. Счастливые. Широко распахнутые. Горящие внутренним огнем. Живые...
Это день боли и счастья, Джон Ормонд. Ты отказался от любви, ты смог взять себя в руки... Но ты поцеловал ее! Ты навсегда запомнишь трепет ее тела, гладкость кожи, жар ее дыхания. Ты проживешь долгую и достойную жизнь, все вернется в свою колею, и, вполне возможно, однажды ты гостеприимно встретишь на пороге этого замка ее избранника...
Отвратительного прыщавого юнца с завышенным самомнением и нулевым интеллектом! Заносчивого нахала, который станет рассыпать сигаретный пепел по всему дому и загибать страницы в книгах. Придурка, который и в подметки не годится твоей девочке, потому что она самая умная, самая очаровательная, самая смелая, милая, добрая...
Стоп! Меделин. Досчитать до десяти. Нет, сначала досчитать, а потом Меделин. Все правильно. Галстук не подведет.
Он вошел в библиотеку, ощущая себя почти прежним Джоном Ормондом. Ровный шаг, невозмутимое лицо. И буря, ревущая в груди.
– Добрый вечер, Меделин. Рад тебя видет.
Меделин развернулась к нему от окна, Джон с изумлением заметил, что она опять косит. Как в детстве. И зубы у нее слега выпирают, как у кролика. А еще она очень... взволнована, проще говоря – в бешенстве.
– Ну и как это понимать?!
– Прости, Меделин, я не совсем понимаю о чем ты.
– Я об этом ужасе в грязных брюках! Я чуть в обморок не упала, когда она на меня кинулась. Она умственно неполноценна?
– Как тебе могло прийти это в голову?! Она просто большая выдумщица и...
– И почему ты нес ее на руках?
– Она подвернула ногу, когда бежала к лесу.
– Босиком?
– Да, босиком. Довольно теплый день, на мой взгляд.
– Джон, мне надо присесть. Голова кружится. Могу я узнать, почему эту девицу привезли в замок, не сказав мне ни слова?
Джон побарабанил пальцами по полированной столешнице.
– Прости, дорогая, но я немного потерял нить разговора. Боюсь показаться грубым, но с какой стати я должен был тебе об этом сообщать? Тем более что я сам узнал о ее существовании, лишь приехав во Францию.
– Отлично! Папа говорит, это вполне в духе Паршивой Овцы...
Что-то случилось у Джона в голове. Звуки стали вязкими и ватными, на языке явственно ощущалась горечь. Меделин размашисто шагала по комнате и что-то говорила, но он ее уже не слушал, вернее, слушал, но не слышал. Потом до него донеслись слова:
– Я, разумеется, его не знала, но мой папа говорил, что Паршивая Овца Гарольд компрометировал всю вашу замечательную семью и лорд Артур умер именно из-за его выходок...
– МЕДЕЛИН.
Она замолчала, словно споткнувшись и прикусив язык. Прямо перед ней стоял совершенно незнакомый человек. На смуглых щеках выступила голубоватая тень будущей щетины. Синие глаза полыхали грозным огнем. Бронзовые кулаки побелели от напряжения, точно незнакомец изо всех сил сдерживался, чтобы ее не ударить. Меделин Уайт, глупая от природы и спесивая, как фазан, аристократка, была испугана и ошарашена. В ее мире таких мужчин не водилось.
– Я настоятельно прошу тебя впредь не говорить больше в таких выражениях о членах моей семьи, что бы, с твоей точки зрения, непозволительное они не совершили. Я уважаю мистера Уайта, но это не дает ему права оскорблять память моего близкого родственника. Тем более нет такого права у тебя, поскольку ты вообще его не знала.
– Джон! Я погорячилась, я прошу прощения за эту вспышку, но мне все равно непонятно твое отношение к этой девице. Однако я приехала в Форрест-Хилл не для выяснения ваших с нею отношений. Гораздо больше меня волнуют НАШИ С ТОБОЙ отношения.
За дверью что-то упало. Джон провел рукой по лицу. В висках ломилась тупая боль, хотелось глотнуть свежего воздуха.
– Меделин, ты не поверишь, но с некоторых пор меня тоже волнуют наши с тобой отношения.
– Я думаю, что имею право на определенность. Поскольку я собираюсь войти в вашу семью, мне хотелось бы знать, что чувствует по отношению ко мне мой будущий супруг...
За дверью еще раз что-то упало, а потом вроде бы прошелестели торопливые шажки. Джон тяжело вздохнул и задумчиво произнес:
– Хотелось бы мне самому это знать, Меделин...
Бледнолицая красавица с кроличьими зубами не обратила никакого внимания на интонацию, с которой Джон Ормонд произнес эту фразу.
– Мы с мамой решили, что лучшим днем для объявления даты нашей свадьбы будет ваш семейный сбор в конце июля. Саму свадьбу мы назначим на сентябрь. Думаю, это будет вполне приемлемо.
Приемлемо, думал Джон. Вполне приемлемо. Приемлемо и вполне. Мирная, спокойная жизнь. Красивая, элегантная машина. Красивая, элегантная одежда. Красивая, элегантная жена. Мы из одного круга, не надо ничего объяснять, ни с кем знакомить. Не надо менять своих привычек. Через пару лет они с мамой запланируют рождение первого ребенка. Джона заблаговременно известят. В остальное время он будет совершенно свободен...
– Ты уверена, что мы не слишком поспешно...
– Джон! Опомнись! Наша помолвка объявлена четыре года назад. Некоторые уже смеются надо мной, а ведь у папы сейчас непростое положение в графстве! Поспешность – это не про тебя.
– Да. Разумеется. Конечно.
– Вот и отлично. Значит, в конце июля, сентябрь. Да, потрудись заблаговременно продумать, куда ты пристроишь свою воспитанницу. Совершенно очевидно, что девочка нуждается в специализированном учебном заведении. Ее поведение девиантно.
– Чего? В смысле, что?
– Она психически не уравновешенна. К тому же мы с ней вряд ли найдем общий язык.
– Меделин...
– Я пойду к себе в комнату. Сегодня у всех был трудный день. Всего доброго, Джон.
Меделин легко прикоснулась холодными губами к его щеке и выплыла из библиотеки. Некоторое время он стоял на месте, потом резко повернулся и отправился к себе в комнату.
В коридоре на широком подоконнике сидела Жюльетта. Она так и не переоделась, и босые ноги были грязными. В данный момент девушка заканчивала заплетать восьмую по счету косичку. На Джона она даже не взглянула, только мурлыкнула:
– Свезло мне с мамочкой, спасибо, папочка.
– Перестань, а?
– Помаду сотри.
– Какую помаду?
– А хрен ее знает, чем пользуется твоя стерлядь.
– Кто?
– Стерлядь. Она на нее похожа. Видел в ресторане?
Джон хотел возразить, но тут в памяти всплыл прием в «Амбассадоре» в честь министра просвещения и смешная длинноносая рыба на длинном фарфоровом блюде: скошенные к носу глазки, пучок петрушки, зажатый в мелких зубках... Джон неуверенно хихикнул. Потом еще раз. А потом согнулся пополам и стал хохотать до слез, до икоты, до тихих стонов и полной невозможности остановиться. Жюльетта оставила в покое косички и некоторое время с интересом наблюдала за ним, а потом прыснула и присоединилась.
Отсмеявшись, они уселись на подоконник рядышком, и тут девушка грустно спросила:
– Ты в нее влюблен?
– А что, это бросается в глаза?
– В глаза бросаются только ее зубы. Я спрашиваю, влюблен?
– Видишь ли, Жюли...
– А я совсем тебе не нравлюсь?
Он задохнулся и умолк. Сердце опять переместилось в район горла, и звуки снова стали ватными.
– Нет, я в том смысле, она же страшненькая. Холеная, но страшненькая. А я девчонка хоть куда!
– Жюли...
– Да ладно, не парься, граф. Это я так, по привычке. Все я понимаю.
И тут он слетел с подоконника, схватил ее за плечи, развернул к себе, тряхнул и прорычал:
– Ничего ты не понимаешь, девчонка, ничего! Потому что я и сам ничего не понимаю. Одно я могу сказать тебе точно. Ты мне не нравишься. Я тебя люблю. Очень. Но завтра я уеду в Лондон, а вернусь только перед семейным праздником. А потом женюсь на Меделин.
– Что ты сказал?
– Не ваше дело! Ты этого не поймешь, я сам этого не понимаю, объяснить, соответственно, не могу. И кончен разговор. Чики-пуки!
– Ты поэтому... сегодня...
– Не смей! Молчи! Не говори со мной! И не смотри на меня своими зелеными прожекторами!
– Граф, ты грубиян какой-то прямо...
– Прекрати!
– Да я же разве что? Я только так, интересуюсь, а что мне теперь делать, ежели и я тебя люблю?
– Замолчи! Я не слушаю тебя! И ты ничего не говоришь!
– Я люблю, тебя!
– Не слушаю!
– Ну и дурак.
Она не могла пошевелить руками, потому что он все еще потряхивал ее за плечи, поэтому просто вытянула шею и с размаху поцеловала его в губы. Потом осторожно отцепила его руки, бочком выбралась на открытое пространство и пошла себе босиком по персидскому ковру, свистя сквозь зубы и накручивая на палец косичку.
В конце коридора она обернулась и сказала совершенно спокойным голосом:
– Не уезжай прямо завтра, ладно? Мы с Гортензией собрались в Рединг на скачки, Элли сказала, что туда приехал цирк. Я xoчу, чтобы ты сходил со мной туда. Потом уедешь Лондон. Это почти по дороге. Чао-какао.
И ушла.
Сопливая девчонка взяла себя в руки и спокойно ушла, а он, граф, лорд, потомок воинов и аристократов, остался стоять в идиотской позе, разорванный в клочья, разбитый отупевший от собственного бессилия. Все выплестнулось в этих бессвязных воплях – выдержка, рациональность, умение хладнокровно трезво мыслить, умение вести себя, сохрать лицо – все и сразу. Рассыпалось прахом, рассялось в вечернем воздухе, и остался дрожащий от усталости и нервного потрясения мальчишка, растерянный, одинокий, абсолютно готовый принять решение. Ледяная статуя Джона Ормонда разлетелась на тысячу осколков, явив миру погибающее от тоски, кровоточащее сердце. Только сердце свое он сейчас слышал. Оно билось в груди, в ушах, в горле, на кончиках пальцев, оно грохотало боевыми барабанами, изо всех сил перегоняя кровь по измученному, словно избитому телу. Никогда прежде Джон такого не испытывал. И подозревал, что только что отказался от СЧАСТЛИВОЙ возможности испытать это хоть когда-нибудь еще.
Утром он встал очень рано, разбитый и измученный. Хотел побриться, но передумал, с горечью посмотрел на небритого мужика с синяками под глазами, жалостно взирающего на него из глубины зеркала, вздохнул и стал собирать вещи.
Бросил на середине. Это было привычкой того, умершего вчера вечером Джона Ормонда. Дурацким приспособлением, способом занять себя Важным Делом. На самом деле в лондонском доме у него полный гардероб вещей, какой смысл возить это тряпье с собой?
Занялся было деловыми бумагами, но оставил на столе и их. Все это были копии, в Лондоне имелся второй экземпляр, а подлинники ему были ни к чему, потому что сотрудники в офисе прекрасно знали свое дело, а в деталях он все равно ничего не смыслил. Он уже давно ввел прекрасное правило – в начале месяца подписывал чистые листы бумаги, на которых по мере необходимости его работники оформляли контракты и договора. Он привык им доверять полностью, и они его никогда не подводили.
Зачем он едет в Лондон? Что ему там делать? Чем он вообще занят в жизни?
В половине девятого – завтрак, с десяти до двенадцати – деловые встречи, потом офис, клуб, ланч, газеты. Вечером концерты и спектакли, потом ужин, в одиннадцать – отбой. Прекрасная, размеренная жизнь. Скучная, как диетическое питание язвенника.
Он женится на Меделин, и жизнь станет разнообразней. Скажем, завтрак можно перенести на девять... Но лучше на восемь – тогда они не будут встречаться за столом, Меделин любит поспать. В театры будут вместе ходить. Теща любит симфоническую музыку, правда, предпочитает постмодернизм.
Он вяло натянул на себя пиджак – и тут же яростно содрал его с себя. Почему он, как идиот, все время ходит в костюме и при галстуке?! Тем более сегодня они едут на скачки и в цирк. Господи, какой цирк... Неужели он сможет посмотреть сегодня в глаза Жюльетте?
Оказалось – смог. Две его дамы, довольные и полностью экипированные, щебетали в столовой, попивая кофе и уминая пирожные с кремом. Говорили они о своем, девичьем: у Аллитерации ложная беременность, поэтому в третьем заезде можно попробовать поставить на Трассу, конечно, при условии, что Констанция пойдет по внутренней дорожке, – у нее плохо получается вход в поворот...
Джон вяло пожелал фанаткам лошадей доброго утра и сел за стол, но в этот момент дамы замерли и дружно уставились на него. Джон занервничал.
– В чем дело? Что-то не так?
– Жюли, ты не поверишь, но я совершенно забыла, как он выглядит в джинсах...
– Отпад!
– Точно! Смотри-ка, а ты еще довольно молод, мой мальчик. И это пуловер... Знаешь, совсем неплохо.
– Граф, мы в восхищении.
Джон заерзал на стуле и нервно подвинул к себе кофе.
– Мы не опоздаем?
– Без нас не начнут, правда, тетечка?
– Правда, дитя мое, но вообще-то лучше поторопиться. Вдруг некоторые встанут пораньше...
Джон кашлянул.
– Тетя, может быть, не стоит настраивать Жюли против Меделин? Они могли бы найти общий язык.
– Дорогой, а вдруг им захочется его искать прямо сейчас? Тогда мы точно опоздаем.
– И не волнуйся так, граф, я уже настроилась против нее по собственной инициативе, тетечка здесь ни при чем. Пошли?
– Пошли.
Потом он ехал один в «шевроле», потому что рьяные лошадницы плюхнулись в «бентли» к Мерчисону, не переставая трещать без умолку. Джону же предстояло прямо из Рединга отправиться в Лондон, так что целых полтора часа за рулем он смог вволю насладиться собственными страданиями и опротиветь самому себе до крайней степени.
В Рединге царила атмосфера праздника. Развевались флаги, повсюду бродили люди в свитерах грубой вязки и шляпах, поголовно все здоровались с Гортензией и почти все – с Жюльеттой. Судя по всему, воспитанница Джона отлично вписалась в коллектив лошадников.
На заезды он почти не обратил внимания, потому что рядом бесновалась и скакала зеленоглазая бестия. Жюли размахивала руками, свистела и улюлюкала, тетка не отставала от нее, и Джону в конце концов стало немного повеселее. Он даже поставил на симпатичную лошадку в яблоках и, к своему удивлению, выиграл около двадцати фунтов, заодно узнав, что это был некий Фукс. Тетя и Жюли немедленно и презрительно высмеяли его, сообщив, что фукс – это звание, означающее, что шансов у лошади почти нет. На самом деле этого самого Фукса звали Шампиньон.
Наконец обе дамы охрипли, проголодались и изъявили желание отправиться в цирк. Джон вздохнул и поплелся за ними. Он чувствовал себя совершенно покинутым, потому что ни Гортензия, ни Жюльетта не обращали на него ни малейшего внимания и горячо обсуждали достоинства и недостатки лошадей, жокеев и владельцев конюшен.
И наконец они оказались в цирке. Здесь провожатым стала Жюльетта. Она выбрала лучшие места, она торопливо и понятно разъяснила, что и как здесь называется, она сунула им с тетей по программке и опять куда-то унеслась. Гортензия расстегнула куртку и благостно огляделась вокруг.
– Я не была в шапито тысячу лет! Все тот же чарующий запах манежа...
На взгляд Джона, здесь изрядно попахивало конским навозом, опилками и еще чем-то резким, но он предпочел повременить с критикой. Вернулась Жюльетта, ловко пробралась сквозь толпу и вручила Гортензии и Джону по странному устройству, состоящему из оструганной палочки, на которую навертели огромный и лохматый пучок чего-то, напоминавшего очесы пакли, только ярко-розового цвета. Джон в недоумении смотрел на странную штуку, а Гортензия счастливо и очень молодо рассмеялась и с наслаждением... лизнула розовый пух! Джон посмотрел на Жюльетту, и та залилась смехом.
– Ты хоть понюхай, граф. Это не опасно.
Он и понюхал. В тот же миг юная нахалка непринужденно толкнула его под локоть – и все лицо Джона Ормонда погрузилось в липкий и душистый ком. Он непроизвольно облизнул губы и понял, что это что-то сладкое.
– Это сахарная вата, Джонни. Ее всегда едят в цирке.
– Я весь в ней...
– Ничего. Зато приобрел новый опыт. Давай платок. А, не надо.
И она ловко сняла пальчиком розовые клочья с его щек и носа, а потом облизала палец и зажмурилась от удовольствия.
– Вот чего мне не хватало! Цирк! Это же лучшее, что придумано человечеством!
В это время погас свет, и потому Джон смог скрыть страшную судорогу, от которой, как он подозревал, перекосилось его лицо. Тысячи демонов рвали его душу и тело на тысячу кусочков, и имя этим демонам было одно – Страсть. Простое прикосновение тонкого пальчика, смеющийся розовый рот, мимолетная ласка разбудили в нем вчерашнее черное пламя, и Джон страдал, не в силах усидеть на месте.
Возможно, в театре или в концертном зале он промучился бы до самого конца и даже не запомнил, что именно давали на сцене. Однако в странном круглом шатре, пахнущем опилками и дикими зверями, свершилось Чудо.
Вспыхнули разноцветные прожектора. Грянула бравурная и веселая музыка. По белоснежному кругу помчались белоснежные лошади в пышных плюмажах, и хрупкая девушка в сверкающем трико легко и непринужденно крутила сальто на спине одной из них, словно находясь в спортивном зале, а не на подпрыгивающей и ненадежной поверхности.
Выбежали люди в ярких и тоже сверкающих костюмах, в воздухе замелькали разноцветные шары, кольца, булавы, черноволосая женщина в восточном наряде исполняла танец живота, одновременно крутя штук двадцать хула-хупов. Ошеломленный Джон не сразу понял, что прямо перед ним на барьер, отделяющий манеж от публики, улегся настоящий живой лев, и хорошенькая девочка в кожаном купальнике небрежно уселась ему на спину, теребя густую гриву.
Обезьяны в канотье играли на банджо, гимнасты кувыркались, разнокалиберные пудели танцевали вальс, жизнерадостно гавкая и улыбаясь во всю небольшую ширь своих изящных мордочек. Смешные человечки в нелепых башмаках и с красными носами верещали и лупили детей по головам огромными надувными кувалдами, и Джон не сразу понял, что хохочет и хлопает вместе с остальными зрителями, а потом надувная кувалда опустилась ему на голову и рядом взвизгнула Жюли, а тетка Гортензия хлопала в ладоши и тоже смеялась...
Парад-алле неожиданно растаял в темноте, зазвучала совсем другая музыка, как ни странно – Моцарт, и одинокий голубой луч протянулся высоко под купол, где по блестящей ниточке легко скользила хрупкая девочка в балетной пачке. Два пушистых веера из лебяжьего пуха порхали в ее руках, и девочка сама походила на лебедя, плывущего по воздуху, а скрипки пели, так пели, что рвалось что-то в груди, но не больно, а приятно... И вдруг стало мокро глазам, а девочка взмахнула руками-крыльями и полетела вниз, прямо на них, и Джон ахнул, схватив Жюльетту за руку, готовый сорваться и побежать, поймать, спасти...
Вспыхнул свет, и улыбающаяся девочка склонилась в глубоком и изящном реверансе, а вокруг хлопали и свистели, и Джон ошалелыми, пьяными глазами смотрел на Жюльетту и улыбался, а она смеялась в ответ. Он не заметил, что она не отняла руки...
Чудеса сменяли друг друга, львы лениво и вальяжно взрыкивали, но становились на задние лапы, и светловолосая дрессировщица неуловимо напоминала чем-то Жюльетту, а сменивший ее статный жонглер, смуглый брюнет с синими глазами, вполне мог бы быть братом Джона. Кстати, жонглер довел публику до исступления, потому что поднял в воздух двадцать шариков, десять колец, чайные блюдца, чашки и ложки, а в конце расставил их вокруг себя и положил все шарики в чашки, причем ни одну из вещей не уронил.
И снова хулиганили смешные человечки в огромных башмаках, отчаянно плакали, заливая публику потоками слез, роняли ведра с водой, плюхались на колени к женщинам, ловили солнечных зайчиков огромными сачками, постоянно промахиваясь и надевая их на головы хохочущих зрителей. Джон тоже попал под сачок и тоже хохотал, а потому не заметил, как переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу его спутницы.
А потом опять все артисты вышли на арену, поклонились, убежали за занавес – Джон запомнил, что он называется форганг, – погас свет, смолкла музыка и волшебный дворец превратился в обычный тряпичный шатер, а опилки запахли остро и прощально.
Джон, Гортензия и Жюльетта вышли на улицу, и солнце ослепило их. Джон и Жюли взахлеб обсуждали представление, Гортензия улыбалась, а эти двое хватали друг друга за руки, перебивали, смеялись, повторяли шутки клоунов, и Жюльетта на спор прошлась колесом, а Джон встал на руки, но не удержался и повалился в траву. Жюли издала победный вопль и прыгнула сверху, а Мерчисон смотрел-смотрел на это безобразие – да и подмигнул Гортензии. А Гортензия ответила ему тем же.
Джон даже не вспомнил про несчастный «шевроле», позабытый на стоянке. Они втроем уселись в «бентли», и только на дороге, ведущей непосредственно к замку, граф Лейстерский пришел в себя.
– Погодите! Я же еду в Лондон! У меня была машина.
– О боже! Я совершенно забыла.
– И я тоже.
– Значит, не судьба.
– И я так думаю.
– Оставайся, Джонни.
– Оставайся, граф.
– Милорд, я вечером пригоню «шевроле», а завтра отвезу вас в Лондон.
– А с другой стороны, зачем мне в Лондон?
– Действительно, зачем?
– Слушайте, а давайте поедем в Торки, дамы?
– А кто такие Торки?
– Это, деточка, город такой, на побережье. Там песчаные пляжи и дивные сосны. Я не была в Торки тысячу лет. Джон, но ты уверен, что тебе не надо в Лондон?
– Уверен. Мне надо в Торки. Я опекун, в конце концов, должен я ее развивать?
– Граф, а что можно развивать в Торки?
– МЕДЕЛИН!!!
В машине сразу стало тихо. Возглас Гортензии испугал даже солнце, и небо затянули облака. Остаток дороги проехали в полном молчании, а у ворот Джон неуверенно протянул:
– В Торки мы можем поехать в конце недели...
Жюли молчала и смотрела в окно, кусая губы. Гортензия посматривала в ее сторону и явно чувствовала себя смущенной. Мерчисон сделался профессионально бесстрастен.
Дворецкий Бигелоу встретил их на крыльце, как всегда, величавый и неторопливый.
– С приездом, миледи. Милорд. Мисс. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Когда прикажете подавать обед?
Гортензия вкрадчиво поинтересовалась:
– А что делает наша мисс Уайт? Соизволила ли она встать?
Бигелоу и глазом не моргнул. Хороший дворецкий никогда не унизится до обсуждения гостей своих хозяев, даже с хозяевами!
– Мисс Уайт уехала восьмичасовым поездом, миледи. Она просила передать, что ее ждут неотложные дела в Лондоне. Сожалела, что не попрощалась с вами лично.
– Ого! Восемь утра! Она что, встала сразу после нашего отъезда?
– Нет, миледи, с вашего позволения. Мисс Уайт вообще не ложилась. У нее разыгралась страшная мигрень после того, как ночью на нее напала мышь.
– Бигелоу! Прекратите! Мышь – не тигр, она не может напасть. Она сама всех боится!
Джон пристально посмотрел на Жюльетту. Девушка ответила ему чистым и невинным взором ангела, только что завершившего все добрые дела на Земле и собирающегося домой в Эдем. Бигелоу откашлялся.
– Прошу прощения, миледи, но кухарка полагает, что это была ДРЕССИРОВАННАЯ мышь. Она приучена прыгать за сыром. Именно так и произошло в тот день, когда разбилась супница.
– Так. Жюли, детка...
– О нет, миледи! Кухарка уверяет, что она сама виновата. Просто все вышло немного неожиданно, а так мышь всем очень нравится. Слуги зовут ее Салли...
– Я сейчас сойду с ума! Не о супнице речь, бог с ней, она мне никогда не нравилась! Почему ваша Салли прыгнула на нашу гостью?!
Лицо Бигелоу окаменело.
– Не могу знать, миледи. Возможно, миледи ела на ночь сыр.
Джону показалось, что Жюльетта тихонько выдохнула. А еще – что Бигелоу незаметно подмигнул ей.
Но, разумеется, этого-то уж никак не могло быть на самом деле! Просто обман зрения.
9
Всю следующую неделю Ормонды и Жюльетта провели в Торки. Капризная английская погода расщедрилась на солнечные и жаркие дни, море было ласковым и теплым, песок – золотым, гостиница – уютной, и Джон Ормонд неожиданно понял, что совершенно счастлив.
Даже несмотря на то, что они с Жюльеттой, не сговариваясь, избегали всяких воспоминаний о том, что между ними произошло. Вернее, НЕ произошло...
Удивительно, но это оказалось не очень сложно. Возможно, потому, что они вели такую насыщенную жизнь и на раздумья и воспоминания не оставалось времени.
Гортензия встретила в гостинице своих давнишних приятельниц и с большим удовольствием погрузилась в неспешные разговоры и совместные чаепития на открытой веранде. Когда ей надоедали сверстники, она с удовольствием присоединялась к Жюльетте и Джону, и они втроем бродили по песчаному берегу, разговаривая и делясь историями из жизни...
Надо сказать, что у юной воспитанницы графа Лейстерского таких историй было не намного меньше, чем у его семидесятичетырехлетней тетки. Хотя, конечно, Гортензия могла дать фору любому благодаря своим военным приключениям.
Сам Джон в основном выступал в роли слушателя. Еще недавно он был бы смущен и растерян, возможно, раздражен тем, что не может рассказать ничего интересного. Но времена поменялись, и теперь он с искренним и живым интересом выслушивал обеих своих спутниц, восхищаясь и гордясь, сопереживая и негодуя.
Когда Гортензия оставалась в гостинице, они гуляли вдвоем. Жюльетта была отличной собеседницей, но с ней было потруднее. Она не давала Джону возможности просто слушать ее и молчать. Яростно сверкая зелеными глазами, девушка требовала ответов на самые неожиданные вопросы, расспрашивала о том, о чем Джону никогда и в голову не пришло бы рассказывать другим, но он поддавался ее напору, а еще – собственному отчаянному желанию впервые в жизни поделиться с кем-то своими самыми сокровенными мыслями.
Он выворачивал перед ней свою душу, и это не было стыдно или трудно. Напротив, огромное облегчение охватывало его, Джон словно освобождался от груза сомнений, накопившегося за целую жизнь. Почему-то ему было одинаково легко рассказать ей и о своих переживаниях в детстве по поводу легкого, но заметного заикания, и о юношеских терзаниях по поводу своей внешности, и о восторге, который он испытал, впервые выиграв автогонки во Франции.
И об Амели он ей тоже рассказал в один из таких вечеров. Просто, не стесняясь и больше ни о чем не сожалея. Как ни странно, теперь он действительно не сожалел о произошедшем. Жюльетта удивила его серьезным и внимательным выражением лица и тем, с какой тщательностью она обдумывала ответ.
– Думаю, ты был сильно потрясен. Возможно, на долгие годы.
– Ну... не стоит делать из этого трагедию. Я вовсе не прожил жизнь затворника.
– То есть бабы... женщины у тебя потом были?
– Жюли, по-моему, мы углубляемся в щекотливый вопрос...
– Это самый естественный вопрос на свете! Если такой потрясающий парень, красавец, умник, аристократ и денежный мешок столько лет живет один, а в результате хочет жениться на стерляди...
– Жюли, не порти вечер.
– А ты не порти себе жизнь. История с той девушкой тебя перепахала и расстроила. Ты стал неуверенным в себе. Закомплексовал. Как щенок, который был уверен во всеобщей любви, а его взяли и выбросили за шкирку из машины. И остался он на обочине, одинокий и несчастный...
– Жюли, я сейчас заплачу. Уверяю, я вовсе не... Хотя... ты опять права. Именно так я себя и чувствовал. Но это было давно, потом я вырос.
– Такие обиды с трудом забываются. Бывает, никогда. Ладно. Не будем о свадьбах и ценных породах рыб. Только учти, ни в какой колледж я не поеду.
– Жюли...
– Я уже решила – и баста. Меня возьмет к себе Элис. Я смогу ей чем-нибудь помогать, постепенно научусь всему и буду шариться... пардон, ездить с гастролями по всей Европе.
– Жюли, я не думаю, что бородатые и волосатые крикуны с гитарами – лучшая в мире компания для юной девочки.
– Пожилых девочек не бывает. И я, в свою очередь, не думаю, что компания стерляди, которая спит с человеком, которого я люблю, намного лучше.
Она сказала это совершенно спокойно и естественно, без всякой запальчивости. Джон привычно задохнулся и онемел на некоторое время, а потом с трудом вымолвил:
– Жюли, мы же все уже выяснили. Ты не должна так говорить.
– Почему, граф? Потому что это неприлично? А разве прилично спать с тем, кого не любишь?
– Разве все браки совершаются по любви?
– Тогда это деловое соглашение, включающее в себя пункт о совместном спанье в одной постели, а стало быть, вы со стерлядью недалеко уйдете от последней уличной ш...
– Жюли!
– Шалавы, шпаны, шлендры, шалопайки, шушеры. Ладно, твое дело. Хочешь жить так – живи. Но не затыкай мне рот и не уговаривай меня сделать вид, что мы с тобой – дяденька опекун и маленькая девочка. Я сказала правду, и мне нет нужды делать вид, что я отношусь к тебе, как к дяде Гарри. Иначе, Джон. Совсем иначе.
– Послушай, я ничего в этом не смыслю, но об этом написана масса книг по психологии и вообще... Ты придумала себе образ, уверила себя, что влюблена, и...
Она остановилась, повернулась к нему и насмешливо уставилась на него снизу вверх изумрудными очами. Потом стремительно схватила его руку и положила себе на грудь. Джон окаменел. Жюли усмехнулась.
– Хорошо, пусть у меня детство в башке играет, а ты? Почему ты на меня так реагируешь? Я же чувствую тебя, чувствую, как ты горишь, как на тебя сейчас напал столбняк и ты изо всех сил сдерживаешься! А на пляже? Думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь? Уверяю тебя, любого опекуна маленькой девочки упекли бы за решетку, заметь кто-нибудь подобный взгляд.
– Жж...
– Не жужжи, граф. И будь честен. Там, в саду, ты поддался тому, что чувствуешь на самом деле. В замке, неделю назад, ты выкрикнул то, что думаешь на самом деле. Правда лезет из тебя, как тесто из квашни, и ты из последних сил пытаешься прикрыть ее фальшивыми словами и неискренними чувствами. Ты даже вполне способен сломать себе жизнь и жениться черт-те на чем...
– На ком.
– Хорошо, черт-те на ком, лишь бы не дать правде вырваться наружу. Но я не могу понять! Почему?! Ведь мы оба знаем, чего хотим. И хотим мы оба одного и того же.
– Я не могу...
– А я вообще не умею, но я же не боюсь?! Джон!
– Жюли!
– Посмотри на меня.
– Я уеду.
– Уедешь. И наймешься матросом на сухогруз. Посмотри на меня и скажи правду.
– Отвяжись!
– Грубо, граф. В глаза мне посмотри.
– Почему я должен тебе смотреть в глаза, совершенно не понимаю, что ты вбила себе в голову...
Она приподнялась на цыпочки и схватила его голову обеими руками. Развернула к себе, поймала его трусливо мечущийся взгляд и сказала яростно и тихо:
– Я, сопливая девчонка и подзаборная шпана, детдомовская сирота, пригретая из жалости твоим дядей, дикая и грубая малолетняя нахалка, – не боюсь. И говорю тебе: я люблю тебя, Джон Ормонд, я люблю тебя, и хочу быть если не с тобой, то твоей. Мне наплевать, какие заборы ты построил в своей душе. Мне наплевать, что подумает высшее общество. Я в него все равно не вхожу и никогда не войду. Я умею только так, по-честному. Ты – первый. Если бы ты не был трусом, то мог бы стать и единственным.
Поколения Ормондов встрепенулись. Слово «трус» обжигало, как пощечина. Синеглазый мужчина вдруг нахмурился и железной рукой стиснул оба тоненьких запястья сразу, отводя ее руки от лица, вмиг превратившегося в бронзовую маску.
– Я – трус?!
– Конечно.
– Ты назвала меня трусом?
– Да, граф, увы, это так.
– Сопливая нахалка, дикая, распущенная хулиганка...
– С девиантным поведением...
– ... считает меня трусом. А я стою и мычу в ответ «нельзя, нехорошо, неприлично, недопустимо».
Что-то странное появилось в его голосе.
– Так вот, чтоб ты знала. Я – не трус. Я могу сказать тебе правду.
– Но не скажешь, потому что боишься!
– Умолкни!
– Не умолкну.
– Ах так?!
Он вскинул ее на руки и впился в губы яростным поцелуем. А она ответила ему ничуть не менее яростно.
Двое стояли на берегу Ла-Манша. Вернее, стоял один, мужчина, державший на руках маленькую женщину. Она обвивала его шею руками, и они не отрывались друг от друга, словно жаждущие – от источника холодной воды.
Джон знал, что губит свою бессмертную душу и, что еще хуже, жизнь этой девочки, но остановиться не мог. Жюли, с ее максимализмом и прямодушием, прекрасно разъяснила ему все его проблемы, и решение пришло само, холодное и отточенное, как стальной клинок, неотразимое, как удар фамильного меча Армана Бассенкура, которым он добыл себе победу в битве и красавицу Гленис.
Джон оторвался от ее губ и сказал тихо и страшно:
– Я не трус. Я люблю тебя. Скорее всего – с той самой секунды, когда ты стырила мой лопатник.
– Что-о?
– С кем поведешься! Молчи, несчастная! Я люблю тебя, мой дикий ангел, мое зеленоглазое наказание. Я ни разу не посмотрел на тебя, как на ребенка. Ты всегда была для меня маленькой женщиной. Красивой. Юной. Одинокой.
Я всю жизнь боялся причинить неудобство. Сначала себе, потом окружающим. Я думал – можно любить, но не давать себе воли. Задушить собственные чувства. Сделать так, как положено, а не так, как правильно. Знаешь, кто ты, Жюльетта?
Это ты – мой опекун, не я. Ты научила меня жить. Ты разбила мой мир, и оказалось, что он был игрушечным. Ты, девочка, не боишься смотреть в глаза, говорить о своей любви, идти наперекор всему. Я тоже не боюсь. Я просто не умею. Но я научусь. Обещаю тебе.
– Джон...
– Что, Золотая?
– Скажи, пожалуйста, ну... как в замке...
– Господи, всего-то? А мне казалось, это написано у меня на лбу. Слушай. Я люблю тебя.
– Ох.
– Я тебя люблю.
– И я тебя.
– Я тебя люблю и никому тебя не отдам. Никогда.
– И я тебя не отдам, особенно этой выдре.
– Стерляди.
– И папаша ее...
– Чш-ш! Бросай свои привычки, маленькая женщина.
– А чего он обзывал дядю Гарри?!
– Подслушивала?
– Конечно!
– И не стыдно?
– В любви и на войне выигрывает разведка.
– Жюльетта?
– Что?
– Я люблю тебя.
– А я люблю тебя.
На свете нет ничего, более бессмысленного по содержанию, чем разговор двух влюбленных.
Они вернулись в гостиницу под утро, и Гортензия ни о чем их не спросила, хотя прекрасно разглядела и румянец Жюльетты, и ее припухшие, счастливо улыбающиеся губы, и то, как властно и спокойно Джон Ормонд сжимал в своей ладони хрупкие пальчики. Старая леди чуть улыбнулась – и тут же приняла свой обычный, невозмутимый и слегка надменный вид.
Они пробыли в Торки еще два дня, купались, загорали, по-прежнему гуляли все втроем по берегу и разговаривали. Однако теперь Гортензия могла совершенно точно определить разницу: два дня назад они были Джон и Жюльетта. Теперь они стали одним существом с двумя именами. Внешне это вроде бы никак не проявлялось, но это светилось во взгляде изумрудных глаз девушки – и откликалось сапфировыми отблесками взгляда мужчины. Гортензия тихонько вздыхала и с некоторой тревогой хмурила брови. До семейного сбора оставалось меньше месяца.
Он никому об этом не расскажет, даже Богу. Бог и так все знает.
Как расплескалось золото волос по широкой груди и тонкие руки белыми птицами – по смуглой коже. Налетели, обвили, ласкают. Легкие руки, руки-крылья.
Как изумленные и испуганные, счастливые глаза загорелись звездами в ночи, и только для него. А от этого взгляда прокатилась жаркая волна по его груди, по сердцу, вниз, до самой земли, и снова в голову, да так, что даже на кончиках пальцев запылал огонь.
Разве может быть так совершенно тело женщины? Может, если лежит в твоих объятиях, и лунный свет – грязная тряпка по сравнению с его белизной.
Кто храбрее – воин в латах и с тяжеленным мечом, доблестно сокрушающий себе подобных, или хрупкая девочка, доверчиво и бесстрашно отдающая тебе себя всю, без остатка, стыда и смущения?
И как не растеряться тебе, сильному, огромному, уверенному и умеющему, перед всеми этими изумрудами, жемчугами и золотыми россыпями, добровольно сложенными к твоим ногам?
Он никому не расскажет того, что видел только Бог.
Как накатывало волны на берег море. Как белый песок шуршал под горячими телами. Как он сам, огромный и сильный, баюкал в своих объятиях Жюльетту, зарываясь в золото ее волос горящим лицом. Как скользили его руки по гладкой, чуть светящейся коже, и все внутри него кричало от счастья и гордости. Мое! Эта грудь с бледно-розовыми бутонами сосков, эти стройные бедра и длинные ноги, эти плечи, эти волосы, эти нежные, искусанные губы – все это мое!
И никому не расскажет маленькая женщина, что уже после огня и взрыва, после страсти и боли, после всего, на пороге сна и блаженства единственной ее мыслью было эхо мыслей ее первого и единственного мужчины. Только по-иному звучащее.
Я – твоя.
Разумеется, было бы очень приятно узнать, что с той волшебной ночи Джон Ормонд стал другим человеком, решительно переменился и одним махом разрешил все проблемы. Однако в жизни так бывает крайне редко, и, возможно, это даже к лучшему. Ну... то есть... в конце концов – к лучшему...
А для начала Джон Ормонд все-таки сбежал в Лондон.
Нет, он ни на сотую долю секунды не раскаялся в том, что сделал. Он любил Жюльетту, и это было незыблемо, как само мироздание. Но старые привычки и особенно старые предрассудки отчаянно сражались за существование.
Уже на второй день по возвращении в замок Джон проснулся на рассвете в холодном поту. После недолгого самокопания он дошел до состояния тихой истерики, торопливо оделся, выскользнул из замка, вывел из гаража машину – и через три часа был в Лондоне.
Здесь Джон Ормонд развил бурную деятельность. Позвонил во Францию и узнал, что мэтр Жювийон именно сегодня отправляет ему все дядины бумаги, письма и дневники. Попросил отправить их на лондонский адрес. Обзвонил всех родственников и подтвердил дату семейного праздника. Три раза порывался набрать номер Меделин, но потом решил, что такие вещи нужно говорить при личной встрече. Позвонил в офис и прямо по телефону произвел серьезные кадровые перестановки, передав почти все полномочия своим заместителям.
Эта телефонная вакханалия завершилась звонком в лондонскую квартиру Элис Шоу. Бодрый автоответчик исполнил пару гитарных аккордов, напоминавших звуки серьезной автомобильной аварии, а потом хрипловатый женский голос произнес фразу, от которой еще месяц назад Джон Ормонд упал бы в обморок.
«Привет, перцы! Оставьте ваши координаты, но не парьте слишком нудно – в вашем распоряжении десять секунд. С респектом – Черная Элис и ее автоответчик».
– Элис! Возьми трубку! Это Джон! Вопрос жизни и смерти.
Конечно, Элис выдержала паузу и перезвонила только через десять минут. Конечно, она была недовольна, потому что вчера, точнее, уже сегодня, вернулась с большого концерта совершенно вымотанной и намеревалась проспать до двух. И конечно, она сразу же проснулась и согласилась приехать, как только узнала, что речь идет о Жюльетте.
Через час Элис Шоу с интересом наблюдала, как ее небритый племянник, одетый в потертые джинсы и свитер грубой вязки, поглощает жареный бифштекс с картошкой. В ресторане отеля «Плаза», где Джон всю жизнь только ужинал, стоял утренний аромат кофе и горячих булочек, но вышколенный метрдотель и глазом не моргнул, услышав неожиданный заказ мистера Ормонда. Аристократ может позволить себе практически все, что угодно...
– Прости, Элис, видимо, нервы. Голоден, как волк. Хочешь мяса?
– Не пугай меня. Я не ем мяса уже десять лет, а время моего утреннего зеленого салатика с корочкой хлеба и литром минералки еще не пришло. У меня вообще еще не утро. Что с тобой, Джонни? Такой аппетит обычно посещает после хорошей...
– Ни слова, Элис!
– Физической работы, имела я в виду. А ты что имел в виду?
– Учти, мне не до словесных перепалок, не до каламбуров и не до соленых шуточек. Дело очень серьезное.
– Ты сказал, это касается Жюльетты.
– И не соврал. Это касается ее. И меня.
Элис откинулась на спинку стула и прищурилась.
– Ты повел себя нескромно, мой ангел? Что ж ты натворил? Заглянул ей в вырез? Поцеловал в щечку при людях?
– Элис, я с ней спал.
– Нет!
– Да! Я ее люблю. И она несовершеннолетняя.
– Погоди, не так быстро. Кто в результате пострадал? Она?
– Естественно! Она же несовершеннолетняя.
– Ты что, изнасиловал ее?
– Элис!!!
– Джон, я с утра плохо соображаю. Вы с ней... того... понятно, что делали. Ты ее любишь. Она тоже не сопротивлялась. В чем проблема?
– Она еще ребенок.
– Ну... теперь уже нет. Джонни, она тебя соблазнила, ты изменил Меделин, и тебя мучает совесть? Ты соблазнил Джу, она осознала, что совершила ошибку, и не хочет тебя видеть? Вы оба напились и лишили друг друга девственности, а теперь ты беременный?
– Почему ты издеваешься?
– Потому что ты несешь чушь. Ты ее любишь, она тебя тоже, в чем здесь проблема?
– Стоп! Я не говорил тебе, что она меня любит.
– Ха! Бином Ньютона! Да это было видно с первого дня! Вы же так и пялились друг на друга. Вопрос был только в том, как быстро до вас дойдет и не станет ли помехой твое дурацкое ханжество.
– Мое ханжество? Элис, я не ожидал...
– Что так много людей знают о тебе правду? Джонни, малыш, я девушка пожилая, грубая, хотя люблю тебя нежно. Все твои вопли о несовершеннолетних воспитанницах и недопустимом для опекуна сластолюбии...
– Я такого не говорил!
– Но именно это подразумевал. Не перебивай. Так вот, все это хорошо для прошлых веков. Не всех, заметь. Жене Бассенкура было пятнадцать, когда он умыкнул ее из Каер-Карнарвона. Еще это хорошо для глупых куриц, вроде Меделин Уайт и ее мамаши. Но в принципе это есть отвратительное, старомодное и пошлое ханжество.
– Элис, ты не понимаешь, а мне не даешь договорить!
– Молчу. Закажи мне минералки?
– Пей мою. Дело не в том, что она маленькая. Она и не маленькая совсем. Она может оказаться...
– Ну давай, не томи.
– Она может быть моей сестрой.
– Интересно. Так иногда говорят любовницам при разрыве. «Мы больше не будем жить вместе, но ты мне теперь как сестра». После этого хочется застрелиться.
– Элис, Жюльетта может оказаться моей сестрой или племянницей. Дочерью или внучкой дяди Гарольда. Это не точно, но вполне возможно. И в этом случае... я не знаю, что мне делать.
– А что ты хочешь с ней делать в принципе?
И вот тут племянник впервые в жизни удивил свою тетку. Он вдруг улыбнулся совершенно неотразимой и удивительно мужской улыбкой, от которой у Элис мурашки по спине побежали и румянец вспыхнул на щеках, а потом тихо произнес:
– Даже тебе я не могу сказать, ЧТО я хочу с ней делать, Элис. Одно только могу сказать – я хочу прожить с ней вместе до самой смерти.
– Отлично! Так иди и женись на ней.
– Но она...
– Джонни, зачем ты забиваешь себе голову ерундой? Ты любишь ее, она любит тебя, вам хорошо вместе – в чем дело? Хочешь – сдай ее кровь на генетический тест, но мой тебе совет: когда получишь результат, выкинь его в корзину, не распечатывая.
– Ты думаешь?
– Я уверена. Когда у нас слет родственников?
– Через неделю, а что?
– Предлагаю устроить сюрприз. Недели нам хватит.
– А Меделин?
– К черту Меделин! Она похожа на стерлядь.
– Надо же, неужели это так бросается в глаза...
– Что ты бормочешь, несчастный?
– Ничего, это так. Нервное. Так какой сюрприз?
Пакет от мэтра Жювийона пришел вечером того же дня. Джон Ормонд подержал его в руках, а потом осторожно сунул на самое дно чемодана и прикрыл вещами. Время печали еще не пришло...
10
Жюльетта лежала животом на подоконнике, болтала в воздухе ногами и смотрела, как к Форрест-Хиллу тянется вереница сверкающих автомобилей. Ормонды съезжались в родовое гнездо.
Гортензия посвятила эту неделю рассказам об этих самых родственниках. На свет Божий – при помощи Бигелоу – были извлечены кипы фотоальбомов, и перед изумленной Жюльеттой понеслась вереница лордов, пэров, сэров, кавалерственных дам, герцогинь, вдов министров, разведенных депутатов, меценатов, членов Парламента... В конце концов девушка запросила пощады, и было решено остановиться на самой ближней родне. Не дальше троюродных дядюшек и тетушек. В результате Жюли заявила, что знает Гарольда Ормонда, Джона Ормонда, Гортензию Ормонд и Элис Шоу, и этого ей вполне достаточно для счастья. Сегодня ей предстояло увидеть почти всех остальных...
Черный лимузин остановился у крыльца, и сердце Жюльетты неприятно екнуло. К чему бы это?
Оказалось – не зря. Из лимузина выплыла бледнолицая и черноволосая Меделин Уайт в элегантном алом платье, которое в сочетании с черными волосами делало ее похожей на классическую ведьму. Она медлила у машины, и Жюльетта вытянула шею, рискуя вывалиться из окна...
Спутницей Меделин оказалась сухощавая, а вернее – тощая женщина неопределенного возраста. Одета она была в наистрожайший из всех строгих костюмов, на голове у нее красовался тугой кукиш из волосиков мышиного цвета, а на костистом носу сидели очки в роговой оправе. В руках эта мымра держала портфель черной кожи. Жюльетта фыркнула. Таких теток она последний раз видела в приюте, в тот самый день, когда дядя Гарольд забирал ее оттуда. Он потом признался, что здорово их боится, хоть и воевал. Что-то такое есть в этих инспекторах по делам несовершеннолетних...
Жюльетта ахнула и свалилась с подоконника. Какая же она дура! Надо было догадаться, что Меделин ей не простит выходку с поцелуями и воплями «мамаша дорогая!».
Она вихрем пронеслась по коридорам, влетела в библиотеку и трясущимися руками схватила телефон. Ну давай же, набирайся, проклятый номер! Джон, Джонни, где ты, граф! Ответь, папаша несусветный, иначе рискуешь не найти свою воспитанницу по приезде...
Длинные гудки обреченно висли в трубке унылыми серыми струнами. Джон уже выехал из Лондона.
В этот момент дверь в библиотеку распахнулась и голос Меделин Уайт произнес:
– Вот, мисс Хайтекстон, та девочка, о которой я вам рассказывала. Милое дитя много пережило и сейчас нуждается в помощи квалифицированных педагогов. Мой будущий супруг, лорд Ормонд, – человек чести, он выполнял волю умершего родственника, однако ему эта ноша оказалась слишком тяжела. Он бизнесмен, занятой человек, кроме того, в сентябре мы поженимся, так что сами понимаете... в смысле, я хотела сказать...
Меделин на секунду замялась, но мисс Хайтекстон прервала ее неприятным металлическим голосом:
– Я все понимаю, дорогая мисс Уайт. Смею вас заверить, наш попечительский опекунский совет досконально разберется в проблеме.
– Вот-вот! Джон ни за что не признался бы в собственной неудаче – ох уж эти мужчины! – но я взяла на себя смелость поставить опекунский совет в известность.
– И правильно сделали. Следить за подростками – наш долг перед будущим. Мы всемерно участвуем в воспитании юных неокрепших душ. Подойди ко мне, дитя. Ко мне, я сказала!
Жюльетта инстинктивно дернулась вперед, услышав этот резкий, как удар хлыста, окрик. Потом глаза ее сузились и она отступила назад, вцепившись обеими руками в столешницу.
Мэтр Жювийон закутался в мягкое кашемировое пальто и вздохнул. Шофер посмотрел на него в зеркальце и еле сдержал улыбку – смешной старичок очень напоминал пожилой и наполовину облетевший одуванчик.
– Что-то беспокоит, сэр?
– А? Что? Нет, нет, нет, мой дорогой. Ничего из того, что вам под силу изменить. Боже, какой кошмарный климат!
– Что вы, сэр. Это лето на редкость жаркое выдалось.
– Жаркое? ЭТО вы называете жарой? Да у нас в апреле по ночам – и то теплее.
– Дело привычки, сэр. Я сам из Абердина, там еще холоднее. Здесь по шотландским меркам прям курорт.
– Ну да, ну да. Мой дорогой, а мы успеем к четырем? Я играю одну очень важную роль, мне бы не хотелось опоздать.
– Не сомневайтесь и не волнуйтесь, садитесь поудобнее и отдыхайте. Через пару часов будем на месте. А какую роль, если не секрет?
– Не секрет. Благого вестника. Что-то вроде архангела Гавриила. Или бога Гименея. Соединяю любящие сердца. Надо поставить точку в одной истории.
– Это хорошо. Хорошо, когда истории кончаются свадьбой. Вы сами-то женаты?
– Нет, благодарение богу. Но чужие свадьбы обожаю.
– Да, оно поинтереснее. Тут вы правы.
Элис и Джон вылезли из машины возле двери, ведущей в кухню, и принялись выгружать коробки и свертки из багажника. Им предстояло тайно пробраться на второй этаж и спрятать все привезенное в комнате Джона.
Кухарка разглядела что-то белое в приоткрывшейся коробке и заулыбалась.
– С приездом, мистер Джон! Здравствуйте, леди Элис. А невеста ваша, мистер Джон, уже тут. Приехала. Сердитая такая, и с ней дама неизвестная. Должно, тетя. Я раньше ее не видала. Суровая дама, в очках. Худющая...
Джон нахмурился.
– Где они, Маргарет? Куда они прошли?
– А, наверное, в библиотеку, милорд. Они искали мисс Жюли. Леди Гортензия вся в хлопотах, гости-то прибывают. Хоть и родня, а все ж надо встретить, разместить. Вот мисс Уайт и сказала, что сама поищет мисс Жюли.
Джон молча сунул оторопевшей Элис все коробки и пакеты, которые нес до этого, и ринулся в коридор, ведущий к библиотеке. Элис перехватила коробки поудобнее и потащилась за ним, недоумевая и чертыхаясь себе под нос.
– Я никуда не поеду! И вы не имеете права со мной так разговаривать. Я свободный человек. Я живу в этом замке, под присмотром моего опекуна.
– Мисс Арно, поверьте, вам будет вполне комфортно в нашем пансионе для молодых девушек. Вы сможете учиться, осваивать прекрасные и полезные рабочие профессии, такие, как швея, машинистка, делопроизводитель...
– Ты, стерлядь краснушная, это ты все подстроила!
– Вы видите, мисс Хайтекстон? Она просто-напросто опасна для окружающих.
– Не волнуйтесь, мисс Уайт. Я во всем убедилась лично. Собственно, у меня не было оснований вам не доверять, поэтому я захватила предписание опекунского совета. Сейчас я поставлю свою подпись – и можно будет забирать девочку.
– Я не поеду!
– Поедете, милая. Иначе я вызову полицию.
– Вы – чудовище...
– Я выполняю свой долг перед родиной. И ее непутевыми детьми. Паршивую овцу легче изгнать из стада, но мы, пастыри, берем на себя нелегкий труд вернуть паршивых овец в лоно нормальной жизни. Увидите, мисс Арно, вы еще будете нам благодарны...
– ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
Лорд Джон Ормонд, граф Лейстер, стоял в дверях библиотеки, взявшись одной рукой за дверной косяк, а другую сунув в карман. Костяшки пальцев побелели от напряжения, но лицо было каменно-невозмутимым и надменным. Жюльетта в восхищении смотрела на своего любимого, слегка открыв рот. Ему бы сейчас коня, латы да меч – вылитый Арман Бассенкур. По уверениям тети Гортензии тот был скор на расправу, но из себя никогда не выходил.
Меделин шагнула вперед и вскинула голову. В конце концов, в ее роду тоже попадались великие воины.
– Думаю, ты знаком с мисс Хайтекстон, дорогой? Она председатель опекунского и попечительского совета по надзору за подростками с девиантным поведением. У тебя были дела в Лондоне, и я взяла на себя смелость решить проблему с девочкой...
– Меделин, помолчи. Мисс Хайтекстон, что вам угодно в моем доме?
– Простите, сэр, но мисс Уайт абсолютно права. Я убедилась в том, что девочка неадекватна, предписание у меня с собой, поэтому я забираю ее...
– НЕТ!!!
Жюли молнией метнулась через всю комнату, повисла на шее у Джона, обвила руками, прижалась, и он мгновенно подхватил ее, закрыл от всего мира.
– Не отдавай меня им, слышишь? Прошу тебя, не отдавай...
– Ты что, спятила? Как я могу отдать ИМ – ТЕБЯ?
Меделин сильно покраснела и выступила вперед.
– Джон, что это значит?! Мне кажется недопустимым подобное поведение, да еще в присутствии посторонних! Как твоя будущая супруга, я требую, чтобы ты немедленно удалил из нашего замка...
– Моего, Меделин, моего.
– Хорошо, из твоего замка эту девицу! В противном случае я вынуждена поставить вопрос ребром: или я, или она.
В коридоре замелькали лица любопытных родственников. Внизу подъехала еще одна машина, и кто-то разразился восторженными французскими восклицаниями, Гортензия Ормонд неслышно стала в боковых дверях, скрестив руки на груди, а рядом с ней настороженно застыл Снорри Стурлуссон. Шерсть на загривке добрейшего среди ирландских волкодавов уже отросла и теперь стояла дыбом. Шоколадные глаза пристально следили за Меделин и мисс Хайтекстон, и глубоко в глотке огромного пса рокотало глухое рычание.
Меделин притопнула ногой и повторила с вызовом:
– Я не шучу, Джон! Или она, или я!
Джон прижал к себе Жюли, наклонился и нежно поцеловал залитые слезами щеки, испуганные глаза, дрожащие губки... Меделин окаменела. А потом спокойный голос хозяина замка произнес:
– Извини, Меделин, но все-таки она.
В наступившей тишине простучали быстрые шаги по коридору, и маленький поверенный вкатился в библиотеку. Цепким взором окинул скульптурную композицию, особо оценил Жюли на руках у Джона и жизнерадостно замахал пухлым портфелем.
– Приветствую всех и всем желаю здоровья и счастья! Я все привез, мой милый, абсолютно все. Собственно, из дневников вы и так все узнали, но теперь на все имеются документики... Мадам, вы позволите?
– Я вам не мадам!
– О, как это жаль.
С этими словами мэтр Жювийон обогнул возмущенную мисс Хайтекстон по широкой дуге и принялся разбирать свои бумаги, что-то бормоча под нос. Мисс Хайтекстон откашлялась и решила продолжить диалог.
– Боюсь показаться назойливой, но предписание вступило в законную силу, мистер Ормонд. Закон един для всех.
– Ерунда. Она никуда не поедет.
– Я вынуждена буду обратиться к властям.
– Мэтр! Что мы можем сделать?
– Практически все, мой дорогой! У меня сегодня такое настроение... А чего, собственно, хочет эта достойная мада... муазель?
Жюльетта выкрикнула отчаянным голосом:
– Она хочет упечь меня в приют для несовершеннолетних, вот что!
Мэтр вытянул губы трубочкой и сердито замотал головой.
– Абсолютно исключено! При всем желании – не могу вам в этом способствовать. Ничего не выйдет.
Мисс Хайтекстон с возмущением уставилась на мэтра.
– А зачем это мне ваша помощь? Кто вы вообще такой?
– Мэтр Жювийон, к вашим услугам.
– Мне не нужны адвокаты, тем более французские!
– Конечно, не нужны. Здесь адвокаты бессильны. Вы ни при каких обстоятельствах не можете... э-э... упечь мадемуазель Арно в приют для несовершеннолетних.
– Почему?
– Потому что она уже три недели, как совершеннолетняя.
– ТРИ НЕДЕЛИ?!
Этот крик одновременно вырвался у мисс Хайтекстон и Джона Ормонда. После этого мисс Хайтекстон повернулась и вышла из библиотеки с тем, чтобы навсегда исчезнуть из этой истории, а Джон Ормонд выдохнул почти беззвучно «слава богу!» и унес Жюльетту Арно на руках в ее комнату. Оставшиеся переглянулись – и заговорили все разом, старательно избегая смотреть в сторону пунцовой и ошеломленной Меделин Уайт.
А через полчаса, когда уставшие мэтр Жювийон и леди Гортензия Ормонд наконец изложили в самых общих чертах обстоятельства появления в Форрест-Хилле Жюльетты Арно, в большую гостиную вошла торжественная и улыбающаяся леди Элис Шоу, затянутая в кожу и сверкающая бриллиантами. Она оглядела родственников и махнула рукой.
– Валяйте, Бигелоу. Это ваша обязанность.
Торжественный и немного взволнованный дворецкий семьи Ормонд выступил вперед. Его могучая грудь слегка расширилась, и гулкий голос разнесся по всему замку Форрест-Хилл.
– Милорды и миледи! Граф Лейстерский, лорд Джон Ормонд, и его невеста, мисс Жюльетта Арно.
Распахнулись двери, и на пороге возникли двое.
Высокий синеглазый красавец в безукоризненном черном смокинге и... сверкающее белое облако кружев и тончайшего шелка. Златовласая красавица с зелеными глазами склонила хорошенькую головку на плечо и улыбнулась такой пленительной и полной счастья улыбкой, что в ответ немедленно улыбнулись лорды, пэры, сэры, герцоги и члены правительства, кавалерственные дамы, графини, леди Гортензия Ормонд, дворецкий Бигелоу и даже Снорри Стурлуссон. И только мэтр Жювийон, маленький круглый старичок с пушистыми белыми облачками вокруг розовой лысины, герой Французского сопротивления и солдат Иностранного легиона, громко всхлипнул и только потом разулыбался, словно французское летнее солнышко.
Джон Ормонд посмотрел на свою невесту. Жюльетта посмотрела на своего мужчину. Изумруды и сапфиры сверкнули, рассыпая вокруг свет любви и нежности, а потом жених с невестой поцеловались – и мир на некоторое время стал для них совершенно необитаемым.
Эпилог
Огонь потрескивал в камине, темные бархатные портьеры приглушали все уличные звуки. В клубе на Риджент-стрит царила спокойная, тихая, очень мужская и очень английская атмосфера. Подали бренди и сигары. Неспешный разговор тек между сидящими в удобных креслах мужчинами в элегантных костюмах. Говорили о лейбористах, о кризисе правительства, о футболе и скачках, о ценах на нефть и о том, что лорд Пемброк поторопился снять свою кандидатуру на пост председателя...
Вдруг в патриархальную величавость старейшего лондонского клуба ворвался некий пронзительный и настойчивый звук. Он шел извне, с улицы, но все сидящие как-то сразу поняли, что этот звук адресован кому-то из них.
Высокий красивый мужчина с синими глазами и медальным профилем упруго поднялся из бархатных объятий кресла.
– Прошу извинить меня, джентльмены. Это за мной. Всего доброго.
– Всего доброго, граф.
– До свидания, лорд Ормонд.
– Не забудьте, в пятницу заседание правления клуба.
– Привет и поклоны очаровательной леди Ормонд!
– Благодарю вас.
Молодой аристократ поклонился и степенно вышел из комнаты. Несколько человек поднялись и подошли к окну.
Из дверей клуба выбежал молодой черноволосый парень в белой рубашке с расстегнутым воротом. В руках он держал пиджак, засовывая в карман скомканный галстук. Он торопливо подошел к сверкающему черному мотоциклу, грозно рычавшему и извергающему клубы голубоватого дыма. Маленький мотоциклист в кожаной куртке и потертых джинсах потянулся навстречу черноволосому парню, сорвал с головы шлем... Золотые волосы рассыпались по плечам, и хорошенькая молодая женщина, смеясь, обвила шею Джона Ормонда руками. Они целовались на виду у всей улицы, а из окна за ними с улыбкой следили члены клуба.
Потом Джон Ормонд уселся позади своей жены, взревел мотор – и сверкающее чудовище исчезло.
Члены клуба сидели перед камином, курили сигары и улыбались своим мыслям.
Во дворе замка Форрест-Хилл юный лорд Ормонд, крепкий мужчина двух с половиной лет от роду, черноволосый и зеленоглазый, кряхтя, запрягал огромную буро-серую лошадь. Лошадь стояла смирно, только иногда виляла хвостом и скулила.
На руках Гортензии Ормонд мирно спала годовалая девочка с золотыми волосами. Вдруг она открыла глазки, оказавшиеся синими, словно небо над Форрест-Хиллом, и отчетливо произнесла:
– Мама! Папа!
Гортензия подняла голову и прислушалась. Потом на ее лице появилась улыбка.
– Ты права, малышка Гленис. Мама и папа скоро будут здесь. Теперь их слышно издалека. Ох, оторвать бы голову Элис за такие подарочки на годовщину свадьбы...
Далеко среди цветущих лугов Солсбери трещал мотоцикл.
И жизнь была прекрасна.