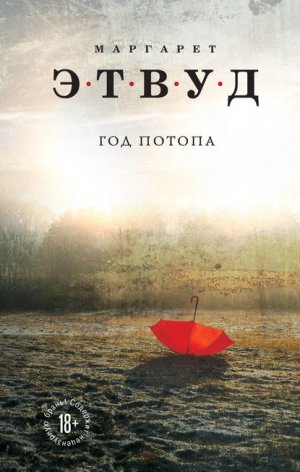
Сад
Год потопа
1
Тоби
Год двадцать пятый, год потопа
Ранним утром Тоби поднимается на крышу — наблюдать восход. Она опирается на палку от щетки: лифт давно уже не работает, а задняя лестница склизкая от сырости, так что если Тоби поскользнется и упадет, подбирать ее будет некому.
Приходит первая волна зноя, и дымка поднимается из полосы деревьев, отделяющих Тоби от допотопного города. Слабо пахнет горелым — карамелью, смолой, протухшим жареным мясом, пепельно-сальным ароматом горелой помойки, сбрызнутой дождем. Брошенные башни вдали — словно кораллы древнего рифа: белесые, выцветшие, безжизненные.
Хотя какая-то жизнь еще сохранилась. Чирикают птички: воробьи, должно быть. Ясные, резкие голосишки — как гвоздем по стеклу; шум машин их больше не заглушает. Замечают ли сами птицы эту тишину, отсутствие моторов? А если да — стали ли они счастливей? Тоби понятия не имеет. В отличие от других вертоградарей — среди них попадались такие, с безумными глазами или наркоманы, — Тоби никогда не считала, что может разговаривать с птицами.
Солнце на востоке все ярче, оно окрашивает алым серо-голубую дымку над далеким океаном. Грифы, примостившись на электрических столбах, расправляют крылья, чтобы посушить их, — раскрываются, как черные зонтики. Один за другим они взмывают на восходящих воздушных течениях и по спирали поднимаются вверх. Если гриф камнем бросился вниз — значит, завидел падаль.
«Грифы — наши друзья, — учили когда-то вертоградари. — Они очищают землю. Они необходимы, они — посланные Господом черные ангелы плотского разложения. Представьте себе, как ужасно было бы, если бы не было смерти!»
«Интересно, верю ли я в это по-прежнему?» — думает Тоби.
Вблизи все выглядит иначе.
На крыше есть несколько ящиков с декоративными растениями, которые уже давно разрослись как попало, и несколько скамеек из пластмассы под дерево. Раньше был еще навес от солнца, для приемов с коктейлями, но его давно унесло ветром. Тоби садится на скамью и начинает рекогносцировку. Она подносит к глазам бинокль и ведет им слева направо. Дорожка, обсаженная люмирозами — они стали неопрятны, как облезлые щетки для волос, а сейчас их пурпурное свечение меркнет в крепнущем свете дня. Западные ворота, отделанные розовой солнечнокожей под штукатурку, за воротами — переплетение машин.
Цветочные клумбы, задушенные чертополохом и лопухами. Над ними порхают огромные аквамариновые мотыльки кудзу. Фонтаны — их чаши в форме раковин полны застоявшейся дождевой воды. Стоянка для машин — там брошена розовая тележка для гольфа и два розовых фургона с подмигивающим глазом, логотипом салона красоты «НоваТы». Дальше стоит еще один фургон, врезавшийся в дерево; раньше из окна свисала рука, теперь ее больше нет.
Просторные лужайки заросли высокими сорняками. В зарослях молочая, астр и щавеля вздымаются неровные длинные бугры: там и сям виднеются клоки материи, кое-где блестит голая кость. Здесь падали люди — те, кто бежал или брел, шатаясь, по газону. Тоби видела это с крыши, скрючившись за ящиком с цветами, но долго смотреть не стала. Кое-кто из них звал на помощь — словно знал, что она там. Но она все равно ничего не могла бы сделать.
Бассейн покрылся пестрым одеялом из водорослей. Там уже завелись лягушки. Цапли и журавлины ловят их на мелком конце бассейна. Одно время Тоби пыталась выуживать оттуда утонувших мелких зверьков. Светящихся зеленых кроликов, крыс, скунотов с полосатыми хвостами, в черных бандитских масках. Но теперь бросила это занятие. Может, от них в бассейне как-то заведется рыба. Когда он станет больше похож на болото.
Неужели она собирается есть эту теоретическую будущую рыбу? Никогда.
Во всяком случае, не сейчас.
Она обращает бинокль на темную полукруглую стену деревьев, лиан, разросшихся кустов, вглядывается в нее. Именно оттуда может прийти опасность. Но какая? Тоби не может себе представить.
Ночью слышны обычные звуки: далекий лай собак, писк мышей, стрекотание сверчков — будто вода шумит в водосточной трубе, редкое басистое кваканье жаб. Кровь шумит в ушах: «та-дыш, та-дыш, та-дыш». Словно тяжелая метла заметает сухие листья.
— Иди спать, — вслух говорит она.
Но она плохо спит с тех пор, как осталась одна в здании. Иногда она слышит голоса — человеческие, страдающие, зовущие на помощь. Или голоса женщин, которые здесь когда-то работали, и беспокойных клиенток, ищущих отдыха и омоложения. Они плескались в бассейне, гуляли по траве. Розовые безмятежные голоса, навевающие покой.
Или голоса вертоградарей бормочут или поют; или дети смеются хором, высоко на крыше, в саду «Райский утес». Адам Первый, Нуэла, Бэрт. Старая Пилар среди своих пчел. И Зеб. Если кто из них и выжил, это наверняка Зеб. Он может появиться в любой момент: покажется на дорожке, ведущей к дому, или шагнет из кустов.
Скорее всего, он уже мертв. Лучше так думать. Чтобы не надеяться зря.
Хотя кто-то ведь должен был остаться; не может быть, что она — единственный человек на планете. Должны быть другие. Но кто они — друзья или враги? И как отличить, если она увидит кого-нибудь?
Она готова. Двери заперты, окна забиты. Но даже это ничего не гарантирует: каждое пустое пространство приглашает захватчиков.
Даже во сне она прислушивается, как зверь, — вдруг нарушится привычный рисунок, раздастся незнакомый звук, тишина вскроется, как трещина в скале.
«Если мелкие создания замолкли, — говорил когда-то Адам Первый, — это значит: они чего-то боятся. Прислушивайся к звукам их страха».
2
Рен
Год двадцать пятый, год потопа
«Берегись слов. Думай, что пишешь. Не оставляй следов».
Так учили вертоградари, когда я жила среди них ребенком. Они учили нас полагаться на память, потому что ничему записанному доверять нельзя. Дух переходит из уст в уста, а не от вещи к вещи; книги горят, бумага истлевает, компьютеры можно уничтожить. Лишь Дух живет вечно, а Дух — не вещь.
А что до письмен, все Адамы и Евы говорили, что писать — опасно, потому что враги могут выследить тебя через написанное тобою, взять в плен и использовать твои слова против тебя.
Но теперь, когда пришел Безводный потоп, можно писать спокойно: те, кто мог использовать написанное против меня, уже, скорее всего, мертвы. Пиши что хочешь.
И вот я пишу свое имя карандашом для подводки бровей на стене рядом с зеркалом. Я уже много раз его написала. «Ренренрен» — словно песня. Если человек слишком долго остается один, он может забыть, кто он. Аманда мне говорила.
Я ничего не вижу в окно — оно из стеклоблоков. Я не могу выйти через дверь, она заперта снаружи. Но у меня все еще есть воздух и вода, пока не откажут солнечные батареи. И еда.
Мне повезло. На самом деле мне очень повезло. Считай свои удачи, говорила Аманда. И вот я начинаю считать. Раз: мне повезло, что, когда пришел потоп, я работала тут, в «Чешуйках». Два: еще больше мне повезло, что меня заперли в изоляторе, или «липкой зоне», потому что здесь я оказалась в безопасности. У меня порвалась биопленка-скафандр: клиент увлекся и укусил меня, прямо сквозь зеленые чешуйчатые блестки. И я ждала результатов анализов. Я не очень беспокоилась: разрыв не мокрый, а сухой, кожный покров цел, никаких выделений внутрь не попало, просто пленка порвалась у локтя. Но в «Чешуйках» всегда проверяли все досконально. Они заботились о своей репутации: у нас была слава «самых чистых грязных девочек в городе».
Здесь, в клубе «Хвост-чешуя», всегда заботились о сотрудниках, по правде. О квалифицированных то есть. Хорошая еда, при необходимости — врач, отличные чаевые, потому что сюда приходили люди из лучших корпораций. Клуб хорошо управлялся, хотя и находился не в самом лучшем районе города, как и все остальные клубы. Это вопрос имиджа, говорил, бывало, Мордис: сомнительный квартал — это хорошо для бизнеса, потому что у нашего продукта должен быть особый привкус: порочный, крикливый блеск, сомнительный душок. Что-то должно отличать нас от простецкого товара, какой клиент может и дома получить: в трикотажных трусах и со слоем крема на физиономии.
Мордис любил говорить прямо. Он крутился в этом бизнесе с детства, а когда приняли законы против сутенеров и уличной проституции — власти говорили, что это в интересах общественного здоровья и безопасности женщин, — все ремесло подмял под себя «Сексторг» под контролем ККБ, Корпорации корпоративной безопасности. И Мордис перескочил туда, воспользовавшись своими связями.
«Тут важно, кого ты знаешь, — говорил он, бывало. — И что именно ты о них знаешь».
Тут он ухмылялся и хлопал собеседницу по заду — но чисто по-дружески: он никогда сам не пользовался своим товаром. У него были четкие понятия.
Он был жилистый, с бритой головой и черными блестящими живыми глазками, похожими на муравьиные головки. Он был покладист, пока все шло хорошо. Но умел за нас постоять, если вдруг клиент начинал бузить.
«Я никому не позволю обижать моих девочек», — говорил он. Для него это был вопрос чести.
И еще он не любил зря переводить товар: он, бывало, говорил, что мы — ценные активы. Сливки сливок. После захвата рынка корпорацией «Сексторг» все, что осталось вне системы, было незаконно и к тому же выглядело жалко. Горстка больных старух, которые таскались по темным проулкам, едва ли не попрошайничая. Ни один мужчина, который хоть что-то соображает, к ним и близко не подошел бы. В «Чешуйках» мы называли таких «опасные отходы». Конечно, нам не следовало задирать нос; мы могли бы проявить сострадание. Но сострадание требует труда, а мы были молоды.
В ночь, когда пришел Безводный потоп, я ждала результатов своих анализов; в таких случаях нас запирали в «липкой зоне» на несколько недель: вдруг у нас окажется что-то заразное? Еду передавали снаружи через герметизированный шлюз, и к тому же внутри был холодильник с разными снэками, и вода фильтровалась как на входе, так и на выходе. Здесь было все, что нужно человеку, но в конце концов становилось скучно. Можно было упражняться на тренажерах, и я этим занималась подолгу, ведь танцовщице нужно держать себя в форме.
Можно было смотреть телевизор или старые фильмы, слушать музыку, говорить по телефону. Или заглядывать в разные комнаты «Чешуек» по видеоинтеркому. Иногда в разгаре сеанса с клиентом мы смеха ради подмигивали в камеру, не переставая стонать, — чтобы подбодрить коллегу, застрявшую в «липкой зоне». Мы знали, где спрятаны камеры, — за украшениями из змеиной кожи или перышек на потолке. В «Чешуйках» мы были как одна большая семья, и Мордису нравилось, когда сотрудницы, сидящие в «липкой зоне», делали вид, что по-прежнему участвуют в жизни клуба.
С Мордисом мне было так спокойно. Я знала: если у меня стрясется большая беда, я могу прийти к нему. В моей жизни было очень мало таких людей. Аманда — почти всю мою жизнь. Зеб — иногда. И Тоби. Может, вы не ожидали услышать такое про Тоби — очень уж она жесткая и неподатливая, — но когда тонешь, хвататься за мягкое и податливое без толку. Нужно что-нибудь твердое.
День Творения
День Творения
Год пятый
Дорогие друзья, дорогие собратья-создания, дорогие братья-млекопитающие!
В День Творения пять лет назад на месте этого сада на крыше «Райский утес» была раскаленная пустыня, окруженная гниющими городскими трущобами и вместилищами греха, но ныне этот сад расцвел подобно розе.
Покрывая безжизненные крыши зеленой растительностью, мы делаем посильную малость, чтобы искупить Божье Творение, спасти его от тлена и мерзости запустения, обступившей нас, да к тому же еще и обеспечиваем себя чистой, незагрязненной едой. Иные скажут, что наши усилия тщетны, но если бы все последовали нашему примеру, как преобразился бы лик нашей возлюбленной планеты! Нам предстоит еще немало тяжкого труда, но не страшитесь, друзья мои, ибо мы смело устремимся вперед.
Я рад, что никто из нас не забыл надеть шляпы от солнца.
А теперь обратим наши молитвенные помыслы к ежегодному празднику Дня Творения.
Человеческое Слово Господа повествует о Творении в выражениях, доступных для людей прошлого. Господь не мог упомянуть о галактиках или генах, ибо это весьма сильно смутило бы наших праотцев! Но должны ли мы в таком случае принимать как научный факт историю о том, что мир был создан за шесть дней, пренебрегая данными научных наблюдений? Господь не укладывается в узкие, буквальные, материалистические интерпретации, Его нельзя мерить человеческими мерками, ибо каждый Его день — эпоха, и тысяча веков нашего времени для Него все равно что один вечер. Мы, в отличие от некоторых других религий, никогда не считали возможным лгать детям насчет геологии.
Вспомните, как начинается Человеческое Слово Господа: земля была безвидна и пуста, а затем Господь сказал: «Да будет свет!» И стал свет. Именно этот момент наука весьма непочтительно называет Большим взрывом. Однако Писание и наука согласны между собой: сначала была тьма; потом, во мгновение ока, стал свет. Но конечно, Сотворение мира еще не окончено: разве не родятся ежеминутно новые звезды? Дни Бога идут не последовательно, друзья мои: они идут параллельно, первый — с третьим, четвертый — с шестым. Ибо сказано: «пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли».[1]
Сказано, что на пятый день трудов Господа по Сотворению мира вода произвела пресмыкающихся и рыб, а на шестой день Он создал животных, населивших сушу, а также траву и деревья. И всех их благословил и заповедал плодиться и размножаться; и, наконец, был создан Адам — то есть человечество. Наука утверждает, что биологические виды действительно появились на Земле именно в этом порядке, и человек был последним. Приблизительно в этом порядке. Примерно так.
Что же было потом? Господь привел животных к Адаму, «чтобы видеть, как он назовет их».[2] Но разве Господь не знал заранее, какие имена даст Адам животным? Ответ может быть только один: Господь наделил Адама свободной волей, поэтому Адам мог совершать поступки, которые даже Бог не предвидит заранее. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете искушаться мясоядением или материальными благами! Даже Господь не всегда знает, что вы сделаете через минуту!
Господь побудил животных собраться, воззвав к ним, но на каком же языке Он говорил? Не на древнееврейском, друзья мои. Не на латыни, не по-гречески, не по-английски и не по-французски, не по-арабски, не по-китайски. Нет! Он позвал каждое животное на его собственном языке. К оленю он обратился на оленьем языке; к пауку — по-паучьи; к слону — по-слоновьи, к блохе — по-блошиному, к сороконожке — по-сороконожьи, а к муравью — по-муравьиному. Наверняка это было именно так.
Что же до самого Адама, то названные им имена животных стали первыми словами, которые он произнес. В этот момент родился человеческий язык. В это космическое мгновение Адам вступил во владение своей человеческой душой. Назвать другого по имени означает, как мы надеемся, приветствовать его, привлечь его к себе. Представим же себе, как Адам перечисляет имена животных с любовью и радостью, словно желая сказать: «Вот и ты! Добро пожаловать!» Таким образом, первое деяние Адама по отношению к животным было выражением любви, доброты и родства, ибо человек в своем непадшем состоянии еще не был плотоядным. Животные знали это и не бежали от него. Так, должно быть, происходило все в тот неповторимый день — мирное сборище, на котором Человек с любовью принял каждое живое существо на Земле.
Сколько же мы потеряли, дорогие мои собратья-млекопитающие, собратья-смертные! Сколько же уничтожили намеренно! И сколько же всего нам следует восстановить в себе!
Время нарекания имен еще не кончилось, друзья мои. В очах Господа мы, возможно, все еще живем в шестом дне творения. Когда будете медитировать, представьте, что вы погружены в этот момент защищенности и покоя. Прострите руки к кротким глазам, что взирают на вас с таким доверием — доверием, которое еще не нарушено кровопролитием, обжорством, гордыней и презрением.
Назовите их имена.
Воспоем же.
Господь в Адама жизнь вдохнул
3
Тоби. День подокарповых[3]
Год двадцать пятый
Занимается заря. Тоби вертит в голове эти слова: заря занимается. Чем, собственно, занимается заря? Прогоняет ночь? Выкатывает на небо солнце, разливая по земле его свет?
Тоби поднимает бинокль. Деревья выглядят невинно, обычно. Но Тоби кажется, что на нее кто-то смотрит: словно даже самые неподвижные камни и пни следят за ней, желая зла.
Это от одиночества. Вертоградари подготовили ее к этим явлениям: тренировали всенощными бдениями, пребыванием в затворе. Плавающий в воздухе оранжевый треугольник, говорящие кузнечики, извивающиеся столбы деревьев, глаза среди листвы. Но все же как отличить иллюзии от настоящего?
Солнце уже совсем взошло. Оно стало меньше и горячее. Тоби спускается с крыши, надевает розовую накидку до пят, опрыскивается «Супер-Д» от насекомых и поплотнее натягивает на голову розовую шляпу от солнца. Затем отпирает парадную дверь и идет заниматься огородом. Здесь они растили ингредиенты для органических салатов, которые подавали посетительницам в кафе при салоне красоты. Зелень для украшения блюд, экзотические овощи — продукты генной инженерии, травяные чаи. Над садом натянута сетка от птиц, а вокруг — забор из железной сетки от зеленых кроликов, рыськов и скунотов, забредающих из парка. До потопа их было немного, но сейчас они размножаются с невероятной скоростью.
Тоби всерьез надеется на огород: запасы еды в кладовой уже подходят к концу. Много лет Тоби копила продукты именно на такой случай, но не рассчитала: соевые гранулы и сойдины уже кончаются. К счастью, в огороде все растет хорошо: кургорох завязывает стручки, бобананы зацвели, кусты полиягод усыпаны мелкими бурыми комочками разных форм и размеров. Тоби срывает пучок шпината, стряхивает с него мелких блестящих зеленых жучков и давит их ногами. И тут же раскаивается. Она делает в земле ямку большим пальцем, хоронит жучков и произносит над могилой слова, освобождающие душу, испрашивающие прощения. Хотя ее никто не видит, от таких привычек нелегко избавиться.
Она пересаживает в другие места несколько улиток и слизняков, выдергивает сорняки, но лебеду не трогает: ее можно потушить и съесть. На кружевной зелени моркови Тоби находит двух ярко-голубых гусениц кудзу. Их создали, чтобы они ели вездесущий сорняк кудзу, но они, по-видимому, предпочитают огородные овощи. Как часто бывало в первые годы популярности сплайсинга, дизайнер пошутил: снабдил гусениц младенческими личиками с большими глазами и счастливой улыбкой на том конце, где находится голова. Поэтому у людей с трудом поднимается рука убить гусеницу кудзу. Тоби снимает гусениц с морковки — челюсти под хорошенькими пухленькими личиками яростно работают, — поднимает край сетки и швыряет гусениц через забор. Она даже не сомневается, что они вернутся.
На пути домой Тоби находит у дорожки собачий хвост. Судя по всему, от ирландского сеттера. Длинная шерсть свалялась и облеплена репьями. Скорее всего, это гриф уронил: они вечно что-нибудь роняют. Тоби старается не думать о том, что роняли грифы в первые недели после потопа. Хуже всего были пальцы.
Ее собственные кисти утолщаются, грубеют — пальцы неуклюжие, побуревшие, как корни. Она слишком много копает.
4
Тоби. День святого Башира Алуза
Тоби моется рано утром, когда еще не слишком жарко. Она держит на крыше ведра и тазы, чтобы собирать дождевую воду от послеобеденных гроз; у салона красоты свой колодец, но система солнечных батарей сломана, так что насосы не работают. Стирает Тоби тоже на крыше, а дня просушки раскладывает одежду на скамьях. Мыльную воду она использует для смыва в туалете.
Тоби намыливается — мыла еще очень много, все оно розовое — и стирает пену губкой. Мое тело съеживается, думает она. Я сморщиваюсь, уменьшаюсь. Скоро от меня вообще ничего не останется, одни заусеницы. Хотя я никогда не была толстой. «Ах, Тобита, — говорили, бывало, клиентки, — мне бы твою фигуру!»
Она вытирается и надевает розовый халатик. У этого на кармане вышито «Мелоди». Сейчас нет смысла носить этикетки, их все равно некому читать, так что она пользуется и чужими халатами: «Анита», «Кинтана», «Рен», «Кармела», «Симфония». Эти девочки были так жизнерадостны, так полны надежд. Кроме Рен: та всегда была печальна. Но она ушла раньше.
Потом, когда пришла беда, ушли все. По домам, к семьям, веря, что любовь их спасет.
— Идите, я тут все запру, — сказала им Тоби.
И заперла. Но сама осталась внутри.
Тоби расчесывает длинные темные волосы, скручивает в мокрый пучок. Правда надо подстричься. От густых волос слишком жарко. К тому же от них пахнет овчиной.
Тоби сушит волосы, и до нее доносится странный звук. Она осторожно подходит к ограждению крыши. У бассейна роют землю три огромные свиньи — две свиноматки и хряк. Пухлые розовато-серые бока сияют в утренних лучах; свиньи блестят, как борцы. Они какие-то ненормально крупные, словно раздутые. Тоби и раньше видела таких свиней на лужайках, но они еще ни разу не подходили близко. Должно быть, сбежали с какой-нибудь экспериментальной фермы.
Они собрались в кучку у мелкого конца бассейна, смотрят на него, словно думают о чем-то, подергивая пятачками. Может, нюхают дохлого скунота, плавающего на поверхности мутной воды. Неужели попробуют достать? Свиньи тихо перехрюкиваются между собой, потом отходят подальше: должно быть, скунот слишком разложился, несъедобен даже для них. Они замирают, нюхают воздух в последний раз, потом трусцой направляются за угол здания.
Тоби переходит на другое место, чтобы их видеть. Они нашли забор, которым обнесен огород. Заглядывают внутрь. Потом одна свинья начинает копать. Они прокопают под сеткой.
— Пошли вон! — кричит Тоби.
Они бросают один взгляд наверх и тут же забывают про нее.
Она несется вниз по лестнице — как можно быстрее, но так, чтобы не поскользнуться. Идиотка! Ружье надо держать все время при себе. Она хватает карабин, лежащий у кровати, и несется обратно на крышу. Она видит одну свинью в прицел — это самец, он стоит боком, попасть легко, — но тут же начинает колебаться. Они — Божьи твари. Никогда не убивай без причины, говорил Адам Первый.
— Я вас предупреждаю! — кричит она.
Удивительно, но они, кажется, понимают. Должно быть, видели оружие раньше — пистолет-распылитель, парализатор. Они с испуганным визгом обращаются в бегство. Они уже покрыли четверть расстояния до леса, и тут Тоби соображает, что они вернутся. Придут ночью, подкопают за пару минут и сожрут весь огород, и конец всем ее долговременным снабженческим планам. Придется их застрелить. Это самозащита. Тоби жмет на спусковой крючок, промахивается, стреляет снова. Хряк падает. Свиноматки бегут дальше. Только у края леса оборачиваются. Потом исчезают меж деревьев.
У Тоби дрожат руки. Ты погасила чужую жизнь, говорит она себе. Ты действовала необдуманно, в гневе. Ты должна испытывать вину. Но все же ей хочется выйти с кухонным ножом и отрезать окорок. Когда Тоби пришла к вертоградарям, она дала обет не есть мяса, но сейчас ей является соблазнительный образ сэндвича с беконом. Тоби сопротивляется: животный белок — это на самый крайний случай, если другого выхода не будет. Она бормочет традиционную формулу вертоградарей, испрашивающую прощение, хотя и не чувствует себя виноватой. Во всяком случае, не особенно виноватой.
Ей нужно тренировать меткость. Стреляла в кабана, промахнулась, упустила свиноматок — это никуда не годится.
Что касается карабина, то в последние недели она несколько расслабилась. Тоби мысленно клянется, что теперь будет все время носить его с собой — даже когда идет на крышу мыться, даже в туалет. Даже в огород — особенно в огород. Свиньи — умные твари, они про нее не забудут и не простят. Нужно ли запирать дверь, выходя наружу? Что, если понадобится срочно укрыться в здании? Но если оставить дверь незапертой, вдруг кто-нибудь — человек или зверь — проскользнет в дом, пока Тоби работает в огороде, и устроит на нее засаду.
Нужно все как следует продумать. «Арарат без стен — не Арарат совсем, — скандировали, бывало, дети вертоградарей. — Если стену не защищать, можно и строить не начинать». Вертоградари обожали укладывать нравоучительные сентенции в стихи.
5
Тоби отправилась за карабином через несколько дней после первых вспышек. В ночь, когда девочки сбежали из «НоваТы», побросав розовые халатики.
Это была не обычная пандемия: ту остановили бы после пары сотен тысяч смертей, а потом уничтожили бы биоинженерными средствами и хлоркой. Это был тот самый Безводный потоп, который так часто пророчили вертоградари. Все знаки были налицо: он несся по воздуху, словно на крыльях, он прожигал города насквозь, как огонь, он гнал во все стороны заразные толпы, сеял ужас и зверства. Свет гас повсюду, новости доходили урывками: системы отказывали, управляющие ими люди погибали. Похоже было, что близится тотальный коллапс, поэтому Тоби нужен был карабин. Владеть оружием было противозаконно, и еще неделю назад попасться с ружьем означало, что тебе конец. Но сейчас законы уже не действовали.
Поездка будет опасной. Тоби придется пешком дойти до своего старого плебсвилля — общественный транспорт не работает — и найти обшарпанный домик, который так недолго принадлежал ее родителям. И выкопать карабин, надеясь, что никто не поймает ее за этим занятием.
Пройти такое расстояние Тоби могла: она держала себя в форме. Проблема — другие люди. Беспорядки были везде, судя по обрывкам новостей, еще доходившим Тоби на телефон.
Она вышла из «НоваТы» в сумерках, заперев за собою дверь. Пересекла просторные лужайки и пошла к северным воротам по лесной тропе, где когда-то прогуливались в тени клиентки: Тоби надеялась, что здесь ее не заметят. Прожекторы, установленные вдоль дорожки, кое-где еще светили. Тоби никого не встретила, только зеленый кролик прыгнул в кусты при ее приближении, да рысек выскочил на тропу, глядя на нее сверкающими глазами.
Ворота оказались приоткрыты. Тоби осторожно протиснулась в щель, почти ожидая окрика. Потом пустилась в путь по Парку Наследия. Мимо спешили люди — поодиночке и группами, торопясь покинуть город, пробраться через расползшееся кольцо плебсвиллей и найти убежище в сельской местности. Кто-то закашлялся, закричал ребенок. Тоби едва не споткнулась о тело, лежащее на земле.
Когда она дошла до выхода из парка, уже совсем стемнело. Тоби перебегала от дерева к дереву вдоль границы парка, стараясь держаться в тени. Бульвар был забит легковушками, грузовиками, солнциклами и автобусами. Водители гудели и орали. Некоторые машины были перевернуты и горели. В магазинах полным ходом шли грабежи. Людей из ККБ видно не было. Они, должно быть, дезертировали первыми, бросились в свои охраняемые поселки, твердыни корпораций, чтобы спасти свою шкуру. Тоби от всей души надеялась, что смертельный вирус они прихватили с собой.
Послышались выстрелы. Значит, люди уже повыкапывали спрятанное на задних дворах, подумала Тоби. Не у нее же одной карабин.
Дальше по улице оказалась баррикада — сбитые вместе машины. У баррикады были защитники, вооруженные… чем? Насколько могла видеть Тоби — кусками железных труб. Толпа в ярости кричала, швыряя в баррикаду кирпичи и камни. Люди хотели идти дальше, бежать из города. А чего же хотели люди, устроившие баррикаду? Без сомнения, грабить, насиловать. Насилия, денег и других бесполезных вещей.
Когда поднимутся воды Безводного потопа, говаривал Адам Первый, люди бросятся искать спасения. Они будут цепляться за любую соломинку, чтобы остаться на плаву. Берегитесь, друзья мои, чтобы не стать этой соломинкой, ибо, если в вас вцепятся или хотя бы коснутся вас, вы также утонете.
Тоби повернула прочь от баррикады. Придется пойти в обход. Держась в темноте, за кустами и деревьями, она стала двигаться вдоль границы парка. Она дошла до площадки, где раньше вертоградари торговали своими товарами, и саманного домика, в котором когда-то играли дети. Тоби спряталась за домиком, ожидая какого-нибудь отвлекающего эффекта. Действительно, скоро прогремел взрыв, все взгляды обратились в ту сторону, и Тоби поскорее перешла открытую площадку. Лучше не бежать, так учил Зеб: «Убегаешь — жертвой станешь».
На боковых улочках тоже было полно народу. Тоби лавировала, чтобы не сталкиваться с прохожими. На ней были хирургические перчатки, бронежилет из паутины паукозла, свистнутый год назад из будки охранника в «НоваТы», и черный респиратор-клюв. Она захватила лопату и ломик из сарая на огороде. Тем и другим можно убить, если хватит решимости. В кармане у Тоби лежал баллончик лака для волос «НоваТы — полный блеск!» — эффективное оружие, если распылять прямо в глаза. Она многому научилась у Зеба на уроках по «предотвращению кровопролития в городе»: Зеб считал, что в первую очередь следует предотвращать пролитие собственной крови.
Она свернула на северо-восток, пересекла престижный район Папоротниковый Холм и вошла в Большой Ящик, заставленный рядами тесноватых, плохо построенных домиков. Она старалась двигаться по самым узким улицам, слабо освещенным и малолюдным. Ее обогнало несколько прохожих, всецело занятых фактами своей личной биографии. Два подростка замедлили шаг, словно примериваясь, не ограбить ли ее, но она закашлялась и прохрипела: «Помогите!» — и они кинулись прочь.
Около полуночи, несколько раз проскочив нужные повороты — улицы в Большом Ящике были все похожи одна на другую, — Тоби добралась до бывшего родительского дома. Окна темны, дверь гаража распахнута, окно на фасаде разбито, так что дом, видимо, пуст. Нынешние жильцы погибли или куда-то делись. То же было и с соседним, точно таким же домом. Именно там закопан карабин.
Тоби постояла, успокаиваясь, прислушиваясь к шуму крови в ушах: «та-дыш, та-дыш, та-дыш». Либо карабин на месте, либо нет. Если на месте, значит, у Тоби будет карабин. Если нет, значит, карабина у нее не будет. В любом случае паниковать нечего.
Она тихо, как вор, открыла калитку в сад соседей. Темнота и неподвижность. Запах ночных цветов: лилии, душистый табак. С примесью дыма — что-то горело в нескольких кварталах отсюда: в небе виднелось зарево. Мотылек кудзу на лету задел ее лицо.
Она поддела ломиком каменную плиту вымостки соседского дворика, схватилась за край, перевернула. Еще раз и еще. Три камня. Потом взяла лопату и принялась копать.
Сердце стукнуло раз, другой.
Карабин был на месте.
«Не смей плакать! — приказала Тоби самой себе. — Взрезай пластик, хватай карабин и патроны и давай делай ноги отсюда».
До «НоваТы» она добралась только через три дня — пришлось обходить стороной самые сильные беспорядки. На ступеньках снаружи остались следы грязных ног, но в здание никто не вломился.
6
Карабин — «Рюгер 44/99 Дирфилд» — примитивное оружие. Он принадлежал отцу Тоби. Это отец научил Тоби стрелять, когда ей было двенадцать лет, давным-давно — теперь эти дни кажутся разноцветными глюками в гамме «Техниколор», продуктами для отключки мозга. Целься в середину тела, говорил отец. Не теряй времени на голову. Он говорил, что это он про зверей.
Они жили почти в деревне — до того, как город расползся и захватил этот кусок земли. Их белый каркасный домик стоял на десяти акрах леса, в котором жили белки и первые зеленые кролики. Но не скуноты — тех еще не сделали. Оленей тоже было много. Они вечно забирались в огород, который возделывала мать. Тоби застрелила пару оленей и помогала их свежевать: она до сих пор помнит этот запах и как скользили блестящие кишки. Семья ела тушеную оленину, а из костей мать варила суп. Но по большей части Тоби с отцом стреляли в консервные банки и в крыс на свалке — тогда поблизости еще была свалка. Тоби много тренировалась, и отец был доволен.
— Отличный выстрел, — говорил он.
Может быть, он хотел сына? Может быть. Но вслух он говорил, что все должны уметь стрелять. Люди его поколения верили: если что-то не так, надо кого-нибудь застрелить, и все будет хорошо.
Потом ККБ запретила огнестрельное оружие в интересах общественной безопасности, а только что изобретенные пистолеты-распылители забрала себе в исключительное пользование, и люди вдруг оказались официально безоружными. Отец зарыл карабин и патроны под кучей старого штакетника и показал Тоби где — на случай, если ей понадобится. ККБ могла бы найти карабин с помощью металлодетекторов — ходили слухи, что она устраивает обыски, — но все и везде она обшарить не могла, а отец, с ее точки зрения, был ничем не подозрителен. Он торговал системами кондиционирования воздуха. Мелкая сошка.
Потом его землю захотел купить застройщик. Он предложил хорошую цену, но отец Тоби отказался продавать. Сказал, что ему и тут хорошо. И мать его поддержала. У нее был магазинчик биодобавок — франшиза «Здравайзера» в торговом центре неподалеку. Они отвергли второе предложение, третье. «Ну так мы обстроим вас кругом», — сказал застройщик. Ну и ладно, ответил отец Тоби — к этому времени он уже пошел на принцип.
Он полагал, что мир не очень изменился за полвека, думает Тоби. Лучше б он был посговорчивее. ККБ уже пробовала силы. Она начала свое существование как частная охранная компания, обслуживающая корпорации, а потом заменила местную полицию, когда та скончалась от недостатка финансирования. Поначалу народ был доволен, потому что за все платили корпорации, но к этому времени ККБ уже тянула щупальца повсюду.
Сперва отец потерял работу в компании, которая торговала кондиционерами. Он нашел другую, продавать окна с терморегуляцией, но там платили меньше. Потом мать слегла со странной болезнью. Она не могла понять, в чем дело, потому что всегда заботилась о своем здоровье: ходила в спортзал, ела достаточно овощей, ежедневно принимала биодобавки — здравайзеровский «Супермощный Вита-вит». Владельцы франшиз вроде нее получали все биодобавки со скидкой — собственный, индивидуально подобранный пакет, совсем как корпоративные шишки «Здравайзера».
Она принимала все больше биодобавок, но все равно слабела, быстро худела, у нее все путалось в голове. Казалось, ее тело воюет против нее самой. Врачи не могли поставить диагноз, хотя клиника корпорации «Здравайзер» взяла у нее множество анализов; «Здравайзер» принимал участие в ее судьбе, потому что она была верным потребителем продуктов корпорации. Они организовали особое лечение, предоставили своих собственных врачей. Но не бесплатно — даже с учетом скидки, положенной членам «франшизы „Здравайзера“ — одной большой семьи», лечение обходилось в кучу денег, а поскольку болезнь была безымянная, скромная медицинская страховка родителей не могла покрыть эти расходы. Страховая компания отказалась платить. А в государственную больницу человека брали, только если у него уж совсем не было денег.
Впрочем, думает Тоби, в эти общественные мертвецкие все равно ни один нормальный человек добровольно не пойдет. Максимум, что там сделают, — попросят показать язык, подарят горсть микробов и вирусов вдобавок к твоим собственным и отправят домой.
Отец Тоби перезаложил дом в банке и все деньги потратил на врачей, лекарства, приходящих медсестер, больницы. Но мать все чахла.
Пришлось продать белый каркасный домик — гораздо дешевле, чем отцу предлагали сначала. На следующий день после подписания документов бульдозеры сровняли дом с землей. Отец купил другой дом, крохотный, в квартале новой застройки. Квартал прозвали Большим Ящиком, потому что по краям его обступила целая толпа мегамаркетов. Отец выкопал карабин из-под кучи штакетника, тайно перевез в новый дом и снова зарыл — на этот раз под каменными плитами пустого заднего дворика.
Потом он потерял и работу продавца окон, потому что слишком часто отпрашивался из-за болезни жены. Пришлось продать солнцекар. Потом исчезла мебель — один предмет за другим. Много выручить за нее не удалось. Люди чуют твое отчаяние, сказал отец Тоби. И пользуются им.
Этот разговор происходил по телефону — хотя в семье не было денег, Тоби все же пробилась в университет. Академия Марты Грэм[4] предложила ей крохотную стипендию, и еще она подрабатывала официанткой в студенческой столовой. Тоби хотела вернуться домой и помочь ухаживать за матерью, но отец сказал «нет»: она должна оставаться в академии, потому что дома все равно ничем помочь не сможет.
Наконец отцу пришлось выставить на продажу и жалкий домик в Большом Ящике. Тоби приехала на похороны матери и увидела объявление на газоне перед домом. Отец к тому времени превратился в развалину: унижение, боль, неудачи грызли его, и от него уже почти ничего осталось.
Похороны матери были короткими и ужасными. После похорон Тоби с отцом уселись в ободранной кухне. Они выпили упаковку пива — Тоби две банки, отец четыре. Потом, когда Тоби легла спать, отец пошел в пустой гараж, сунул «рюгер» в рот и нажал на спусковой крючок.
Тоби услышала выстрел. Она сразу поняла, в чем дело. Она видела карабин, стоящий за дверью в кухне; конечно, отец его выкопал не просто так, но Тоби не позволила себе думать о том, зачем ему это могло понадобиться.
Она не хотела видеть то, что там, на полу гаража. Она лежала в кровати, пытаясь заглянуть в будущее. Что делать? Если сообщить властям — да хоть доктора вызвать или «скорую помощь», — они увидят пулевое ранение, потребуют сдать ружье, и Тоби окажется в беде как дочь уличенного преступника, владельца запретного оружия. И это еще в лучшем случае. Могут и в убийстве обвинить.
Через какое-то время — ей казалось, что прошли часы, — она заставила себя встать. В гараже она старалась не очень приглядываться. Она завернула все, что осталось от отца, в одеяло, потом в толстые особо прочные мешки для мусора, заклеила липкой лентой и похоронила под плитами дворика. Она ужасно переживала, что пришлось так сделать, но отец ее понял бы. Он был практичен, но под покровом практичности — сентиментален: мощные электроинструменты в гараже, розы на день рождения. Если бы он был только практичен, он бы явился в больницу с документами на развод, как делали многие мужчины, когда их жены заболевали чем-нибудь, требующим больших расходов, и становились инвалидами. Мать выкинули бы на улицу. Отец избежал бы банкротства. Вместо этого он потратил все деньги, какие были у семьи.
Тоби была не очень верующая; у них в семье никто не верил. Они ходили в местную церковь, потому что так делали все соседи и потому что это полезно для бизнеса, но Тоби слыхала, как отец говорил — в узком кругу, после пары стаканов, — что на амвоне слишком много жуликов, а на скамьях — дураков. Тоби все же прошептала короткую молитву над каменными плитами дворика: «Прах еси и в прах обратишься». Потом засыпала песком щели между плитами.
Она снова завернула карабин в пластик и закопала под плитами на заднем дворе соседнего дома, который, кажется, был необитаем: окна темные, машины поблизости не видно. Может быть, его отобрал банк за неплатеж по ипотеке. Тоби рискнула, зашла в чужой двор. Если зарыть карабин рядом с отцом, и если земля вокруг тела осядет, и во дворе начнут копать, то карабин тоже найдут, а Тоби хотела, чтобы он остался на месте. «Заранее не скажешь, когда пригодится», — говаривал отец. И правда, заранее никогда не скажешь.
Может, кто-то из соседей и видел, как она копает в темноте, но, скорее всего, они не расскажут. Не захотят привлекать лишнего внимания к собственным задним дворикам, где тоже, вполне возможно, закопано оружие.
Тоби полила из шланга пол гаража, смывая кровь, потом приняла душ. Потом легла спать. Она лежала в темноте, и ей хотелось плакать, но слезы не шли, и она ничего не ощущала, кроме холода. Хотя на самом деле было вовсе не холодно.
Она не могла продать дом, ведь тогда вскрылось бы, что дом теперь ее, а отец умер. Это значило бы навлечь вагон проблем на свою голову. Во-первых, где труп? Во-вторых, как он, собственно, стал трупом? Поэтому утром, после скудного завтрака, она сложила посуду в раковину и вышла из дому. Даже чемодана не взяла. Что она туда положила бы?
Скорее всего, ККБ не станет утруждать себя поисками. Смысла нет: дом все равно отойдет одному из банков корпорации. А если исчезновением Тоби кто-нибудь заинтересуется — например, академия: где она, не больна ли, не попала ли в аварию, — ККБ распустит слух, что ее в последний раз видели в обществе известного сутенера, набирающего свежее мясцо. Этого логично было ожидать: молодая девушка в отчаянном положении, без каких-либо связей, без гроша, ни тебе наследства, ни счета в банке. Люди покачают головой — жаль, но что поделаешь, и по крайней мере у нее есть что-то на продажу — собственное юное и свежее тело, так что с голоду она не помрет, и никто не обязан чувствовать себя виноватым. ККБ всегда пользовалась слухами вместо действий, если эти действия стоили денег. Корпорация не забывала о финансовой эффективности.
Что же до отца, все решат, что он сменил имя и исчез в каком-нибудь плебсвилле пострашней, чтобы не платить за похороны жены деньгами, которых у него нет. Такое случалось каждый день.
7
После отцовской смерти Тоби пришлось нелегко. Она, конечно, спрятала улики и умудрилась исчезнуть, но все же оставалась вероятность, что ККБ попытается получить с нее долг отца. У Тоби не было денег, но, по слухам, ККБ продавала должниц в секс-рабыни. Тоби решила: если уж придется зарабатывать на жизнь своим телом, нужно хотя бы самой распоряжаться заработанным.
Ее личность, считай, сгорела, а на новую у нее не было денег — даже на самую дешевую, без подмеса ДНК и изменения кожи и волос. Поэтому она не могла устроиться на легальную работу — все они контролировались корпорациями. Но если опуститься достаточно глубоко — туда, где исчезают имена и все биографии оказываются враньем, — ККБ не станет озадачиваться поисками.
У Тоби было отложено немного денег со времени работы официанткой, и она сняла крохотную комнатушку. Собственная комната означает, что твои скудные пожитки не украдет какой-нибудь жуликоватый сосед. Комната была на верхнем этаже офисного здания — настоящая ловушка в случае пожара — в одном из худших плебсвиллей. Он назывался Ивовая Поляна, но местные жители прозвали его Отстойник, потому что там скапливалось всякое дерьмо. Ванная и туалет у Тоби были общие с шестью нелегальными иммигрантками из Таиланда, которые держались тише воды ниже травы. По слухам, ККБ решила, что депортировать нелегальных иммигрантов слишком дорого, и действовала по методу фермера, обнаружившего в стаде больную корову: пристрелить, закопать и сделать вид, что ничего не было.
Этажом ниже располагалась скорняжная мастерская, где шили дорогие шубы из меха вымирающих животных. Называлось оно «Смушка». Официально они торговали костюмами для Хеллоуина, чтобы обмануть активистов из обществ защиты животных, а в задних комнатах дубили шкуры. Ядовитые пары уходили в вентиляцию; Тоби пыталась затыкать вентиляционное отверстие подушками, но все равно в ее каморке воняло химией и тухлым жиром. Иногда внизу кто-нибудь рычал или блеял — животных забивали прямо там же, потому что клиенты не желали получить козу под видом орикса или крашеный волчий мех вместо росомахи. Они хотели выпендриваться с полными на то основаниями.
Освежеванные туши продавали в сеть ресторанов «С кровью». В общем зале ресторана подавали говяжьи бифштексы, баранину, оленину, мясо бизона — с удостоверением от ветеринара, что животное было здорово и мясо можно есть слабо прожаренным, чем якобы и объяснялось название ресторана. Но в частных банкетных залах — допуск только для членов клуба, кого попало не принимают, с вышибалой на входе — можно было попробовать мясо животного вымирающих видов. Ресторан греб деньги лопатой; одна бутылка вина из тигровых костей стоила как горсть бриллиантов.
Строго говоря, торговля мясом вымирающих видов была незаконной — за это полагались высокие штрафы, — но очень выгодной. Люди, живущие по соседству, все знали, но у них были свои заботы, да и кому такое расскажешь, не рискуя? Карманы внутри карманов, и в каждом торчит рука ККБ.
Тоби устроилась меховушкой: дешевый поденный труд, документов не спрашивают. Меховушки надевали костюмы животных: тело из искусственного меха, голова из папье-маше — и ходили с рекламными листовками в торговых центрах подороже и по улицам, где располагались бутики. Но в меховом костюме было жарко и влажно, и обзор ограничен. За первую неделю на Тоби три раза нападали фетишисты, которые сбивали ее с ног, переворачивали большую голову назад, чтобы Тоби ничего не видела, и начинали тереться тазом о ее мех, издавая странные звуки — Тоби смогла опознать разве что мяуканье. Это не было изнасилованием — ведь они даже не коснулись ее тела, — но было очень неприятно. Кроме того, Тоби было противно одеваться в костюмы медведей, тигров, львов и других вымирающих животных, а потом слушать, как их убивают этажом ниже. Так что она бросила эту работу.
Один раз ей удалось неплохо заработать, продав волосы. Генные инженеры со своими париковцами еще не уничтожили рынок натуральных волос, это случилось лишь несколькими годами позже. Поэтому все еще существовали «охотники за скальпами», готовые купить волосы у кого угодно, без вопросов. Тогда у Тоби были длинные волосы, и, хоть она и была шатенкой — не лучший вариант, блондинкам платили больше, — все же ей удалось выручить неплохую сумму.
Когда деньги, вырученные за волосы, кончились, Тоби стала продавать свои яйцеклетки на черном рынке. Молодые женщины могли заработать большие деньги, продавая яйцеклетки парам, которые либо не могли заплатить нужную взятку, либо действительно настолько никуда не годились, что ни один чиновник не продал бы им лицензию на родительство. Но этот трюк ей удался лишь дважды, потому что во второй раз игла, которой брали яйцеклетку, оказалась грязной. В то время торговцы яйцеклетками еще оплачивали лечение, если что-то шло не так; но все равно Тоби проболела месяц. Когда она попробовала сдать яйцеклетку в третий раз, ей сказали, что у нее были осложнения: теперь она не сможет сдавать яйцеклетки, и, кстати говоря, детей у нее тоже не будет.
До тех пор Тоби и не знала, что хочет детей. В академии Марты Грэм у нее был бойфренд, который время от времени заговаривал о браке и детях — его звали Стэн, — но Тоби всегда отвечала, что они еще слишком молоды и у них нет денег. Она изучала «Холистическое целительство» («Лосьоны и зелья», как называли этот предмет сами студенты), а Стэн — «Проблематику и четверное креативное планирование активов». Он хорошо успевал по этому предмету. Его семья была небогата (иначе он не стал бы учиться в третьесортном заведении типа Марты Грэм), но он был честолюбив и твердо намеревался преуспеть в жизни. Если выдавался спокойный вечер, Тоби делала ему массаж с плодами своих учебных опытов — цветочными маслами и настоями трав. За этим следовал раунд стерильно чистого, пахнущего лекарственными травами секса, а потом душ и порция попкорна (без масла и соли).
Но когда у семьи Тоби началась черная полоса, Тоби поняла, что больше не может позволить себе быть со Стэном. Она также знала, что ее студенческие дни сочтены. Поэтому она просто оборвала контакты. Она даже не отвечала на эсэмэски, полные упреков: он хотел создать семью из двух хорошо оплачиваемых специалистов, а Тоби сошла с дистанции. Она сказала себе: лучше отрыдать сразу.
Но похоже, она все-таки хотела детей. Потому что, когда она узнала, что ее случайно стерилизовали, ей показалось, что свет утекает из нее в черную дыру.
После этой новости она просадила все сбережения от продажи яйцеклеток на то, чтобы устроить себе наркотический отпуск от реальности. Но ей скоро надоело просыпаться рядом с незнакомыми мужчинами, особенно когда оказалось, что они имеют привычку прикарманивать ее плохо лежащие деньги. После четвертого или пятого раза Тоби поняла, что надо принять решение. Чего она хочет — жить или умереть? Если умереть, это можно устроить и побыстрее. А если жить, то жить надо по-другому.
С помощью одного из своих разовых партнеров — по меркам Отстойника его, пожалуй, можно было назвать доброй душой — она устроилась на работу, контролируемую плебмафией. Там не спрашивали документов и рекомендаций. Все знали: если залезешь в кассу, тебе просто отрежут пальцы.
Теперь Тоби работала в сети предприятий быстрого питания под названием «Секрет-бургер». Секрет этих бургеров заключался в том, что никто не знал, из какого животного их делают. Девушки, стоявшие за прилавком, были одеты в футболки и кепки с надписью: «Секрет-бургер! Секреты любят все!» Платили тут самые гроши, но сотрудникам полагались два бесплатных секрет-бургера в день. Попав к вертоградарям, Тоби дала обет вегетарианства и полностью вытеснила воспоминания о том, что ела секрет-бургеры; но, как говаривал Адам Первый, голод — мощный реорганизатор совести. Мясорубки перемалывали не все: в бургере можно было обнаружить пучок кошачьей шерсти или кусок мышиного хвоста. И уж не ноготь ли попался ей однажды?
Все возможно. Местные плебмафии платили откуп людям из ККБ. В ответ ККБ позволяла плебмафиям потихоньку заниматься похищениями и заказными убийствами, растить шмаль на продажу, держать бордели и подпольные лаборатории по производству крэка, сбывать разные наркотики — в общем, делать все, что положено мафии. Кроме того, они избавлялись от трупов: органы изымали, а выпотрошенные трупы бросали в мясорубки «Секрет-бургера». Во всяком случае, так гласили зловещие слухи. Во времена расцвета «Секрет-бургера» трупы находили на пустырях очень редко.
Если из-за какого-нибудь случая поднимался шум и дело попадало в телевизор (это называлось «реалити-шоу»), ККБ делала вид, что проводит расследование. Потом дело заносили в список нераскрытых и приостанавливали. Им приходилось ломать комедию ради тех граждан, которые еще кричали про старые идеалы: «защитники покоя», «на страже общественной безопасности», «не пустим преступность на улицы». Это уже тогда была комедия. Но большинство людей считали, что ККБ все же лучше полной анархии. Даже Тоби так думала.
Годом раньше «Секрет-бургеры» зарвались. ККБ закрыла их после того, как один из ее собственных боссов отправился погулять по Отстойнику, а потом его ботинки обнаружились на ногах оператора мясорубки одного из «Секрет-бургеров». На какое-то время бродячие кошки вздохнули с облегчением. Но через несколько месяцев знакомые тележки со шкворчащими грилями снова появились на улицах, потому что невозможно отказаться от бизнеса, в котором так мало накладных расходов.
8
Тоби обрадовалась, когда узнала, что ее взяли в «Секрет-бургер»: теперь она сможет платить за комнату и не будет голодать. Но потом она обнаружила, в чем загвоздка.
Загвоздка была в менеджере. Его звали Бланко, но за глаза работницы «Секрет-бургера» называли его Брюхо. Ребекка Экклер, девушка из смены Тоби, сразу предупредила ее.
— Старайся ему не попадаться, — сказала она. — Может, и обойдется — он сейчас занят Дорой, а он, как правило, не занимается несколькими девушками сразу, и к тому же ты худая, а он любит круглые попки. Но если он вызовет тебя в офис, гляди. Он жутко ревнивый. На части порвет.
— А тебя он вызывал? — спросила Тоби. — В офис?
— Восхвали Господа и сплюнь, — ответила Ребекка. — Я слишком черная и грубая, и к тому же он любит котят, а не старых кошек. Может, тебе стоит подбавить морщин. Выбить пару зубов.
— Ты не грубая, — сказала Тоби.
Ребекка была на самом деле довольно изящна, в своем роде — с коричневой кожей, рыжими волосами и египетским носом.
— Я не в том смысле, — ответила Ребекка. — Я к тому, что со мной лучше не связываться. С нами, негреями, если свяжешься, то два раза пожалеешь. Он знает, что я напущу на него «черных сомов», а они крутые ребята. А может, еще исаиан-волкистов заодно. Небось побоится!
Тоби надеяться было не на кого. Она старалась держаться как можно незаметнее. По словам Ребекки, Бланко раньше был вышибалой в «Чешуйках», самом шикарном ночном клубе Отстойника. Вышибалы имели определенное положение в здешнем обществе: они разгуливали в черных костюмах и темных очках, были стильными, но крутыми, и женщины вешались на них пачками. Но Бланко сам себе все испортил, рассказывала Ребекка. Он порезал одну из тамошних девушек — не «временную», привезенную контрабандой нелегальную иммигрантку, этих резали каждый день, — а одну из звезд, исполнительницу-стриптизершу. Понятное дело, никто не захочет держать на работе человека, который портит товар, себя не контролирует. Вот его и выгнали. Ему повезло, что у него были приятели в ККБ, а то лежать бы ему, за вычетом некоторых частей тела, в приемнике углеводородного сырья для мусорнефти. А так его засунули руководить отделением «Секрет-бургера» в Отстойнике. Это было большое понижение, и он злился — что это он должен страдать из-за какой-то шлюхи? Так что он ненавидел свою работу. Но считал, что работницы — его законная добыча, приложение к должности. У него были два дружка, тоже бывшие вышибалы, которые служили при нем телохранителями, и они получали остатки. Если что-нибудь оставалось.
Бланко сохранил фигуру вышибалы — высокий и здоровенный, — но уже начал толстеть: слишком много пива пьет, сказала Ребекка. Он по-прежнему собирал волосы на лысеющей голове в конский хвост — фирменную прическу вышибалы — и щеголял полным набором татуировок: змеи вокруг бицепсов, браслеты из черепов на запястьях, вены и артерии на тыльных сторонах рук, так что казалось, будто с них содрана кожа. Вокруг шеи у него была вытатуирована цепь с медальоном — красным сердечком, уходившим в чащу волос на груди, заметных под расстегнутой рубашкой. Ходили слухи, что эта цепь проходит у него по всей спине, обвиваясь вокруг перевернутой голой женщины, голова которой скрывалась у Бланко в заднице.
Тоби следила за Дорой, которая приходила сменять ее на посту у тележки-гриля. Поначалу Дора была пухленькой и жизнерадостной, но недели шли, и она как-то съеживалась, словно сдувалась; на белой коже рук расцветали и увядали синяки.
— Она хочет убежать, — шепотом, на ухо объясняла Ребекка, — но боится. Может, и тебе лучше сделать ноги. Он на тебя уже поглядывает.
— Со мной все будет о’кей, — сказала Тоби. Но она не чувствовала, что все будет о’кей. Она боялась. Но куда ей было идти? Она жила от зарплаты до зарплаты. У нее не было денег.
На следующее утро Ребекка подозвала Тоби к себе.
— Дора всё, — сказала она. — Хотела сбежать. Я только что услышала. Ее нашли на пустыре — шея сломана, сама порезана в куски. Как будто это какой-то псих.
— Но это на самом деле он? — спросила Тоби.
— Кто же еще! — фыркнула Ребекка. — Он уже хвалился.
В тот же день, в полдень, Бланко вызвал Тоби к себе в офис. Приказ он передал через своих шестерок. Они пошли справа и слева от нее, на случай если ей что-нибудь придет в голову. Пока они шли по улице, все смотрели на них. Тоби шла будто на казнь. Почему она не сбежала, пока могла?
В офис вела грязная дверь, спрятанная за контейнером сырья для мусорнефти. Офис оказался комнатушкой, где стоял стол, шкаф для бумаг и потертый кожаный диван. Бланко, ухмыляясь, встал с вертящегося кресла.
— Я тебя повышаю по службе, сучка ты тощая, — сказал он. — А ну скажи «спасибо».
Тоби выдавила из себя только шепот. Ей казалось, что ее душат.
— Видишь сердце? — спросил Бланко, указав на свою татуировку. — Это значит, что я тебя люблю. И ты меня теперь тоже любишь. Ясно?
Тоби заставила себя кивнуть.
— Умничка, — сказал Бланко. — Поди сюда. Сними с меня рубашку.
Татуировка у него на спине была точно как описывала Ребекка: голая женщина, закованная в цепи, головы не видно. Длинные волосы женщины волнами поднимались вверх, похожие на языки пламени.
Освежеванными руками Бланко обхватил шею Тоби.
— Хоть раз пойдешь поперек — я тебя сломаю, как щепку, — сказал он.
9
С тех пор как родители Тоби скончались таким прискорбным образом, с тех пор как она сама ушла в подполье, она старалась не думать о своей прошлой жизни. Она покрыла ее льдом, заморозила. Но сейчас она отчаянно тосковала по прошлому — даже по тяжелым временам, даже по горю, — потому что ее нынешняя жизнь была пыткой. Тоби пыталась представить себе далеких, давно не существующих родителей — как они витают над ней, словно два духа-хранителя. Но ничего не видела, только туман.
Она пробыла возлюбленной Бланко меньше двух недель, но ей казалось, что прошли долгие годы. Бланко считал, что баба с такой тощей жопой, как у нее, должна уже считать за счастье, если нашелся мужик, готовый ей засунуть. Еще она должна быть счастлива, что он не продал ее в «Чешуйки» как временную работницу (там это означало «временно находящуюся в живых»). Да, пускай благодарит свою счастливую звезду. А еще лучше — пускай благодарит его, Бланко. Он требовал, чтобы она говорила ему «спасибо» после каждого унизительного акта. Правда, Бланко не стремился сделать ей хорошо: хотел только, чтобы она ощущала свое подчинение.
От работы в «Секрет-бургере» он ее тоже не освобождал. Он требовал, чтобы она обслуживала его во время своего обеденного перерыва — в течение всего получаса, а это означало, что она оставалась без обеда.
День ото дня она становилась все голоднее и все больше падала духом. Теперь у нее был свой набор синяков, как когда-то у бедняжки Доры. Тоби все сильнее отчаивалась: ясно было, к чему идет дело, и ее будущее больше всего напоминало темный туннель. Скоро Бланко использует ее всю, и ничего не останется.
Кроме того, исчезла Ребекка, и никто не знал куда. Если верить уличным слухам, ушла в какую-то секту. Бланко на это плевал, поскольку Ребекка не входила в его гарем. Ее место в «Секрет-бургере» скоро занял кто-то другой.
Тоби работала в утреннюю смену, когда увидела, что по улице приближается странная процессия. Судя по плакатам, которые они несли, и гимнам, которые пели, это было какое-то религиозное движение, хотя раньше она ничего похожего не встречала.
В Отстойнике было множество культов и сект, и все они старались уловить страдающие души. Явленные плоды, петробаптисты и другие религии для богатых сюда не совались, но время от времени по улицам шаркали кучки стариков в фуражках — оркестры Армии спасения, одышливо сипя под тяжестью барабанов и валторн. Иногда мимо, крутясь, проносились увенчанные тюрбанами суфии из Братства чистого сердца, или одетые в черное поклонники Древнего, или стайки харе-кришн в оранжевых рубахах — они бренчали и распевали гимны, навлекая на себя насмешки толпы и град гнилых овощей. Исаиане-львисты и исаиане-волкисты одинаково проповедовали на перекрестках и воевали между собой: они не могли договориться, кто возляжет рядом с ягненком — лев или волк, когда настанет Тысячелетнее Царство. Когда они сцеплялись между собой, банды плебратвы — смуглые «текс-мексы», бледнокожие «белоглазые», азиаты-«косые», «черные сомы» — налетали на упавших и обшаривали их в поисках чего-нибудь ценного или хоть чего-нибудь вообще.
Процессия приблизилась, и Тоби стало лучше видно. Предводитель был бородат и одет во что-то вроде кафтана, сшитого, судя по его виду, обкуренными эльфами. За ним шли дети — разного роста и возраста, все в темной одежде, — неся плакаты и лозунги: «Вертоградари — за райский сад!» «Не ешьте смерть!» «Животные — это мы!» Они походили на ангелов-оборванцев или на карликов-бомжей. Это их песни Тоби услышала издалека. Сейчас они скандировали: «Мясу — нет! Мясу — нет! Мясу — нет!» Тоби слыхала об этом культе: про них рассказывали, что у них есть сад, где-то на крыше. Клочок глины, несколько чахлых бархатцев, полузасохший рядок жалкой фасоли, и все это жарится на неумолимом солнце.
Процессия приблизилась к ларьку «Секрет-бургера». Туда уже стягивалась толпа, жаждущая глумления.
— Друзья мои! — воскликнул предводитель, обращаясь к толпе в целом. Долго проповедовать он не будет, подумала Тоби, жители Отстойника этого не потерпят. — Дорогие мои друзья. Меня зовут Адам Первый. Я тоже когда-то был материалистом, атеистом, мясоедом. Подобно вам, я думал, что человек есть мера всех вещей.
— Заткни хлебало, зеленый! — заорал кто-то.
Адам Первый его игнорировал.
— Точнее, дорогие друзья, я считал, что измерение — мера всех вещей! Да, я был ученым. Я изучал эпидемии, я считал зараженных и умирающих животных, и людей тоже, словно они камушки на морском берегу. Я думал, что лишь числа подлинно описывают реальность. Но потом…
— Иди в жопу, придурок!
— Но потом, в один прекрасный день, когда я стоял там же, где вы сейчас, и пожирал… О да, пожирал секрет-бургер, наслаждаясь его туком, я узрел великий Свет. И услышал великий Глас. И он возвестил мне…
— Он возвестил: «Ты козел!»
— Он возвестил: «Пощади своих собратьев-животных! Не ешь тех, кто смотрит на тебя! Не убивай собственную душу!» И тогда…
Тоби ощущала толпу — чувствовала, как та напрягается для броска. Они втопчут этого беднягу идиота в землю, и детишек-вертоградарей вместе с ним.
— Идите отсюда! — сказала она как можно громче.
Адам Первый отвесил ей небольшой вежливый поклон и улыбнулся доброй улыбкой.
— Дитя мое, — сказал он, — знаешь ли ты сама, что продаешь? Уж конечно, ты бы не стала пожирать собственных родственников.
— Стала бы, — ответила Тоби, — если поголодать как следует. Пожалуйста, уйдите!
— Я вижу, дитя мое, что у тебя была тяжелая жизнь, — сказал Адам Первый. — Тебе пришлось ороговеть, покрыться бесчувственной скорлупой. Но эта скорлупа — не твое подлинное «я». Под ней прячется нежное сердце и добрая душа…
Насчет скорлупы он был прав; Тоби и сама знала, что очерствела. Но эта скорлупа была ее броней, без нее Тоби превратилась бы в кашу.
— Этот козел к тебе пристает? — спросил Бланко.
Он вырос за спиной у Тоби, как часто делал. Он положил одну руку ей на талию, и Тоби видела эту руку, даже не глядя: вены, артерии. Освежеванное мясо.
— Ничего, — ответила она. — Он безобидный.
Адам Первый, судя по всему, уходить не намеревался. Он продолжал свою речь так, словно все остальные молчали.
— Дитя мое, ты жаждешь нести добро в этот мир…
— Я не ваше дитя, — сказала Тоби. Она слишком болезненно осознавала, что она ничье не дитя. Уже.
— Мы все — дети друг друга, — печально произнес Адам Первый.
— Вали отсюда, пока я тебя в узел не завязал! — рявкнул Бланко.
— Пожалуйста, уходите, или вам причинят вред, — сказала Тоби со всей возможной настойчивостью. Этот человек как будто ничего не боялся. Она понизила голос и зашипела на него: — Вали отсюда! Быстро!
— Это тебе причиняют вред, — ответствовал Адам Первый. — Каждый день, который ты проводишь, торгуя изувеченной плотью Господних творений, наносит тебе все больший вред. Иди к нам, дорогая, — мы твои друзья, у нас для тебя уготовано место.
— А ну, бля, убери руки от моей работницы, маньяк ебаный! — заорал Бланко.
— Я тебя беспокою, дитя мое? — спросил Адам Первый, не обращая на него внимания. — Я точно знаю, что не трогал…
Бланко выскочил из-за тележки и бросился на него, но Адам Первый, похоже, привык к такому: он отступил в сторону, и Бланко по инерции влетел в толпу поющих детей, сбил кое-кого с ног и сам упал. Он не пользовался большой любовью в округе: подросток-«белоглазый» тут же ударил Бланко пустой бутылкой, и тот упал с кровоточащей раной на голове.
Тоби выбежала из-за тележки-гриля. Ее первым порывом было помочь Бланко, потому что она знала: если этого не сделать, ей потом придется очень плохо. Над Бланко уже трудилась кучка плебратвы из числа «черных сомов», а двое или трое «косых» стягивали с него ботинки. Толпа смыкалась вокруг Бланко, но он уже пытался встать. Где же его телохранители? Что-то их нигде не видно.
Тоби ощутила странный душевный подъем. И пнула Бланко в голову. Даже не думая. Она чувствовала, что ухмыляется, как пес, когда ее нога ударилась о его череп: удар был словно по камню, завернутому в полотенце. Тоби мгновенно поняла свою ошибку. Как она могла свалять такого дурака?
— Идем с нами, дитя мое, — сказал Адам Первый, беря ее под локоть. — Так будет лучше. Работу свою ты все равно уже потеряла.
Два дружка-бандита Бланко уже явились и начали отбивать его у плебратвы. У Бланко явно мутилось в голове от ударов, но глаза у него были открыты, и он смотрел на Тоби. Он почувствовал ее удар; хуже того — она унизила его прилюдно. Он потерял лицо. Вот сейчас он встанет и сотрет ее в порошок.
— Сука! — прохрипел он. — Я тебе сиськи отрежу!
Тут Тоби окружила толпа детей. Двое схватили ее за руки, а остальные образовали что-то вроде почетного эскорта — впереди и позади.
— Скорее, скорее, — говорили они, таща и подталкивая ее.
За спиной взревели:
— Сука! Вернись!
— Сюда, быстро, — сказал самый высокий мальчик.
Адам Первый пристроился в арьергарде, и они затрусили по улицам Отстойника. Это выглядело как парад: люди открыто пялились на них. К панике добавилось ощущение полной нереальности, и у Тоби слегка закружилась голова.
Толпы постепенно редели, запахи теряли свою едкость; на этих улицах меньше витрин было заколочено.
— Быстрее! — сказал Адам Первый.
Они пробежали по каким-то задворкам, несколько раз завернули за угол, и крики постепенно утихли.
Они подошли к краснокирпичному фабричному зданию эпохи раннего модерна. На фасаде висела вывеска: «ПАТИНКО», а под ней другая, поменьше: «Массажный кабинет „Звездная пыль“, 2-й этаж, массаж на все вкусы, пластика носа за дополнительную плату». Дети подбежали к пожарной лестнице на боковой стене здания и принялись карабкаться вверх. Тоби последовала за ними. Она запыхалась, но дети летели по лестнице, как обезьянки. Когда они добрались до крыши, все дети по очереди произнесли: «Добро пожаловать в наш сад» — и обняли Тоби, и ее окутал сладко-солоноватый запах немытого детского тела.
Тоби не помнила, когда ее последний раз обнимал ребенок. Для детей это, видимо, была формальность — все равно что обнять двоюродную тетушку, — но для Тоби это было что-то неопределимое: пушистое, мягкое, интимное. Словно кролики тычутся в тебя носами. Но не простые кролики, а марсианские. Все равно ее это тронуло: к ней прикасаются, безлично, но по-доброму, не в сексуальном ключе. Если вдуматься, как она жила в последнее время — единственный, кто ее трогал, был Бланко, — возможно, необычные ощущения частично объяснялись и этим.
Здесь были и взрослые, они протягивали ей руки в знак приветствия — женщины в темных мешковатых платьях, мужчины в комбинезонах, — и вдруг рядом оказалась Ребекка.
— Ты выбралась, милая! — воскликнула она. — Я же говорила! Я так и знала, что они тебя вытащат!
Сад оказался совсем не таким, как Тоби его себе представляла по слухам. Он вовсе не был полоской глины, усыпанной гниющими очистками, совсем наоборот. Тоби оглядывалась в изумлении: сад был прекрасен, с разнообразными травами и цветами, каких она раньше и не видала. Порхали яркие бабочки; где-то неподалеку дрожали в воздухе пчелы. Каждый листик, каждый лепесток был абсолютно живым и сиял, ощущая ее присутствие. Даже воздух в саду был другой.
Тоби поняла, что плачет — от облегчения и благодарности. Словно большая благосклонная рука протянулась с небес, подняла ее и теперь держала — надежно, в безопасности. Потом Тоби часто слышала в речах Адама Первого: «в душу хлынул Свет Творения Господня», и сейчас, еще не зная, она ощущала именно это.
— Я так рад, что ты приняла это решение, дорогая, — сказал Адам Первый.
Но Тоби не думала, что принимала какое-либо решение. Что-то решило за нее. Несмотря на все, что случилось с ней потом, этот момент она никогда не забывала.
В тот первый вечер они скромно отпраздновали ее прибытие. Они с большой помпой открыли банку чего-то фиолетового — первое знакомство Тоби с черной бузиной — и принесли горшочек меду так, словно это был святой Грааль.
Адам Первый произнес небольшую речь о спасении, в котором участвует рука Провидения. Он упомянул о ветви, выхваченной из костра, и о потерянной овце — про этих Тоби слышала еще раньше, в церкви, — но использовал и другие, незнакомые ей примеры: пересаженную на другое место улитку, грушу-падалицу. Потом все ели что-то вроде оладьев из чечевицы и блюдо под названием «Смесь маринованных грибов Пилар», а под конец — ломти соевого хлеба, намазанные фиолетовым вареньем и медом.
Первоначальный душевный подъем Тоби сменился растерянностью и нехорошим предчувствием. Как она сюда попала — на эту неправдоподобную, чем-то пугающую верхотуру? Что она делает среди этих дружелюбных, но странных людей, приверженцев безумной религии и — во всяком случае, сейчас — обладателей фиолетовых зубов?
10
Первые недели среди вертоградарей ее как-то не приободрили. Адам Первый не давал ей поручений — только наблюдал, из чего она заключила, что находится на испытательном сроке. Она старалась вписаться в группу, помогать чем может, но в повседневной работе была безнадежна. Она не умела шить достаточно мелкими стежками, чтобы Ева Девятая — Нуэла — осталась довольна, а Ребекка отлучила ее от нарезки овощей, после того как она залила кровью пару салатов. «Если б я хотела красный салат, я бы положила туда свеклу», — сказала Ребекка. Бэрт — Адам Тринадцатый, заведовавший огородом, — заявил, что Тоби лучше не работать на прополке, после того как она выдрала какие-то артишоки вместо сорняков. Зато она могла чистить фиолет-биолеты. Это было просто и не требовало особых талантов. Так что этим она и занималась.
Адам Первый был в курсе ее усилий.
— Биолеты — это не так страшно, а? — спросил он однажды. — Ведь мы все вегетарианцы.
Тоби не сразу поняла, что он имел в виду, но потом до нее дошло: не так воняет. Скорее коровий навоз, чем собачье дерьмо.
Тоби не сразу разобралась в иерархии вертоградарей. Адам Первый настаивал, что на духовном уровне все вертоградари равны, но на материальном уровне это было не так: Адамы и Евы занимали более высокое положение, хотя их номера означали не положение в вертикали власти, а область специализации. Тоби подумала, что во многих отношениях здешнее сообщество похоже на монастырь. Монахи, принявшие обеты, и бельцы.[5] И белицы, конечно. Правда, обета целомудрия от них никто не требовал.
Тоби считала, что, раз она пользуется гостеприимством вертоградарей, да еще и обманывает их, так как на самом деле не верит в их доктрину, она должна платить им особо упорным трудом. Она добавила к выгребанию фиолет-биолетов другие занятия. Таскала на крышу по пожарной лестнице свежую почву — вертоградари постоянно собирали ее на заброшенных стройплощадках и пустырях. Почву смешивали с компостом и продуктами фиолет-биолетов. Еще Тоби плавила обмылки, разливала по бутылкам уксус и клеила этикетки. Паковала дождевых червей для рынка обмена натуральными продуктами «Древо жизни», мыла пол в спортзале, где стояли тренажеры «Крути-свет», подметала отсеки спален на этаже под крышей, где по ночам спали несемейные вертоградари на тюфяках, набитых сушеными растительными волокнами.
Через несколько месяцев Адам Первый предложил ей употребить на общее благо и другие свои таланты.
— Какие таланты? — спросила Тоби.
— Ты же изучала холистическое целительство, — сказал он. — У Марты Грэм.
— Да, — ответила Тоби.
Не было смысла спрашивать, откуда Адам Первый про нее знает. Он просто знал, и все.
Так что она принялась изготавливать лосьоны и кремы на травах. Резать травы почти не приходилось, а со ступкой и пестиком Тоби управлялась ловко. Вскоре после этого Адам Первый попросил ее поделиться своими знаниями с детьми, и она добавила к своим занятиям преподавание — несколько уроков в день.
Она уже привыкла к темным мешковатым одеяниям женщин.
— Тебе нужно отрастить волосы, — сказала Нуэла. — А то с тебя как будто скальп содрали. Мы, женщины-вертоградари, носим длинные волосы.
Тоби спросила почему, и ей дали понять, что таково эстетическое предпочтение Бога. Это слащавое ханжество с повелительным оттенком было немного слишком, особенно когда исходило от женщин секты.
Время от времени Тоби задумывалась о побеге. В основном тогда, когда ее охватывала постыдная жажда мяса.
— Ты никогда не скучаешь по секрет-бургерам? — спросила она у Ребекки.
Ребекка была из прошлой жизни; с ней можно было обсуждать такие вещи.
— Признаться, да, — ответила Ребекка. — Порой бывает. В них что-то такое подмешивают, я уверена. Чтобы подсадить человека на ихний товар.
У вертоградарей кормили вполне сносно — Ребекка делала что могла при небогатых ресурсах, — но очень однообразно. Кроме того, молитвы наводили тоску, а теология оставляла желать лучшего — зачем так придирчиво относиться к деталям повседневной жизни, если все равно род человеческий скоро исчезнет с лица земли? Вертоградари не сомневались, что катастрофа грядет, хотя никаких особенных свидетельств этому Тоби не видела. Может, они гадают по птичьим потрохам.
Конечно, тотальное вымирание рода человеческого было неминуемо, из-за перенаселения и общего падения нравов, но вертоградари считали, что к ним это не относится. Они собирались выплыть на волне Безводного потопа за счет запасов пищи в создаваемых ими тайниках, которые они называли Араратами. Что же до суденышек, в которых они собирались плыть, то каждый из них должен был стать сам себе ковчегом и населить его собственными внутренними животными — во всяком случае, именами этих животных. Так они выживут и вновь наполнят Землю. Ну или что-то в этом роде.
Тоби спрашивала Ребекку, верит ли та по правде во все эти разговоры вертоградарей о глобальной катастрофе, но Ребекка не поддавалась.
— Они хорошие люди, — неизменно говорила она. — Я всегда говорю: что будет, то будет. Так что расслабься.
И давала Тоби медово-соевый пончик.
Хорошие или нет, но Тоби не представляла себе, что задержится надолго среди этих людей, бегущих от реальности. Но просто так взять и уйти она тоже не могла. Это была бы самая откровенная неблагодарность: ведь они спасли ее шкуру. Тоби воображала, как соскальзывает по пожарной лестнице мимо уровня спален, мимо патинко и массажного кабинета и бежит прочь под покровом темноты, а потом голосует на дороге, и какой-нибудь солнцекар подбирает ее и увозит в какой-нибудь другой город, дальше к северу. Самолеты исключались — во-первых, слишком дорого, а во-вторых, пассажиров тщательно досматривает ККБ. А на скоростной поезд она не могла сесть, даже если бы у нее были деньги, — там проверяли удостоверение личности, а у Тоби его не было.
Более того, она не сомневалась, что Бланко все еще ищет ее — там, внизу, на улицах плебсвилля. Он и его дружки-бандиты. Он хвалился, что от него еще ни одна женщина не ушла. Рано или поздно он ее найдет, и она за все расплатится. Тот пинок обойдется ей очень дорого. Чтобы стереть такое оскорбление, нужно не меньше чем групповое изнасилование, о котором потом всем расскажут, или ее голова на шесте.
Возможно ли, что Бланко не знает, где она? Нет: банды плебратвы наверняка вызнали это, точно так же, как узнавали любые другие слухи, и продали ему. Она не выходила на улицы, но что помешает Бланко явиться за ней, залезть по пожарной лестнице на крышу? Наконец Тоби поделилась своими страхами с Адамом Первым. Он знал про Бланко, знал, на что он способен, — видел его в деле.
— Я не хочу навлекать опасность на вертоградарей, — сформулировала Тоби.
— Дорогая, — ответил Адам Первый, — с нами ты в безопасности. Или практически в безопасности.
Он объяснил, что Бланко принадлежит к плебмафии Отстойника, а вертоградари живут в соседнем плебсвилле, который называется Сточная Яма.
— Разные плебсвилли — разные мафии, — сказал он. — Они не заходят на чужую территорию, разве что война между мафиями начнется. В любом случае мафиями управляет ККБ, а она, согласно разведданным, объявила, что нас трогать не следует.
— Почему это? — спросила Тоби.
— Они не хотят задевать религиозные движения, это плохо для их имиджа, — объяснил Адам Первый. — Корпорации этого не одобрят, учитывая, какой вес имеют среди них петробаптисты и явленные плоды. Они утверждают, что питают уважение к Духу и проявляют терпимость к чужим религиозным убеждениям, если только носители этих убеждений ничего не взрывают: они не любят, когда уничтожается частная собственность.
— Но не могут же они любить нас, — сказала Тоби.
— Конечно нет, — ответил Адам Первый. — Мы для них сумасшедшие фанатики, повернутые на безумной диете, с полным отсутствием вкуса в одежде и пуританским отношением к приобретению вещей. Но у нас нет ничего такого, что им хотелось бы заполучить, так что мы не считаемся экстремистами. Спи спокойно, дорогая. Тебя охраняют ангелы.
Интересные ангелы, подумала Тоби. Далеко не все они — ангелы света. Но она действительно стала спать спокойнее на матрасе, набитом шуршащей мякиной.
Праздник Адама и всех Приматов
Праздник Адама и всех Приматов
Год десятый
Дорогие мои собратья-вертоградари на Земле, которая есть Вертоград Господень!
Как радостно видеть вас всех здесь, в прекрасном саду на крыше «Райский утес»! Я насладился видом превосходного «Древа жизни», созданного нашими Детьми из пластиковых предметов, восторгнутых ими, — сколь прекрасно это иллюстрирует принцип обращения дурных материалов на доброе дело! — и предвкушаю пир братской любви, на котором мы отведаем брюквы прошлогоднего урожая в Ревеккином восхитительном брюквенном пироге, не говоря уже о смеси маринованных грибов изготовления Пилар, нашей Евы Шестой. Мы также празднуем обретение полноправного учительского статуса нашей Тоби. Своим упорным трудом и преданностью Тоби показала нам, что человек может преодолеть самые ужасные жизненные превратности и внутренние препятствия, стоит ему единожды узреть свет Истины. Тоби, мы тобой очень гордимся.
В этот день, день празднества в честь Адама и всех Приматов, мы вновь утверждаем свое родство с Приматами. Это утверждение навлекает на нас гнев тех, кто самонадеянно упорствует в отрицании эволюции. Но мы также утверждаем и Божественное вмешательство, благодаря коему мы были созданы именно таким образом, и тем самым навлекаем на себя гнев ученых безумцев, рекущих в сердце своем: «Бога нет».[6] Сии утверждают, что способны доказать Его несуществование, ибо Его нельзя поместить в лабораторную пробирку, нельзя взвесить и измерить. Но Господь — это чистый Дух; как можно утверждать, что невозможность измерить Неизмеримое доказывает Его несуществование? Воистину Господь не является Чем-то; Он не есть Что-либо, иными словами, Он — Ничто, или Нечто, через которое и которым существуют все материальные вещи; ибо, если бы такое Нечто не существовало, бытие было бы так переполнено материальностью, что ни одну вещь нельзя было бы отличить от какой-либо другой. Самое существование отдельных материальных вещей доказывает, что Бог есть Ничто, или Нечто.
Где же были сии ученые безумцы, когда Господь полагал основания Земли, внедряя собственный Дух меж одним бесформенным клочком материи и другим и таким образом создавая формы? Где были сии глупцы, когда ликовали утренние звезды?[7] Но простим же их в сердце своем, ибо сегодня наша задача — не обличать, но со всем смирением поразмыслить о нашем земном естестве.
Господь мог создать Человека из чистого Слова, но Он поступил иначе. Он мог бы также слепить Человека из праха земного, и в каком-то смысле Он так и сделал, ибо что такое этот «прах», как не атомы и молекулы, строительные кирпичики всех осязаемых предметов? Вдобавок к этому Господь сотворил нас длинным и сложным путем — естественного и полового отбора, и это есть не что иное, как Его хитроумный способ внушить Человеку смирение. Господь сотворил нас «чуть ниже ангелов», но в остальном — и это подтверждают научные данные — мы тесно связаны с нашими братьями-Приматами, и этот факт гордецы мира сего находят для себя неприятным. Наши аппетиты, желания, менее контролируемые эмоции — все это у нас от Приматов! Наше Падение и изгнание из первого Сада было переходом от невинного следования сим похотям и порывам к их осознанию и стыду; и в сем корень нашей печали, беспокойства, сомнений, ярости против Бога.
Это правда, что мы — подобно прочим Животным — получили благословение, завет плодиться, и размножаться, и наполнять Землю. Но какими унизительными, агрессивными, болезненными путями это наполнение порой достигается! Неудивительно, что мы от рождения мучимы виной и стыдом. Почему же Он не сотворил нас чистыми духами, как Он сам? Зачем внедрил нас в недолговечные материальные тела, да еще столь несчастливо сходные с обезьяньими? Таков издревле вопль человечества.
Какой же заповеди мы ослушались? Заповеди жить животной жизнью во всей ее простоте — в ее наготе, так сказать. Но мы жаждали познания добра и зла, и получили это знание, и ныне пожинаем бурю. В своих попытках подняться над самими собой мы пали воистину низко и все продолжаем падать; ибо, как и Творение, падение длится вечно. Наше падение — это падение в жадность; почему мы думаем, что все, что есть на Земле, принадлежит нам, когда на самом деле это мы принадлежим Всему? Мы предали доверие Животных и осквернили свое священное призвание Управителей. Господня заповедь «наполняйте Землю» не означала, что мы должны были до краев переполнить ее собой, стерев с ее лика все остальное. Сколько других видов мы уже уничтожили? Ибо что сделали вы наименьшему из Господних Творений, то сделали и Ему. Задумайтесь об этом, друзья мои, в следующий раз, когда решите раздавить ногой Червя или похулить какого-либо Жука!
Помолимся же о том, чтобы не впасть в заблуждение гордыни, сочтя себя исключительными, сочтя, что у нас единственных среди всего Творения есть Душа; и да не возомним тщеславно, что мы стоим превыше любой другой Жизни и что можем уничтожать ее по своей прихоти, безнаказанно.
Благодарим Тебя, Господь, что сотворил нас такими путями, дабы мы непрестанно помнили не только о том, что мы ниже ангелов, но и о нитях ДНК и РНК, связывающих нас со многими собратьями-созданиями.
Воспоем же.
Мою гордыню укроти
11
Рен
Год двадцать пятый
Вспоминая ту ночь — первую ночь Безводного потопа, — я не могу припомнить ничего необычного. Часов в семь я проголодалась, достала из холодильника энергобатончик и съела половину. Я всегда всего ела только половину, потому что при моем типе телосложения нельзя расслабляться. Я однажды спросила у Мордиса, не стоит ли мне вставить сисимпланты, но он сказал, что при тусклом свете я сойду за подростка, а на стиль «школьница» большой спрос.
Я несколько раз подтянулась, потом поделала упражнения Кегеля на полу, а потом позвонил Мордис по видеофону, чтобы меня проведать; ему меня не хватало, потому что никто не умеет так обрабатывать толпу, как я. «Рен, они у тебя срут тысячедолларовыми бумажками», — сказал он, и я послала ему воздушный поцелуй.
— Как там попка, в тонусе? — спросил он, и я поднесла видеофон к своей задней части. — Пальчики оближешь, — сказал он.
Он умел убедить тебя, что ты красавица, даже если до этого ощущала себя полной уродиной.
После этого я переключилась на «Яму со змеями», чтобы посмотреть, что там происходит, и потанцевать под музыку. Странно было смотреть, как все идет по заведенному кругу, но без меня, словно меня и не было никогда. Алый Лепесток заводила толпу у шеста, а Савона вместо меня выступала на трапеции. Она выглядела хорошо — сверкающие зеленые изгибы тела, новые серебряные волосы от париковцы. Я думала, не сделать ли себе такие — они лучше париков, никогда не сваливаются, — но некоторые девушки говорили, что от них пахнет овчиной, особенно если попасть под дождь.
Савона двигалась немножко неуклюже. Она не подходит для трапеции — она обычно танцует у шеста, и у нее слишком утяжеленный верх — груди как два накачанных пляжных мяча. Поставь ее на шпильки, дунь в затылок — и она впечатается лицом в пол.
«Зато действует, — говорит она. — Еще как».
Сейчас она стояла на одной руке, разведя ноги на шпагат. Меня она не убедила, но посетители нашего заведения никогда не разбирались в тонкостях: они были в восторге от выступления Савоны, для этого ей достаточно было стонать, а не, скажем, хихикать и не свалиться с трапеции.
Я переключилась с «Ямы со змеями» на другие комнаты, прошлась по всем, но там ничего особенного не происходило. Ни одного фетишиста, сегодня никто не требовал, чтобы его обваляли в перьях, или обмазали овсянкой, или подвесили на бархатных шнурах, или щекотали извивающимися рыбками гуппи. Обычная рутина.
Потом я позвонила Аманде. Мы с ней родные души: в детстве мы обе были бездомными щенками. Это сближает.
Сейчас Аманда торчала в Висконсинской пустыне, монтировала очередную инсталляцию биоарта, какими она занималась с тех пор, как увлеклась, по ее выражению, «выходками от искусства». На этот раз она творила из коровьих костей. Висконсинская пустыня завалена коровьими костями, еще с тех пор, как десять лет назад была большая засуха и оказалось, что коров — тех, которые сами не передохли, — дешевле забить, чем вывозить куда-то. У Аманды было два бульдозера на топливных ячейках и два нанятых текс-мекса — беженца-нелегала. Она стаскивала коровьи кости в кучи, такие большие, что их можно было увидеть только с воздуха: огромные заглавные буквы, из которых складывалось слово. Она собиралась залить все это сиропом для блинчиков, подождать, пока на сироп соберутся насекомые, и снять на видео с воздуха, а потом продавать в галереи. Она любила смотреть, как разные штуки растут, движутся и пропадают.
Аманда всегда умудрялась доставать деньги на свои «выходки от искусства». Она была чем-то вроде знаменитости в тех кругах, где интересовались культурой. Круги были небольшие, но хорошо обеспеченные. На этот раз Аманда уболтала какую-то шишку из ККБ — он дал ей вертолет для съемок.
— Я обменялась с мистером Большая Шишка на вертушку, — так она объявила мне об этом.
Мы никогда не говорили по телефону «ККБ» или «вертолет», потому что у ККБ были роботы, которые подслушивали телефонные разговоры, и эти роботы реагировали на ключевые слова.
Инсталляция в Висконсине была частью серии под названием «Живое слово» — Аманда шутила, что на эту серию ее вдохновили вертоградари, потому что всячески запрещали нам что-либо писать. Аманда начала со слов из одной буквы — «я», «а», «о», потом перешла на двухбуквенные — «ты», потом на слова из трех букв, из четырех, из пяти. Она всякий раз пользовалась другими материалами — рыбьи потроха, дохлые птицы, убитые утечкой химических отходов, унитазы из снесенных домов, которые Аманда собрала, наполнила растительным маслом и подожгла.
На этот раз она писала слово «капут». Она уже рассказала мне об этом раньше и добавила, что это ее сообщение.
— Кому? — спросила я. — Посетителям галерей? Мистерам Большая Шишка?
— Им самым, — ответила она. — И ихним миссис Большая Шишка тоже.
— Ох, наживешь ты себе неприятностей.
— Ничего, — ответила она. — Они все равно не поймут.
Она сказала, что проект идет хорошо: прошел дождь, пустыня расцвела, куча насекомых, а это пригодится, когда пора будет наливать сироп. Аманда уже закончила букву «к» и наполовину управилась с «а». Но текс-мексиканцы заскучали.
— Значит, нас двое таких, — сказала я. — Я жду не дождусь, когда меня отсюда выпустят.
— Трое, — поправила Аманда. — Двое текс-мексиканцев и ты. Значит, трое.
— А, да. Ты отлично выглядишь — хаки тебе идет.
Она была высокая и напоминала обветренных, поджарых девушек-землепроходиц из кино. Пробковые шлемы и все такое.
— Ты и сама недурно смотришься, — сказала Аманда. — Ладно. Береги себя.
— Ты тоже. Не позволяй этим текс-мексиканцам тебя изнасиловать.
— Они не посмеют. Они думают, что я сумасшедшая. А сумасшедшая может и хозяйство отчекрыжить.
— Я не знала! — Я принялась хохотать. Аманда любила меня смешить.
— Откуда тебе знать? Ты ведь не сумасшедшая. Ты ни разу не видела, как эти штуки извиваются на полу. Спокойной ночи, приятного сна.
— И тебе приятного сна, — сказала я, но она уже повесила трубку.
Я сбилась со святцев — не могу вспомнить, какого святого сегодня день, — но годы могу считать. Я посчитала на стене карандашом для бровей, сколько лет я знаю Аманду. Как в давнишних карикатурах про заключенных — четыре палочки и одна их перечеркивает, вместе пять.
Давно — с тех самых пор, как она пришла к вертоградарям. Так много народу из моей прошлой жизни было оттуда — Аманда, и Бернис, и Зеб; и Адам Первый, и Шекки, и Кроз, и старая Пилар; и Тоби, конечно. Интересно, что они обо мне думают? О том, чем я теперь зарабатываю. Кое-кто из них был бы разочарован. Например, Адам Первый. Бернис сказала бы, что я впала в грех и что так мне и надо. Люцерна сказала бы, что я шлюха, а я бы ответила, что рыбак рыбака видит издалека. Пилар посмотрела бы на меня долгим и мудрым взглядом. Шекки и Кроз просто заржали бы. Тоби страшно разозлилась бы, что такое заведение, как «Чешуйки», существует на свете. А Зеб? Он, наверное, попытался бы меня спасти, потому что это достойная задача.
Аманда уже знает. Она меня не судит. Она говорит, что человеку приходится обмениваться на то, что у него есть. И не всегда получается выбирать.
12
Когда Люцерна и Зеб забрали меня из Греховного мира к вертоградарям, поначалу мне там совершенно не понравилось. Вертоградари часто улыбались, но меня это пугало: слишком уж много они говорили о неотвратимом конце, о врагах, о Боге. И еще они все время говорили о смерти. Вертоградари строго следовали доктрине сохранения жизни, но при этом утверждали, что смерть — это естественно, а одно с другим как-то не вяжется, если хорошенько подумать. Вертоградари считали, что превратиться в компост — это прекрасно. Не всякого радует перспектива достаться грифам на обед, но вертоградари ничего не имели против. А от их разговоров про Безводный потоп, который должен уничтожить всех людей на Земле, у меня начались кошмарные сны. Но настоящих детей вертоградарей эти разговоры не пугали. Дети вертоградарей привыкли. Они даже шутили на эти темы, во всяком случае старшие мальчики — Шекки, Кроз и их дружки.
— Мы все умре-о-о-о-ом! — завывали они, сделав лица как у мертвецов. — Эй, Рен! Хочешь внести свой вклад в круговорот жизни? Ложись вон в тот мусорник, будешь компостом.
Или:
— Эй, Рен! Хочешь быть опарышем? Полижи мой порез!
— Заткнись, — обычно отвечала им Бернис. — А то сам ляжешь в этот мусорник, потому что я тебя туда пихну!
Бернис была вредная и умела за себя постоять, и от нее обычно отвязывались. Даже мальчишки. Но тогда я оставалась у нее в долгу, и мне приходилось расплачиваться — делать, что она говорит.
Правда, Шекки и Кроз меня дразнили, когда Бернис не было поблизости и она не могла за меня заступиться. Они давили слизней и жрали жуков. Нарочно старались, чтобы всех затошнило. Они были бедокурами — так звала их Тоби. Я слышала, как она говорит Ребекке: «Вот идут бедокуры».
Шекки был самый старший — длинный и тощий, и на внутренней стороне предплечья у него была татуировка — паук, он наколол ее сам иголкой и втер сажу от свечки. Кроз был приземистый, круглоголовый, у него сбоку не хватало одного зуба, якобы выбитого в уличной драке. У них был еще младший брат по имени Оутс. Родителей у них не было — раньше были, но отец отправился с Зебом на какую-то особую Адамову вылазку и не вернулся, а мать ушла чуть позже, пообещав Адаму Первому забрать детей, когда устроится. Но так и не забрала.
Школа вертоградарей была в другом доме, не там, где сад на крыше. Этот дом назывался «Велнесс-клиника», по тому, что там было раньше. В комнатах еще остались коробки с марлевыми бинтами, которые вертоградари восторгали для всякого рукоделия. Там пахло уксусом: в тот же коридор, напротив классных комнат, выходила дверь комнаты, где вертоградари делали уксус. Скамейки в «Велнесс-клинике» были жесткие. Мы сидели рядами. Мы писали на грифельных досках, которые полагалось вытирать в конце каждого дня, потому что вертоградари говорили: нельзя оставлять слова где попало, их могут найти враги. И вообще бумага была греховным материалом, потому что делалась из плоти деревьев.
Мы часто зубрили стишки наизусть, а потом скандировали хором. Например, историю вертоградарей:
На седьмом году должны были бы упомянуть и меня, и мою маму Люцерну, и вообще тут было совсем не похоже на рай, но вертоградари любили, чтобы речевки были в рифму.
Мне хотелось бы, чтобы следующий год звучал как-нибудь так: «Десятый Год — пусть Рен повезет» или «Десять Лет — Рен, привет!» — но я знала, что этого не будет.
Мы зубрили наизусть и другие вещи, потруднее. Хуже всего была математика и естественные науки. Еще нам нужно было знать наизусть все святцы, а на каждый день приходился хотя бы один святой, иногда больше, или праздник, то есть в общей сложности больше четырехсот. И еще мы должны были знать, что сделал этот святой, чтобы стать святым. С некоторыми было просто. Святой Йосси Лешем от Сов[8] — ответ очевиден. И святая Диана Фосси, потому что у нее такая грустная история, и святой Шеклтон, потому что он был отважный землепроходец. Но попадались и посложнее. Ну как можно запомнить святого Башира Алуза, или святого Крика, или День подокарповых? Я вечно путалась с Днем подокарповых, потому что — ну что такое подокарп? Это ископаемое дерево, а называется почти как рыба.
Наши учителя: Нуэла вела младшие классы, и хор «Бутоны и почки», и предмет «Вторичная переработка ткани», Ребекка учила нас «Кулинарному искусству», то есть готовить, Сурья — шитью, Муги — счету в уме, Пилар преподавала «Пчел и грибоведение», Тоби — «Холистическое целительство» и «Лечение травами», Бэрт — «Ботанику дикорастущих и садовых растений», Фило — «Медитацию», Зеб — «Отношения хищника и жертвы» и «Камуфляж в природе». Были и другие занятия: тем, кому исполнялось тринадцать, полагались еще уроки Катуро по «Неотложной помощи» и Марушки-повитухи по «Репродуктивной системе человека». Пока что из этой оперы мы проходили только яичники лягушки. Таковы были наши основные предметы.
Дети вертоградарей придумали клички всем учителям. Пилар стала Грибом, Зеб — Безумным Адамом, Стюарт — Шурупом, потому что делал мебель. Муги — Мускулом, Марушка — Слизистой, Ребекка — Солью с перцем, Бэрт — Шишкой (потому что лысый). Тоби — Сухой ведьмой. Ведьма, потому что она вечно варила всякие зелья и разливала их по бутылочкам, а сухая — потому что она была вся тощая и жесткая, и еще чтобы отличать ее от Нуэлы, которую звали Мокрой ведьмой из-за ее вечно влажного рта и трясущейся задницы, да еще потому, что у нее всегда глаза были на мокром месте — ее ничего не стоило довести до слез.
Кроме школьных стишков были еще другие, с ругательными словами, их сочиняли дети вертоградарей. Они тихо скандировали — начинали Шеклтон, Крозье и другие старшие мальчишки, а мы все подхватывали:
Особенно неприятны были слова про колбасу, потому что для вертоградарей любое упоминание о мясе было непристойностью. «Прекратите!» — говорила Нуэла, но тут же начинала хлюпать носом, и старшие мальчишки показывали друг другу большие пальцы.
Сухую ведьму, Тоби, нам ни разу не удалось довести до слез. Мальчишки говорили, что она стерва — что она и Ребекка две самые большие стервы. Ребекка с виду была милая и добрая, но управлять собой не позволяла никому. Что до Тоби, она была словно из дубленой кожи и внутри и снаружи. «Шеклтон, и не думай», — говорила она, даже если в этот момент стояла к нему спиной. Нуэла была слишком добрая, а Тоби умела нас всех построить, и мы доверяли ей больше: легче довериться скале, чем мягкой лепешке.
13
Дом, где я жила с Люцерной и Зебом, стоял кварталах в пяти от сада на крыше. Наш дом назывался «Сыроварня», потому что здесь раньше делали сыр, и легкий сырный запах стоял в доме до сих пор. После сыра тут были квартиры-мастерские для художников, но художников больше не осталось, и, кажется, уже никто не знал, кому принадлежит дом. А пока что им завладели вертоградари. Они любили жить в местах, где не надо платить за жилье.
У нас была большая комната, где занавесками отгородили отсеки — один для меня, один для Люцерны и Зеба, один для фиолет-биолета, один для душа. Занавески, сплетенные из пластиковых пакетов, нарезанных на полосы, и липкой ленты, совершенно не поглощали звук. Это было не очень приятно, особенно в том, что касалось фиолет-биолета. Вертоградари считали, что пищеварение — священно и что в звуках и запахах, сопутствующих выходу конечного продукта, нет ничего смешного или ужасного, но в наших условиях этот самый конечный продукт было очень сложно игнорировать.
Мы ели в большой комнате, на столе, сделанном из двери. Все наши тарелки и кастрюли были найдены на помойке — «восторгнуты», как называли это вертоградари, — кроме нескольких толстостенных кружек и тарелок. Их делали сами вертоградари — до того, как решили, что печи для обжига тратят слишком много энергии.
Я спала на тюфяке, набитом мякиной и соломой. Накрывалась лоскутным одеялом, сшитым из кусков старых джинсов и использованных ковриков для ванной. Каждое утро я должна была первым делом застелить постель, потому что вертоградари любили аккуратно застеленные постели — чем именно застеленные, для них было не столь важно. Потом я снимала со вбитого в стену гвоздя одежду и надевала ее. Чистую одежду мне давали раз в семь дней: вертоградари считали, что слишком частая стирка — напрасный перевод мыла и воды. Я вечно ходила в сыром из-за влажности и еще потому, что вертоградари не верили в сушильные машины. «Зря, что ли, Господь создавал солнце», — говорила Нуэла. Видимо, Господь создал солнце, чтобы сушить нашу одежду.
Люцерна в это время обычно еще лежала в постели — там было ее любимое место. Раньше, когда мы еще жили в охраняемом поселке «Здравайзера» с моим родным отцом, Люцерна и дома-то почти не бывала. А тут она почти не выходила, разве что в сад на крыше или в «Велнесс-клинику» помогать другим женщинам вертоградарей чистить корни лопуха, или шить эти комковатые лоскутные одеяла, или плести занавески из пластиковых пакетов, или еще что-нибудь в этом роде.
Зеб в это время обычно мылся в душе. «Никаких ежедневных душей» — одно из многих правил вертоградарей, которое Зеб нарушал. Вода для мытья поступала по садовому шлангу из бочки для дождевой воды под воздействием силы тяжести, так что энергия на это не тратилась. Так Зеб оправдывал исключение, которое делал для себя. Моясь в душе, он пел:
Все его душевые песни были такие, негативные, хотя ревел он их жизнерадостным басом, как русский медведь.
Я относилась к нему по-разному. Он мог внушать страх, но в то же время мне было приятно, что я из семьи такого важного человека. Зеб был Адамом — главным Адамом. Это видно было по тому, как другие на него смотрели. Он был большой и плотный, с байкерской бородой и длинными волосами, каштановыми, чуть тронутыми сединой. Лицо выдубленное, брови — словно из колючей проволоки. Казалось, у него должны быть стальной зуб и татуировка, но на самом деле не было. Он был сильный, как вышибала, с таким же угрожающе-добродушным видом — словно мог и шею свернуть кому-нибудь, но по делу, а не для забавы.
Иногда он играл со мной в домино. Вертоградари скупились на игрушки. «Природа — наша игровая площадка», — говорили они. Разрешены были только игрушки, сшитые из лоскутков, или связанные из сэкономленных веревочек, или фигурки с морщинистыми лицами из сушеных райских яблочек. Но домино разрешалось, потому что костяшки для игры вертоградари вырезали сами. Когда я выигрывала, Зеб хохотал и восклицал: «Молодец!» И у меня в душе становилось тепло. Как настурции.
Люцерна вечно твердила, что я должна хорошо себя вести с Зебом, потому что он мне хоть и не родной отец, но все равно что отец, и, если я буду ему грубить, он обидится. Но когда Зеб со мной ласково обходился, ей это не нравилось. Так что я не очень понимала, как поступать.
Пока Зеб пел в душе, я обычно соображала себе что-нибудь на завтрак — сухие соевые гранулы или какую-нибудь овощную котлету, оставшуюся со вчера. По правде сказать, Люцерна готовила ужасно. Потом я уходила в школу. Как правило, все еще голодная. Но я могла рассчитывать на школьный обед. Он обычно был не ахти что, но хоть какая-то еда. Как говорил Адам Первый, голод — лучшая приправа.
Я не помнила, чтобы хоть раз была голодна, когда жила в охраняемом поселке «Здравайзера». Я по правде хотела туда вернуться. Хотела к своему родному отцу, который меня все еще любит; если он узнает, где я, то обязательно придет и заберет меня. Я хотела вернуться в свой настоящий дом, где у меня была своя комната, и кровать с розовым балдахином, и стенной шкаф с кучей разной одежды. Но самое главное — я хотела, чтобы мать стала прежней, как в те дни, когда она брала меня с собой в поход по магазинам, или ездила в клуб играть в гольф, или отправлялась в салон красоты «НоваТы», чтобы ее там как-нибудь улучшили и по возвращении от нее приятно пахло. Но если я о чем-нибудь из этого напоминала, мать отвечала, что это все осталось в прошлом.
У нее была куча объяснений, почему она сбежала с Зебом к вертоградарям. Она говорила, что их образ жизни лучше всего для человечества, и для всех остальных созданий на Земле — тоже, и что она поступила так из любви — не только к Зебу, но и ко мне, она хотела, чтобы мир исцелился, чтобы сохранилась жизнь на Земле, и разве я не рада, что так получилось?
Сама она как-то не очень радовалась. Она, бывало, сидела у стола, причесывалась и глядела на себя в наше единственное крохотное зеркальце — не то мрачно, не то критически, не то трагически. У нее, как у всех женщин-вертоградарей, были длинные волосы, и расчесать их, заплести и заколоть было целое дело. В иные дни она повторяла эту процедуру по четыре-пять раз.
Во время отлучек Зеба она со мной почти не разговаривала. Или вела себя так, как будто я его спрятала.
— Когда ты его последний раз видела? — спрашивала она. — Он был в школе?
Как будто хотела, чтобы я за ним шпионила. Потом извиняющимся тоном говорила: «Как ты себя чувствуешь?» — словно сделала мне что-то плохое.
Но когда я начинала отвечать, она не слушала. Вместо этого она прислушивалась, не идет ли Зеб. Она беспокоилась все больше и больше, даже начинала сердиться; мерила шагами комнату, выглядывала в окно, говорила сама с собой о том, как он с ней плохо обращается; но когда он наконец появлялся, она его только что не облизывала. Потом принималась допрашивать: где он был, что делал, почему не вернулся раньше? Он только пожимал плечами и говорил:
— Все в порядке, девочка, я уже здесь. Ты зря беспокоишься.
Тут они обычно исчезали за своей занавеской из пластиковых пакетов и изоленты, и мать начинала издавать болезненные, жалкие звуки, от которых мне хотелось умереть. В эти минуты я ненавидела ее за отсутствие гордости и неумение держать себя в руках. Словно она бегала голая по проходу торгового центра. Почему она так боготворит Зеба?
Теперь я знаю, как это бывает. Влюбиться можно в кого угодно: в дурака, в преступника, в ничтожество. Никаких твердых правил нет.
Еще у вертоградарей мне не нравилась одежда. Вертоградари были самых разных цветов, а их одежда — нет. Если Природа прекрасна, как утверждали все Адамы и Евы, если нужно брать пример с лилий — почему мы не можем больше походить на бабочек и меньше — на асфальтированную парковку? Мы такие ровные, унылые, застиранные, темно-серые.
Уличные дети — плебратва — вряд ли были богаты, но их наряды сверкали. Я завидовала всему блестящему, переливающемуся — телефонам с видеокамерами, розовым, фиолетовым, серебряным, сверкающим в руках владельцев, словно волшебные карты фокусника; «ушным конфеткам», которые дети засовывали в уши, чтобы слушать музыку. Мне хотелось этой кричаще-пестрой свободы.
Нам запрещалось дружить с детьми из плебратвы, и они, в свою очередь, презирали нас как парий: зажимали носы и вопили или швырялись чем попало. Адамы и Евы говорили, что нас преследуют за веру, но, скорее всего, дело было в нашей одежде: плебратва очень следила за модой и носила лучшее, что могла купить или украсть. Так что мы не могли с ними якшаться, но могли подслушивать. Так мы получали новые знания — подцепляли их, как микробы. Мы глазели на запретную светскую жизнь, словно через железную решетку.
Как-то я нашла на тротуаре прекрасный телефон с фотокамерой. Грязный, без сигнала — но я все равно принесла его домой, и Евы меня поймали.
— Ты что, совсем ничего не понимаешь? — говорили они. — Эта штука ужасно опасная! Она может выжечь человеку мозги! Даже не смотри на нее: если ты ее видишь, это значит, что она видит тебя.
14
Я познакомилась с Амандой в Десятый год, когда и мне было десять; мне всегда было столько лет, какой год шел, легко запомнить.
Был День святого Фарли от Волков — день юных бионеров-изыскателей, когда мы повязывали на шею противные зеленые галстуки и ходили восторгать разные материалы для поделок, которые вертоградари мастерили из вторсырья. Иногда мы собирали обмылки: с плетеными корзинами в руках обходили дорогие отели и рестораны, потому что там выбрасывали мыло кучами. Лучшие гостиницы были в богатых плебсвиллях — в Папоротниковом Холме, Гольф-клубе, и особенно в самом богатом — Месте-под-солнцем. Мы ездили туда автостопом, что строго запрещалось. Типично для вертоградарей: сначала приказывают что-нибудь, а потом запрещают самый удобный способ это сделать.
Лучше всего было мыло с запахом роз. Мы с Бернис брали немножко домой, и я клала свое в наволочку, чтобы заглушить запах плесени от сырого лоскутного одеяла. Остальное мы отдавали вертоградарям: они варили обмылки в «черных ящиках» — солнечных печах на крыше, пока масса не начинала пузыриться, а потом охлаждали и резали на куски. Вертоградари изводили кучу мыла, потому что были зациклены на микробах, но часть нарезанного мыла откладывали. Потом его заворачивали в листья и перевязывали травяными жгутами, чтобы продавать туристам и зевакам на рынке обмена натуральными продуктами «Древо жизни». Там же вертоградари продавали дождевых червей в мешочках, органическую репу, цуккини и разные другие овощи, которые не съедали сами.
Тот день был не мыльный, а уксусный. Мы обходили задворки разных баров, ночных клубов, стрип-клубов, искали у них в мусорных ящиках бутылки с остатками любого вина и выливали его в эмалированные ведерки юных бионеров. Потом тащили в «Велнесс-клинику», где его переливали в огромные бочки, стоящие в уксусной комнате, и делали уксус, который вертоградари использовали в хозяйстве как чистящее средство. Лишний уксус разливался по бутылочкам, тоже восторгнутым нами. На бутылочки клеились этикетки, и этот уксус шел на продажу в «Древе жизни» вместе с мылом.
Работа юных бионеров должна была преподать нам полезные уроки. Например: ничего нельзя выбрасывать просто так, даже вино из притонов разврата. Таких вещей, как мусор, отходы, грязь, — не существует. Есть только материя, которой неправильно распорядились. И другой, самый главный урок: все, даже дети, должны вносить свой вклад в жизнь общины.
Шекки, Кроз и старшие мальчики иногда выпивали вино, вместо того чтобы его сдать. Иногда они выпивали слишком много и тогда падали, или блевали, или затевали драки с плебратвой и кидались камнями в пьяниц. Пьяницы в отместку мочились в пустые винные бутылки, надеясь нас обмануть. Я ни разу не выпила мочи: достаточно было понюхать горлышко бутылки. Но были такие, кто отбил у себя нюх курением сигарет и сигар или даже шмали, — они делали глоток, сплевывали и начинали ругаться. А может, они даже нарочно это делали, чтоб была причина для ругани: вертоградари строго запрещали использовать бранные слова.
Немного отойдя от сада, Шекки, Кроз и другие мальчишки снимали галстуки юных бионеров и повязывали их вокруг головы, как «косые». Они тоже хотели быть уличной бандой — даже пароль завели. «Ганг!» — говорили они, а другой человек должен был сказать отзыв: «Рена!» Вместе получалось «гангрена». «Ганг» — потому что они хотели быть гангстерами, а «Рена» — потому что это похоже на «арену», где выступают спортсмены. Пароль был секретный, только для членов банды, но все равно мы все о нем знали. Бернис сказала, что этот пароль им очень подходит, потому что гангрена — это когда человек гниет заживо, а они уже все насквозь прогнили.
— Очень смешно, — ответил Крозье. — Сама такая страшная.
Во время восторгания мы должны были ходить группой, чтобы при необходимости отбиться от банд плебратвы, или от пьяниц, которые могли выхватить ведро и опрокинуть вино себе в глотку, или от похитителей детей, которые могли нас украсть и продать в секс-рабство. Но мы разбивались на пары и тройки, чтоб быстрее обойти всю территорию.
В тот день я сперва пошла вместе с Бернис, но потом мы поругались. Мы все время цапались, и я воспринимала это как доказательство дружбы, потому что потом мы всегда мирились, как бы сильно ни поссорились. Какая-то связь была между нами: не жесткая, как кость, а скользкая, как хрящ. Скорее всего, нам обеим было не по себе среди детей вертоградарей и каждая боялась остаться без союзницы.
На этот раз мы поссорились из-за бисерного кошелечка для мелочи, с вышитой на нем морской звездой. Мы нашли его в мусорной куче. Такие находки мы ценили и всегда смотрели, не попадется ли что-нибудь. Жители плебсвилля выбрасывали уйму всего, потому что, по словам Адамов и Ев, не могли ни на чем подолгу сосредоточиться и у них не было никаких моральных принципов.
— Я первая его увидела, — сказала я.
— Ты и в прошлый раз первая увидела, — ответила Бернис.
— Ну и что? Все равно я первая увидела!
— Твоя мать — шалава, — сказала Бернис. Это было нечестно, потому что я и сама так думала.
— А твоя — овощ! — сказала я. Как ни странно, слово «овощ» было у вертоградарей оскорбительным. — Ивона — вообще овощ!
— А от тебя воняет мясом! — Бернис держала кошелек в руке и не собиралась с ним расставаться.
— Ну и хорошо! — Я повернулась и пошла прочь. Я не торопилась, но и не оглядывалась, и Бернис за мной не побежала.
Это все случилось в торговом центре «Яблоневый сад». Таково было официальное название нашего плебсвилля, хотя все называли его Сточной Ямой, потому что люди исчезали в нем без следа. Мы, дети вертоградарей, заходили в торговый центр, когда могли, — просто поглазеть.
Как и все остальное в нашем плебсвилле, торговый центр сильно потерял вид за последние годы. Тут был сломанный фонтан с чашей, заполненной банками из-под пива, и встроенные в стены цветочные горшки с кучами окурков, бутылок из-под «зиззи-фрут» и использованных презервативов, которые, по словам Нуэлы, были покрыты «гноящимися микробами». Еще в торговом центре стояла будка голограммера, которая когда-то проецировала световые силуэты Солнца и Луны, и редких животных, и тех, кто опускал в автомат деньги. Но будку разгромили, и теперь она стояла словно ослепшая. Иногда мы заходили внутрь, задергивали изодранный звездчатый занавес и читали сообщения, нацарапанные на стенах плебратвой. «Моника дает», «Дарф тоже дает токо луче», «$ есть?», «Для тибя бисплатна!», «Брэд ты пакойник». Дети из плебратвы были ужасно смелые, они писали что угодно и где угодно. Им было все равно, кто это увидит.
Местная плебратва заходила в будку голограммера, чтобы курить травку — в будке ею просто разило — и заниматься сексом: там валялись использованные презервативы, а иногда и трусики. Детям вертоградарей ничего этого не полагалось: галлюциногены были для религиозных целей, а секс — только для тех, кто обменялся зелеными листьями и перепрыгнул через костер. Но дети постарше хвалились, что уже пробовали и то и другое.
Те витрины, которые не были заколочены, принадлежали магазинам из разряда «все за двадцать долларов» под названиями «Дикая страсть», «Мишура», «Кальян» и прочее в том же духе. Там продавались шляпы с перьями, карандаши для рисования на теле, футболки с драконами, черепами и гадкими надписями. И энергобатончики, и жвачка, от которой язык светится в темноте, и пепельницы с двумя красными губками и надписью «Дай пососать», и наклейки-татуировки, о которых Евы говорили, что они прожигают кожу до вен. И разные дорогие штуки по дешевке — Шекки говорил, что они украдены из бутиков Места-под-солнцем.
«Это все дешевый яркий мусор, — говорили Евы. — Если вам так хочется продать душу, хотя бы возьмите подороже!» Но мы с Бернис не обращали внимания. Души нам были ни к чему. Мы заглядывали в витрины, и головы у нас кружились от желания. «Что бы ты купила? — спрашивали мы друг у друга. — Волшебную палочку на светодиодах? Прелесть! Видео „Кровь и розы“? Фу, это для мальчишек! Накладные сисимпланты „Настоящая женщина“ с чувствительными сосками? Рен, ты даешь!»
В тот день, расставшись с Бернис, я не знала, что делать. Сначала я хотела вернуться, потому что боялась ходить одна. И тут увидела Аманду. Она стояла на другой стороне пассажа с девочками — текс-мексиканками из плебсвилля. Я помнила эту группу, и Аманды с ними раньше не было.
Девочки были одеты как обычно: в мини-юбки и полосатые топы, вокруг шеи розовые боа словно из сахарной ваты, серебряные перчатки, в волосах заколки — залитые в пластик бабочки. В ушах «конфетки», на руках браслеты с медузами, в руках — сверкающие телефоны. Девочки красовались. Они включили на «конфетках» одну и ту же мелодию и танцевали под нее, крутя попками, выпячивая грудь. Казалось, они владеют всеми товарами из всех здешних магазинов и уже пресытились. Я тоже хотела иметь такой пресыщенный взгляд. Я стояла и молча завидовала.
Аманда тоже танцевала, только у нее получалось лучше. Потом перестала: остановилась чуть поодаль от группы, набирая текст на фиолетовом телефоне. Потом уставилась прямо на меня, улыбнулась и помахала серебряными пальцами. Это означало: «Поди сюда».
Я убедилась, что никто не смотрит. И перешла пассаж.
15
— Хочешь посмотреть мой браслет с медузами? — спросила Аманда, как только я подошла.
Должно быть, я показалась ей жалкой — в сиротских одеждах, с белыми как мел пальцами. Аманда подняла руку: на запястье плавали крохотные медузы, открываясь и закрываясь, как цветы, — само совершенство.
— Где ты его взяла?
Я не знала, что сказать.
— Спёрла, — ответила Аманда.
У девочек плебсвилля это был самый популярный способ добычи вещей.
— А как они там живут?
Она показала на серебряную кнопку на замке браслета.
— Это аэратор, — сказала она. — Он накачивает туда кислород. И еще надо два раза в неделю добавлять еду.
— А если забудешь?
— Тогда они жрут друг друга, — сказала Аманда. Она чуть заметно улыбнулась. — Кое-кто нарочно не добавляет еду. Тогда там начинается как будто война, и скоро остается только одна медуза, а потом она умирает.
— Ужас, — сказала я.
Аманда все так же улыбалась.
— Да. Затем они это и делают.
— Очень красивый браслет, — сказала я нейтральным голосом.
Я хотела сделать Аманде приятное, но не могла понять: «ужас» — это, по ее представлениям, хорошо или плохо?
— Возьми, — сказала Аманда. И протянула мне руку. — Я сопру еще один.
Мне страшно хотелось этот браслет, но я не знала, как достать еду, а значит, все медузы у меня были обречены на смерть.
— Не могу, — сказала я. И отступила на шаг.
— Ты из этих, верно? — спросила Аманда. Она не дразнила меня, просто интересовалась. — Вертячек. Вертожоперов. Говорят, их тут целая куча.
— Нет, — ответила я. — Не из них.
Конечно, она поняла, что я вру. В плебсвилле Сточная Яма было множество плохо одетых людей, но никто из них не одевался так нарочно. Кроме вертоградарей.
Аманда слегка склонила голову набок.
— Странно, — сказала она. — А с виду совсем как они.
— Я только с ними живу, — объяснила я. — Вроде как в гостях. На самом деле я на них совсем не похожа.
— Конечно не похожа, — улыбаясь, согласилась Аманда. И легонько погладила меня по руке. — Пойдем. Я тебе кое-что покажу.
Она привела меня в проулок, на задворки клуба «Хвост-чешуя». Детям вертоградарей сюда ходить не полагалось, но мы все равно ходили, потому что тут можно было набрать вина на уксус, если прийти раньше пьяниц.
В проулке было опасно. Евы говорили, что «Хвост-чешуя» — притон разврата. Нам никогда, ни в коем случае нельзя было туда заходить, особенно девочкам. Над дверью была неоновая надпись: «РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ», и по ночам эту дверь охраняли двое огромных мужчин в черных костюмах и, даже ночью, в черных очках. Одна старшая девочка у вертоградарей рассказывала, что эти мужчины сказали ей: «Приходи сюда через год и приноси свою сладкую попку». Но Бернис сказала, что эта девчонка просто хвалится.
Справа и слева от входа в клуб на стенах были светящиеся голограммы. Они изображали красивых девушек, покрытых сверкающими зелеными чешуйками — как ящерицы, полностью, кроме волос. Девушка стояла на одной ноге, а другую изогнула вокруг шеи, как крючок. Я подумала, что очень больно так стоять, но девушка на картинке улыбалась.
Интересно, эти чешуйки так растут или их наклеивают? Мы с Бернис об этом спорили. Я сказала, что они наклеенные, а Бернис — что они вырастают, потому что девушкам сделали операцию, все равно как сисимпланты ставят. Я заявила, что только псих может сделать такую операцию. Но в глубине души вроде как поверила.
Однажды среди дня мы увидели, как из клуба выбежала чешуйчатая девушка, а за ней по пятам мужчина в черном костюме. Ее зеленые чешуйки ярко сверкали; она сбросила туфли на высоких каблуках и побежала босиком, лавируя между пешеходами, но наступила на битое стекло и упала. Мужчина догнал ее, подхватил на руки и отнес обратно в клуб. Зеленые чешуйчатые руки девушки безвольно болтались. Из ног шла кровь. Каждый раз, когда я об этом думаю, у меня по спине пробегает холодок, как бывает, когда при тебе кто-то порезал палец.
В конце проулка рядом с клубом «Хвост-чешуя» был небольшой квадратный двор, где стояли контейнеры для мусора — приемник углеводородного сырья для мусорнефти и все остальные. Потом был дощатый забор, а по другую сторону забора — пустырь, где когда-то был дом, но потом сгорел. Теперь на пустыре осталась только жесткая земля с кусками цемента, обугленных досок и битого стекла и сорняки.
Иногда тут околачивалась плебратва; они бросались на нас, когда мы выливали вино к себе в ведерки. Плебратва дразнилась: «Вертячки, вертячки, на жопе болячки!» — вырывали у нас ведерки и убегали с ними или выливали нам на голову. Однажды такое случилось с Бернис, и от нее потом долго разило вином.
Иногда мы приходили сюда с Зебом — на «открытый урок». Зеб говорил, что этот пустырь — самое близкое подобие луга, какое можно найти в нашем плебсвилле. Когда Зеб был с нами, плебратва нас не трогала. Он был как наш собственный ручной тигр: добрый к нам, грозный для всех остальных.
Однажды мы нашли на пустыре мертвую девушку. На ней не было ни волос, ни одежды: только горстка зеленых чешуек еще держалась на теле. «Наклеенные, — подумала я. — Или что-то в этом роде. В общем, они на ней не растут. Значит, я была права».
— Может, она тут загорает, — сказал кто-то из мальчишек постарше, и остальные мальчишки захихикали.
— Не трогайте ее, — сказал Зеб. — Имейте хоть каплю уважения! Сегодня мы проведем урок в саду на крыше.
Когда мы пришли сюда на следующий открытый урок, девушки уже не было.
— Спорим, ее пустили на мусорнефть, — шепнула мне Бернис.
Мусорнефть делали из любого углеводородного мусора — отходов с бойни, перезрелых овощей, ресторанных отходов, даже пластиковых бутылок. Углеводороды отправлялись в котел, а из котла выходили нефть, вода и все металлическое. Официально туда нельзя было класть человеческие тела, но дети шутили на этот счет. Нефть, вода и костюмные пуговицы. Нефть, вода и золотое перо от авторучки.
— Нефть, вода и зеленые чешуйки, — шепнула я в ответ.
Сперва мне показалось, что на пустыре никого и ничего нет. Ни пьяниц, ни плебратвы, ни голых мертвых женщин. Аманда отвела меня в дальний угол, где лежала бетонная плита. У плиты стояла бутылка сиропа — пластиковая, из тех, которые можно выдавить до конца.
— Смотри, — сказала она.
Ее имя было написано сиропом на плите, и куча муравьев пожирала его, вокруг каждой буквы образовалась черная кайма из муравьев. Так я впервые узнала имя Аманды — оно было написано муравьями. Аманда Пейн.
— Скажи, круто? Хочешь написать свое?
— Зачем ты это делаешь? — спросила я.
— Потому что здорово получается, — объяснила она. — Пишешь всякое, а они съедают. Ты появляешься, потом исчезаешь. Так тебя никто не найдет.
Как я поняла, что в этом есть смысл? Не знаю, но как-то поняла.
— Где ты живешь? — спросила я.
— О, там и сям, — небрежно ответила Аманда. Это значило, что на самом деле она нигде не живет: ночует где-нибудь в пустующем доме, а может, и еще чего похуже.
— Раньше я жила в Техасе, — добавила она.
Значит, она беженка. Беженцев из Техаса было много, особенно после того, как там прошли ураганы и засухи. Большинство беженцев были нелегалами. Теперь я понимала, почему Аманде хочется исчезнуть.
— Хочешь, пойдем к нам жить, — сказала я. Я этого не планировала — как-то само получилось.
Тут в дырку забора пролезла Бернис. Она раскаялась, пришла за мной, но теперь я в ней не нуждалась.
— Рен! Что ты делаешь! — завопила она. И затопала к нам по пустырю с типичным для нее деловым видом.
Я поймала себя на мысли, что у Бернис большие ноги, а тело слишком квадратное, и нос чересчур маленький, а шея могла бы быть подлиннее и потоньше. Как у Аманды.
— Это твоя подруга, надо думать, — улыбаясь, сказала Аманда.
Я хотела ответить: «Ничего она мне не подруга», но не отважилась на такое предательство.
Бернис, вся красная, подбежала к нам. Она всегда краснела, когда злилась.
— Пошли, Рен, — сказала она. — Тебе нельзя с ней разговаривать.
Она заметила браслет с медузами, и я поняла, что ей так же сильно хочется этот браслет, как и мне.
— Ты — порождение зла! — сказала она Аманде. — Ты — из плебратвы!
И схватила меня под руку.
— Это Аманда, — сказала я. — Она пойдет к нам и будет жить со мной.
Я думала, что у Бернис случится очередной приступ ярости. Но я смотрела на нее каменным взглядом, словно говоря, что не уступлю. Упорствуя, она рисковала потерять лицо перед незнакомым человеком, так что она лишь молча смерила меня глазами, что-то рассчитывая в уме.
— Ну хорошо, — сказала Бернис. — Она поможет тащить вино для уксуса.
— Аманда умеет воровать, — сказала я Бернис, пока мы тащились обратно в «Велнесс-клинику».
Я сказала это, чтобы задобрить Бернис, но она только хрюкнула.
16
Я знала, что не могу просто так подобрать Аманду, словно уличного котенка: Люцерна прикажет отвести ее обратно, туда, где я ее нашла, потому что Аманда — плебратва, а Люцерна ненавидит плебратву. Она говорила, что все они — испорченные дети, лгуны и воришки, а единожды испорченный ребенок все равно что уличная собака — ее не приучишь, и доверять ей нельзя. Люцерна боялась ходить по улицам из одного здания вертоградарей в другое, потому что плебратва могла налететь, вырвать из рук все, что можно, и убежать. Люцерна так и не научилась хватать камни, отбиваться и орать. Это из-за ее прежней жизни. Она была тепличным цветком: так Зеб ее называл. Я раньше думала, что это комплимент — из-за слова «цветок».
Так что Аманду отправят восвояси, если я не получу разрешения Адама Первого. Он любил, когда к вертоградарям приходили новые люди, особенно дети, — вечно распространялся о том, как вертоградари должны «формировать юные умы». Если он разрешит Аманде жить с нами, Люцерна уже не посмеет отказать.
Мы трое нашли Адама Первого в «Велнесс-клинике», где он помогал разливать по бутылкам уксус. Я объяснила, что нашла Аманду — «восторгнула» ее — и что она теперь хочет присоединиться к нам, так как узрела Свет, и можно, она будет жить у нас дома?
— Это правда, дитя мое? — спросил Адам Первый у Аманды.
Другие вертоградари перестали работать и пялились на ее мини-юбку и серебряные пальцы.
— Да, сэр, — почтительно ответила Аманда.
— Она плохо повлияет на Рен, — сказала, подойдя к нам, Нуэла. — Рен слишком легко поддается влиянию. Нужно поселить ее у Бернис.
— Нет! — сказала я. — Это я ее нашла!
Бернис пронзила меня взглядом. Аманда промолчала.
Адам Первый смотрел на нас. Он многое знал.
— Может быть, пусть решает сама Аманда, — предложил он. — Пусть она познакомится с семьями, где ей предлагают жить. Это решит вопрос. Так будет справедливо, верно ведь?
— Сначала пойдем ко мне, — сказала Бернис.
Бернис жила в кондоминиуме «Буэнависта». Вертоградари не то чтобы владели зданием, потому что собственность — это зло, но каким-то образом его контролировали. Выцветшие золотые буквы над дверью гласили: «Роскошные лофты для современных людей», но я знала, что никакой роскоши тут нет и в помине: в квартире Бернис сток душа был засорен, кафель на кухне потрескался и зиял пустотами, как выбитыми зубами, в дождь капало с потолка, ванная комната была склизкой от плесени.
Мы трое вошли в вестибюль, где сидела вертоградарь-консьержка, женщина среднего возраста, — она распутывала нитки какого-то макраме и нас едва заметила. На этаж Бернис нам пришлось карабкаться по лестнице — шесть пролетов, — потому что вертоградари лифтов не признавали, разве что для стариков и паралитиков. На лестнице валялись запретные объекты — шприцы, использованные презервативы, ложки и огарки свеч. Вертоградари говорили, что в здание по ночам проникают жулики, сутенеры и убийцы из плебсвилля и устраивают на лестнице отвратительные оргии; мы никогда ничего такого не видели, только однажды поймали тут Шекки и Кроза с дружками — они допивали вино из найденных бутылок.
У Бернис был свой пластиключ; она открыла дверь и впустила нас. В квартире пахло, как пахнет нестираная одежда, если ее оставить под протекающей раковиной, или как хронический насморк других детей, или как пеленки. Через все эти запахи пробивался другой аромат — густой, плодородный, пряный, земляной. Может быть, он проникал по вентиляционным трубам из подвала, где вертоградари выращивали грибы на грядках.
Но казалось, что этот запах — все запахи — исходит от Ивоны, матери Бернис. Ивона сидела на истертом плюшевом диване, словно приросла к нему, и пялилась на стену. На ней, как всегда, было мешковатое платье; колени покрыты старым желтым детским одеяльцем; светлые волосы безжизненно свисали вокруг мучнисто-белого круглого мягкого лица; руки были неплотно сжаты в кулаки, словно кто-то переломал ей все пальцы. На полу красовалась россыпь грязных тарелок. Ивона не готовила: она ела то, что ей давал отец Бернис, или не ела. Но никогда не убирала. Она очень редко что-то говорила; вот и сейчас молчала. Правда, когда мы прошли мимо, у нее в глазах вроде бы что-то мелькнуло, так что, может, она нас и заметила.
— Что с ней такое? — шепотом спросила Аманда.
— Она под паром, — шепнула я в ответ.
— Да? — шепнула Аманда. — А с виду как будто совсем упоротая.
Моя собственная мать говорила, что мать Бернис «в депрессии». Но моя мать не настоящий вертоградарь, как вечно твердила мне Бернис, потому что настоящий вертоградарь никогда не скажет «в депрессии». Вертоградари считали, что люди, ведущие себя как Ивона, — они вроде поля под паром: отдыхают, уходят в себя, накапливая духовный опыт, собирая энергию к моменту, когда взорвутся ростом, как бутоны по весне. Это только снаружи кажется, что они ничего не делают. Некоторые вертоградари могли очень подолгу находиться «под паром».
— А где я буду спать? — спросила Аманда.
Мы осматривали комнату Бернис, когда явился Бэрт Шишка.
— Где моя маленькая девочка? — заорал он.
— Не отвечайте, — сказала Бернис. — Закройте дверь!
Мы слышали, как он ходит в большой комнате; потом он зашел к нам в комнату и схватил Бернис. Он стоял, держа ее под мышки на весу.
— Где моя маленькая девочка? — повторил он, и меня передернуло.
Я и раньше видела, как он это проделывает, и не только с Бернис. Он просто обожал хватать девочек за подмышки. Он мог зажать кого-нибудь из девочек за грядками с фасолью во время переселения улиток и притвориться, что помогает. А потом пустить в ход лапы. Он был такой мерзкий.
Бернис извивалась и корчила злобные гримасы.
— Я не твоя маленькая девочка! — заявила она, что могло означать: «Я не твоя», «Я не маленькая» или «Я не девочка».
Бэрт воспринял это как шутку.
— А где же тогда моя маленькая девочка? — сказал он упавшим голосом.
— Оставь меня в покое! — заорала Бернис.
Мне было жаль ее, и еще я понимала, как мне повезло: Зеб вызывал у меня разные чувства, но мне никогда не приходилось его стыдиться.
— Пойдем теперь к тебе, — сказала Аманда.
Так что мы двое снова спустились по лестнице, а Бернис, еще краснее и злее, чем обычно, осталась дома. Мне было жаль ее, но не настолько, чтобы отдать ей Аманду.
Люцерна не слишком обрадовалась, узнав про Аманду, но я сказала, что это приказ Адама Первого; так что она ничего не могла поделать.
— Она будет спать в твоей комнате, — строго сказала Люцерна.
— Она не против, — ответила я. — Да, Аманда?
— Конечно не против, — сказала Аманда.
Она умела говорить очень вежливо, но получалось так, что это она делает одолжение. Люцерну это задело.
— И ей больше нельзя носить эту ужасную крикливую одежду, — добавила Люцерна.
— Но это совсем новые вещи, — невинно заметила я. — Нельзя же их взять и выбросить! Это будет расточительство.
— Мы их продадим, — сказала Люцерна сквозь зубы. — Деньги нам пригодятся.
— Деньги нужно отдать Аманде, — заметила я. — Ведь это ее вещи.
— Я не возражаю, — тихо, но царственно произнесла Аманда. — Они мне ничего не стоили.
Потом мы пошли ко мне в закуток, сели на кровать и засмеялись, зажимая рот рукой.
Когда Зеб вернулся домой тем вечером, он ничего не сказал. Мы сели ужинать вместе, и Зеб, жуя запеканку из соевых гранул с зеленой фасолью, смотрел, как Аманда с серебряными пальцами, склонив грациозную шею, деликатно клюет свою порцию. Она еще не сняла перчаток. Наконец он сказал:
— А ты, однако, себе на уме!
Голос был дружелюбный — таким он говорил «молодец», когда я выигрывала в домино.
Люцерна, которая в этот момент накладывала ему добавку, застыла, и половник застыл над тарелкой, словно какой-то детектор металла. Аманда взглянула прямо в лицо Зебу, широко распахнув глаза.
— Простите, сэр, что вы сказали?
Зеб расхохотался.
— Да у тебя талант, — сказал он.
17
С тех пор как Аманда поселилась с нами, у меня словно появилась сестра, только еще лучше. Ее одели в одежду вертоградарей, так что она теперь с виду ничем не отличалась от нас и пахнуть скоро начала так же.
В первую неделю я водила ее и все показывала. Отвела ее в уксусную, в швейную, в спортзал «Крути-свет». Спортзалом заведовал Муги; мы прозвали его Мускул, потому что у него остался только один мускул. Но Аманда с ним все равно подружилась. Она умудрялась подружиться со всеми, потому что спрашивала у них, как надо делать то или это.
Бэрт Шишка объяснил ей, как переселять слизняков и улиток из сада: их надо было перебрасывать через перила на улицу. Предполагалось, что они уползут прочь и найдут себе новые дома, но я-то знала, что их тут же давит проезжающий транспорт. Катуро Гаечный Ключ, который чинил водоснабжение и все трубы, показал ей, как работает канализация.
Фило Туман ей почти ничего не сказал, но все время улыбался. Вертоградари постарше говорили, что он прешёл границы языка и ныне странствует с Духом, но Аманда сказала, что он просто нарик. Стюарт Шуруп, который делал нашу мебель из вторсырья, не очень любил людей вообще, но Аманда ему понравилась.
— Она хорошо чувствует дерево, — сказал он.
Аманда не любила шить, но притворялась, так что Сурья ее хвалила. Ребекка звала Аманду «миленькой» и говорила, что она умеет ценить вкус еды, а Нуэла восторгалась ее пением в хоре «Бутоны и почки». Даже Сухая ведьма — Тоби — светлела лицом при виде Аманды. Подлизаться к Тоби было труднее всего, но Аманда вдруг заинтересовалась грибами, помогала старой Пилар печатать пчел на этикетках для меда и тем завоевала сердце Тоби, хоть та и старалась этого не показывать.
— Что ты так ко всем подлизываешься? — спросила я у Аманды.
— А иначе ничего не узнаешь, — ответила она.
Мы многое друг другу рассказывали. Я рассказала ей про своего отца, про наш дом в охраняемом поселке «Здравайзера» и как моя мать убежала с Зебом.
— Надо думать, она по нему мокла, — сказала Аманда.
Мы шептались об этом в своем закутке, ночью, лежа совсем рядом с Зебом и Люцерной, так что не могли не слышать, как они занимаются сексом. До Аманды я считала, что это позор, но теперь думала, что это смешно, потому что Аманда так думала.
Аманда рассказала мне про засуху в Техасе — как ее родители потеряли свою франшизу «Благочашки» и не могли продать дом, потому что его никто не покупал, и работы не стало, и в итоге они оказались в лагере беженцев, где были старые трейлеры и куча текс-мексов. Потом очередной ураган уничтожил их трейлер, и отца убило летящим куском железа. Куча народу утонула, но Аманда с матерью держались за дерево, и их спасли какие-то люди в лодке. Они были воры, сказала Аманда, искали, что можно спереть, но сказали, что отвезут Аманду с матерью на сухую землю и в лагерь, если те согласны меняться.
— На что меняться? — спросила я.
— Просто меняться, — ответила Аманда.
Лагерь оказался футбольным стадионом, где разбили палатки. Там шла оживленная торговля: люди были готовы на что угодно за двадцать долларов, рассказывала Аманда. Потом мать заболела от плохой воды, а Аманда — нет, потому что менялась на газированную воду в банках и бутылках. И лекарств в лагере тоже не было, так что мать умерла.
— Многие просто срали, пока не сдохнут, — сказала Аманда. — Знала бы ты, как там пахло.
После этого Аманда сбежала из лагеря, потому что все больше народу заболевало, и никто не вывозил дерьмо и мусор, и еду тоже не привозили. Аманда сменила имя, потому что не хотела, чтобы ее отправили обратно на стадион: беженцев должны были сдавать внаем на разные работы, без права выбора. «Бесплатных пирожных не бывает», — говорили люди. За все так или иначе приходилось платить.
— А какое имя у тебя было раньше? — спросила я.
— Типичная белая рвань. Барб Джонс, — ответила Аманда. — Так по удостоверению личности. Но теперь у меня нету никакой личности. Так что я невидима.
Ее невидимость — еще одно качество, которое меня восхищало.
Тогда Аманда вместе с тысячами других людей пошла на север.
— Я пыталась голосовать, но меня подвез только один чувак. Сказал, что он разводит кур. Он сразу сунул руку мне между ног; если мужик этак странно дышит — так и знай, что сейчас полезет. Я придавила ему глазные яблоки большими пальцами и быстро выбралась из машины.
Она так рассказывала, словно в Греховном мире придавить большими пальцами чужие глазные яблоки было в порядке вещей. Я подумала, что хорошо бы этому научиться, но решила, что у меня не хватит духу.
— Потом мне надо было перебраться через стену, — сказала она.
— Какую стену?
— Ты что, новости не смотришь? Они строят стену, чтобы не пускать техасских беженцев. Одного забора из колючей проволоки оказалось недостаточно. Там были люди с пистолетами-распылителями — за стену отвечает ККБ. Но они не могут патрулировать каждый дюйм — дети текс-мексов знают все туннели, и они помогли мне перебраться на другую сторону.
— Тебя могли застрелить, — сказала я. — А что было потом?
— Потом я добралась сюда, отрабатывая всю дорогу. И еду, и барахло. Это дело небыстрое.
Я бы на ее месте просто легла в придорожную канаву и плакала, ожидая смерти. Но Аманда говорит: если человек чего-то по-настоящему хочет, он найдет способ это заполучить. Она говорит, что предаваться отчаянию — напрасная трата времени.
Я боялась, что другие дети вертоградарей невзлюбят Аманду: она ведь из плебратвы, а они наши враги. Бернис, конечно, ее ненавидела, но не смела этого показать, потому что все остальные в Аманде души не чаяли. Ведь никто из детей вертоградарей не умел танцевать, а Аманда прекрасно знала все движения — у нее бедра были как будто на шарнирах. Она учила меня танцевать, когда Люцерны и Зеба не было дома. Под музыку из своего фиолетового телефона — она прятала его в нашем матрасе, а когда карточка кончалась, воровала другую. Еще она прятала смену яркой плебсвилльской одежды и, когда нужно было украсть что-нибудь, переодевалась и шла в торговый центр Сточной Ямы.
Я видела, что Шеклтон, Крозье и все старшие мальчики в нее влюблены. Она была очень хорошенькая — с золотистой кожей, длинной шеей, большими глазами. Правда, мальчишки и хорошенькой девочке могли крикнуть: «Соси морковку!» или «Мясная дырка!» У них в запасе было множество отвратительных дразнилок для девочек.
Но не для Аманды: ее они уважали. Она носила при себе кусок стекла, замотанный с одной стороны изолентой — чтобы держать, и говорила, что он не единожды спас ей жизнь. Она показала нам, как ударить мужика в пах, как подставить ему ножку и потом пнуть под подбородок, чтобы сломать ему шею. Она сказала, что таких приемов, которые можно использовать, если что, — уйма.
Но в дни празднеств и на репетициях хора «Бутоны и почки» она была как будто самой набожной. Можно подумать, что ее в молоке искупали.[9]
Праздник Ковчегов
Праздник Ковчегов
Год десятый
Дорогие друзья и собратья-смертные!
Сегодня наши дети построили маленькие ковчеги и запустили их в ручей Дендрария, вложив в них свои послания об уважении к Господним тварям. Другие дети, может быть, получат эти послания, найдя ковчеги на морском берегу. В мире, который с каждым днем повергается во все более отчаянное положение, этот поступок — проявление истинной любви. Не будем забывать мудрое правило: чтоб избыть беду и муки, не сидите сложа руки!
Сегодня вечером трудами Ребекки нас ждет особый праздничный пир — вкуснейший суп из чечевицы, представляющий потоп, и в нем — клецки «Ноев ковчег», начиненные овощами, вырезанными в форме разных животных. В одной из клецок — сам Ной, вырезанный из репы, и тот, кто его найдет, получит особый приз, в назидание, что пищу надо вкушать с благоговением, а не пожирать без разбору.
Приз — картина кисти Нуэлы, нашей талантливой Евы Девятой: святой Брендан Мореплаватель с важными продуктами питания, которые нам следует включить в свои кладовые-Арараты для приготовления к Безводному потопу. В своей картине Нуэла уделила должное место консервированным сойдинам и соевым гранулам. Не будем же забывать о регулярном обновлении наших Араратов. Вы ведь не хотите в час нужды открыть банку с сойдинами и обнаружить, что продукт испортился.
Ивона, достойная супруга Бэрта, находится «под паром» и не может сегодня праздновать вместе с нами, но мы ждем, что скоро она снова присоединится к нам.
А теперь обратимся к сегодняшнему празднику — празднеству Ковчегов.
В этот день мы скорбим, но также и радуемся. Мы скорбим о гибели всех обитателей суши, уничтоженных Первым потопом — вымиранием, когда бы оно ни произошло; но мы рады, что Рыбы, и Киты, и Кораллы, и Морские черепахи, и Дельфины, и Морские ежи, и, воистину, Акулы выжили, — мы рады, что их пощадил потоп (хотя и не знаем: возможно, изменение температуры и солености Мирового океана, вызванное большим приливом пресной воды, нанесло вред каким-либо неизвестным нам Видам).
Мы скорбим о гибели, постигшей Животных. Очевидно, Господь намеревался покончить со многими Видами, о чем свидетельствуют палеонтологические находки, но многие другие Виды сохранились до нашего времени, и именно их Господь вновь вверил нашему попечению. Вы сами, создав прекрасную симфонию, разве захотели бы, чтобы она исчезла? Земля и ее стройный хор, Вселенная и ее гармония — это творческая работа Господа, которой творчество Человека является лишь бедной тенью.
Согласно Человеческому Слову Господа, задача спасения этих избранных Видов была поручена Ною, который символизирует избранных знающих среди Человечества. Ной один был предупрежден заранее; он один взял на себя прежнюю задачу Адама — хранить в безопасности возлюбленные Господом Виды, пока воды потопа не схлынут и Ковчег не пристанет к Арарату. Затем спасенные Твари были выпущены на Землю, яко бы после второго Творения.
При первом Творении все радовались, но при втором Господь уже не был столь доволен. Он знал, что с его последним экспериментом, Человеком, что-то вышло не так, но исправлять что-либо было уже поздно. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал», — гласит Человеческое Слово Господа в Книге Бытия, глава 8, стих 21.
Да, друзья мои! Все последующие проклятия на Землю будут делом не Божеским, но Человеческим. Вспомните о южных берегах Средиземного моря — когда-то там была плодородная возделанная земля, а теперь — пустыня. Вспомните об опустошениях в бассейне Амазонки; вспомните массовое уничтожение экосистем, из которых каждая — живое отражение бесконечной заботы Господа о деталях… но это темы для другого дня.
Затем Господь говорит замечательную вещь. Он говорит: «да страшатся и да трепещут вас» — то есть Людей — «все звери земные, и все птицы небесные… в ваши руки отданы они». Книга Бытия, глава 9, стих 2. Господь вовсе не говорит Человеку, что у того есть право уничтожать Животных, как толкуют этот стих некоторые. Нет, Он предупреждает своих возлюбленных Тварей: «Берегитесь Человека и его злого сердца».
Затем Бог устанавливает завет с Ноем и его сыновьями и «со всеми животными земными». Завет с Ноем помнят многие, а вот о Завете со всеми другими живыми Существами — забывают. Однако Господь не забывает. Он несколько раз повторяет «всякая плоть» и «всякая душа живая», чтобы мы уж точно все правильно поняли.
Завет, к примеру, с камнем невозможен. Для заключения Завета нужны как минимум две живые, дееспособные стороны. Следовательно, Животные — не неразумная материя, не просто куски мяса. Нет! У них есть живые души, иначе Господь не мог бы заключить с ними Завет. Человеческое Слово Господа подтверждает это еще раз: «спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; …и скажут тебе рыбы морские».[10]
Вспомним же сегодня Ноя, избранного заботиться о Видах. Мы, вертоградари, — коллективный Ной; нас также призвали и предупредили. Мы чувствуем симптомы надвигающейся катастрофы, как врач — пульс больного. Мы должны быть готовы к моменту, когда те, кто нарушил завет с Животными — воистину стер их с лица Земли, куда поместил их Господь, — будут сметены Безводным потопом, принесенным на крыльях темных Ангелов Божиих, что летают ночью, а также в аэропланах, вертолетах, скоростных поездах, на грузовиках и с помощью прочих подобных механизмов.
Но мы, вертоградари, будем хранить знания о Видах и о том, как они драгоценны для Господа. Мы должны перевезти это бесценное знание по водам Безводного потопа, словно в Ковчеге.
Друзья мои! Будем же строить наши Арараты бережно. Будем наполнять их предусмотрительно консервированными и сушеными продуктами. Замаскируем их хорошо.
Да избавит нас Господь от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит нас, и под крыльями Его да будем безопасны, как говорится в Псалме 90; не убоимся ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень.[11]
Хочу также напомнить вам о том, как важно мыть руки: не менее семи раз в день, а также после любой встречи с незнакомыми людьми. Никогда не рано начать следовать этой важной мере предосторожности.
Избегайте любого, кто чихает.
Воспоем же.
О тело, мой земной Ковчег
18
Тоби. День святого Крика
Год двадцать пятый
Убитый хряк все еще лежит на северном лугу. Грифы примеривались к нему, но не справились с толстой шкурой: выклевали только глаза и язык. Они ждут, пока туша разложится и лопнет, вот тогда им будет раздолье.
Тоби обращает бинокль к небу, на кружащихся ворон. Потом оглядывается и видит, что через лужайку идут два львагнца. Самец и самка, с таким видом, словно они тут хозяева. Они останавливаются у трупа и кратко принюхиваются. Потом продолжают свой путь.
Тоби смотрит на них как завороженная: она никогда не видела живого львагнца, только на картинках. Может, они мне чудятся? — думает она. Нет, вот они, львагнцы, вполне живые. Возможно, они из зоопарка — их выпустили какие-нибудь фанатики в последние отчаянные дни.
Львагнцы не опасны только с виду, а на самом деле — весьма. Сплайс львиных и овечьих генов заказали исаиане-львисты в надежде насильно приблизить Тысячелетнее Царство. Они решили, что единственный способ выполнить пророчество о мирном сосуществовании льва и агнца, так, чтобы первый не съел второго, — спаять их вместе. Но результат оказался не то чтобы вегетарианцем.
Все же у львагнцев — в кудрявом золотом руне, с курчавыми хвостиками — вполне кроткий вид. Они откусывают головки цветов и не глядят вверх; однако Тоби кажется, что они прекрасно знают о ее присутствии. Затем самец открывает пасть, показывая длинные острые резцы, и издает зов. Странное сочетание блеяния и рева: брёв, думает Тоби.
У нее по спине бегут мурашки. Ей вовсе не хочется, чтобы такой зверь прыгнул на нее из-за куста. Если ее судьба — быть растерзанной и пожранной, пусть это сделает более традиционный хищник. Но все же они потрясающие. Она смотрит, как они резвятся на травке, потом нюхают воздух и медленно удаляются к опушке леса, пропадают в пестрой тени.
Как Пилар была бы счастлива их увидеть, думает Тоби. Пилар, и Ребекка, и малышка Рен. И Адам Первый. И Зеб. Все умерли.
Хватит, говорит она себе. Прекрати немедленно.
Она осторожно, боком спускается по лестнице, опираясь для равновесия на палку от щетки. Она все еще ждет, до сих пор ждет, что двери лифта откроются, заморгают огоньки, задышит система кондиционирования воздуха… и кто-то… кто?.. выйдет из лифта.
Она идет по длинному коридору, тихо ступая по мягкому ковру, ворс которого становится все толще и толще. Мимо линии зеркал. В салоне красоты множество зеркал: клиенткам нужно все время напоминать при резком свете, как плохо они выглядят, а потом, при мягком — как хорошо они еще могут выглядеть при небольшой, хотя и недешевой, помощи. Но, побыв тут в одиночестве несколько недель, Тоби завесила зеркала розовыми полотенцами, чтобы не пугаться собственного отражения, перепрыгивающего из одной рамы в другую.
— Кто в домике живет? — вслух говорит она. И думает: «Не я. То, что я тут делаю, вряд ли можно назвать жизнью. Нет, я лежу в спячке, как бактерия в леднике. Тяну время. И это все».
Остаток утра она сидит в каком-то ступоре. Когда-то это была бы медитация, но сейчас — вряд ли. Похоже, что по временам парализующий гнев еще охватывает Тоби; эти приступы непредсказуемы. Начинается с неверия и кончается скорбью, но в промежутке между этими фазами Тоби вся трясется от гнева. Гнева на кого, на что? Почему она спаслась? Из бесчисленных миллионов. Почему не кто-нибудь другой, помоложе, с большим запасом оптимизма и свежих клеток? Тоби должна верить, что в этом есть смысл — она здесь, чтобы свидетельствовать, передать послание, спасти хоть что-то от всеобщей катастрофы. Должна верить, но не может.
Нельзя отводить столько времени на скорбь, говорит она себе. На скорбь и мрачные размышления. Этим ничего не добьешься.
Во время дневной жары Тоби спит. Перенести на ногах полуденную баню все равно не получится, только силы зря потратишь.
Тоби спит на массажном столе в одном из отсеков, где клиенткам салона делали всякие органическо-ботанические обертывания. Простыни розовые, подушки розовые, и одеяла тоже розовые — мягкие, ласкающие цвета, как для колыбельки младенца. Хотя одеяла Тоби не нужны, в такую-то погоду.
Просыпаться ей трудно. Надо бороться с апатией. Очень сильное желание — спать. Спать и спать. Спать вечно. Она не может жить лишь в настоящем, как куст. Но прошлое — закрытая дверь, а будущего Тоби не видит. Может, она так и будет тянуть день за днем, год за годом, пока не иссохнет, не сложится сама в себя, не высохнет, как старый паук.
Можно и сократить срок. У нее всегда под рукой маковая настойка в красной бутылочке, смертельные аманитовые грибочки,[12] маленькие Ангелы Смерти. Когда она выпустит их на свободу, в свое тело, чтобы они унесли ее на белоснежных крыльях?
Чтобы взбодриться, она открывает заветную баночку меда. Это последняя банка из партии меда, выкачанной ею так давно — еще вместе с Пилар — на крыше сада «Райский утес». Тоби хранила ее все эти годы, словно амулет. Мед не портится, говорила Пилар, если в него не добавлять воды: поэтому древние звали его пищей бессмертия.
Тоби глотает одну ложку ароматного меда, затем вторую. Его нелегко было собирать: окуривать ульи, осторожно вынимать соты, выкачивать мед. Эта работа требует деликатности и такта. С пчелами надо говорить, уговаривать их да еще на время отравить дымом: а иногда они жалят, но в памяти Тоби все это действо хранится как сплошное, незапятнанное счастье. Тоби знает, что это самообман, но самообман ей желаннее. Ей отчаянно нужно верить, что такое чистое счастье все еще возможно.
19
Постепенно Тоби перестала думать, что должна уйти от вертоградарей. Она не то чтобы уверовала в их учение, но уже не то чтобы и не верила. Одно время года переходило в другое — дожди и грозы, жара и сухость, прохлада и сухость, дожди и тепло, а потом один год сменялся другим. Тоби еще не стала вертоградарем, но и человеком из плебсвилля уже тоже не была. Была ни тем ни другим.
Теперь она осмеливалась выходить на улицу, но старалась не слишком удаляться от сада на крыше, прикрывала лицо и тело, надевала респиратор и широкую шляпу от солнца. Она все еще видела кошмарные сны с участием Бланко — змеи на руках, на спине безголовые женщины, прикованные цепями, освежеванные руки с синими венами тянутся к шее Тоби. «Скажи, что ты меня любишь! А ну скажи, сука!» В самые тяжелые моменты, среди наивысшего ужаса, наивысшей боли она сосредоточивалась на этих руках и представляла себе, как они отлетают у запястий. Сначала кисти, потом другие части тела. Серая кровь бьет фонтаном. Тоби представляла себе, как его заживо засовывают в контейнер для мусорнефти. Это были злобные мысли, и, попав к вертоградарям, Тоби честно старалась выбросить их из головы. Но они все время возвращались. Те, кто спал в отсеках рядом с ней, рассказывали, что иногда по ночам она, по их выражению, подает сигналы бедствия.
Адам Первый знал об этих сигналах. Со временем она поняла, что недооценивать его — большая ошибка. Хотя его борода к этому времени приобрела цвет невинности — белый, как перья птицы, — а голубые глаза были круглы и бесхитростны, как у младенца, хотя он казался таким доверчивым и уязвимым, Тоби знала, что не встретит другого столь же твердо идущего к цели человека. Он не размахивал этой целью как оружием; он парил внутри ее, и она сама его несла. С таким трудно сражаться: все равно что атаковать прилив.
— Он теперь в больболе, милая, — сказал Адам Первый как-то в ясную погоду, в День святого Менделя. — Может быть, его никогда не выпустят. Может быть, он распадется на элементы прямо там.
У Тоби затрепетало сердце.
— Что он сделал?
— Убил женщину, — ответил Адам Первый. — Неудачно выбрал. Женщину из корпорации, она пришла в плебсвилль в поисках острых ощущений. Лучше бы они этого не делали. На этот раз ККБ была вынуждена принять меры.
Тоби слышала про больбол. Туда сажали осужденных преступников — и политических, и других: у них был выбор — погибнуть под дулом пистолета-распылителя или отбыть срок на арене, где играли в больбол. На самом деле это была не арена, а что-то вроде огороженного леса. Человеку давали запас еды на две недели и больбольное ружье — оно стреляло краской, как в пейнтболе, но если эта краска попадала в глаза, человек лишался зрения, а если на кожу, то начинала ее разъедать, и человек становился легкой добычей головорезов из команды соперников. Потому что все, кто входил на арену, попадали в одну из двух команд: «Красную» или «Золотую».
Женщины-преступницы редко выбирали больбол. Они предпочитали пистолет-распылитель. Большинство политических — тоже. Они знали, что на больбольной арене у них не будет ни единого шанса, и хотели покончить с этим делом поскорее. Тоби их понимала.
Больбольную арену долго держали в секрете, как петушиные бои и «Испытание на разрыв». Но теперь, как говорили, за игрой можно было следить: в больбольном лесу висели видеокамеры, спрятанные на деревьях и в скалах, но в них часто ничего не было видно — рука, нога, расплывчатая тень, потому что игроки в больбол, естественно, прятались. Но время от времени можно было увидеть и попадание — прямо на экране. Человек, продержавшийся месяц, считался хорошим игроком. Больше месяца — очень хорошим. Некоторые подсаживались на адреналин и не хотели выходить, даже когда их срок кончался. Больболистов со стажем боялись даже сотрудники ККБ.
Некоторые команды вешали свою добычу на дереве, другие уродовали тело. Отрезали голову, вырывали сердце и почки. Это для запугивания другой команды. Иногда съедали кусок — если еда была на исходе или просто чтобы показать свою отмороженность. Тоби думает: через какое-то время человек не то что переходит границу, а забывает, что когда-то были какие-то границы. Он берет все, чего бы это ни стоило.
На миг ей видится Бланко — безголовый, висящий вверх ногами. Что она чувствует? Жалость? Торжество? Она сама не знает.
Она попросилась на всенощное бдение и провела его на коленях, стараясь слиться мыслями с грядкой зеленого горошка. Усики, цветы, листья, стручки. Все такое зеленое, безмятежное. Это почти помогло.
Однажды старуха Пилар, Ева Шестая, — у нее лицо было как грецкий орех — спросила Тоби, не хочет ли та научиться работе с пчелами. Пчелы и грибы — это была специальность Пилар. Пилар нравилась Тоби: она была с виду добрая и очень спокойная. Этому спокойствию Тоби завидовала. Поэтому она согласилась.
— Хорошо, — сказала Пилар. — Пчелам ты всегда можешь рассказать свои беды.
Значит, не только Адам Первый заметил, что у Тоби тяжело на душе.
Пилар сводила Тоби посмотреть на ульи и представила ее пчелам по имени.
— Они должны знать, что ты друг. Они слышат твой запах. Только не делай резких движений, — предупредила она, когда пчелы, словно золотистым мехом, покрыли голую руку Тоби. — В следующий раз они тебя узнают. А, да — если они будут жалить, не прихлопывай их. Только жало смахни. Но они жалят, только если их испугать, потому что, ужалив, они умирают.
У Пилар были нескончаемые запасы поверий о пчелах. Пчела в доме — к незнакомым гостям, а если убить эту пчелу, то гости будут недобрые. Если умер пчеловод, пчелам надо сказать об этом, иначе они отроятся и улетят. Медом можно мазать открытые раны. Рой пчел в мае — похолодает. Рой пчел в июне — к новолунью. Рой пчел в июле — не стоит пустого улья. Все пчелы в улье — все равно что одна пчела, поэтому они готовы умереть за улей.
— Как вертоградари, — сказала Пилар. Тоби не поняла, шутит она или говорит серьезно.
Пчелы сперва беспокоились при виде Тоби, но потом приняли ее. Они позволили ей самостоятельно выкачать мед и ужалили только два раза.
— Пчелы ошиблись, — сказала ей Пилар. — Ты должна попросить разрешения у пчелиной матки и объяснить ей, что ты не желаешь зла.
Пилар сказала, что говорить надо громко — пчелы не умеют читать мысли, точно так же, как и люди. Поэтому Тоби говорила с ними, хотя и чувствовала себя полной дурой. Что сказали бы прохожие там, внизу, на тротуаре, если бы увидели, что она беседует с роем пчел?
Если верить Пилар, пчелы во всем мире чахли уже несколько десятилетий. Может, от пестицидов, или от жаркой погоды, или от болезни, а может, от всего сразу. Но пчелы сада на крыше жили и здравствовали. Даже процветали.
— Они знают, что их любят, — сказала Пилар.
Тоби в этом сомневалась. Она во многом сомневалась. Но держала свои сомнения при себе, потому что слово «сомнение» было не очень популярно у вертоградарей.
Через некоторое время Пилар повела Тоби в сырые погреба «Буэнависты» и показала ей плантации грибов. Пчелы и грибы хорошо сочетаются, пояснила Пилар: пчелы в хороших отношениях с невидимым миром, ведь они — вестники мертвых. Она преподнесла этот безумный факт таким тоном, словно все об этом знали, одна Тоби по какой-то причине притворялась незнающей. Грибы — это розы в саду того, невидимого, мира, потому что настоящее растение гриба — под землей. А видимая часть — то, что большинство людей называет грибом, — лишь мимолетный призрак. Облачный цветок.
Тут были грибы для еды, грибы для лекарственных целей и грибы для видений. Последние использовались только для уединенных медитаций и недель в затворе, хотя и они подходили для лечения некоторых болезней и даже для того, чтобы помочь людям пережить время «под паром», когда душа заново удобряет себя. Пилар сказала, что любой человек может побыть «под паром». Но задерживаться в этой стадии очень опасно.
— Это все равно что спуститься по лестнице, — сказала она, — и никогда не подняться вновь. Но грибы помогают с этим справиться.
Пилар объяснила, что грибы делятся на три категории: неядовитые, «использовать осторожно» и «берегись!». Дождевики, любой вид: неядовиты. Псилоцибины: «использовать осторожно». Все аманиты, особенно бледная поганка, «Ангел Смерти»: «берегись!»
— Но ведь они очень опасны? — спросила Тоби.
Пилар кивнула.
— О да. Очень.
— Тогда зачем вы их растите?
— Если Господь создал ядовитые грибы, значит, Он предвидел, что нам иногда нужно будет их использовать, — ответила Пилар.
Пилар всегда была такая деликатная и добрая, что Тоби не поверила своим ушам.
— Неужели вы собираетесь кого-нибудь отравить? Не верю! — воскликнула Тоби.
Пилар посмотрела на нее в упор.
— Заранее никогда не скажешь, милая. Вдруг да и придется.
Теперь Тоби проводила все свободное время с Пилар — они ухаживали за пчелами, за гречихой и лавандой для пчел, посеянными на соседних крышах. Они выкачивали мед и заливали его в банки. На этикетках они ставили штамп с изображением пчелы, которым Пилар пользовалась вместо надписей. Несколько банок отложили для запаса еды в Арарате, созданном Пилар за выдвижным шлакобетонным блоком в подвале «Буэнависты». А еще они ухаживали за посевами маков, собирали густой сок маковых головок, копались на грядках грибов в погребе «Буэнависты», варили эликсиры, снадобья, жидкий медово-розовый лосьон для кожи, который продавали на рынке «Древо жизни».
Так проходило время. Тоби перестала его считать. В любом случае время — не такая вещь, которая проходит мимо тебя, говорила Пилар; это море, в котором ты плаваешь.
По ночам Тоби дышала собой. Своим новым «я». Ее кожа пахла медом и солью. И землей.
20
К вертоградарям все время приходили новички. Одни были настоящими новообращенными, а другие не задерживались. Какое-то время жили среди вертоградарей, носили те же мешковатые, скрывающие фигуру одежды, как у всех, выполняли самую тяжелую работу и, если это были женщины, иногда плакали. Потом исчезали. Это были люди из теней, и Адам Первый передвигал их в стране теней, словно шахматные фигуры по доске. Как и саму Тоби когда-то передвинул.
Впрочем, все это были догадки: Тоби скоро поняла, что вертоградари не приветствуют личных вопросов. Вертоградари словно говорили: откуда ты взялся, чем занимался раньше — это никого не интересует. Важно только то, что сейчас. Говори о других то, что ты хотел бы, чтобы они говорили о тебе. Иными словами — ничего.
Но у Тоби все равно осталась куча вопросов. Например: спала ли Нуэла когда-нибудь с кем-нибудь, а если нет, почему она все время кокетничает? Откуда Марушка-повитуха знает свое дело? Чем именно занимался Адам Первый до вертоградарей? Была ли когда-нибудь на свете Ева Первая, или хотя бы миссис Адам Первый, или маленькие Адамы Первые? Если Тоби в разговоре забредала на опасную территорию, ей улыбались, меняли тему разговора и намекали, что она может избежать первородного греха, если не будет вожделеть слишком многих знаний или, может быть, слишком большой власти. Потому что эти две вещи связаны между собой — правда ведь, Тоби, дорогая?
И еще был Зеб. Адам Седьмой. Тоби не верила, что Зеб — настоящий вертоградарь. Он такой же вертоградарь, как она сама. В эпоху «Секрет-бургера» она перевидала кучу мужчин примерно такого же телосложения и волосатости. Тоби готова была поклясться, что он ведет какую-то игру: в нем была особая настороженность. Что делает такой человек в саду на крыше «Райский утес»?
Зеб приходил и уходил; иногда его не было подолгу, и возвращался он, одетый как житель плебсвилля: в искожаный наряд солнцебайкера, или комбинезон дворника, или черный костюм вышибалы. Сперва Тоби боялась, что он сообщник Бланко и пришел, чтобы следить за ней, но это оказалось не так. Дети прозвали его Безумный Адам, но с виду он был вполне нормален. Пожалуй, чуточку слишком нормален, чтобы якшаться с кучкой милых, но совершенно тронутых чудаков. А что связывало его с Люцерной? На ней было большими буквами написано, что она — балованная жена из охраняемого поселка; надувает губы, если ей случится сломать ноготь. Очень маловероятный выбор для такого человека, как Зеб. Таких людей пуля боится, говорили в детстве Тоби, когда пули еще были чем-то обычным.
Может быть, конечно, их связывал секс. Мираж плоти, безумие с гормональной подпиткой. Такое со многими бывает. Тоби помнила время, когда и с ней могло такое случиться, подвернись ей правильный мужчина. Но чем дольше она жила у вертоградарей, тем дальше это уходило в прошлое.
Она давно не была ни с кем физически близка и не страдала от этого: во время погружения в Отстойник она хлебнула секса досыта, хотя и такого, какого никто себе не пожелает. Свобода от Бланко дорогого стоила. Тоби повезло: ее могли затрахать до состояния пюре, измолотить в фарш и вывалить на ближайшую помойку.
Впрочем, и за время ее жизни у вертоградарей был один случай, связанный с сексом: старый Муги Мускул набросился на нее, когда она отрабатывала свой час на тренажере в зале «Крути-свет», бывшей общественной гостиной на верхнем этаже кондоминиума «Бульвар». Муги стащил ее с тренажера на пол, тяжело упал сверху и стал шарить под джинсовой юбкой, пыхтя, как неисправный насос. Но от таскания земли и карабканья по лестницам Тоби окрепла, а Муги был уже не в той форме, что когда-то, и Тоби заехала ему локтем, сбросила с себя и оставила пыхтеть на полу.
Она рассказала об этом Пилар — к тому времени она уже привыкла рассказывать ей все непонятное.
— Что мне делать? — спросила она.
— Мы не поднимаем шума из-за таких вещей, — ответила Пилар. — Муги на самом деле безобидный. Ты не одна такая — он на всех пытается прыгать, даже на меня пробовал, много лет назад.
Она сухо хихикнула.
— Древний австралопитек может проявиться в ком угодно. Прости его от чистого сердца. Он больше не будет, вот увидишь.
Вот и весь секс. Может, это временно, думала Тоби. Может, это как затекшая рука. Нервные окончания, отвечающие за секс, блокированы. Но почему же меня это не волнует?
Был День святой Марии Сибиллы Мериан от Метаморфозы насекомых — согласно поверью, хороший день для работы с пчелами. Тоби и Пилар качали мед. Обе были в широкополых шляпах с лицевой сеткой; для задымления они использовали мехи и кусок трухлявого дерева.
— Скажи, а твои родители — они еще живы? — спросила Пилар из-за белой вуали.
Такой вопрос в лоб, нехарактерный для вертоградарей, удивил Тоби. Но наверное, у Пилар были веские причины. Тоби не смогла заговорить об отце и вместо этого рассказала Пилар о таинственной болезни матери. Страннее всего, сказала она, было то, что мать всегда так заботилась о своем здоровье; можно сказать, по весу она уже наполовину состояла из биодобавок.
— Скажи, какие биодобавки она пила? — спросила Пилар.
— Она держала франшизу «Здравайзера», так что их продукт и принимала.
— «Здравайзер», — повторила Пилар. — Да. Мы о таком и раньше слыхали.
— О чем? — переспросила Тоби.
— О такой болезни в связи с этими добавками. Неудивительно, что люди из «Здравайзера» сами вызвались ее лечить.
— Что вы хотите сказать? — спросила Тоби.
Ей стало холодно, хотя утреннее солнце уже палило вовсю.
— Тебе не приходило в голову, что твоя мать была подопытным кроликом?
Раньше Тоби действительно такое не приходило в голову, зато сейчас пришло.
— Я вроде как подозревала, — сказала она. — Не насчет добавок, но… Я думала, это застройщик, который хотел заполучить папину землю. Я решила, что, может быть, они что-то подсыпали в колодец.
— Тогда вы все заболели бы, — ответила Пилар. — А теперь поклянись мне, что никогда не будешь принимать никаких лекарств производства корпораций. Никогда не покупай таких лекарств и никогда не бери их из чужих рук, что бы эти люди ни говорили. Они будут ссылаться на данные, на ученых; они приведут докторов — все вранье, их всех купили.
— Не может быть, чтобы всех! — воскликнула Тоби. Ее поразила ярость Пилар, обычно такой спокойной.
— Нет, — ответила Пилар. — Не всех. Но всех, кто продолжает работать с любой из корпораций. А остальные… кто-то из них скоропостижно умер. Но те, кто еще жив… те, у кого осталась хоть капля врачебной этики…
Она помолчала.
— Такие врачи еще есть. Но они не работают на корпорации.
— Где же они? — спросила Тоби.
— Некоторые — здесь, с нами, — ответила Пилар. И улыбнулась. — Катуро Гаечный Ключ раньше был врачом по внутренним болезням. У нас он занимается водопроводом. Сурья была хирургом-офтальмологом. Стюарт — онкологом. Марушка — гинекологом.
— А другие врачи? Те, которые не здесь?
— Скажем так: они в другом месте, в безопасности, — сказала Пилар. — Пока что. А теперь, милая, обещай мне. Эти лекарства из корпораций — пища мертвых. Не наших мертвых, а других, мерзких и опасных. Мертвых, которые еще живы. Мы должны научить детей избегать таких лекарств: они — чистое зло. Это не догмат веры, мы просто это знаем.
— Но почему же вы в этом так уверены? — спросила Тоби. — Корпорации… никто ведь не знает, чем они занимаются. Они сидят у себя за заборами в охраняемых поселках, и оттуда ничто не выходит наружу…
— Ты не представляешь, — сказала Пилар. — Еще не построен такой корабль, в котором рано или поздно не открылась бы течь. А теперь поклянись.
Тоби поклялась.
— Однажды, когда ты станешь Евой, то поймешь гораздо больше.
— Ой, мне никогда не стать Евой, — легкомысленно ответила Тоби.
Пилар улыбнулась.
В тот же день — чуть позже, когда Пилар и Тоби уже выкачали мед и Пилар благодарила улей и пчелиную матку за помощь, — по пожарной лестнице поднялся Зеб. На нем была черная искожаная куртка, любимая одежда солнцебайкеров. Солнцебайкеры делали в куртках прорези — для вентиляции во время езды, но в куртке Зеба разрезов было слишком много.
— Что случилось? — спросила Тоби. — Чем тебе помочь?
Зеб прижимал корявые короткопалые руки к животу; меж пальцев сочилась кровь. Тоби слегка замутило. В то же время она чуть не сказала: «Не капай на пчел».
— Упал и порезался, — ответил Зеб. — На битое стекло.
Он тяжело дышал.
— Не верю, — сказала Тоби.
— Я так и думал, что ты не поверишь, — ухмыльнулся Зеб. — Вот, — обратился он к Пилар. — Тебе подарочек. Из самого «Секрет-бургера».
Он сунул руку в карман искожаной куртки и вытащил горсть мясного фарша. У Тоби мелькнула жуткая мысль, что это часть самого Зеба, но Пилар улыбнулась.
— Спасибо, милый, — сказала она. — На тебя всегда можно положиться! Тоби, найди Ребекку и попроси ее принести чистых кухонных полотенец. И Катуро. Его тоже попроси.
Вид крови ее словно бы и не взволновал.
«Сколько лет мне нужно прожить, чтобы достичь такого спокойствия?» — спросила себя Тоби. Ей казалось, что это ей вспороли живот.
21
Пилар и Тоби отвели Зеба в лазарет для находящихся «под паром». Это была хижина в северо-западном углу сада на крыше. Вертоградари использовали ее во время бдений, и еще здесь жили те, кто выходил из состояния «под паром», и среднетяжелые больные. Пока Пилар и Тоби помогали Зебу лечь, из сарая в дальнем конце сада вышла Ребекка со стопкой посудных полотенец в руках.
— Кто это тебя? — спросила она. — Это стеклом! Бутылками дрались?
Пришел Катуро, отлепил куртку от живота Зеба и осмотрел его взглядом профессионала.
— По ребрам пошло, — сказал он. — Тебя порезали, а не пырнули. Глубоких проколов нет — считай, повезло.
Пилар протянула Тоби горсть фарша.
— Это для опарышей, — сказала она. — Сделай, пожалуйста, все, что нужно.
Судя по запаху, мясо уже подтухло. Тоби завернула его в марлю из «Велнесс-клиники» — она видела, как это делает Пилар, — и спустила узелок на веревочке с крыши. Через пару дней мухи отложат туда яйца, из яиц выведутся личинки, и тогда она втянет узел обратно и соберет опарышей, потому что где тухлое мясо, там и они. Пилар всегда держала наготове опарышей для лечебных нужд, но Тоби еще не видела их в действии. По словам Пилар, лечение опарышами — древний метод. Его списали со счетов как устаревший, вместе с пиявками и кровопусканием, но во время Первой мировой войны врачи заметили, что раны у солдат заживают быстрее, если в них заводятся опарыши. Эти полезные создания не только ели отмирающую плоть, но и убивали гнилостные бактерии, а потому замечательно помогали предотвратить гангрену.
Опарыши в ране создают приятное ощущение — покусывают, словно мелкие рыбки, — но за ними надо внимательно следить: если кончится мертвое мясо, они вторгнутся в живую плоть, причиняя боль и вызывая кровотечение. Если этого не допускать, рана заживет чисто.
Пилар и Катуро промыли раны Зеба уксусом и смазали медом. Кровь перестала идти, но Зеб все еще был бледен. Тоби принесла ему настой сумаха. Катуро сказал, что стекло, которым дерутся в плебсвиллях, чудовищно инфицировано, так что лучше сразу приложить опарышей, чтобы избежать заражения крови. Пилар взяла припасенных ею опарышей, пинцетом переложила в марлю, сложенную вдвое, и прибинтовала марлю к Зебу. Пока опарыши прогрызут марлю, рана Зеба уже загноится настолько, чтобы их привлечь.
— Кто-нибудь должен сторожить опарышей, — сказала Пилар. — Круглые сутки. Чтобы они не съели нашего дорогого Зеба.
— И чтобы я их не съел, — сказал Зеб. — Сухопутные креветки. То же строение тела. Очень вкусные в поджаренном виде. Отличный источник липидов.
Он старался держаться, но голос у него был слабый.
Тоби взяла на себя первые пять часов вахты. Адам Первый узнал про Зеба и пришел его навестить.
— Скрытность — лучшая доблесть, — с упреком сказал он.
— Ну, их было слишком много, — ответил Зеб. — И то трое наверняка теперь в больнице.
— Гордиться тут нечем, — сказал Адам Первый.
Зеб нахмурился.
— Орудие пехотинцев — ноги, — заметил он. — Потому я ношу ботинки.
— Мы это обсудим позже, когда тебе станет лучше, — ответил Адам Первый.
— Мне и сейчас хорошо, — огрызнулся Зеб.
Впорхнула Нуэла, которая должна была сменить Тоби на посту.
— Ты сделала ему отвар ивы? — спросила она. — Ой, я так ненавижу этих опарышей! Дай-ка я подложу тебе подушку под спину! А можно поднять сетку? Нам нужен ветерок! Зеб, это у тебя такое «Предотвращение кровопролития в городе»? Ах, какой ты нехороший!
Она щебетала, и Тоби захотелось ее пнуть.
Следом, вытирая слезы, явилась Люцерна.
— Какой ужас! Что случилось, кто…
— Ой, он так нехорошо себя вел! — заговорщически шепнула Нуэла. — Правда, Зеб? Подрался с людьми из плебсвилля!
В ее шепоте слышался восторг.
— Тоби, — спросила Люцерна, игнорируя Нуэлу, — насколько это серьезно? Он… он…
Она держалась словно актриса старинного телевидения, играющая сцену у смертного одра.
— Я в порядке, — ответил Зеб. — Беги по своим делам и оставь меня в покое.
Он сказал, чтобы его никто не дергал. Кроме Пилар. И Катуро, но только при крайней необходимости. И Тоби, потому что она хотя бы молчит. Люцерна ушла, заливаясь злыми слезами, но тут Тоби ничего не могла поделать.
Слухи заменяли вертоградарям ежедневные новости. Старшие мальчики скоро узнали о битве Зеба — стычка уже превратилась в битву, — и на следующий день Шеклтон с Крозье пришли его навестить. Он спал — Тоби подлила в ивовый отвар настой маковых головок, — так что мальчишки ходили вокруг него на цыпочках, переговариваясь шепотом и пытаясь разглядеть его рану.
— Он однажды съел медведя, — сказал Шеклтон. — Когда был полярным летчиком. Тогда они пытались спасать полярных медведей. Его самолет разбился, и он пошел пешком — и шел несколько месяцев!
У старших мальчиков было много подобных героических историй про Зеба.
— Он рассказывал, что медведь с ободранной шкурой выглядит точь-в-точь как человек.
— Он съел своего второго пилота. Правда, когда тот уже умер, — сказал Крозье.
— А можно посмотреть на опарышей?
— У него гангрена, да?
— Ганг! Рена! — завопил маленький Оутс, который притащился хвостом за братьями.
— Заткнись!
— Ой! Мясоед!
— А ну марш отсюда! — сказала Тоби. — Зебу… Адаму Седьмому нужно отдыхать.
Адам Первый был твердо уверен, что Шеклтон, Крозье и юный Оутс вырастут хорошими людьми, но Тоби все же сомневалась. Предполагалось, что Фило Туман заменяет им отца, но до него не всегда можно было достучаться.
Пилар взяла на себя ночные вахты: она сказала, что все равно мало спит. Нуэла вызвалась дежурить по утрам. Тоби заняла вторую половину дня. Она проверяла опарышей каждый час. Температуры у Зеба не было, и кровь не шла.
Пойдя на поправку, Зеб заскучал, и Тоби стала играть с ним в домино, потом в криббедж и, наконец, в шахматы. Шахматы принадлежали Пилар: черные были муравьями, а белые — пчелами; Пилар сама вырезала фигуры.
— Раньше люди думали, что пчелиная матка — на самом деле король пчел, — говорила она. — Потому что стоит убить матку, и остальные пчелы не знают, куда им деваться. Потому и шахматный король не очень много ходит по доске — все оттого, что пчелиная матка все время проводит в улье.
Тоби сомневалась: разве правда, что пчелиная матка никогда не выходит из улья? Кроме роения, конечно, и брачных полетов… Тоби смотрела на доску, пытаясь уловить комбинацию. Сквозь стену хижины доносился голос Нуэлы и чириканье мелких детей.
— Пять чувств, которыми мы постигаем мир… зрение, слух, осязание, обоняние, вкус… чем мы чувствуем вкус? Правильно… Оутс, перестань лизать мелиссу. А теперь уберите свои языки в коробочки для языков и захлопните крышку…
У Тоби возник образ… нет, вкус. Она словно чувствовала языком кожу Зебовой руки, ощущала ее соленый вкус…
— Шах и мат, — сказал Зеб. — Муравьи снова выиграли.
Зеб всегда играл муравьями, чтобы дать Тоби преимущество первого хода.
— Ой, — сказала Тоби. — А я и не заметила.
Она задумалась о том, нет ли чего между Нуэлой и Зебом, — недостойная мысль. Нуэла, хоть и слишком толстая, была цветущей женщиной со странно младенческим личиком. Некоторых мужчин это привлекает.
Зеб смахнул фигуры с доски и принялся их опять расставлять.
— Сделаешь мне одолжение? — спросил он. Ответа он ждать не стал.
Он сказал, что у Люцерны часто болит голова. Голос был нейтральный, но в нем звучало что-то такое, отчего Тоби показалось, что, может быть, эти головные боли на самом деле выдумка; а если нет, то, может быть, они все равно наводят на Зеба скуку. Может, Тоби как-нибудь зайдет к Люцерне со своими зельями, когда у той будет очередная мигрень? И посмотрит, что тут можно сделать. Потому что сам Зеб точно ничем не может помочь, если у Люцерны гормоны разыгрались. Если это, конечно, гормоны виноваты.
— Она меня пилит, — сказал он. — За то, что меня подолгу не бывает. Она из-за этого ревнует.
Он расплылся в акульей ухмылке.
— Может, она хоть тебя послушает.
Так, подумала Тоби. «Все цветы мне надоели…» И цветку это совершенно не нравится.
22
Был День святого Аллана Спэрроу от Свежего воздуха; и пока что этот день не соответствовал своему названию. Тоби лавировала по запруженным улицам плебсвилля, пряча под мешковатым плащом сумку сушеных трав и бутылочек со снадобьями. Послеобеденная гроза слегка очистила воздух от пыли и взвесей, но Тоби не стала снимать респиратор — в честь святого Спэрроу. Согласно обычаю.
Она уже не так боялась ходить по улицам, с тех пор как Бланко посадили в больбол, но все равно никогда не прогуливалась и нигде не задерживалась, хотя, помня инструкции Зеба, и не бежала. Лучше всего идти быстро, словно по важному делу. Прохожие пялились на нее, выкрикивали гадости про вертоградарей, но Тоби не обращала внимания, только была настороже на случай внезапных резких движений или если кто-нибудь подойдет слишком близко. Однажды плебратва выхватила у нее грибы; к счастью для грабителей, в тот раз Тоби не несла ничего смертельно ядовитого.
Она шла к «Сыроварне», выполняя просьбу Зеба. Это был уже третий раз. Если Люцерна не играет на публику и у нее действительно головные боли, суперсильные снотворно-болеутоляющие таблетки производства «Здравайзера» так или иначе решили бы проблему — либо вылечив Люцерну, либо убив ее. Но лекарства корпораций были табу среди вертоградарей, и Тоби использовала экстракт ивы и валериану с небольшой добавкой мака; совсем небольшой, так как он вызывает привыкание.
— Что это? — каждый раз спрашивала Люцерна, когда Тоби приносила лекарство. — У Пилар получается вкуснее.
Тоби не позволяла себе сказать, что это Пилар и готовила, — только уговаривала Люцерну выпить лекарство, а потом садилась у изголовья и старалась уйти в себя, чтобы не слышать ее нытья.
У вертоградарей считалось, что лучше не распространяться о своих личных проблемах: здесь не любили тех, кто вываливает свой душевный мусор на других. Как учила малышей Нуэла, жизнь можно пить из двух разных чашек: на одной написано «Нет», на другой «Да». Может быть, в эти чашки налито одно и то же, но вкус — совершенно разный!
Таково было жизненное кредо вертоградарей. Люцерна выучила их лозунги наизусть, но близко к сердцу не приняла: Тоби чуяла фальшивку, ведь она и сама была такой же фальшивкой. Стоило Тоби принять позу сестры милосердия, как все, что зрело у Люцерны в душе, фонтаном гноя вырывалось наружу. Тоби кивала и молчала, надеясь, что это похоже на сочувствие. На самом деле она в это время обдумывала, сколько капель макового настоя вырубят Люцерну раньше, чем сама Тоби поддастся своим худшим порывам и придушит ее.
Быстро шагая по улице, Тоби уже предвидела жалобы Люцерны. Если та не изменит привычной схеме, жалобы будут касаться Зеба: почему его вечно нет рядом, когда Люцерна в нем нуждается? Как она вообще оказалась тут, в этом антисанитарном сточном баке, с кучкой мечтателей, совершенно ничего не понимающих в этой жизни, — «Я не про тебя, Тоби, ты еще хоть что-то соображаешь». Она тут погребена заживо с эгоистическим чудовищем, с мужчиной, который заботится только о собственных нуждах. С ним разговаривать — все равно что с картошкой — нет, с камнем. Он тебя не слышит и никогда не делится своими мыслями, он твердый, как кремень.
А ведь Люцерна пыталась. Она хотела бережно относиться к природе, она действительно верит, что Адам Первый во многом прав, она искренне любит животных, не меньше, чем кто другой, но всему есть предел, и, например, она ни на секунду не поверит, что у слизняков есть центральная нервная система, а уж сказать, что у них есть душа, — значит издеваться над самой идеей души, а это Люцерне глубоко неприятно, потому что она искренне уважает понятие души, она всегда была очень духовным человеком. Что же до спасения мира, она тоже хочет спасать мир, не хуже кого другого, но сколько бы вертоградари ни лишали себя нормальной еды и одежды, и даже мытья, подумать только, и сколько бы ни ощущали себя добродетельнее других, это на самом деле ничего не изменит. Они только уподобляются тем людям, которые хлестали себя кнутами в Средние века, — этим… флагрантам.
— Флагеллянтам, — поправила Тоби, когда эта тема всплыла в первый раз.
Тогда Люцерна сказала, что ничего такого не хотела сказать про вертоградарей, а просто была не в духе из-за мигрени. И еще потому, что вертоградари смотрят на нее свысока: ведь она из корпорации, да еще бросила мужа и сбежала с Зебом. Вертоградари ей не доверяют. Они думают, что она шлюха. Они грязно шутят про нее за глаза. Во всяком случае, дети. Правда ведь?
— Дети грязно шутят про всех, — ответила Тоби. — В том числе и про меня.
— Про тебя? — воскликнула Люцерна, широко раскрыв большие глаза с темными ресницами. — Про тебя-то с чего вдруг?
Это следовало понимать так: «В тебе ведь нет ничего сексуального. Плоская как доска, что спереди, что сзади. Рабочая пчела».
Тут были свои плюсы: по крайней мере, к ней Люцерна ревновать не будет. Этим Тоби выделялась среди других женщин-вертоградарей.
— Они не смотрят на тебя свысока, — сказала Тоби. — Они не думают, что ты шлюха. А теперь расслабься, закрой глаза и представь себе, как ива течет по твоему телу, в голову, туда, где прячется боль.
Вертоградари действительно не смотрели на Люцерну свысока, а если и смотрели, то совсем по другому поводу. Они могли недолюбливать ее за вечные старания увильнуть от работы, за то, что она так и не научилась резать морковку, они могли презирать ее за беспорядок в доме, за ее жалкие попытки растить помидоры на подоконнике, за то, что она столько времени проводит в постели. Но на ее неверность, или супружескую измену, или как там это называется, им было наплевать.
Все потому, что вертоградарей не интересовали свидетельства о браке. Вертоградари поощряли верность членов пары друг другу, но нигде не написано, что первый Адам и первая Ева зарегистрировали свой брак. Поэтому, по мнению вертоградарей, ни священнослужители других религий, ни какие-либо светские чиновники не имели права соединять людей узами брака. Что же до ККБ, та поощряла официальные браки лишь как предлог для фиксации рисунка роговицы глаза, отпечатков пальцев и ДНК — все для того, чтобы лучше выследить тебя, моя радость. Во всяком случае, так утверждали вертоградари, и этому утверждению Тоби готова была поверить безоговорочно.
Свадьбы самих вертоградарей были просты. Оба участника должны были при свидетелях объявить, что любят друг друга. Они обменивались зелеными листьями, символизирующими рост и плодородие, и прыгали через костер, символизирующий энергию Вселенной, после чего объявляли себя супругами и отправлялись в постель. При разводе все проделывали в обратном порядке: публично заявляли, что не любят друг друга и разводятся, обменивались сухими прутьями и наспех перескакивали через кострище из остывшего пепла.
Люцерна каждый раз жаловалась — если Тоби не успевала вовремя влить в нее маковое зелье, — что Зеб так и не предложил ей пройти церемонию с листьями и костром.
— Я-то понимаю, что это все равно ничего не значит, — говорила она. — Но он, похоже, думает, что значит, ведь он один из них, верно? Значит, если он этого не делает, он отказывается иметь со мной серьезные отношения. Правда же?
— Я не умею читать мысли, — отвечала Тоби.
— Но будь ты на моем месте, тебе не показалось бы, что он хочет увильнуть от ответственности?
— А может быть, лучше его самого спросить? — говорила Тоби. — Спросить, почему он не…
Можно ли в этом случае сказать «сделал предложение»?
— Он только рассердится, — вздыхала в ответ Люцерна. — Когда мы только познакомились, он был совсем другой!
И вслед за этим Тоби в очередной раз выслушивала историю Люцерны и Зеба, которую Люцерне никогда не надоедало рассказывать.
23
Вот что рассказывала Люцерна. Она и Зеб встретились в парке салона красоты «НоваТы» — Тоби там бывала? А, ну ладно. В общем, это фантастическое место — лучше не придумаешь, чтобы расслабиться и привести себя в порядок. Салон тогда только открылся, и на территории еще шли работы. Фонтаны, газоны, сады, кустарники. Люмирозы. Правда, люмирозы такие потрясающие? Тоби их никогда не видела? А, ну что ж, может, когда-нибудь еще…
Люцерна обожала вставать на рассвете, она тогда была ранней пташкой, и любоваться восходом; это потому, что она всегда была так чувствительна к цвету и свету и в своих домах — ну в тех, которые она сама оформляла, — всегда уделяла очень-очень много внимания эстетике. Она всегда старалась сделать хотя бы одну комнату в рассветной гамме — рассветную комнату, так она про себя это называла.
И еще она тогда ужасно страдала. Правда, ужасно, ужасно страдала, ведь ее муж был холоден как могила, и они больше не занимались любовью, потому что он с головой ушел в работу. А она же такая чувственная, всегда была такая чувственная, и ее чувственная натура просто чахла. А это ужасно вредно для здоровья, особенно для иммунной системы. Она сама об этом читала!
Вот она и бродила на рассвете в розовом кимоно, со слезами на глазах, и обдумывала, как бы развестись со здравайзеровским мужем или хотя бы разъехаться с ним, хотя и понимала, что для Рен это не лучший вариант, Рен тогда была еще совсем маленькая и любила отца, хоть он и ей тоже не уделял внимания. И вдруг рядом оказался Зеб, в лучах восходящего солнца, как… как видение, один-одинешенек, он сажал люмирозы. Это такие розы, которые светятся в темноте, и у них такой божественный запах… Тоби не знает, как пахнут люмирозы? Да, Люцерна ничего другого и не ожидала, ведь вертоградари смертельные враги всего нового… в общем, розы были очень красивые.
Так что она увидела в рассветных лучах коленопреклоненного мужчину, держащего в руках букет словно из живых углей.
Тоби подумала: ну конечно, какая страдающая женщина устоит перед мужчиной, у которого в одной руке лопата, а в другой пылающий розовый куст, а в глазах умеренно сумасшедший блеск, который можно принять за любовь? Зеба тоже можно понять: привлекательная женщина в розовом кимоно… не очень плотно запахнутом розовом кимоно… на лужайке, в жемчужных лучах рассвета, да еще и плачущая. Потому что Люцерна была привлекательной. Даже когда ныла, а в другом состоянии Тоби ее почти и не видала.
Люцерна перепорхнула через газон, ощущая голыми ногами холодную мокрую траву, ощущая, как скользит материя кимоно по голым бедрам, как сильно натянут пояс кимоно и как просторно в нем ключицам. Кимоно развевалось на ветру, как волны. Она остановилась перед Зебом, который следил за ее приближением, словно он моряк, сброшенный за борт по ошибке, а она — либо русалка, либо акула. (Эти образы возникали в голове у самой Тоби: Люцерна же говорила, что ее влекла Судьба.) Они оба так остро осознавали, говорила она Тоби; она всегда остро осознавала осознание других людей, как кошка, или… у нее такой дар, а может быть, проклятие… и поэтому она знала. Поэтому она сердцем чуяла, что чувствует Зеб, глядя на нее. Чувства совершенно поглотили их!
Это невозможно объяснить словами, заявляла она, как будто с самой Тоби никогда не могло произойти ничего подобного.
В общем, так они стояли, хотя уже предвидели, что сейчас случится — неминуемо должно случиться. Страх и похоть толкнули их к друг другу и в то же время разделили их.
Правда, Люцерна не называла это похотью. Она говорила «влечение».
В этот момент перед мысленным взором Тоби обычно возникал набор для соли и перца, когда-то стоявший на обеденном столе в доме ее родителей: фарфоровые курочка и петушок. В курочке была соль, а в петушке — перец. Солонка-Люцерна встала перед Зебом-перечницей, улыбаясь и глядя на него снизу вверх, и задала ему простой вопрос — сколько тут всего розовых кустов, или что-то такое, она сама не помнила, так ее заворожили Зебовы… Тут Тоби решительно отключалась, потому что не хотела слушать про бицепсы, трицепсы и прочие Зебовы мускулистые прелести. Разве она сама равнодушна к ним? Ничего подобного. Значит, она ревнует, когда слышит эту историю? Да. Мы должны всегда помнить о собственных животных наклонностях, говорил Адам Первый.
И тогда, говорила Люцерна, возвращая Тоби обратно в сюжет, — и тогда произошла странная вещь: она узнала Зеба.
— Я вас раньше видела, — сказала она. — Вы ведь работали в «Здравайзере»? Но вы тогда не были садовником! Вы…
— Ошибка, — сказал Зеб. И вдруг поцеловал ее.
Этот поцелуй пронзил ее, как нож, и она упала к Зебу в объятия, как… как дохлая рыба… нет, как нижняя юбка… нет, как мокрая туалетная бумага! И тут он подхватил ее на руки, и уложил на траву, прямо тут же, где кто угодно мог увидеть, и развязал ей кимоно, и ободрал лепестки со своих роз, и рассыпал по ее телу, а потом они… Это было как столкновение на большой скорости, рассказывала Люцерна, и тогда она подумала: «Как я это переживу? Я умру прямо тут, прямо сейчас!» И она точно знала, что он чувствует то же самое.
Позже — намного позже, когда они уже жили вместе, — он сказал, что она была права. Да, он действительно работал в «Здравайзере», но по причинам, о которых он не хочет говорить, ему пришлось оттуда срочно убраться, и он надеется, что Люцерна никому не расскажет, где и когда видела его раньше. И Люцерна никому не рассказывала. Во всяком случае, мало кому. Вот сейчас Тоби рассказала.
В общем, тогда, пока Люцерна была в «НоваТы» — слава богу, что она не делала никаких процедур, от которых на коже остаются шрамы, а только навести марафет заглянула, — они еще несколько раз упивались друг другом, запершись в душевой кабинке раздевалки бассейна, и в результате Люцерна прилипла к Зебу, как мокрый лист. И он к ней тоже, добавляла она. Они не могли насытиться друг другом.
А потом ее пребывание в салоне красоты кончилось и она вернулась в свой так называемый дом. Она стала сбегать из охраняемого поселка под тем или иным предлогом — в основном за покупками, ведь то, что продается в охраняемом поселке, так предсказуемо, — и они тайно встречались в плебсвиллях — это было поначалу так волнующе! — в странных местах, в грязноватых мотелях для пар, в номерах на час, так далеких от чопорности охраняемого поселка «Здравайзера»; а потом Зебу пришлось срочно уезжать — у него были какие-то проблемы, Люцерна так и не поняла какие, но ему нужно было очень быстро уехать — и… ну, она просто не смогла с ним расстаться.
И вот она бросила своего так называемого мужа — так ему и надо, в следующий раз не будет таким вялым. И они переезжали из одного города в другой, и Зеб оплатил кое-какие подпольные процедуры, чтобы поменять пальцы, ДНК и все такое; а потом, когда стало безопасно, они вернулись сюда, к вертоградарям. Потому что Зеб рассказал ей, что он всегда был вертоградарем. Во всяком случае, он так сказал. В общем, он, кажется, хорошо знал Адама Первого. Они ходили в одну школу. Или что-то такое.
Тоби подумала: значит, у Зеба не было другого выхода. Он бывший сотрудник корпорации, в бегах; может быть, продал на черном рынке что-то принадлежавшее корпорации, какую-нибудь нанотехнологию или генный сплайс. Если поймают, ему конец. И тут появляется Люцерна, которая знает его в лицо и знает его прежнее имя; он вынужден отвлечь ее при помощи секса, а потом забрать с собой, чтобы гарантировать ее молчание. Это единственный выход, если не считать убийства. Бросить ее нельзя: отвергнутая женщина пустит по его следу ищеек из корпорации. Он и так чудовищно рисковал. Она как машина, которую заминировал неумелый террорист: невозможно предсказать, когда она взорвется и кого при этом убьет. Интересно, подумала Тоби, посещала ли Зеба мысль о том, что можно забить Люцерне пробку в глотку и бросить ее в ближайший контейнер для мусорнефти.
Но может быть, он ее любил. Хотя, конечно, верится с трудом. Правда, может быть, эта любовь и угасла, потому что сейчас Зеб явно проводит слишком мало поддерживающих процедур.
— А твой муж тебя не искал? — спросила Тоби, выслушав эту историю впервые. — Тот, который в «Здравайзере»?
— Этот человек мне больше не муж, — обиженно ответствовала Люцерна.
— Извини. Бывший муж. Разве ККБ не… Ты не написала ему на прощание?
Если они пойдут по следу Люцерны, то выйдут прямо на вертоградарей — не только на Зеба, но и на саму Тоби, и на ее бывшую личность. А это может быть для нее неудобно: ККБ никогда не списывала старые долги, а еще — вдруг кто-нибудь нашел тело ее отца?
— С какой стати им на это тратиться? Зачем я им? А мой бывший муж… — Люцерна поморщилась, — ему надо было бы жениться на какой-нибудь формуле. Он, наверное, и не заметил, что меня нет.
— А Рен? — спросила Тоби. — Она такой милый ребенок. Наверняка отец по ней скучает.
— О! — сказала Люцерна. — Да. Это он наверняка заметил.
Тоби хотела спросить, почему Люцерна в таком случае не оставила Рен с отцом. Украсть дочь, не оставив и следа, — похоже на желание насолить любой ценой. Но спросить об этом Тоби не могла — Люцерна только разозлилась бы: слишком похоже на критику.
За два квартала от «Сыроварни» Тоби попала в уличную драку плебратвы — «косые» против «черных сомов», и несколько «белоглазых» вопят по краям. Детям было лет по семь-восемь, но их было очень много, а когда они заметили Тоби, то перестали орать друг на друга и заорали на нее. «Вертячка, вертячка, белая сучка! Снимайте с нее ботинки!»
Она развернулась, прижавшись спиной к стене, и приготовилась обороняться. Таких мелких трудно пинать как следует — как объяснял Зеб на уроках по «Предотвращению кровопролития в городе», в людей природой заложены тормоза, не позволяющие наносить вред детям, — но Тоби знала, что придется, потому что они могут и убить. Они будут целиться в живот, тараня с разбегу круглыми твердыми головенками, стараясь сбить ее с ног. У детишек помельче была неприятная манера задирать мешковатые юбки вертоградарш, нырять под них и впиваться зубами куда придется. Но она была готова: стоит им подойти поближе, она будет выкручивать им уши, рубить ребром ладони по шеям, с силой сталкивать по две черепушки вместе.
Но дети вдруг рассыпались, как стайка рыбок, промчались мимо и исчезли в проулке.
Она повернулась и увидела почему. Из-за Бланко. Он вовсе не был в больболе. Должно быть, его выпустили. Или он сам как-то выбрался.
Тоби запаниковала. Она увидела его красно-синие, словно ободранные, руки и почувствовала, как крошатся ее кости. Сбывался ее худший кошмар.
«Не распускайся», — строго сказала она себе. Он шел по другой стороне улицы, а Тоби была в мешковатых одеяниях и в респираторе, так что, может быть, он ее и не узнал. Но она была одна, а он не побрезгует просто так избить и изнасиловать случайную прохожую. Он втащит ее в тот самый проулок, куда только что убежала плебратва. Сдерет респиратор и увидит, кто она. И это будет конец, но не быстрый. Он растянет ее смерть, насколько сможет. Превратит ее в наглядное пособие из мяса — скорее мертвое, чем живое, доказательство его омерзительного искусства.
Она стремительно повернулась и пошла — быстро, как только могла, — пока он не успел сосредоточить на ней свою злость. Задыхаясь, она свернула за угол, прошла полквартала, обернулась. Его не было.
В кои-то веки она была просто счастлива увидеть дверь Люцерниной квартиры. Она сняла респиратор, изобразила на лице застывшую профессиональную улыбку и постучала.
— Зеб! — отозвалась Люцерна. — Это ты?
Святой Юэлл от дикорастущей пищи
Святой Юэлл от дикорастущей пищи
Год двенадцатый
Друзья, собратья-создания, дорогие мои дети!
Этот день отмечает начало Недели святого Юэлла, в течение которой мы будем собирать дикорастущие дары, приуготованные нам Богом через посредство Природы. Пилар, наша Ева Шестая, поведет нас в Парк Наследия на охоту за Грибами, а Бэрт, наш Адам Тринадцатый, поможет искать Съедобные сорняки. Помните: в сомнении — выплевывай! Но если это грызла мышь, то, скорее всего, оно съедобно и для вас. Хотя бывают исключения.
Старшим детям Зеб, наш высокочтимый Адам Седьмой, продемонстрирует поимку мелких Животных и поедание их с целью выживания в ситуации, когда нет другого выхода. Помните: нет ничего нечистого, если мы ощущаем должную благодарность и испросили прощения и если мы сами готовы в свою очередь влиться в великую цепь питания. Ибо в чем, как не в этом, состоит глубокий смысл жертвоприношения?
Ивона, достойная жена Бэрта, все еще находится «под паром», хотя мы надеемся вскоре увидеть ее вновь. Давайте все вместе мысленно окутаем ее Светом.
Сегодня мы с молитвой размышляем о святом Юэлле Гиббонсе, процветшем на этой земле с 1911 по 1975 год — так давно, но так близко к нам в сердцах наших. Святой Юэлл еще мальчиком, когда его отец покидал дом в поисках работы, кормил семью благодаря своим глубоким познаниям Природы. Он не посещал никаких университетов, кроме Твоих, Господи.
В лице Твоих Видов он нашел себе учителей — зачастую строгих, но всегда справедливых. А затем поделился их учением с нами.
Он научил нас использованию Твоих Дождевиков и других полезных Грибов; он рассказал об опасных ядовитых грибах и травах, которые, однако, могут принести Духовную пользу, будучи принимаемы в разумных количествах.
Он воспел добродетели дикого Лука, дикой Спаржи, дикого Чеснока, что не трудятся, не прядут и не опыляются пестицидами, если, по счастью, растут далеко от агропромышленных посевов. Он знал и о лекарствах, растущих при дороге: о коре Ивы, помогающей при болях и лихорадках, о корне Одуванчика, мочегонном, способствующем избавлению от излишней жидкости. Он учил нас бережливости: ведь и скромная Крапива, кою столь часто вырывают и бросают, служит источником многих витаминов. Он учил находчивости: ибо где нет Щавеля, можно найти Рогоз; где нет Черники, там, быть может, изобилует Клюква.
О святой Юэлл, да воссядем мы в Духе за твой стол, сей смиренный брезент, расстеленный на земле; и да трапезуем с тобой дикой земляникой, вайями папоротника и молодыми стручками ваточника, припущенными с небольшим добавлением маргарина, если таковой оказался под рукой.
А в час величайшей нужды — помоги нам принять то, что принесет Судьба; нашептывай нам во внутренние и Духовные уши имена растений, сезоны их сбора и места, где их можно найти.
Ибо приближается Безводный потоп, и уже нельзя будет ни покупать, ни продавать, и мы окажемся предоставлены самим себе посреди изобильного Сада Господня. И твоего, святой Юэлл.
Воспоем же.
Хвала святому Сорняку
24
Рен
Год двадцать пятый
Я помню, что в тот вечер было на обед в «липкой зоне»: крокеты из пухлокур. Я как-то перестала любить мясо с тех пор, как пожила у вертоградарей, но Мордис говорил, что пухлокуры на самом деле овощи, потому что растут на стеблях и у них нет лица. Так что я съела полпорции.
Еще я потанцевала, чтобы держать себя в форме. У меня была «ушная конфетка», и я ей подпевала. Адам Первый говорил, что музыка встроена в нас Богом; когда мы поем, мы уподобляемся птицам, но также и ангелам, потому что пение — форма хвалы, исходящая из больших глубин души, оно лучше слышно Богу, чем простая речь. Я стараюсь об этом не забывать.
Потом я снова заглянула в «Яму со змеями». Там были три больболиста — только что выпущенные. Это всегда заметно по свежевыбритым лицам, только что подстриженным волосам и новой одежде и еще по ошарашенному виду, как будто они долго сидели в темном чулане и только что вышли наружу. И еще у них у каждого была маленькая татуировка у основания большого пальца — маленький кружок, красный или ярко-желтый, обозначающий команду, — «Золотые» или «Красные». Другие посетители их сторонились, старались оказаться подальше, но уважительно — словно те были инет-звезды или известные спортсмены, а не преступники, отсидевшие в больболе. Богачи любили воображать себя больболистами. Они и деньги ставили на команды: красные против золотых. Вокруг больбола крутилась куча денег.
За ветеранами больбола всегда присматривали несколько человек из ККБ, потому что те могли взбеситься и переломать все вокруг. Нас, «чешуек», никогда не оставляли наедине с больболистами: они не понимали, что такое «понарошку», не умели вовремя остановиться и могли поломать не только мебель. Лучше всего было их накачать спиртным или колесами до отключки, но только быстро, потому что иначе они начинали буйствовать по полной программе.
— Я бы их вообще сюда не пускал, — говорил Мордис. — Под этими рубцами уже ничего человеческого не осталось. Но «Сексторг» нам хорошо доплачивает за них сверху.
Мы подсовывали им выпивку и таблетки в слоновьих дозах. Сразу после того, как я попала в «липкую зону», появилась новая таблетка — «НегаПлюс». Секс без проблем, абсолютное удовлетворение, полный улет, да еще и стопроцентная защита — вот что про нее говорили. Девушкам из «Хвоста-чешуи» не позволяли принимать колеса на работе — как говорил Мордис, нам не за то платят, чтобы мы удовольствие получали, — но это было совсем другое, потому что с «НегойПлюс» не нужна была биопленка-скафандр, а за такое куча посетителей готова была доплачивать. «НегаПлюс» в «Чешуйках» тестировали для корпорации «Омоложизнь», так что эти таблетки не раздавали как конфеты — они предназначались в основном для самой важной клиентуры. Но мне не терпелось их попробовать.
В те ночи, когда к нам приходили ветераны больбола, мы получали большие чаевые, хотя никто из постоянных сотрудниц «Чешуек» не должен был ложиться в койку с новыми ветеранами — мы были высококвалифицированным персоналом, и нанесенный нам ущерб дорого обошелся бы заведению. Для «мясной» работы к нам привозили временных: нелегалок-еврорвань или малолеток, наловленных на улице, — текс-мексиканок, «косых» и «сомов». Потому что больболисты предпочитали секс «тело к телу», и потом девушка автоматически считалась зараженной, пока не выяснялось, что она здорова, а «Чешуйки» не хотели зря держать девушек в «липкой зоне», платить за анализы, а потом еще и за лечение. Так что я ни одну из них не видела дважды. Они входили в клуб и, судя по всему, уже не выходили. В менее респектабельном клубе их могли бы отдавать клиентам с вампирскими фантазиями, но это означало открытый контакт рта с кровью, а, как я уже сказала, Мордис был повернут на гигиене.
В ту ночь на коленях у одного больболиста сидела Старлетт, исполняя свой коронный подвыподверт. Она была в костюме из перьев журавлина, с головным убором; может, спереди это и классно смотрелось, но с моей стороны казалось, что на мужике вертится большая сине-зеленая метелка, словно в сухой автомойке.
Второй мужик пялился на Савону — рот у него был открыт, а голова так запрокинута, что шея изогнулась едва ли не под прямым углом. Если Савона вдруг соскользнет, у него позвоночник сломается. Я подумала: если это случится, он будет не первым, кого вывезут на тачке в заднюю дверь клуба и бросят голым на пустыре. Мужик был немолодой, лысеющий с темечка, волосы забраны в конский хвост, на руках куча татуировок. Я его, кажется, и раньше где-то видела — может, постоянный клиент, но я его толком не разглядела.
Третий явно собирался упиться в сиську. Может, хотел забыть, что делал на больбольной арене. Я сама никогда не смотрела их сайт. Слишком противно было. Так что я знала про больбол только по разговорам мужчин. Удивительно, чего только нам не рассказывают, особенно если мы с ног до головы покрыты зелеными чешуйками и лица не видно. Должно быть, для мужиков это все равно что разговаривать с рыбой.
Пока больше ничего не происходило, так что я позвонила Аманде на мобильник. Но она не ответила. Может, спит — лежит там у себя, в пустыне Висконсин, завернувшись в спальный мешок. А может, сидит у костра, и два текс-мекса играют ей на гитаре и поют, и Аманда тоже поет, потому что она ведь знает ихний язык. Может, над ними висит полная луна, а вдали воют койоты, совсем как в старом фильме. Во всяком случае, я на это надеялась.
25
Когда Аманда поселилась у меня, многое в моей жизни изменилось. А потом изменилось еще раз в Неделю святого Юэлла, когда мне было почти тринадцать лет. Аманда была старше: у нее уже выросли настоящие сиськи. Ужасно странно, когда так меряешь время.
В тот год мы с Амандой — и Бернис тоже — должны были присоединиться к старшим детям и пойти на урок Зеба: он должен был рассказать нам про отношения хищника и жертвы, а мы потом — съесть мясо настоящей жертвы. Я смутно помнила, как ела мясо — давным-давно, когда мы жили в охраняемом поселке «Здравайзера». Но вертоградари не терпели мясоедения, кроме исключительных ситуаций, и меня тошнило при мысли о том, чтобы сунуть в рот кусок чьей-то мышцы с сухожилиями и кровью, а потом пропихнуть его в желудок. Но я поклялась, что меня не стошнит на уроке, чтобы не опозориться и не поставить Зеба в неловкое положение.
За Аманду я не беспокоилась. Она привыкла есть мясо, она его тыщу раз ела. Она при любой возможности воровала секрет-бургеры. Так что она и прожует, и проглотит как ни в чем не бывало.
В понедельник на Неделе святого Юэлла мы оделись в чистое — точнее, во вчерашнее чистое, — и я заплела Аманде косы, а она заплела мои. Зеб называл это «характерным для приматов исканием друг у друга в голове».
Мы слышали, как Зеб поет в душе:
Теперь его утренние распевы действовали на меня успокоительно. Они означали, что все идет как обычно — во всяком случае, сегодня.
Люцерна, как правило, вставала только после нашего ухода — отчасти для того, чтобы не пересекаться с Амандой. Но в то утро она была на кухне, в темном платье, какие носили все женщины вертоградарей, и, более того, готовила завтрак. В последнее время она стала чаще совершать такие подвиги. И поддерживать в квартире чуть больший порядок. Она даже вырастила на подоконнике в горшке чахлый помидорный куст. Наверное, старалась навести уют для Зеба, хотя они стали чаще ссориться. Они нас выгоняли, когда ссорились, но мы все равно подслушивали.
Ссорились они из-за того, где находится Зеб, когда он не с Люцерной. Он говорил, что работает. И еще он говорил: «Не напирай». И: «Тебе незачем это знать, для твоего же блага».
— У тебя кто-то есть! — кричала Люцерна. — От тебя разит чужой сукой!
— Ух ты, — шепотом замечала Аманда, — ну твоя мать и ругается.
И я не знала, то ли мне гордиться, то ли стыдиться.
— Ничего подобного, — устало отвечал Зеб. — У меня есть ты, зачем мне другие женщины?
— Врешь!
— О Господи Исусе на вертолете! Отвяжись наконец.
Зеб, капая на пол, вышел из душевого отсека. Я увидела шрам, где Зеба порезали — давно, когда мне было десять лет. У меня мурашки пробежали по спине.
— Как вы, мои маленькие плебокрыски? — спросил он, ухмыляясь, как тролль.
— Большие плебокрыски, — мило улыбнулась Аманда.
На завтрак была каша из жареных черных бобов и голубиные яйца всмятку.
— Очень вкусно, дорогая, — сказал Зеб Люцерне.
Я не могла не признать, что завтрак действительно неплохой, хотя готовила его Люцерна.
Она улыбнулась — слащаво, как обычно.
— Я хотела накормить тебя как следует, — сказала она. — Учитывая, что ты будешь есть всю остальную неделю. Старые корни и мышей, надо полагать.
— Кролика на вертеле, — ответил Зеб. — Я их десять штук могу съесть, с гарниром из мышей, а на десерт — слизняков, жаренных во фритюре.
Он взглянул на нас с Амандой и ухмыльнулся: нарочно хотел, чтобы нас затошнило.
— Звучит неплохо, — отозвалась Аманда.
— Ты чудовище! — воскликнула Люцерна, сделав большие круглые глаза.
— Жаль только, что к этому пива не дадут, — сказал Зеб. — Пойдем с нами, девочка, ты украсишь наше общество.
— Нет, спасибо, я лучше дома посижу.
— Ты с нами не идешь? — спросила я.
Обычно на Неделе святого Юэлла Люцерна увязывалась за всеми в лес — набирала для виду пучок сорняков, жаловалась на комаров и следила за Зебом. Сегодня я не хотела, чтобы она шла с нами, но в то же время хотелось, чтобы все было как всегда, потому что у меня было предчувствие, что скоро снова все изменится. Как тогда, когда меня выдернули из охраняемого поселка «Здравайзера». Это было просто ощущение, но оно мне не нравилось. Я привыкла к вертоградарям, мой дом теперь был здесь.
— Не могу. У меня мигрень. — У нее и вчера тоже была мигрень. — Я сейчас опять лягу.
— Я попрошу Тоби заглянуть, — сказал Зеб. — Или Пилар. Чтобы у моей девочки головка не бо-бо.
— Правда? — Страдальческая улыбка.
— Не проблема, — сказал Зеб.
Люцерна не съела свое голубиное яйцо, так что Зеб его доел. Все равно они мелкие, размером со сливу.
Бобы росли в саду, а вот голубиные яйца мы брали на собственной крыше. Там ничего не росло — Адам Первый сказал, что поверхность неподходящая, — но там жили голуби. Зеб приманивал их крошками, двигаясь так тихо, что голуби не боялись. Потом они откладывали яйца, а Зеб собирал. Он сказал, что голуби — не вымирающий вид, так что все в порядке.
Адам Первый говорил, что яйца — потенциальные Создания, но еще не Создания; как желудь — еще не дерево. Есть ли у яиц души? Нет, у них только потенциалы душ. Так что вертоградари в основном не ели яиц, но и не осуждали тех, кто ел. Перед яйцом не надо было извиняться, прежде чем присоединить его белок к собственному телу, но нужно было извиниться перед матерью-голубкой и поблагодарить ее. Зеб наверняка не заморачивался благодарностями. Может, он и самих голубей ел тайком.
Аманда съела одно голубиное яйцо. Я тоже. Зеб съел три и еще одно Люцернино. Люцерна говорила, что ему нужно больше еды, чем нам, потому что он и сам больше; а если мы будем есть столько же, то растолстеем.
— Пока, девы-воительницы; смотрите не убейте кого, — сказал Зеб, когда мы уходили.
Он слыхал про Амандины приемы — колено в пах и большие пальцы в глаза и про кусок стекла, замотанный изолентой, — и шутил на эту тему.
26
До школы нам надо было зайти за Бернис в «Буэнависту». Нам давно надоело за ней заходить, но мы боялись получить нахлобучку от Адама Первого за невертоградарский дух, если перестанем. Бернис все так же не любила Аманду, но и не то чтобы ненавидела. Она держалась поодаль, как избегают хищной птицы с очень острым клювом. Бернис была вредная, Аманда — несгибаемая, это совсем другое.
Главный факт уже ничто не могло изменить: когда-то мы с Бернис были лучшими подругами, а теперь уже нет. Поэтому мне было неловко рядом с ней: меня не покидало смутное чувство вины. Бернис о нем знала и по-всякому старалась извратить его и направить против Аманды.
Но со стороны все выглядело мирно. Мы ходили втроем в школу, из школы, на изыскания юных бионеров. Все такое. Бернис никогда не ходила к нам в «Сыроварню», а мы никогда не болтались с ней после школы.
В то утро, на пути к Бернис, Аманда сказала:
— Я кое-что разнюхала.
— Что? — спросила я.
— Я знаю, куда ходит Бэрт между пятью и шестью часами два раза в неделю.
— Бэрт Шишка? Кого это волнует! — отозвалась я.
Мы обе презирали его как жалкого хватателя за подмышки.
— Нет. Слушай. Он ходит туда же, куда и Нуэла.
— Ты шутишь! Куда?
Да, Нуэла кокетничала, но со всеми. Просто у нее была такая манера общения, как у Тоби — каменный взгляд.
— Они ходят в уксусную, когда там никого не бывает.
— Да ну! — воскликнула я. — Правда?
Я знала, что речь идет о сексе — почти все наши шутливые разговоры были о сексе. Вертоградари называли секс «репродуктивным актом» и говорили, что это не предмет для шуток, но Аманда все равно его высмеивала. Над сексом можно было хихикать, его можно было обменивать на что-нибудь, но относиться к нему с уважением было невозможно.
— Неудивительно, что у нее так трясется жопа, — продолжала Аманда. — Это оттого, что ее заездили. Она, как старый диван Ивоны, совсем провисла.
— Врешь! — воскликнула я. — Не будет она этим заниматься! С Бэртом!
— Зуб даю, — сказала Аманда. И сплюнула сквозь зубы: она отлично умела плеваться. — Зачем еще они стали бы туда ходить?
Мы, дети вертоградарей, часто сочиняли неприличные истории о половой жизни Адамов и Ев. Воображая их голыми, друг с другом, с бродячими собаками или даже с зелеными чешуйчатыми девушками из ночного клуба, мы словно уменьшали их власть над нами. Но все равно мне сложно было представить себе, как Нуэла стонет и кувыркается с Бэртом Шишкой.
— Ну, как бы там ни было, Бернис мы об этом не скажем! — заявила я. И мы еще немного посмеялись.
Войдя в «Буэнависту», мы поздоровались с невзрачной вертоградаршей-консьержкой, которая что-то вязала из веревочек и даже головы не подняла. И полезли вверх по лестнице, стараясь не наступать на использованные презервативы и шприцы. Аманда говорила вместо «кондоминиум» — «гондоминимум», и я тоже стала так говорить. Пряный грибной запах «Буэнависты» сегодня был особенно силен.
— Кто-то травку растит, — сказала Аманда. — Тут прямо разит шмалью.
Аманда разбиралась в этих делах: она ведь раньше жила в Греховном мире и даже наркотики принимала. Правда, совсем чуть-чуть, говорила она, потому что это повышает уязвимость. Наркотики можно покупать только у людей, которым доверяешь, а она мало кому доверяла. Я ныла, чтобы она дала мне попробовать, но она не соглашалась. «Ты еще ребенок», — говорила она. Или отвечала, что, живя с вертоградарями, растеряла все связи.
— Не могут тут растить травку, — сказала я. — Это же дом вертоградарей. А травку растит только плебмафия. Просто… тут курят по ночам. Плебратва.
— Да, я знаю, — ответила Аманда. — Но это не запах от курева. Так пахнет там, где растят.
На четвертом этаже до нас донеслись голоса, мужские. Два человека говорили за дверью, ведущей к квартирам. Голоса были враждебные.
— У меня больше нет, — говорил один. — Остальное я завтра достану.
— Сволочь! — ответил другой. — Буду я еще бегать туда-сюда!
Раздался грохот, словно чем-то ударили по стене, потом опять; и бессловесный вопль гнева или боли.
Аманда пихнула меня в бок.
— Бежим! — шепнула она. — Быстро!
Мы помчались вверх, стараясь не шуметь.
— Это было серьезно, — сказала Аманда, когда мы оказались на шестом этаже.
— Ты о чем?
— Один что-то продавал, а другой покупал, и это плохо кончилось, — ответила она. — Мы ничего не слышали. А теперь веди себя как обычно.
У нее был испуганный вид, так что я тоже испугалась, ведь вообще-то Аманда была не робкого десятка.
Мы постучали в дверь к Бернис.
— Тук-тук, — сказала Аманда.
— Кто там? — спросила Бернис.
Она, должно быть, ждала нас, стоя прямо у двери, как будто боялась, что мы не придем. Жалкая манера, с моей точки зрения.
— Ганг, — ответила Аманда.
— А дальше?
— Рена, — сказала Аманда.
Она переняла пароль у Шекки, и теперь мы трое им тоже пользовались.
Когда Бернис открыла дверь, я мельком увидела Ивону Овощ. Та, как обычно, сидела на коричневом диване, но смотрела на нас, как будто и вправду видела.
— Не опаздывай, — сказала она дочери.
— Она с тобой разговаривает! — воскликнула я, как только Бернис вышла из квартиры и закрыла дверь.
Я хотела завязать дружескую беседу, но Бернис пригвоздила меня взглядом.
— Ну и что? Она же не дебил какой-нибудь.
— Я ничего такого и не говорила, — холодно ответила я.
Бернис сверкнула на меня глазами. Но ее убийственные взгляды утратили свою силу, с тех пор как появилась Аманда.
27
Когда мы добрались до пустыря за «Чешуйками», где должен был проходить открытый урок об отношениях хищника и жертвы, Зеб сидел там на складной походной табуретке. У его ног лежал тряпочный мешок, не пустой. Я старалась не смотреть туда.
— Все собрались? Хорошо, — сказал Зеб. — Начнем. Отношения хищника и жертвы. Охота, выслеживание. Кто знает правила?
— Видеть так, чтобы тебя не видели, — принялись хором скандировать мы. — Слышать так, чтобы тебя не слышали. Чуять так, чтобы тебя не учуяли. Есть так, чтобы тебя не съели!
— Одно забыли, — сказал Зеб.
— Разить так, чтобы тебя не поразили, — сказал кто-то из ребят постарше.
— Верно! Хищник не может допустить, чтобы его ранили. Если он не сможет охотиться, то умрет с голоду. Он должен нападать внезапно и убивать быстро. Он должен выбирать жертву послабее — слишком молодую, старую, покалеченную, которая не может ни убежать, ни отбиться. А как нам самим не стать жертвой?
— Нужно не выглядеть как жертва, — хором произнесли мы.
— Нужно не выглядеть как жертва этого хищника, — поправил Зеб. — Из-под воды серфингист выглядит для акулы как тюлень. Попробуйте представить себе, как вы смотритесь с точки зрения хищника.
— Нельзя показывать страх, — сказала Аманда.
— Верно. Нельзя показывать, что боишься. Нельзя вести себя как больное животное. Постарайтесь выглядеть как можно крупнее. Это отпугнет крупных хищников. Но ведь человек и без того один из самых крупных хищников. Зачем мы охотимся?
— Чтобы есть, — ответила Аманда. — Другой уважительной причины не существует.
Зеб ухмыльнулся в ответ, словно это была тайна, которую знали только они двое.
— Совершенно верно, — сказал он.
Он взял мешок, развязал его и сунул туда руку. Мне показалось, что он очень долго ее не вынимал. Он вытащил из мешка мертвого зеленого кролика.
— Я его поймал в Парке Наследия. В кроличий силок. Это такая петля. На скунотов тоже годится. Сейчас мы его обдерем и выпотрошим.
Меня до сих пор мутит, когда я это вспоминаю. Старшие мальчики помогали Зебу не дрогнув, хотя даже Шекки и Крозу, кажется, было немного не по себе. Они всегда слушались Зеба. Смотрели ему в рот. Не только потому, что он был больше. У него были знания и мудрость, а это они уважали.
— А если кролик, типа, не мертвый? — спросил Кроз. — В силке.
— Тогда его надо убить, — сказал Зеб. — Разбить голову камнем. Или взять за задние ноги и треснуть об землю.
Он стал рассказывать дальше: овцу так убить нельзя, потому что у нее твердый череп; ей нужно перерезать горло. Для каждой твари есть самый удобный способ, которым ее можно убить.
Зеб продолжал обдирать кролика. Аманда помогла ему, когда кожу, покрытую зеленым мехом, нужно было вывернуть наизнанку, как перчатку. Я старалась не глядеть на жилы. Они были слишком синими. И мышцы прямо блестели.
Зеб нарезал мясо на очень маленькие кусочки, чтобы каждому хватило попробовать и еще чтобы мы не испугались необходимости глотать большие куски. Потом мы поджарили мясо на костре из каких-то старых досок.
— Вот это вы должны будете делать, если окажетесь в безвыходной ситуации, — сказал Зеб.
Он протянул мне кусок мяса. Я сунула его в рот. Оказалось, что я могу жевать и глотать, если буду не переставая повторять про себя: «Это бобовый фарш, это бобовый фарш…» Я досчитала до ста, и мясо оказалось у меня в желудке.
Но во рту остался вкус кролика. Словно у меня пошла носом кровь и я ее проглотила.
В тот же день после обеда работал рынок натуральных продуктов «Древо жизни». Рынок устраивали в сквере на северном краю Парка Наследия, через дорогу от бутиков Места-под-солнцем. Там была песочница и качели для малышей. Еще там был саманный домик, слепленный из глины, песка и соломы. В нем было шесть комнат, закругленные дверные проемы и окна, но ни стекол в окнах, ни дверей. Адам Первый говорил, что дом построили древние «зеленые», не меньше тридцати лет назад. Дом пестрел знаками и посланиями плебратвы: «Я люблю письки (жареные!)», «Отсоси у меня, это экологический продукт», «Смерть зелененьким!»
На рынке «Древо жизни» торговали не только вертоградари. В нем участвовали все, кто входил в сеть распространения натуральных продуктов, — кооператив Папоротникового Холма, «Огородники Большого Ящика», «зеленые» из Гольф-клуба. Мы смотрели на всех остальных свысока, потому что их одежда была красивее нашей. Адам Первый говорил, что их товары сомнительны с моральной точки зрения, хоть и не излучают тлетворной ауры рабского труда, как пестрый мусор из торгового центра. «Папоротники» продавали глазурованную посуду собственного производства и бижутерию, сделанную из скрепок для бумаги; «Большие Ящики» — вязаных зверей; «Гольфы» делали навороченные сумочки из страниц старинных журналов, а также растили капусту по краям своего поля для гольфа. «Подумаешь! — сказала Бернис. — Они опрыскивают траву пестицидами, так что пары жалких кочанов капусты им для спасения души все равно не хватит». Бернис становилась все более верующей. Может быть, это заменяло ей настоящих друзей, которых у нее не было.
Еще на «Древо жизни» приходили разные люди в погоне за модой. Богатенькие из Места-под-солнцем, показушники из Папоротникового Холма. Даже люди из охраняемых поселков. Они приходили за безопасными приключениями в плебсвилле. Они утверждали, что овощи вертоградарей лучше, чем из супермаркета, и даже лучше овощей с так называемых фермерских рынков. — Аманда утверждала, что там люди, переодетые фермерами, продают те же овощи с оптовых складов, только в рукодельных корзинках и по завышенным ценам.
Так что, даже если на товаре написано «экологически чистый», верить этому нельзя. Но в продукции вертоградарей никто не сомневался. От нее прямо-таки разило подлинностью: пускай вертоградари — фанатики, смешные и странные, но, по крайней мере, с ними можно не волноваться насчет этичности продукта. Об этом говорили покупатели, пока я заворачивала их покупки в повторно используемый пластик.
Когда мы помогали на «Древе жизни», противнее всего было надевать галстуки юных бионеров. Это было унизительно, потому что модники из охраняемых поселков часто приводили с собой детей. Дети носили на головах бейсболки с написанными на них словами и пялились на нас, на наши галстуки и унылую одежду, как на парад уродов, перешептываясь и хихикая. Я старалась не обращать на них внимания.
Бернис подходила к ним вплотную и спрашивала: «Чего уставился?» Аманда обходилась с ними ловчее. Она улыбалась им, потом доставала свой кусок стекла, резала себе руку и слизывала кровь. Обводила губы окровавленным языком и протягивала руку перед собой. Зеваки мгновенно исчезали. Аманда говорила: если хочешь, чтобы к тебе не лезли, коси под шизу.
Нам троим велели помогать в ларьке, где продавали грибы. Обычно там управлялись Тоби и Пилар, но Пилар приболела, так что сегодня торговала одна Тоби. Она была очень строгая: велела нам стоять прямо и вести себя чрезвычайно вежливо.
Я разглядывала богатеньких, проходивших мимо. Кое-кто из них был в джинсах пастельных цветов и сандалиях, но большинство блистало изобилием дорогих кож и шкур: босоножки из аллигатора, мини-юбки из леопарда, сумочки из шкуры орикса. Владельцы шкур обычно смотрели, словно оправдываясь. Они как бы говорили: «Я не убивала этого зверя, но зачем же шкуре пропадать?» Я задумалась, каково это — носить такие вещи — и что чувствует человек, когда с его кожей так близко соприкасается чужая.
У некоторых богатеньких были новые волосы от париковец — серебристые, розовые, голубые. Аманда рассказывала, что в Отстойнике есть париковецкие лавочки, куда специально заманивают девушек — зайдешь в комнату для пересадки скальпа, а тебя раз — и по башке. Просыпаешься, а у тебя уже не только волосы, но и отпечатки пальцев другие, а потом тебя запирают в бордель и подкладывают под мужиков, и даже если сбежишь, все равно ничего не докажешь, потому что твою личность уже украли. Это было, пожалуй, слишком. Я знала, что Аманда иногда привирает. Но мы с ней заключили договор — никогда не врать друг другу. Так что я подумала: может, это и на самом деле правда.
Где-то с час мы помогали Тоби продавать грибы, а потом нам велели пойти в ларек к Нуэле и помочь ей с уксусом. К этому времени мы уже одурели от скуки, и каждый раз, когда Нуэла наклонялась под прилавок за уксусом, мы с Амандой виляли задом и хихикали вполголоса. Бернис все сильнее краснела, потому что мы ее не посвятили в свой секрет. Я знала, что это нехорошо, но почему-то не могла остановиться.
Потом Аманда пошла в портативный фиолет-биолет, а Нуэла сказала, что ей нужно поговорить с Бэртом, который за соседним прилавком торговал мылом, завернутым в листья. Стоило Нуэле отвернуться, как Бернис ухватила меня за руку и вывернула ее в двух местах сразу.
— А ну говори! — зашипела она.
— Пусти! — сказала я. — Чего я тебе должна сказать?
— Сама знаешь чего! Над чем вы с Амандой смеетесь?
— Ни над чем!
Она заломила мне руку еще сильнее.
— Ладно, — сказала я, — но тебе это не понравится.
И я рассказала ей про Нуэлу с Бэртом и про то, чем они занимаются в уксусной. Наверное, мне и так очень хотелось ей рассказать, потому что у меня это как будто само вырвалось.
— Это отвратительная ложь! — сказала она.
— Что отвратительная ложь? — спросила Аманда, которая как раз вернулась из биолета.
— Мой отец не трахает Мокрую ведьму! — прошипела Бернис.
— Я ничего не могла поделать, — объяснила я. — Она выкрутила мне руку.
Глаза у Бернис покраснели и были на мокром месте, и она бы ударила меня, если бы Аманды здесь не было.
— Рен немного увлеклась, — сказала Аманда. — По правде говоря, мы точно не знаем. Мы только подозреваем, что твой отец трахает Мокрую ведьму. Может быть, это не так. Но в любом случае его можно понять, ведь твоя мать так давно находится «под паром». Должно быть, твой отец сильно неудовлетворен, потому и хватает все время девочек за подмышки.
Она говорила наставительным, добродетельным голосом, подражая Евам. Это было жестоко.
— Неправда, — сказала Бернис. — Неправда!
Она чуть не плакала.
— Но если это все же правда, — спокойно продолжала Аманда, — то ты должна об этом знать. Во всяком случае, если бы речь шла о моем отце, я бы не хотела, чтобы он трахал чей-либо репродуктивный орган, за исключением органа моей матери. Это очень грязная привычка, ужасно антисанитарная. Тогда у него были бы микробы на руках, которыми он потом тебя трогает. Хотя я уверена, что он ничего такого…
— Я тебя ненавижу! — сказала Бернис. — Чтоб ты сгорела и подохла!
— Это совсем не в духе братской любви, Бернис, — укоризненно произнесла Аманда.
Тут к нам, суетясь, подбежала Нуэла.
— Ну что, девочки? Покупатели были? Бернис, почему у тебя глаза красные?
— У меня аллергия на что-то, — ответила Бернис.
— Да, это так, — серьезно подтвердила Аманда. — Ей нехорошо. Может, ей лучше пойти домой. А может быть, это из-за воздуха. Тогда ей нужен респиратор. Правда, Бернис?
— Аманда, ты такая заботливая, — сказала Нуэла. — Да, Бернис, дорогая, я тоже думаю, что тебе лучше прямо сейчас пойти домой. А завтра мы подыщем тебе респиратор, чтобы у тебя не было аллергии. Я тебя провожу немножко.
Она обняла Бернис за плечи и увела ее.
У меня в голове не укладывалось, что мы натворили. В животе все оборвалось — так бывает, когда уронишь что-нибудь тяжелое и знаешь, что оно сейчас упадет тебе на ногу. Мы слишком далеко зашли, но я не знала, как сказать об этом Аманде, чтобы она не сочла меня проповедницей. В любом случае сказанного уже не вернуть.
28
Тут к нашему прилавку подошел мальчик, которого я никогда раньше не видела, — подросток, старше нас. Он был худой, высокий, темноволосый и одет не так, как все богатенькие. В обычную одежду черного цвета.
— Что желаете? — спросила Аманда. Иногда в разговорах с покупателями мы подражали эксплуатируемым трудящимся из «Секрет-бургера».
— Мне нужна Пилар, — сказал он. Не улыбнулся, ничего. — Вот с этим что-то не так.
Он вытащил из рюкзака баночку меда производства вертоградарей. Странно: что может быть не так с медом? Пилар говорила, что мед никогда не портится, если не добавлять в него воды.
— Пилар болеет, — ответила я. — Поговорите с Тоби — вон она, за прилавком, где грибы.
Он стал озираться, словно нервничал. Он, кажется, пришел один — ни друзей, ни родителей.
— Нет, — сказал он. — Мне нужна именно Пилар.
Подошел Зеб — от ларька с овощами, где торговал корнями лопуха и марью.
— Что-то не так? — спросил он.
— Он хочет говорить с Пилар, — ответила Аманда. — Что-то насчет меда.
Зеб с мальчиком посмотрели друг на друга, и мне показалось, что мальчик чуть заметно кивнул.
— А я не подойду? — спросил Зеб.
— Я думаю, что нужна она, — ответил мальчик.
— Аманда и Рен тебя отведут, — сказал Зеб.
— А кто же будет уксус продавать? — спросила я. — Нуэле пришлось уйти.
— Я буду поглядывать, — ответил Зеб. — Знакомьтесь, это Гленн. Позаботьтесь о нем как следует.
А Гленну он сказал:
— Не давай им волю, а то они тебя заживо съедят.
Мы шли по улицам плебсвилля в сторону «Райского утеса».
— Откуда ты знаешь Зеба? — спросила Аманда.
— Я с ним давно знаком, — ответил мальчик.
Он был неразговорчив. Он даже не хотел идти рядом с нами: к следующему кварталу приотстал немного.
Мы дошли до здания, где жили вертоградари, и вскарабкались по пожарной лестнице. Там были Фило Туман и Катуро Гаечный Ключ: мы никогда не оставляли здание пустым, чтобы туда не залезла плебратва.
Катуро чинил поливальный шланг; Фило просто так сидел и улыбался.
— Кто это? — спросил Катуро, увидев мальчика.
— Зеб велел его привести, — ответила Аманда. — Он ищет Пилар.
Катуро кивнул через плечо.
— Она в хижине для тех, кто «под паром».
Пилар лежала в шезлонге. Перед ней стояла шахматная доска с расставленными фигурами, но все они были на месте: она не играла. Она плохо выглядела: вся как-то осунулась. Она лежала с закрытыми глазами, но открыла их, когда услышала, что мы идем.
— Здравствуй, дорогой Гленн, — сказала она, словно ждала его. — Надеюсь, все прошло благополучно.
— Никаких проблем, — ответил мальчик. Он достал банку. — Качество плохое.
— Все хорошо, — ответила Пилар. — Если рассматривать картину в целом. Аманда, Рен, будьте добры, принесите мне стакан воды.
— Я схожу, — сказала я.
— Обе, — сказала Пилар. — Прошу вас.
Она хотела поговорить без нас. Мы вышли из хижины, стараясь идти как можно медленнее. Мне хотелось послушать, что они будут говорить, — мед тут ни при чем, это точно. Меня сильно напугал вид Пилар.
— Он не из плебсвилля, — шепнула Аманда. — Из охраняемого поселка.
Я и сама так подумала, но вслух сказала:
— Откуда ты знаешь?
В охраняемых поселках жили сотрудники корпораций — все эти ученые и бизнесмены, которые, как говорил Адам Первый, уничтожали старые виды и создавали новые и вообще губили мир. Хотя я и не могла поверить, что мой родной отец в «Здравайзере» такое делал; но, как бы то ни было, с чего вдруг Пилар общаться с кем-то из тамошних?
— Нутром чую, — сказала Аманда.
Когда мы вернулись со стаканом воды, Пилар опять лежала с закрытыми глазами. Мальчик сидел рядом; он передвинул несколько шахматных фигур. Белая королева была окружена: еще один ход, и ей конец.
— Спасибо, — сказала Пилар, беря у Аманды стакан. — И тебе спасибо, Гленн, милый, что пришел.
Он встал.
— Ну ладно, пока, — неловко сказал он, и Пилар ему улыбнулась. Сияюще, но слабо.
Мне захотелось ее обнять — такая она была хрупкая и маленькая. Мы пошли обратно к «Древу жизни», и Гленн с нами.
— Ей по правде плохо, да? — спросила Аманда.
— Болезнь — это дефект дизайна, — ответил мальчик. — Его можно поправить.
Да, наверняка он из охраняемого поселка. Так разговаривают только тамошние мозговитые: не отвечают прямо на вопрос, а изрекают какую-то общую мысль, словно точно знают, что она верна. Интересно, так ли разговаривает мой родной отец? Может быть.
— Значит, если бы ты делал мир, ты бы сделал его лучше? — спросила я.
Я имела в виду — лучше, чем Бог. Меня вдруг охватило праведное негодование. Как на Бернис. Как на вертоградарей.
— Да, — ответил он. — Именно так.
29
Назавтра мы, как обычно, пошли за Бернис в «Буэнависту». Кажется, нам обеим было стыдно за вчерашнее — мне, во всяком случае, было. Но когда мы постучали и сказали «Тук-тук», Бернис не отозвалась, как обычно: «Кто там?» Она ничего не сказала.
— Это мы! — крикнула Аманда. — Ганг! Рена!
Никто не отозвался. Молчание было почти ощутимым.
— Ну Бернис! — крикнула я. — Открывай! Это мы.
Дверь открылась, но за ней оказалась не Бернис. Там была Ивона. Она смотрела прямо на нас, и было совсем не похоже, что она «под паром».
— Уходите, — сказала она. И захлопнула дверь.
Мы переглянулись. У меня появилось нехорошее предчувствие. Что, если мы своей историей про Бэрта и Нуэлу непоправимо навредили Бернис? Что, если это вообще неправда? Поначалу это была просто шутка. Но теперь все стало очень серьезно.
Обычно на Неделе святого Юэлла Пилар и Тоби водили нас в Парк Наследия за грибами. Туда было ужасно интересно ходить, потому что заранее неизвестно было, что попадется на глаза. В парке семейства из плебсвилля устраивали барбекю или семейные скандалы, и мы зажимали нос от вони жареного мяса; парочки барахтались в кустах; бездомные пили из горла или храпели под деревьями; всклокоченные психи говорили сами с собой или орали; нарики кололись. Если мы доходили до пляжа, где лежали девушки в бикини, то Шекки с Крозом подходили к ним и говорили: «Рак кожи», чтобы обратить на себя внимание.
Могли попасться и патрули ККБ — они напоминали гуляющим, чтобы те бросали мусор в урны, но на самом деле, как утверждала Аманда, искали мелких дилеров, которые толкали товар, не делясь с дружками из мафии. В этих случаях можно было услышать свист струи пистолета-распылителя и вопли. «Напал на нас при исполнении», — говорил патруль случайным свидетелям, утаскивая тело.
Но в тот день поход в Парк Наследия отменили, потому что Пилар болела. Так что вместо него у нас была ботаника дикорастущих растений, которую вел Бэрт, на пустыре за «Чешуйками».
У нас были грифельные доски и мел, потому что мы всегда рисовали дикорастущие растения, чтобы лучше их запомнить. Потом стирали рисунок, и растение оставалось в голове. Бэрт говорил: чтобы запомнить что-нибудь, надо это нарисовать, лучше способа нет.
Бэрт походил по пустырю, сорвал что-то и поднял, чтобы нам всем было видно.
— Portulaca oleracea, — сказал он. — Или портулак. Растет как в диком виде, так и в огородах. Предпочитает землю, которую до него потревожили. Обратите внимание на красноватый стебель и супротивные листья. Хороший источник «омега-3».
Он помолчал и оглядел нас.
— Половина из вас не смотрит, а другая половина не рисует, — сказал он. — Эти уроки могут спасти вам жизнь! Мы говорим о жизнеобеспечении. Жизнеобеспечение. Что это такое?
Тупые взгляды, молчание.
— Жизнеобеспечение, — сказал Шишка, — это то, что поддерживает жизнь в теле. Это еда. Еда! Откуда берется еда? Ну-ка?
— Земля — мать всякой еды, — хором проскандировали мы.
— Верно! — сказал Бэрт. — Земля! Но большая часть людей покупает еду в супермаркетах. Что случится, если вдруг не будет никаких супермаркетов? Шеклтон?
— Тогда надо будет растить еду на крыше, — ответил Шекки.
— А если никаких крыш нет? — Шишка начал розоветь лицом. — Тогда где брать еду?
Снова пустые взгляды.
— Тогда надо переходить на подножный корм, — сказал Шишка. — Крозье, что такое подножный корм?
— Это когда находишь всякое, — ответил Кроз. — Такое, за что не надо платить. Например, если украсть.
Мы все засмеялись.
Шишка не обратил внимания.
— А где вы будете искать это «всякое»? Куилл?
— В торговом центре? — спросил Куилл. — На задворках, типа. Куда все выкидывают, типа, пустые бутылки и…
Он был туповат, но еще и нарочно прикидывался тупым. Мальчишки это делали, чтобы позлить Бэрта.
— Нет, нет! — заорал Шишка. — Тогда некому будет выкидывать вещи! Вы никогда не были за пределами плебсвилля! Никогда не видели пустыню, не знаете, что такое голод и засуха! Когда придет Безводный потоп — даже если вы его переживете, — то умрете с голоду. Почему? Да потому что не слушаете! Зачем я вообще трачу на вас время?
Каждый раз, когда Шишка вел урок, он рано или поздно слетал с каких-то невидимых катушек и начинал орать.
— Ну ладно, — сказал он, успокаиваясь. — Что это за растение? Портулак. Что с ним делают? Едят. А теперь продолжайте рисовать. Портулак! Обратите внимание на овальную форму листьев! Посмотрите, какие они блестящие! Посмотрите на стебель! Запомните его!
Я все думала. Не может быть, что это правда. Я не понимала, как вообще кто бы то ни было — даже Нуэла, Мокрая ведьма, — может заниматься сексом с Бэртом Шишкой. Он такой лысый и потный.
— Кретины, — бормотал он про себя. — Зачем я вообще стараюсь?
И вдруг застыл и замолчал. Он смотрел на что-то у нас за спиной. Мы повернулись: там, у бреши в заборе, стояла Ивона. Должно быть, пролезла в нее. Она была по-прежнему в домашних тапочках, голова обернута желтым детским одеяльцем, как шалью. Рядом с ней стояла Бернис.
Они стояли и ничего не делали. Не двигались. Потом в дырку пролезли два человека из ККБ. Боевые: в мерцающих серых костюмах, из-за которых они походили на мираж. Они держали наготове пистолеты-распылители. Я почувствовала, как у меня вся кровь отлила от лица: мне показалось, что меня сейчас стошнит.
— Что такое? — закричал Бэрт.
— Стоять, не двигаться! — крикнул один из какабэшников.
Вышло очень громко, потому что у него в шлеме был микрофон. Какабэшники шагнули вперед.
— Не подходите, — сказал нам Бэрт. У него был такой вид, словно его ударили тазером.
— Пройдемте, — сказал первый какабэшник, когда они дошли до нас.
— Что? — переспросил Бэрт. — Я ничего не делал!
— Незаконное выращивание марихуаны для продажи на черном рынке с целью получения выгоды, — сказал второй. — Советую не сопротивляться аресту, иначе вам могут причинить вред.
Они повели Бэрта к дырке в заборе. Мы молча потащились следом — мы никак не могли понять, что происходит.
Когда они поравнялись с Ивоной и Бернис, Бэрт протянул к ним руки.
— Ивона! Как это произошло?
— Ты ебаный дегенерат! — крикнула она. — Лицемер! Прелюбодей! Ты думаешь, я совсем тупая?
— О чем ты говоришь? — умоляюще спросил Бэрт.
— Ты, наверное, думал, у меня такой приход от твоей ядовитой шмали, что я вообще ничего кругом себя не вижу, — сказала Ивона. — Но я все узнала. Что ты делал с этой коровищей Нуэлой! Хотя это даже не самое худшее. Сволочь, извращенец!
— Нет, — произнес Бэрт. — Честное слово! Правда, я никогда… Я только…
Я смотрела на Бернис: я не могла понять, что она чувствует. Лицо у нее было даже не красное. Пустое, как классная доска. Пыльно-белое.
Из дырки в заборе появился Адам Первый. Он всегда как чувствовал, когда происходит что-то необычное. «Как будто у него телефон», — говорила Аманда. Он положил руку на желтенькое одеяльце Ивоны.
— Ивона, милая, ты вышла «из-под пара»! — воскликнул он. — Как хорошо. Мы все за тебя молились. А что тут случилось?
— Отойдите с дороги, пожалуйста, — сказал какабэшник.
— За что ты меня так? — взвыл Бэрт, обращаясь к Ивоне, а какабэшники стали его подталкивать.
Адам Первый сделал глубокий вдох.
— Это весьма прискорбно, — сказал он. — Может быть, всем нам будет полезно поразмышлять над человеческими слабостями, общими для всех нас…
— Идиот, — сказала Ивона. — Бэрт растил в «Буэнависте» шмаль в промышленных количествах, прямо у вас под носом. Добродетельные вертоградари. Он и торговал прямо у вас под носом, на этом дурацком рынке. Хорошенькие брусочки мыла, завернутые в листья, — только не все это было мыло! Он заработал кучу денег!
Адам Первый принял скорбный вид.
— Деньги — ужасное искушение. Это болезнь.
— Ну ты и дурак, — сказала Ивона. — Экологически чистые растительные средства! Ха-ха-ха!
— Я же тебе говорила, что в «Буэнависте» растят, — шепнула мне Аманда. — Шишка попал по-крупному.
Адам Первый приказал нам всем идти домой, и мы пошли. Я ужасно переживала. Я только и думала о том, как Бернис вернулась домой в тот день, когда мы ее так обидели на рынке, и рассказала Ивоне про Бэрта с Нуэлой и еще про то, что он хватает девочек за подмышки, и Ивона так рассердилась или приревновала, что связалась с ККБ и обвинила его. ККБ поощряла граждан это делать — закладывать своих соседей и родственников. Аманда говорила, что она даже деньги за это платит.
Я ведь не хотела ничего плохого. Во всяком случае, настолько плохого. А вот как получилось.
Я подумала, что нам надо пойти к Адаму Первому и рассказать ему, что мы сделали, но Аманда сказала, что это ничего не даст, ничему не поможет, мы только наживем себе еще неприятностей. Она была права. Но мне от этого легче не стало.
— Не кисни, — сказала Аманда. — Я тебе что-нибудь украду. Что ты хочешь?
— Телефон, — сказала я. — Фиолетовый. Как у тебя.
— Хорошо, я этим займусь.
— Спасибо, ты очень добрая, — сказала я.
Я старалась говорить с выражением, чтобы Аманда знала, что я ей действительно благодарна, но она знала, что я притворяюсь.
30
Назавтра Аманда сказала, что у нее есть сюрприз, который меня точно развеселит. Она сказала, что он в торговом центре Сточной Ямы. И это действительно оказался сюрприз, потому что когда мы туда пришли, то увидели Шекки и Кроза, которые околачивались у разбитой будки голограммера. Я знала, что они оба неровно дышат к Аманде — все мальчики были в нее влюблены, — хотя она никогда не бывала с ними наедине, а только в большой компании.
— Достали? — спросила она.
Они робко ухмыльнулись. Шекки в последнее время сильно вырос: он стал длинным, поджарым, темнобровым. Кроз тоже вырос — в отличие от брата не только вверх, но и вширь; у него начала пробиваться соломенного цвета борода. Раньше меня не очень интересовала их внешность — я не думала о ней в подробностях, — но сейчас я поняла, что смотрю на них как-то по-новому.
— Сюда, — сказали они.
Они не то чтобы боялись, но были настороже. Они убедились, что никто не смотрит, и мы вчетвером залезли в будку, откуда когда-то люди проецировали свои изображения наружу, в проходы торгового центра. Будка была рассчитана на двоих, так что нам пришлось стоять очень близко друг к другу.
В будке было жарко. Я ощущала тепло наших тел, словно мы были больны и горели в лихорадке; от мальчишек пахло застарелым потом, старыми тряпками, грязью и немытыми волосами — мы все так пахли — и еще, характерно для мальчишек постарше, грибами и смесью винных опивков; от Аманды — цветами, с примесью мускуса и едва уловимой ноткой крови.
Я не знала, как я сама пахну для других. Говорят, что человек сам не ощущает своего запаха, потому что привык к нему. Я пожалела, что не знала о сюрпризе заранее, — тогда я могла бы воспользоваться припрятанным розовым обмылком. Я надеялась, что от меня не пахнет заношенным бельем или потными ногами.
Почему мы хотим нравиться другим людям, даже если мы к ним на самом деле равнодушны? Я не знала почему, но это было так. И вот я стояла в этой будке, обоняя разные запахи и надеясь, что Шекки и Кроз считают меня хорошенькой.
— Вот, — сказал Шекки. Он вытащил кусок тряпки, в который что-то было завернуто.
— Что это? — спросила я.
Я слышала собственный голос — писклявый, девчачий.
— Это сюрприз, — сказала Аманда. — Они достали нам той самой супершмали. Которую растил Шишка.
— Не может быть! — воскликнула я. — Купили? У ККБ?
— Сперли, — сказал Шекки. — Пролезли в «Буэнависту» через заднюю стену — мы это сто раз делали. Какабэшники ходили через парадную дверь, а на нас не обратили никакого внимания.
— В одном окне в погребе прутья расшатались — мы всегда лазили через то окно и устраивали пьянки на лестнице, — сказал Кроз.
— Они сложили мешки со шмалью в погреб, — сказал Шекки. — Должно быть, собрали всю, которая росла. С одного запаха можно было заторчать.
— Покажи, — сказала Аманда.
Шекки развернул тряпку: там были сухие резаные листья.
Я знала, что думает Аманда о наркотиках: человек теряет контроль над собой, а это рискованно, потому что другие люди получают над ним преимущество. Кроме того, если перестараться, можно вообще лишиться мозгов, как Фило Туман, и тогда о контроле можно совсем забыть. И еще курить можно только с теми, кому доверяешь. Значит ли это, что Аманда доверяет Шекки и Крозу?
— А ты сама пробовала? — шепотом спросила я у Аманды.
— Нет еще, — шепнула Аманда в ответ.
Зачем мы шептались? Мы стояли так близко, что Шекки и Кроз все равно все слышали.
— Тогда я не хочу, — сказала я.
— Но я с ними обменялась! — воскликнула Аманда. Она говорила с большим напором. — Я столько менялась!
— Я пробовал этот яд, — сказал Шекки. Слово «яд» он постарался выговорить очень взрослым и крутым голосом. — Полный умат.
— Я тоже. Как будто летаешь! — сказал Кроз. — Как птица, бля!
Шекки уже скрутил из листьев косяк, поджег, вдохнул дым.
У меня на попе оказалась чья-то рука. Я не знала чья. Рука лезла вверх, стараясь пробраться под цельнокроеное вертоградарское платье. Я хотела сказать «не надо», но промолчала.
— Ну попробуй, — сказал Шекки.
Он взял меня за подбородок, прижался губами к моим губам и вдул в меня полный рот дыма. Я закашлялась, он повторил, и у меня вдруг ужасно закружилась голова. Потом я увидела четкий, ослепительно яркий образ кролика, которого мы съели несколько дней назад. Он смотрел на меня мертвыми глазами, только они были оранжевые.
— Куда столько! — сказала Аманда. — Она же не привыкла!
Тут меня замутило, а потом стошнило. Наверное, попало на всех сразу. О нет, подумала я. Что за идиотка. Я не знаю, сколько времени прошло, потому что время было как резина — оно растягивалось, как длинная-длинная эластичная веревка или огромный кусок жвачки. Потом оно схлопнулось в крохотный черный квадратик, и я отключилась.
Когда я очнулась, оказалось, что я сижу, прислонившись спиной к разбитому фонтану в торговом центре. Голова еще кружилась, но меня не тошнило: скорее было похоже, как будто я плаваю в воздухе. Все казалось очень далеким и прозрачным. Может быть, можно просунуть руку сквозь цемент, подумала я. Может быть, все как кружево — состоит из крохотных частиц, а между ними Бог, как объяснял Адам Первый. Может быть, я сделана из дыма.
Окно ближайшего магазина было похоже на коробку со светлячками, на живые блестки. Там шел какой-то праздник, доносилась музыка. Звенящая, странная. Бал бабочек: они, должно быть, танцуют на тоненьких членистых ножках. Я подумала: если только удастся встать, я тоже смогу потанцевать.
Аманда обняла меня.
— Все в порядке, — сказала она. — С тобой ничего не случилось.
Шекки и Кроз еще не ушли и, судя по голосам, были недовольны. Во всяком случае, Кроз был недоволен, а Шекки колбасило почти так же, как меня.
— Так когда ты расплатишься? — спросил Кроз.
— Ничего ведь не вышло, — ответила Аманда. — Так что никогда.
— Уговор был не такой, — сказал Кроз. — Уговор был: мы приносим шмаль. Мы ее принесли. Так что вы нам должны.
— Уговор был, что у Рен поднимется настроение, — сказала Аманда. — Но ничего не вышло. Вопрос снят.
— Ничего подобного, — заявил Кроз. — Вы нам должны. Расплачивайтесь.
— Попробуй заставь, — сказала она.
В голосе зазвучала опасная нотка — так Аманда говорила с плебратвой, когда та подходила слишком близко.
— Ничего, — проговорил Шекки. — Неважно.
Кажется, он не сильно переживал.
— Вы нам должны два траха, — не отставал Кроз. — Каждая по одному. Мы страшно рисковали, нас могли убить!
— Отстань от нее, — проговорил Шекки. — Аманда, я хочу потрогать твои волосы. От тебя пахнет конфетами.
Его все еще не отпустило.
— Отвали, — сказала Аманда.
Наверное, они отвалили, потому что в следующий раз, когда я оглянулась вокруг, их уже не было.
К тому времени я уже почти пришла в себя.
— Аманда, я не могу поверить, что ты с ними обменялась.
Я хотела добавить «ради меня», но боялась заплакать.
— Прости, что ничего не вышло, — сказала она. — Я только хотела, чтобы у тебя поднялось настроение.
— Мне действительно лучше, — сказала я. — Легче.
Это была правда — частично потому, что я выблевала довольно много воды, но еще и из-за Аманды. Я знала, что она раньше так менялась — на еду, когда голодала после техасского урагана, но она рассказывала, что ей это никогда не нравилось и она это делала не ради удовольствия, так что сейчас она больше уже не меняется, потому что не нужно. И на этот раз не обязательно было, но она поменялась. Я не знала, что она меня так любит.
— Теперь у них на тебя зуб, — сказала я. — Они с тобой сквитаются.
Правда, мне казалось, что это совсем неважно, потому что я все еще «летала».
— Ничего страшного, — сказала Аманда. — Я с ними разберусь.
День Крота
День Крота
Год двенадцатый
Дорогие друзья, дорогие собратья-млекопитающие, дорогие собратья-создания!
Я не буду указывать пальцем, ибо не знаю, на кого указывать; но, как мы только что видели, злобные слухи сеют смятение. Неосторожное слово подобно окурку сигареты, брошенному в мусорный контейнер: оно тлеет, внезапно вспыхивает, и пожар охватывает целый квартал. Впредь следите за своими словами.
Определенные дружеские связи неизбежно провоцируют неуместные замечания. Но мы не шимпанзе; наши самки не кусают самок-соперниц, наши самцы не прыгают на самок и не колотят их ветвями. Во всяком случае, обычно. Жизнь любой пары трудна и подвержена искушениям, но в наших силах — не добавлять трудностей и не интерпретировать эти искушения превратно.
Среди нас больше нет Бэрта, бывшего Адама Тринадцатого, его жены Ивоны и маленькой Бернис. Простим же то, что нуждается в прощении, и окутаем их Светом в своих сердцах.
Но жизнь продолжается. Мы обнаружили здание бывшей автомастерской, которое можно превратить в уютное жилье. Нужно только осуществить проект по переселению Крыс. Я уверен, что Крысы авторемонтной мастерской «Бенц» будут счастливы в кондоминиуме «Буэнависта», когда осознают, какие возможности для пропитания он предоставляет.
К сожалению, грибные плантации «Буэнависты» для нас потеряны, но вы будете рады узнать, что Пилар сохранила грибницы всех столь ценимых нами видов, и мы заложим новые грибные плантации в погребе «Велнесс-клиники», пока не найдется более сырое помещение.
Сегодня мы празднуем День Крота, праздник подземной жизни. День Крота — детский праздник, и наши дети потрудились на славу, украшая сад «Райский утес». Кроты с коготками из зубьев расчески, Нематоды из прозрачных пластиковых пакетов, Земляные черви из набитых тряпками эластичных чулок и веревочек, Навозные жуки — все это свидетельствует о дарованных нам Богом творческих силах, которые даже бесполезное, выброшенное могут спасти из бездны бессмысленности.
Мы часто забываем о мельчайших созданиях, обитающих меж нами; но без них мы и сами не могли бы существовать, ибо каждый из нас — подлинный Вертоград невидимых жизненных форм. Что бы мы делали без Микрофлоры, населяющей наш кишечный тракт, без Бактерий, защищающих нас от враждебного вторжения? Мы кишим множеством существ, друзья мои, — мириадами живых тварей, что ползают у нас под ногами и, смею добавить, также и под ногтями.
Это правда, что иногда нас заселяют нанобиоформы, без которых мы предпочли бы обойтись, — чесоточные клещи, анкилостомы, лобковые вши, острицы и зудни, не говоря уже о злотворных бактериях и вирусах. Но мы должны видеть в них крохотных Ангелов Господних, делающих Его непостижимую работу своим неповторимым способом, ибо эти создания также находятся в Его Вечном Разуме и сияют Вечным Светом, составляя часть полифонической симфонии Творения.
Подумайте также о тех, кто трудится ради Него в Земле! О Земляных червях, Нематодах и Муравьях. Если бы они не возделывали неустанно землю, она затвердела бы, уподобясь цементу, и все живое в ней погибло бы. Подумайте об антибиотических свойствах Опарышей и различных видов Плесени, о меде, который делают наши Пчелы, а также о паутине Пауков, столь полезной для остановки крови при ранениях. На каждый недуг у Господа в великой Аптеке Природы найдется лекарство!
Трудами Жуков-могильщиков и гнилостных Бактерий наши плотские обители распадаются и возвращаются к первозданным элементам, чтобы обогатить жизнь других Созданий. Как заблуждались наши предки, когда сохраняли тела — бальзамировали, украшали, сохраняли в мавзолеях. Как ужасно, когда оболочку Души превращают в кощунственный фетиш! И в конечном итоге какой это эгоизм! Разве мы не обязаны по справедливости отплатить за дары жизни, преподнеся собственное тело в дар, когда придет время?
А теперь присоединимся к хору «Бутоны и почки» и споем традиционный детский гимн Дня Крота.
Мы славим малого Крота
31
Тоби. День Крота
Год двадцать пятый
Адам Первый говорил: «Пока ярится потоп — считайте дни. Наблюдайте восходы Солнца и перемены Луны, ибо для всего есть свое время. В Медитациях не уходите слишком далеко вглубь себя, чтобы не войти в Безвременное прежде времени. Будучи „под паром“, не опускайтесь на глубины, откуда уже не сможете подняться, иначе придет Ночь, в которой вы уже не отличите одного часа от другого, и Надежда будет утрачена».
Для счета дней Тоби служат старые блокноты с логотипом «НоваТы». Сверху каждой розовой странички нарисованы два глаза с длинными ресницами — один подмигивает — и сложенные губки, как след губной помады от поцелуя. Эти глаза и улыбающиеся рты приятны Тоби: ей кажется, что она не одна. Начиная страницу, Тоби пишет печатными буквами название праздника или имя святого по календарю вертоградарей. Она до сих пор помнит святцы наизусть: святой Э. Ф. Шумахер, святая Джейн Джейкобс, святая Сигридюр Гюдльфосская, святой Уэйн Грейди от Грифов; святой Джеймс Лавлок, блаженный Гаутама Будда, святая Бриджет Стачбери от Кофе, выращенного в тени, святой Линней от Ботанической классификации, День Крокодиловых, святой Стивен Джей Гульд от Юрских сланцев, святой Гильберто Сильва от Летучих мышей. И все прочие.
Под названиями дней она пишет про огород: что посадила, что собрала, какая фаза луны, какие насекомые навещают посадки.
Сейчас она пишет: «День Крота. Год двадцать пятый. Постирать. Луна в ущербе». День Крота приходится на Неделю святого Юэлла. Годовщина неприятных событий.
Два дня назад — в День святого Орландо Гарридо от Ящериц — Тоби сделала запись, не относящуюся к огороду. «Галлюцинация?» — написала она. Сейчас она раздумывает над этой записью. Тогда ей действительно показалось, что это галлюцинация.
Это было после ежедневной грозы. Тоби на крыше проверяла трубы, идущие от бочонка с дождевой водой, — единственный кран, которым она пользовалась внизу, засорился. Тоби нашла, в чем дело — оказалось, в трубе застряла дохлая мышь, — и уже собиралась спускаться, но тут послышался странный звук. Похожий на пение, но такого пения Тоби в жизни не слыхала.
Она взяла бинокль и принялась оглядывать окрестности. Сначала ничего не было видно, но потом в дальнем конце территории показалась странная процессия. Кажется, она состояла исключительно из голых людей, хотя один человек, который шел впереди, был в одежде, в какой-то красной шляпе и — возможно ли это? — в солнечных очках. За ним шли мужчины, женщины и дети с кожей самых разнообразных цветов. Подкрутив фокус бинокля, Тоби разглядела, что кое у кого из голых синие животы.
Потому она и решила, что это, должно быть, галлюцинация: из-за синего цвета. И еще из-за хрустального, потустороннего звука их голосов. Фигуры она видела лишь несколько секунд. Только что были и вот уже растворились, как дым. Должно быть, они зашли за деревья, направляясь по тропе.
Тоби ничего не могла с собой поделать — сердце у нее запрыгало от радости. Ей захотелось сбежать по лестнице, выбежать на улицу, догнать их. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой… столько людей сразу. И еще таких здоровых на вид. Не может быть, что они настоящие. Если Тоби поддастся на этот мираж, песню сирены, и пойдет в лес, где рыщут свиньи, она будет не первым человеком на свете, который погиб оттого, что принял оптимистические фантазии за действительность.
Как говорил Адам Первый, мозг, столкнувшись со слишком большим количеством пустоты, начинает изобретать. Одиночество создает собеседников, как жажда творит воду. Стольких моряков погубило стремление к островам, которые оказались миражами.
Она берет карандаш и зачеркивает вопросительный знак. Теперь запись гласит: «Галлюцинация». Ясно. Четко. Никаких сомнений.
Тоби кладет карандаш, берет ручку от щетки, бинокль и карабин и тащится вверх по лестнице, на крышу, чтобы обозреть свои владения. Сегодня все тихо. В окрестностях ничего не видно — ни крупных животных, ни голых синих певцов.
32
Сколько лет прошло с того Дня Крота, последнего, когда Пилар еще была жива? Кажется, это был двенадцатый год.
Накануне случилась катастрофа — арестовали Бэрта. Когда какабэшники увели его, а Ивона и Бернис ушли с пустыря, Адам Первый созвал всех вертоградарей на экстренное собрание в саду на крыше. Он сообщил им новости, и эти новости повергли их в состояние шока. Им было чудовищно больно и стыдно. Как это Бэрт умудрился растить марихуану в «Буэнависте» и никто его не заподозрил?
Конечно, из-за доверчивости, думает Тоби. Вертоградари не верили никому из Греховного мира, но своим они доверяли. А теперь они влились в обширные ряды искренне верующих, которые в один прекрасный день обнаруживают, что священник сбежал с церковной кассой, по дороге растлив десяток мальчиков-хористов. Бэрт хотя бы мальчиков не тронул — во всяком случае, насколько было известно вертоградарям. Среди детей ходили слухи — всякие гадости, как дети обычно рассказывают, — но не про мальчиков. Бэрт интересовался только девочками и ограничивался хватанием за подмышки.
Единственный из вертоградарей, кого новости не привели в удивление и ужас, был Фило Туман. Правда, он вообще ничему не удивлялся и не ужасался. Он только сказал: «Хотел бы я попробовать той шмали, так ли уж она хороша».
Адам Первый призвал добровольцев приютить у себя жильцов «Буэнависты», внезапно оставшихся без крова. Адам Первый сказал, что они не могут туда вернуться, потому что «Буэнависта» теперь кишит людьми из ККБ, и все вещи, которые там остались, можно считать потерянными.
— Если бы дом горел, вы не побежали бы туда ради спасения нескольких безделушек, — сказал он. — Так Господь испытывает нас на непривязанность к царству бесполезных иллюзий.
Вертоградарям не полагалось расстраиваться из-за потери вещей: все свои материальные ценности они восторгали из мусорных контейнеров и со свалок, так что теоретически всегда могли восторгнуть новые. Тем не менее кто-то оплакивал хрустальный бокал, а кто-то поднял необъяснимый шум из-за сломанной вафельницы, что была дорога как память.
Затем Адам Первый попросил всех присутствующих не говорить о Бэрте и «Буэнависте», а особенно о ККБ.
— Возможно, что враги нас подслушивают, — сказал он.
Он это все чаще повторял в последнее время; Тоби иногда задумывалась, не параноик ли он.
— Нуэла, Тоби, — сказал он, пока все остальные уходили, — можно вас на минуту?
Зебу же он сказал:
— Ты бы не мог пойти туда и проверить? Хотя, скорее всего, мы ничего не можем сделать.
— Ни хрена не можем, — жизнерадостно отозвался Зеб. — Но я гляну.
— Оденься как житель плебсвилля, — сказал Адам Первый.
Зеб кивнул.
— Да, в солнцебайкерское.
Он пошел к пожарной лестнице.
— Нуэла, дорогая, — сказал Адам Первый, — ты не могла бы пролить свет? На то, что сказала Ивона относительно тебя и Бэрта?
Нуэла зашмыгала носом.
— Понятия не имею, — сказала она. — Это такая гадкая ложь! Так неуважительно! Так больно! Как она могла такое подумать про меня и… и Адама Тринадцатого?
«Подумать-то совсем нетрудно, особенно глядя на то, как ты трешься о чужие брюки», — мысленно заметила Тоби. Нуэла флиртовала со всеми существами мужского пола. Но ведь Ивона была «под паром» во время этого флирта. Тогда что могло возбудить ее подозрения?
— Никто из нас этому не верит, дорогая, — сказал Адам Первый. — Должно быть, Ивоне нашептал какой-нибудь сплетник… может быть, даже агент-провокатор, засланный врагами, чтобы посеять меж нами раздор. Я спрошу привратников «Буэнависты», не было ли у Ивоны в последние дни необычных гостей. А теперь, Нуэла, милая, осуши слезы и ступай в швейную. Нашим братьям и сестрам, оставшимся без крова, понадобится множество швейных изделий — например, одеял, а я знаю, что ты всегда рада помочь.
— Спасибо! — благодарно воскликнула Нуэла.
Она бросила ему взгляд, который говорил: «Только ты меня понимаешь!», и поспешила к пожарной лестнице.
— Тоби, дорогая, загляни в свое сердце — не готова ли ты взять на себя обязанности Бэрта? — спросил Адам Первый, как только Нуэла ушла. — «Ботанику садовых растений», «Съедобные сорняки». Мы, конечно, сделаем тебя Евой. Я давно уже намеревался, но Пилар так ценила твою помощь, и мне кажется, ты с радостью выполняла эту работу. Я не хотел отбирать тебя у Пилар.
Тоби подумала.
— Это большая честь, — наконец сказала она. — Но я не могу ее принять. Стать полноправной Евой… это будет лицемерие с моей стороны.
Как она ни старалась, ей так и не удалось повторить момент просветления, которого она достигла в первый день у вертоградарей. Она пробовала пребывание в затворе, неделю уединения, всенощные бдения, принимала все положенные грибы и эликсиры, но никакие особые откровения ее не посещали. Видения были, да, но бессмысленные. Может, конечно, у них и был какой-то смысл, но Тоби не удалось его разгадать.
— Лицемерие? — спросил Адам Первый, морща лоб. — Это почему?
Тоби очень тщательно выбрала слова: она не хотела его обидеть.
— Я не уверена, что полностью принимаю все учение вертоградарей.
Это было очень мягко сказано: на самом деле она почти ни во что из их учения не верила.
— В некоторых религиях вера предшествует деянию, — сказал Адам Первый. — А в нашей деяние предшествует вере. Ты ведешь себя так, как если бы верила. «Как если бы» — эти три слова для нас очень важны. Продолжай жить в соответствии с ними, и вера придет к тебе в свое время.
— На одной надежде жить тяжело, — сказала Тоби. — Само собой разумеется, что Ева должна быть…
Адам Первый вздохнул.
— Не следует слишком многого ожидать от веры, — сказал он. — Человеческое разумение несовершенно, и мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно.[13] Любая религия — тень Бога. Но тень Бога — это еще не Бог.
— Я не хочу подавать плохой пример, — возразила Тоби. — Дети чувствуют фальшь — они увидят, что я только притворяюсь. Это может повредить делу.
— Твои сомнения лишь подтверждают мою правоту, — сказал Адам Первый. — Они доказывают, какой ты надежный человек. На каждое «нет» найдется свое «да»! Ты сделаешь для меня одну вещь?
— Какую? — подозрительно спросила Тоби.
Она не хотела брать на себя обязанности Евы и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Она хотела быть свободной, если вдруг понадобится бежать.
Я просто отбывала время, подумала она. Пользовалась их добротой. Фальшивка.
— Помолись о вразумлении, — сказал Адам Первый. — На всенощном бдении. Молись о том, чтобы Господь ниспослал тебе силу противостоять страхам и сомнениям. Я уверен, что ты получишь положительный ответ. У тебя есть дар, который нельзя расточать просто так. Мы все с радостью примем тебя как Еву, я тебя уверяю.
— Ну хорошо, — сказала Тоби. — Это я могу.
А еще на каждое «да» найдется свое «нет», подумала она.
Препараты для бдений и прочие вещества, которые у вертоградарей отвечали за путешествия вне тела, хранились у Пилар. Тоби несколько дней не видела Пилар из-за ее болезни — по-видимому, кишечного гриппа. Но Адам Первый ничего не сказал про болезнь, и Тоби предположила, что Пилар уже выздоровела. Грипп редко длится больше недели.
Тоби дошла до крохотного закутка Пилар, расположенного в глубинах здания. Пилар полулежала на тюфяке, подложив под спину подушки. Рядом на полу в консервной банке мерцала восковая свеча. Воздух был спертый, и пахло рвотой. Но тазик, стоящий возле Пилар, был пуст и чист.
— Тоби, милая, — сказала Пилар. — Сядь со мной.
Крохотное личико сильнее обычного походило на грецкий орех, несмотря на бледность — или подобие бледности, какое бывает при смуглой коже. Сероватый цвет. Грязный.
— Тебе лучше? — спросила Тоби, взяв в обе ладони жилистую лапку Пилар.
— О да. Гораздо лучше, — сказала Пилар, светло улыбаясь. Голос был слабый.
— Что это было?
— Съела что-то, — ответила Пилар. — Ну так чем я могу тебе помочь?
— Я хотела тебя проведать, — ответила Тоби и с удивлением поняла, что это правда.
Пилар была такой изможденной, хрупкой. Тоби ощутила собственный страх: что, если Пилар — которая казалась вечной, которая, несомненно, была всегда, во всяком случае с незапамятных времен, как валун или древний пень, — что, если она вдруг исчезнет?
— Спасибо, мне очень приятно, — сказала Пилар. Она сжала руку Тоби.
— И еще Адам Первый попросил меня стать Евой.
— Ты, конечно, отказалась? — улыбаясь, спросила Пилар.
— Точно, — ответила Тоби. Пилар всегда отгадывала ее мысли. — Но он хочет, чтобы я провела всенощное бдение. Помолилась о вразумлении свыше.
— Это будет лучше всего. Ты знаешь, где я держу все, что нужно для всенощного бдения. Коричневый флакон, — сказала она; Тоби приподняла связанную из резинок и бечевок занавеску, отделяющую полки со снадобьями. — Коричневый, справа. Только пять капель и две из фиолетового.
— А я уже пробовала этот вариант? — спросила Тоби.
— Именно этот — нет. На этом ты обязательно получишь какой-нибудь ответ. Он работает без ошибки. Природа никогда не подведет. Ты же знаешь.
Тоби ничего подобного не знала. Она отмерила капли в одну из надбитых чашек Пилар и поставила флаконы на место.
— Тебе точно лучше? — спросила она.
— Со мной все в порядке, — ответила Пилар. — В данный момент. А данный момент — единственный отрезок времени, в котором человек может быть в порядке. Беги, дорогая, и желаю тебе приятного бдения. Сегодня луна в ущербе. Повеселись как следует!
Иногда, раздавая снадобья для наркотических трипов, Пилар выражалась совсем как оператор детской карусели в парке аттракционов.
В качестве площадки для всенощного бдения Тоби выбрала помидорную секцию сада на крыше. Она поставила там знак «Место всенощного бдения», согласно принятым правилам; бдящие иногда куда-нибудь убредали, и для розысков полезно было знать, где они, по идее, должны были находиться.
В последнее время Адам Первый начал ставить часовых на всех этажах у выходов на лестницу. Значит, подумала Тоби, я не смогу спуститься по лестнице так, чтобы меня никто не заметил. Разве что с крыши свалюсь.
Она дождалась сумерек и приняла капли в смеси соков бузины и малины: снадобья Пилар для бдений всегда имели вкус мульчи. Затем Тоби села в позу для медитации рядом с большим помидорным кустом, который в лунном свете походил на обросшую листьями танцовщицу, изогнутую в затейливой позе, или на гротескное насекомое.
Скоро куст засветился и начал крутить ветками, а помидоры — пульсировать, как маленькие сердца. Поблизости кричали кузнечики, словно апостолы, получившие дар языков: «кваркит-кваркит, иккит-иккит, аркит-аркит…»
Гимнастика для нервной системы, подумала Тоби. И закрыла глаза.
«Почему я не могу уверовать?» — спросила она у темноты.
За закрытыми веками она увидела животное. Оно было золотистое, с кроткими зелеными глазами и собачьими зубами, вместо меха покрытое курчавым руном. Животное открыло рот, но ничего не сказало. Только зевнуло.
Оно уставилось на Тоби. Тоби уставилась на него.
— Ты — результат тщательно подобранной комбинации растительных токсинов, — сообщила она ему. И уснула.
33
Наутро Адам Первый зашел спросить о результатах бдения.
— Ну как, ты получила ответ? — спросил он у Тоби.
— Я видела животное, — сказала она.
Адам Первый пришел в восторг.
— Какой замечательный успех! Что за животное? Что оно тебе сказало?
Но не успела Тоби ответить, как он посмотрел ей за спину.
— К нам вестник.
У Тоби мутилось в голове после бдения, и она решила, что Адам Первый имеет в виду какого-нибудь ангела, навеянного грибами, или растительный призрак, но это был всего лишь Зеб, запыхавшийся после подъема по пожарной лестнице. Он был все еще в одежде плебсвилля: черный искожаный жилет, засаленные джинсы, потертые ботинки солнцебайкера. Вид у него был как с похмелья.
— Ты что, всю ночь не спал? — спросила Тоби.
— Ты тоже, судя по твоему виду. Устроят мне дома нахлобучку — Люцерна терпеть не может, когда я работаю по ночам.
Впрочем, с виду было не похоже, что его это сильно расстраивает.
Зеб обратился к Адаму Первому:
— Ты хочешь созвать общее собрание или сначала узнать плохие новости?
— Сначала новости, — сказал Адам Первый. — Возможно, их придется подправить перед распространением. — Он кивнул на Тоби: — Она паниковать не будет.
— Ладно, — сказал Зеб. — Вот вам новости.
Он сказал, что получил информацию из неофициальных источников: в поисках истины ему пришлось пожертвовать собой и целый вечер смотреть на пляски девиц в «Хвосте-чешуе», где в свободное время околачиваются какабэшники. Он сказал, что не хотел подбираться к ним слишком близко — он с ними вроде как раньше сталкивался и не хотел, чтобы они его узнали, несмотря на частично измененную внешность. Но он знал кое-кого из девушек и расспросил их на предмет слухов.
— Ты им заплатил? — спросил Адам Первый.
— Бесплатных пирожных не бывает, — ответил Зеб. — Но я не переплатил.
Оказалось, что Бэрт растил коноплю в «Буэнависте». Все как обычно: пустующие квартиры, окна затемнены, электричество уворовано. Прожекторы полного спектра, автоматические поливальные системы, все по последнему слову техники. Но это была не обычная шмаль и даже не супершмаль с Западного побережья: это был совершенно космический сплайс с генами пейота, псилоцибином и даже капелькой айяуаски — они старались использовать только положительные свойства айяуаски, хотя и не смогли полностью убрать ту часть, от которой потом выворачивает наизнанку. Из тех, кто попробовал эту дрянь, куча народу готова пойти на убийство, чтобы ее еще раз попробовать. Ее пока мало, так что на рынке она идет по запредельным ценам.
Естественно, всем руководила ККБ. Сплайс разработали в лабораториях «Здравайзера», а конечный товар какабэшники продавали оптом. Они заправляли этим, как и всей остальной нелегальщиной, через плебмафию. Они решили, что очень забавно будет использовать в качестве марионетки одного из Адамов, да еще растить шмаль в здании, управляемом вертоградарями. Они прилично платили Бэрту, но он решил торговать налево. И это сходило ему с рук, пока кто-то не настучал на него в ККБ. Анонимно. Звонок проследили до мобилки, выброшенной в мусорник. Следов ДНК на нем не было. Голос был женский. Очень сердитый.
Ивона, подумала Тоби. Интересно, где она раздобыла телефон? По слухам, она увезла Бернис на Западное побережье на деньги, которые заплатила ей ККБ.
— Где он теперь? — спросил Адам Первый. — Адам Тринадцатый. Бывший Адам Тринадцатый. Он еще жив?
— Не могу сказать, — ответил Зеб. — Данных нет.
— Будем молиться, — сказал Адам Первый. — Он про нас все расскажет.
— Если он с ними работал, то и так уже все рассказал.
— А он знал про образцы тканей Пилар? — спросил Адам Первый. — Про наш контакт в «Здравайзере»? Про нашего юного курьера с банкой меда?
— Нет, — ответил Зеб. — То было строго между мной, тобой и Пилар. Мы не обсуждали это на совете.
— К счастью, — сказал Адам Первый.
— Будем надеяться на несчастный случай. С охотничьим ножом, — сказал Зеб. — Ты ничего не слышала, — обратился он к Тоби.
— Не страшись! — сказал Адам Первый. — Тоби теперь поистине одна из нас. Она будет Евой.
— Я же не получила ответа! — запротестовала Тоби.
Зевающее животное, прямо скажем, не самое убедительное из видений.
Адам Первый благосклонно улыбнулся.
— Ты примешь правильное решение, — сказал он.
Остаток дня Тоби провела за составлением букета запахов, неотразимо привлекательного для крыс. Эту смесь должны были выложить цепочкой от автомастерской «Бенц» до кондоминиума «Буэнависта». Нужно было ненасильственно переселить крыс из одного здания в другое: вертоградари не считали возможным лишать крова собратьев-тварей, не предложив им эквивалентного жилья.
Тоби взяла обрезки мяса из тех, что Пилар держала для опарышей, немного меда, немного арахисового масла (за которым пришлось посылать Аманду в супермаркет). Немного вонючего сыру; остатки прокисшего пива, чтобы смесь стала жидкой. Когда смесь была готова, Тоби послала за Шеклтоном и Крозье и выдала им инструкции.
— Ух, как воняет, — сказал Шеклтон, восхищенно принюхиваясь.
— Выдержите? — спросила Тоби. — Если нет, то…
— Мы все сделаем, — сказал Крозье, расправляя плечи.
— Можно, я тоже пойду? — пропищал маленький Оутс, который притащился за братьями.
— Без сопливых скользко! Нам таких не надо, — ответил Крозье.
— Будьте осторожны, — сказала Тоби. — Мы не хотим потом найти вас на пустыре. Без почек.
— Я знаю, что делаю, — гордо сказал Шеклтон. — Зеб нам поможет. Мы оделись как плебратва — видишь?
Он распахнул вертоградарскую рубашку: под ней была надета черная футболка с надписью: «СМЕРТЬ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОХУДЕТЬ!» Под надписью красовался серебряный череп с костями.
— Эти какабэшники тупые, — ухмыльнулся Крозье. На нем тоже была футболка «УЛЫБНИСЬ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МЕНЯ!». — Мы запросто пройдем мимо них!
— Ничего я не сопливый, — буркнул Оутс и пнул Крозье в щиколотку.
Крозье отвесил ему подзатыльник.
— Мы невидимы для их радара, — сказал Шеклтон. — Они нас даже не заметят.
— Свиноед! — закричал Оутс.
— Оутс, ну-ка прекрати ругаться, — сказала Тоби. — Можешь пойти со мной и помочь мне кормить червей. А вы отправляйтесь. Вот вам бутылка. Не проливайте ее внутри «Бенца», особенно на деревянные вещи, иначе людям придется долго жить с этим запахом.
Она добавила, обращаясь к Шеклтону:
— Мы на вас очень надеемся.
Мальчикам в этом возрасте полезно внушать, что они делают мужскую работу, главное — чтобы не увлекались.
— Пока, сопля, — сказал Крозье.
— А ты вонючка, — ответил Оутс.
34
Наутро Тоби вела урок в «Велнесс-клинике»: «Лекарственные растения», для детей 12–15 лет. Дети прозвали этот предмет «Бешеные травки», но это было всяко лучше, чем придуманные ими прозвища для уроков по обращению с фиолет-биолетом («Какашки-бумажки») и сооружения компостных куч («Гнилушки-вонючки»).
— Ива, — произнесла она. — Анальгетик. А-наль-ге-тик. Запишите на досках.
Заскрипели мелки. Пожалуй, слишком сильно заскрипели.
— Крозье, прекрати, — сказала Тоби, не оборачиваясь.
Крозье всегда нарочно скрипел мелком. Кажется, кто-то шепнул: «Сухая ведьма»?
— Шеклтон, я все слышу, — сказала Тоби; класс сегодня взбудоражен: еще не успокоились после истории с Ивоной. — Анальгетик. Кто знает, что это значит?
— Болеутоляющее, — сказала Аманда.
— Правильно.
Аманда всегда подозрительно хорошо вела себя на уроках, а сегодня — еще лучше обычного. Она была хитра. Слишком хорошие уроки получила в Греховном мире. Но Адам Первый утверждал, что пребывание у вертоградарей чрезвычайно благотворно для Аманды, и кто скажет, что Аманда не перевоспитывается? Тем не менее печально, что Аманда втянула Рен в свои чересчур привлекательные сети. Рен слишком поддается влиянию — она всю жизнь так и будет у кого-нибудь под каблуком.
— Какую часть растения ивы мы используем для изготовления болеутоляющих средств? — продолжала Тоби.
— Листья? — спросила Рен.
Слишком старается угодить, да и ответ неправильный. Похоже, Рен еще больше обычного не в своей тарелке. Должно быть, переживает потерю Бернис или чувствует себя виноватой: она так безжалостно отпихнула Бернис в сторону, когда появилась Аманда. Они думают, что мы их не видим. Не знаем, что они замышляют. Думают, что мы не видим их взаимного презрения, взаимной жестокости, интриг.
В дверь просунулась голова Нуэлы:
— Тоби, дорогая, можно тебя на два слова?
Голос Нуэлы звучал заунывно. Тоби вышла в коридор.
— Что случилось? — спросила она.
— Тебе нужно прямо сейчас идти к Пилар, — сказала Нуэла. — Она выбрала свой час.
У Тоби сжалось сердце. Значит, Пилар ей солгала. Нет, не солгала: просто сказала не всю правду. Она действительно что-то съела, но не случайно. Нуэла сжала предплечье Тоби, выражая глубочайшее сочувствие. «Убери от меня свои потные лапы, — подумала Тоби. — Я же не мужик».
— Ты можешь пока заменить меня в классе? Мы проходим иву.
— Конечно, дорогая, — сказала Нуэла. — Я разучу с ними «Ивушку плакучую».
Нуэла очень любила эту слащавую песенку: она сочинила ее для малышей. Тоби представила себе, как старшие дети будут закатывать глаза. Но Нуэла все равно почти ничего не знает о растениях, так что пускай поют: хотя бы время заполнят.
Тоби поспешила прочь, слыша за спиной голос Нуэлы:
— Тоби ушла, ей нужно исполнить свой милосердный долг; давайте поможем ей и споем песню про «Ивушку плакучую»!
Ее сильное, чуть фальшивое контральто взмыло над вялыми голосами детей:
Ад — это вечность, заполненная стишатами Нуэлы, подумала Тоби. И вообще, плакучая ива — не болеутоляющее. Белая ива, salix alba, которая содержит салициловую кислоту, — вот что утоляет боль.
Пилар лежала на кровати у себя в закутке, и восковая свеча все так же горела на полу в жестяной плошке. Пилар протянула к Тоби худую смуглую руку.
— Тоби, милая, — сказала она. — Спасибо, что пришла. Я хотела тебя видеть.
— Ты все сделала сама! — воскликнула Тоби. — И мне не сказала!
Она так расстроилась, что даже разозлилась.
— Я не хотела, чтобы ты напрасно беспокоилась, — сказала Пилар. Ее голос упал до шепота. — Я хотела, чтобы ты приятно провела бдение. А теперь сядь со мной и расскажи, что ты видела вчера ночью.
— Животное, — ответила Тоби. — Вроде льва, но не лев.
— Хорошо, — шепнула Пилар. — Это добрый знак. Тебе пошлют сильную помощь, когда ты будешь в ней нуждаться. Я рада, что это был не слизняк.
Она едва слышно хихикнула и сразу же поморщилась от боли.
— Почему? — спросила Тоби. — Почему ты это сделала?
— Я узнала диагноз, — ответила Пилар. — Рак. Обширные метастазы. Так что лучше уйти сейчас, пока я еще соображаю, что делаю. Зачем тянуть?
— Какой диагноз? — спросила Тоби.
— Я послала образцы тканей. Катуро взял биопсию. Мы спрятали образцы в банке с медом и контрабандой протащили в диагностические лаборатории в «Здравайзере» — по чужим документам, конечно.
— Кто протащил? Зеб?
Пилар улыбнулась, словно вспомнила шутку, известную ей одной.
— Друг, — ответила она. — У нас много друзей.
— Мы можем отвезти тебя в больницу, — сказала Тоби. — Я уверена, что Адам Первый разрешит…
— Никакого отступничества. Ты же знаешь, что мы думаем о больницах. С тем же успехом вы можете бросить меня в помойку. В любом случае от того, что я приняла, противоядия нет. Передай мне, пожалуйста, вон тот стакан, синий.
— Погоди! — воскликнула Тоби.
Как потянуть время? Как сделать, чтобы Пилар осталась с ней?
— Это всего лишь вода с капелькой ивы и мака, — шепнула Пилар. — Приглушает боль, но сохраняет разум. Я хочу быть в сознании, пока можно. Я еще немного протяну.
Тоби смотрела, как Пилар пьет.
— Еще одну подушку, — попросила Пилар.
Тоби передала ей набитый мякиной мешок из кучи таких же в изножье кровати.
— Ты была мне семьей, — сказала она. — Больше, чем все остальные.
Ей было трудно говорить, но она не позволит себе плакать.
— И ты мне, — просто ответила Пилар. — Помни про Арарат в «Буэнависте». Поддерживай его.
Тоби решила не говорить ей, что Арарат в «Буэнависте» для них потерян из-за Бэрта. Зачем зря расстраивать? Тоби подсунула подушку за спину Пилар; ее тело оказалось на удивление тяжелым.
— Что ты приняла? — спросила Тоби. У нее перехватило горло.
— Я тебя хорошо выучила, — сказала Пилар. Вокруг глаз у нее разбежались морщинки, словно она улыбалась, словно вся эта история была розыгрышем. — Попробуй угадать. Симптомы: судороги и рвота. Затем наступает период, когда состояние пациента вроде бы улучшается. На самом деле в это время медленно разрушается печень. Противоядия нет.
— Что-то из мухоморов, — сказала Тоби.
— Умница, — шепнула Пилар. — Это был «Ангел Смерти», друг в час нужды.
— Но это же так больно.
— Не беспокойся, — ответила Пилар. — На это у нас всегда есть экстракт мака. Он в красной бутылочке, вон там. Я скажу когда. А теперь слушай меня внимательно. Это мое завещание. Как мы говорим, у савана карманов нет — все земные пожитки умирающий должен оставить живым, и знания в том числе. Я хочу, чтобы ты приняла все, что здесь собрано, — все мои материалы. Это хорошая коллекция, и в ней заключена огромная сила. Охраняй ее хорошо и используй достойно. Я тебе доверяю. Кое с какими из этих бутылочек ты знакома. Я составила список остальных на бумаге, ты должна его выучить наизусть, а затем уничтожить. Список в зеленом кувшине, вон в том. Ты обещаешь?
— Да. Обещаю.
— Обещания, данные умирающим, у нас священны, — сказала Пилар. — Тебе это известно. Не плачь. Посмотри на меня. Я не печалюсь.
Тоби знала теорию: Пилар верила, что вливается в великую матрицу Жизни по своей собственной воле и что это — причина для радости.
«Но как же я? — подумала Тоби. — Я останусь одна». Словно вернулось то время, когда умерла мать, а потом отец. Сколько еще раз ей придется пройти через это и заново осиротеть? «Не ной!» — сердито одернула она сама себя.
— Я хочу, чтобы ты стала Евой Шестой, — сказала Пилар. — Вместо меня. Больше ни у кого нет такого дара и нужных знаний. Сделаешь? Для меня. Обещаешь?
Тоби пообещала. Что еще она могла сказать?
— Хорошо, — шепнула Пилар на выдохе. — А теперь, думаю, пришло время для мака. Вон тот красный флакон. Пожелай мне удачного путешествия.
— Спасибо за все, чему ты меня научила, — сказала Тоби. Я этого не вынесу, подумала она. Я ее убиваю. Нет, я помогаю ей умирать. Я выполняю ее желание.
Она смотрела, как Пилар пьет.
— Спасибо, что училась у меня, — сказала Пилар. — Теперь я засну. Не забудь сказать пчелам.
Тоби сидела рядом, пока Пилар не перестала дышать. Потом натянула край покрывала на спокойное лицо и задула свечу. Это ей показалось, или свеча вспыхнула в момент смерти, словно ветерок подул? Это Дух, сказал бы Адам Первый. Энергия, которую невозможно ни постичь, ни измерить. Неизмеримый дух Пилар. Его больше нет.
Но если Дух ни с какой стороны не материален, он не может повлиять на пламя свечи. Так ведь?
«Я скоро стану такой же чокнутой, как все остальные, — подумала Тоби. — Съеду с катушек. Начну с цветами разговаривать. Или с улитками, как Нуэла».
Но она пошла сказать пчелам. Идиотизм, конечно; но ведь она обещала. Она помнила, что мысленно произнести послание недостаточно: слова надо сказать вслух. Пилар говорила, что пчелы — вестники меж тем миром и этим. Между живыми и мертвыми. Они переносят Слово, ставшее воздухом.
Тоби покрыла голову — Пилар утверждала, что таков обычай, — и встала перед ульями сада на крыше. Пчелы кружились, как обычно, прилетали и улетали, приносили на лапках груз пыльцы, лавировали, выписывая восьмерки, — танец, указывающий дорогу. Из ульев доносилось гудение — это рабочие пчелы махали крылышками, вентилируя улей, охлаждая его, подавая свежий воздух в коридоры и соты. Одна пчела все равно что все пчелы, говорила Пилар, и что хорошо для улья — то хорошо для пчелы.
Несколько пчел, золотых и пушистых, закружились вокруг Тоби. Три пчелы сели ей налицо, пробуя его на вкус.
— Пчелы, — сказала она, — я принесла вам весть. Скажите своей царице.
Слушают ли они? Может быть. Они шебуршились на краях дорожек от высохших слез. Ученый-энтомолог сказал бы, что пчелы любят соль.
— Пилар умерла, — сказала Тоби. — Она шлет вам привет и благодарность за многолетнюю дружбу. Когда придет ваше время последовать за ней туда, куда она ушла, она вас там встретит.
Этим словам научила ее Пилар. Тоби чувствовала себя полной идиоткой, произнося их вслух.
— А до тех пор я буду вашей новой Евой Шестой.
Никто не слушал. Хотя если бы кто и подслушал — здесь, на крыше, — он не счел бы это странным. А вот там, внизу, на уровне земли, Тоби записали бы в сумасшедшие — из тех, кто блуждает по улицам и громко беседует с пустотой.
Пилар всегда приносила пчелам новости по утрам. Должна ли Тоби делать то же самое? Да, конечно. Это одна из обязанностей Евы Шестой. Пилар говорила: если не рассказывать пчелам, что происходит, они обидятся, отроятся и улетят в другое место. Или умрут.
Пчелы на лице Тоби замерли в нерешительности: может быть, чувствовали, что она дрожит. Но раз они не жалят, значит, умеют отличить горе от страха. Через несколько секунд они поднялись в воздух и улетели, смешались с кружащим над ульями большинством.
35
Тоби пришла в себя, привела лицо в порядок и пошла сообщать новость Адаму Первому.
— Пилар умерла, — сказала она. — Она сама распорядилась.
— Да, дорогая, я знаю, — ответил он. — Мы с ней это обсудили. Она воспользовалась «Ангелом Смерти», а потом маком?
Тоби кивнула.
— Но… это деликатное дело, и я надеюсь на твою скромность… Пилар считала, что широкие массы вертоградарей не должны знать всю правду. Уйти в последнее путешествие по собственной воле — это выбор, морально доступный лишь зрелым людям и, нужно добавить, только смертельно больным, как Пилар; не следует, чтобы о такой возможности знали все, особенно молодежь — молодые люди впечатлительны и склонны к черной меланхолии и ложной героике. Надеюсь, ты как следует распорядилась флаконами Пилар? Нельзя допускать несчастных случаев.
— Да, — ответила Тоби. И подумала: нужно сообразить шкаф. Железный. С замком.
— Теперь ты — Ева Шестая, — просиял Адам Первый. — Она тебя так любила и уважала.
— Я надеюсь не посрамить ее память, — ответила Тоби.
Так эти двое загнали ее в ловушку. Что она могла сказать? Она обнаружила, что шагнула в ритуал, словно всунула ноги в каменные башмаки.
Адам Первый созвал общее собрание вертоградарей и произнес лживую речь.
— К несчастью, — начал он, — наша Пилар — Ева Шестая — сегодня трагически скончалась в результате ошибочной идентификации вида. У нее за плечами было много лет безупречной работы, но, возможно, таким способом Господь призвал ее к Себе ради исполнения Своего замысла. Хочу напомнить вам о необходимости тщательного изучения грибов и о том, что при сборе дикорастущих грибов следует ограничиваться хорошо известными видами — сморчками, навозниками и дождевиками: такими, которых ни с чем не спутаешь… При жизни Пилар чрезвычайно обогатила и расширила нашу коллекцию разнообразных грибов, добавив к ней ряд дикорастущих. Некоторые из этих грибов помогают при бдениях, но, прошу вас, принимайте их только после консультации со знающими людьми и обращайте внимание на форму шляпок и колец! Мы не хотим повторений несчастного случая.
Тоби разозлилась: как он смеет обвинять Пилар в незнании грибов? Она никогда не сделала бы такой ошибки; старым вертоградарям это известно. Но может быть, это лишь манера речи, как самоубийство иногда называют «смертью от несчастного случая».
— Я счастлив объявить, — продолжал Адам Первый, — что наша уважаемая Тоби согласилась занять место Евы Шестой. Таково было желание Пилар, и я уверен, вы все согласитесь, что это наиболее достойная кандидатура. Я сам полностью полагаюсь на Тоби в… во многом. Среди ее великих даров — не только обширные познания, но и здравый смысл, твердость в испытаниях, доброе сердце. Поэтому выбор Пилар пал на нее.
Люди сдержанно заулыбались и закивали Тоби.
— Наша незабвенная Пилар выразила желание, чтобы ее предали компосту в Парке Наследия, — продолжал Адам Первый. — Она сама предусмотрительно выбрала куст, который будет посажен сверху, — прекрасный образец бузины, — так что со временем мы можем рассчитывать на некоторые дивиденды при сборе дикорастущих благ. Как вы все знаете, незаконное компостирование — это большой риск, так как за него положены штрафы: в Греховном мире считается, что даже сама смерть должна регламентироваться, а главное — оплачиваться. Но мы осмотрительно подготовимся к этому мероприятию и выполним его с разумной предосторожностью. А пока те, кто хочет проститься с Пилар, могут посетить ее комнату. Если вы желаете принести ей цветы, я хотел бы обратить ваше внимание на настурции, ибо они сейчас изобилуют. Пожалуйста, не срывайте цветы чеснока, мы сохраняем их для получения семян.
Кое-кто из вертоградарей пролил слезу, а дети ревели не стесняясь — Пилар многие любили. Затем все разошлись. Некоторые на ходу улыбались Тоби, чтобы показать, что они рады ее повышению. Сама Тоби никуда не ушла, потому что Адам Первый держал ее за руку.
— Тоби, дорогая, прости меня, — сказал он, когда остальные ушли. — Прости за отступление от истины. Иногда мне приходится говорить вещи, которые не совсем правдивы. Но это для общего блага.
Тоби и Зеба отрядили выбрать место для компостирования Пилар и заранее выкопать яму. Время не ждет, сказал Адам Первый; вертоградари не верили в замораживание тел, а погода стояла жаркая. Так что, если не закомпостировать Пилар как можно скорее, она сама займется этим, причем быстрее, чем того хотелось.
У Зеба нашлись два комплекта спецодежды работников Парка Наследия — зеленые комбинезоны и рубашки с белым логотипом парка. Тоби и Зеб переоделись и отправились в путь, побросав лопаты, грабли, кирку и вилы в кузов грузовика. Тоби и не знала, что у вертоградарей есть грузовик. Оказалось, что есть и что он стоит в зоомагазине в Отстойнике. В неработающем зоомагазине — Зеб сказал, что в Отстойнике мало спроса на такой товар, потому что, если там завести кошку, она, скорее всего, окажется на сковородке у соседей.
Еще он сказал, что вертоградари разрисовывают грузовик по необходимости. Сейчас на нем красовался безукоризненно подделанный логотип Парка Наследия.
— У нас есть несколько бывших художников-графиков, — пояснил он. — Впрочем, у нас каждого бывшего по паре.
Они проехали через Сточную Яму, гудками распугивая плебратву и отгоняя тех, кто пытался насильственно помыть им окна.
— Ты раньше этим занимался? — спросила Тоби.
— «Этим» в смысле нелегальными похоронами престарелых дам в общественных парках? Нет. До сих пор при мне ни одна Ева не умирала. Но все бывает в первый раз.
— Насколько это опасно? — спросила Тоби.
— Заодно и узнаем. Конечно, проще было бы бросить ее на пустыре, чтобы черные мусорщики подобрали, но тогда она может попасть в секрет-бургер. Животный белок нынче дорог. Или ее продадут сборщикам сырья для мусорнефти, они всё берут. Мы ее от этого спасаем: старушка Пилар ненавидела нефть, такая уж у нее была религия.
— А у тебя другая?
Зеб фыркнул.
— Я оставляю тонкости вероучения Адаму Первому. А сам использую то, что мне нужно, чтобы сделать то, что нужно. Давай-ка возьмем по благочашке.
— Кофе из «Благочашки»? Генно-модифицированный, выращенный на солнце, опрысканный ядами? Ради нее убивают птиц, разоряют крестьян! Это же все знают!
— Мы с тобой внедрились, — объяснил Зеб. — Значит, должны действовать согласно легенде!
Он подмигнул ей, перегнулся через ее сиденье и открыл пассажирскую дверь.
— В кои-то веки получи от жизни удовольствие. Я уверен, ты была просто супердетка, пока вертоградари до тебя не добрались.
Была, подумала Тоби. Ключевое слово — «была». Но все равно приятно — ей уже много лет не говорили гендерно окрашенных комплиментов.
В «Благочашку» Тоби ходила давным-давно, еще в эпоху «Секрет-бургера», когда получалось урвать обеденный перерыв. Казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Тоби заказала благокапучино. Она уже забыла, как это вкусно. Она пила мелкими глоточками — кто знает, сколько лет пройдет, пока представится еще один случай. Если вообще представится.
— Пора, — сказал Зеб, не успела она толком допить. — Нам еще яму копать. Надень кепку и засунь волосы под нее, так ходят парковые работницы.
— Эй, парковая сучка, — сказали за спиной. — Покажи свой кустик!
Тоби боялась оглянуться. Но Бланко уже снова был в больболе, согласно уличным слухам, которые передал ей Адам Первый.
Зеб уловил ее страх.
— Если к тебе будут приставать, я их тресну киркой по башке.
Они вернулись в грузовик и снова принялись пробираться по улицам плебсвилля. Наконец они оказались у северных ворот Парка Наследия. Зеб помахал поддельным пропуском, и привратники открыли ворота. Парк был официальной пешеходной зоной, так что, кроме их грузовика, машин вокруг не было.
Зеб ехал медленно, минуя жителей плебсвилля, которые целыми семьями сидели за столами для пикника, врубив барбекюшницы на полную мощь. Вокруг пили, шумели и затевали драки стаи плебратвы. Камень ударил в грузовик и отскочил: парковые рабочие не носили оружия, и плебратва об этом знала. Зеб сказал, что по временам они нападают на рабочих, иногда со смертельным исходом. В деревьях есть что-то такое, отчего люди съезжают с катушек.
— Где природа, там и уроды, — сказал Зеб.
Они нашли хорошее место — на открытом пространстве, где бузине хватит солнца и где не слишком много корней, так что копать будет легко. Зеб принялся работать киркой, разбивая почву; Тоби выгребала ее совковой лопатой. Они поставили табличку: «Подарок парку от корпорации „Здравайзер“».
— Если кто-нибудь спросит, у меня есть разрешение. Прямо вот тут, в кармане, — сказал Зеб. — И обошлось не так чтоб дорого.
Выкопав достаточно глубокую яму, они собрали инструменты и уехали. Табличка осталась на месте.
Компостирование Пилар состоялось в тот же день, после обеда. Пилар доехала до места в кузове грузовика, в мешке с надписью «мульча». Вместе с ней приехали куст бузины и пятигаллоновый бак с водой. Хор «Бутоны и почки» во главе с Нуэлой и Адамом Первым прошествовал через парк. Их путь пролегал мимо места захоронения, так что все, кто оказался поблизости, смотрели на них, а не на Зеба и Тоби с бузиной. Хор во всю глотку орал гимн Дня Крота. Когда они дошли до последнего куплета, Шеклтон и Крозье, переодетые — то есть в футболках плебратвы, — принялись дразнить их, стоя на дорожке. Крозье запустил в хор бутылкой, «Бутоны и почки» завопили, нарушили строй и помчались за ним. Вся плебратва с интересом уставилась на погоню, надеясь, что она приведет к телесным повреждениям. Зеб ловко опустил Пилар, все в том же мешке, в могилу и аккуратно расположил сверху корни бузинного куста. Тоби засыпала все это землей и утоптала; потом они вылили туда воду.
— Не грусти так заметно, — сказал Зеб. — У тебя должен быть такой вид, как будто это работа.
При всем этом присутствовал еще один свидетель — высокий темноволосый мальчик. Спектакль «Бутонов и почек» его не отвлек — он стоял, прислонившись к дереву, словно ему было все равно. На нем была черная футболка с надписью: «Печень — зло, которое должно быть наказано».
— Ты, случайно, не знаешь, кто этот мальчик? — спросила Тоби.
Футболка смотрелась на нем как-то неуместно. На настоящем парне из плебратвы она сидела бы лучше.
Зеб посмотрел на мальчика.
— Вон тот? А что?
— Он нами интересуется.
«Неужели ККБ? — подумала она. — Вряд ли. Несомненно, слишком молод».
— Не пялься на него, — сказал Зеб. — Он знал Пилар. Я сообщил ему, что мы тут будем.
36
Адам Первый утверждал, что падение человека многогранно в своих проявлениях. Древние предки, приматы, спустились с деревьев и таким образом опустились до земли; затем отпали от вегетарианства и впали в мясоядение. Затем отпали от инстинкта и впали в разум, а затем в технологию; от простых сигналов — к сложной грамматике; от неимения огня — к огню, а от него к оружию; от сезонного спаривания к постоянному сексуальному зуду. Затем они перестали радостно жить моментом и погрузились в беспокойное созерцание исчезнувшего прошлого и неосязаемого будущего.
Падение было растянуто во времени, но его траектория неизменно вела все ниже. Когда тебя втягивает в колодец познания, у тебя нет иного выхода, как падать, узнавая все больше и больше, но не становясь ничуточки счастливее. Так было и с Тоби, как только она стала Евой. Она чувствовала, как звание Евы Шестой просачивается в нее, разъедает, стачивает грани того, чем она когда-то была. Даже не власяница, а рубаха из крапивы. Как Тоби позволила так себя спеленать?
Правда, она теперь знала больше. И, как всегда бывает, стоит что-то узнать, и ты уже не представляешь, как можно было не знать этого раньше. Как выступление фокусника: знаешь, что фокус проделали прямо вот тут, у тебя на глазах, но ты в это время смотрел куда-то в другую сторону.
Вот хотя бы: оказалось, что у Адамов и Ев был лэптоп. Тоби пришла в ужас, когда узнала: разве это не нарушает коренные заповеди вертоградарей? Но Адам Первый ее успокоил: они выходят в Сеть, только приняв все меры предосторожности, используют лэптоп в основном для хранения важнейших данных о Греховном мире и скрывают этот опасный предмет от широких масс вертоградарей — особенно детей. Тем не менее лэптоп у них был.
— Он у нас все равно что коллекция порнушки в Ватикане, — сказал Зеб. — В надежных руках.
Лэптоп держали в потайном отсеке в комнатке за уксусными бочками. В этой же комнатке два раза в месяц заседали Адамы и Евы. В комнатку вела дверь, но пока Тоби еще не связала себя званием Евы, ей говорили, что за дверью всего лишь чулан для хранения бутылок. Там действительно были полки для бутылок, но они целиком отъезжали в сторону и открывали настоящую дверь потайной комнаты. Обе двери держали запертыми; ключи были только у Адамов и Ев. Теперь и у Тоби.
Она должна была раньше догадаться, что Адамы и Евы где-то встречаются. Они явно двигались и говорили единодушно, причем без всяких телефонов и компьютеров — значит, должны были вырабатывать групповые решения, встречаясь лицом к лицу. Наверное, Тоби решила, что они обмениваются информацией биохимически, как деревья. Но нет, ничего похожего на разговоры растений: они садились вокруг стола, как любой другой совет, и принимались с боем отстаивать свои позиции как в богословских, так и в практических вопросах, безжалостно, как средневековые монахи. Как и у монахов, у вертоградарей многое было поставлено на карту. Тоби это беспокоило, потому что корпорации не терпели сопротивления, а вертоградари были против коммерческой деятельности вообще, и это вполне тянуло на сопротивление. Тоби вовсе не укуталась в кокон не от мира сего, не влезла в шкуру пугливой овцы, как она когда-то боялась. Наоборот: оказалось, что она соприкасается с силой — настоящей, разрушительной.
Ибо, как выяснилось, вертоградари — уже не крохотный местный культ. Их влияние росло; ареал их обитания не ограничивался садом «Райский утес» и парочкой зданий по соседству. У них были отделения в других плебсвиллях и даже в других городах. Еще у них были конспиративные ячейки сочувствующих в Греховном мире, внедренные на всех уровнях, даже внутри корпораций. Адам Первый сказал, что от этих сочувствующих идет ценнейшая информация: с ее помощью вертоградарям удавалось следить за намерениями и действиями своих врагов, по крайней мере частично.
Эти ячейки назывались «трюфелями», потому что они таились в глубине, потому что они были редкими и ценными, потому что невозможно было заранее предсказать, где появится очередная ячейка, и еще потому, что для их поиска использовали свиней и собак. Адам Первый торопливо пояснил, что вертоградари не имеют ничего против настоящих Свиней и Собак, а лишь возражают против их порабощения силами тьмы.
Арест Бэрта сильно напугал Адамов и Ев, хотя они умудрялись не показывать этого основной массе вертоградарей. Кое-кто думал, что ККБ предложит Бэрту извечную продажу души — предательство в обмен на жизнь. Но Зеб мрачно сказал, что ККБ не нуждается в сделках — стоит им начать «Испытание на разрыв», и человек уже сам готов рассказать все, что угодно. Кто знает, сколько лживых обвинений выжали из Бэрта вместе с кровью, дерьмом и рвотой?
Так что Адамы и Евы ежеминутно ждали налета ККБ на «Райский утес». Они составили планы экстренной эвакуации и оповестили ячейки-«трюфеля», которые могли их спрятать. Но тут Бэрта нашли на пустыре за клубом «Хвост-чешуя» со следами заморозки и без жизненно важных органов.
— Хотели сработать под мафию, — сказал Зеб на собрании совета в комнате за уксусной. — Но получилось не ахти. Мафия бы по нему еще не так прошлась. Отделала бы под орех.
Нуэла сказала, что это нетактично со стороны Зеба — так говорить. Зеб объяснил, что выразился иронически. Марушка-повитуха, которая обычно молчала, сказала, что ценность иронии несколько преувеличена. Зеб заявил, что вертоградарям как раз не помешало бы побольше ценить иронию. Ребекка, ставшая новой, весьма влиятельной Евой — Евой Одиннадцатой, ответственной за «комбинации питательных веществ», сказала, что всем не помешало бы взяться за ум и прикусить языки. Адам Первый сказал, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Затем развернулись оживленные дебаты относительно того, как поступить с телом Бэрта. Ребекка сказала, что Бэрт был Адамом; он заслуживает нелегального компостирования в Парке Наследия, как любой другой Адам или Ева. Так будет справедливо. Фило Туман — в комнате совета он был значительно менее отуманен, чем за ее пределами, — сказал, что это слишком опасно: что, если ККБ подкинуло труп как приманку и смотрит, кто за ним придет? Стюарт Шуруп возразил: ККБ уже знает, что Бэрт — вертоградарь, так что никакой новой информации она не получит. Зеб сказал, что, может быть, ККБ подкинула Бэрта в качестве намека, чтобы плебмафии не думали играть налево и старались искоренять независимых одиночек и двурушников-халявщиков.
Что ж, сказала Нуэла, если бедного Бэрта нельзя закомпостировать, можно хотя бы пойти к нему ночью и бросить на тело горсть земли, символически: она сама после этого будет чувствовать себя гораздо лучше духовно. Муги сказал, что Бэрт был мясоядный свиноед и предатель, и он, Муги, вообще не понимает, о чем идет речь. Адам Первый попросил присутствующих устроить минуту молчания и мысленно окутать Бэрта Светом в своих сердцах, но Зеб сказал: мы уже намотали на Бэрта столько света, что он, должно быть, пылает, как террорист-смертник на кухне фастфуда. Нуэла обвинила Зеба в бездушном легкомыслии. Адам Первый попросил всех помедитировать ночью, и тогда, возможно, решение придет к ним через озарение свыше. Фило сказал, что он тогда, пожалуй, «дунет пяточку».
Но наутро Бэрта уже не было на пустыре: Зеб сообщил, что его спозаранку забрали на сырье для мусорнефти, и сейчас он, без сомнения, крутит мотор в ситивэне какого-нибудь служащего корпорации. Тоби спросила, откуда Зеб знает, и он, ухмыляясь, объяснил, что у него связи в бандах плебратвы, которая, если ей заплатить, будет следить за кем угодно.
Адам Первый произнес речь перед общим собранием вертоградарей. Он описал судьбу Бэрта и назвал его жертвой, соблазненной духом меркантильного стяжательства и заслуживающей скорее жалости, чем осуждения. Затем он попросил присутствующих удвоить бдительность и сообщать о любых излишне любопытных туристах, а особенно — о всякой необычной деятельности.
Но ни о какой необычной деятельности никто не сообщал. Прошло несколько месяцев, потом еще несколько. Повседневные работы по хозяйству и занятия в школе продолжались как обычно, дни святых и праздники шли своим чередом. Тоби занялась макраме, надеясь, что это излечит ее от праздного мечтания и бесплодных желаний и поможет сосредоточиться на «здесь и сейчас». Пчелы плодились и приумножались, и Тоби каждое утро приносила им новости. Из темноты родилась луна, округлилась, истаяла. Родилось несколько младенцев, на огород напали блестящие зеленые жуки, к вертоградарям пришли новые адепты. Пески времени — зыбучие пески, говорил Адам Первый. В них столько всего исчезает без следа. И это дар свыше, когда таким способом уходят ненужные страхи.
Праздник Апрельской рыбы
Праздник Апрельской рыбы
Год четырнадцатый
Дорогие друзья, дорогие собратья-создания, собратья-смертные!
Как весело мы встретили апрельский праздник Рыбы в нашем саду на крыше «Райский утес»! Рыбы-фонари этого года, двойники светящихся Рыб, украшающих океанские глубины, получились лучше, чем когда-либо, а пирожки в форме рыб выглядят чрезвычайно соблазнительно! За эти изумительные лакомства надо поблагодарить Ребекку и двух ее старательных помощниц, Аманду и Рен.
Наши дети любят этот праздник, так как сегодня им позволено смеяться над старшими, в разумных пределах конечно: и мы, взрослые, приветствуем этот смех, ибо он напоминает нам о нашем собственном детстве. Никогда не вредно вспомнить то детское ощущение беспомощности и зависимости от силы, знаний и мудрости взрослых, которые нас берегли и охраняли. Будем же учить наших детей терпимости, любви, доброте, не забудем установить разумные пределы и оставим также место для радостного смеха. Так как Бог есть средоточие всевозможного добра, в Нем есть и способность к игре — этим даром Он поделился не только с нами, но и с другими Созданиями, чему свидетельством трюки Ворон, игры Белок, прыжки резвящихся Котят.
В День Апрельской рыбы, в праздник, ведущий свое происхождение из Франции, мы разыгрываем друг друга, вешая бумажную рыбу — или, в нашем случае, рыбу из переработанной ткани — на спину другому человеку, а затем восклицая: «Апрельская рыба!» Или, как изначально говорили по-французски, «Poisson d’Avril!». В англоязычных странах этот день известен как День дурака. Но я не сомневаюсь, что День Апрельской рыбы первоначально был христианским праздником, ведь образ Рыбы первые христиане использовали как тайный знак своей веры во времена гонений.
Рыба — весьма уместный символ, ибо Иисус первыми призвал к себе в апостолы двух рыбаков. Несомненно, для того, чтобы сохранить популяцию Рыб. Он повелел им стать ловцами человеков, вместо того чтобы быть ловцами Рыб, и таким образом нейтрализовал двух человек, уничтожавших Рыб! Мы знаем, что Иисус заботился о Птицах, Зверях и Растениях; об этом, вне всяких сомнений, свидетельствуют Его упоминания о птицах небесных, о наседке, собирающей птенцов под крылья, об агнцах и лилиях; но Он понимал, что большая часть Божьего Сада находится под водой, и ее также нужно возделывать. Святой Франциск Ассизский проповедовал Рыбам, не догадываясь, что они говорят непосредственно с Богом. Но все же он оказал им должное почтение. Сколь пророческим выглядит это деяние ныне, когда мировые океаны опустошены!
И пусть кто-то, превозносясь над другим Видом, утверждает, что мы, Люди, умнее Рыб, и сим клеймит Апрельскую рыбу как немую и несмысленную. Но жизнь в Духе всегда кажется бессмысленной тем, кто ее не разделяет; так примем же и будем с радостью носить ярлык Божьих дурачков, ибо в сравнении с Богом мы все глупы, сколь бы мудрыми ни мнили себя. Быть Апрельской рыбой — значит смиренно принять собственную глупость и радостно признать абсурдность — с точки зрения материалиста — всех провозглашаемых нами духовных истин.
А теперь прошу вас присоединиться ко мне в медитации, посвященной нашим собратьям — Рыбам.
Господь наш. Создатель бескрайнего Моря с его бесчисленными Созданиями! Созерцающий жителей Твоего подводного Сада, в коем зародилась жизнь! Да не исчезнет больше с Земли никакая жизнь через посредство человека. Окажи любовь и подай помощь Морским Тварям, терпящим бедствия и великие страдания, кои пришли к ним через потепление морской воды, и через траление морского дна сетями и крюками, и через убийство всех, кто в нем, от жителей мелей до жителей глубин, вплоть до гигантского Спрута; воспомяни же Твоих Китов, что Ты на пятый день сотворил играть в нем;[14] и особую помощь подай Акулам, сему непонятому и много преследуемому виду.
Мы помним в сердцах своих Великую мертвую зону в Мексиканском заливе; и Великую мертвую зону в озере Эри; и Великую мертвую зону в Черном море; и Большую Ньюфаундлендскую банку, где некогда изобиловала Треска; и Большой Барьерный риф, ныне умирающий, белеющий смертной белизной и крошащийся на куски.
Да оживут они снова; да воссияет на них Любовь и восстановит их; да будет нам даровано прощение за убийство океанов; и за нашу глупость, если это неправильная, губительная глупость и самоуверенность. И помоги нам снова принять во всем смирении наше родство с Рыбами, кои видятся нам немыми и неразумными; ибо пред очами Твоими мы все немы и неразумны.
Воспоем же.
О, как мы, Господи, глупы
37
Рен
Год двадцать пятый
Должно быть, я задремала — сидя в «липкой зоне», всегда устаешь, — потому что мне приснилась Аманда. Она шла ко мне, одетая в хаки, по большому полю, заросшему сухой травой и усеянному белыми костями. Над головой у нее летали грифы. Но она увидела, что снится мне, улыбнулась и помахала рукой, и я проснулась.
Было еще слишком рано, чтобы по правде спать, поэтому я сделала себе педикюр. Старлетт предпочитает «когти» на основе паутины, но я никогда такое не делаю, потому что Мордис сказал, что это будет отвал башки, все равно как зайчонок с огромными колючками. Поэтому я только покрываю ногти пастельным лаком. Когда у тебя на ногах блестящие, как новенькие, пальчики, то и сама чувствуешь себя новенькой и блестящей; если вдруг кто захочет их пососать, они должны быть этого достойны. Пока лак высыхал, я переключилась на камеру-интерком в нашей со Старлетт комнате. Я посмотрела на свои вещи — тумбочку, робо-собачку, костюмы на вешалках, — и мне стало легче. Мне ужасно не терпелось вернуться в нормальную жизнь. Конечно, такую жизнь трудно назвать нормальной. Но я к ней привыкла.
Я полазила по Сети и заглянула на сайты с гороскопами, чтобы понять, что за неделя меня ждет, потому что я очень скоро выйду из «липкой зоны», если анализы окажутся чистыми. Я больше всего любила сайт «Дикие звезды», потому что на нем гороскопы были всегда оптимистичные.
Луна в Скорпионе означает, что на этой неделе у тебя гормоны так и бушуют! Ты становишься реально горячей штучкой! Наслаждайся, но не принимай эту вспышку страсти всерьез — она пройдет.
Ты трудишься, не жалея сил, превращая свой дом во дворец наслаждений. Пора купить новые атласные простыни и скользнуть меж них! На этой неделе тебе нужно побаловать своего внутреннего Тельца, усладить все свои органы чувств!
Я надеялась, что и мне перепадет хоть сколько-нибудь романтики и приключений. Лишь бы только выбраться из «липкой зоны». И может быть, путешествие или духовный поиск — иногда в гороскопах бывало и такое. Но мой собственный гороскоп оказался менее приятным:
Вестник-Меркурий в твоем знаке, Рыбы, означает, что в следующие несколько недель тебя удивят своим появлением люди и вещи из прошлого. Готовься к стремительным превращениям! Романтические связи могут принять странные формы. Иллюзия и реальность тесно сплелись в танце, так что ступай осторожно!
Мне не понравились слова насчет романтических связей, принимающих странную форму. Этого мне и на работе хватает.
Я снова заглянула в «Яму со змеями». Там была куча народу. Савона еще работала на трапеции. К ней присоединилась Алый Лепесток в биопленке-скафандре с таким количеством рюшечек в промежности, что она была похожа на гигантскую орхидею. Старлетт все еще обрабатывала своего больболиста. Она могла и мертвого поднять, но этот был, кажется, почти без сознания, так что вряд ли она его разведет на большие чаевые.
Надзиратели из ККБ болтались поблизости, но вдруг все повернулись ко входу, так что я перешла к другой камере и сама посмотрела, что там. Там был Мордис, который разговаривал с двумя другими какабэшниками. С ними был еще один больболист — кажется, в еще худшем состоянии, чем первые три. Еще взрывоопаснее. Мордис был явно недоволен. Четыре больболиста — попробуй управься с ними. А если окажется, что они из разных команд и только вчера пытались вырвать друг другу кишки?
Мордис повел нового больболиста в дальний угол. Вот он что-то отрывисто командует в телефон; вот к нему спешат три свободные танцовщицы — Вилья, Кренола и Солнышко. Должно быть, он им велел загородить обзор. «Работайте сиськами, черт возьми, а то зачем они вам?» Вокруг больболиста все замерцало, его окутало облачко перьев, над ним запорхали шесть извивающихся рук. Я будто слышала, как Вилья шепчет ему на ухо: «Бери обе, лапочка, это недорого».
По сигналу Мордиса и музыка стала громче: громкая музыка отвлекает клиентов. Когда у них в ушах грохочет, они реже начинают все громить. Танцовщицы уже обвились вокруг того мужика, словно анаконды. Рядом на всякий случай дежурили двое вышибал.
Мордис ухмылялся: проблема решена. Этого больболиста уведут в комнаты с перистыми потолками, накачают спиртным, насадят на него пару девушек и доведут до кондиции, как выражается Мордис, упорото-укуренно-до-капли-выжато-счастливого зомби. К тому же теперь, когда у нас есть «НегаПлюс», он получит несколько оргазмов, общее ощущение теплого счастья и никакой смертельной заразы в придачу. С тех пор как в «Чешуйках» стали использовать «НегуПлюс», количество сломанной мебели резко пошло на убыль. «НегуПлюс» клали в полиягоды в шоколаде и в оливки «Сойликатес». Главное, знать меру, говорила Старлетт, а то у клиента член лопнет.
38
На четырнадцатом году у нас, как обычно, был День Апрельской рыбы. В этот день полагается делать всякие глупости и много смеяться. Я нацепила рыбу на Шекки, Кроз — на меня, а Шекки — на Аманду. Многие дети нацепили рыб на Нуэлу, а на Тоби — никто, потому что к ней никак нельзя было подойти сзади, чтобы она не заметила. Адам Первый нацепил рыбу на себя, объясняя что-то там такое про Бога. Оутс, озорник, бегал и вопил: «Рыбные палочки!» — тыкая пальцами людям в спину, пока Ребекка не велела ему перестать. Тогда он расстроился, и я отвела его в угол и рассказала ему сказку про самого маленького грифа. Оутс был ужасно милый, когда не вредничал.
Зеб опять был в отлучке — в последнее время он стал чаще уходить по делам. Люцерна сидела дома. Она сказала, что лично ей нечему радоваться и вообще это дурацкий праздник.
Это был мой первый День Апрельской рыбы без Бернис. Когда мы были маленькие, мы с ней всегда делали пирог в форме рыбы. Пока не появилась Аманда. Однажды мы сделали рыбу зеленой с помощью шпината, а глаза — из кружочков моркови. Рыба с виду получилась ужасно ядовитой. Я вспомнила про этот пирог, и мне захотелось плакать. Где сейчас Бернис? Мне было стыдно, что я с ней так плохо обращалась. А если она умерла, как Бэрт? Если да, то в этом частично и моя вина. В основном моя вина. Моя вина.
Мы с Амандой пошли обратно в «Сыроварню», а Шекки и Кроз увязались за нами — чтобы нас охранять, как они сказали. Аманду это рассмешило, но она разрешила им идти, раз уж они так хотят. Мы с ними более или менее помирились, хотя время от времени Кроз говорил Аманде: «Вы нам все еще должны», а она советовала ему завязать узлом.
Пока мы дошли до «Сыроварни», уже стемнело. Мы думали, нам попадет за опоздание — Люцерна вечно говорила, что на улице опасно, — но оказалось, что Зеб вернулся и они уже начали скандалить. Так что мы вышли на площадку и стали ждать, потому что скандалили они в нашей квартире.
Этот скандал был громче обычного. Они уронили или бросили что-то из мебели: должно быть, это Люцерна, потому что Зеб обычно не кидался мебелью.
— Что у них там? — спросила я Аманду.
Она прижала ухо к двери. Она никогда не стеснялась подслушивать.
— Не знаю. Она слишком громко орет. А, погоди. Она говорит, что он трахается с Нуэлой.
— Только не с Нуэлой! Неправда!
Теперь я знала, каково было Бернис, когда мы сказали такое про ее отца.
— Мужики кого угодно трахнут, им только волю дай, — сказала Аманда. — Теперь она говорит, что он в душе альфонс. И что он ее презирает и обращается с ней по-свински. По-моему, она плачет.
— Давай не будем больше слушать, — сказала я.
— Ладно.
Мы прислонились спиной к стене и стали ждать, пока Люцерна зарыдает. Как обычно. Тогда Зеб выбежит из квартиры и хлопнет дверью и вернется только через несколько дней.
Вышел Зеб.
— Пока, царицы ночи, — сказал он. — Будьте осторожны.
Он шутил с нами как обычно, только веселья в этих шутках не было. Он был мрачен.
Обычно после ссор Люцерна падала на постель и рыдала, но в эту ночь она стала укладывать вещи. Она укладывала их в розовый рюкзак, который когда-то восторгли мы с Амандой. Места в нем было мало, так что скоро Люцерна перестала собираться и зашла к нам в отсек.
Мы с Амандой притворялись, что спим — на тюфяках, набитых мякиной, под лоскутными одеялами из джинсовой ткани.
— Рен, вставай, — сказала Люцерна. — Мы уходим.
— Куда? — спросила я.
— Домой. В поселок «Здравайзера».
— Прямо сейчас?
— Да. Что ты смотришь? Ты этого всегда хотела.
Это правда, что я раньше тосковала по охраняемому поселку «Здравайзера». Но давно. С тех пор как появилась Аманда, я про него почти не думала.
— А Аманда тоже с нами пойдет? — спросила я.
— Аманда останется здесь.
Мне стало очень холодно.
— Я хочу, чтобы Аманда пошла с нами.
— Не обсуждается, — сказала Люцерна.
Похоже, снова случилось что-то из ряда вон выходящее: Люцерна переборола парализующее заклятие, наложенное на нее Зебом. Она переступила через секс, как переступают через сброшенное платье. Стала решительной, резкой, деловитой. Может, она и раньше такой была, когда-нибудь давно? Я не помнила.
— Но почему? Почему Аманде нельзя?
— Потому что ее не пустят в «Здравайзер». Мы там получим обратно свои личности, а у нее нет никакой, и у меня уж точно нет денег, чтобы ей купить. Ничего, о ней тут позаботятся, — добавила она, словно Аманда — котенок, которого я вынуждена бросить.
— Нет! — сказала я. — Если она не идет, я тоже не пойду!
— И где же вы будете жить? — презрительно спросила Люцерна.
— Останемся у Зеба, — сказала я.
— Его и дома-то не бывает. Никто не позволит двум маленьким девочкам болтаться без присмотра!
— Тогда мы поселимся у Адама Первого. Или у Нуэлы. Или у Катуро.
— Или у Стюарта Шурупа, — с надеждой сказала Аманда. От полного отчаяния — Стюарт жил одиночкой и был нелюдим.
Но я уцепилась за эту идею.
— Да, мы будем помогать ему делать мебель, — сказала я. Представила себе всю нашу жизнь — мы с Амандой собираем обломки материала, пилим, заколачиваем гвозди, поем за работой, варим травяной чай…
— Вас там никто не ждет, — сказала Люцерна. — Стюарт — мизантроп. Он вас терпит только из-за Зеба, и все остальные тоже.
— Мы пойдем к Тоби, — сказала я.
— У Тоби и без вас куча дел. Все, хватит. Если Аманду никто не подберет, она всегда может вернуться к плебратве. Так или иначе — ее место там. Давай, быстро.
— Мне надо одеться, — сказала я.
— Хорошо. Десять минут.
Она вышла.
— Что делать? — прошипела я, одеваясь.
— Не знаю, — шепнула в ответ Аманда. — Если ты окажешься там, она тебя никогда не выпустит. Эти охраняемые поселки — как крепости, как тюрьмы. Она не позволит нам встречаться. Она меня ненавидит.
— Мне плевать, что она думает, — прошептала я. — Как-нибудь да выберусь.
— Мой телефон, — шепнула Аманда. — Возьми с собой. Будешь мне звонить.
— Я придумаю, как тебя туда протащить, — сказала я и беззвучно заплакала. Я сунула фиолетовый телефон в карман.
— Рен, поторопись, — сказала Люцерна.
— Я тебе позвоню! — шепнула я. — Мой папа купит тебе личность!
— Не сомневаюсь, — тихо сказала она. — Держись, ладно?
Люцерна металась по большой комнате. Она выдернула из горшка на подоконнике чахлый помидорный куст. На дне горшка оказался пластиковый пакет с деньгами. Видно, она прикарманивала выручку с «Древа жизни» — от продажи мыла, уксуса, макраме, лоскутных одеял. Настоящие деньги вышли из моды, но все еще использовались для разных мелких покупок, а вертоградари не принимали электронных денег, потому что не пользовались компьютерами. Значит, Люцерна откладывала деньги на побег. Все-таки она не такая тряпка, какой я ее считала.
Она схватила кухонные ножницы и отчекрыжила свои длинные волосы прямо у шеи. Звук был, как будто открывают застежку-«липучку», — сухой, царапающий. Волосы она бросила на столе посреди комнаты.
Потом взяла меня за руку, выволокла из квартиры и потащила вниз по лестнице. Люцерна никогда не выглядывала из дому после захода солнца из-за пьяных и нариков на улицах, грабителей и плебратвы. Но сейчас она словно раскалилась добела от гнева: тронь ее — и тебя долбанет током. Прохожие расступались, словно мы были заразные, и даже «косые» и «черные сомы» нас не тронули.
Мы несколько часов шли через Сточную Яму, потом через Отстойник, потом через плебсвилли побогаче. Мы шли, и дома вокруг становились новее и лучше, а толпы на улицах редели. В Большом Ящике мы взяли солнцетакси. Проехали Гольф-клуб, потом большой пустырь и наконец остановились у ворот охраняемого поселка «Здравайзера». Я так давно его не видела, что была как во сне, когда оказываешься в незнакомом и все же знакомом месте. Меня вроде как подташнивало — может быть, от возбуждения.
Прежде чем мы сели в такси, Люцерна растрепала мне волосы, размазала грязь по своему лицу и разорвала себе платье.
— Зачем это? — спросила я.
Но она не ответила.
У ворот «Здравайзера» за окошечком сидели два охранника.
— Документы? — спросили они.
— У нас нет документов, — ответила Люцерна. — Их украли. Нас похитили силой.
Она оглянулась, словно боялась, что за нами кто-то следит.
— Пожалуйста… впустите нас, скорее! Мой муж… работает в отделе нанобиоформ. Он вам скажет, кто я.
Она заплакала.
Один охранник потянулся к телефону, нажал кнопку.
— Фрэнк, — сказал он, — с главных ворот беспокоят. Тут у нас женщина — говорит, она ваша жена.
— Нам понадобятся мазки с внутренней стороны щеки, для коммуникабелей, — сказал второй охранник. — Тогда вы сможете побыть в комнате ожидания, пока вас проверят на биоформы и подтвердят личность. К вам скоро подойдут.
В комнате ожидания мы уселись на черный виниловый диван. Было пять утра. Люцерна взяла журнал. «НоваКожа, — было написано на обложке. — Зачем мириться с дефектами?»
Люцерна принялась его листать.
— А нас похитили силой? — спросила я.
— Деточка моя! — воскликнула она. — Ты не помнишь! Ты была еще маленькая! Я не стала тебе говорить — не хотела пугать! Они могли сделать с тобой что-нибудь ужасное!
Тут она опять заплакала, еще сильнее. Когда пришел какабэшник в биоскафандре, у нее все лицо было в потеках.
39
Старая Пилар говорила: «Осторожнее с желаниями, они сбываются». Я вернулась в охраняемый поселок «Здравайзера» и снова увидела отца, как мечтала когда-то. Но все кругом было как-то не так. Вся обстановка нашего дома — поддельный мрамор, мебель под старину, ковры — казалась какой-то нереальной. И пахло непривычно — словно дезинфекцией. Мне не хватало лиственного запаха вертоградарей, запаха готовящейся еды, даже острого уксусного душка; даже фиолет-биолетов.
Фрэнк — мой отец — ничего не менял в моей комнате. Но кровать с балдахином и розовые занавески словно съежились. И еще мне теперь казалось, что все это — для маленьких. И у плюшевых зверей, которых я когда-то так любила, были мертвые стеклянные глаза. Я запихала зверей поглубже в стенной шкаф, чтобы они не смотрели сквозь меня, как будто я тень.
В первую ночь Люцерна наполнила для меня ванну с пеной, которая пахла искусственными цветами. Рядом с большой белой ванной и белыми пушистыми полотенцами я почувствовала себя грязной и еще вонючей. От меня кисло воняло землей — неперепревшим компостом.
И кожа у меня была синяя: из-за красителя, которым вертоградари красили одежду. Я никогда раньше этого не замечала, потому что у вертоградарей душ принимали очень быстро, а зеркал там не было. Еще я не замечала, какая я, оказывается, стала волосатая, и это меня поразило даже больше, чем синяя кожа. Я терла и терла эту синеву; но она не сходила. Я посмотрела на пальцы ног, торчащие из воды. Ногти на них были как когти.
— Давай-ка сделаем тебе педикюр, — сказала Люцерна через пару дней, увидев мои ноги в шлепанцах.
Она вела себя так, словно ничего не было — ни вертоградарей, ни Аманды, ни, особенно, Зеба. Она ходила в хрустящих льняных костюмах, в прическе от парикмахера, с «перышками». У нее уже был педикюр — она времени не теряла.
— Посмотри, какую красоту я тебе купила! Зеленый лак, фиолетовый, матовый оранжевый, а этот вот с блестками…
Но я все еще сердилась на нее и потому отвернулась. Она была такая обманщица.
Все эти годы я держала в голове образ отца, словно очертания силуэта, нарисованные мелом на асфальте. Когда я была маленькая, я любила мысленно раскрашивать этот силуэт разными цветами. Но цвета были слишком яркие, а силуэт слишком большой: Фрэнк оказался ниже ростом, седее, лысее и растеряннее, чем тот человек, которого я помнила.
Пока он не пришел к будке охранников на входе в «Здравайзер», я думала, что он будет вне себя от радости, узнав, что мы живы-здоровы и вовсе не умерли. Но при виде меня у него вытянулось лицо. Теперь-то я понимаю, что в последний раз он видел меня маленькой девочкой, так что я оказалась больше, чем он ожидал, и, наверное, больше, чем ему хотелось бы. И потрепаннее — несмотря на одежду вертоградарей, я, должно быть, выглядела как девчонка из плебратвы, каких он видел на улицах, если хоть раз выбирался в Сточную Яму или Отстойник. Может быть, он боялся, что я залезу к нему в карман или украду его ботинки. Он подошел неуверенно, словно я могла укусить, и неловко обнял меня. От него пахло сложной химией — чем-то вроде растворителя, который используют для снятия липких веществ. Такой запах прожигает легкие насквозь.
В первую ночь я проспала двенадцать часов, а когда проснулась, оказалось, что Люцерна забрала мою вертоградарскую одежду и сожгла ее. Хорошо, что я спрятала фиолетовый телефон Аманды в плюшевого тигра, которого засунула в шкаф. Распорола тигру живот и запихала телефон внутрь. Так что его не сожгли.
Я скучала по запаху собственной кожи, которая потеряла соленый аромат и теперь пахла мылом и духами. Я вспомнила, что Зеб рассказывал про мышей: если забрать мышь из гнезда и потом положить обратно, другие мыши разрывают ее на куски. Если я вернусь к вертоградарям с этим фальшивым цветочным запахом, они меня тоже разорвут?
Люцерна повела меня во внутреннюю поликлинику «Здравайзера», чтобы меня проверили на вшей и глистов и посмотрели, не насиловал ли меня кто-нибудь. Поэтому доктора совали в меня пальцы — и спереди, и сзади.
— Ох! — воскликнул врач, увидев мою синюю кожу. — Это синяки?
— Нет, краска.
— Ох, — сказал он. — Они заставили тебя покраситься?
— Это от одежды.
— Понятно, — сказал он.
И записал меня на прием к психиатру, имеющему опыт работы с людьми, похищенными сектой. Моя мать должна была ходить вместе со мной.
Так я узнала, что рассказывает им Люцерна. Мы пошли за покупками в бутики Места-под-солнцем, и нас схватили на улице. Люцерна точно не знает, куда нас отвезли, потому что от нас это скрывали. Она сказала, что это не вина всей секты — просто один из членов секты в нее влюбился и хотел сделать ее своей единоличной секс-рабыней и забрал у нее обувь, чтобы она не могла сбежать. Имелся в виду Зеб, но она сказала, что не знает, как его звали. Я, по ее словам, была еще слишком маленькая и не понимала, что происходит, но была заложницей — Люцерне приходилось повиноваться этому безумцу, выполнять все его извращенные прихоти, отвратительные вещи, которые приходили ему в голову, — иначе меня могли убить. Наконец Люцерна смогла рассказать о своей беде другому человеку из секты — женщине, которая была чем-то вроде монахини. Это она имела в виду Тоби. Та помогла ей бежать — принесла обувь, дала денег и отвлекла маньяка, чтобы Люцерна могла вырваться на свободу.
Люцерна сказала им, что меня бесполезно о чем-либо спрашивать. Со мной члены секты обращались хорошо, да их и самих обманывают. Она единственная, кто знал правду; это бремя ей приходилось нести в одиночку. Любая женщина, любящая свое дитя так, как Люцерна — меня, на ее месте поступила бы так же.
Перед сеансами у психиатра Люцерна сжимала мне плечо и говорила:
— Аманда еще там. Не забывай об этом.
Это значило, что, если я обвиню ее во вранье, она вдруг вспомнит, где ее держали, и ККБ нагрянет туда с пистолетами-распылителями, и тогда может случиться все, что угодно. Случайные прохожие часто погибали при атаках с распылителями. ККБ говорила, что тут ничего не поделаешь. Это все в интересах общественного порядка.
Несколько недель Люцерна следила за мной, чтобы я не пыталась убежать или настучать на нее. Наконец мне удалось вытащить фиолетовый телефон и позвонить Аманде. Она еще раньше прислала эсэмэску с номером нового украденного ею телефона, так что я знала, куда звонить, — она все предусмотрела. Чтобы позвонить, я залезла в стенной шкаф в своей комнате. Там, как у всех шкафов в доме, внутри была подсветка. Сам шкаф был размером с закуток, в котором я спала у вертоградарей.
Аманда ответила сразу. Вот она, во весь экран, совсем не изменилась. Мне страшно хотелось опять к вертоградарям.
— Я по тебе ужасно скучаю, — сказала я. — Я убегу при первой возможности.
Но добавила, что не знаю, когда это будет, потому что Люцерна заперла мое удостоверение личности в ящик, а без него меня не выпустят за территорию.
— А ты не можешь поменяться? — спросила Аманда. — С охранниками?
— Нет, — сказала я. — Вряд ли. Здесь все по-другому.
— A-а. Что у тебя с волосами?
— Люцерна меня заставила подстричься.
— Тебе идет, — сказала Аманда. — Бэрта нашли на пустыре за «Чешуйками». Со следами заморозки.
— Он был в морозильнике?
— То, что от него осталось. У него не хватало частей — печени, почек, сердца. Зеб говорит, что мафия продает органы, а остальное придерживает до случая, когда надо кого-нибудь предупредить.
— Рен! Где ты?
Люцерна! В моей комнате!
— Мне надо идти, — шепнула я. И запихала телефон обратно в тигра. — Я здесь, — сказала я вслух. У меня стучали зубы. В морозильниках так холодно.
— Что ты делаешь в шкафу, девочка моя? — спросила Люцерна. — Пойди покушай! Тебе сразу станет легче!
Она говорила очень весело. Если я вела себя странно, как будто у меня не все дома, это было хорошо для нее: даже если я расскажу про нее правду, меньше вероятность, что мне поверят.
Она всем говорила, что мою психику травмировало пребывание среди чокнутых сектантов с промытыми мозгами. Я не могла доказать, что она врет. А может, меня и правда травмировало: мне не с чем было сравнивать.
40
Как только я поправилась — они все говорили «мы тебя поправим», как будто я бретелька от лифчика, — Люцерна сказала, что я должна ходить в школу, потому что мне вредно болтаться дома и хандрить. Я должна брать пример с нее: бывать на людях, строить себе новую жизнь. Это было опасно для самой Люцерны: я была все равно что ходячая бомба, потому что в любую минуту могла проболтаться и рассказать всю правду. Но Люцерна знала, что я ее молча осуждаю, и это ее раздражало, так что она по правде хотела меня куда-нибудь сплавить.
Фрэнк вроде бы поверил ее рассказу, хотя ему явно было наплевать, что с ней случилось на самом деле. Теперь я поняла, почему Люцерна сбежала с Зебом: тот хотя бы замечал ее. И меня замечал, а Фрэнк обращался со мной как с окном: никогда не смотрел на меня, а только сквозь.
Иногда мне снился Зеб. Он был в медвежьем костюме, а потом молния расстегивалась по всей длине, как в чехле для пижамы, и Зеб вылезал наружу. Во сне от него пахло успокаивающе — травой, политой дождем, и корицей, и запахом вертоградарей — соленым, уксусным, с примесью горелых листьев.
Школа называлась «Здравайзеровская средняя». В первый день я надела что-то из обновок, купленных для меня Люцерной. Оно было розовое и лимонно-желтое — вертоградари не признавали таких цветов, потому что маркая одежда означает лишний расход мыла.
В новой одежде я чувствовала себя как на маскараде. Она сильно обтягивала по сравнению с просторными платьями, голые руки торчали из рукавов, голые ноги — из-под плиссированной юбки длиной до колена. Я никак не могла ко всему этому привыкнуть. Но, если верить Люцерне, так ходили все девочки в Здравайзеровской средней школе.
— Бренда, не забудь крем от солнца, — сказала она, когда я выходила. Теперь она звала меня Брендой, утверждая, что это мое настоящее имя.
Школа назначила мне одну ученицу в сопровождающие. Она должна была доводить меня до школы и помогать мне ориентироваться. Ее звали Вакулла Прайс. Она была худая, с блестящей кожей цвета сливочных тянучек. В пастельно-желтой майке вроде моей, но не в юбке, а в брюках. Она круглыми глазами посмотрела на мою плиссированную юбку.
— Красивая у тебя юбка, — сказала она.
— Это мне мама купила.
— Ой! — Голос у нее был сочувственный. — Мне мать такую купила два года назад.
Я поняла, что Вакулла мне нравится.
По дороге в школу она задавала разные вопросы вроде: «Чем занимается твой папа?», «Ты давно приехала?» — но ничего не говорила про секты. А я спрашивала: «Тебе нравится в школе?», «Кто ваши учителя?» — и так мы благополучно добрались до школы.
Дома, мимо которых мы шли, были в разных стилях, но все покрыты солнечнокожей. В охраняемом поселке использовали новейшие технологии, и Люцерна мне все время на это указывала: «Видишь, Бренда, они гораздо лучше берегут природу, чем эти пуристы-вертоградари, так что тебе не нужно беспокоиться насчет расхода горячей воды, и, кстати, не пора ли тебе снова принять душ?»
Здание школы было чистым, аж блестело — ни граффити, ни отваливающихся кусков, ни разбитых окон. Перед школой был темно-зеленый газон и кусты, обстриженные в форме шара, и еще статуя. На табличке было написано: «Флоренс Найтингейл, „Дама с лампой“». Но букву «м» кто-то замазал, и получилось «Дама с лапой».
— Это Джимми сделал, — сказала Вакулла. — Мы с ним сидим вместе на «Биотех-наноформах». Он вечно придумает какую-нибудь глупость.
Она улыбнулась. У нее были очень белые зубы. Люцерна все время говорила, что у меня зубы очень плохие и что меня нужно отвести к косметическому дантисту. Она собиралась полностью поменять интерьеры нашего дома, но и во мне тоже запланировала кое-какие переделки.
По крайней мере, дырок в зубах у меня не было. Вертоградари не признавали очищенного сахара и насаждали регулярную чистку зубов, хотя вместо щеток приходилось использовать размочаленные палочки, потому что вертоградари не желали совать в рот ни пластик, ни животную щетину.
Первое утро в школе прошло очень странно. Мне казалось, что уроки ведутся на иностранном языке. Все предметы были другие, все слова другие, и еще все пользовались компьютерами и бумажными тетрадями. А я их боялась, этот страх был как будто вживлен в меня. Казалось, что пользоваться ими опасно, ведь это вечные письмена, их не сотрешь, как написанное мелом на доске, ими могут воспользоваться враги. Когда я дотрагивалась до клавиатуры или страниц, мне хотелось побежать в туалет и вымыть руки: ведь опасность наверняка перешла на меня.
Люцерна сказала, что власти охраняемого поселка «Здравайзера» засекретят нашу так называемую личную историю — насильственное похищение и все прочее. Но кто-то, видимо, проболтался, потому что в школе все знали. Хорошо хоть, что Люцернина история про секс-рабыню и маньяка не выплыла наружу. Но я знала, что совру при необходимости, чтобы защитить Аманду, Зеба и Адама Первого и даже рядовых вертоградарей. Мы все друг у друга в руках, говорил Адам Первый. Я начала понимать, что это значит.
В обеденный перерыв вокруг меня собралась небольшая толпа. Они были не злые, просто любопытные. «Так ты жила в секте? С маньяками! Они правда были чокнутые?» Они все спрашивали и спрашивали. И при этом ели свой обед, и всюду пахло мясом. Бекон. Рыбные палочки, двадцать процентов настоящей рыбы. Гамбургеры — тут они назывались здравбургеры и делались из мяса, которое растили на раздвижных каркасах. Так что это не была убоина. Но все равно оно пахло как мясо. Аманда съела бы бекону, чтобы доказать, что травоеды не промыли ей мозги. Но я так не могла. Я отлепила булку от своего здравбургера и попыталась ее съесть, но от нее воняло мертвым животным.
— Что, там правда было так ужасно? — спросила Вакулла.
— Нет, просто секта «зеленых», — сказала я.
— Как исаиане-волкисты, — влез какой-то мальчик. — Они были террористами?
Все подались вперед: хотели услышать что-нибудь ужасное.
— Нет. Они пацифисты. У них есть сад на крыше, мы в нем работали.
И я рассказала им про переселение улиток и слизняков. Мне самой было ужасно странно себя слушать.
— Хорошо хоть вы их не ели, — сказала одна девочка. — В некоторых сектах едят зверей, сбитых на дороге.
— Исаиане-волкисты точно едят. Я читал в Инете.
— Ты, значит, жила в плебсвилле. Круто.
Я начала понимать, что у меня есть преимущество. Я жила в плебсвилле, где никто из этих ребят не бывал — разве что ездил на экскурсию со школой или ходил вместе с родителями — любителями экзотики на рынок «Древо жизни». Так что я могла врать сколько душе угодно.
— Тебя эксплуатировали, как детский труд, — сказал один мальчик. — Девочка-рабыня в секте «зеленых». Секси!
Все засмеялись.
— Джимми, не идиотничай, — сказала Вакулла и подбодрила меня: — Не обращай внимания, он всегда что-нибудь такое ляпнет.
Джимми ухмыльнулся.
— Вы поклонялись капусте? — продолжал он. — О великая капуста, я лобызаю твою капустную капустность!
Он опустился на одно колено и схватил в горсть мою плиссированную юбку.
— Какие милые листочки, а можно их оторвать?
— Не будь мясоедом, — сказала я.
— Чем? — расхохотался он. — Мясоедом?
Мне пришлось объяснять, что среди «зеленых» это очень плохое ругательство. Как «свиноед». Как «слизняковая морда». Это рассмешило Джимми еще больше.
Я поняла, какое передо мной стоит искушение. Ясно увидела. Я могла рассказывать о причудливых подробностях жизни в секте, притворяясь, что считаю их извращениями, какими они кажутся моим одноклассникам. Тогда я стану популярной. Но тут же увидела себя глазами Адамов и Ев: они смотрели на меня печально, разочарованно. Адам Первый, Тоби, Ребекка. И Пилар, хоть она и умерла. И даже Зеб.
Предательство — это так легко. В него соскальзываешь. Но это я уже знала, из-за Бернис.
Вакулла пошла провожать меня домой, и Джимми тоже пошел. Он все время дурачился — шутил и ждал, что мы будем смеяться, — и Вакулла действительно смеялась, из вежливости. Я видела, что Джимми в нее сильно влюблен, но она мне потом сказала, что может воспринимать его только как друга.
На полпути Вакулла свернула к собственному дому, а Джимми сказал, что пойдет дальше со мной, потому что ему по дороге. В присутствии других людей он действовал на нервы: может быть, думал, что лучше самому выставить себя дураком, чем ждать, пока это сделает кто-нибудь еще. Но когда он не играл на публику, он был гораздо симпатичнее. Я чувствовала, что в глубине души он печален, потому что я и сама была такая. В этом отношении мы с ним были как две половинки — во всяком случае, тогда мне так казалось. Он был первым мальчиком, с которым я по-настоящему подружилась.
— Наверное, тебе ужасно странно тут, в охраняемом поселке, после плебсвилля, — сказал он однажды.
— Да, — сказала я.
— А твою маму правда привязывал к кровати бешеный маньяк?
Джимми мог сказануть такое, о чем другие люди только думали, но никогда не произносили вслух.
— Кто тебе сказал? — спросила я.
— Парни в раздевалке.
Значит, сказка Люцерны просочилась наружу.
Я набрала воздуху.
— Только между нами, хорошо?
— Могила, — сказал Джимми.
— Нет. Ее никто не привязывал.
— Я так и думал, — сказал Джимми.
— Только никому не говори. Я тебе доверилась.
— Не буду, — ответил он.
Не стал спрашивать «а почему?». Он знал: если все услышат, что Люцерна сочиняет, то догадаются, что ее не похищали и что она просто наврала. Что она сама убежала из любви или просто ради секса. А потом вернулась в «Здравайзер» к мужу-лузеру, потому что другой мужчина ее бросил. Но она не могла в этом признаться — готова была скорее умереть. Или убить кого-нибудь.
Время от времени я пряталась в шкафу, доставала фиолетовый телефон и звонила Аманде. Мы посылали друг другу эсэмэски, чтобы знать, когда лучше звонить, и, если связь была хорошая, видели друг друга на экране. Я все время спрашивала про вертоградарей. Аманда рассказала, что больше не живет у Зеба — Адам Первый решил, что она уже почти взрослая, так что теперь она спит в одном из отсеков для одиночек, и это очень скучно.
— Когда ты вернешься? — спросила она.
Но я не знала, как мне убежать из «Здравайзера».
— Я над этим работаю, — сказала я.
В наш следующий разговор она сказала: «Смотри, кто здесь», и на экране появился Шекки. Он кротко ухмылялся, и мне пришло в голову, что они, наверное, занимаются сексом. Я почувствовала себя так, словно Аманда сперла какую-нибудь блестящую безделушку, которую я сама хотела заполучить. Но это было глупо, ведь я вовсе не влюблена в Шекки, ничего такого. Мне, правда, было интересно, кто держал меня за попу в тот вечер, когда я отрубилась в будке голограммера. Но скорее всего, это был Кроз.
— Как там Кроз? — спросила я у Шекки. — И Оутс?
— В порядке, — пробормотал Шекки. — Когда ты вернешься? Кроз по тебе правда скучает! Ганг, а?
— Рена, — ответила я. — Гангрена.
Я удивилась, что они еще используют старый детский пароль, но подумала, что, может быть, Аманда велела ему это сказать. Чтобы я не чувствовала себя совсем отпавшей.
Потом Шекки исчез с экрана, и Аманда сказала, что они теперь партнеры — вместе прут вещи в торговом центре. Но это честный обмен: он прикрывает ее спину и помогает толкать украденное, а она ему за это дает.
— Разве ты его не любишь? — спросила я.
Аманда обозвала меня романтиком. Она сказала, что любовь — фигня, от нее только ввязываются в невыгодный обмен, отдают слишком много, а потом ожесточаются и становятся циниками.
41
Мы с Джимми завели привычку делать уроки вместе. Он был очень добрый и помогал мне, когда я чего-нибудь не знала. Оттого что мы у вертоградарей все заучивали наизусть, мне достаточно было посмотреть на текст урока, и потом я как будто видела его у себя в голове. Так что, хоть мне и было трудно и я чувствовала, что сильно отстала, я начала довольно быстро нагонять.
Джимми был на два года старше меня, и потому у нас не было общих уроков, кроме «Жизненных навыков». Это такой предмет, который поможет нам структурировать свою жизнь, когда она у нас будет. На этом уроке смешивали старшие и младшие классы, чтобы мы могли получить пользу от обмена разнообразным опытом. Джимми поменялся с кем-то местами, чтобы сесть сразу за мной. «Я твой телохранитель», — шепнул он, и мне стало спокойно.
Если Люцерны не было дома, мы шли делать уроки ко мне; а если была, мы шли к Джимми. Мне больше нравилось у Джимми, потому что у него был ручной скунот — новый сплайс, наполовину скунс, но без запаха, наполовину енот, но без агрессивности. Скунот был девочкой, и звали ее Убийца. Это был один из самых первых созданных скунотов. Когда я взяла ее на руки, то сразу ей понравилась.
Кажется, маме Джимми я тоже понравилась, хотя при первой встрече она пронзила меня взглядом строгих голубых глаз и спросила, сколько мне лет. Она мне тоже понравилась, хотя и курила, а я от этого кашляла. У вертоградарей никто не курил — во всяком случае, табак. Мама Джимми много работала на компьютере, но я не могла понять, что она делает: она же не работала на корпорацию. Папа Джимми никогда не бывал дома — он все время проводил в лаборатории, придумывая, как бы перенести человеческие стволовые клетки и ДНК в свиней, чтобы растить человеческие органы. Я спросила Джимми, какие органы, и он сказал, что почки, а может, и легкие тоже, а в будущем каждый человек сможет вырастить себе свинью со всеми запасными органами. Я знала, что вертоградарям это не понравилось бы: ведь свиней придется убивать.
Джимми видел этих свиней. Их называли свиноидами, от слов «свинья» и «андроид», из-за человеческих органов. Джимми сказал, что метод удвоения органов — коммерческая тайна. Очень ценная.
— А ты не боишься, что какая-нибудь иностранная корпорация украдет твоего папу и выжмет из него секреты? — спросила я.
Такое бывало все чаще: в новости это не попадало, но в «Здравайзере» ходили слухи. Иногда похищенных ученых удавалось вернуть, иногда нет. Режим безопасности все время ужесточался.
Сделав уроки, мы с Джимми болтались по торговому центру «Здравайзера», играли в мирные видеоигры и пили благокапучино. В первый раз я сказала Джимми, что «Благочашка» — средоточие зла и мне нельзя это пить, а он меня обсмеял. Во второй раз я сделала над собой усилие, и оказалось, что это ужасно вкусно, и скоро я уже не думала о том, что «Благочашка» — зло.
Однажды Джимми заговорил со мной о Вакулле Прайс. Он сказал, что она — первая девочка, в которую он был влюблен, но когда он захотел, чтобы у них было все серьезно, она сказала, что они могут быть только друзьями. Про это я уже знала, но все равно посочувствовала, а Джимми сказал, что после этого он много недель чувствовал себя как собачья блевотина и до сих пор не пришел в норму.
Потом он спросил, остался ли у меня в плебсвилле бойфренд, и я, сказала, что да — это была неправда, — но что, раз я никак не могу туда вернуться, я решила его забыть. Потому что это лучший выход, когда хочешь кого-нибудь и не можешь его заполучить. Джимми ужасно посочувствовал мне из-за потерянного бойфренда и сжал мне руку. Тогда мне стало стыдно, что я соврала; но о том, что Джимми пожал мне руку, я не жалела.
К этому времени я завела дневник. Все девочки в школе вели дневники, это была такая ретромания: компьютер можно хакнуть, а с бумажным дневником ничего не сделаешь. Я все записывала в дневник. Это было все равно что говорить с другом. Мне и в голову не приходило, что записывать разные вещи может быть опасно: наверное, это показывает, как сильно я уже отпала от вертоградарей. Я держала дневник в шкафу, внутри плюшевого медведя, потому что не хотела, чтобы Люцерна за мной следила. Тут вертоградари были правы: прочтя чьи-нибудь тайные слова, получаешь власть над этим человеком.
Потом в Здравайзеровской средней школе появился новый мальчик. Его звали Гленн. Увидев его, я сразу узнала того самого Гленна, который приходил на рынок «Древо жизни» в Неделю святого Юэлла и которого мы с Амандой водили на встречу с Пилар из-за банки меда. Мне показалось, что он мне едва заметно кивнул — узнал меня? Я надеялась, что нет, а то еще начнет рассказывать, где он меня видел. Что, если ККБ все еще ищет выдуманного Люцерной маньяка-похитителя? Что, если они найдут Зеба из-за меня и он окажется в морозильнике без органов? Это была ужасная мысль.
Но конечно, Гленн ничего не скажет, даже если меня узнает: он же не хочет, чтобы они узнали про Пилар и вертоградарей и про то, что он с ними делал. Что-нибудь незаконное, я не сомневалась: иначе зачем Пилар отослала меня и Аманду? Наверняка для того, чтобы нас от этого оградить.
Гленн ходил в черных футболках и вел себя так, словно ему на всех плевать. Но скоро Джимми начал околачиваться с ним, а со мной проводить все меньше времени.
— Чем ты занимаешься с этим Гленном? — спросила я однажды, когда мы делали уроки на компьютерах в школьной библиотеке.
Джимми ответил, что они просто играют в трехмерные шахматы или в видеоигры по Интернету. У него дома или у Гленна. Порнушку смотрят, подумала я — многие мальчики смотрели и некоторые девочки тоже — и спросила, какие игры. «Нашествие варваров», — сказал он, это про войну. «Кровь и розы» — это как «Монополия», только надо захватывать рынки геноцида и зверств. И «Вымирафон» — это такая викторина про вымерших животных.
— Может, я как-нибудь приду и тоже поиграю, — сказала я, но Джимми не поддержал эту идею. Так что, видно, они и вправду смотрели порнушку.
Потом случилась настоящая беда: пропала мама Джимми. Говорили, что это было не похищение: она сама сбежала. Я подслушала разговор Люцерны с Фрэнком: судя по всему, мама Джимми украла кучу важных данных, так что дом Джимми теперь кишел какабэшниками, как клопами. А Джимми с Брендой такие друзья, сказала Люцерна, что скоро они и к нам нагрянут. Нам, конечно, скрывать нечего. Но все равно приятного мало.
Я тут же послала Джимми сочувственную эсэмэску с вопросом: могу ли я чем-нибудь помочь. Он не был в школе, но прислал мне ответную эсэмэску через несколько дней, потом пришел ко мне домой. Он был в ужасной депрессии. Он сказал: мало того, что его мама сбежала, так еще и ККБ попросила отца помочь в расследовании. Это значит, что его увезли в черном солнцебусе; и теперь две какабэшницы шныряют по дому и не переставая задают дурацкие вопросы. Хуже всего, что мама забрала с собой Убийцу — чтобы выпустить ее на волю в диком лесу. Об этом было в прощальной записке. Но Убийце нельзя в дикий лес, потому что ее там съедят рыськи.
— Ох, Джимми, — сказала я. — Это ужасно.
Я обняла его и стала утешать: он вроде как плакал. Я тоже заплакала, и мы стали гладить друг друга — осторожно, как будто у нас обоих переломаны руки или мы оба больны, а потом скользнули в мою кровать, все еще вцепившись друг в друга, как утопающие, и стали целоваться. Я чувствовала, что помогаю Джимми, а он в то же время помогает мне. Это было как праздник у вертоградарей — когда мы все делали особенным образом в честь чего-нибудь. Да, вот как это было: торжественно.
— Я не хочу сделать тебе больно, — сказал Джимми.
«Ох, Джимми, — подумала я. — Я окутываю тебя Светом».
42
После первого раза я была так счастлива, как будто пела. Не грустную песню, а как птицы поют. Мне так хорошо было в постели с Джимми, так спокойно, когда он меня обнимал, и я не переставала удивляться, как шелковисто и скользко трется одно тело о другое. Адам Первый говорил, что у тела своя мудрость; он говорил про иммунную систему, но это правильно и в другом смысле тоже. Эта мудрость похожа не только на пение, она еще похожа на танец, только лучше. Я была влюблена в Джимми, и мне нужно было верить, что он меня тоже любит.
Я записала в дневнике: «ДЖИММИ». Подчеркнула красным и нарисовала красное сердечко. Я все еще не слишком доверяла письменам и потому не стала записывать все, что происходит, но после каждого секса рисовала сердечко и закрашивала его.
Мне хотелось позвонить Аманде и поделиться с ней, хоть она и говорила когда-то, что рассказы про чужой секс — еще скучнее, чем пересказы чужих снов. Но когда я пошла в шкаф и вытащила плюшевого тигра, фиолетового телефона в нем не оказалось.
Я вся похолодела. Дневник был по-прежнему в медведе, где я его спрятала. А телефона не было.
Тут ко мне в комнату зашла Люцерна. Она спросила: разве я не знаю, что любой телефон внутри охраняемого поселка должен быть зарегистрирован, чтобы люди не могли звонить и выдавать промышленные секреты? Иметь незарегистрированный телефон — преступление, и ККБ отслеживает такие телефоны. Неужели я этого не знаю?
Я помотала головой.
— А они могут определить, кому звонили?
Она сказала, что они могут проследить номер, и тогда обоим — тому, кто звонил, и тому, кому звонили, — мало не покажется. Она не сказала «мало не покажется», она сказала «будет иметь серьезные последствия».
Потом она сказала: хоть я и считаю ее плохой матерью и не скрываю этого, она всегда обо мне заботится, для моего же блага. Например, если она случайно найдет фиолетовый телефон, по которому в последнее время много звонили, она может послать на тот номер, куда звонили, эсэмэску: «Выбрось телефон!» Так что, даже если ККБ найдет тот второй телефон, он будет в мусорном ящике. А она сама избавится от фиолетового телефона. А теперь она едет играть в гольф и надеется, что я хорошенько обдумаю все ее слова.
Я очень хорошо подумала. Я подумала: «Люцерна вылезла вон из кожи, чтобы спасти Аманду. Значит, она знала, кому я звоню. Но она ненавидит Аманду. Значит, на самом деле она хотела спасти Зеба: несмотря ни на что, она все еще его любит».
Теперь, когда я полюбила Джимми, я стала больше сочувствовать Люцерне и тому, как она вела себя с Зебом. Я теперь понимала, как можно пойти на любые крайности ради любимого человека. Адам Первый говорил: когда любишь кого-нибудь, любовь может не быть взаимной так, как тебе хотелось бы, но все равно любовь — это хорошо, потому что она расходится от тебя во все стороны, как волна энергии, и может помочь какому-нибудь созданию, которого ты даже не знаешь. Он приводил пример про то, как человек умер от вируса, а потом его съели грифы. Мне не очень понравилось это сравнение, но общая мысль оказалась правильной: вот Люцерна, она послала сообщение, потому что любит Зеба, но заодно это спасло Аманду, о чем Люцерна даже не думала. Значит, Адам Первый был прав.
Но все равно это значило, что я потеряла связь с Амандой. Мне было очень грустно.
Мы с Джимми по-прежнему делали уроки вместе. Иногда мы действительно делали уроки, если поблизости был еще кто-нибудь. В остальное время — нет. Нам хватало минуты, чтобы выбраться из одежды и слиться друг с другом, и Джимми проводил руками по моему телу и говорил, что я такая стройная, прямо как сильфида. Он любил такие слова, хоть я и не всегда знала, что они значат. Он говорил, что иногда чувствует себя маньяком-педофилом. Потом я записывала кое-что из его слов, как будто это были пророчества. «Джимми такой класный он сказал что я сельфида». У меня хромало правописание, но это меня не волновало, главное — чувства.
Я так его любила. Но потом я сделала ошибку. Я спросила его, влюблен ли он все еще в Вакуллу или полюбил меня вместо нее. Не надо было этого делать. Он очень долго не отвечал, а потом спросил: «А это имеет какое-то значение?» Я хотела сказать, что да, но вместо этого сказала «нет». Потом Вакулла Прайс уехала на Западное побережье, а Джимми помрачнел и опять начал проводить больше времени с Гленном, чем со мной. Это и был его ответ, и от этого ответа я была очень несчастна.
Несмотря на все это, мы по-прежнему занимались сексом, хоть и не часто — красные сердечки в моем дневнике появлялись все реже и реже. Потом я случайно увидела Джимми в торговом центре с одной девчонкой, ужасной матершинницей. Ее звали Линда-Ли, и, по слухам, она перебирала всех парней в школе, одного за другим, быстро-быстро, как соевые орешки ела. Рука Джимми лежала у нее прямо на попе, а она притянула его к себе и поцеловала. Длинным, мокрым поцелуем. Меня прямо затошнило, когда я представила себе, как они с Джимми, а потом я вспомнила, что Аманда говорила про болезни, и подумала: «Вся зараза, какая есть у Линды-Ли, теперь есть и у меня». Я пошла домой, и меня стошнило. Потом я поплакала, а потом приняла горячую ванну. В большой белой ванне. Но это меня не очень утешило.
Джимми не знал, что я знаю про него и Линду-Ли. Через несколько дней он, как обычно, спросил, можно ли ко мне прийти, и я разрешила. Я записала в дневнике: «Джимми ты нахал! Я знаю что ты это читаиш и ненавижу тибя за это! Если я с табой трахалась это ещо низначит, что ты мне нравишся так что НЕ ЛЕЗЬ!» Слово «ненавижу» я подчеркнула двумя красными линиями, а «не лезь» — тремя. Потом оставила дневник на тумбочке. И подумала: конечно, враги могут использовать написанное против тебя, но и ты можешь использовать его против них.
После секса я пошла принимать душ одна, а когда вышла, Джимми читал мой дневник. Джимми спросил, что это я вдруг его возненавидела. Я ему сказала. Я использовала такие слова, которые раньше никогда в жизни не произносила вслух. Джимми сказал, что он мне не подходит, что он не способен на серьезные отношения из-за Вакуллы Прайс, что она сделала его эмоциональным калекой. Но может быть, он по натуре своей губителен для девочек, потому что портит жизнь всем, к кому прикасается. И я спросила, а сколько же у него было девочек. Потому что мне было невыносимо думать, что я одна из многих, как будто мы все вместе сидим у него в большой корзинке. Как персики или репа. Тогда он сказал, что я ему очень нравлюсь как человек, поэтому он со мной честен, а я велела ему идти в жопу. Так что мы расстались не по-хорошему.
В моей жизни как будто погас свет. Я не могла понять, зачем живу: кажется, если бы я исчезла, всем было бы все равно. Может быть, мне следует отбросить то, что Адам Первый называл шелухой, и перейти в грифа или червя. Но потом я вспомнила, что всегда говорили вертоградари: «Рен, твоя жизнь — драгоценный дар, а где дар, там есть и Даритель, а когда тебе что-то подарили, нужно всегда говорить спасибо». Это немножко помогло.
И еще я слышала голос Аманды: «Не раскисай! Любовь никогда не бывает честным обменом. Ну подумаешь, ты надоела Джимми, ну и что. Парней везде полно, как микробов. Срывай их, как цветы, и выбрасывай, когда они увянут. Но веди себя так, как будто ты счастлива и каждый день — праздник».
То, что я сделала потом, было не очень хорошо, и мне за это до сих пор стыдно. Я подошла к Гленну в школьной столовой — пришлось набраться храбрости, потому что он был такой крутой, как неприступная гора. И спросила его, не хочет ли он гулять со мной. На самом деле я хотела, чтобы у нас был секс, и чтобы Джимми все узнал, и чтобы ему стало больно. Не то чтоб мне очень хотелось заниматься сексом с Гленном. Это было бы все равно что трахаться с ложкой для салата. Секс получился бы такой плоский, деревянный.
— Гулять? — удивленно спросил Гленн. — А разве ты не с Джимми?
Я сказала, что у нас с Джимми все кончено и вообще у нас никогда не было серьезно, потому что он такой шут гороховый. Потом я выпалила первое, что пришло в голову:
— Я видела тебя у вертоградарей, на рынке «Древо жизни». Помнишь? Я одна из тех, кто водил тебя к Пилар. С банкой меда, помнишь?
Он явно встревожился и сказал, что нам надо выпить по благокапучино и поговорить.
Мы поговорили. Мы начали встречаться и говорить подолгу. Мы так много времени проводили в торговом центре, что нас стали считать парочкой. Но мы ею не были. Никакой романтики. Что же это было? Наверное, дело в том, что во всем «Здравайзере» я могла говорить о вертоградарях только с Гленном, а он — только со мной. Это нас и связало. Вроде тайного общества. Может быть, Джимми вовсе никогда и не был моей половинкой. Может, это Гленн — моя половинка. Это была странная мысль, потому что Гленн сам был такой странный парень. Больше похож на киборга. Вакулла Прайс его так и называла. Были ли мы друзьями? Я даже этого не сказала бы. Иногда он смотрел на меня, как будто я амеба или какая-нибудь задача, которую он решает на уроке нанобиоформ.
Гленн уже многое знал про вертоградарей, но хотел узнать еще больше. Каково было жить с ними день за днем. Что они делали, говорили, во что они на самом деле верили. Он заставлял меня петь их песни, повторять речи Адама Первого, посвященные праздникам и дням святых. Гленн никогда не смеялся над этими речами так, как стал бы смеяться Джимми. Вместо этого он задавал разные вопросы. Например: «Значит, они думают, что можно пользоваться только вторсырьем и подержанными вещами. А что будет, если корпорации перестанут производить новые вещи? Тогда и подержанные кончатся». Иногда он спрашивал меня про что-нибудь личное, например: «А ты бы стала есть животных, если бы голодала?» Или: «Ты веришь, что Безводный потоп по правде случится?» Но я не всегда знала, что отвечать.
Он и про другое тоже говорил. Однажды он сказал, что в любой трудной ситуации нужно убить короля, как в шахматах. Я сказала, что королей уже давно нет. Он объяснил, что имеет в виду центр власти, но в наше время это не один человек, а технологические связи. Я спросила, это как кодирование и сплайсы, и он ответил: «Что-то в этом роде».
Однажды он спросил, не думаю ли я, что Бог — это кластер нейронов, а если так, то почему этот кластер передается от поколения к поколению естественным отбором: потому что он содержит какое-то конкурентное преимущество или это просто нейтральный признак, как рыжий цвет волос, и никак не влияет на шансы выживания. Часто я вообще не понимала, о чем он говорит, и тогда спрашивала: «А ты сам что думаешь?» У него всегда находился ответ.
Джимми увидел нас вместе в торговом центре и, кажется, действительно растерялся, но ненадолго, потому что я заметила, как он показывает Гленну два больших пальца, словно говоря: «Валяй, не стесняйся!» Как будто я была его собственностью и он делился ею с другом.
Джимми и Гленн закончили школу на два года раньше меня и уехали учиться дальше. Гленн со всеми мозговитыми попал в институт Уотсона-Крика, а Джимми — в академию Марты Грэм, куда брали неспособных к математике и естественным наукам. Так что мне теперь хотя бы не приходилось смотреть, как Джимми ходит то с одной, то с другой новой девочкой. Но не видеть его оказалось едва ли не хуже.
Кое-как я протянула два следующих года. Оценки у меня были плохие, и я не думала, что меня возьмут в университет. Пойду работать планктоном за минимальную зарплату, в «Секрет-бургер» или еще что-нибудь в этом роде. Но Люцерна стала нажимать на все педали. Я подслушала ее разговор с кем-то из приятелей по гольф-клубу: «Она не глупая, но у нее подорвана мотивация из-за той истории с сектой. Так что академия Марты Грэм — лучшее, на что мы можем рассчитывать». Значит, я буду там же, где и Джимми, — от этого я так разнервничалась, что меня чуть не стошнило.
Я уезжала на скоростном поезде. Вечером накануне отъезда я перечитала свой старый дневник. Тогда я поняла, что имели в виду вертоградари, говоря: «Берегись слов. Думай, что пишешь». Вот мои собственные слова из того времени, когда я была счастлива. Но теперь мне мучительно больно их читать. Я прошла немного по улице, свернула за угол и сунула дневник в контейнер сырья для мусорнефти. Он превратится в нефть, и все эти красные сердечки взовьются облачками дыма, но по дороге хотя бы принесут какую-то пользу.
В глубине души я надеялась, что в академии Марты Грэм снова встречу Джимми, и он скажет, что всегда любил только меня, и попросит разрешения ко мне вернуться, и я его прощу, и все будет прекрасно, как когда-то раньше. Но с другой стороны, я понимала, что шансы нулевые. Адам Первый говорил, что люди могут верить одновременно в две взаимоисключающие вещи, и теперь я знала, что это правда.
Праздник Змеиной мудрости
Праздник Змеиной мудрости
Год восемнадцатый
Дорогие друзья, дорогие смертные, дорогие создания!
Сегодня мы отмечаем День Змеиной мудрости, и наши дети снова превзошли себя в оформлении праздника. Аманда и Шеклтон создали монументальную фреску с изображением Полоза, пожирающего Лягушку. Весьма уместное напоминание о переплетениях великого хоровода жизни. Традиционное угощение на этом празднике — цуккини, так как они формой напоминают Змею. Поблагодарим Ребекку, нашу Еву Одиннадцатую, за хитроумное изобретение — десертные пластинки из цуккини и редьки. Мы с нетерпением ждем возможности его отведать.
Но сначала я должен сообщить вам, что определенные личности наводят неофициальные справки о Зебе, нашем многоодаренном Адаме Седьмом. В доме Отца Нашего Видов много, а Экосистема невозможна без разнообразия. Зеб избрал ненасильственный путь; если вас будут спрашивать, помните, что «Я не знаю» — всегда самый лучший ответ.
На праздник Змеиной мудрости мы читаем главу 10 Евангелия от Матфея, стих 16: «Будьте же мудры, как Змеи, и кротки, как Голуби». Если среди нас есть биологи, изучавшие Голубей или же Змей, эта фраза их удивит. Змеи — прекрасные охотники, они парализуют свою жертву или душат и раздавливают ее. Жертвой этого умения пала не одна Мышь и Крыса. Однако, несмотря на ловкость в охоте, вряд ли кто назовет Змей мудрыми. В то же время Голуби, хоть и безвредны для нас, чрезвычайно агрессивны по отношению к другим Голубям: самец Голубя не прочь при случае заклевать и убить менее доминантного самца. Голубь — один из символов Святого Духа; это лишь напоминает нам, что Дух не всегда мирен, в нем есть и ярость.
Змея — важный символ в Человеческом Слове Господа и многозначный. Иногда Змей выступает как олицетворение зла и враг Человечества — возможно, потому, что когда-то давно наши предки-Приматы спали на деревьях и Удавы были в числе хищников, угрожавших им по ночам. И еще, поскольку эти предки были босы, наступить на ядовитую змею означало для них верную смерть. Однако Змеем также именуют Левиафана, гигантского обитателя вод, созданного Богом для смирения Человека. Левиафана Господь упоминает в беседе с Иовом, дабы внушить ему священный трепет перед Своей творческой силой.
У древних греков змеи были священными животными бога врачевания. В других религиях змей, кусающий собственный хвост, символизирует круговорот Жизни, Начало и Конец Времен. Поскольку Змеи сбрасывают кожу, они также олицетворяют обновление — как душа сбрасывает свое старое «я» и возникает во всем великолепии. Воистину многозначный символ. Так в каком же смысле мы должны быть «как Змеи»? Следует ли нам кусать собственный хвост, совращать окружающих с пути истинного или обвиваться вокруг врагов, сокрушая их до смерти? Конечно нет — ибо в том же предложении нам приказывают быть кроткими, как Голуби.
Я полагаю, что змеиная мудрость — это способность ощущать напрямую, подобно тому как Змеи улавливают земные колебания. Змея мудра тем, что живет настоящим, ей не нужны интеллектуальные нагромождения и философские системы, какие Человек непрестанно строит вокруг себя. Ибо что для нас вера и убеждения, то для других Созданий — врожденное знание. Ни один Человек не способен постичь во всей полноте мышление Бога. Человеческий разум подобен булавке, танцующей на голове ангела, так мал он в сравнении с необъятной Божественной Пустотой, окружающей нас.
Как сказано в Человеческом Слове Господа, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в вещах невидимых».[15] Ключевое слово — «невидимых». Бога невозможно познать разумом и измерением; воистину, излишки разума и чрезмерная склонность к измерениям порождают сомнение. Разум и измерения сообщают нам, что в будущем возможны приход Кометы и ядерная катастрофа, не говоря уже о Безводном потопе, который, как мы страшимся, наступит даже раньше. Этот страх растворяет нашу уверенность, открывая путь, которым приходит потеря Веры. А затем в душу закрадывается искушение творить зло; ибо если нас ждет погибель, что проку стремиться к Добру?
Нам, Людям, приходится прилагать усилия, чтобы верить. В отличие от других Созданий. Они знают, что придет рассвет. Они его чувствуют — рябь рождающегося света, дрожь, пробегающую по горизонту. Не только каждый Воробей и Скунот, но и всякая Нематода и Париковца, любой Моллюск, Осьминог, Львагнец. Господь держит их всех в Своей длани. Им, в отличие от нас, Вера не нужна.
Что же до Змеи, кто скажет, где кончается ее голова и начинается тело? Змея ощущает Господа всей собой; она чувствует Божественные вибрации, пронизывающие Землю, и реагирует быстрее мысли.
Это и есть Змеиная мудрость, кою мы должны стяжать, — вот эта целостность Бытия. Приветствуем же с радостью те немногие моменты, когда по Благодати, через уединение в скиту и всенощные бдения, при помощи экстрактов Господних растений нам даруется краткий отсвет этого чувства.
Воспоем же.
Господь животным даровал
43
Тоби. Праздник Змеиной мудрости
Год двадцать пятый
«День Змеиной мудрости. Луна в последней четверти». Тоби записывает название дня и фазу луны в розовый блокнот с подмигивающими глазами и губками, сложенными для поцелуя. Вертоградари говорили, что в этой фазе луны надо обрезать растения. Сажать при растущей луне, обрезать при убывающей. В это время и себе хорошо отрезать что-нибудь лишнее. Голову, например.
— Шутка, — вслух произносит Тоби; надо запретить себе такие мрачные мысли.
Сегодня она подстрижет ногти. На руках и на ногах. Нельзя, чтобы они росли как попало. Можно и маникюр сделать: в салоне осталось огромное количество всяких припасов, целые полки. Скраб для лица «НоваТы — Роскошная гладкость». Питательная маска для лица «НоваТы — Сочная слива». Полная полировка тела «НоваТы — Источник юности». «Сбрось старую кожу и омолодись!» Но какой смысл покрывать себя лаком, питать лицо, омолаживаться? Никакого смысла нет. Но в том, чтобы этого не делать, тоже нет никакого смысла.
«Потому что ты этого достойна, — провозглашал когда-то девиз салона „НоваТы“, — Новая Ты».
Я могу завести себе целую новую себя, думает Тоби. Еще одну. Свеженькую, как змея. Сколько же разных меня получится в общей сложности?
Она взбирается по лестнице на крышу, подносит бинокль к глазам и озирает свои видимые владения. В сорняках на опушке леса кто-то шевелится — может, свиньи? Если и так, то они маскируются. Вокруг дохлого кабана все еще толкутся грифы. Над кабаном трудятся мириады нанобиоформ; должно быть, он уже хорошо дозрел.
Вот что-то новое. Чуть ближе к зданию пасется стадо овец. Их пять: три париковцы — зеленая, розовая и ярко-лиловая — и две на вид обыкновенные. Длинные пряди париковец явно в плохом состоянии — свалялись в колтуны, в них запутались веточки и сухие листья. В рекламе эти волосы были гладкими и блестящими — овца встряхивала ими, а потом показывали красивую девушку, которая встряхивала такими же волосами. «Натуральные волосы от париковец!» Но, судя по всему, без парикмахера эти волосы не могут.
Овцы, сбившись в кучку, поднимают головы. Тоби видит почему: в сорняках припали к земле два львагнца, готовые к прыжку. Должно быть, овцы их чуют, но запах сбивает с толку: немного от овцы, немного от льва.
Лиловая париковца самая нервная. Тоби посылает ей телепатическое сообщение: «Нельзя выглядеть жертвой!» И правда, львагнцы выбирают лиловую. Они отрезают ее от стада, и погоня оказывается недолгой. Бедной овце мешают бежать волосы — она похожа на фиолетовый клоунский парик на ножках, — и львагнцы ее быстро настигают. Им не сразу удается найти горло под этой массой волос, и париковца несколько раз поднимается на ноги. Наконец львагнцы приканчивают ее и устраиваются обедать. Другие овцы, беспорядочно блея, неловко отбежали прочь, но теперь опять пасутся.
Тоби хотела сегодня поработать в огороде и нарвать зелени: запас консервов и сухих продуктов убывает, подобно луне. Но Тоби не идет, из-за львагнцев. Все кошки устраивают засады: одна скачет на виду, отвлекая жертву, а другая бесшумно подбирается к ней сзади.
После обеда Тоби ложится отдыхать. Старая луна притягивает прошлое, говорила Пилар: все, что придет из теней, нужно приветствовать как благословение. И прошлое действительно приходит к Тоби: белый каркасный домик ее детства, обычные деревья, лес вдалеке, в голубой дымке, словно в мареве пожара. На фоне леса виден силуэт оленя — он стоит неподвижно, как садовое украшение, навострив уши. Отец копает землю у кучи штакетника; мать мелькает в окне кухни. Может, суп варит. Все спокойно и словно бы вечно. Только где же Тоби? Ее нет на картинке. Потому что это картинка. Она плоская, как те картины, что висят на стене. И Тоби в ней нет.
Тоби открывает глаза. На щеках у нее слезы. Меня не было на картине, потому что я — ее рамка, думает она. Это на самом деле не прошлое. Это лишь я. Я удерживаю все вместе. Лишь горстка гаснущих возбуждений в цепочках синапсов. Мираж.
Конечно, я тогда была оптимисткой, думает она. Тогда и там. Насвистывала, просыпаясь. Я знала, что в мире не все гладко, об этом упоминали, об этом говорили в новостях. Но все плохое творилось где-то в другом месте.
Ко времени поступления Тоби в академию плохое придвинулось ближе. Она помнит ощущение удушья, когда все время будто ждешь тяжелых каменных шагов, стука в дверь. Все знали. Но никто не признавался, что знает. Если другие начинали об этом говорить, надо было делать вид, что не слышишь, потому что они говорили одновременно очевидное и немыслимое.
«Мы пожираем Землю. Ее уже почти не осталось». Нельзя жить с таким страхом и все так же насвистывать. Ожидание нарастает, словно прилив. Уже начинаешь хотеть, чтобы все кончилось поскорее. Ловишь себя на том, что обращаешься к небу со словами: «Ну давай уже. Покажи весь ужас, на который способен. Только пусть уже все кончится». Рокот близился, и Тоби во сне и наяву ощущала, как от него вибрирует позвоночник. Рокот никогда не утихал, даже когда Тоби жила среди вертоградарей. Особенно когда она жила среди вертоградарей.
44
Воскресенье после Дня Змеиной мудрости — День святого Жака Ива Кусто. Это был восемнадцатый год, год разрыва — хотя тогда Тоби этого еще не знала. Она помнит, как пробиралась по улицам Сточной Ямы в «Велнесс-клинику», на очередное заседание совета Адамов и Ев. Заседания проходили в воскресенье вечером. Тоби не слишком радовалась предстоящей встрече — в последнее время они все чаще перерастали в ссоры.
На прошлом заседании они весь вечер убили на теологические вопросы. В частности, про зубы Адама.
— Зубы Адама? — выпалила Тоби.
И подумала, что нужно научиться себя контролировать: подобные удивленные восклицания могут быть восприняты как критика.
Адам Первый объяснил: некоторые дети расстроились, когда Зеб указал на разницу между кусающими, рвущими зубами хищников и перетирающими, жующими — травоядных. Дети потребовали объяснений: если Господь создал Адама вегетарианцем, в чем нет сомнения, почему у человека зубы смешанного типа?
— Не стоило об этом упоминать, — пробормотал Стюарт.
— Человек изменился после Падения, — радостно заявила Нуэла. — Эволюционировал. Как только он стал есть мясо, так сразу, конечно, и…
Говорить так — все равно что ставить телегу впереди лошади, сказал Адам Первый. Вертоградари стремятся примирить результаты научного познания со священными тайнами Жизни, а этого нельзя добиться, просто игнорируя законы Науки. Он попросил Адамов и Ев поразмыслить и предложить свои решения.
Затем они обратились к одеждам из шкур животных, которые Бог сделал для Адама и Евы в конце главы третьей Книги Бытия.[16] Эти «одежды кожаные» тоже стали источником смущения.
— Дети очень переживают, — сказала Нуэла.
Тоби могла их понять. Неужели Господь мог убить и ободрать кого-то из Своих возлюбленных Творений, чтобы одеть человека? Если так, Он подал Человеку очень плохой пример. А если нет, то откуда же взялись эти кожи?
— Может, эти животные умерли своей смертью, — сказала Ребекка. — И Господь не хотел, чтобы их тела пропали даром.
Ребекка, заведующая кухней, всегда зорко следила, чтобы все недоеденные остатки шли в дело.
— Может, какие-нибудь мелкие зверьки, — предположил Катуро. — Короткий жизненный цикл.
— Это одна из возможностей, — сказал Адам Первый. — Примем ее как рабочую гипотезу, пока не будет найдено более вероятное объяснение.
Как-то, только став Евой, Тоби спросила, неужели теологические тонкости действительно важны. Адам Первый сказал, что да.
— По правде говоря, — объяснил он, — большинство людей не заботятся о других Видах, особенно в трудные времена. Людей больше интересует, что они будут есть завтра, и это вполне естественно; если человек не ест, он умирает. Но что, если Господь заботится? Человечество в своем развитии пришло к вере в богов, а это значит, что у веры есть какие-то эволюционные преимущества. Строго материалистическая точка зрения — то, что мы являемся результатом эксперимента белковой массы над самой собой, — для большинства людей оборачивается холодом и пустотой и ведет к нигилизму. Мы должны воспользоваться этим и стараться сместить настроения публики в направлении, дружелюбном к биосфере. С этой целью мы указываем на то, как опасно прогневить Бога, не оправдав Его доверия, после того как он вручил нам бразды правления.
— Вы хотите сказать: если Бог участвует в сюжете, должно последовать наказание, — уточнила Тоби.
— Да, — сказал Адам Первый. — Излишне говорить, что в сюжете без Бога тоже присутствует наказание. Но в такой сюжет люди менее склонны верить. Если есть наказание, они хотят, чтобы был и наказующий. Безличностная катастрофа им неприятна.
Интересно, о чем мы будем говорить сегодня, подумала Тоби. Может, о том, какой плод съели Адам и Ева с древа познания? Это не могло быть яблоко, так как садоводство тогда было еще совсем не развито. Финик? Бергамот? Этот вопрос давно уже ставил совет в тупик. Тоби думала, не предложить ли землянику, но земляника на деревьях не растет.
Шагая по улице, Тоби, как обычно, была начеку. Несмотря на шляпу от солнца, она видела вперед и в стороны. Чтобы знать, что делается за спиной, она смотрела на отражения в стеклах окон или приостанавливалась в дверных проемах и оглядывалась назад. Но ее не покидало чувство, что за ней кто-то идет — вот сейчас на плечо опустится рука, покрытая синими и красными венами, украшенная браслетом из детских черепов… Бланко не видели в Отстойнике уже давно. Одни говорили, что он все еще в больболе; другие — что он завербовался в наемники и воюет где-то за границей. Но он был как ядовитый смог: в воздухе всегда висело хоть несколько его молекул.
За Тоби кто-то шел — она чувствовала, ее словно кололо между лопатками. Она шагнула в дверной проем, повернулась к тротуару, и от облегчения у нее аж ноги подкосились: это был Зеб.
— Привет, детка, — сказал он. — Жарко, а?
Он пошел рядом с ней, мурлыча себе под нос:
— Может, лучше не петь, — нейтральным голосом заметила Тоби.
Привлекать к себе внимание на улице в плебсвилле не стоило никому, а особенно вертоградарям.
— Ничего не могу с собой поделать, — жизнерадостно заявил Зеб. — Это все Бог виноват. Он вплел музыку в самую ткань нашего бытия. Он лучше слышит человека, когда тот поет, так что Он и нас сейчас слышит. Надеюсь, Ему приятно мое пение.
Зеб вещал благочестивым тоном, передразнивая Адама Первого. Он часто так делал — правда, обычно когда Адама Первого не было поблизости.
Тайный бунт, подумала Тоби. Зебу надоело быть бета-самцом.
Став Евой, она многое узнала о статусе Зеба среди вертоградарей. Все сады на крыше и ячейки-«трюфели» управляли сами собой, но раз в полгода они все посылали делегатов на общий съезд, который проводился в заброшенном складе — каждый раз в новом, из соображений безопасности. Зеба всегда назначали делегатом: он умел пробраться через самые опасные плебсвилли и обойти засады ККБ, избежав ограбления, избиения, ареста и выстрелов из распылителя. Может, оттого ему и позволяли нарушать законы вертоградарей.
Адам Первый редко участвовал в съездах. Слишком много опасностей подстерегало на пути. Отсюда неявно следовало, что Адам Первый незаменим — в отличие от Зеба. В теории у вертоградарей не было централизованного управления, но фактически лидером был Адам Первый, всеми почитаемый основатель и духовный наставник. Его скромное мнение напоминало молот, обернутый войлоком: оно имело решающий вес на съездах; а так как Адам Первый на них присутствовал редко, этим молотом за него размахивал Зеб. Должно быть, перед Зебом стоит немалое искушение: что, если пренебречь мнением Адама Первого и вместо него выдвинуть свое собственное? Метод известный: так совершали перевороты и свергали императоров.
— У тебя плохие новости? — спросила Тоби.
Пение — верный знак: при плохих новостях Зеб всегда становился раздражающе бодрым.
— По правде сказать, да, — ответил Зеб. — У нас был свой человек в охраняемых поселках — мальчик-курьер. А теперь мы его потеряли. Он замолчал.
Про мальчика-курьера Тоби узнала, когда стала Евой. Это он отнес образцы тканей Пилар в лабораторию и принес ей роковой диагноз. То и другое было спрятано в банке с медом. Но больше Тоби о нем ничего не знала. Адамов и Ев информировали, но ровно настолько, насколько необходимо. Пилар умерла уже давно; за эти годы мальчик-курьер, конечно, вырос.
— Замолчал? — спросила она. — Как это?
Неужели онемел? Конечно, Зеб говорит о чем-то другом.
— Он раньше жил в «Здравайзере», а потом закончил школу и перебрался в институт Уотсона-Крика. И перестал выходить на связь. Хотя о связи в данном случае говорить сложно.
Тоби ждала. Требовать у Зеба объяснений или выпрашивать подробности было бесполезно.
— Только между нами, хорошо? — сказал он наконец.
— Конечно.
Я лишь большое ухо, подумала Тоби. Верный молчаливый пес. Ямка в земле, куда можно шепнуть свою тайну. Больше ничего. После побега Люцерны — а это было четыре года назад — Тоби по временам казалось, что между нею и Зебом что-то есть. Но ничего не происходило. Тоби решила, что она — не его тип. Слишком мускулистая. Наверняка ему нравятся женщины, которым есть чем потрясти.
— Совет об этом не знает, поняла? — сказал Зеб. — И пусть не знает. Нечего их зря волновать.
— Считай, что я ничего не слышала, — ответила Тоби.
— Его отец дружил с Пилар — она когда-то работала в «Здравайзере», в генной инженерии растений. Он узнал, что они заражают людей болезнями через эти ихние биодобавки — используют как бесплатных морских свинок, а потом еще и деньги берут за лечение. Ловко устроились, дерут по полной за то, чем сами заразили. Его загрызла совесть. Так что он передал нам кое-какие интересные данные. Потом с ним случился несчастный случай.
— Случай?
— Свалился с моста на скоростное шоссе в час пик. Кровавая каша.
— Очень живописный образ, — заметила Тоби. — Особенно для вегетарианца.
— Извини, — ответил Зеб. — Поговаривали, что это самоубийство.
— Врали, я так понимаю.
— Мы это называем корпоубийством. Если человек работает на корпорацию и сделает что-нибудь ей наперекор, он покойник. Все равно что застрелился.
— Понятно, — сказала Тоби.
— Так вот, мальчик. Его мать работала в «Здравайзере» в отделе диагностики, он взломал ее рабочий пароль и запускал для нас кое-какие программы. Гений-хакер. Мама вышла замуж за большую шишку в «Здравайзере-Центральном», и мальчик перебрался туда вместе с ней.
— Туда, где Люцерна, — сказала Тоби.
Зеб не обратил внимания.
— Он пробурился через их файрволлы. Завел себе несколько аккаунтов. И снова связался с нами. Какое-то время он был на связи, а потом ничего.
— Может, ему надоело, — сказала Тоби. — Или его поймали.
— Может быть, — согласился Зеб. — Но он играл в трехмерные шахматы. Любит сложные задачки. Ловкий. И не боится.
— Сколько у нас таких людей? — спросила Тоби. — В охраняемых поселках.
— Таких хакеров у нас больше нет, — сказал Зеб. — Он единственный в своем роде.
45
Они добрались до «Велнесс-клиники» и вошли в уксусную. Тоби обогнула три огромные бочки, отперла дверцу, за которой был шкаф с бутылками, и сдвинула его в сторону, чтобы открыть внутреннюю дверь. Слышно было, как Зеб втягивает живот, чтобы пролезть мимо бочек: он был не толстый, но крупный.
Потайную комнату почти целиком занимал стол, сколоченный из старых половых досок и окруженный разномастными стульями. На стене висела свежая акварель — святой Э. О. Уилсон от Перепончатокрылых — кисти Нуэлы, которую, похоже, опять посетило вдохновение. Солнце светило Уилсону в спину, окружая его сиянием вроде нимба. На лице святого была экстатическая улыбка, а в руке — банка с черными пятнами. Тоби предположила, что это пчелы. Или, может быть, муравьи. Как это часто бывало со святыми на картинах Нуэлы, одна рука Э. О. Уилсона была короче другой.
Послышался деликатный стук, и в дверь проскользнул Адам Первый. В свой черед явились и все остальные.
В кулуарах Адам Первый был другим человеком. Не совсем другим — таким же искренним, но более практичным. И более склонным к маневрам.
— Вознесем безмолвную молитву об успехе нашего совета, — произнес он.
Это было традиционное начало собрания. У Тоби не очень хорошо получалось молиться в тесноте потайной комнаты: слишком отчетливо было бурчание животов, посторонние запахи, скрип и ерзание чужих тел. Впрочем, у нее вообще не очень хорошо получалось молиться.
Молитва кончилась, словно по таймеру. Собравшиеся подняли головы и открыли глаза. Адам Первый оглядел комнату.
— Это новая картина? — спросил он. — На стене.
Нуэла просияла.
— Это святой Э. О., — объяснила она. — Уилсон, от Перепончатокрылых.
— Поразительное сходство, дорогая, — произнес Адам Первый. — Особенно… мм… Господь одарил тебя удивительным талантом.
Он едва заметно кашлянул.
— Теперь к делу. К нам только что прибыла совершенно особенная гостья. Она некогда проживала в «Здравайзере-Центральном», но к нам она шла, если можно так выразиться, извилистым путем. Несмотря на все препятствия, она принесла нам в дар геномные коды, за что мы обязаны обеспечить ей не только временное убежище, но и надежное укрытие в Греховном мире.
— Ее ищут, — сказал Зеб. — Она совершенно напрасно вернулась из-за границы. Ее нужно убрать отсюда как можно скорее. Через «Бенц» и на улицу Мечты, как обычно?
— Если путь открыт, — ответил Адам Первый. — Мы не можем идти на излишний риск. В крайнем случае можно подержать ее здесь, в комнате совета, если нет другого выхода.
Соотношение мужчин и женщин среди беглецов из корпораций было примерно один к трем. Нуэла сказала, это потому, что женщины более чувствительны к этике, Зеб сказал — потому что они более брезгливы, а Фило — что это один черт. Беглецы часто прихватывали с собой контрабандную информацию. Формулы. Длинные строки генетического кода. Секреты клинических испытаний, конфиденциальную ложь. Тоби подумала: что со всем этим делают вертоградари? Уж конечно не продают как плоды промышленного шпионажа, хотя какой-нибудь зарубежный конкурент мог бы выложить за них большие деньги. Насколько Тоби могла судить, вертоградари просто хранят полученную информацию; хотя возможно, что Адам Первый лелеет надежду когда-нибудь восстановить все вымершие виды с помощью сохранившихся кодов ДНК. Когда-нибудь, когда на смену мрачному настоящему придет более этичное и технологически развитое будущее. Мамонта ведь клонировали, так чем остальные хуже? Не виделся ли Адаму Первому некий грядущий Ковчег?
— Наша новая гостья хочет послать весточку сыну, — сказал Адам Первый. — Она беспокоится, что сын очень тяжело перенес ее исчезновение в столь важный для его становления период. Сына зовут Джимми. Насколько мне известно, он сейчас в академии Марты Грэм.
— Открытку, — сказал Зеб. — Подпишем «тетя Моника». Дайте адрес, я ее перешлю из Англии — один человек из «трюфелей» туда едет на следующей неделе. ККБ ее, конечно, прочитает. Они все открытки читают.
— Она хочет, чтобы мы написали, что она выпустила его ручного скунота в диком лесу в Парке Наследия. И он теперь живет там свободно и счастливо. Его зовут… гм… Убийца.
— О Господи Исусе на воздушном шаре! — воскликнул Зеб.
— Не выражайся, пожалуйста, — обиделась Нуэла.
— Извини. Но до чего ж они, блин, обожают все осложнять. Это уже третий скунот за месяц. Так скоро до хомяков и мышей дойдем.
— По-моему, это очень трогательно, — заявила Нуэла.
— У некоторых хотя бы слово не расходится с делом, надо отдать им должное, — сказала Ребекка.
Тоби велели взять шефство над новой беглянкой. Той дали кодовое имя Кувалда, потому что, по слухам, покидая «Здравайзер», она разнесла на куски компьютер своего мужа, чтобы скрыть масштабы хищения данных. Для этого она воспользовалась инструментами из «набора домашнего мастера-на-все-руки». Она была худая, голубоглазая и очень дерганая. Как все беглецы, она считала, что до нее никто не отваживался на подобный судьбоносный шаг — бросить вызов корпорации. И, как все беглецы, отчаянно хотела, чтобы ее хвалили.
Тоби делала одолжение. Она превозносила храбрость Кувалды (действительно, такой поступок требовал храбрости), хитрость, с которой она запутала следы, и ценность похищенной ею информации. На самом деле Кувалда принесла только старые новости — давно известный материал по пересадке неокортекса от человека к свинье, — но сообщить ей об этом было бы жестоко. Мы должны широко забрасывать сети, говорил Адам Первый, пускай в них иногда и попадается мелкая рыбешка. И еще мы должны быть маяком надежды, ведь, если сказать людям, что они ничего не могут, они станут способны на худшее.
Тоби переодела Кувалду в темно-синее платье вертоградарей и дала ей респиратор, чтобы скрыть лицо. Но женщина дергалась и нервничала и все время просила закурить. Тоби сказала, что вертоградари не курят — во всяком случае, табак, — и, если Кувалда будет курить, она разрушит свою легенду. И вообще в саду на крыше сигарет нет.
Кувалда бегала по комнате взад-вперед и грызла ногти, и Тоби в конце концов захотелось треснуть ее хорошенько. И сказать: «Мы тебя сюда не звали, ты сама явилась, и теперь мы все рискуем головой из-за крох устарелого дерьма». В конце концов она дала Кувалде ромашкового чаю с экстрактом Мака, просто чтобы та не мельтешила.
46
Назавтра был День святого Александра Завадского-Галичанина.[17] Незначительный святой, но для Тоби — один из любимых. Он жил в неспокойные времена — впрочем, в Польше все времена были неспокойными, — но занимался кротким, и даже слегка не от мира сего, промыслом: составлял гербарий местных цветов, описывал виды жуков. Ребекка тоже любила святого Александра. В этот день она всегда надевала фартук с аппликациями-бабочками и лепила малышам на полдник печенья в форме жуков, украшая каждое инициалами «А» и «3». Дети же сочинили песенку про святого:
Было утро. Кувалда еще спала после вчерашней дозы Мака: Тоби явно перестаралась, но не жалела об этом — теперь у нее высвободилось время на другие дела. Она облачилась в шляпу с сеткой и перчатки, зажгла гнилушку в дымаре; объяснила пчелам, что собирается все утро выкачивать мед из сот. Но не успела она окурить первый улей, как появился Зеб.
— Паршивые дела, — сказал он. — Твоего дружка выпустили из больбола.
Зеб, как и все вертоградари, знал, как Адам Первый и хор «Бутоны и почки» спасли Тоби от Бланко. Эта история передавалась из уст в уста. Кроме того, Зеб улавливал страх Тоби. Но вслух они об этом не говорили. Ее словно пронзила ледяная игла. Тоби подняла сетку с лица.
— Правда?
— Он стал старше и злее, — сказал Зеб. — По нему, мудаку, давно грифовы кишки плачут. Но, похоже, у него есть волосатая лапа наверху. Потому что он снова менеджер в «Секрет-бургере» в Отстойнике.
— Главное, чтоб он там и оставался, — сказала Тоби. Она старалась, чтобы голос не дрожал.
— Пчелы подождут, — сказал Зеб и взял ее за руку. — Тебе нужно присесть. Я разведаю. Может, он про тебя забыл.
Зеб отвел Тоби на кухню.
— Миленькая, ты плохо выглядишь, — сказала Ребекка. — Что случилось?
Тоби рассказала.
— О черт! Я сейчас заварю тебе «спасательного чаю», тебе явно не повредит. Будь спокойна, в один прекрасный день он сдохнет от своей собственной кармы.
Тоби подумала, что этот прекрасный день настанет еще очень не скоро.
Было послеобеденное время. Многие рядовые вертоградари собрались на крыше. Одни подвязывали помидоры и ползучие плети кабачков, разметанные необычно сильным порывом ветра. Другие сидели в тени и что-нибудь вязали, плели, чинили. Адамы и Евы не находили себе места, как всегда, когда прятали беглеца. Что, если Кувалда притащила за собой хвост? Адам Первый выставил часовых. Он и сам стоял у края крыши в медитативной позе, на одной ноге, поглядывая вниз, на улицу.
Кувалда проснулась, и Тоби отрядила ее собирать слизняков с салата. Вертоградарям она сказала, что это стеснительная новообращенная. Вертоградари привыкли к новеньким — те приходили и уходили.
Тоби сказала Кувалде:
— Если кто-нибудь придет, кто угодно, похожий на официальную инспекцию, натяни шляпу на глаза и продолжай заниматься слизняками. Сливайся с фоном.
Сама Тоби стала окуривать пчел, исходя из того, что лучше всего вести себя как обычно. Тут по пожарной лестнице с грохотом влезли Шеклтон, Крозье и юный Оутс, за ними — Аманда и Зеб. Они сразу бросились к Адаму Первому. Он повел подбородком в сторону Тоби, подзывая ее к себе.
— В Отстойнике вышла небольшая драчка, — сказал Зеб, когда они все собрались вокруг Адама Первого.
— Драчка? — переспросил тот.
— Мы только посмотреть хотели, — объяснил Шеклтон. — Но он нас увидел.
— Назвал нас ебаными воришками, — сказал Крозье. — Он был пьян.
— Не пьяный, а упоротый, — авторитетно заявила Аманда. — Он хотел меня ударить, но я сделала сацуму.
Тоби улыбнулась про себя: недооценивать Аманду было бы ошибкой. Она выросла высокой мускулистой амазонкой и прошла у Зеба курс по «Предотвращению кровопролития в городе». Как и два ее верных пажа. Точнее, три, если считать Оутса, но тот пока пребывал на стадии безнадежной влюбленности.
— Кто это «он»? — спросил Адам Первый. — Где все это происходило?
— В «Секрет-бургере», — сказал Зеб. — Мы заглянули проверить — ходили слухи, что Бланко вернулся.
— Зеб сделал ему унаги! — выпалил Шеклтон. — Это было круто!
— Неужели так уж необходимо было туда идти? — с оттенком неудовольствия спросил Адам Первый. — У нас есть другие способы…
— Потом на него бросились «косые»! — возбужденно сказал Оутс. — С бутылками!
— Он вытащил нож, — продолжил Кроз. — Порезал одного или двух.
— Надеюсь, серьезных повреждений не было, — сказал Адам Первый. — Как бы ни было нам ненавистно самое существование «Секрет-бургеров» и бесчинства этого… злосчастного индивидуума, мы не желаем насилия.
— Будку перевернули, мясо побросали на землю. Он обошелся порезами и синяками, — сказал Зеб.
— Весьма прискорбно, — отозвался Адам Первый. — Это правда, что нам иногда приходится себя защищать, и у нас не первый раз возникают проблемы с этим… человеком. Но в данном случае, как мне кажется, мы напали первыми. Или спровоцировали атаку. Верно?
Он нахмурился, глядя на Зеба.
— Он, сволочь, сам напросился, — сказал Зеб. — По-хорошему мы медаль заслужили.
— Наш путь — это путь мира, — заметил Адам Первый, хмурясь еще сильнее.
— На мире далеко не уедешь, — сказал Зеб. — За последний месяц вымерло не меньше сотни видов. Их едят, блин! Мы не можем просто так сидеть и смотреть, как гаснет свет. Надо с чего-то начинать. Сегодня «Секрет-бургер», завтра тот сволочной ресторан. «С кровью». Давно пора с ними разобраться.
— Наша роль в процессе исчезновения видов — роль свидетелей, — сказал Адам Первый. — Мы должны хранить память об ушедших и их геномы. Нельзя бороться с кровопролитием, проливая еще больше крови. Мне казалось, мы пришли к согласию.
Воцарилось молчание. Шеклтон, Крозье, Оутс и Аманда смотрели на Зеба. Зеб и Адам Первый смотрели друг на друга.
— В любом случае уже ничего не поделаешь, — сказал Зеб. — Бланко в ярости.
— Он перейдет границу плебсвилля? — спросила Тоби. — Нападет на нас тут, в Сточной Яме?
— Судя по тому, как он разозлился, — без сомнения, — ответил Зеб. — Обычная плебмафия ему больше не страшна. Он больболист со стажем.
Зеб предупредил собравшихся вертоградарей, выставил наблюдателей по краю крыши и назначил самых сильных сторожей на пост у подножия пожарной лестницы. Адам Первый начал было протестовать. Он заявил, что подражать своим врагам означает опускаться до их уровня. Зеб ответил, что, если Адам Первый желает взять вопросы обороны на себя, это его право, если же нет, то пусть не лезет.
— Вон там что-то движется, — сказала Ребекка-наблюдательница. — Похоже, три человека идут.
— Делайте что хотите, только не убегайте, — приказала Тоби Кувалде. — Самое главное, не привлекайте к себе внимания.
Она подошла к краю крыши и посмотрела вниз.
Трое тяжеловесов пробивали себе путь по тротуару. У них были бейсбольные биты. Не распылители. Значит, это не ККБ, просто быки из плебмафии: карательная акция за разгром «Секрет-бургера». Один из этих трех был Бланко — Тоби узнала его даже сверху. Что он собирается делать? Забить ее до смерти на месте или утащить с собой, чтобы сделать то же самое, не торопясь, где-то еще?
— Что такое, дорогая? — спросил Адам Первый.
— Это он. Если он меня увидит, то убьет.
— «Будете иметь скорбь, но мужайтесь»,[18] — процитировал Адам Первый. — С тобой ничего не случится.
Это было не очень утешительно: Адам Первый всегда считал, что даже самые ужасные вещи неким непостижимым образом совершаются с человеком для его же блага.
Зеб сказал, что гостью лучше убрать с глаз долой. Тоби отвела Кувалду к себе в закуток и дала ей успокаивающее питье — большую дозу Ромашки и чуть-чуть Мака. Кувалда уснула, а Тоби села рядом с ней, надеясь, что враги не окружат их. Она поймала себя на том, что озирается в поисках оружия. Наверное, можно их треснуть по башке бутылкой с маковым настоем. Но она не очень большая.
Тоби пошла обратно на крышу. Все еще в одежде пчеловода. Она поправила толстые перчатки, взяла мехи и опустила вуаль.
— Заступитесь за меня, — сказала она пчелам. — Донесите мою весть.
Как будто они ее слышали.
Схватка оказалась недолгой. Позже Тоби видела, как Шеклтон, Крозье и Оутс разыгрывают ее в лицах для малышей, которых Нуэла сразу увела подальше. Если верить братьям, битва была эпической.
— Зеб был вообще потрясный! — говорил Шеклтон. — Он все спланировал! Они, наверное, думали — мы пацифисты и все такое и можно просто прийти и… В общем, получилось как засада — мы отступили по лестнице, а они последовали за нами.
— А потом, а потом! — подхватил Оутс.
— А потом, на самом верху, Зеб подождал, пока первый мужик на него бросится, и перехватил у него бейсбольную биту и вроде как дернул ее, и тот мужик чуть не врезался в Ребекку, а у нее была такая двузубая вилка, и тут он как заорет и как грохнется с крыши, через край!
— Вот так! — закричал Оутс, хлопая руками, словно крыльями.
— А Стюарт полил другого из садового опрыскивателя, — сказал Крозье. — Он говорит, на кошек это действует. Аманда с ним что-то такое сделала. Правда? — с нежной гордостью обратился он к Аманде. — Провела какой-то прием, из «Ограничения кровопролития» — может, хамачи, или… не знаю что, но он тоже свалился через ограждение с крыши. Ты его в яйца пнула или что?
— Я его переселила, — скромно сказала Аманда. — Как слизняка.
— А третий тогда убежал, — сказал Оутс. — Самый большой. Его пчелы закусали. Это их Тоби на него напустила. Это было круто! Мы хотели броситься за ним в погоню, но Адам Первый не разрешил.
— Зеб говорит, что этим все не кончится, — сказала Аманда.
У Тоби была своя версия схватки, в которой все происходило одновременно очень быстро и очень медленно. Она зашла за ульи, и вдруг эти трое оказались рядом — возникли на крыше, со стороны лестницы. Бледнолицый с синевой на подбородке и бейсбольной битой, какой-то «черный сом» в шрамах и Бланко. Бланко увидел ее сразу.
— Я тебя вижу, тощая сука! — заорал он. — Считай, что ты — мясо!
Он ее узнал даже под сеткой и шляпой пчеловода. Бланко вытащил нож. Он ухмылялся.
Первый из нападавших сцепился с Ребеккой и вдруг почему-то с криком полетел через ограждение вниз, но второй продолжал надвигаться. Тут Аманда — она стояла поодаль, вся такая хрупкая и безобидная — подняла руку. Что-то блеснуло: стекло? Но Бланко уже почти схватил Тоби: их разделяли только ульи.
Тоби принялась опрокидывать ульи: раз, два, три. Она была прикрыта сеткой, а Бланко нет. Пчелы хлынули из ульев, гневно звеня, и полетели на него, как стрелы. Он с воем ссыпался вниз по лестнице, хлопая себя руками. За ним, как дымный хвост, тянулся рой.
Тоби не сразу удалось поставить ульи на место. Пчелы были в ярости и покусали кое-кого из вертоградарей. Тоби извинилась перед пострадавшими, а Катуро намазал их каламином и ромашкой. Но с гораздо большим жаром Тоби извинялась перед пчелами, сначала окурив их, чтобы они успокоились. Очень уж многие их сородичи пали в битве.
47
Адамы и Евы нервно совещались в тайнике за уксусными бочками.
— Этот урод без разрешения не напал бы, — сказал Зеб. — За всем этим стоит ККБ — они знают кое-кого из тех, кому мы помогаем, и хотят заклеймить нас как фанатиков-террористов. Наподобие исаиан-волкистов.
— Нет, это личное, — сказала Ребекка. — Этот человек — чистая змея, при всем моем уважении к змеям. У него зуб на Тоби, вот и все. Он думает, если один раз засунул, она теперь евонная по гроб жизни.
Разгорячившись, Ребекка иногда вспоминала словечки из прошлого и тут же раскаивалась.
— Тоби, извини, я не хотела.
— Несомненно, самый явный повод мы должны искать в своих рядах, — сказал Адам Первый. — Молодые люди спровоцировали его. И Зеб. Не следовало будить лихо.
— Вот уж точно, лихо, — сказала Ребекка.
— Два трупа на асфальте — нам сложно будет убедить людей, что мы пацифисты, — сказала Нуэла.
— Это несчастный случай. Они упали с крыши, — возразил Зеб.
— И по дороге один перерезал себе горло, а другой выколол глаз, — сказал Адам Первый. — Любой следователь это заметит.
— Кирпичные стены очень опасны, — объяснил Катуро. — Из них торчат всякие штуки. Гвозди. Битое стекло. Острые предметы.
— А если бы погибли вертоградари, было бы лучше? — спросил Зеб.
— Если твое предположение верно и это — операция ККБ, — сказал Адам Первый, — не приходило ли тебе в голову, что этих троих могли послать именно для того, чтобы спровоцировать подобный инцидент? Вынудить нас к нарушению закона и дать им повод к репрессиям?
— А что, у нас был выбор? — спросил Зеб. — Позволить им раздавить нас, как жуков? Хотя мы и жуков не давим.
— Он вернется, — сказала Тоби. — Какие бы там ни были у него предлоги, ККБ или не ККБ, он вернется. Пока я здесь, я в опасности.
— Тоби, дорогая, — сказал Адам Первый, — я думаю, что в интересах твоей безопасности, а также безопасности нашего сада будет лучше, если мы переместим тебя в Греховный мир, в ячейку-«трюфель». Там ты сможешь быть нам очень полезной. Мы попросим своих контактных лиц среди плебратвы распространить новость, что тебя с нами больше нет. Возможно, тогда у твоего недруга не будет мотивов, и мы будем избавлены от его агрессии — хотя бы на время. — Он обратился к Зебу: — Как скоро мы можем ее перевести?
— Считай, уже сделано, — ответил Зеб.
Тоби отправилась к себе в закуток и уложила самые нужные вещи — экстракты в бутылках, сушеные травы, грибы. Мед Пилар — три последние банки. Тоби оставила всего понемножку для того, кто займет ее должность Евы Шестой.
Она вспомнила, как когда-то давно мечтала покинуть сад на крыше, как задыхалась от скуки в замкнутом пространстве, как мечтала о том, что называла собственной жизнью. Но теперь, когда она действительно покидала вертоградарей, это казалось ей изгнанием. Нет: больше похоже, как будто ее вырывают с мясом, ампутируют, сдирают кожу. Ей захотелось выпить макового отвара, чтобы приглушить боль. Нет, нельзя: надо быть начеку.
И еще одно не давало покоя: она может подвести Пилар. Успеет ли она попрощаться с пчелами, а если нет, вдруг ульи погибнут? Кто станет пчеловодом вместо нее? У кого есть нужные знания? Она повязала на голову платок и поспешила к ульям.
— Пчелы, — громко сказала она, — у меня новости.
Ей показалось, что пчелы зависли в воздухе, как будто слушали. Несколько пчел подлетело к ней. Они сели ей на лицо, исследуя эмоции через химические вещества, выделяемые кожей. Тоби надеялась, что пчелы простили ее за перевернутые ульи.
— Скажите своей царице, что я должна вас покинуть, — сказала она. — Вы не виноваты, вы все делали хорошо. Враг вынуждает меня к бегству. Надеюсь, мы встретимся снова при более счастливом стечении обстоятельств.
Почему-то, говоря с пчелами, Тоби всегда принимала очень официальный тон.
Пчелы жужжали и мельтешили, словно обсуждали ее. Тоби захотелось взять их с собой — как большое, золотое, мохнатое, сложносоставное домашнее животное.
— Пчелы, я буду по вам скучать, — сказала она.
Словно в ответ, одна пчела залезла ей в нос. Тоби резко выдохнула ее. И подумала: «Может быть, шляпу надевают для разговоров с пчелами, чтобы они не лезли в уши».
Она вернулась к себе в закуток, и через час туда пришли Адам Первый и Зеб.
— Тоби, милая, надень-ка вот это, — сказал Адам Первый.
Он принес костюм меховушки — розовой пушистой утки со шлепающими красными ступнями и улыбающимся желтым пластмассовым клювом.
— Респиратор встроенный. Ткань по новейшей технологии. Париковца-необиомех — он сам за тебя дышит. Во всяком случае, так написано на этикетке.
Они подождали снаружи, пока Тоби переодевалась за занавеской, отгораживающей закуток от коридора. Она сняла унылое вертоградарское платье и надела меховой костюм. Может, он и был из необиомеха, но в нем было жарко. И темно. Тоби знала, что смотрит на мир через два круглых белых глаза с большими черными зрачками, но ей казалось, что она подглядывает в замочную скважину.
— Похлопай крыльями, — сказал Зеб.
Тоби помахала руками вверх-вниз, и утиный костюм закрякал. Звук был такой, как будто сморкается старик.
— Чтобы повилять хвостом, топни левой ногой.
— А разговаривать как? — спросила Тоби. Ей пришлось повторить еще раз, погромче.
— Через правое ушное отверстие, — сказал Адам Первый.
Замечательно, подумала Тоби. Крякать ногой, разговаривать через ухо. Как делать все остальное — лучше даже не спрашивать.
Она снова переоделась в платье, а костюм Зеб запихал в сумку.
— Я отвезу тебя в грузовике, — сказал он. — Он стоит перед зданием.
— Мы очень скоро свяжемся с тобой, дорогая, — заверил ее Адам Первый. — Мне очень жаль… это несчастное стечение… старайся окутывать Светом…
— Я постараюсь, — сказала Тоби.
Теперь на грузовике вертоградарей красовался логотип компании «ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВАС». Тоби села впереди с Зебом. Кувалду под видом ящика воздушных шаров погрузили в кузов: Зеб сказал, что убьет двух зайцев разом.
— Извини, — тут же добавил он.
— За что? — спросила Тоби. Может, он жалеет, что она уезжает? У нее немножко участился пульс.
— За «убить двух зайцев». Говорить про убийство — нехорошо.
— А, ну да, — сказала Тоби. — Ничего.
— Мы отправим Кувалду по железной дороге, — сказал он. — У нас есть связи среди носильщиков, которые грузят багажные вагоны скоростных поездов. Она поедет как багаж, с наклейкой «Стекло». У нас есть «трюфеля» в Орегоне, они ее спрячут.
— А меня? — спросила Тоби.
— Адам Первый хочет держать тебя поближе, — сказал Зеб. — На случай, если Бланко снова засадят в больбол. Тогда ты вернешься. У нас есть для тебя место в Греховном мире, но нужно несколько дней на подготовку. А пока что можешь расслабиться в меховом костюмчике. Улица Мечты, где толкают гены, сделанные на заказ, — там меховушки просто кишат, тебя никто не заметит. А теперь пригнись, мы проезжаем Отстойник.
Зеб отвез Тоби в автомастерскую «Бенц». Тамошние вертоградари быстренько изъяли ее из грузовика и поместили в приямок гидравлического подъемника, закрытый сверху досками пола с потайным люком. Тоби вдохнула застарелые ароматы машинного масла и съела скромный ужин из подмокших соевых гранул с пюре из турнепса, запив все это сумахом. Ночью она спала на старом тюфяке, подложив под голову вместо подушки меховой костюм. Биолета здесь не было, только ржавая жестянка из-под кофе «Благочашка». Использование подручных материалов было первейшим принципом вертоградарей.
Оказалось, что не все жители крысиной колонии «Бенца» переселились в кондоминиум «Буэнависта». Но те, что остались, не проявляли открытой вражды.
На следующее утро Тоби приступила к своей новой интересной работе. Она вперевалку ходила по улице Мечты в коконе из искусственного меха, время от времени крякала и виляла хвостом, таскала на себе рекламные щиты и раздавала брошюры. Щит спереди гласил: «САЛОН КРАСОТЫ В ПАРКЕ „НОВАТЫ“ ПРЕВРАЩАЕТ ГАДКИХ УТЯТ В ПРЕКРАСНЫХ ЛЕБЕДЕЙ!» А на спине: «ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЭТОГО ДОСТОЙНА! НОВАЯ ТЫ!» В брошюрах было написано: «Стимуляция эпидермиса! Низкие цены! Исключена возможность генетических ошибок! Полностью обратимые процедуры!» В «НоваТы» не занимались генной терапией — никаких радикальных изменений, необратимых переделок. Они работали только на поверхности. Эликсиры из трав, очищение организма, омолаживающие маски. Инъекции наноклеточных растительных экстрактов, подтягивающие кожу микросетки с формулой плесени, сильнодействующие кремы для лица, увлажняющие бальзамы. Изменение оттенков кожи на основе клеток игуаны, бактериальное устранение прыщей, удаление бородавок пиявками.
Тоби раздала множество брошюр, но временами ее гоняли владельцы генных лавочек: очевидно, на этой улице мечта мечте волк. По улице ходили и другие меховушки — лев, париковца, два медведя и еще три утки. Интересно, все ли они настоящие, подумала Тоби: если она тут прячется у всех на виду, то, может быть, и другие люди до этого додумались.
Если бы она была настоящей меховушкой, как когда-то давно, то в конце дня она бы ушла с поста, вылезла из костюма и сунула в карман чек на получение оплаты электронными деньгами. Но сейчас ее подобрал Зеб. Теперь на грузовике красовался девиз: «ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ СО С-МЕХОМ! МЕХОВУШКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!» Тоби забралась в кузов, не снимая костюма, и Зеб отвез ее к другим вертоградарям — те жили в здании бывшего банка в Отстойнике. Разные банковские корпорации когда-то платили местной плебмафии за крышу. Но вскоре специалисты по краже личности начинали ходить в банк как к себе домой. Наконец банки сдались и ушли из плебсвиллей, потому что больше никто не хотел в них работать: мало кому из служащих охота была валяться на полу со скотчем поперек лица, пока похититель личности тычет его отрубленным пальцем в дактилоскопический замок.
В старинном банковском хранилище оказалось гораздо уютнее, чем в приямке гидравлического подъемника. Прохладно, ни крыс, ни бензиновых ароматов. Только чуть заметно пахло преющими бумажными деньгами былых лет. Но тут Тоби пришло в голову, что кто-нибудь может нечаянно захлопнуть дверь хранилища и забыть про нее. Так что в эту ночь она спала плохо.
Назавтра она снова отправилась на улицу Мечты. В теплую погоду в костюме было невыносимо жарко, одна резиновая ступня начала отваливаться, а респиратор не работал. А вдруг вертоградари ее бросили, и теперь ей придется вечно болтаться на улице Мечты, превращаясь в несуществующую птицу-зверя и постепенно высыхая от жажды? И в один прекрасный день найдут ее мумифицированный труп в розовом коконе, застрявший в какой-нибудь канализационной трубе.
Но все же в конце концов Зеб ее забрал. Он отвез ее в клинику, которая располагалась на задворках франшизы по пересадке волос от париковец.
— Тебе сделают волосы и кожу, — сказал он. — Будешь смуглянкой. И пальцы, и голос тоже. И контуры немного поменяют.
Зеб сказал, что операция по изменению цвета глаз довольно опасна. Бывают неприятные эффекты — выпячивание глазного яблока, например. Так что ей придется пользоваться контактными линзами. Зелеными — он сам подобрал цвет.
— Ты хочешь голос выше или ниже? — спросил он.
— Ниже, — сказала Тоби, надеясь, что ей не сделают баритон.
— Хороший выбор, — сказал Зеб.
Доктор был китаец, очень деликатный. Зеб обещал, что все будут делать с анестезией, а затем Тоби сможет отлежаться в послеоперационной палате на верхнем этаже. Внутри клиники оказалось очень чисто. Разрезов и швов понадобилось не так уж много. У Тоби онемели кончики пальцев — Зеб сказал, что это временно, — и горло болело от операции на связках, а кожа головы зудела: это приживался скальп из париковцы. Пигментация поначалу вышла неровная, но Зеб сказал, что через полтора месяца все будет в порядке. Но до тех пор Тоби ни в коем случае нельзя выходить на солнце.
Полтора месяца она провела в уединении в ячейке-«трюфеле» Места-под-солнцем. Связная, которую звали Маффи, забрала Тоби из клиники в очень дорогой, полностью электрической машине-купе.
— Если кто-нибудь спросит, скажите, что вы новая горничная. Я прошу прощения, но нам приходится есть мясо, это часть нашего прикрытия. Конечно, это ужасно, мы очень переживаем, но все жители Места-под-солнцем едят мясо и очень любят приглашать соседей на барбекю. Конечно, все мясо экологически чистое и в большинстве своем выращено на раздвижных каркасах. Ну знаете, когда растят только мышцы, никакого мозга, никаких болевых ощущений — и если мы откажемся его есть, нас могут заподозрить. Но я постараюсь, чтобы вас не донимали кухонные запахи.
Предупреждение запоздало: Тоби уже учуяла что-то такое. Запах напомнил ей бульон из костей, на котором ее мать варила суп. Тоби ощутила голод и тут же устыдилась сама себя. Голод и печаль. Она подумала, что, может быть, печаль — тоже в каком-то смысле голод. Может быть, они неразлучны.
Живя в комнатушке горничной, Тоби читала электронные журналы, училась надевать контактные линзы и слушала музыку из «ушной конфетки». Этакий сюрреалистический отпуск. «Представь себя куколкой, которая превращается в бабочку», — сказал ей Зеб до начала претворения.
И действительно, Тоби вошла в клинику как Тоби, а вышла оттуда как Тобита. Прощай, «англо», здравствуй, «латино». Здравствуй, альт.
Тоби посмотрела на себя в зеркало. Новая кожа, новая копна волос, новые высокие скулы. Новые миндалевидные зеленые глаза. Надо завести привычку каждое утро надевать линзы.
Она не стала ослепительной красавицей, но такой цели у нее и не было. Ей надо было стать менее заметной. Всегда говорят, что красота — лишь нечто поверхностное. Но почему «лишь»?
Но все-таки она теперь выглядела неплохо. И волосы были красивые, хотя и слишком притягивали хозяйских кошек — видимо, потому, что едва заметно пахли овчиной. Просыпаясь утром, Тоби почти всегда обнаруживала, что у нее на подушке сидит кошка, лижет ее волосы и мурчит.
48
Когда скальп как следует прирос к голове и цвет кожи выровнялся, Тоби приготовилась вступить во владение своей новой личностью. Маффи объяснила, кем теперь будет Тоби.
— Мы решили поселить вас в салоне красоты «НоваТы», — сказала Маффи. — Там используют много всяких растительных снадобий, так что вы быстро освоитесь с их продукцией. Они растят экологически чистые овощи для своего кафе, очень гордятся этим — у них там компостная куча и все такое. И они пробуют разные новые генномодифицированные растения, вам будет интересно. Что до всего остального, это такая же административная работа, как любая другая: продукт на входе, добавленная ценность, продукт на выходе. Будете смотреть за бухгалтерией и снабжением, управлять персоналом — Зеб говорит, у вас талант руководителя. Все процедуры и инструкции там есть, надо просто им следовать.
— А продукт — это посетители? — спросила Тоби.
— Точно, — ответила Маффи.
— А добавленная ценность?
— Она неосязаема. Клиентки чувствуют, что после процедур они хорошеют. За такое люди готовы платить большие деньги.
— А как вам удалось меня туда устроить, если не секрет?
— Мой муж — член совета директоров «НоваТы». Не беспокойтесь, я его не обманывала. Он один из наших.
Освоившись в салоне красоты «НоваТы», Тоби вжилась в роль Тобиты, вроде бы текс-мексиканки, но при этом расторопной, умеющей держать язык за зубами администраторши. Дни были спокойны, по ночам — тихо. Правда, салон был обнесен электрической изгородью с четырьмя охраняемыми пропускными пунктами, но охранники проверяли документы у посетителей спустя рукава и никогда не беспокоили Тоби. Режим безопасности тут был не очень строгий. Особых секретов в салоне красоты не держали, и охранники были вынуждены целый день наблюдать вереницу дам, которые торопились в салон, испуганные первыми намеками на морщины и дряблость кожи, а потом покидали территорию уже ухоженными, отполированными, напитанными, разглаженными, преображенными.
Но все еще испуганными. Потому что — кто знает, когда все это повторится снова? Все это. Все признаки того, что ты смертна. Это никому не нравится, думала Тоби. Никто не хочет осознавать пределы, положенные его собственной плотью. Отчего люди не летают. Даже в самом слове «плоть» есть что-то неприятное, мокрое.
«Мы продаем не просто красоту, — говорилось в должностных инструкциях салона „НоваТы“. — Мы продаем надежду».
Среди клиенток попадались очень капризные. Они не могли понять, почему даже лучшие процедуры в «НоваТы» не сделают их снова двадцатилетними.
— Наши ученые работают над секретом вечной молодости, — успокаивала их Тоби, — но пока не добились полного успеха. Еще несколько лет, и…
Сама она в это время думала: если хочешь остаться вечно молодой, прыгни с крыши. Безотказный способ остановить время.
Тоби очень старалась убедительно выглядеть в роли менеджера. Она эффективно управляла салоном, внимательно прислушивалась и к сотрудникам, и к посетителям, при необходимости выступала посредником и улаживала конфликты, культивировала эффективность и тактичность. Ей очень помогал опыт, приобретенный в роли Евы Шестой: за те годы она открыла в себе умение смотреть на собеседника большими серьезными глазами, словно он говорит что-то очень интересное, и молчать.
— Помните, — наставляла она сотрудниц, — каждая клиентка хочет чувствовать себя принцессой, а все принцессы — люди властные и капризные.
Она хотела сказать «не надо только плевать им в кашу», но это не укладывалось в создаваемый ею образ Тобиты.
Если выдавался особенно тяжелый день, она развлекалась, выдумывая заголовки таблоида: «Труп светской львицы найден на газоне. Подозревается ядовитая маска для лица». «Смерть в результате пилинга. Виноваты мухоморы». «Трагедия в бассейне». Но какой смысл отыгрываться на клиентках? Они всего лишь хотят чувствовать себя хорошо и быть счастливыми, как все люди на свете. Что толку злиться на них за одержимость разбухшими венами и дряблостью живота?
— Розовый цвет должен настраивать нас на безмятежный лад, — говорила она своим девушкам, отыгрывая официальный корпоративный сценарий «НоваТы».
А потом то же самое говорила себе. Почему бы и нет? Розовый цвет всяко лучше желчно-желтого.
Она немного выждала на всякий случай, а потом стала откладывать продукты — строить свой собственный, личный Арарат. Она, пожалуй, не очень-то верила в Безводный потоп; шло время, и вертоградари с их теориями уходили все дальше, казались все причудливее, все более не от мира сего — иными словами, все безумнее. Тоби верила ровно настолько, чтобы предпринять минимальные меры предосторожности. В «НоваТы» она сама заведовала складом, поэтому все было просто. Она забирала из баков для вторсырья по две-три пустые емкости из-под косметических продуктов — лучше всего были банки из-под коктейля для очистки кишечника, потому что у них удобно защелкивались крышки, — и наполняла их соевыми гранулами, или сушеными водорослями, или порошковым заменителем молока, или банками сойдин. Потом защелкивала крышку и прятала заполненный контейнер в самой глубине склада. Код от двери склада был известен еще одной-двум сотрудницам, но все знали: Тоби всегда в курсе, сколько у нее чего на складе, и безжалостна к несунам. Поэтому она не боялась, что кто-нибудь украдет ее запасы.
У нее был свой кабинет, с компьютером. Она знала о надлежащих мерах предосторожности — вполне возможно, что в корпорации «НоваТы» кто-нибудь следит за содержанием поисков и сообщений и за тем, чтобы сотрудники не смотрели порнушку в рабочее время. Поэтому она обычно просто читала новости, надеясь узнать что-нибудь про вертоградарей.
В новостях почти ничего не было. Время от времени появлялись заметки о терактах, проводимых фанатиками-«зелеными», но таких сект было уже несколько. Глядя репортажи о бостонском кофепитии — когда партию кофейных зерен «Благочашки» утопили в Бостонской гавани, — Тоби вроде бы узнала несколько лиц в толпе, но, может быть, ей и показалось. Люди в толпе были одеты в футболки с буквами «БЗ», что означало «Бог — „зеленый“», но это ничего не значило. Сами вертоградари никогда не носили таких футболок, во всяком случае во времена Тоби.
ККБ могла пресечь беспорядки вокруг «Благочашки». Расстрелять из распылителей толпу, а заодно и всех тележурналистов, кто попадется под руку. Правда, совсем предотвратить видеозапись было невозможно: люди снимали происходящее на телефоны. Но все же, почему ККБ не может триумфально явиться на место, подавить мятеж и ввести явное тоталитарное правление? Ведь, кроме нее, все остальные безоружны. Теперь, когда ККБ приватизировали, у нее даже своя армия была.
Тоби однажды спросила об этом Зеба. Он ответил, что официально ККБ — частная корпорация, которую другие корпорации нанимают для охраны. Эти другие корпорации пока хотят выглядеть честными, надежными, дружелюбными, как овечки, и невинными, как зайчики. Они не хотят быть в глазах широкого потребителя лживыми, бессердечными, кровавыми тиранами.
— Корпорации должны продавать, но они не могут заставить людей покупать. Во всяком случае — пока. Поэтому им обязательно надо выглядеть чистенькими.
Вкратце это значило: люди не хотят, чтобы кофе в «Благочашке» отдавал кровью.
Маффи из ячейки-«трюфеля» держала связь с Тоби, для чего регулярно приходила в салон «НоваТы» на процедуры. Время от времени она приносила новости: Адам Первый здоров, Нуэла передает привет, влияние вертоградарей ширится, но ситуация нестабильна. Иногда Маффи привозила какую-нибудь беглянку, которую надо было спрятать на время. Она одевала ее так же, как одевалась сама, — в цвета, принятые у состоятельных замужних женщин Места-под-солнцем: пастельно-голубые, кремовые, бежевые — и записывала ее на процедуры.
— Обмажь ее грязевыми масками, заверни в полотенца, и никто ничего не заметит, — говорила она.
Так и получалось.
Одна из беглянок оказалась Кувалдой. Тоби ее узнала — нервные руки, пронзительные голубые глаза мученицы, — но она не узнала Тоби. Значит, Кувалде не суждена безмятежная жизнь в Орегоне, подумала Тоби. Она все еще тут, все время рискует, прячется. Скорее всего, она замешана в городской партизанской войне «зеленых». Тогда ее дни сочтены, потому что, как говорили, ККБ твердо решила извести всех активистов этой породы. У ККБ остались образцы от старой, «здравайзеровской» личности Кувалды, а данные, раз попав в ККБ, хранились там вечно. Единственный способ убрать их из системы — обнаружиться в виде трупа, зубная формула и ДНК которого совпадают с данными из базы.
Тоби заказала для Кувалды полный курс ароматерапии и сверхглубокую расслабляющую очистку пор. Судя по виду Кувалды, она в этом нуждалась.
В «НоваТы» существовала одна серьезная угроза: Люцерна была постоянной клиенткой салона. Она являлась сюда каждый месяц, одетая как высокопоставленная корпоративная жена. Она всегда заказывала скраб для лица «НоваТы — Роскошная гладкость», питательную маску «НоваТы — Сочная слива» и полную полировку тела «НоваТы — Источник юности». Люцерна одевалась моднее, чем в эпоху вертоградарей, — впрочем, это несложно, потому что, даже надев пластиковый мешок, можно быть моднее вертоградарей, — но заметно постарела и усохла. Нижняя губа, когда-то пухленькая, слегка обвисла, несмотря на тонны коллагена и растительных экстрактов, которые, как знала Тоби, в нее закачивались. Веки Люцерны начали покрываться тонкими морщинками, подобно маковым лепесткам. Тоби радовалась этим признакам увядания, но огорчалась собственной мелочности и зависти. «Прекрати, — говорила она себе. — Да, Люцерна становится похожа на сушеный гриб, но это не делает тебя секс-бомбой».
Конечно, если Люцерна вдруг выскочит из-за куста и громко назовет настоящее имя Тоби, это будет катастрофа. Поэтому Тоби старалась ее избегать. Она просматривала журналы предварительной записи, чтобы точно знать, когда появится Люцерна. Выделяла ей самых энергичных сотрудниц — широкоплечую Мелоди, Симфонию с крепкими руками, а сама держалась подальше. Но так как Люцерна проводила время в горизонтальном положении, с лицом, покрытым бурой кашей, и тампонами на глазах, вероятность, что она увидит Тоби, была минимальна. А если и увидит, то, скорее всего, не заметит. Для женщин вроде Люцерны женщины вроде Тоби лиц не имели.
Тоби думала: а что, если подкрасться к ней во время полировки тела и выкрутить лазеры на полную мощность? Или закоротить лампу для нагрева? Люцерна расплавится, как леденец. Закуска для червей. Биосфера будет очень рада.
«Милая Ева Шестая, — произнес голос Адама Первого, — подобные фантазии тебя недостойны. Что подумает Пилар?»
Как-то после обеда в дверь кабинета Тоби постучали.
— Войдите, — сказала она.
Вошел крупный мужчина в зеленом джинсовом комбинезоне садовника. Он насвистывал… какую-то явно знакомую мелодию.
— Я пришел обрезать люмирозы, — сказал он.
Тоби подняла голову и задохнулась. Она знала, что говорить ничего нельзя: возможно, ее кабинет кишит жучками.
Зеб посмотрел назад, в коридор, вошел в кабинет и закрыл дверь. Сел у компьютера, взял ручку и написал в блокноте, который лежал у Тоби на столе: «Делай как я».
«Вертоградари? — написала Тоби. — Адам Первый?»
«Раскол, — ответил Зеб. — У меня теперь своя группа».
— С зелеными насаждениями проблем нет? — спросил он вслух.
«Шеклтон и Крозье? — написала Тоби. — С тобой?»
«В некотором смысле. Оутс. Катуро. Ребекка. Новые тоже».
«Аманда?»
«Выбралась. Университет. Художница. Умная».
Зеб открыл на ее компьютере сайт: «Вымирафон. Под наблюдением Беззумного Аддама. Адам давал имена живым тварям, Беззумный Аддам перечисляет тварей мертвых. Хотите сыграть?»
«Беззумный Аддам? — написала Тоби в блокноте. — Твоя группа? Вас много?»
Она была вне себя от счастья: Зеб рядом с ней, во плоти. А она так долго думала, что больше никогда его не увидит.
«Имя нам легион, — написал Зеб. — Выбери себе псевдоним. Вымершее животное или растение».
«Додо», — написала Тоби.
«За последние пятьдесят лет. Времени мало. Бригада обрезчиков ждет. Спроси меня про тлю».
— На люмирозах завелась тля, — сказала Тоби.
Она перебирала в голове давние списки вертоградарей — звери, рыбы, птицы, цветы, моллюски, ящерицы, недавно вымершие.
«Рогатая камышница, — написала она; это была птица, вымершая десять лет назад. — А они не хакнут этот сайт?»
— Мы примем меры, — сказал Зеб. — Хотя у них должен быть встроен ген, отпугивающий вредителей… Я возьму анализы. Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
«Нет, — написал он. — Мы разработали свою виртуальную частную сеть. Четверное шифрование. Прости, что я упомянул рыбную ловлю. Вот твой код».
Он записал в блокноте ее новое тайное имя и цифровой пароль. Затем ввел собственный код. На экране появилась надпись.
>>Добро пожаловать, Белый Барибал. Хотите играть в общую игру или на уровне гроссмейстера?
Зеб нажал кнопку «Гроссмейстер».
>>Хорошо. Идите в игровую комнату. Беззумный Аддам будет вас ждать.
«Смотри», — написал он в блокноте. Зашел на сайт, рекламирующий волосы от париковец, нашел в глазу малиновой овцы пиксель, открывающий проход, и влетел в пульсирующий синий желудок на рекламе здравайзеровского антацида, а оттуда — в приоткрытый, жадно жующий рот пожирателя секрет-бургера. И вдруг на экране распростерся зеленый пейзаж — деревья вдали, на переднем плане озеро, из него пьют носорог и три льва. Сцена из прошлого.
Поперек озера появилась надпись:
>>Белый Барибал, добро пожаловать в игровую комнату Беззумного Аддама. Вам сообщение.
Зеб нажал кнопку «Прочитать сообщение».
>>Печень — зло, которое должно быть наказано.
«Слышу тебя, Коростель, — напечатал в ответ Зеб. — Все хорошо».
Он закрыл сайт и встал.
— Вызовите нас, если тля появится снова, — сказал он. — Если вы сможете проверять нашу работу время от времени и держать меня в курсе, это будет просто отлично.
Он написал в блокноте: «Детка, волосы — просто отпад. Раскосые глазки — чудо». И исчез.
Тоби собрала страницы из блокнота. Надо сжечь. Хорошо, что у нее были спички — она копила их в Арарате, в банке из-под маски для лица «Лимонные меренги».
После визита Зеба ей стало уже не так одиноко. Она через неравные промежутки времени заходила на сайт «Вымирафона» и пробиралась в чат гроссмейстеров «Беззумного Аддама». По экрану бежали имена и сообщения:
>>Черный Носорог — Белому Барибалу: Новенькие идут
>>Белоклювый Дятел — Американской лисице: И жучки, и паучки
>>Белая Осока — Голубянке: Мыши — это пять!
>>Коростель — Беззумному Аддаму: Шоссе в кашу, отлично!
Тоби не понимала почти ничего, но хотя бы не чувствовала себя выброшенной из жизни.
Иногда здесь можно было прочитать новостные рассылки, состоящие, похоже, из секретных данных ККБ. Многие касались странных новых болезней или нападений вредителей. Например, генетически модифицированных бобробразов, которые грызли ремни вентиляторов в автомобилях. Или жучков — бобовых зерновок, пожиравших кофейные плантации «Благочашки». И микробов, которые жрали асфальт на скоростных магистралях.
А потом кто-то подложил бомбы в несколько ресторанов сети «С кровью». В новостях винили неопределенных «экологических террористов»; но на сайте Беззумного Аддама Тоби видела подробный анализ событий. Там писали, что рестораны взрывали исаиане-волкисты, потому что в меню появилось новое блюдо — мясо львагнца, священного для них животного. В конце Беззумный Аддам приписал от себя: «Внимание всем вертоградарям. Это свалят на вас. Уходите в подполье».
Вскоре после этого в салон неожиданно явилась Маффи. Она вела себя совсем как обычно — элегантная, с непробиваемо хорошими манерами.
— Давайте прогуляемся, — предложила она Тоби.
Когда они вышли наружу и оказались вдали от всех возможных потайных микрофонов, она прошептала:
— Я не на процедуры пришла. Хотела сказать вам, что мы уезжаем. Я не могу сказать куда. Не беспокойтесь. Положение серьезно, но угроза существует только для узкого круга.
— Но вам-то ничто не угрожает?
— Время покажет. Удачи вам, дорогая. Милая Тобита. Окутывайте меня Светом.
Через неделю имена Маффи и ее мужа появились в списке жертв авиакатастрофы. Зеб когда-то объяснял Тоби, что ККБ умеет подстраивать безупречные несчастные случаи высокопоставленным подозреваемым — людям, чье бесследное исчезновение вызвало бы шум среди корпоративных бонз.
После этого Тоби много месяцев не заходила в чат Беззумного Аддама. Она ждала стука в дверь, звона разбиваемых стекол, свиста пистолета-распылителя. Когда Тоби наконец набралась храбрости и снова зашла к Беззумному Аддаму, там ее ждало сообщение:
>>Белый Барибал — Рогатой камышнице: Сад уничтожен. Адамы и Евы замолчали. Бодрствуй и жди.
День Опыления
День Опыления
Год двадцать первый
Дорогие друзья и собратья-млекопитающие!
Сегодня праздничный день, но, как ни прискорбно, мы не празднуем. Бегство было стремительным; мы едва спаслись. Враги, верные себе, обратили наш сад на крыше в пустыню. Но я верю, что в один прекрасный день мы вернемся в «Райский утес» и восстановим наш дивный сад в его былой славе. Пусть ККБ уничтожила наш сад, но ей не уничтожить наш дух. Рано или поздно мы вырастим все снова.
Почему ККБ нанесла удар? Мы слишком окрепли, и она не могла этого стерпеть. Множество садов на крыше расцвело подобно розам; множество сердец и умов склонились к восстановлению равновесия земной природы. Но в этом успехе зрели семена поражения, ибо власти предержащие больше не могли сбрасывать нас со счетов как безобидных чудаков. Они страшились нас как пророков грядущего века. Короче говоря, мы угрожали их нормам прибыли.
Кроме того, они приписали нам серию биотехнологических терактов, совершенных раскольнической, еретической группой, называющей себя «Беззумный Аддам». На прошлой неделе прогремели взрывы в сети ресторанов «С кровью». Их совершили исаиане-волкисты, но эти взрывы дали ККБ предлог, чтобы обрушить карающий меч на всех, кто любит Господню зеленую Землю.
Да окажутся они столь же слепы телесными глазами, сколь слепы духовными! Ибо, хотя миновали дни, когда мы проповедовали на улицах плебсвиллей, призывая плотоядных покаяться, уроки Камуфляжа в Природе не прошли для нас даром. Мы мимикрировали под окружающую среду и процветаем прямо под носом у врагов. Мы сбросили простые одежды и облачились в наряды, купленные в магазинах. Футболка с логотипом, ядовито-зеленый топик, полосатый костюм в пастельных тонах, столь храбро надетый Нуэлой, — это наша защитная броня.
Кое-кто из вас решил отвести подозрения, мужественно употребляя в пищу плоть наших собратьев-созданий. Друзья мои, не пытайтесь совершать подвиги, которые вам не по силам. Вонзив зубы в секрет-бургер и поперхнувшись, вы привлекаете нежелательное внимание. Если вы сомневаетесь в собственных силах, ограничьтесь соевым мороженым «Вкуснятинка». Для поглощения подобной квазипищи чрезмерных усилий не требуется.
Поблагодарим же «трюфельную» ячейку Папоротникового Холма, обеспечившую нам укрытие на улице Мечты. Табличка на нашей двери гласит: «ЗЕЛЕНЫЕ ГЕНЫ». Предполагается, что мы — дизайнерская компания, которая занимается сплайсами растений. Второй знак, который гласит: «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ», — это наша защита. Если спросят, скажите, что у нас проблемы со строительным подрядчиком. Это всегда правдоподобное объяснение.
Сегодня — День Опыления, и мы вспоминаем различных святых, внесших вклад в сохранение лесов: святую Сурьямани Бхагат Джаркхандскую; святого Стивена Кинга от Пуреорских лесов в Новой Зеландии; святого Одигу Нигерийского и многих, многих других. Сегодняшний праздник посвящен тайнам воспроизводства Растений, особенно дивных Покрытосеменных, среди которых мы особо выделяем деревья — Косточковые и Семечковые.
Легенды о плодах этих деревьев пришли к нам из глубины веков — золотые яблоки Гесперид и яблоко раздора, тоже золотое. Иные говорят, что плод древа познания добра и зла был фигой, другие — фиником, третьи — гранатом. Наверное, было бы логичнее, если бы это была порция подлинно греховной пищи: например, кусок мяса. Но почему же тогда плод? Потому что наши предки, без сомнения, были вегетарианцами, и лишь плод мог бы их искусить.
Плоды остаются для нас символами, имеющими глубокое значение. Они символизируют здоровый урожай, изобильное завершение и новое начало, ибо в каждом Плоде прячется семечко — потенциальная новая жизнь. Плод созревает, опадает и возвращается в почву; но Семя пускает корень, и растет, и порождает новую Жизнь.
Человеческое Слово Господа гласит: «По плодам их узнаете их». Помолимся же, чтобы наши Плоды были Плодами Добра, а не Зла.
Одно слово предостережения: мы чтим Опыляющих насекомых, и особенно Пчел, но нам стало известно, что, кроме устойчивых к вирусу пчел, выведенных после недавнего мора, ККБ вывела новую породу пчел — гибридную. Это не генетическая модификация, друзья мои. Это еще большая мерзость в очах Господних! Люди из ККБ берут пчел на стадии личинки и вводят им микромеханические системы. Имплантат обрастает тканью, и, когда личинка превращается во взрослое насекомое, или имаго, она оказывается пчелой-киборгом, подконтрольной оператору из ККБ и способной передавать информацию, то есть предавать.
Это порождает ряд беспокоящих нас этических проблем. Можем ли мы воспользоваться инсектицидами? Является ли такая механизированная пчела живой? Если да, то является ли она подлинным Творением Божиим или она нечто совершенно другое? Мы должны обдумать глубинные последствия и молиться о вразумлении.
Воспоем же.
О, как в цветенье хороши и Яблоко, и Слива
49
Рен
Год двадцать пятый
Адам Первый говорил: «Не можешь остановить волны — плыви под парусом». Или: «Без света нет шанса; без тьмы нет танца». Это значит, что даже плохие вещи приносят что-то хорошее, потому что приходится преодолевать проблемы, но ты не всегда заранее знаешь, что хорошее из этого выйдет. Хотя надо сказать, что вертоградари никогда не танцевали.
И я решила помедитировать. Хоть какое-то занятие в «липкой зоне», где совершенно нечем заняться. Как говорил Фило Туман: «Если ничего нет, работай с ничем. Отключи болтовню, звучащую в голове. Открой свое внутреннее зрение, внутренний слух. Старайся увидеть то, что можешь увидеть. Старайся услышать то, что можешь услышать». У вертоградарей я обычно не видела ничего, кроме косичек девочки, сидящей впереди меня, и слышала только храп Фило, который, руководя медитацией, обычно засыпал.
На этот раз мне повезло немногим больше. Я слышала «бум, бум» музыки, доносившейся из «Ямы со змеями», и гудение мини-холодильника. Я видела расплывчатые пятна уличных огней через стеклянные блоки окна. Но все это как-то не просвещало духовно. Так что я прекратила медитацию и включила новости.
В новостях говорили про очередную небольшую эпидемию, ничего страшного. Вирусы и бактерии постоянно мутировали, но я знала, что корпорации постоянно изобретают лекарства от них, и вообще, что бы это ни был за вирус, у меня его не было, потому что я сидела за двойным антивирусным барьером. Безопаснее места не придумаешь.
Я снова переключилась на «Яму со змеями». Там началась драка. Должно быть, это больболисты — трое, которые пришли раньше, и четвертый.
Пока я смотрела, прибыли их «няньки» из ККБ. Они повалили одного больболиста на пол и ударили его тазерами. Вышибалы тоже дрались — один из них отступал, шатаясь и держась за глаз; потом тело другого врезалось в стойку бара. Обычно у них быстрее получалось наводить порядок. Савона и Алый Лепесток еще висели на трапеции, пытаясь продолжать работу, но девушки, которые раньше танцевали у шеста, убегали со сцены. Потом я увидела, что они бегут обратно: должно быть, выходы заблокированы. «Ох», — подумала я. Тут в камеру влетела бутылка и разбила ее.
Я хотела переключиться на другую камеру, но у меня тряслись руки, и я забыла код. Пока я его вспомнила и навела камеру на «Яму со змеями», там стало гораздо меньше народу. Свет еще горел, и музыка играла, но вокруг царил полный разгром. Клиенты, должно быть, разбежались. Савона лежала на стойке бара. Я узнала ее по блестящему костюму, хоть он и был наполовину содран. Голова у нее была странно вывернута, а лицо все залито кровью. Алый Лепесток висела на трапеции; одна веревка была обмотана у нее вокруг шеи, а между ног блестела бутылка — наверное, кто-то ей засунул. Рюшечки и оборочки изодраны в лохмотья. Она была похожа на увядший букет.
Где же Мордис?
По экрану пронесся темный трепыхающийся сверток: танец теней, уродливый балет. Грохнула дверь, раздалось что-то вроде уханья. В отдалении завыли сирены. Затопали бегущие ноги.
В коридоре за дверью «липкой зоны» послышались крики, видеоэкран на двери зажегся, и в нем появилось лицо Мордиса — очень близко. Он смотрел на меня одним глазом. Второй был закрыт. Лицо словно пожеванное.
— Твое имя, — шепнул он.
Протянулась рука и схватила его за горло, оттягивая голову назад. Кто-то из больболистов. Я видела руку, в которой была зажата «розочка» от бутылки: красные и синие вены.
— Открывай дверь, бля, — сказал он. — Ты, течная сучка! Пора делиться!
Мордис выл. Они требовали у него код от двери.
— Цифры, цифры, — говорили они.
Мордис показался еще на секунду. Раздалось бульканье, и он исчез. Его место занял больболист. Лицо — сплошные шрамы.
— Открой, и твой дружок останется в живых, — сказал он. — Мы тебе ничего плохого не сделаем.
Но он врал, потому что Мордис был уже мертв.
Снова раздались вопли, и, должно быть, какабэшники ударили его тазером, потому что он тоже завыл и исчез с экрана, и послышался звук, словно кто-то пнул ногой мешок.
Я переключилась на камеру «Ямы со змеями»: там были еще какабэшники, в шлемах и бронежилетах, целая куча. Они тащили и толкали больболистов к дверям — один был мертв, а три еще живы. Их вернут в больбол. Нечего было и выпускать.
И тут я поняла, что будет дальше. «Липкая зона» — все равно что крепость. Никто не может попасть внутрь, не зная кода, а его никто не знал, кроме Мордиса. Так он сам всегда говорил. И не выдал его: спас мне жизнь.
Но теперь я заперта, и некому меня выпустить.
«Пожалуйста, ну пожалуйста, — взмолилась я про себя. — Я не хочу умирать».
50
Я велела себе не паниковать. «Сексторг» пришлет уборщиков, они поймут, что я тут заперта, и позовут кого-нибудь, чтобы взломать замок. Они же не бросят меня тут, чтобы я умерла с голоду и высохла, как мумия: когда «Чешуйки» снова откроются, я им понадоблюсь. Без Мордиса, конечно, будет не то — я уже начала по нему скучать, — но, по крайней мере, я буду при деле. Я не одноразовый мусор, я квалифицированный специалист. Так всегда говорил Мордис.
Значит, надо просто подождать.
Я приняла душ. У меня было ощущение грязи, как будто эти больболисты все-таки пробились внутрь или как будто меня забрызгало кровью Мордиса.
Потом я снова помедитировала, уже по-настоящему. «Окутай его Светом, — молилась я. — Пусть он уйдет во Вселенную. Да уйдет его Дух с миром».
Я представила себе, как дух Мордиса вылетает из уничтоженного тела: птичка с коричневыми глазками-бусинками.
На следующий день случилось две плохих вещи. Сначала я включила новости. Мелкая эпидемия, о которой говорили вчера, оказалась не обычным всплеском, который легко остановить. Она переросла в масштабную угрозу. Показали карту мира с красными пятнами: Бразилия, Тайвань, Саудовская Аравия, Бомбей, Париж, Берлин — словно планету расстреляли из пистолета-распылителя. Диктор сказал, что эпидемия распространяется с невиданной скоростью — даже не распространяется, а возникает одновременно во многих городах, и это ненормальное явление. Обычно ККБ врала и заметала следы, а правда расходилась только в виде слухов. И то, что теперь в новостях говорили все как есть, показывало, насколько плохо дело — если ККБ даже не смогла удержать происходящее в тайне.
Новостные диджеи старались сохранять спокойствие. Специалисты не знают, что это за вирус, но это, несомненно, пандемия, и множество народу скоропостижно умирает — практически плавится на глазах.
Вторая плохая вещь заключалась в том, что в «Яму со змеями» пришли люди в биоскафандрах, запихали трупы в мешки и унесли. Но они не посмотрели на втором этаже, хотя я кричала не переставая. Наверное, они меня не слышали, потому что стены в «липкой зоне» были толстые, а в «Яме со змеями» до сих пор играла музыка и, наверное, заглушала меня. Мне повезло, потому что, если бы меня выпустили тогда, я бы заразилась тем же, что и все остальные. Так что на самом деле это была хорошая вещь, а не плохая, но тогда я этого не знала.
На следующий день новости были еще хуже. Эпидемия все ширилась, начались беспорядки, погромы и убийства, а ККБ практически исчезла из виду: наверное, какабэшники тоже умирали.
Через несколько дней новости прекратились совсем.
Теперь мне было по-настоящему страшно. Но я говорила себе: пускай я не могу выйти, зато никто другой не может войти. А со мной все будет в порядке, главное, чтобы солнечные батареи не отказали. Тогда водопровод и холодильник будут работать и воздушные фильтры тоже. Воздушные фильтры — это очень хорошо, потому что иначе тут ужасно воняло бы. Буду решать проблемы по мере их возникновения. И посмотрим, что выйдет.
Я знала, что нужно быть практичной, иначе я потеряю надежду, впаду в состояние «под паром» и никогда из него не выберусь. Так что я открыла холодильник и пересчитала все, что там было, — энергетические батончики, и энергетические напитки, и снэки, и замороженные крокеты из пухлокур, и фальшивую рыбу. Если есть только по трети порции вместо половины и остаток сохранять, а не выбрасывать, хватит на шесть недель.
Я пыталась звонить Аманде, но она не отвечала. Оставалось только слать ей эсэмэски: «прхд в чшйк». Я надеялась, что она получит их, поймет, что со мной случилась беда, доберется до «Чешуек» и сообразит, как открыть дверь. Я не выключала мобильник на случай, если она позвонит, но когда сама пыталась звонить, получала в ответ «Нет связи».
Один раз пришло короткое сообщение — «Я ОК», но, видимо, все каналы были забиты, потому что люди как сумасшедшие звонили своим родным, и я больше ничего не получила.
Потом, наверное, люди стали звонить меньше, потому что умирали, и мне удалось пробиться. Изображения не было, только голос.
— Где ты? — спросила я.
Она ответила:
— Огайо. Сперла солнцекар.
— Не заезжай в города, — сказала я. — Не позволяй никому до себя дотрагиваться.
Я хотела рассказать ей, что слышала в новостях, но связь пропала. После этого даже сигнала не было. Должно быть, базовые станции перестали работать.
В гороскопах всегда утверждали, что человек сам творит свою реальность. И вертоградари тоже так говорили. Так что я постаралась создать реальность Аманды. Вот она, одетая в хаки, как девушка-первопроходец. Вот она остановилась попить воды. Вот она выкапывает корень и ест его. Вот она опять идет. Она близится ко мне час от часу. Она не заболеет и никто ее не убьет, потому что она такая умная и сильная. Она улыбается. Теперь она поет. Но я знала, что на самом деле все выдумываю.
51
Я ужасно давно не виделась с Амандой, кроме как по телефону, — с тех самых пор, как начала работать в «Чешуйках». До этого я какое-то время даже не знала, где она. Я потеряла с ней связь, когда Люцерна выбросила мой фиолетовый телефон — еще тогда, в охраняемом поселке «Здравайзера». Тогда я думала, что больше не увижу Аманду, что она исчезла из моей жизни навсегда.
Так я думала и когда ехала в скоростном поезде, который вез меня в академию Марты Грэм. Мне было очень одиноко и ужасно жалко себя. Я потеряла не только Аманду — я потеряла все, что в моей жизни было осмысленного. Адамов и Ев — особенно некоторых, например Тоби и Зеба. Аманду. Но главное — Джимми. Самая острая боль, которую он мне причинил, уже прошла, и рана тупо ныла. Он был такой милый, а потом разом все оборвал, словно не видел меня больше. Моя жизнь стала холодной и беспросветной. Я была так подавлена, что даже перестала мечтать о новой встрече с Джимми в академии Марты Грэм. Теперь эта встреча казалась несбыточной фантазией.
К тому времени моя любовь к Джимми ушла в прошлое. Нет: это любовь Джимми ко мне ушла в прошлое. Когда я была честна с самой собой, а не только зла и печальна, я понимала, что все еще люблю его. Я спала с другими мальчиками, но чисто механически. Я ехала в академию Марты Грэм отчасти для того, чтобы оказаться подальше от Люцерны, но еще и потому, что мне нужно было хоть чем-нибудь заниматься, так почему бы и не получить образование. Так все говорили: «получить», словно образование — это какая-то вещь, которую получаешь в подарок, как платье. Мне, впрочем, было все равно, что со мной будет. Я жила, словно окутанная серой пеленой.
Это был совсем не вертоградарский образ мышления. Вертоградари говорили, что единственное настоящее образование — образование Духа. Но я забыла, что это значит.
Академия Марты Грэм была учебным заведением с уклоном в разные искусства. Марта Грэм была знаменитой танцовщицей, когда-то давно, поэтому здесь изучали и танцы. Мне надо было выбрать какие-нибудь предметы, и я выбрала танцевальную пластику и актерское мастерство — для них не нужно было предварительно проходить другие курсы, и математика тоже не требовалась. Я решила, что смогу устроиться на работу в какую-нибудь корпорацию, проводить разминочные программы в обеденный перерыв — «растяжка под музыку», «йога для менеджеров среднего звена», что-нибудь в этом роде.
Городок при академии напоминал кондоминиум «Буэнависта» — когда-то шикарный, а теперь запущенный, с плесенью, с текущими потолками. Я не могла питаться в столовой, потому что кто знает, что напихали в эту еду, — у меня по-прежнему не очень хорошо получалось есть животный белок, особенно если это были внутренние органы и носы. Но все же здесь мне было привычнее, чем в охраняемом поселке «Здравайзера», потому что там все было слишком блестящее и фальшивое и пахло хозяйственными химикалиями для уборки. У Марты Грэм никакой уборкой не пахло вообще.
Первокурсники у Марты Грэм жили в комнатах, по две комнаты в блоке. Мне достался сосед по имени Бадди Третий; я его очень редко видела. Он был с футбольного факультета, но команда Марты Грэм вечно продувала, и потому Бадди все время ходил либо пьяный, либо упоротый. У нас с ним был общий санузел, и я всегда запирала дверь со своей стороны: парни с футбольного, по слухам, насиловали девушек на свиданиях, а насколько я знала Бадди, он не стал бы даже заморачиваться с такой условностью, как свидание. По утрам я слышала, как он блюет в санузле.
На территории городка было кафе сети «Благочашка», и я ходила туда завтракать, потому что у них были веганские кексы и чтобы не слушать, как блюет Бадди. Да и в туалете у них воняло меньше, чем в моем. Однажды я подошла к «Благочашке» — и увидела Бернис. Я ее сразу узнала. Я ужасно поразилась. Это был удар — меня словно электричеством шарахнуло. Все чувство вины, которое меня когда-то мучило, а потом забылось, теперь вернулось и накрыло меня волной.
Бернис была в зеленой футболке с буквами «БЗ», а в руках держала плакат: «БЛАГОЧАШКА — ДЕРЬМОЧАШКА». С ней были еще двое ребят в таких же футболках, но с другими плакатами: «НАПИТОК ЗЛА», «НЕ ПЕЙТЕ СМЕРТЬ». Судя по одежде и выражению лиц, это были крайние ультразеленые, самые что ни на есть фанатики, и они пикетировали «Благочашку». Как раз в тот год прошли беспорядки из-за «Благочашки» — их показывали в новостях.
Бернис ничуточки не похорошела. Она как-то отяжелела, и лицо кривилось еще яростнее. Она меня не заметила, так что у меня был выбор: пройти мимо нее в «Благочашку» как ни в чем не бывало или повернуться и ускользнуть. Но я обнаружила, что переключаюсь в режим вертоградарей, мне вспомнились все их наставления о том, что надо брать на себя ответственность и что если ты кого-нибудь убила, то обязана его съесть. А я ведь в каком-то смысле убила Бэрта. Во всяком случае, я так думала.
Так что я не стала увиливать. Я подошла прямо к ней и сказала:
— Бернис! Это я, Рен!
Она подскочила, словно я пнула ее ногой. Потом разглядела меня.
— Вижу, — кисло ответила она.
— Пойдем выпьем кофе, я угощаю. — Видно, я сильно растерялась и не соображала, что говорю, потому что, конечно же, Бернис не стала бы пить кофе в том месте, которое сама пикетирует.
Она, должно быть, подумала, что я над ней издеваюсь:
— Иди в жопу.
— Прости, пожалуйста, — сказала я. — Я ничего такого не имела в виду. Ну давай тогда попьем воды? Можно сесть вон там, возле статуи, и попить.
Статуя Марты Грэм была у студентов чем-то вроде талисмана. Она изображала Марту в роли Юдифи, с головой Олоферна в руках. Студенты выкрасили разрубленную шею Олоферна в красный цвет, а Марте приклеили под мышками стальные мочалки. Прямо под головой Олоферна была плоская плита, на которой можно было посидеть.
Бернис опять оскалилась.
— Как ты отпала! — сказала она. — Вода в бутылках — зло. Ты что, совсем ничего не знаешь?
Я могла назвать ее стервой, повернуться и уйти. Но это был мой единственный шанс все исправить, во всяком случае — у себя в душе.
— Бернис, — сказала я, — я хочу перед тобой извиниться. Пожалуйста, скажи мне, что тебе можно пить, и я куплю это, и мы пойдем посидим где-нибудь.
Она все еще злилась — она умела затаивать обиду как никто другой, — но, когда я сказала, что нам нужно окутать наши раздоры Светом, это, должно быть, напомнило ей какие-то счастливые вертоградарские дни. Она сказала, что в продуктовом магазинчике на кампусе продается такой органический напиток в биоразлагаемом контейнере из прессованных листьев кудзу, а ей надо еще немного попикетировать, но к тому времени, как я вернусь, она сможет сделать перерыв.
Мы сели под головой Олоферна с двумя пакетами жидкой мульчи, которые я купила. Вкус напомнил мне первые дни у вертоградарей — как я страдала вначале и как Бернис тогда за меня заступалась.
— А разве ты не уехала на Западное побережье? — спросила я. — После всего…
— Да, — сказала она. — Но теперь, как видишь, я снова тут.
Она рассказала мне, что Ивона отпала от учения вертоградарей и перешла в совершенно другую веру — явленных плодов. Ее догмат гласил: богатство человека — знак, что он угоден Богу, ведь сказано: «По плодам их узнаете их». А «плоды» — это деньги в банке. Ивона стала работать на «Здравайзер», продавать их биодобавки. Бизнес разросся, и теперь у нее пять магазинов и она процветает. Бернис сказала, что Западное побережье для этого очень хорошо подходит, потому что там все увлекаются разными штуками типа йоги. Но на самом деле они все — извращенные пожиратели рыбы, поклоняющиеся идолу тела, они делают подтяжки лица и генные изменения, вставляют сисимпланты, и вообще у них совершенно порочная система ценностей.
Ивона хотела, чтобы Бернис пошла в бизнес-школу, но Бернис хранила верность учению вертоградарей, так что они с матерью все время ссорились. Марта Грэм стала компромиссным вариантом, так как там были специальности вроде «Получение прибыли от холистического целительства». Это как раз то, что учила Бернис.
Я не могла себе представить, как Бернис кого-нибудь исцеляет. Втереть грязь в чужую рану — это скорее в ее стиле. Но я сказала, что это, наверное, очень интересный курс.
Я рассказала ей, какие курсы выбрала сама, но видела, что ей все равно. Тогда я рассказала ей про своего соседа Бадди Третьего. Она ответила, что вся академия Марты Грэм полна таких людей — уроженцев Греховного мира, бездарно проживающих свой век без единой мысли в голове, кроме выпивки и секса. У нее тоже поначалу был такой сосед, и он к тому же был еще убийцей животных, потому что носил кожаные сандалии. Правда, они на самом деле были из искожи. Но выглядели как кожаные. Поэтому Бернис их сожгла. И слава богу, что ей больше не приходится делить с ним санузел, потому что она слышала, как он занимается сексом с девицами почти каждую ночь, словно какой-нибудь дегенеративный гибрид макаки и кролика.
— Джимми! — воскликнула она. — Омерзительный мясоед!
Услышав имя Джимми, я подумала: не может быть, что это он. А потом подумала: «Еще как может». Пока все это вертелось у меня в голове, Бернис сказала, что я вполне могу переехать к ней в блок, потому что Джимми съехал и теперь вторая комната пустует.
Я хотела с ней помириться, но не настолько. Поэтому я начала говорить то, что собиралась:
— Я хотела извиниться перед тобой за ту историю с Бэртом. С твоим папой. За то, что он так погиб. Я чувствую, что виновата.
Бернис посмотрела на меня как на сумасшедшую.
— О чем ты? — спросила она.
— Тогда, помнишь, я тебе сказала, что он занимается сексом с Нуэлой, а ты сказала Ивоне, а она разозлилась и позвонила в ККБ? Ну так вот. Я думаю, что у них с Нуэлой ничего не было. Мы с Амандой… ну вроде как придумали это, из вредности. Я просто ужасно виновата, прости меня. Я думаю, он был совершенно ни в чем не виновен, если не считать хватания за подмышки.
— Нуэла хоть взрослая была, — буркнула она. — И он не ограничивался подмышками. С девочками. Моя мать совершенно правильно сказала, что он дегенерат. Он говорил, что я его любимая маленькая девочка, но и тут врал. Так что я рассказала Ивоне. Поэтому она на него стукнула. Короче, можешь не думать, что весь мир вращается вокруг тебя.
Она пронзила меня взглядом, как встарь, но глаза у нее были красные и полные слез.
— Скажи спасибо, что тебе этого не досталось.
— Ох, — сказала я. — Бернис, я тебе ужасно сочувствую.
— Я больше не хочу об этом говорить, — сказала она. — Я предпочитаю проводить время более продуктивно.
Она позвала меня рисовать плакаты против «Благочашки», но я ответила, что уже прогуляла сегодня одно занятие, так что, может быть, в другой раз. Она прищурилась, словно видела меня насквозь и знала, что я увиливаю. Я спросила, как выглядел ее бывший сосед Джимми, а она в ответ спросила, с какой стати меня это касается.
Она снова приняла командирский тон. И я знала, что если побуду с ней еще хоть немного, то опять стану девятилетней девочкой и Бернис обретет надо мной прежнюю власть, только еще сильнее, потому что, как бы ни была ужасна моя жизнь, у Бернис она всегда будет еще ужаснее и Бернис будет дергать меня за ниточки, играя на моем чувстве вины. Я сказала, что мне нужно бежать, и она ответила: «Ну-ну», — а потом сказала, что я совершенно не изменилась и осталась такой же пустышкой, как всегда.
Много лет спустя, уже работая в клубе «Хвост-чешуя», я увидела в новостях, что Бернис застрелили из пистолета-распылителя при облаве на подпольное убежище вертоградарей. К этому времени вертоградарей уже объявили вне закона. Но Бернис такие вещи не останавливали. У нее всегда хватало мужества поступать по своим убеждениям. Этими качествами я восхищалась — убеждениями и мужеством, — потому что у меня, кажется, никогда не было ни того ни другого.
В новостях показали крупным планом ее мертвое лицо. Я никогда не видела его таким мягким и мирным. Может быть, в душе она была на самом деле такая, а все наши ссоры, все ее острые углы и шипы были способом выбраться из жесткой скорлупы, которую она отрастила на себе, вроде панциря жука. Но как она ни злилась и ни билась, она застряла в этом панцире. Когда я об этом подумала, мне стало так жалко Бернис, что я заплакала.
52
До разговора с Бернис про ее бывшего соседа я вроде как ожидала встретить Джимми — в аудитории, в «Благочашке», просто на улице. Но теперь я почувствовала, что он где-то совсем близко. Вон за тем углом или по другую сторону того окна; или я проснусь как-нибудь утром, и он окажется рядом, возьмет меня за руку и будет смотреть на меня так, как когда-то давно, когда мы в первый раз были вместе. Мне казалось, что меня преследует призрак.
Я подумала, что, может быть, я отпечаталась у Джимми в сердце. Это называется импринтинг. Если только что вылупившемуся утенку показать хорька, он всю жизнь так и будет бегать за этим хорьком. И скорее всего, эта жизнь будет очень короткой. Почему так получилось, что первый, в кого я влюбилась, был Джимми? Почему не кто-нибудь другой, с характером получше? Хотя бы не такой капризный. Более серьезный, менее склонный валять дурака.
Хуже всего было то, что меня больше никто не интересовал. У меня в сердце осталась дырка, которую мог заполнить только Джимми. Я знаю, это звучит как цитата из дурацкой песни про любовь — к этому времени я уже наслушалась подобных светских песен из «ушных конфеток», — но у меня нет других слов, чтобы это описать. И не то чтоб я не видела недостатков Джимми, еще как видела.
Конечно, мы встретились. Кампус был не такой большой, так что мы должны были встретиться рано или поздно. Я увидела его издали, и он меня увидел, но не подбежал ко мне. Остался там, вдалеке. Даже не помахал — отвернулся, словно меня не видит. Так что, если я хотела получить ответ на вопрос, который задавала себе все время — «любит ли меня Джимми до сих пор», — я его получила.
Потом на курсе танцевальной пластики я познакомилась с одной девушкой — ее звали Шайлюба, фамилию не помню, — которая успела побыть подружкой Джимми. Она сказала, что поначалу у них все было прекрасно, а потом он начал говорить, что он ей не подходит, что он не способен на серьезные отношения из-за девочки, в которую был влюблен в школе. Эта любовь сделала его эмоциональным калекой. Но может быть, он по натуре губителен для девочек, потому что портит жизнь всем, к кому прикасается.
— Ее звали Вакулла Прайс? — спросила я.
— Вообще-то нет, — сказала Шайлюба. — Это была ты. Он мне тебя показал.
Ах, Джимми, подумала я. Какой же ты врун и фальшивка. Но потом я подумала: а что, если это правда? Что, если я испортила ему жизнь так же, как он мне?
Я попыталась его забыть. Но почему-то не смогла. Ругать себя за Джимми стало у меня дурной привычкой, как ногти грызть. Время от времени я видела его издали, и это было как выкурить сигарету, когда пытаешься бросить, — все начиналось снова. Хотя я даже и не курила.
Я пробыла в академии Марты Грэм почти два года, когда получила по-настоящему ужасное известие. Люцерна позвонила и сказала, что моего биологического отца, Фрэнка, похитила корпорация-конкурент, расположенная где-то к востоку от Европы. Тамошние корпорации вечно пытались украсть что-нибудь у наших — их наемники были еще большими бандитами, чем наши, и у них было преимущество, потому что они знали иностранные языки и могли притвориться иммигрантами. А наши не могли, потому что с какой стати нашим людям туда эмигрировать?
Они похитили Фрэнка прямо изнутри охраняемого поселка — из мужского туалета его лаборатории, сказала Люцерна, — и вывезли в грузовике с надписью «Зиззи-фрут». А потом перевезли через Атлантику в самолете, замотанного бинтами, как будто он только что после подтяжки лица. Что было гораздо хуже, они прислали диск с видеозаписью, на которой Фрэнк, кажется накачанный наркотиками, признавался, что «Здравайзер» ввел в биодобавки генетически модифицированный возбудитель медленнодействующей, но неизлечимой болезни, чтобы зарабатывать хорошие деньги на лечении. Люцерна сказала, что это был откровенный шантаж: та корпорация была готова вернуть Фрэнка в обмен на пару нужных им формул, а именно — формул возбудителя той самой болезни. В придачу они обещали не публиковать разоблачительную видеозапись. Но заявили, что, если не получат формулу, Фрэнк попрощается с головой.
Люцерна сказала, что в «Здравайзере» провели анализ рентабельности и решили, что формулы и возбудители болезни для них дороже Фрэнка. Что же до разоблачительной записи, они могли пресечь ее распространение в самом начале, потому что все новости контролировала корпорация СМИ. Она решала, что будет новостью, а что нет. А в Интернете публиковали столько всякого, и вранья и правды, что люди уже ничему из этого не верили или верили всему подряд, что то же самое. Так что в «Здравайзере» решили не идти на сделку. Они выразили соболезнование Люцерне, но сказали, что их политика — не поддаваться на требования шантажистов, так как это лишь поощряет новые похищения, и без того слишком частые.
Так что Люцерна лишилась места высокопоставленной корпоративной жены в «Здравайзере», а заодно и дома. Учитывая сложившееся неудачное стечение обстоятельств, она решила перебраться в охраняемый поселок «Криогений» и занять место домоправительницы у очень милого джентльмена по имени Тодд, с которым познакомилась в гольф-клубе. Люцерна выразила надежду, что я не съеду с катушек из-за эмоций, вызванных похищением Фрэнка, что со мной обычно бывает по любому другому поводу.
«Криогений». Гнездо шарлатанов. Люди платили за то, чтобы их головы заморозили после смерти, на случай если когда-нибудь потом ученые найдут способ заново выращивать тела к этим шеям. Дети в «Здравайзере» шутили, что на самом деле в «Криогении» замораживают только пустые черепа, а все нейроны вытаскивают из черепа и пересаживают свиньям. В Здравайзеровской средней школе ходило множество подобных чернушных выдумок, хотя иногда трудно было понять, выдумка это или правда.
Люцерна продолжала: главный итог всего этого — что в семье больше нет денег. Тодд не старший вице-президент, а всего лишь менеджер по работе с клиентами, и у него трое собственных маленьких детей, которых он вынужден содержать, а я ему никто, и она, конечно, не может просить Тодда, чтобы он платил еще и за меня, помимо всего прочего. Так что хватит с меня беззаботной студенческой жизни. Мне придется покинуть академию Марты Грэм и отныне самой о себе заботиться.
Быстрый пинок — и меня выбросили из гнезда. Правда, нельзя сказать, что Люцерна когда-нибудь обеспечивала мне что-нибудь похожее на гнездо. Скорее у меня было ощущение, что я вишу, цепляясь за край обрыва.
Я подумала, что это ирония. Про иронию нам рассказывали на занятиях по театральным танцам. Вот Люцерна, которая когда-то нагло врала, что ее похитили. А теперь бедного Фрэнка, моего биологического отца, на самом деле похитили, а скорее всего, еще и убили. Но было совершенно ясно, что Люцерне это глубоко безразлично. Что до меня, то я даже не знала, что мне чувствовать.
Весной, перед экзаменами, корпорации устроили в холле главного корпуса ярмарку вакансий. Не серьезные корпорации, конечно, — те не стали бы никого набирать у Марты Грэм, им нужны были люди со склонностями к точным наукам, — а те, что попроще. Я не имела права ходить на интервью, потому что не была выпускницей. Но я решила все равно рискнуть и пойти. Конечно, вакансии, которые они предлагают, не для меня, но, может, хоть в уборщицы возьмут. Мыть полы я научилась у вертоградарей, но говорить об этом было нельзя — меня сразу записали бы в разряд чокнутых фанатичек-«зеленых».
Преподавательница по танцевальной пластике посоветовала мне поговорить с клубом «Хвост-чешуя». Я неплохо танцую, а этот клуб недавно стал частью «Сексторга», настоящей корпорации, с медицинской и зубной страховкой для сотрудников, так что это совсем не проституция. Многие девушки идут туда работать, и некоторые знакомятся с приятными мужчинами и потом преуспевают в жизни. И я решила, что можно попробовать. Все равно без университетского диплома мне ничего лучшего не светит. Даже диплом Марты Грэм был намного лучше, чем ничего. А я не хотела до конца дней работать на разделке мяса в каком-нибудь заведении типа «Секрет-бургера».
В тот день я пролезла на пять интервью. У меня ныло в животе от страха, но я втягивала живот и улыбалась и уламывала работодателей со мной поговорить, хоть меня и не было в списке выпускников. Я могла бы устроить себе и шестое интервью — «Криогению» нужна была девушка для успокоения родственников, привезших на заморозку головы своих близких (а иногда — своих домашних животных). Но я не могла там работать из-за Люцерны. Я не хотела больше ее видеть вообще, никогда в жизни: не только из-за того, что она со мной сделала, но и из-за того, как она это сделала. Как будто прислугу выгнала.
Я поговорила с людьми из «Благочашки», «Пухлокур», «Зиззи-фрут», «Хвоста-чешуи» и, наконец, «НоваТы». Первым трем я не понравилась, но клуб «Хвост-чешуя» предложил мне работу. Каждая корпорация прислала группу для проведения интервью, и в составе группы от «Хвоста-чешуи» был Мордис. Были и другие сотрудники «Сексторга», рангом повыше, но Мордис набирал людей для себя, поэтому последнее слово оставалось за ним. Я показала несколько движений из танцевальной пластики, и Мордис сказал — это то, что надо. Такой талант. Если я пойду работать в «Хвост-чешую», то не пожалею.
— Ты можешь стать кем угодно, — сказал он. — Перевоплощаться!
И я чуть не подписала с ними контракт прямо там.
Но рядом с их стендом был другой, салона красоты «НоваТы». И там была одна женщина, ужасно похожая на Тоби из вертоградарей, хотя и смуглая, и с другими волосами, и глаза у нее были зеленые, и голос ниже. Она отвела меня немного в сторону и спросила, не случилось ли у меня чего. И я объяснила, что из-за семейных проблем мне приходится бросить академию. Я сказала, что могу делать любую работу и что готова учиться. Когда она спросила, что за семейные проблемы, я как-то сразу выложила ей про то, что моего отца похитили, а у матери нет денег. Я слышала, как у меня дрожит голос: это было не совсем притворство.
Она спросила, как зовут мою мать. Я ответила. Она кивнула и сказала, что возьмет меня на работу в «НоваТы» ученицей, и я смогу жить прямо там, и они будут меня учить. Я буду работать с женщинами, а не с мужчинами — пьяными и агрессивными, какими они часто бывают в «Хвосте-чешуе». Пускай даже там есть зубная страховка. И мне не придется носить биоскафандр и позволять незнакомым мужчинам себя трогать. Я буду работать в целительной атмосфере и помогать людям.
Эта женщина и вправду была ужасно похожа на Тоби, и странное дело — даже на бедже у нее было написано «Тобита». Для меня это было словно знак — что там мне будет по-настоящему безопасно, мне будут рады, я буду нужна. Так что я согласилась.
Но Мордис все равно дал мне свою визитку и сказал, что, если я передумаю, он возьмет меня в «Хвост-чешую» — в любой момент, без всяких вопросов.
53
Салон красоты «НоваТы» располагался в Парке Наследия. У вертоградарей о нем говорили, потому что Адам Первый был сильно против — он сказал, что множество Созданий и Деревьев погубили, чтобы построить храм тщеславия. Иногда в День Опыления он произносил целую проповедь на эту тему. Но все равно мне было хорошо в «НоваТы». Там были розы, которые светились в темноте, большие розовые бабочки днем и прекрасные мотыльки кудзу ночью, и бассейн (хоть и не для сотрудников), и фонтаны, и свой собственный экологически чистый огород. Воздух тут был лучше, чем в городе, поэтому можно было реже носить респираторы. Я словно оказалась в утешительном сне. Меня поставили на работу в прачечную складывать постельное белье и полотенца, и мне нравилась эта работа, потому что она была очень мирная: все такое розовое.
На третий день я несла стопку чистых полотенец в комнаты и наткнулась на Тобиту; она сказала, что хочет со мной поговорить. Я испугалась, что сделала что-то не так. Мы вышли на газон, и она велела мне говорить тихо. Потом сказала: она видит, что я ее уже почти узнала, а уж она меня точно узнала. Она взяла меня на работу, потому что я из вертоградарей, а теперь, когда они объявлены вне закона и сад уничтожен, наш долг — заботиться друг о друге. Она поняла, что у меня беда — помимо отсутствия денег. В чем дело?
Тут я заплакала, потому что раньше не знала про сад. Новость меня поразила: наверное, я думала, что, если все станет совсем плохо, смогу вернуться туда. Тобита отвела меня к фонтану — это для того, сказала она, чтобы шум бегущей воды заглушал наши голоса, если где-нибудь поблизости установлены направленные микрофоны, — и я выложила ей все про «Здравайзер» и как я узнавала новости про вертоградарей от Аманды, пока не лишилась мобильника, и после этого совсем ничего не знала про сад. Я промолчала про то, что влюблена в Джимми и он разбил мне сердце, но рассказала про Марту Грэм и про то, как Люцерна отказалась от меня, когда похитили моего отца.
Потом я сказала, что не знаю, зачем мне жить, и что внутри у меня все онемело, как у сироты. Тоби мне посочувствовала: оказалось, что ей, когда она была в моем возрасте, тоже нелегко пришлось и с ней и с ее отцом случилось что-то очень похожее.
Новая Тоби была совсем не такой жесткой, как старая, когда она была Евой Шестой. Она стала гораздо мягче. Или это я повзрослела.
Тоби огляделась и понизила голос. Она рассказала мне, что ей пришлось срочно покинуть сад на крыше и поменять внешность, потому что там ей грозила опасность, так что я должна тщательно следить за своими словами, чтобы не проболтаться, кто она такая на самом деле. В случае со мной она пошла на риск и надеется, что мне можно доверять. Я сказала, что можно. Тогда она меня предупредила, что в салон красоты иногда приходит Люцерна и что я должна об этом знать и по возможности не попадаться ей на глаза.
Под конец разговора Тоби сказала: если вдруг что-нибудь случится — какое-нибудь чрезвычайное происшествие — и ее не будет поблизости, я должна знать, что она сделала запас сушеных продуктов наподобие вертоградарских Араратов, прямо на складе «НоваТы». Она сказала мне код от двери, на случай если мне вдруг понадобится. Хотя она и надеялась, что не понадобится.
Я ее горячо поблагодарила, а потом спросила, не знает ли она, где Аманда. Мне очень хотелось снова с ней повидаться. Она, можно сказать, мой единственный друг. Тоби сказала, что, может быть, получится выяснить.
После этого мы мало общались — Тоби сказала, что это будет выглядеть подозрительно, хоть она и не знала, кто может за нами следить, — но мы время от времени перекидывались парой слов и кивали друг другу. Я чувствовала, что она меня охраняет — защищает силовым полем, вроде как в фильмах про инопланетян. Хотя, конечно, я это просто придумала.
Однажды, почти через год после моего появления, Тоби сказала, что нашла Аманду через общих знакомых в Интернете. Тоби сообщила мне новость, которая меня удивила, хотя, если вдуматься, это было не очень удивительно. Аманда стала биохудожницей: она делала инсталляции с использованием Созданий или частей Созданий, широкомасштабные, на открытом воздухе. Оказалось, что она живет у западного входа в Парк Наследия. Тоби сказала, что организует мне пропуск, если я хочу повидать Аманду, и распорядится, чтобы меня отвезли в розовом фургончике «НоваТы».
Я бросилась Тоби на шею, но она велела мне быть осторожней: девушки из прачечной не обнимаются с менеджерами. Потом она сказала, чтобы я не шла у Аманды на поводу: Аманда никогда не знает меры, не осознаёт пределов собственной силы. Я хотела спросить Тоби, что это значит, но она уже повернулась и ушла.
В день визита Тоби сказала мне, что Аманду предупредили; но мы должны укрыться в помещении, прежде чем начать обниматься, визжать от радости и все такое. Тоби дала мне корзинку с продукцией «НоваТы» для доставки, как предлог, если фургон остановят и спросят меня, куда мы едем. Водитель меня подождет; но у меня есть только час, потому что, если девушка из «НоваТы» вдруг начнет бродить по Греховному миру, это будет выглядеть подозрительно.
Я сказала, что, может быть, мне лучше переодеться, но Тоби ответила: нет, тогда охранники начнут задавать ненужные вопросы. Так что я надела розовую накидку «НоваТы» поверх рабочего розового халатика и хлопковых штанов и отправилась в дорогу с розовой корзинкой. Как Розовая Шапочка.
Фургон «НоваТы», как и планировалось, довез меня до обшарпанного здания — кондоминиума, где жила Аманда. Я помнила, что сказала Тоби, и подождала, пока за мной закроется дверь в квартиру, где ждала Аманда. Тогда мы с ней хором сказали: «Не может быть!» — и бросились друг другу на шею. Но ненадолго: Аманда никогда особенно не любила обниматься.
Она выросла с тех пор, как я последний раз видела ее живьем. И загорела — несмотря на солнцезащитные кремы и широкополые шляпы, — потому что много занимается инсталляциями на открытом воздухе. Это она мне объяснила. Мы пошли на кухню, где стены были увешаны ее рисунками и кое-где — разными костями, и выпили по бутылке пива. Я никогда не любила алкоголь, но это был особенный случай.
Мы стали вспоминать вертоградарей — Адама Первого, и Нуэлу, и Муги Мускула, и Фило Тумана, и Катуро, и Ребекку. И Зеба. И Тоби, но я не сказала, что она теперь Тобита и работает менеджером в салоне красоты «НоваТы». Аманда объяснила, почему Тоби пришлось уйти от вертоградарей. Оказывается, за ней охотился Бланко из Отстойника. А он, по слухам, мочил всех, кто ему хоть как-то не угодил. Особенно женщин.
— Но почему Тоби? — спросила я.
Аманда ответила: говорят, они когда-то давно не поладили на почве секса. И это очень странно: Тоби и секс, казалось нам, несовместимы, отчего мы, дети, и прозвали ее Сухой ведьмой. А я сказала: может быть, Тоби мокрее, чем мы думали. Аманда расхохоталась и сказала, что я такая большая, а в сказки верю. Но теперь я знала, почему Тоби сменила личность и прячется.
— А помнишь, как мы говорили: «Тук-тук, кто там?» Я, ты и Бернис? — спросила я. Пиво постепенно туманило мне голову.
— Ганг. А дальше? — подхватила Аманда.
— Рена, — сказала я, и мы обе покатились со смеху, и немножко пива попало мне в нос.
Я рассказала Аманде про встречу с Бернис и про то, что она осталась такой же сварливой. Мы еще немножко посмеялись. Но про мертвого Бэрта упоминать не стали.
— А помнишь, как ты хотела устроить мне праздник и заставила Шекки и Кроза притащить супершмаль? И мы все залезли в будку голограммера, и меня стошнило?
Мы еще посмеялись.
Она сказала, что у нее два соседа по квартире, тоже художники. И еще, впервые в жизни, у нее появился «бойфренд с проживанием». Я спросила, неужели она в него влюблена, и она сказала:
— Ну, в жизни все нужно хоть один раз попробовать.
Я спросила, что он за человек, и она сказала, что он очень милый, только по временам депрессует из-за какой-то девочки, в которую был влюблен еще в школе. Я спросила, как его зовут.
— Джимми. Может, ты его знаешь — вы учились в Здравайзеровской школе примерно в одно и то же время.
Я вся похолодела. Аманда сказала:
— Вон его фотография на холодильнике — третья сверху, в правом ряду.
Это действительно был Джимми. На снимке он облапил Аманду и ухмылялся, как лягушка под током. Мне словно гвоздь в сердце вогнали. Но я знала, что нет смысла рассказывать Аманде и все ей портить. Она ведь не нарочно.
Я сказала:
— Да, он очень симпатичный, но мне уже пора идти, водитель ждет.
Аманда спросила, не случилось ли чего, но я сказала, что все в порядке. Она дала мне номер своего мобильника и сказала: в следующий раз, когда я приду в гости, она обязательно пригласит и Джимми тоже, и мы будем есть спагетти.
Как было бы хорошо, если бы любовь можно было раздавать одинаковыми порциями, чтобы всем досталось. Но моя судьба сложилась по-другому.
Я вернулась в «НоваТы» совершенно убитая и подавленная. Почти сразу после этого я развозила полотенца по комнатам на тележке и едва не наткнулась на Люцерну. Ей по расписанию должны были делать очередную подтяжку. Тоби меня предупреждала каждый раз, как Люцерна собиралась прийти, чтобы я пряталась и не попадалась ей на глаза, но из-за Аманды и Джимми у меня все вылетело из головы.
Я улыбнулась Люцерне — нейтрально, как нас учили улыбаться клиентам. Я думаю, она меня узнала, но отмахнулась от меня, как смахивают пушинку с одежды. Не то чтоб мне очень хотелось ее видеть или общаться с ней, но мне было ужасно неприятно, что она тоже не хочет меня видеть и слышать. Когда твоя родная мать делает вид, что тебя нет на свете, чувствуешь себя так, словно тебя стирают с лица земли.
В этот момент я поняла, что не могу оставаться в «НоваТы». Мне нужно было оторваться от всех — от Аманды, от Джимми, от Люцерны, даже от Тоби. Я хотела стать совершенно другим человеком, не быть никому обязанной и чтобы мне никто не был ничем обязан. Никаких ниточек, за которые меня можно было бы дергать. Никакого прошлого. Никаких вопросов. Я уже устала задавать вопросы.
Я нашла визитку Мордиса и написала Тоби записку, в которой благодарила ее за все и объясняла, что поличным причинам не могу больше оставаться в «НоваТы». У меня еще был тот пропуск, по которому я ходила к Аманде, поэтому я ушла тут же. Все было разрушено, погублено, и для меня нигде не было безопасного места; а если уж мне суждено находиться в опасном, то пусть меня там хотя бы ценят.
Я добралась до «Чешуек», и мне пришлось долго уговаривать вышибал: они не верили, что я действительно хочу там работать. Наконец они позвали Мордиса, и он сказал: ну конечно, он меня помнит, я та маленькая танцовщица. Бренда, верно? Я сказала, что да и что он может называть меня Рен — до такой степени я уже с ним освоилась. Он спросил, хорошо ли я подумала, и я сказала, что да. А он предупредил, что я обязана буду отработать определенный срок, потому что клуб потратит деньги на мое обучение. Готова ли я подписать контракт?
Я сказала, что, может быть, я слишком грустная для этой работы: ведь, наверное, они ищут веселых и общительных девушек? Но Мордис улыбнулся, блестя черными глазками, похожими на блестящие муравьиные головки, и сказал:
— Ах, Рен. Любой человек слишком грустен для чего бы то ни было.
54
Так я все-таки начала работать в «Чешуйках». В каком-то смысле это было облегчением. Мне нравилось работать под руководством Мордиса, потому что ясно было, чего он хочет и как ему угодить. Я чувствовала, что с ним я в безопасности. Наверное, потому, что он заменил мне отца в каком-то смысле, ведь никакого другого отца у меня не было: Зеб исчез, растаял, как туман, а родной отец мной не очень-то интересовался, да и вообще умер.
А вот Мордис говорил, что у меня настоящий, неповторимый талант: я — воплощение чужих снов, в том числе самых порочных. Я была счастлива, что наконец у меня хоть что-то хорошо получается. У меня были и другие обязанности, не очень приятные, но акробатические танцы на трапеции я любила, потому что, когда висишь на трапеции, тебя никому не достать. Порхаешь в воздухе, как бабочка. Иногда я воображала, как Джимми на меня смотрит и думает: «На самом деле это ее я любил всю жизнь, а не Вакуллу Прайс, не Линду-Ли, не какую-нибудь другую девушку, даже не Аманду». И еще я воображала, что танцую только для него.
Да, я понимаю, насколько это было бессмысленно.
После перехода в «Чешуйки» я разговаривала с Амандой только по телефону. Она часто и надолго уезжала — заниматься своими инсталляциями. Да я и не хотела видеться с ней живьем. Мне будет неудобно из-за Джимми, а она почувствует это и спросит, в чем дело, и мне придется соврать или рассказать ей всю правду. А если я ей расскажу, она рассердится, или ей просто будет любопытно, или она решит, что я дура. В некоторых вещах Аманда была безжалостна.
Адам Первый, помнится, говорил, что ревность — разрушительное чувство. Это часть неизгладимого наследия австралопитеков, с которым нам приходится жить. Ревность пожирает человека изнутри и омертвляет его Духовную Жизнь. И еще ревность порождает ненависть и заставляет человека причинять зло другим. Но я совершенно не хотела никакого зла Аманде.
Я пыталась представить себе ревность в виде желто-бурого облака: вот оно бурлит во мне, а теперь выходит через нос, как струйка дыма, каменеет на лету и падает на землю. Но тут мне каждый раз невольно представлялось, что из камня вырастает куст, покрытый ядовитыми ягодами.
Потом Аманда порвала с Джимми. Она мне об этом сообщила, но не прямо. До того она рассказывала мне о своих инсталляциях на открытом воздухе. Серия называлась «Живое слово». Аманда рассказывала, как выкладывает гигантские буквы, а потом с помощью биоформ заставляет их появляться и пропадать. Совсем как в детстве, когда она выписывала слова сиропом и муравьями.
— Я уже дошла до пяти и даже шести букв. Теперь могу писать плохие слова, — сказала она.
— То есть неприличные? Как «говно»?
— Гораздо хуже, — засмеялась она.
— Матерные? Как слово на букву бэ?
— Нет. Как «любовь».
— Ох. Значит, с Джимми у тебя не вышло.
— Джимми — несерьезный человек.
Я поняла, что он, наверное, ей изменил или что-нибудь такое.
— Я тебе сочувствую, — сказала я. — Ты на него очень сердишься?
Я старалась, чтобы она не услышала, какой у меня счастливый голос. «Теперь я могу ее простить», — думала я. Но на самом деле прощать ее было не за что, ведь она не нарочно.
— Сержусь? — переспросила она. — На Джимми невозможно сердиться.
Я не поняла, что она хочет сказать, потому что я, конечно же, была сердита на Джимми. Ужасно сердита и зла. Хотя все еще его любила.
Я подумала: может быть, это и есть любовь. Когда сердишься на кого-нибудь.
Вскоре после этого в «Чешуйки» начал ходить Гленн. Не каждую ночь, но достаточно часто, чтобы заработать право на скидку. Я не видела его со «Здравайзера» — все это время он с прочими мозговитыми учился в институте Уотсона-Крика. Но теперь он стал большой шишкой в корпорации «Омоложизнь». Он не стеснялся хвалиться, хотя у него это звучало скорее констатацией факта, как другой человек сказал бы: «Дождь идет». Я урывками слушала его разговоры с Большими Шишками и разными инвесторами и узнала, что он заведует каким-то важным проектом под названием «Пародиз». Для этого проекта построили специальный купол, с подачей воздуха и учетверенными мерами безопасности. Гленн подобрал команду из лучших мозгов человечества, и они работают над проблемой день и ночь.
Над чем именно они работают, Гленн сообщал очень туманно. Он употреблял слово «бессмертие» — в «Омоложизни» бессмертием интересовались уже давно. Речь шла об изменении клеток, о том, как сделать, чтобы они не умирали. Гленн говорил, что за бессмертие люди готовы платить огромные деньги. Раз в пару месяцев он заявлял, что они совершили колоссальный прорыв, и чем больше было прорывов, тем больше денег ему удавалось выпросить на проект «Пародиз».
Иногда он говорил, что работает над величайшей проблемой человечества — над людьми, их жестокостью и страданием, их войнами и нищетой, их страхом смерти.
— Сколько вы готовы заплатить, если я построю вам идеального человека? — спрашивал он. Потом намекал, что в проекте «Пародиз» именно это и делают, и тогда инвесторы отваливали ему еще больше денег.
Для завершения переговоров он снимал зал с потолком, отделанным перьями, и заказывал туда выпивку, наркотики и девушек-«чешуек». Не для себя, а для людей, которых приводил с собой. Иногда он даже развлекал высокопоставленных какабэшников. Они были жуткие. Мне не приходилось обслуживать больболистов, а какабэшников — приходилось, и это были мои самые нелюбимые клиенты. Мне казалось, что у них в голове, за глазами — шестеренки и разные механизмы.
Иногда Гленн снимал двух-трех «чешуек» на весь вечер, не для секса, а для других, очень странных вещей. Однажды он приказал нам мурлыкать, как кошки, чтобы он мог измерить движение голосовых связок. В другой раз он велел нам петь, как птицы, чтобы нас записать. Старлетт пожаловалась Мордису, что нас используют не по назначению, но Мордис ответил только:
— Ну да, он псих. Можно подумать, вы психов никогда не видели. Но он богатый псих и к тому же безобидный, так что терпите и делайте, что он говорит.
Я оказалась одной из выбранных «чешуек» в тот вечер, когда Гленн устроил нам опрос. Он хотел знать: что делает нас счастливыми? На что больше похоже счастье — на довольство или на восторг? Оно в помещении или под открытым небом? С деревьями или без? Есть ли поблизости проточная вода? Если счастья слишком много, не становится ли от этого скучно? Старлетт и Алый Лепесток пытались понять, что он хочет услышать, чтобы врать в нужную сторону.
— Нет, — объяснила я. Я-то знала, что он из себя представляет. — Он ботан. Он хочет, чтобы мы честно сказали то, что думаем.
Они ужасно растерялись.
Потом он начал приводить с собой женщину — по расовому типу она была «косая» и говорила с акцентом. Он сказал, что она хочет познакомиться с работой «Чешуек», потому что корпорация «Омоложизнь» выбрала «Чешуйки» одним из основных мест для испытания нового продукта и эта женщина будет объяснять нам, как новым продуктом пользоваться. Речь шла о таблетке «НегаПлюс», которая должна была решить все известные человечеству проблемы, связанные с сексом. Нам выпала большая честь — возможность познакомить своих клиентов с этим продуктом. У женщины был какой-то корпоративный титул — старший вице-президент по повышению удовлетворения, — но ее главной работой было удовлетворять Гленна в койке.
Я видела, что она такая же, как мы: девушка на продажу, пускай в другой форме. Это было очевидно — для тех, кто разбирается. Она все время кого-то играла, не выдавая ничего о настоящей себе. Я подглядывала за ними через камеру: мне было любопытно, потому что Гленн — такой холодный, как рыба, но с ней он мог трахаться всю ночь, совсем как человек. Она знала больше поз, чем осьминог, и в койке работала просто по высшему классу. Гленн вел себя так, как будто она первая, последняя и единственная девушка на земле. Мордис тоже на них смотрел. Он сказал, что в «Чешуйках» ей платили бы огромные деньги. Но я объяснила, что «Чешуйки» не могут ее себе позволить: она совершенно в другом ценовом диапазоне.
Эти двое называли друг друга любовными прозвищами. Она звала его Коростель, а он ее — Орикс. Другие девушки очень удивлялись, что они воркуют, как голубки. Настолько это было не в характере Гленна. Но мне казалось, что это очень мило.
— Это по-русски, что ли? — спросила меня как-то Алый Лепесток. — Орикс и Коростель?
— Наверное, — сказала я.
Это были названия вымерших животных — у вертоградарей нас заставляли учить наизусть огромные списки таких названий. Но я промолчала, потому что иначе девушки поинтересовались бы, откуда я знаю.
Когда Гленн впервые пришел в «Чешуйки», я его сразу узнала, а он, конечно, меня не узнал, потому что я была в биопленке-скафандре, на лице зеленые чешуйки, а сама я не назвалась. Мордис не велел нам устанавливать личные отношения с клиентами, потому что, если им нужны отношения, они могут их завести где-нибудь в другом месте. Он говорил, что клиентов «Чешуек» не интересует наша биография: им нужны эпидермис и фантазии. Клиенты хотят унестись в сказочную страну и там предаться греховным удовольствиям, которых им никогда, ни за что не светит испытать дома. Чтобы вокруг них обвивались женщины-драконы, чтобы по ним скользили женщины-змеи. Так что нам следует держать свой эмоциональный мусор при себе и поберечь его для людей, которым он действительно интересен. Например, для других «чешуек».
Как-то Гленн заказал на вечер обслуживание по суперэкстраклассу — для супер-пупер-особенного гостя, сказал он. Он зарезервировал комнату с перышками на потолке и зеленым покрывалом на кровати. И самые крепкие фирменные мартини — «драконий хвост». И двух «чешуек» — меня и Алый Лепесток. Мордис выбрал нас, потому что, по словам Гленна, гость предпочитал девушек хрупкого телосложения.
— Он хочет, чтобы я переоделась в матроску? — спросила я, потому что слова про хрупкое телосложение иногда означали именно это. — Может, мне за прыгалками сходить?
Если так, то мне нужно было сбегать переодеться, потому что я была в полном параде — при чешуйках.
— Он уже упорот в сиську и все равно ничего не разберет, — сказал Мордис. — Выложись по полной, зайка моя. Чтобы чаевые были по высшему разряду. Сделай так, чтоб цифры со многими нулями у него из ушей посыпались.
Мы пришли в комнату и увидели, что клиент лежит на зеленом покрывале в позе человека, сброшенного с самолета. Но видимо, он был счастлив, потому что ухмылялся не только лицом, а как будто всем телом.
Это был Джимми. Милый, губительный Джимми. Поломавший мне жизнь.
У меня сердце перевернулось. О черт, я не смогу. Я сломаюсь и зареву. Я знала, что он меня не узнает: я была вся покрыта блестками, а он — под таким кайфом, что ничего вокруг себя не видел. Так что я включила привычный режим и принялась расстегивать пуговицы и «липучки» на клиенте. Девушки-«чешуйки» называли это «чистить креветку».
— Ах, какие мускулы, — шептала я. — Лежи, миленький, я сама все сделаю.
Что это было — наслаждение или мука? Хотя почему «или»? Как всегда говорила Вилья про свои груди — «бери две, миленький, это недорого».
Он пытался отлепить чешуйки у меня с лица, так что мне приходилось все время перехватывать его руки и убирать их куда-нибудь.
— Ты что, рыба? — все время повторял он. Похоже, он не понимал, где находится.
Ох, Джимми, подумала я. Что от тебя осталось?
День святой Дианы-мученицы
День святой Дианы-мученицы
Год двадцать четвертый
Дорогие друзья, дорогие верные спутники!
Наш сад на крыше «Райский утес» ныне цветет лишь в нашей памяти. В сей земной юдоли он стал местом запустения — болотом или пустыней, смотря по тому, сколько выпадет дождя. Как изменилось наше положение по сравнению с теми днями, когда мы были зелены и свежи! Как сократились, истощились наши ряды! Нас гонят и травят, мы бежим из одного укрытия в другое. Иные бывшие Друзья отпали от нашей веры, а другие послушествовали на нас свидетельство ложно.[19] Третьи же прибегли к насилию и экстремизму и были убиты из распылителей при набегах врага. В связи с этим давайте вспомним наше бывшее дорогое Дитя, Бернис. Окутаем ее Светом.
Кое-кого из нас убили, а тела изуродовали и подбросили на пустыри, чтобы нас запугать. Других вырвали из укрытий и бросили в темницы Адских сил, без суда, без права даже узнать имена своих обвинителей. Их умы, быть может, уже уничтожены пытками и химическими средствами, их тела растворились в мусорнефти. Неправедные законы не дают нам узнать судьбу этих людей, наших собратьев-вертоградарей. Мы можем только надеяться, что они умерли, не отступив от нашей Веры.
Сегодня День святой Дианы, посвященный межвидовому сочувствию. В этот день мы вспоминаем святого Иеронима от Львов, и святого Роберта Бернса от Мышей, и святого Кристофера Смарта от Кошек; а также святого Фарли Моуэта от Волков и еще басрийских «братьев чистоты» и их «Трактат о животных». Но в особенности — святую Диану Фосси, которая отдала свою жизнь, защищая Горилл от безжалостной эксплуатации. Она трудилась, приближая Тысячелетнее Царство, в котором всякую Жизнь будут уважать и охранять; но темные силы вступили в сговор, чтобы уничтожить и ее, и ее кротких спутников-Приматов. Ее убийство было ужасающе; и равно ужасны слухи, которые распускали про нее враги как при жизни, так и после смерти. Ибо Адские силы убивают не только делом, но и словом.
Святая Диана воплощает в себе дорогой нам идеал: любовную заботу обо всех Созданиях. Она верила, что с ними нужно обращаться так же бережно, как мы обращаемся со своими друзьями и родными. В этом она служит нам достойным примером. Ее похоронили среди друзей-Горилл, на горе, которую она пыталась защитить.
Как и многие мученики, святая Диана не дожила до венца своих трудов. Можно радоваться хотя бы тому, что она не узнала об окончательной гибели Вида, за который отдала жизнь. Этот Вид, как и многие другие, был стерт с лица Господней планеты.
Что же такое есть в нашем Виде, отчего мы не в силах бороться со своей тягой к жестокости? Каждый раз, когда нас тянет надмеваться и воображать себя выше других Животных, нам следует вспоминать собственную историю, полную насилия.
Будем утешаться мыслью, что эту историю скоро сметет Безводный потоп. Ничего не останется от Греховного мира, кроме трухлявого дерева и ржавеющих механизмов; их оплетут Кудзу и другие вьющиеся растения; Птицы и Звери совьют в них гнезда; да сбудется реченное в Человеческом Слове Господа: «И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым; и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там».[20] Ибо все труды человеческие будут как слова, написанные на воде.
Мы сидим, пригнувшись, в полумраке этого погреба, говорим вполголоса, занавесив окна, и боимся: не просочился ли в наши ряды предатель, нет ли поблизости подслушивающего устройства или киборга-насекомого, не несутся ли на нас отряды мстительных сотрудников ККБ. В это время нам как никогда нужно мужество. Помолимся о том, чтобы дух святой Дианы вдохновлял нас, чтобы он помог нам крепко стоять на суде. Не страшитесь, говорит этот дух, даже если придет самое худшее: ибо мы укроемся под крылами еще более великого Духа.
За час до рассвета мы должны покинуть это укрытие — по одному, по двое и по трое. Будьте тогда безмолвны, друзья мои, будьте невидимы; сливайтесь с тенями. И мы, Благодатью Господней, победим.
Мы не можем петь, чтобы нас не подслушали.
Восшепчем же.
Святой Диане днесь хвала
55
Рен
Год двадцать пятый
Вертоградари говорили, что человек сам творит мир своим внутренним отношением к миру. А я не хотела творить тот мир, который уже был: мир мертвых и умирающих. Поэтому я пела старые вертоградарские гимны, особенно те, которые порадостнее. Или танцевала. Или слушала песни из «ушной конфетки», хоть и не могла отвязаться от мысли о том, что новой музыки больше не будет.
«Перечислите имена», — говорил нам Адам Первый. И мы принимались нараспев читать списки Созданий: Диплодок, Птерозавр, Осьминог и Бронтозавр; Трилобит, Гепард, Утконос и Леопард. Мастодонт, Нарвал, Дракон Комодо и Сервал. Списки стояли у меня перед глазами, словно написанные на бумаге. Адам Первый говорил, что, когда мы называем имена вслух, мы словно отчасти воскрешаем этих животных. Так что я их всех назвала.
Назвала и других. Адама Первого, Нуэлу, Зеба. Шекки, Кроза и Оутса. И Гленна. Мне просто не верилось, что такой умный человек мертв.
И Джимми, несмотря на то, что он со мной сделал.
И Аманду.
Я называла их имена вслух, снова и снова, чтобы удержать их в живых.
Потом я подумала о последних словах Мордиса. О том, что он прошептал в конце. «Твое имя». Наверное, это было что-то важное.
Я считала оставшуюся еду. Запас на четыре недели, на три, на две. Я отмечала дни карандашом для подводки бровей. Если есть меньше, еды хватит на дольше. Но если Аманда не приедет совсем скоро, я умру. У меня никак не получалось представить себя мертвой.
Гленн говорил: настоящая причина, по которой человек не может представить себе свою смерть, — то, что он говорит: «Я буду уже мертвый», а в этой фразе присутствует «я», и получается, что внутри этого предложения ты еще жив. Именно так у людей зародилась мысль о бессмертии души — из-за грамматики. И о Боге — тоже по этой причине. Потому что, стоит появиться прошедшему времени, сразу возникает мысль о прошлом, предшествовавшем этому прошлому, а дальше начинаешь двигаться назад по времени до момента, когда уже приходится сказать: «Я не знаю», а именно это и есть Бог. Бог — это незнаемое: темное, скрытое, изнанка видимости, и все это из-за грамматики, а грамматика невозможна без гена FoxP2; так что Бог — всего лишь мозговая мутация, и этот ген — тот же самый, что у птиц отвечает за пение. Так что музыка в нас встроена, говорил Гленн; вплетена в нас. Ее было бы очень трудно удалить, потому что она — неотъемлемая часть нас. Как вода.
Я сказала: тогда, значит, Бог тоже в нас вплетен? А Гленн ответил: может, и так, но нам от этого не вышло ничего хорошего.
Его объяснение Бога сильно отличалось от объяснения вертоградарей. Он говорил, что выражение «Бог — Дух» бессмысленно, потому что Дух измерить нельзя. И еще он говорил: «Включи свой мясной компьютер», имея в виду: «Включи мозги». Мне эта идея была отвратительна: неприятно было думать, что у меня в голове, внутри — мясо.
Мне все время казалось, что я слышу, как люди ходят по зданию, но я переключалась с камеры на камеру и видела только пустые комнаты. Хорошо еще, что солнечные батареи по-прежнему работали.
Я снова пересчитала еду. Осталось на пять дней, да и то с натяжкой.
56
Аманда сперва появилась тенью на видеоэкране. Она осторожно, по стеночке вошла в «Яму со змеями»: свет еще горел, так что ей не приходилось шарить ощупью в темноте. Музыка все так же орала и гремела, и Аманда первым делом осмотрелась, чтобы убедиться, что в «Яме» никого нет, а потом прошла за сцену и выключила звук.
Я услышала ее голос.
— Рен?
Тут она пропала с экрана. Чуть погодя микрофон видеокамеры в коридоре уловил ее тихие шаги, а потом я ее и увидела. И она меня тоже. Я так плакала от облегчения, что не могла говорить.
— Привет, — сказала она. — Тут под дверью жмурик. Ужасная гадость. Я сейчас вернусь.
Это был Мордис — его так и не увезли. Потом Аманда рассказала, что завернула его в занавеску из душа, оттащила по коридору и свалила в лифт. Точнее, не его, а то, что от него осталось. Она сказала, что крысы порезвились на славу, и не только в «Чешуйках», но везде сколько-нибудь близко к городам. Прежде чем за него взяться, Аманда надела перчатки от чьего-то биоскафандра — она, конечно, была смелая, но не рисковала по-глупому.
Скоро она опять возникла на моем экране.
— Ну вот. Я уже тут. Перестань реветь.
— Я думала, ты никогда не доберешься, — наконец выговорила я.
— Я тоже так думала, — сказала она. — Ну хорошо. Как открыть дверь?
— Я не знаю кода, — сказала я. И объяснила про Мордиса — что он один знал коды дверей в «липкой зоне».
— Он тебе так и не сказал?
— Он говорил: зачем вам коды? Он менял их каждый день — чтобы их не украли, чтобы сюда не залезли какие-нибудь психи. Он хотел нас защитить.
Я изо всех сил старалась не паниковать. Вот она, Аманда, по ту сторону двери; но что, если она ничего не сможет сделать?
— Ну, может, хоть намекнул?
— Он что-то сказал про мое имя. Прямо перед тем как… когда они… Может, он про это и говорил.
Аманда попробовала.
— Нет. Ладно. Может, это твой день рождения? Скажи мне день и месяц. Год.
Я слышала, как она жмет на кнопки, ругаясь себе под нос. Мне показалось, что прошло очень много времени. Замок щелкнул, дверь распахнулась, и Аманда предстала передо мной.
— Ох, Аманда, — сказала я.
Она была загорелая, оборванная и грязная, но живая. Я протянула к ней руки, но она быстро отступила.
— Код был простой: А равно один и так далее. Действительно оказалось твое имя. Бренда. Только задом наперед. Не трогай меня — на мне могут быть микробы. Я пойду приму душ.
Пока она мылась в ванной «липкой зоны», я подперла дверь стулом, чтобы она не захлопнулась и не заперла нас обеих внутри. За пределами моей комнаты ужасно воняло по сравнению с фильтрованным воздухом, которым я дышала до сих пор. Пахло гнилым мясом, а еще дымом и чем-то химическим, горелым, потому что в городе начались пожары, а тушить было некому. Мне повезло, что «Чешуйки» не сгорели — вместе со мной.
Когда Аманда кончила мыться, я тоже помылась, чтобы стать такой же чистой. Мы надели фирменные зеленые халатики «Чешуек», которые Мордис приберегал для своих любимых сотрудниц. Мы сидели, ели энергетические батончики из мини-холодильника, разогревали в микроволновке крокеты из пухлокур, пили пиво, которое нашли внизу, и рассказывали друг другу, как так получилось, что мы все еще живы.
57
Тоби. День святой Карен Силквуд
Год двадцать пятый
Тоби просыпается внезапно. Кровь стучит в голове: «та-дыш, та-дыш, та-дыш». Тоби мгновенно ощущает перемену в своем пространстве. Кто-то ворует у нее кислород.
«Дыши, — говорит она себе. — Двигайся так, словно плывешь. Нельзя, чтобы от тебя пахло страхом».
Она приподнимает с тела розовую простыню — как можно медленнее. Садится, осторожно оглядывается. Ничего крупного, во всяком случае в этом закутке: тут просто места нет. И тут она видит. Это всего лишь пчела. Медоносная пчела ползет вдоль подоконника.
Пчела в доме — к гостям, говорила Пилар. А если пчела умрет, то гости будут недобрые. Нельзя убивать эту пчелу, думает Тоби. Она осторожно заворачивает ее в розовое полотенчико.
— Донеси мою весть, — говорит она пчеле. — Скажи тем, кто в мире духов: пожалуйста, пришлите помощь поскорее.
Тоби знает, что это суеверие; но ритуал ее странно приободряет. Впрочем, может быть, эта пчела — из трансгенных, которых выпустили, когда вирус уничтожил обычных пчел. А может, это даже блуждающий киборг-шпион, которым больше некому управлять. В этом случае вестника из него не выйдет.
Тоби сует свернутое полотенце в карман накидки: она возьмет пчелу на крышу, выпустит и посмотрит, как пчела понесет послание мертвым. Но должно быть, надевая на плечо ремень карабина, Тоби нечаянно раздавила пчелу: развернув полотенце, она обнаруживает, что пчела какая-то неживая. Тоби вытряхивает полотенце с края крыши, надеясь, что пчела полетит. Та летит, но это больше похоже на полет семечка, чем на полет насекомого. Визит будет не к добру.
Тоби подходит к краю крыши с видом на огород и смотрит вниз. И точно: недобрые гости уже приходили. Свиньи вернулись. Они подкопали забор и разорили весь огород. Это даже больше похоже на месть, чем на разнузданное обжорство. Вся земля изрыта и распахана: что не съели, то втоптали в землю.
Если бы Тоби была склонна плакать, она бы сейчас расплакалась. Она подносит к глазам бинокль, обводит взглядом газоны. Сначала она их не видит, но потом замечает две розовато-серые головы — нет, три… нет, пять: они поднимаются над зарослями цветов и сорняков. Тоби видит маленькие блестящие глазки, по одному на свинью: они стоят в профиль и смотрят на нее искоса. Они наблюдают за ней: как будто хотят полюбоваться ее отчаянием. Более того, они в недосягаемости: если в них стрелять, только зря пули потратишь. Очень может быть, что они это знают — с них станется.
— Грязные свиньи! — кричит она. — Скоты! Свиные морды!
Конечно, для них ни одно из этих слов не оскорбительно.
Что теперь? У Тоби осталось совсем чуть-чуть сушеной зелени, ягоды годжи и семена чиа почти кончились, растительного белка больше нет. Тоби рассчитывала вырастить все это на огороде. Хуже всего, что у нее кончились жиры. Она уже подъела все «Масло для тела на основе ши и авокадо». В энергетических батончиках есть жиры — батончиков еще осталось немного, — но надолго этого не хватит. Если не употреблять липиды, тело начинает перерабатывать собственный жир, а потом мышцы. Мозг — это чистый жир, а сердце — это мышца. Тело жрет само себя, по замкнутому кругу, а потом откидывает копыта.
Придется жить на подножном корму. Выходить в луга, в лес: искать там белки и жиры. Кабан уже протух окончательно, его есть нельзя. Может быть, удастся застрелить зеленого кролика. Но нет. Он — собрат-млекопитающий, и Тоби пока не готова к такому убийству. Для начала сгодятся муравьиные личинки и яйца, да и любые личинки.
Может, свиньи этого и ждут? Чтобы она вышла за пределы своей крепости, на открытое пространство, чтобы они могли на нее броситься, сбить с ног, вспороть и выпотрошить? Устроить себе завтрак на траве. Обожраться, как свиньи. Тоби прекрасно представляет себе, как это будет выглядеть. Вертоградари не брезговали описывать застольные манеры самых разных Божьих тварей; морщиться, осуждая их, было бы ханжеством. Зеб любил говорить: «Никто не приходит в мир с вилкой, ножом и сковородкой в руках. Или с салфеткой». А если мы едим свиней, почему бы свиньям не есть нас? Если уж мы им подвернемся.
Восстанавливать огород бессмысленно. Свиньи только дождутся, пока там вырастет что-нибудь достойное уничтожения, и уничтожат. Не попробовать ли устроить сад на крыше, как когда-то был у вертоградарей, — тогда можно будет вообще не выходить за пределы здания. Но придется таскать землю вверх по лестнице, ведрами. А еще поливать в жаркое время года и организовать сток воды в дождливое. Без сложных систем, какие были у вертоградарей, это безнадежная затея.
Вон они, свиньи, выглядывают из маргариток, смотрят на Тоби. У них торжествующий вид. Может, они презрительно фыркают. Во всяком случае, слышится хрюканье и какое-то подростковое подвизгиванье — примерно такие звуки слышались в Отстойнике, когда топлесс-бары закрывались на ночь.
— Сволочи! — кричит она свиньям.
От крика ей становится легче. По крайней мере, удалось поговорить с кем-то, кроме себя.
58
Рен
Год двадцать пятый
Хуже всего, рассказывала Аманда, были грозы: пару раз она решала, что уже покойница, так близко ударяла молния. Но потом она сперла в хозяйственном магазине резиновый коврик, чтобы подложить под себя, и стала меньше бояться.
Она избегала людей как могла. Она бросила солнцекар в штате Нью-Йорк, потому что федеральное шоссе было забито металлоломом. Она видела несколько внушительных катастроф: должно быть, водители начали разлагаться прямо на ходу.
— Похоже на кровавый лосьон для рук, — сказала она.
Вокруг этого дела вился примерно миллион грифов. Кого-то они, может, и испугали бы, но не Аманду — она работала с грифами в своих биоинсталляциях.
— Это шоссе — самая большая в мире инсталляция с участием грифов, — сказала она. — Жаль, у меня не было видеокамеры.
Бросив солнцекар, она какое-то время шла пешком, а потом сперла другое средство передвижения — на этот раз солнцикл. На нем было легче пробираться через горы железа. Если Аманде казалось, что шоссе непроходимо, она шла по окраинам городов или по лесам. Пару раз она чуть не влипла, потому что других людей осенила та же идея. Несколько раз она чуть не споткнулась о мертвые тела. Хорошо, что она до них все же не дотронулась.
Она видела и живых. Кое-кто из этих живых ее тоже увидел, но к этому времени все уже знали, что новый микроб чудовищно заразен, так что они не стали подходить близко. Иные из этих людей были в последней стадии болезни и брели куда придется, как зомби. А некоторые уже упали — сложились сами в себя, словно тряпки.
Когда получалось, Аманда спала на крышах гаражей или в брошенных зданиях, но никогда — на первом этаже. А еще на деревьях: на тех, у которых крепкие развилки. Неудобно, но привыкаешь, а наверху было спокойнее, потому что появились новые странные животные. Огромные свиньи, гибрид льва с ягненком, стаи диких собак — одна такая стая чуть не загнала Аманду. В общем, ночлег на деревьях защищал и от зомби: как-то неприятно думать, что в темноте об тебя может споткнуться ходячий сгусток крови.
Она рассказывала ужасные вещи, но в тот вечер мы много смеялись. Может, нам следовало вместо этого скорбеть и рыдать, но я уже отплакала свое, да и что толку плакать? Адам Первый говорил, что всегда нужно видеть положительную сторону. А положительная сторона заключалась в том, что мы еще живы. Мы не стали говорить о людях, которых знали.
Я не хотела спать в своей комнате в «липкой зоне», потому что я там уже и так насиделась, и мы не могли использовать мою старую комнату, потому что там еще лежала высохшая оболочка Старлетт. В конце концов мы выбрали одну из комнат для приема клиентов — с гигантской кроватью под зеленым атласным покрывалом и потолком в перышках. Комната выглядела элегантно, если не слишком задумываться о том, что в ней делали.
В этой комнате я в последний раз видела Джимми. Но присутствие Аманды было как ластик: смазывало более ранние воспоминания. Мне становилось спокойнее.
На следующий день мы спали до упора. Потом встали, надели зеленые халаты и пошли на кухню «Чешуек», где когда-то готовили закуски для бара. Мы разогрели в микроволновке замороженный соевый хлеб из главного холодильника, позавтракали им и запили растворимой благочашкой.
— А тебе не приходило в голову, что, может быть, я уже умерла? — спросила я у Аманды. — И что, может быть, тебе нет смысла сюда тащиться?
— Я знала, что ты жива, — ответила Аманда. — Когда человек умирает, это чувствуешь. По-настоящему близкий человек. Как ты думаешь?
Я не знала, что сказать. Поэтому сказала:
— Ну, в любом случае спасибо.
Когда Аманду благодарили за что-нибудь, она либо делала вид, что не слышит, либо отвечала: «Будешь мне должна». Она и сейчас сказала то же самое. Она хотела, чтобы все делалось на обмен, потому что давать что-то в обмен ни на что — это для слабаков.
— А что мы теперь будем делать? — спросила я.
— Останемся тут. Пока еда не кончится. Или пока солнечные батареи не сдохнут и продукты в морозильниках не начнут гнить. Это может быть неприятно.
— А тогда что?
— Пойдем куда-нибудь в другое место.
— Куда?
— Давай подумаем об этом завтра, — ответила она.
Время растянулось и замедлилось. Мы спали сколько хотели, вставали и принимали душ — вода еще была, потому что солнечные батареи работали. Потом мы доставали что-нибудь из морозильника и ели. Потом вспоминали жизнь у вертоградарей — старые добрые времена. Снова спали, чтобы переждать жару. Потом заходили в «липкую зону», включали кондиционер и смотрели старые фильмы на DVD. Выходить на улицу нам не хотелось.
Вечерами мы понемногу выпивали — за баром нашлось несколько уцелевших бутылок — и совершали налеты на дорогие консервы, которые Мордис держал для VIP-гостей и своих любимых сотрудниц. Он называл это «пищевой премией» и выставлял угощение, когда кто-нибудь из девушек особенно старался и достигал особых успехов. Хотя заранее неизвестно было, за что удостоишься. Так я впервые в жизни попробовала икру. Она была похожа на соленые пузырьки.
Правда, для нас с Амандой икры в «Чешуйках» уже не осталось.
59
Тоби. День святого Анила Агарвала
Год двадцать пятый
Тоби думает: «Мне грозит голод. Святой Юэлл, молись за меня и за всех, кто голодает посреди изобилия. Помоги мне отыскать это изобилие. Пошли мне животного белка, и быстро».
Дохлый кабан на лужайке переходит в жизнь после смерти. Из тела поднимаются газы, в почву впитываются жидкости. По трупу прошлись грифы; вороны горбятся по периметру, словно карлики в уличной драке, хватая все, до чего могут дотянуться. Что бы ни творилось с телом, в этом обязательно участвуют опарыши.
Оказавшись в крайней нужде, говорил Адам Первый, начинайте с самого низа пищевой пирамиды. Создания, у которых нет центральной нервной системы, конечно, страдают меньше.
Она собирает все необходимое — розовую накидку, шляпу от солнца, темные очки, фляжку с водой, хирургические перчатки. Бинокль и карабин. Ручку от щетки — чтобы на нее опираться. Находит пластиковый контейнер с защелкивающейся крышкой и проделывает в ней несколько дырок. Добавляет ложку и кладет все вместе в пластиковую подарочную сумку с подмигивающим логотипом «НоваТы». Рюкзак был бы лучше — он не занимает рук. В салоне были рюкзачки — дамы брали их на прогулки, пикники с сэндвичами, — но Тоби не может вспомнить, куда их засунула.
У нее осталось еще немного крема от солнца «НоваТы — Полностью натуральный СолнцуНет». Срок годности крема уже прошел, и он пахнет прогорклым жиром, но Тоби все равно мажет им лицо, а потом опрыскивает щиколотки и запястья «СуперД» от насекомых. Она выпивает большой стакан воды, а потом навещает фиолет-биолет. Если случится что-нибудь страшное, она хотя бы не обмочится. Бежать в мокрой накидке — хуже не придумаешь. Она вешает бинокль на шею и поднимается на крышу для последней рекогносцировки. На лужайке не видно ни ушей, ни пятачков. Ни кудрявых золотых хвостов.
Хватит тянуть время, говорит она себе. Нужно выходить сейчас же, чтобы вернуться до послеполуденной грозы. Очень глупо умереть от удара молнии. Правда, Адам Первый говорил: «Любая смерть глупа с точки зрения того, кто умирает. Потому что, как бы тебя ни предупреждали, смерть всегда приходит без стука. „Почему сейчас? — кричим мы. — Почему так рано?“ Это крик ребенка, которого зовут домой в сумерках. Это всеобщий протест против времени. Помните, дорогие друзья: „зачем я живу?“ и „ради чего я умираю?“ — это один и тот же вопрос».
«Но сейчас я не буду задаваться этим вопросом», — очень твердо говорит себе Тоби.
Тоби надевает хирургические перчатки, вешает на плечо сумку «НоваТы» и выбирается наружу. Сначала — в погубленный огород, где Тоби спасает одну луковицу и две редиски, а также набирает ложкой сырую землю в контейнер с крышкой. Затем она пересекает парковку и идет к умолкшим фонтанам.
Она давно не удалялась настолько от зданий салона красоты. Она выходит на луг: он очень просторный. Свет ослепляет, несмотря на широкополую шляпу и темные очки.
Без паники, говорит она себе. Так чувствует себя мышь, которая рискнула выбежать на середину комнаты, но ты ведь не мышь. Сорняки цепляются за накидку и спутывают ноги, словно хотят удержать Тоби при себе. У сорняков есть тайные крохотные шипы, коготки и ловушки. Словно пробиваешься сквозь вязание: вязание из колючей проволоки.
Что это? Женская туфля.
Не думай о туфлях. Не думай о заплесневелой сумочке из красной искожи, только что замеченной рядом. Модная. Красная искожа. Обрывок прошлого, еще не ушедший в землю. Тоби не хочет наступать на останки, но ей плохо видно сквозь сети и силки сплетенных сорняков.
Она движется дальше. Ноги покалывает — так чувствует себя плоть, когда знает, что до нее сейчас дотронутся. Неужели Тоби действительно думает, что сейчас из клевера и чертополоха высунется рука и схватит ее за щиколотку?
— Нет, — говорит она вслух.
Останавливается, чтобы успокоить бьющееся сердце и оглядеться. Широкие поля шляпы загораживают обзор: Тоби поворачивается всем телом, как сова крутит головой — направо, налево, назад, снова вперед. Все вокруг пропитано благоуханием — высокий цветущий клевер, сныть, лаванда, майоран и лимонная мята, всё самосевки. Все поле вибрирует от жужжания опылителей: шмели, цветочные осы, блестящие металлические жуки. Жужжание убаюкивает. Остаться здесь. Кануть. Уснуть.
Природа в полный рост — не под силу человеку, говорил Адам Первый. Она — мощнейший галлюциноген, снотворное для неподготовленной Души. Мы в ней больше не дома. Ее приходится разбавлять. Неразбавленная, она опьяняет. С Богом — то же самое. Слишком много Бога — и возникает передозировка. Бога нужно фильтровать.
Впереди, не слишком далеко, — линия темных деревьев, отмечающая опушку леса. Тоби чувствует, как ее тянет туда, манит, как, по слухам, манят людей глубины океана и горные высоты, выше и выше или глубже и глубже, пока не растворишься в экстазе, уже не человеческом.
Постарайся увидеть себя глазами хищника, учил когда-то Зеб. Тоби мысленно помещает себя за деревьями и глядит сквозь узорный покров листьев и ветвей. Она видит огромную дикую саванну, а посредине — крохотную, мягкотелую розовую фигурку, эмбриона или инопланетянина, с большими темными глазами: одинокую, ничем не защищенную, уязвимую. Рядом с фигуркой — ее жилище, нелепая коробка из соломы, только с виду похожей на кирпич. Дунь, и рассыплется.
Тоби улавливает запах страха. Он исходит от нее самой.
Она подносит к глазам бинокль. Листья чуть движутся, но это ветерок. Медленно иди вперед, говорит она себе. Помни, зачем пришла.
Тоби кажется, что она идет уже очень долго, и наконец она оказывается у трупа кабана. В воздухе над трупом мерцает летучая орда сверкающих бронзово-зеленых мух. Завидев Тоби, грифы поднимают красные лысые головы и розовые, словно ошпаренные, шеи. Тоби машет палкой, и грифы неуклюже взлетают, негодующе шипя. Одни поднимаются по спирали вверх, не сводя с Тоби глаз; другие, хлопая крыльями, перемещаются в лес, садятся на ветки, расправляют перья, похожие на метелки для пыли, и ждут.
Тоби видит разбросанные ветки: на трупе кабана и вокруг. Это папоротник. На лугу такой не растет. Одни ветки старые, сухие, а другие — совсем свежие. И цветы. Это ведь, кажется, розовые лепестки — от роз, растущих у подъездной дорожки? Тоби что-то такое слышала; нет, читала в детстве, в детской книжке про слонов. Слоны окружают своих мертвых и стоят скорбно, словно медитируя. Потом бросают на тело ветки и землю.
Но свиньи? Они обычно съедают мертвую свинью, как вообще все, что им попадется. Но эту они не съели.
Неужели свиньи устроили похороны? Принесли венки? Эта мысль по-настоящему пугает Тоби.
«Но почему бы и нет? — говорит добрый голос Адама Первого. — Мы ведь верим, что у Животных есть Души. Почему бы им тогда не устраивать похороны?»
— Ты с ума сошла, — говорит она вслух.
Смердит разлагающаяся плоть; Тоби едва сдерживает тошноту. Она поднимает полу накидки и одной рукой зажимает ее на носу. В другой руке у Тоби палка, которой она тычет в кабана; волны опарышей выплывают наружу. Словно гигантские серые рисовые зерна.
Слышится голос Зеба: «Представь себе, что это сухопутные креветки. Такое же строение тела». Тоби говорит себе: «Давай, у тебя получится». Для следующего действия ей приходится положить на землю карабин и палку от щетки. Она подбирает ложкой кишащих белых опарышей и перекладывает в контейнер. У нее трясутся руки; она роняет нескольких опарышей. В голове что-то жужжит, словно крохотные дрели, или это всего лишь мухи? Тоби заставляет себя двигаться медленнее.
Вдали слышны раскаты грома.
Тоби поворачивается спиной к лесу и идет по лугу обратно к дому. Она не бежит.
Она уверена, что деревья придвинулись ближе.
60
Рен
Год двадцать пятый
Как-то мы пили шампанское, и я сказала: «Давай сделаем себе маникюр». Я думала, что, может, это поднимет нам настроение. Аманда засмеялась и сказала: «Да, глобальная катастрофа — это очень вредно для ногтей». Но мы все равно сделали маникюр. Аманда выбрала розовато-оранжевый цвет под названием «мандариновое парфе», а я — «гладкую малину». Мы радовались ярким краскам и веселились, как дети на празднике. Я обожаю запах лака для ногтей. Да, я знаю, что он ядовитый, но он пахнет так чисто. Хрустящий запах, как у накрахмаленного белья. У нас в самом деле поднялось настроение.
Потом мы выпили еще шампанского, мне пришла в голову новая затея, и я пошла наверх. Там была только одна комната, в которой оставался человек — Старлетт лежала в нашей с ней бывшей спальне. Мне было ужасно жалко Старлетт, но я забила щели вокруг двери простынями, чтобы запах не выходил. Я надеялась, что микробы займутся своим делом, и Старлетт преобразится во что-нибудь другое. И поскорее. Я взяла из пустых комнат Савоны и Алого Лепестка биопленки-скафандры и костюмы, притащила их огромной охапкой вниз, и мы принялись их мерить.
Биопленки совсем высохли, так что пришлось смочить их водой и увлажняюще-питательной смесью. Но после этого они сразу скользнули на тело, как обычно, и я почувствовала приятное посасывание — это слой живых клеток костюма сливался воедино с моей кожей. А потом теплое щекотание — это пленка начала дышать. Как обещали этикетки, биопленка не пропускала «внутрь — ничего, кроме воздуха; наружу — ничего, кроме естественных выделений». На лицевой части даже обрисовывались ноздри. Многие посетители «Чешуек» предпочли бы голую кожу и шерсть, если бы это было совершенно безопасно. Но с биопленками они хотя бы могли не беспокоиться, что трахают какое-нибудь гноище.
— До чего классно, — сказала Аманда. — Вроде как массаж.
— Незаменимы для цвета лица, — сказала я, и мы еще посмеялись.
Потом Аманда надела костюм фламинго с розовыми перьями, а я — костюм журавлина, мы включили музыку и разноцветные прожектора, забрались на сцену и принялись танцевать. Аманда все так же отлично танцевала, она очень лихо трясла перьями. Но я к тому времени стала танцевать лучше ее, потому что меня специально учили, и еще я все время практиковалась на трапеции; и Аманда это знала. И мне это было приятно.
Конечно, эти танцы были совершенно дурацкой затеей; мы врубили музыку на полную громкость, и она разносилась по округе через открытую дверь, так что, если по соседству хоть кто-нибудь был, они не могли не услышать. Но я об этом не подумала. «Рен, ты не единственный человек на земле», — говорила иногда Тоби, когда я была маленькая. Она хотела сказать, что нужно считаться с другими. Но сейчас я действительно думала, что я последний человек на земле. Точнее, мы с Амандой. И вот мы в розовом фламинговом и голубом журавлиновом костюмах, со свежим маникюром плясали на сцене «Чешуек» под грохот музыки, бумц-бумц-бабадедумц, бам-бам-табам, и подпевали, словно у нас не было ни единой заботы на всем белом свете.
Музыкальный номер кончился, и послышались аплодисменты. Мы застыли как вкопанные. Я похолодела: мне вспомнилась Алый Лепесток, висящая на веревке от трапеции, с засунутой бутылкой, и у меня словно кончился воздух.
В зале оказалось трое мужчин — они, должно быть, незаметно пробрались в клуб. «Не убегай», — тихо сказала мне Аманда. Потом вслух, с улыбкой:
— Эй, вы живые или мертвые? Потому что если живые, то, может, хотите выпить?
— Красиво танцуете, — сказал самый высокий. — Как это получилось, что вы не заразились?
— А может, и заразились, — сказала Аманда. — Может, мы заразные и сами еще не знаем. А сейчас я выключу подсветку сцены, чтобы нам было вас видно.
— Тут еще кто-нибудь есть? — спросил самый высокий. — В смысле, мужчины?
— Насколько мне известно, нет, — ответила Аманда.
Она привернула подсветку сцены. «Сними лицо», — сказала она мне. Она имела в виду зеленые блестки, биопленку. Аманда спустилась со сцены.
— У нас осталось немного виски, или хотите, я сделаю вам кофе.
Говоря это, она сдирала собственную головную часть биопленки, и я знала, что она думает: нужен прямой зрительный контакт, как учил Зеб. Отворачиваться нельзя, потому что со спины на тебя набросятся скорее. Чем меньше мы будем похожи на блестящих птиц и чем больше на людей, тем меньше вероятность, что нас изувечат.
Теперь мне было лучше видно этих троих. Высокий, пониже и еще один высокий. Они были в камуфляжных костюмах, очень грязных, и, похоже, в последнее время слишком много бывали на солнце. На солнце, на ветру, под дождем.
И вдруг я их узнала.
— Шекки? — сказала я. — Шекки! Аманда, это Шекки и Кроз!
Высокий повернулся ко мне:
— А ты еще кто такая?
Он был не зол, а вроде как ужасно удивлен.
— Это я, Рен, — сказала я. — А это маленький Оутс?
Я расплакалась.
Мы все пятеро побежали навстречу друг другу, словно в замедленном повторе футбольной свалки по телевизору, и принялись обниматься. Мы все обнимались и обнимались и никак не хотели разжать рук.
В морозильнике нашелся какой-то сок оранжевого цвета, и Аманда намешала нам «мимозу» с оставшимся шампанским. Мы открыли несколько пакетиков соленых соевых орешков, разогрели в микроволновке пачку фальшивой рыбы и все впятером уселись у стойки бара. Мальчишки — я все еще мысленно называла их мальчишками — прямо-таки вдохнули еду. Аманда заставила их выпить воды не торопясь. Они не голодали — вламывались в супермаркеты и даже в дома, и ели восторгнутое, и даже поймали в силок пару кроликов и поджарили кусками на костре, как мы делали у вертоградарей в Неделю святого Юэлла. Но все равно они были очень худые.
Потом мы стали рассказывать друг другу, где были, когда нахлынул Безводный потоп. Я рассказала про «липкую зону», Аманда — про коровьи кости и пустыню Висконсин. Я сказала: удача слепа и нам обеим просто повезло, что мы были в одиночестве, когда все началось. Хотя Адам Первый любил говорить, что слепой удачи не бывает, потому что удача — лишь другое название чуда.
Шекки, Кроз и Оутс действительно могли и не выжить. Их посадили в больбол. Красная команда, сказал Оутс и показал мне татуировку у основания большого пальца: кажется, он ею гордился.
— Нас туда посадили за то, что мы делали, — сказал Шекки. — С Беззумным Аддамом.
— С Беззумным Аддамом? Это с Зебом, из вертоградарей? — переспросила я.
— Не только с Зебом. Там была куча народу — и он, и мы, и другие, — объяснил Шекки. — Лучшие ученые — генные инженеры, которые сбежали из корпораций и ушли в подполье, потому что были против того, что делали корпорации. Ребекка и Катуро тоже участвовали — они были распространителями.
— У нас был веб-сайт, — сказал Кроз. — Так мы делились информацией, в потайном чате.
— Распространителями? — переспросила Аманда. — Вы толкали супершмаль? Круто!
Она засмеялась.
— Да нет же. Мы были в Биоформ-сопротивлении, — важно сказал Кроз. — Генные инженеры делали биоформы, а у нас — у Шекки, у меня, у Ребекки и Катуро — были очень удобные личности: страховые агенты, агенты по недвижимости — в общем, то, что позволяло путешествовать. Мы брали биоформы, доставляли на место и выпускали.
— Мы их подкладывали, — вставил Оутс. — Типа как бомбы замедленного действия.
— Там были очень крутые штуки, — сказал Шекки. — Микробы, которые ели асфальт, мыши, которые нападали на машины…
— Зеб решил, что, если уничтожить инфраструктуру, планета сможет исцелить сама себя, — объяснил Кроз. — Пока не поздно, пока еще не все вымерли.
— Значит, эпидемия — тоже работа Беззумного Аддама?
— Ни в коем случае, — сказал Шекки. — Зеб не верил в пользу убийства как такового. Он только хотел, чтобы люди перестали все расходовать и загаживать.
— Он хотел заставить их думать, — сказал Оутс. — Хотя некоторые мыши вышли из-под контроля. Растерялись. Стали нападать на обувь. Повредили ноги кое-кому.
— Где он сейчас? — спросила я.
Как было бы хорошо, если бы Зеб оказался рядом; он точно знал бы, что делать дальше.
— Мы только по Интернету общались, — ответил Шекки. — Он работал в одиночку.
— Хотя ККБ поймала наших генетиков из Беззумного Аддама, — сказал Кроз. — Выследили нас. Я так думаю, в чате оказался стукач.
— Их расстреляли? — спросила Аманда. — Ученых?
— Не знаю, — сказал Шекки. — Во всяком случае, с нами в больболе их не было.
— Мы там пробыли только пару дней, — сказал Оутс. — В больболе.
— Нас трое и их трое. Золотая команда — они были жутко свирепые. Один из них — помните Бланко, из Отстойника? Который мог оторвать человеку голову и сожрать? Он слегка похудел, но это точно был он, — сказал Кроз.
— Ты шутишь, — ответила Аманда.
Эта новость ее не то чтобы испугала, но явно озаботила.
— Его посадили за то, что он разгромил «Чешуйки» — убил несколько человек и очень этим гордился. Он говорил, что больбол для него как дом родной, столько времени он там чалился.
— А он знал, кто вы такие? — спросила Аманда.
— Без сомнения, — ответил Шекки. — Он на нас орал. Говорил, что пришла пора поквитаться за ту стычку на крыше. Что он выпотрошит нас, как рыбу.
— Какую стычку на крыше? — спросила я.
— Это уже после тебя было, — ответила Аманда. — А как вам удалось выйти?
— Ногами, — ответил Шекки. — Мы пытались сообразить, как убить ту команду раньше, чем они нас убьют, — там дают три дня на планирование, до стартового гонга. Но вдруг все охранники куда-то исчезли. Были, и нету.
— Я ужасно устал, — сказал Оутс. — Мне нужно поспать.
Он положил голову на стойку бара.
— Оказалось, что охранники на месте, — сказал Шекки. — В караульном помещении. Только они вроде как расплавились.
— Так что мы пошли в Интернет, — сказал Кроз. — Новости еще работали. Много рассказывали про эпидемию, и мы сообразили, что сейчас не стоит выходить и брататься с народом. Мы заперлись в караульном помещении — там была еда.
— К сожалению, «золотые» оказались в будке охраны по другую сторону ворот. Мы все время боялись, что они нас пристукнут ночью, во сне.
— Мы спали по очереди, но ждать и ничего не делать было очень тяжело. Так что мы заставили их уйти, — сказал Кроз. — Шекки ночью залез через окно и перерезал подачу воды.
— Твою мать! — восхитилась Аманда. — Правда?
— И тогда им пришлось уйти, — сказал Оутс. — Потому что у них не было воды.
— Потом у нас кончилась еда, и нам тоже пришлось уйти, — сказал Шекки. — Мы боялись, что они устроят засаду, но оказалось, что нет. Ну и все.
Он пожал плечами.
— А почему вы сюда пришли? В «Чешуйки»? — спросила я.
Шекки ухмыльнулся.
— Это очень знаменитый клуб, — сказал он.
— Легендарный, — подхватил Кроз. — Хотя мы знали, что девочек тут уже не будет. Мы думали, хоть посмотрим, какой он из себя.
— Одна из трех вещей, которые обязан сделать каждый мужчина, — сказал Оутс. И зевнул.
— Пойдем, Оутик, — сказала Аманда. — Мы тебя уложим в постельку.
Мы отвели их наверх и засунули под душ в «липкой зоне», и они вышли оттуда гораздо чище, чем вошли. Мы дали им полотенца, чтобы вытереться, а потом уложили в постель — каждого в своей комнате.
Мне достался Оутс — я дала ему мыло и полотенце, а потом показала кровать. Я его ужасно давно не видела. Когда я ушла от вертоградарей, он был еще совсем маленький. Маленький паршивец, вечно бедокурил. Таким я его помнила. Но он и тогда был очень милый.
— Ты здорово вырос, — сказала я.
Он почти догнал Шекки по росту. Светлые волосы были мокрыми, как шерсть у собаки, которая только что плавала.
— Я всегда думал, что ты самая лучшая, — сказал он. — Я был в тебя ужасно влюблен, когда мне было восемь лет.
— Я не знала.
— Можно, я тебя поцелую? Не в сексуальном смысле.
— Ладно, — сказала я.
И он меня поцеловал, ужасно мило, возле носа.
— Ты такая хорошенькая, — сказал он. — Не снимай этот птичий костюм.
Он потрогал мои перышки — на попе. Потом смущенно улыбнулся. Эта улыбка напомнила мне Джимми — каким он был в самом начале, и у меня екнуло сердце. Но я осторожно вышла из комнаты.
В коридоре я шепнула Аманде:
— Можно их запереть.
— Это еще зачем?
— Они были в больболе.
— Ну и что?
— А то, что все больболисты чокнутые. Никогда заранее не скажешь, в какой момент они съедут с катушек. Кроме того, может быть, они заразные. Может, у них эта эпидемия.
— Мы их обнимали, — сказала Аманда. — Все, что было у них, теперь есть и у нас. И вообще они же из вертоградарей.
— И это значит?..
— Это значит, что они — друзья.
— Тогда они не были нам друзьями. Во всяком случае, не всегда.
— Расслабься, — сказала Аманда. — Мы с этими парнями кучу дел провернули вместе. С какой стати они будут делать нам плохо?
— Я не хочу быть мясной дыркой на общаке, — сказала я.
— Фу, как грубо. Мы не их должны бояться. А тех трех больболистов, которые были там с ними. Бланко — это не шуточки. Они наверняка где-то рядом. Я переодеваюсь в нормальную одежду.
Она уже сдирала костюм фламинго и натягивала хаки.
— Надо запереть парадный вход, — сказала я.
— Замок сломан.
Тут с улицы донеслись голоса. Люди пели и орали, как орали клиенты в «Чешуйках», когда были уже не просто пьяны. Пьяны в хлам и агрессивны. Послышался звон разбитого стекла.
Мы побежали в спальни и разбудили ребят. Они очень быстро оделись, и мы повели их к окну второго этажа, выходившему на улицу. Шекки прислушался, осторожно выглянул.
— О черт! — сказал он.
— Тут есть другая дверь? — шепотом спросил Кроз. Он весь побелел, несмотря на загар. — Смываемся. Быстро.
Мы спустились по задней лестнице и выскользнули из черного хода на задний двор, где стояли контейнеры углеводородного сырья для мусорнефти и другие для пустых бутылок. Мы слышали, как «золотые» громят «Чешуйки», уничтожая то, что еще не было уничтожено. Раздался оглушительный грохот и звон: должно быть, они опрокинули полки за баром.
Мы протиснулись через дырку в заборе, пробежали по пустырю до дальнего угла и свернули в проулок. Больболисты не могли нас видеть, но мне казалось, что могут: словно они умеют видеть сквозь кирпичные стены, как мутанты из телевизора.
Пробежав пару кварталов, мы перешли на шаг.
— Может, они не догадаются, — сказала я. — Что мы там были.
— Они узнают, — сказала Аманда. — По грязным тарелкам. По мокрым полотенцам. По кроватям. Если в кровати только что спали, это всегда видно.
— Они пойдут за нами, — сказал Кроз. — Даже не сомневайтесь.
61
Мы сворачивали и петляли по проулкам, чтобы запутать следы. Со следами была проблема — на улицах лежал слой пепельной грязи, — но Шекки сказал, что дождь смоет наши следы и вообще «золотые» — не собаки, они нас не учуют.
Это точно были они — трое больболистов, разгромивших «Чешуйки» в первую ночь Безводного потопа. Те, кто убил Мордиса. Они видели меня по интеркому. Потому и вернулись в «Чешуйки» — чтобы вскрыть «липкую зону», как устрицу, и достать меня. Они, должно быть, нашли инструменты. Может, и не сразу, но в конце концов у них получилось бы.
От этой мысли мне стало очень холодно, но я ничего не сказала остальным. У них и так забот хватало.
На улицах были кучи мусора — сгоревших и сломанных вещей. Не только машин и грузовиков. Много стекла. Шекки сказал, что в здания нужно заходить с оглядкой: они как раз были рядом с одним домом, когда он обрушился. Нужно держаться подальше от высотных зданий, потому что они, может быть, подточены пожаром, а если на тебя упадет стекло из окна, прощайся с головой. В лесу сейчас безопаснее, чем в городе. Хотя люди обычно считают наоборот.
Меня больше всего убивали повседневные мелочи. Чей-то старый дневник, слова на страницах полуразмыты. Шляпы. Туфли — это было хуже, чем шляпы, и еще хуже было, если туфли оказывались парными. Детские игрушки. Пустые коляски.
Город был похож на перевернутый и растоптанный кукольный домик. Из одного магазина длинным пестрым хвостом тянулись футболки. Они, как огромные тряпочные отпечатки ног, шли вдоль тротуара. Должно быть, кто-то разбил витрину и вломился в магазин, хотя совершенно непонятно, что он собирался делать с этими футболками. Из мебельного магазина выплеснулись на тротуар ножки стульев, подлокотники кресел и кожаные подушки. Потом был магазин оптики с серебряными и золотыми модными оправами — его не тронули, оправы никому не понадобились. Аптека — ее разорили полностью, видно, искали колеса для веселья. Кругом валялись пузырьки от «НегиПлюс». Я думала, «НегуПлюс» еще только испытывают, но, должно быть, в этой аптеке ею торговали по-черному.
Все время попадались узлы тряпья и костей. «Бывшие люди», — объяснил Кроз. Они были сухие и обгрызанные, но глазницы мне очень не нравились. И зубы — рот без губ выглядит гораздо хуже. А волосы были ужасные, как какие-то веревки, и отделялись от черепа. На разложение волос требуется много лет: мы это проходили по компостированию, у вертоградарей.
Мы не успели взять никакой еды из «Чешуек», так что зашли в супермаркет. Весь пол был завален мусором, но мы нашли пару упаковок «зиззи-фрут», несколько энергетических батончиков, а в другом месте оказался морозильник на солнечных батареях, который еще работал. В нем лежали соевые бобы, ягоды — их мы съели сразу — и мороженые секрет-бургеры, по шесть штук в коробке.
— Как мы их будем готовить? — спросил Оутс.
— Зажигалки, — ответил Шекки. — Видишь?
На прилавке стояла коробка с зажигалками в форме лягушек. Шекки попробовал одну: лягушка квакнула, и изо рта у нее вырвалось пламя.
— Возьми несколько штук, — сказала Аманда.
Мы уже были совсем рядом с Отстойником, а потому направились в старую «Велнесс-клинику», потому что это было знакомое место. Я надеялась, что там еще остались какие-нибудь вертоградари, но никого не оказалось. Мы устроили пикник в нашей бывшей классной комнате: развели костер из сломанных парт, но небольшой, потому что не хотели посылать дымовые сигналы больболистам. Все равно нам пришлось открыть окна, потому что мы ужасно кашляли. Мы поджарили секрет-бургеры и съели их и половину соевых бобов — эти мы не стали готовить. И выпили «зиззи-фрут». Оутс все время квакал зажигалкой-лягушкой, пока Аманда не велела ему перестать, потому что он зря тратит горючее.
Адреналин бегства к этому времени уже выветрился. Возвращение туда, где мы жили детьми, было грустным: не вся тогдашняя жизнь была приятна, но сейчас я ужасно тосковала по ней.
Я подумала: наверное, так я теперь и буду жить до самой смерти. Убегать, рыться в мусоре в поисках остатков еды, спать скрюченной на полу, становиться все грязнее и грязнее. Я пожалела, что у меня нет нормальной одежды: я по-прежнему была в костюме журавлина. Я хотела вернуться в тот магазин с футболками — может, там найдется что-нибудь не мокрое и не заплесневелое, но Шекки сказал, что это слишком опасно.
Я подумала, не заняться ли нам сексом: это было бы добрым и щедрым поступком. Но все ужасно устали и к тому же стеснялись друг друга. Все из-за помещения: хотя вертоградарей здесь больше не было, их дух еще витал в этих стенах, и очень трудно было отважиться на что-нибудь такое, чего они не одобрили бы, когда нам было по десять лет.
Мы уснули кучей, друг на друге, как щенята.
Наутро, когда мы проснулись, оказалось, что в дверном проеме стоит огромная свинья, смотрит на нас и нюхает воздух мокрым блестящим пятачком. Значит, она забрела в дверь и прошла коридор по всей длине. Увидев, что мы на нее смотрим, свинья повернулась и ушла. Может, она учуяла запах жарящихся бургеров, сказал Шекки. Он объяснил, что это особая генная модификация — Беззумные Аддамы о ней знали — и что у этой свиньи мозговые ткани человека.
— Ну да, — сказала Аманда. — И еще она разбирается в атомной физике. Не вешай нам лапшу на уши.
— Честно, — слегка обиделся Шекки.
— Жалко, у нас нет пистолета-распылителя, — сказал Кроз. — Давненько я не ел бекона.
— Ну-ка прекрати ругаться, — сказала я голосом Тоби, и все засмеялись.
Прежде чем уйти из «Велнесс-клиники», мы зашли в уксусную, чтобы посмотреть на нее в последний раз. Большие бочки стояли все там же, хотя кто-то порубил их топором. Пахло уксусом и еще туалетом: кто-то использовал в качестве туалета угол комнаты, причем не так давно. Дверца шкафа, где когда-то держали бутылки для уксуса, была приоткрыта. Бутылок там больше не было; остались только полки. Они висели под странным углом, и Аманда подошла к шкафу, взялась за край и потянула. Полки отъехали наружу.
— Глядите, — сказала она. — Тут еще целая комната!
Мы вошли. Большую часть комнаты занимал стол, окруженный стульями. Но интереснее всего, что в комнате был тюфяк, наподобие старых вертоградарских, и куча пустых контейнеров из-под еды: сойдин, кургороха, сушеных ягод годжи. В одном углу комнаты лежал сломанный ноутбук.
— Кто-то еще выжил, — сказал Шекки.
— Только не вертоградарь, — сказала я. — Раз у него был ноутбук.
— У Зеба был ноутбук, — сказал Кроз. — Но он ушел из вертоградарей.
Мы вышли из «Велнесс-клиники», не очень хорошо представляя себе, что делать дальше. Я сказала, что можно пойти в «НоваТы»: может быть, в Арарате, сделанном Тоби, еще осталась еда; Тоби сказала мне код от двери склада. И может быть, в огороде еще что-нибудь растет. Я даже надеялась, что, может быть, сама Тоби до сих пор прячется в «НоваТы», но не хотела возбуждать лишних надежд и про это ничего не сказала.
Мы думали, что ведем себя очень осторожно. Мы никого нигде не видели. Мы вошли в Парк Наследия и двинулись к западным воротам «НоваТы» по лесной тропе, под деревьями — нам казалось, что так нас меньше видно.
Мы шли цепочкой. Сначала Шекки, потом Кроз, потом Аманда, потом я; Оутс замыкал шествие. Потом у меня как-то похолодело внутри, я обернулась: Оутса там не было. Я сказала:
— Шекки!
И тут Аманда рванулась вбок, прочь с тропинки.
Потом все стало темно, словно пробиваешься через колючие заросли — все перепутано и болит. На земле валялись тела, и одно из них было мое, и, должно быть, именно в этот момент меня ударили.
Когда я очнулась, Шекки и Кроза и Оутса рядом не было. Но Аманда была.
Я не хочу думать о том, что было дальше.
Аманде пришлось хуже, чем мне.
День Хищника
День Хищника
Год двадцать пятый
Дорогие друзья, дорогие собратья-создания, дорогие собратья-смертные!
Когда-то давно мы праздновали День Хищника в нашем прекрасном саду на крыше «Райский утес». Наши Дети нацепляли уши и хвосты Хищников, сшитые из искусственного меха, а на закате мы зажигали свечи внутри Львов, Тигров и Медведей, сделанных из продырявленных жестяных банок, и горящие глаза этих Хищников освещали наш пир в честь Дня Хищника.
Но сегодня нам придется праздновать во внутренних Садах своих Душ. Нам повезло, что у нас есть хотя бы это, ибо Безводный потоп прокатился по нашему городу и даже по всей нашей планете. Большинство людей были застигнуты врасплох, но мы полагались на Духовное руководство. Или, выражаясь языком материалистов, мы смогли, увидев глобальную пандемию, понять, что это именно она.
Вознесем же хвалы за Арарат, который укрывал нас в последние месяцы. Будь у нас выбор, мы, быть может, выбрали бы какой-нибудь другой Арарат, а не этот, расположенный в погребах кондоминиума «Буэнависта», чрезмерно сырых еще во времена, когда здесь располагались грибные плантации Пилар, а ныне ставших еще сырее. Вознесем также хвалы за то, что множество наших собратьев-крыс пожертвовало нам свой белок, позволив нам еще некоторое время оставаться в сей земной юдоли. Нам повезло также, что Пилар построила Арарат именно в этом погребе, спрятав его за бетонным блоком, помеченным крохотной пчелкой. Провидение позаботилось о том, чтобы многие припасы сохранили свежесть. Но к сожалению, не все.
Однако ныне эти ресурсы истощены, и мы вынуждены уйти отсюда либо голодать. Будем же молиться о том, что Греховный мир отныне перестал быть таковым — что прокатившийся по нему Безводный потоп не только опустошил его, но и очистил и что мир ныне стал новым Эдемом. Или — если не стал — что вскорости станет. Во всяком случае, мы должны на это надеяться.
В День Хищника мы празднуем Бога не как любящего и нежного Отца или Мать, но Бога-Тигра. Или Бога-Льва. Или Бога-Медведя. Или Бога-Кабана. Или Бога-Волка. Или даже Бога-Акулу. Какой бы символ мы ни выбрали, День Хищника посвящен устрашающей внешности и непреодолимой силе, которые, ибо они нам по временам желанны, должны также принадлежать Богу, ибо всяк совершенный дар исходит свыше.
Бог как Создатель вложил часть Себя в каждое из Своих Созданий — да и могло ли быть иначе? — а посему Тигр, Лев, Волк, Медведь, Кабан и Акула — или, в более мелком масштабе, Куница и Богомол — по-своему отражают Божество. Человечество на протяжении своей истории это знало. На флагах и гербах оно изображало не безобидных жертв наподобие Кроликов и Мышей, но Животных, способных причинить смерть, и, когда люди призывают Бога на защиту, разве не к этим Его качествам они взывают?
Итак, в День Хищника мы должны сосредоточиться на тех аспектах Бога, которые делают его Главным Хищником. Это — внезапность и свирепость Божественного гнева, которого мы страшимся; это наша малость и боязливость — Мышеподобие, если можно так выразиться — перед лицом таковой Силы; это то, что мы испытываем, когда растворяемся как личности в ярком великолепии Его Света. Бог ходит в нежном рассветном Саду нашей Души, но также рыщет в ее ночных Лесах. Он не ручной Зверь, друзья мои; Он дикое Существо, и мы не можем подзывать Его к себе и командовать Им, как собакой.
И пускай человеческие существа убили последнего Тигра и последнего Льва; но мы бережно храним Их имена; и, произнося эти имена, мы слышим голос Бога, гремевший в момент их Творения. Должно быть, Господь сказал им: «О мои Плотоядные, я посылаю вас выполнять назначенное вам дело — сокращать численность ваших жертв, дабы не преумножились они чрез меру, не истощили свои пищевые ресурсы и не начали чахнуть и вымирать. Идите же! Скачите! Бросайтесь! Рычите! Рыскайте! Хватайте! Ибо Мне радостны ваши свирепые сердца, изумруды и опалы ваших глаз, ваши дивно сплетенные мышцы, ваши острые клыки и ятаганы когтей, коими Я Сам вас одарил. И Я даю вам Свое благословение, и объявляю, что вы хороши». Ибо они «просят у Бога пищу себе», как столь радостно повествует нам псалом 103.
Мы же, готовясь покинуть укрывший нас Арарат, зададим себе вопрос: кто более блажен, едомый или едящий? Бегущий или преследующий? Дающий или получающий? Ибо это, по сути своей, один и тот же вопрос. Возможно, вскоре этот вопрос перестанет быть для нас гипотетическим: мы не знаем, какие альфа-хищники рыщут за пределами нашего убежища. Помолимся же о том, что если нам и придется пожертвовать свой белок, вливаясь в круговорот, идущий от одного Создания к другому, чтобы мы осознавали священную природу происходящего. Мы не были бы людьми, если бы не предпочитали быть пожирающими, а не пожираемыми, но и то и другое — святая участь. Если вам придется отдать жизнь, будьте уверены — она потребуется для продолжения Жизни.
Воспоем же.
Куница, что добычу рвет
62
Тоби. День святой Нганеко Минхинник Манукауской
Год двадцать пятый
Закат красен, к дождю. Впрочем, дождь и так бывает каждый день.
Поднимается туман.
«У-удл-у-удл-у-у. У-удл-у-удл-у-у. Чиррап. Кварри-ип. Кар-кар-кар. Эи-эи-эи. Ху-у-ум-ху-ум-бару-ум».
Горлица, малиновка, ворона, сойка, жаба. Тоби называет их по именам, но для них самих эти имена ничего не значат. Скоро собственный язык выветрится у нее из головы, и ничего не останется, кроме этого утреннего хора. «У-удл-у-удл-у-у. Ху-ум-ху-ум». Беспрестанное повторение, песня без начала и конца. Ни вопросов, ни ответов. Больше дела — меньше слов. Вообще не надо слов. Или все это — одно огромное Слово?
Откуда вдруг эта идея взялась у нее в голове?
«Тоби-и-и-и!»
Словно кто-то зовет. Но это лишь птицы поют.
Тоби на крыше, готовит в утренней прохладе очередную порцию «сухопутных креветок». Не презирайте смиренную трапезу святого Юэлла, произносит голос Адама Первого. Господь посылает хлеб насущный, и иногда этот хлеб принимает форму «сухопутных креветок». Масса липидов, хороший источник белка. Отчего, ты думаешь, медведи такие толстые?
Из-за дыма и жара лучше готовить снаружи. Тоби пользуется печкой, вдохновленной идеями святого Юэлла, — такие бывают у бродяг: большая жестянка из-под «масла для тела», внизу дырка для топлива (сухих палок) и тяги, сбоку — для дыма. Максимум тепла при минимальном расходе топлива. Ровно столько, сколько нужно. «Сухопутные креветки» шипят на верхней стороне жестянки.
Вдруг вороны поднимают базар: их что-то насторожило. Это не тревожный сигнал — значит, не сова. Больше похоже на удивление: «Кар! Кар! Смотрите! Смотрите!»
Тоби соскребает поджаренных «сухопутных креветок» с крышки жестянки на тарелку — зря расходовать пищу означает зря расходовать жизнь, так учил Адам Первый, — заливает огонь дождевой водой из горшка и бросается плашмя на крышу. Смотрит в бинокль. Вороны кружатся над вершинами деревьев. Стая — шесть или семь. «Кар! Кар! Смотрите! Смотрите!»
Из-за деревьев выходят двое мужчин. Они не поют, не голые и не синие: они одеты.
Остались еще люди, думает Тоби. Живые. Может, один из них — Зеб, пришел ее искать? Догадался, что она еще здесь, забаррикадировалась и держится. Она смаргивает; неужели это слезы? Ей хочется сбежать по ступенькам, выскочить на открытый луг, радостно протянуть руки, засмеяться от счастья. Но осторожность берет верх, Тоби скрючивается за трубой от кондиционера и вглядывается вниз через ограждение крыши.
Может, это обман чувств? Вдруг у нее опять галлюцинации?
Мужчины одеты в камуфляж. Идущий впереди чем-то вооружен — может быть, пистолетом-распылителем. Точно не Зеб: другой тип фигуры. Ни один из них не Зеб. С ними кто-то третий: мужчина или женщина? Высокий, одетый в хаки. Голова свисает на грудь: трудно определить пол. Руки сложены впереди, словно в молитве. Один из мужчин поддерживает этого человека за руку или локоть. То ли тащит, то ли толкает.
Потом из теней появляется еще один мужчина. Он ведет на поводке — нет, на веревке — огромную птицу в сине-зеленых перьях, вроде журавлиновых. Но у птицы голова женщины.
Должно быть, у меня опять глюки, думает Тоби. Потому что на такое даже генные инженеры не способны. Мужчины и женщина-птица выглядят вполне настоящими, но с галлюцинациями всегда так.
Один мужчина что-то несет, перекинув через плечо. Сначала Тоби кажется, что это мешок, но нет, это чей-то окорок. Покрытый кудрявыми завитками. Золотыми. Неужели львагнец? Дрожь ужаса пробегает по телу Тоби: святотатство! Они убили Животное из списка Тысячелетнего Царства.
Думай как следует, одергивает себя Тоби. Во-первых, с каких это пор ты заделалась фанатичной исаианкой, сторонницей доктрины Тысячелетнего Царства? Во-вторых, если эти мужчины настоящие, а не продукт воспаленного мозга, они убивают. Убивают и расчленяют крупных Созданий, а это значит, что у них есть смертоносное оружие и они начинают с самого верха пищевой цепочки. Они опасны, они ни перед чем не остановятся, и я должна застрелить их, прежде чем они доберутся до меня. Тогда я смогу освободить эту птицу, или что она там такое, пока они и ее не убили.
Тем более если они — мираж, то не страшно, что я буду в них стрелять. Они просто рассеются, как дым.
Тут мужчина, ведущий женщину-птицу, поднимает голову. Он, должно быть, видит Тоби, потому что начинает кричать и размахивать свободной рукой. Другие двое смотрят, куда он указывает, переходят на бег трусцой и сворачивают по направлению к салону красоты. Птицеобразному созданию приходится бежать за ними, из-за веревки, и теперь Тоби видит, что перья — какой-то костюм. Это женщина. Крыльев нет. На шее петля.
Значит, это не галлюцинация. Они настоящие. Настоящее зло.
Тоби находит мужчину с ножом в прицеле карабина и стреляет. Мужчина, шатаясь, отступает назад, кричит и падает. Но у Тоби не очень хорошая реакция — она стреляет еще пару раз, но в других двух мужчин не попадает.
Раненый уже поднялся на ноги, и все трое бегут к лесу. Птица-женщина бежит с ними. Не по своей воле, а из-за веревки. Потом падает и скрывается в сорняках.
Перед остальными вздымается зеленый полог леса, проглатывает их. Исчезли. Все. Тоби не может определить, где упала та женщина: сорняки слишком высокие. Может, выйти и поискать ее? Нет. Вдруг это засада. Тогда их будет трое против нее одной.
Тоби долго смотрит с крыши. Вороны, должно быть, летят за ними — за мужчинами и существом в хаки. «Кар! Кар! Кар! Кар!» — звуковой след истончается вдали.
Вернутся ли они? Вернутся, думает Тоби. Они знают, что я здесь, и догадаются, что у меня есть еда, иначе я бы не протянула так долго. Кроме того, я подстрелила одного из них; они захотят отомстить, это свойственно людям. Они, должно быть, мстительны, как свиньи. Но они не скоро вернутся: знают, что у меня есть ружье. Им придется составлять план.
63
Тоби. День святого Уэн Бо
Год двадцать пятый
Никаких мужчин. Ни свиней. Ни львагнцев. Ни птицы-женщины. Может, я потеряла рассудок, думает Тоби. Оставила где-нибудь и забыла где.
Сейчас время водных процедур. Тоби на крыше. Она выливает дождевую воду из разномастных мисок и кастрюль в один большой таз и намыливается: только лицо и шею; она не рискует мыться полностью, чтобы не поставить себя в уязвимое положение — мало ли кто может подглядывать? Тоби как раз смывает мыльную пену, когда слышит вороний базар, где-то рядом. «Карр! Карр! Карр!» На этот раз они как будто смеются.
«Тоби! Тоби! Помоги!»
Кто-то меня звал? — думает Тоби. Она перегибается через ограждение и ничего не видит. Но голос слышится снова, совсем рядом со зданием. Может, это ловушка? Женщина ее зовет, а на горле женщины рука мужчины, нож приставлен к артерии? «Тоби! Это я! Помоги!»
Тоби вытирается полотенцем, надевает накидку, вешает на плечо карабин и спускается по лестнице. Открывает дверь: никого. Но голос слышится снова, очень близко. «Помоги! Пожалуйста!»
За левым углом: никого. За правым: опять никого. Тоби подходит к калитке огорода, когда женщина появляется из-за угла. Она хромает, худая, избитая; длинные волосы, свалявшиеся от грязи и запекшейся крови, закрывают лицо. На женщине биопленка с блестками и мокрыми, свалявшимися голубыми перьями.
Птица-женщина. Какая-то уродка из секс-цирка для извращенцев. Наверняка заразна, ходячая чума. Тоби думает: стоит ей меня коснуться, и я покойница.
— Пошла вон! — кричит она. Пятится, прижимаясь спиной к забору огорода. — Иди нахуй отсюда!
Женщина шатается. У нее на ноге глубокий порез, а голые руки исцарапаны и кровоточат: должно быть, бежала через колючие кусты. Тоби не может думать ни о чем, кроме этой свежей крови: как она кишит микробами и вирусами.
— Пошла прочь! Вали отсюда!
— Я не больна, — говорит женщина.
Она плачет. Но все они, все отчаявшиеся люди так говорили. Умоляя, протягивая руки за помощью, за утешением. А потом превращались в розовую кашу. Тоби видела с крыши.
«Это будут утопающие. Не позволяйте им вцепиться в вас. Вы не должны стать для них последней соломинкой», — учил Адам Первый.
Ружье. Тоби возится с ремнем: он запутался в накидке. Как отогнать это ходячее гноище? Крик без оружия бесполезен. Может, пристукнуть ее камнем по башке, думает Тоби. Но камня под рукой нет. Хорошенько заехать ногой в солнечное сплетение, потом помыть ноги.
«Ты — немилосердный человек, — произносит голос Нуэлы. — Ты презрела Божье Создание, ибо разве Люди — не Божьи Создания?»
Из-под войлока свалявшихся волос женщина умоляет:
— Тоби! Это я!
Она теряет силы и падает на колени. Тут Тоби видит, что это Рен. Под всей этой грязью и загаженными блестками — всего лишь малютка Рен.
64
Тоби втаскивает Рен в здание и укладывает на пол, чтобы запереть дверь. Рен все еще истерически плачет, задыхаясь и давясь рыданиями.
— Ничего, ничего, — говорит Тоби.
Она подхватывает Рен под мышки, поднимает, и они тащатся по коридору к одному из косметических кабинетов. Рен висит мертвым грузом, но она не очень тяжелая, и Тоби удается втащить ее на массажный стол. Рен пахнет потом, и землей, и немного запекшейся кровью, и еще — разложением.
— Лежи, не двигайся, — говорит Тоби.
Предостережение напрасно: Рен никуда не думает идти.
Она лежит с закрытыми глазами, откинувшись на розовую подушку. Вокруг одного глаза синяк. Надо приложить «НоваТы — успокаивающие подушечки для глаз с алоэ и двойной арникой», думает Тоби. Она разрывает пакет и накладывает подушечки, потом накрывает Рен розовой простыней и подтыкает по краям, чтобы Рен не свалилась со стола. У нее порез на лбу и другой на щеке: ничего серьезного, с этим можно разобраться потом.
Тоби идет на кухню, кипятит воду в чайнике Келли.[21] Наверняка у Рен обезвоживание. Тоби наливает в чашку горячей воды, добавляет немного драгоценного меда и щепотку соли. Чуточку сухого зеленого лука из тающих запасов. Тоби несет чашку в кабинет, где лежит Рен, снимает с ее глаз подушечки и помогает сесть.
Глаза Рен кажутся огромными на худом, избитом лице.
— Я не больна, — говорит она, но это неправда: она горит в лихорадке.
Но болезни бывают разные. Тоби проверяет, нет ли симптомов: нет, ни крови, сочащейся из пор, ни пены. Но все же Рен может быть носительницей, ходячим инкубатором: в этом случае Тоби уже заразилась.
— Постарайся выпить, — говорит Тоби.
— Не могу, — отвечает Рен. Но ей все же удается проглотить немного воды. — Где Аманда? Мне нужно одеться.
— Все в порядке, — говорит Тоби. — Аманда тут недалеко. А сейчас постарайся поспать.
Тоби помогает Рен снова опуститься на подушку. Значит, Аманда и в этом как-то замешана, думает Тоби. Всегда так было: где эта девчонка, там жди беды.
— Я ничего не вижу, — говорит Рен. Она вся дрожит.
Тоби возвращается на кухню и выливает остатки теплой воды в тазик: нужно снять измочаленные перья и блестки. Тоби несет тазик, ножницы, мыло и стопку розовых полотенец в комнату Рен, отгибает край простыни и начинает срезать запачканный наряд. Под перьями оказывается не ткань, а что-то другое. Оно растягивается. Почти как кожа. Там, где наряд прилип, Тоби его отмачивает, чтоб легче отделялся. В паху вырван кусок. Ужас, думает Тоби, жуткое зрелище. Надо будет сделать компресс.
На шее потертости — несомненно, следы веревки. Гноится, как оказалось, глубокий порез на левой ноге. Тоби очень осторожна, но Рен морщится и кричит.
— Больно, как еб твою мать! — говорит она. Потом ее тошнит выпитой водой.
Смыв с тела грязь, Тоби начинает промывать рану.
— Как это случилось? — спрашивает она.
— Не знаю, — шепчет Рен. — Я упала.
Тоби промывает порез и мажет его медом. В меде — природные антибиотики, говаривала Пилар. Где-то в салоне красоты должна быть аптечка.
— Лежи спокойно. Ты же не хочешь, чтоб у тебя началась гангрена.
Рен хихикает.
— Тук-тук, — говорит она. — Ганг. Рена.
Наконец грязный костюм содран, Рен вымыта губкой.
— Я дам тебе отвара Ивы с Ромашкой, — говорит Тоби. И Мака, думает она. — Тебе нужно поспать.
Тоби думает, что Рен лучше лежать на полу, чем на столе. Она устраивает гнездо из розовых полотенец, осторожно укладывает туда Рен и добавляет пару лишних полотенец, потому что Рен не дойдет до туалета, слишком слаба. Она горячая, как печка.
Тоби приносит отвар Ивы в стаканчике. Рен глотает, двигая горлом, как птичка. Ее не тошнит.
Опарышей пока рано использовать. Для этого Рен должна быть в сознании и слушаться приказов, например — не чесаться. Первым делом надо сбить ей температуру.
Пока Рен спит, Тоби роется в запасе сухих грибов. Выбирает те, что укрепляют иммунитет: рейши, майтаки, шиитаки, трутовик березовый, трутовик настоящий, чжу линь, ежовик, кордицепс. Заливает кипятком, чтобы разбухли. Потом, после обеда, готовит грибной эликсир — варит на слабом огне, процеживает, остужает — и дает Рен тридцать капель.
В комнатке воняет. Тоби приподнимает Рен, перекатывает на бок, вытягивает из-под нее грязные полотенца, вытирает ее. Все это она делает в резиновых перчатках: если у Рен дизентерия, Тоби совершенно не хочет ее подхватить. Тоби ровненько расстилает чистые полотенца и перекатывает Рен обратно. Руки Рен болтаются, голова безвольно свисает; она что-то бормочет про себя.
Ну и работенка предстоит, думает Тоби. А когда Рен оправится — если оправится, — на запас еды будут претендовать два человека вместо одного. Значит, еды хватит на вдвое меньший срок. Того, что осталось. А осталось не так много.
Может, лихорадка победит. И Рен умрет во сне.
Тоби думает о порошке из «Ангелов Смерти». Много не понадобится. Рен так слаба, что хватит самой малости. Прекратить ее мучения. Помочь ей упорхнуть на белоснежных крыльях. Может быть, так будет милосерднее. Блаженнее.
Я недостойный человек, думает Тоби. И как такое только в голову придет. Ты знала эту девушку еще ребенком, она пришла к тебе за помощью, она имеет полное право тебе доверять. Адам Первый сказал бы, что Рен — драгоценный дар, посланный Тоби, чтобы дать ей возможность проявить самоотверженность и заботу о других, высшие качества, которые так старались воспитать в ней вертоградари. Сейчас, в данный момент, Тоби как-то сложно принять такой взгляд на вещи. Но придется приложить усилия.
Рен вздыхает, стонет, машет руками. Ей снится что-то плохое.
Темнеет. Тоби зажигает свечу, садится рядом с Рен и слушает ее дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. Пауза. Вдох. Затем выдох. Ритм рваный. Время от времени Тоби щупает лоб девушки. Кажется, жар чуть-чуть спал? Где-то в здании есть термометр. Утром Тоби его поищет. Она считает пульс Рен: слабый, неровный.
Тоби задремывает в кресле и в следующий, как ей кажется, момент просыпается в темноте, пахнущей горелым. Она включает заводной фонарик: свеча упала, и уголок розовой простыни Рен тлеет. К счастью, простыня оказывается мокрой.
Какая чудовищная глупость, думает Тоби. Больше никаких свечей. Только когда у меня сна ни в одном глазу.
65
Тоби. День святого Махатмы Ганди
Год двадцать пятый
Утром Рен на ощупь прохладнее. Пульс окреп, и она даже может сама удержать двумя дрожащими руками чашку теплой воды. Сегодня Тоби кроме меда и соли положила туда мяту.
Как только Рен снова засыпает, Тоби утаскивает грязные простыни и полотенца на крышу, чтобы постирать. Она взяла с собой бинокль, и, пока белье отмокает, Тоби озирает окрестности салона.
Свиньи — вдали, в юго-западной части луга. Две париковцы, голубая и серебряная, тихо пасутся рядышком. Львагнцев не видно. Где-то лают собаки. Над местом погребения свиньи хлопают крыльями грифы.
— Пошли вон, археологи, — говорит Тоби.
У нее в голове какая-то легкость, почти головокружение — ей хочется шутить. Три огромные розовые бабочки порхают вокруг ее головы, приземляются на мокрые простыни. Может быть, они думают, что нашли самую большую розовую бабочку. Может, это любовь. Бабочки развернули тоненькие хоботки, лижут простыню. Значит, не любовь. А соль.
«Друзья мои, — говорил Адам Первый, — кое-кто утверждает, что Любовь — лишь химические процессы. Разумеется, это химические процессы: где были бы мы все без химии? Но Наука — лишь один из способов описывать мир. Другой способ описать его — это сказать: где были бы мы все без Любви?»
Милый Адам Первый, думает Тоби. Он, должно быть, умер. И Зеб тоже умер, что бы я там себе ни воображала. Хотя, может быть, и нет: ведь если я жива — и, что еще важней, если Рен жива, — значит, кто угодно мог выжить.
Она перестала слушать заводное радио много месяцев назад, потому что тишина приводила ее в отчаяние. Но то, что она никого не слышала, не значит, что там никого нет. Это один из доводов, которыми пользовался Адам Первый для доказательства существования Бога.
Тоби промывает инфицированную рану на ноге Рен и добавляет еще меду. Рен немножко поела и попила. Еще грибного эликсира, еще отвара Ивы. Тоби долго ищет и наконец находит аптечку первой помощи; там лежит тюбик мази с антибиотиками, но срок годности истек. Термометра нет. Кто заказывал эту дрянь? — думает Тоби. Ах да. Я.
Впрочем, опарыши все равно лучше.
Вечером она берет опарышей из контейнера, промывает теплой водой. Перекладывает на марлю из аптечки, накрывает другим слоем марли и пластырем прибинтовывает конверт с опарышами к ране. Они скоро проедят марлю: они знают, чего им хочется.
— Будет щекотно, — предупреждает она. — Но они тебе помогут. Старайся не двигать ногой.
— Кто они? — спрашивает Рен.
— Твои друзья, — говорит Тоби. — Но тебе не обязательно туда смотреть.
Убийственный порыв, овладевший Тоби накануне ночью, уже прошел. Она не потащит труп Рен на лужайку, на съедение свиньям и грифам. Теперь она хочет уберечь, исцелить ее. Ибо разве это не чудо, что Рен здесь? Что она пережила Безводный потоп лишь с небольшими повреждениями? Ну, с относительно небольшими. Достаточно было второму человеку — пускай слабому, больному, постоянно спящему — появиться в салоне красоты, чтобы он из дома с привидениями превратился в уютное, домашнее жилище.
Это я была привидением, думает Тоби.
66
Тоби. День святого Анри Фабра, святой Анны Аткинс, святого Тима Флэннери, святого Ичиды, святого Дэвида Судзуки, святого Питера Маттисена
Год двадцать пятый
Опарышам хватает трех дней, чтобы очистить рану. Тоби тщательно следит за ними: если кончится отмершая ткань, они начнут питаться живой плотью.
Ко второму утру жар у Рен спадает, хотя Тоби все равно продолжает давать ей грибной эликсир, на всякий случай. Рен теперь ест больше. Тоби помогает ей взобраться на крышу и сажает на скамью из пластмассы под дерево, в первых лучах утреннего солнца. Опарыши боятся света — он загоняет их в самые глубокие уголки раны, где им и следует быть.
На лугу ничто не движется. Из леса не доносится ни звука. Тоби пытается узнать у Рен, где та была, когда пришел потоп, и как ей удалось спастись, и как она попала сюда, и почему была одета в голубые перья; но пытается только однажды, потому что Рен начинает плакать. Она говорит только одно:
— Я потеряла Аманду!
— Ничего, — успокаивает Тоби. — Мы ее найдем.
На четвертое утро Тоби снимает пластырь с опарышами; рана чистая и заживает.
— Теперь надо вернуть тонус мышцам, — говорит Тоби.
Рен начинает ходить: вверх-вниз по лестнице, по коридорам. Она чуточку прибавила в весе: Тоби скормила ей последние остатки маски для лица «НоваТы — Лимонные меренги» — там куча сахара и ничего особенно ядовитого. Рен под руководством Тоби проделывает кое-какие упражнения из курса «Предотвращение кровопролития в городе», который когда-то преподавал Зеб, — «сацума», «унаги». Сконцентрируйся вокруг своей сердцевины, как Плод. Будь гибким, как Угорь. Тоби и самой нелишне было все это повторить: она совсем растренирована.
Через несколько дней Рен рассказывает свою историю — по крайней мере, частично. Она словно выплевывает сгустки слов, а в промежутках сидит, тупо глядя в одну точку. Она рассказывает, как сидела запертая в «Чешуйках» и как Аманда добралась из Висконсинской пустыни и вычислила код замка. Потом откуда ни возьмись появились Шекки, Кроз и Оутс, как в сказке, и Рен была ужасно рада — они спаслись, потому что, когда вспыхнула эпидемия, оказались в больболе. Но потом в «Чешуйки» явились три ужасных больболиста из «золотой» команды, и Рен, Аманда и мальчики убежали. Рен говорит, что предложила идти в «НоваТы», потому что Тоби могла быть еще там, и они почти добрались — они шли через лес, и тут все погасло. На этом ее рассказ начинает буксовать.
— Как они выглядели? У них были… — Тоби хочет сказать «особые приметы», но Рен мотает головой, показывая, что вопрос закрыт.
— Я должна найти Аманду, — говорит она, вытирая слезы. — Правда должна. Они ее убьют.
— Ну-ка вытри нос, — говорит Тоби, протягивая ей розовое полотенце для лица. — Аманда очень умная.
Лучше всего говорить так, словно Аманда еще жива.
— И очень находчивая. Она выкрутится.
Тоби собирается сказать, что женщин сейчас мало, а потому Аманду, конечно же, сохранят и будут раздавать строго по талонам, но решает, что лучше не надо.
— Ты не понимаешь, — говорит Рен и плачет еще сильнее. — Их трое, они из больбола — они настоящие нелюди. Я должна ее найти.
— Ну, мы ее поищем, — говорит Тоби, чтобы успокоить Рен. — Но мы не знаем, куда они… куда она могла деться.
— А куда бы ты пошла? — спрашивает Рен. — На их месте?
— Может быть, на восток, — говорит Тоби. — К морю. Где можно ловить рыбу.
— Мы можем туда пойти.
— Когда ты окрепнешь, — говорит Тоби. Им все равно придется отсюда уйти: запас еды тает на глазах.
— Я уже достаточно окрепла, — говорит Рен.
Тоби прочесывает огород и находит еще одну одинокую луковицу. На ближнем конце луга она выкапывает три корня лопуха и немного корней сныти — длинных белых корневищ, прародителей морковки.
— Как ты думаешь, ты сможешь есть кролика? — спрашивает она у Рен. — Если я его очень мелко нарежу и сварю суп?
— Наверное, — отвечает Рен. — Я постараюсь.
Сама Тоби уже почти готова переквалифицироваться в плотоядное. Конечно, звук винтовки может привлечь врагов, но если больболисты еще бродят где-то в этом лесу, они уже знают, что у нее есть ружье. Нелишне им об этом напомнить.
У бассейна часто бегают зеленые кролики. Тоби стреляет в одного с крыши, но, кажется, не попадает. Может, совесть сбивает ей прицел? Может, нужна цель покрупнее — олень или собака? Свиней Тоби давно не видела и овец тоже. Стоило собраться их есть, как они исчезли.
Тоби обнаруживает рюкзаки на полке в бывшей прачечной. Она не бывала здесь с тех пор, как перестали работать насосы, и в помещении стоит густой запах плесени. Хорошо, что рюкзаки не из хлопка, а из непроницаемой синтетики. Тоби несет их на крышу, протирает губкой и оставляет сушиться на жарком солнце. Она раскладывает все припасы на кухонном столе. Не следует брать с собой слишком тяжелый груз, иначе все, что съешь, уйдет на его переноску, говорит голос Зеба. Инструменты важнее еды. А главный инструмент — твой мозг.
Конечно, карабин. Патроны. Лопата — выкапывать корни. Спички. Зажигалка для барбекю, ее надолго не хватит, но раз уж есть, можно ею и воспользоваться. Перочинный нож с ножницами и пинцетом. Веревка. Две полиэтиленовые накидки на случай дождя. Заводной фонарик. Марлевые бинты. Изолента. Пластиковые контейнеры с закрывающимися крышками. Матерчатый мешок для съедобных диких растений. Котелок — готовить. Чайник Келли. Туалетная бумага — роскошь, но Тоби не в силах устоять. Две средние бутылки «зиззи-фрут» из мини-бара салона красоты: пустые калории, но все же калории. А бутылки потом можно будет использовать для воды. Ложки, металлические, две. Кружки, пластмассовые, две. Остаток крема от солнца. Последний репеллент от насекомых. Бинокль: тяжелый, но незаменимый. Ручка от щетки. Сахар. Соль. Последний мед. Последние энергетические батончики. Последние соевые гранулы. Маковый сироп. Сушеные грибы. Ангелы Смерти.
За день до ухода Тоби коротко стрижется. Теперь у нее ободранный вид — какая-то Жанна д’Арк в неудачный день, — но в рукопашной схватке за волосы очень удобно хватать, чтобы перерезать глотку, а Тоби не хочет предоставлять гипотетическому противнику лишний шанс. Она и Рен подстригает. Объясняет, что так будет прохладнее в жару.
— Нужно похоронить волосы, — говорит Рен. Почему-то ей неприятно на них смотреть.
— Может, оставим их на крыше? — предлагает Тоби. — Тогда птицы смогут вить из них гнезда.
Тоби не собирается тратить драгоценные калории на копание могилы для волос.
— А, ну хорошо, — говорит Рен. Эта идея ей вроде бы нравится.
67
Тоби. День святого мученика Чико Мендеса
Год двадцать пятый
Они покидают салон красоты незадолго до рассвета. На них розовые хлопковые тренировочные костюмы: свободные брюки и футболки с губками, сложенными для поцелуя, и подмигивающим глазом. Розовые холщовые спортивные тапочки, в которых дамы когда-то прыгали через веревочку и занимались на тренажерах. Широкополые розовые шляпы. От них пахнет «СуперД» и прогорклым кремом «СолнцуНет». В рюкзаках лежат розовые накидки с капюшонами — прикрываться от солнца, когда оно станет в зенит. Если б только все это не было такое розовое, думает Тоби. Словно младенческие распашонки или наряды для детских праздников. Совсем неподходящий цвет для искателей приключений. А уж для камуфляжа — хуже не придумаешь.
Тоби знает, что положение серьезное, как когда-то выражались в новостях. Конечно, это так. Но она все равно бодра, ей даже хочется хихикать. Будто навеселе. Будто они отправляются всего лишь на пикник. Должно быть, это выброс адреналина.
Небо на востоке светлеет; от деревьев поднимается туман. Роса блестит на кустах люмироз, отражая слабое зловещее свечение лепестков. Аромат цветущего луга пропитывает все кругом. Птицы начинают шевелиться и петь; грифы на голых ветвях расправляют крылья для просушки. Журавлин, хлопая крыльями, летит к ним с юга, парит над лужайкой, пикирует и приводняется в зацветшем бассейне.
Тоби приходит в голову, что она, может быть, никогда больше не увидит этот пейзаж. Удивительно, как душа цепляется за все знакомое с криком: «Мое! Мое!» Была ли Тоби счастлива во время заточения в «НоваТы»? Нет. Но теперь это ее территория; она пометила ее всю чешуйками отмершей кожи. Мышь поняла бы: это ее гнездо. «Время поет „Прощай“», как любил повторять Адам Первый.
Где-то лают собаки. В прошедшие месяцы Тоби иногда слышала их, но сейчас лай, кажется, приблизился. Тоби это не очень нравится. Собак сейчас некому кормить, и они, без сомнения, одичали.
До ухода она залезла на крышу, осмотрела поля. Ни свиней, ни париковец, ни львагнцев. Во всяком случае, не видно. Как мало я отсюда видела, думает Тоби. Луг, подъездная дорожка, бассейн, огород. Опушка леса. Ей не хочется туда идти, входить под деревья. Зеб в свое время говорил: может, природа и тупа, как мешок молотков, но она точно умнее вас.
Тоби мысленно обращается к лесу, ко всем свиньям и львагнцам, что в нем скрываются. Смотрите у меня, думает она. Не доводите меня до крайности. Да, я вся в розовеньком, но у меня есть карабин. И пули. Дальнобойность у него лучше, чем у пистолета-распылителя. Так что прочь с дороги, сволочи.
Территория салона и лес, который к ней относится, отделены от окружающего парка изгородью из металлической сетки и колючей проволоки под током. Хотя электричество сейчас не работает. Четыре въезда — восточный, западный, северный и южный, их соединяют извилистые дороги. Тоби планирует провести ночь в восточной сторожке. До нее не слишком далеко, и Рен сможет отдохнуть: она еще недостаточно окрепла для героических переходов. А на следующее утро они начнут постепенно пробираться к морю.
Рен все еще верит, что они найдут Аманду. Найдут, Тоби застрелит «золотых» больболистов из карабина, а потом Шеклтон, Крозье и Оутс появятся оттуда, где они все это время прятались. Рен еще не полностью оправилась. Она ждет, чтобы Тоби все исправила и вылечила, словно она сама еще ребенок, а Тоби — до сих пор Ева Шестая, наделенная магическими силами взрослой.
Они проходят мимо разбитого розового фургончика и за поворотом дороги натыкаются на две другие машины — солнцекар и джип, пожиратель мусорнефти. Судя по тому, что останки обуглены, обе машины сгорели. К запаху гари примешивается другой, ржавый и сладковатый.
— Не заглядывай внутрь, — говорит Тоби, когда они проходят мимо.
— Ничего, — говорит Рен. — Я видела много такого в плебсвиллях, когда мы пробирались сюда из «Чешуек».
Дальше на дороге лежит спаниель, он умер недавно. Кто-то вспорол ему живот: разбросанные загогулины кишок, вокруг жужжат мухи, грифов пока не видно. Кто бы это ни был, он наверняка сюда вернется: хищники не бросают добычу просто так. Тоби вглядывается в придорожные кусты: лианы растут почти на глазах, закрывая обзор. Какая огромная масса кудзу.
— Давай прибавим шагу, — говорит Тоби.
Но Рен не может прибавить шагу. Она устала, ее рюкзак слишком тяжел.
— Я, кажется, мозоль натерла, — говорит она.
Они останавливаются под деревом попить «зиззи-фрут». Тоби не может избавиться от мысли, что кто-то притаился в ветвях, выжидая удобного момента, чтобы прыгнуть. Умеют ли львагнцы лазить по деревьям? Тоби заставляет себя замедлить шаг, дышать глубже, не торопиться.
— Давай посмотрим, — говорит она Рен.
Мозоль еще только намечается. Тоби отрывает полосу от своей накидки и обматывает ступню Рен. Солнце стоит на десяти часах. Они надевают накидки, Тоби снова мажет лицо себе и Рен кремом от солнца и опрыскивает себя и ее репеллентом.
Не успевают они дойти до следующего поворота, как Рен начинает хромать.
— Срежем путь по лугу, — говорит Тоби. — Так ближе.
День святой Рейчел и всех Птиц
День святой Рейчел и всех Птиц
Год двадцать пятый
Дорогие друзья, дорогие собратья-создания и собратья-смертные!
Сколь радостен для нас сей преображенный мир, в коем мы оказались! Да, мы испытываем некоторое… но не будем говорить «разочарование». Мусор, оставленный Безводным потопом, непривлекателен, как и любой мусор, оставленный любым другим потопом. Наш вымечтанный Эдем возникнет далеко не сразу.
Но какое счастье выпало нам — видеть первые, драгоценные моменты Возрождения Природы! Насколько чище стал воздух, когда человек прекратил загрязнять атмосферу! Для нас дышать этим свежеочищенным воздухом — то же, что для Птиц дышать воздухом заоблачной выси. Какую легкость, эфирность должны они ощущать, взмывая над деревьями! Ибо много лет Птицы служили символом свободы Духа, в противовес тяжелому бремени Материи. И не является ли Голубь символом Святого Духа, всепрощающего, принимающего?
Именно в этом Духе мы приветствуем среди нас трех собратьев-смертных, новых спутников — Мелинду, Даррена и Куилла. Они чудесным образом спаслись от Безводного потопа, ибо Провидение поместило их туда, где не было людей: Мелинду — в высокогорную клинику йоги и похудания, Даррена — в больничный изолятор, Куилла — в место одиночного заключения. Мы возносим хвалы за то, что эти трое, по-видимому, не соприкоснулись с вирусом. Хоть они и не нашей веры — или уже не нашей веры, в случае с Куиллом и Мелиндой, — они наши собратья-создания; и мы рады помочь им в эти времена тяжких испытаний.
Мы также благодарны за сие временное пристанище, которое, хоть и является бывшей франшизой «Благочашки», укрыло нас от палящего солнца и свирепой бури. Благодаря искусству Стюарта, в особенности его умению обращаться с зубилами, мы проникли в складское помещение, получив таким образом доступ ко многим продуктам «Благочашки»: сухому заменителю молока, ванильному сиропу, смеси моккачино и порционным пакетикам сахара, как рафинированного, так и коричневого. Вам всем известно мое мнение о продуктах из рафинированного сахара, но бывают времена, когда правила приходится слегка изменять. Поблагодарим Нуэлу, нашу непобедимую Еву Девятую, за искусство, с которым она приготовила для нас бодрящий напиток.
В этот день мы вспоминаем, что деятельность корпорации «Благочашка» находилась в прямом противоречии с принципами святой Рейчел. Выращенный на солнце, опрысканный пестицидами кофе этой корпорации был величайшей угрозой для пернатых Божьих Созданий в наше время, подобно тому как ДДТ был для них величайшей угрозой во времена святой Рейчел Карсон. Именно движимые духом святой Рейчел, некоторые из наиболее радикальных бывших наших единоверцев присоединились к воинственной кампании против «Благочашки». Другие группы протестовали против плохого обращения «Благочашки» с работниками на местах, а бывшие вертоградари — против ее плохого обращения с Птицами. Мы не можем согласиться с их насильственными методами, но хвалим их намерения.
Святая Рейчел отдала свою жизнь защите Пернатых, а следовательно, благосостоянию всей нашей Планеты. Ибо если Птицы чахнут и умирают, не указывает ли это на растущую хворь самой Жизни? Вообразите скорбь Господа, глядящего на страдания Его самых изысканных и музыкальных Созданий!
Святую Рейчел при жизни преследовали влиятельные химические корпорации. Они порочили и хулили ее за то, что она говорила правду, но ее дело в конце концов победило. К несчастью, кампания против «Благочашки» не была столь же успешна. Но эту проблему решили Высшие Силы: «Благочашка» не пережила Безводного потопа. Как говорит Человеческое Слово Господа в Книге Исаии, глава 34, «будет от рода в род оставаться опустелою… и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней… будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут собираться один к другому».
И сие сбылось. В эту самую минуту, друзья мои, тропические леса восстанавливаются!
Воспоем же.
Господь, свои крыла раскинь
68
Рен. День святого мученика Чико Мендеса
Год двадцать пятый
Мы идем по сверкающему лугу. Кругом все жужжит, словно работают тысячи крохотных вибраторов; порхают огромные розовые бабочки. Очень сильно пахнет цветущий клевер. Тоби ощупывает перед собой землю палкой от швабры. Я стараюсь смотреть, куда ставлю ноги, но земля какая-то бугристая, и я падаю, а когда смотрю вниз, там оказывается ботинок. Из него выползает куча жуков.
Впереди какие-то звери. Минуту назад их там не было. Может, лежали в траве, а потом встали. Я замедляю шаг, но Тоби говорит: «Не бойся, это всего лишь париковцы».
Я никогда не видела живую париковцу — только в Интернете. Они стоят и глядят на нас, мерно работая челюстями.
— А можно их погладить? — спрашиваю я.
Они голубые, розовые, серебряные, фиолетовые; похожи на конфеты или на облака в солнечный день. Такие мирные, дружелюбные.
— Не стоит. Нам нужно спешить.
— Они нас не боятся.
— А следовало бы, — говорит Тоби. — Ну же, идем.
Париковцы смотрят на нас. Когда мы подходим ближе, они дружно поворачиваются и медленно бредут прочь.
Сперва Тоби сказала, что нам надо к восточной сторожке. Мы идем по асфальтированной дороге, и через некоторое время Тоби говорит, что здесь, оказывается, дальше, чем она думала. У меня начинает кружиться голова, потому что жарко, особенно в накидке. Тоби говорит, что мы сейчас пойдем к деревьям на дальнем конце луга, потому что там прохладнее. Я боюсь деревьев, под ними слишком темно, но я знаю, что оставаться на лугу нельзя.
Под деревьями тенистее, но не прохладнее. Душно и влажно, ни ветерка, воздух густой, словно в него запихали весь окрестный кислород. Но тут хотя бы нет солнца, так что мы снимаем накидки и идем по дорожке. В лесу стоит густой запах преющего дерева, грибной запах, памятный мне еще со времен вертоградарей, когда мы ходили в парк на Неделе святого Юэлла. Лианы уже наползли на гравий дорожки, но многие плети сломаны и растоптаны, и Тоби говорит, что этим путем шел кто-то еще: только не сегодня, потому что листья на плетях завяли. Впереди слышится вороний ор. Мы доходим до ручейка с мостиком. Вода перекатывается по камням, и я вижу в ней рыбешек. На том берегу кто-то копал. Тоби стоит неподвижно, поворачивает голову, прислушивается. Потом переходит мост и смотрит на выкопанную яму.
— Вертоградари, — говорит она, — или кто-то такой же умный.
Вертоградари учили, что никогда нельзя пить из ручьев и рек, особенно возле городов; нужно выкопать яму рядом с ручьем, чтобы вода хоть немного профильтровалась. У Тоби есть пустая бутылка, которую мы выпили. Тоби наполняет ее в водяной яме так, чтобы в бутылку попадал только верхний слой воды: утонувшие червяки нам ни к чему. Впереди, на небольшой прогалине, растут кучкой грибы. Тоби говорит, что это ежовики — они когда-то были осенними грибами, когда у нас еще была осень. Мы их срываем, Тоби складывает их в полотняный мешок, который захватила с собой, и вешает снаружи рюкзака, чтобы не помялись. Мы идем дальше.
Сначала мы слышим запах и только потом видим, откуда он исходит.
— Не кричи, — говорит Тоби.
Вот над чем орали вороны.
— Ох, нет, — шепчу я.
Это Оутс. Он висит на дереве, медленно поворачиваясь. Веревка пропущена под мышки и завязана узлом на спине. Он совсем голый, если не считать носков и ботинок. Это хуже, потому что так он меньше похож на статую. Голова запрокинута назад — слишком далеко, потому что у него перерезано горло. Вороны хлопают крыльями вокруг головы — ссорятся за посадочные места. Светлые волосы слиплись. В спине зияет рана. Так выглядели тела, валявшиеся на пустырях, тела с изъятыми почками. Но эти почки украли не для пересадки.
— У кого-то очень острый нож, — говорит Тоби.
Я плачу.
— Они убили малыша Оутса, — говорю я. — Меня сейчас стошнит.
Я оседаю на землю. Сейчас мне наплевать, если я тут умру: я не хочу жить в мире, где с Оутсом могут сделать такое. Это так несправедливо. Я глотаю воздух огромными кусками и плачу так, что ничего кругом себя не вижу.
Тоби хватает меня за плечи, поднимает на ноги и трясет.
— Прекрати, — говорит она. — У нас на это нет времени. Пошли.
Она толкает меня перед собой по тропе.
— Можно, мы его хотя бы снимем? — выговариваю я наконец. — И похороним?
— Позже, — говорит Тоби. — Но в этом теле его больше нет. Он теперь в Духе. Ш-ш-ш, не плачь.
Она останавливается, обнимает меня и покачивает туда-сюда, потом снова бережно подталкивает по тропинке. Тоби говорит: нам нужно дойти до сторожки, прежде чем начнется послеобеденная гроза, а тучи уже надвигаются с юга и запада.
69
Тоби. День святого мученика Чико Мендеса
Год двадцать пятый
Тоби страшно потрясена, словно ее ударили дубинкой по голове. Такая чудовищная жестокость. Но Рен не должна видеть потрясения Тоби. Вертоградари одобряют скорбь — в разумных пределах — как часть исцеления, но сейчас для нее нет места. Грозовые тучи желто-зелены, молния свирепствует; Тоби подозревает, что будет ураган.
— Поторапливайся, — говорит она. — Иначе нас просто сдует.
Последние пятьдесят метров они бегут, взявшись за руки и наклонившись вперед, словно штурмуя ветер.
Сторожка построена в ретро-текс-мексиканском стиле, со скругленными линиями и розовой солнечнокожей, имитирующей штукатурку. Не хватает лишь колокольни с колоколами. По стенам уже вьется кудзу. Ворота из кованого железа распахнуты. В декоративном садике с кольцом беленых камней когда-то было выложено петуниями приветствие: «Добро пожаловать в „НоваТы“». Но сейчас приветствие заросло портулаком и осотом; на клумбе кто-то рылся. Видимо, свиньи.
— Там ноги, — говорит Рен. — Вон там, у ворот.
У нее стучат зубы; она все еще в шоке.
— Ноги? — повторяет Тоби.
Она возмущена: сколько еще неполных тел их заставят созерцать за один день? Она подходит к воротам и смотрит. Ноги не человеческие, а от париковцы — полный комплект, четыре штуки. Только голяшки, тонкая часть ноги. На них еще осталось немножко шерсти — сиреневой. Рядом валяется и голова, но не париковцы: львагнца, золотое руно свалялось, в пустых глазницах запеклась кровь. Языка тоже нет. Язык львагнца, когда-то дорогая прихоть для гурманов в ресторанах «С кровью».
Тоби возвращается туда, где стоит трепещущая Рен, прижав обе руки ко рту.
— Это от париковцы, — говорит Тоби. — Я сварю суп. Со вкусными грибами, которые мы сегодня нашли.
— О, я ничего не могу есть, — скорбно говорит Рен. — Он был всего лишь… он был малышом. Я его когда-то носила на руках.
Слезы катятся по лицу.
— Зачем они это сделали?
— Ты обязана есть, — говорит Тоби. — Это твой долг.
Долг перед кем? — тут же задумывается она. Тело человека — дар от Бога, и вы должны уважать этот дар, говорил Адам Первый. Но сейчас Тоби во всем этом как-то не очень уверена.
Дверь сторожки открыта. Тоби заглядывает через окно в комнату для посетителей с окошком регистратуры. В ней никого нет. Тоби вталкивает Рен внутрь: буря надвигается стремительно. Тоби щелкает выключателем — света нет. В комнате есть обычное пуленепробиваемое окно, неработающий сканер для документов, фотоаппараты для фотографирования сетчатки глаза и отпечатков пальцев. Стоящий здесь человек знал, что ему в спину направлены пять закрепленных на стене пистолетов-распылителей, управляемых из внутренней комнаты, где когда-то сидели, развалившись, охранники.
Тоби светит фонариком через окошечко в темноту внутренней комнаты. Столы, канцелярские шкафы, мусор. В углу силуэт: достаточно большой, чтобы оказаться человеком. Мертвым, спящим или — наихудший сценарий — человеком, который услышал их на подходе и притворился мешком мусора. А потом, стоит им только расслабиться, подкрадется, оскалит клыки, начнет терзать и рвать.
Дверь внутренней комнаты приоткрыта; Тоби принюхивается. Конечно, плесень. Что еще? Экскременты. Гниющее мясо. Другие неприятные тона. Тоби жалеет, что у нее нос не как у собаки и не умеет различать запахи.
Она закрывает дверь. Потом выходит наружу, несмотря на дождь и ветер, и берет из обрамления цветочного бордюра самый большой камень. Этим не остановишь сильного человека, но, может быть, получится осадить слабого или больного. Тоби вовсе не хочет, чтобы на нее сзади налетел плотоядный сверток лохмотьев.
— Зачем ты это? — спрашивает Рен.
— Так, на всякий случай, — отвечает Тоби.
Она не вдается в подробности. Рен и так едва держится на ногах; еще какое-нибудь ужасное открытие, и она может совсем расклеиться.
Буря ударяет в полную силу. Густая тьма ревет вокруг; гром долбит воздух. Во вспышках молнии лицо Рен появляется и пропадает: глаза закрыты, рот — испуганная буква «О». Рен цепляется за руку Тоби, словно вот-вот свалится с обрыва.
Кажется, что проходит очень много времени. Наконец гром начинает удаляться. Тоби выходит наружу — осмотреть ноги париковцы. По спине бегут мурашки: эти ноги ведь не сами сюда пришли и они еще свежие. Кострища поблизости нет: тот, кто убил этих зверей, готовил их где-то в другом месте. Она разглядывает срезы: тут проходил Мистер Острый Нож. Интересно, насколько далеко он ушел?
Она смотрит вдоль дороги, в обе стороны. Дорога усеяна листьями, сбитыми грозой. Все неподвижно. Солнце вышло снова. Поднимается пар. В отдалении кричат вороны.
Собственным ножом Тоби как может сдирает волосатую шкуру с одной ноги париковцы. Был бы большой тесак, она бы порубила ногу на кусочки, чтобы влезли в котелок. Наконец она кладет ногу одним концом на ступеньку сторожки, а другим на тротуар и бьет по ней большим камнем. Следующая проблема: как развести огонь. По этому лесу можно долго ходить в поисках дров и вернуться ни с чем.
— Мне нужно зайти в ту дверь, — говорит она.
— Зачем? — слабо спрашивает Рен. Она дрожит, обхватив себя руками, в пустой комнате для посетителей.
— Поискать топливо для костра, — говорит Тоби. — А теперь слушай. Возможно, там кто-то есть.
— Мертвый?
— Не знаю.
— Я больше не хочу видеть мертвецов, — капризно говорит Рен.
Тоби думает, что, возможно, у нее не будет особого выбора.
— Вот карабин, — говорит она. — Вот спусковой крючок. Стой здесь и никуда не уходи. Если из этой двери выйдет кто угодно, кроме меня, — стреляй. Смотри не застрели меня по ошибке. Ясно?
Если ее там пристукнут, у Рен хотя бы будет оружие.
— Ясно, — говорит Рен. Она неловко берет ружье. — Но мне это не нравится.
Это безумие, думает Тоби. Она так напугана, что выстрелит мне в спину, если я чихну. Но если я не проверю, что там в комнате, мы сегодня не будем спать, и, может быть, к утру нам перережут горло. И огня у нас не будет.
Тоби входит в комнату с фонариком и ручкой от швабры. На полу разбросаны бумаги и разбитые лампы. Под ногами хрустит битое стекло. Запах стал сильнее. Жужжат мухи. У Тоби встают дыбом волосы на руках, кровь шумит в голове.
Сверток на полу явно имеет человеческие очертания. Он покрыт каким-то отвратительным одеялом. Тоби видит купол лысой головы, пучки волос. Она тычет в одеяло палкой, не отводя луч фонарика. Стон. Тоби снова тычет, сильнее: одеяло слабо дергается. Вот появились щели глаз и рот — запекшиеся губы покрыты волдырями.
— Еб твою мать, — говорит этот рот. — Ты чё за ёба?
— Вы больны? — спрашивает Тоби.
— Эта сука меня подстрелила, — отвечает он. Глаза моргают от света. — Выключи эту штуку нахуй.
Ни из носа, ни изо рта, ни из глаз кровь не идет; можно надеяться, что чумы у него нет.
— Куда подстрелила? — спрашивает Тоби.
Это наверняка ее пуля, с того раза, на лугу. Из свертка выцарапывается рука: красно-синие вены. Он ссохся, чудовищно грязен, глаза ввалились из-за жара, но это Бланко, сомнений нет. Уж кому и знать, как не Тоби — она видела его вблизи, ближе не бывает.
— В ногу, — говорит он. — Загноилась. Эти сволочи меня бросили.
— Двое? — спрашивает Тоби. — С ними была женщина?
Она старается, чтобы голос не дрожал.
— Дай попить, — говорит Бланко.
В углу, рядом с его головой, валяется пустая бутылка. Две бутылки, три. Обглоданные ребра: сиреневая париковца?
— Кто там еще с тобой? — скрипит он. Дышать ему трудно. — Другие сучки. Я слышал.
— Покажите ногу, — говорит Тоби. — Вдруг я смогу помочь.
Может, он притворяется. Этот трюк стар как мир.
— Я умираю, нахуй, — говорит Бланко. — Выключи свет!
Тоби видит, как различные планы действий проходят у него под черепом, отражаясь на лбу разной степенью хмурости. Узнал ли он ее? Попытается ли атаковать?
— Снимите одеяло, — говорит Тоби, — и тогда я принесу вам воды.
— Сама сними, — хрипит Бланко.
— Нет, — говорит Тоби. — Если вам не нужна помощь, я вас тут запру.
— Замок сломан, — говорит он. — Тощая сука, бля! Дай воды!
Тоби улавливает другой запах: может, с ним еще и что другое не так, но он разлагается.
— У меня есть «зиззи-фрут», — говорит она. — Это лучше воды.
Она, пятясь, выходит в дверь и закрывает ее за собой, но Рен успевает разглядеть.
— Это он, — шепчет она. — Третий, самый ужасный!
— Дыши глубже, — говорит Тоби. — Ты в полной безопасности. У тебя есть ружье, а у него нет. Главное, не своди прицел с двери.
Тоби роется в рюкзаке, находит оставшуюся бутылку «зиззи-фрут», выпивает четверть теплой, сладкой, пузырящейся жидкости: у хорошего хозяина ничего не пропадает. Затем Тоби доливает бутылку настоем Мака и для ровного счета щедро добавляет порошка из мухоморов. Белые Ангелы Смерти, исполнители темных желаний. Если приходится выбирать из двух зол, выбирай наименьшее, сказал бы Зеб.
Тоби пихает дверь ручкой от щетки и светит туда фонариком. И верно, Бланко ползет по полу, оскалившись от усилий. В одной руке у него нож: скорее всего, Бланко надеялся подобраться поближе к двери и схватить Тоби за ноги, когда она войдет. И забрать ее с собой или использовать как разменную фишку, чтобы захватить Рен.
Бешеные псы кусаются. Какого тебе еще подтверждения?
— Вот, держи, — говорит она.
Катит бутылку в его сторону. Нож падает со звоном, Бланко хватает бутылку, отворачивает пробку дрожащими руками и жадно пьет. Тоби ждет, чтобы убедиться, что он выпил все.
— Теперь тебе станет лучше, — мягко говорит она. И закрывает дверь.
— Он оттуда выйдет! — говорит Рен. Лицо у нее пепельное.
— Если выйдет, мы его застрелим, — отвечает Тоби. — Я дала ему болеутоляющих, чтобы он успокоился.
Она произносит про себя слова извинения и отпущения, какие произнесла бы по раздавленному жуку.
Она ждет, пока подействует Мак, и снова входит в комнату. Бланко тяжело храпит; если его не прикончит Мак, то прикончат Ангелы Смерти. Она поднимает одеяло: левое бедро — жуткая мешанина разлагающихся тряпок и гниющей плоти, все преет вместе. Тоби изо всех сил сдерживает тошноту.
Она обходит комнату в поисках горючих материалов и собирает сколько может унести — бумаги, остатки разломанного стула, стопку компакт-дисков. В сторожке есть второй этаж, но Бланко закрывает проход к месту, где должна быть лестница, а Тоби еще не готова так близко к нему подходить. Она ищет сухие ветки под деревьями. С помощью зажигалки для барбекю, бумаги и компакт-дисков ей наконец удается развести огонь. Она варит бульон из ноги париковцы, добавляет грибы и портулак, который нарвала на цветочной клумбе; они едят, сидя в дыму костра — из-за москитов.
Спят они на плоской крыше, куда забрались по дереву. Рюкзаки они тоже втаскивают наверх, и три оставшиеся ноги париковцы, чтобы никто не украл их ночью. Крыша покрыта гравием и к тому же мокрая; они подстилают полиэтиленовые накидки. Звезды ярче яркого; луна невидима. Перед тем как заснуть, Рен шепчет:
— А если он проснется?
— Уже не проснется, — отвечает Тоби.
— Ох, — едва слышно говорит Рен.
Что это — восхищение подвигом Тоби, благоговение пред ликом смерти? Он бы все равно не выжил, говорит себе Тоби, с ногой в таком состоянии. Такое лечить — только зря переводить опарышей. Но все же Тоби только что убила человека. Или совершила акт милосердия — по крайней мере, перед смертью он не мучился жаждой.
Не обманывай себя, детка, говорит голос Зеба у нее в голове. Ты хотела ему отомстить.
— Да отыдет его Дух с миром, — говорит Тоби вслух. Какой бы у него там ни был дух, у свиньи ебучей.
70
Тоби. День святой Рейчел и всех Птиц
Год двадцать пятый
Тоби просыпается прямо перед рассветом. Где-то поблизости кричит львагнец — странный жалобный рев. Лают собаки. Тоби двигает руками, потом ногами: она застыла, как блок цемента. Сырость тумана проникает до мозга костей.
Всходит солнце — жаркая роза поднимается из персиковых облаков. Листья нависших деревьев покрыты крохотными каплями, сияющими в крепнущем розовом свете. Все кажется свежим, словно только что создано: камни на плоской крыше, деревья, паутина, протянутая меж ветвями. Спящая Рен сияет, словно посеребренная. Капюшон розовой накидки окружает овал лица, туман усыпал крохотными шариками влаги длинные ресницы, и Рен кажется хрупким созданием из иного мира, девушкой из снега.
Солнечный луч ударяет прямо в Рен, и она открывает глаза.
— О черт, о черт, — говорит она. — Я опоздала! Сколько времени?
— Ты пока что никуда не опоздала, — говорит Тоби, и обе почему-то смеются.
Тоби проводит рекогносцировку с помощью бинокля. На востоке, куда они собираются идти, не заметно никакого движения, а вот к западу — стая свиней, самая большая, какую Тоби видела до сих пор: шесть взрослых, двое поросят. Они вытянулись вдоль дороги, словно круглые бусины телесного цвета в ожерелье: пятачки опущены, свиньи нюхают землю, будто выслеживают кого-то.
За нами следят, думает Тоби. Может, это те же самые свиньи: затаившие злобу, похоронившие своего товарища. Она встает, машет карабином в воздухе, кричит:
— Уходите! Пошли вон!
Сначала свиньи только пялятся на нее, но стоит ей снять карабин с плеча и прицелиться, они убегают в лес.
— Надо же, они как будто знают, что такое ружье, — замечает Рен.
Сегодня утром ей явно лучше. Она немного окрепла.
— Знают, не сомневайся, — отвечает Тоби.
Они по дереву слезают с крыши, и Тоби ставит чайник Келли. Кругом вроде бы никого нет, но ей не хочется рисковать, разводя костер. Она боится, что дым кто-нибудь учует. Зеб учил: животные бегут от огня, люди — к огню.
Вода вскипела, Тоби заваривает чай. Потом ошпаривает собранный портулак. Эта еда согреет их на первом переходе. Потом можно будет сварить еще супа из оставшихся трех ног париковцы.
Перед уходом Тоби заглядывает в комнату охраны. Бланко уже остыл; воняет еще сильнее, если такое вообще возможно. Тоби закатывает его на одеяло и выволакивает наружу, на раскопанную клумбу. Потом находит на полу нож — там, где Бланко его уронил. Нож острый как бритва. Тоби разрезает перед вонючей рубашки. Белое, словно рыбье, волосатое брюхо. Чтобы поставить точку, надо бы и брюхо вспороть — грифы спасибо скажут, — но Тоби помнит тошнотворный запах потрохов дохлого кабана. Свиньи позаботятся о Бланко. Может, даже примут его как искупительное приношение — простят ее за то, что убила их собрата. Нож Тоби бросает среди цветов. Хорошее орудие, но с плохой кармой.
Они выходят за ворота, и Тоби пихает створку из кованого железа, чтобы закрыть ее. Замок сломан, и Тоби завязывает ворота куском своей веревки. Если свиньи решат устроить погоню, ворота их не остановят — они могут сделать подкоп, — но хотя бы задержат.
Тоби и Рен оказываются за пределами территории «НоваТы». Они идут по дороге, обочины которой заросли сорняками. Дорога ведет через Парк Наследия. Они выходят на поляну, где стоят столы для пикников; лианы кудзу уже карабкаются на бочки для мусора и железные жаровни, на столы и скамьи. Бабочки порхают и пикируют в солнечном свете, который становится жарче с каждой минутой.
Тоби оглядывается вокруг: вниз по склону, на восток, должно быть побережье, а за ним море. К юго-западу — Дендрарий, а в нем ручей, где когда-то дети вертоградарей запускали миниатюрные ковчеги. С этой дорогой должна скоро слиться дорога, ведущая в Место-под-солнцем. Где-то здесь они когда-то похоронили Пилар: точно, вот ее куст бузины, уже довольно высокий, и цветет. Вокруг него жужжат пчелы.
Милая наша Пилар, думает Тоби. Будь ты жива сегодня, ты бы сказала нам что-нибудь мудрое. Что именно?
Впереди слышится блеяние, и по склону на дорогу вскарабкиваются пять… нет, девять… нет, четырнадцать париковец. Серебряные, синие, лиловые. Одна красная с волосами, заплетенными во множество косичек. А за овцами — мужчина. В белой простыне, подпоясанный веревкой. Совершенно библейская картина; у него даже посох есть, наверняка для того, чтобы подгонять овец. Увидев Рен и Тоби, он останавливается, поворачивается к ним и молча смотрит. На нем темные очки; и еще у него есть пистолет-распылитель. Дуло небрежно опущено, но расчет явно на то, чтобы пистолет увидели. Солнце бьет мужчине в спину.
Тоби стоит неподвижно, руки и скальп у нее чешутся. Может, это один из тех больболистов? Он из нее решето сделает, не успеет она и винтовку на него направить; солнце — в его пользу.
— Это Кроз! — кричит Рен.
Она бежит к нему, протягивая руки, и Тоби остается только надеяться, что Рен не ошиблась. Похоже, что нет, потому что мужчина позволяет себя обнять. Он роняет пистолет-распылитель и посох и крепко обнимает Рен, а овцы вокруг мирно щиплют траву.
71
Рен. День святой Рейчел и всех Птиц
Год двадцать пятый
— Кроз! — говорю я. — Не может быть! Я думала, ты умер!
Я говорю прямо в его простыню, в которую вжато мое лицо, потому что мы очень крепко обнимаемся. Он молчит — может быть, плачет, — так что я говорю: «Наверное, ты тоже думал, что я умерла» — и чувствую, что он кивает.
Я отпускаю его, и мы смотрим друг на друга. Он пытается ухмыльнуться.
— Где ты взял простыню? — спрашиваю я.
— Кругом куча кроватей, — отвечает он. — Это лучше, чем штаны, — гораздо прохладнее. Ты не видала Оутса?
В голосе звучит беспокойство.
Я не знаю, что сказать. Я не хочу портить нашу встречу такой ужасной новостью. Бедный Оутс, висит на дереве с перерезанным горлом и без почек. Но я гляжу Крозу в лицо и понимаю, что ошиблась: он беспокоится обо мне, потому что уже знает, что случилось с Оутсом. Они с Шекки шли по тропе впереди нас. Наверняка, услышав мой крик, они спрятались. Потом они, видимо, слышали еще крики — много разных криков. Потом, позже — потому что они, конечно, вернулись на то место посмотреть, — они должны были услышать ворон.
Если я скажу, что нет, он, скорее всего, станет притворяться, что Оутс еще жив, — чтобы меня не расстраивать.
— Да, — говорю я. — Мы его видели. Ужасно жалко.
Кроз смотрит в землю. Я думаю, как бы поменять тему.
Вокруг нас париковцы жуют траву, и я спрашиваю:
— Это твои овцы?
— Да, мы стали их пасти, — отвечает он. — Мы их вроде как приручили. Но они все время убегают.
Я хочу спросить, кто это «мы», но тут к нам подходит Тоби, и я говорю:
— Это Тоби, помнишь ее?
— Не может быть! Тоби, из вертоградарей?
Тоби сухо, едва заметно кивает ему, как она умеет, и говорит:
— Крозье, ты определенно вырос.
Как будто мы на встрече выпускников. Тоби очень трудно выбить из колеи. Она протягивает руку, и Кроз ее пожимает. Ужасно странная картина: Кроз в простыне, как Иисус какой-нибудь, — правда, у него борода не такая волнистая, — и мы с Тоби в розовых одеяниях с подмигивающими глазами и сложенными для поцелуя губками, а у Тоби еще и три фиолетовые ноги торчат из рюкзака.
— Где Аманда? — спрашивает он.
— Она жива, — слишком быстро отвечаю я. — Я точно знаю, что жива.
Они с Тоби переглядываются у меня над головой, словно не хотят говорить, что мой любимый кролик попал под машину.
— А что Шеклтон? — спрашиваю я, и Кроз говорит:
— Жив-здоров. Пошли домой.
— Куда? — спрашивает Тоби.
— В саманный домик. Где раньше устраивали рынок «Древо жизни». Помнишь, Рен? Это не так уж далеко.
Овцы уже сами идут туда. Они, кажется, знают дорогу. Мы идем за ними.
Солнце уже так жарит, что мы с Тоби чуть не сварились в своих накидках. Кроз накинул на голову край простыни, и, похоже, ему гораздо прохладнее, чем мне.
К полудню мы приходим в когдатошний сквер «Древа жизни». Пластмассовых качелей больше нет, но саманный домик остался прежним — даже граффити и надписи, сделанные когда-то плебратвой, на месте. Но домик достроили. Он обнесен забором из шестов, досок, проволок и кучи изоленты. Кроз открывает ворота, овцы входят и цепочкой направляются в загон во дворе.
— Я привел овец! — кричит Кроз.
Из дома выходит мужчина с распылителем, а потом еще двое мужчин. Потом четыре женщины: две молодые, одна чуть постарше и одна намного старше — может быть, ровесница Тоби. Они одеты не как вертоградари, но их одежду нельзя назвать новой или слишком яркой. Двое мужчин — в простынях, на третьем брюки с отрезанными штанинами и рубаха. Женщины — в одеяниях до пят вроде наших накидок.
Они смотрят на нас: не дружелюбно, а беспокойно. Кроз представляет нас.
— Ты уверен, что они не заразные? — спрашивает первый мужчина, у которого распылитель.
— На сто процентов, — говорит Кроз. — Они все время были в изоляции.
Он смотрит на нас, ожидая подтверждения, и Тоби кивает.
— Они друзья Зеба, — добавляет Кроз. — Тоби и Рен.
Потом, уже нам, объясняет:
— Это — Беззумный Аддам.
— То, что от него осталось, — поправляет мужчина пониже ростом.
Он представляется: он сам — Нарвал, а остальные — Белоклювый Дятел, Дюгонь и Колибри. Женщины — Голубянка, Американская Лисица, Белая Осока и Майна. Обходится без рукопожатий — эти люди все еще не доверяют нам и нашим микробам.
— Беззумный Аддам, — говорит Тоби. — Приятно познакомиться. Я немного следила по Сети за вашей работой.
— А как вы попадали на сайт? — спрашивает Белоклювый Дятел. — В чат?
Он так смотрит на ее древний карабин, словно тот сделан из золота.
— Я была Рогатой Камышницей, — говорит Тоби.
Они переглядываются.
— Так это вы! — восклицает Голубянка. — Это вы Рогатая Камышница! Таинственная незнакомка!
Она смеется.
— Зеб нам так и не рассказал, кто вы. Мы думали, какая-нибудь знойная красотка из его бывших.
Тоби натянуто улыбается.
— Правда, он сказал, что вам можно доверять, — говорит Майна. — Настаивал на этом.
— Зеб? — произносит Тоби, словно сама с собой говорит.
Я знаю, она хочет спросить, жив ли он, но боится.
— С Беззумным Аддамом была веселуха, — говорит Нарвал. — Пока нас не поймали.
— Нас «мобилизовала», как они выражались, эта чертова «Омоложизнь», — говорит Белая Осока, самая молодая из женщин. — Коростель, черт бы его побрал.
Она смуглая, но говорит с британским акцентом, так что у нее получается «Коостель». Когда Тоби сказала им, что она на самом деле кто-то другой, они стали заметно дружелюбнее.
Я совсем запуталась. Я гляжу на Кроза, и он объясняет:
— Это то, что мы делали, биосопротивление. За что нас посадили в больбол. А это ученые, которых они схватили. Помнишь, я тебе рассказывал? В «Чешуйках»?
— А! — говорю я. — Но мне все еще не ясно. Почему «Омоложизнь» захватила этих ученых? Может, их похитили как ценные мозги, наподобие моего отца?
— У нас сегодня гости были, — говорит Белоклювый Дятел Крозу. — После того, как ты ушел за овцами. Два мужика с женщиной, пистолетом-распылителем и дохлым скунотом.
— Да неужели? — говорит Кроз. — Вот это номер!
— Сказали, что они из больбола, как будто мы их должны были зауважать, — говорит Дюгонь. — Предложили обмен: женщину на батареи для пистолета-распылителя и мясо париковцы. Женщину и скунота.
— Я знаю, это они сперли нашу фиолетовую париковцу, — говорит Кроз. — Тоби нашла ноги.
— Скунот! С какой стати нам меняться на скунота? — возмущается Белая Осока. — Мы не голодаем!
— Надо было их пристрелить, — говорит Дюгонь. — Но они все время прикрывались женщиной.
— Как она была одета? — спрашиваю я, но они не обращают внимания.
— Мы сказали, что меняться не будем, — говорит Белоклювый Дятел. — Женщину, конечно, жалко, но они очень уж хотели заполучить батареи, а это значит, что у них заряды на исходе. Так что мы с ними чуть позже разберемся.
— Это Аманда, — говорю я.
Они могли ее спасти. Хотя я их не виню: нельзя давать батареи для пистолета людям, которые тебя же и застрелят.
— Так что с Амандой? — спрашиваю я. — Ведь мы же должны пойти и спасти ее!
— Да… теперь надо собрать всех снова, раз потоп уже кончился, — соглашается Кроз. — Как мы всегда говорили.
Он меня поддерживает.
— Тогда мы сможем, ну ты знаешь, восстановить человеческий род, — говорю я. Я знаю, что это звучит глупо, но мне больше ничего не приходит в голову. — Аманда нам будет очень полезна — она все хорошо умеет делать.
Но они только печально улыбаются мне, словно знают, что это безнадежно.
Кроз берет меня за руку и уводит.
— Ты это серьезно? — спрашивает он. — Насчет человеческого рода?
Он улыбается.
— Тогда тебе придется рожать детей.
— Может быть, не прямо сейчас, — отвечаю я.
— Пойдем, — говорит он. — Я покажу тебе сад.
У них отдельная кухня во дворе, несколько портативных фиолет-биолетов в углу и солнечные батареи, которые они сейчас монтируют. Нужных частей полно в плебсвиллях, хотя приходится остерегаться падающих зданий.
За домом — огород, хотя они еще мало что успели посадить.
— На нас нападают свиньи, — говорит Кроз. — Они роют ходы под забором. Мы застрелили одну, так что, может быть, другие теперь поостерегутся. Зеб говорит, что это суперсвиньи — генная модификация с мозговой тканью человека.
— Зеб? — повторяю я. — Он жив?
У меня вдруг начинает кружиться голова. Все эти люди, восставшие из мертвых, — уму непостижимо.
— А то, — говорит Кроз. — Ты чего?
Он меня обнимает, чтобы я вдруг не упала.
72
Тоби. День святой Рейчел и всех Птиц
Год двадцать пятый
Рен и Крозье убрели за саманный домик. Ничего страшного, думает Тоби. Дело молодое. Она рассказывает Белоклювому Дятлу про третьего больболиста — Бланко. Белоклювый Дятел внимательно слушает.
— Чума? — спрашивает он.
Тоби объясняет про инфицированное пулевое ранение. Про Мак и Ангелов Смерти она ничего не говорит.
Пока они разговаривают, из-за угла выходит еще одна женщина.
— Здравствуй, Тоби, — говорит она.
Это Ребекка. Она стала старше, немного ссохлась, но это несомненно она. Во плоти. Она берет Тоби за плечи.
— Миленькая, ты совсем худая, — говорит она. — Ну ничего. У нас есть бекон. Мы тебя живо откормим.
Понятие бекона в данный момент не укладывается у Тоби в голове.
— Ребекка, — произносит она. И хочет добавить: «Почему ты жива?» Но этот вопрос становится все более бессмысленным. Почему кто бы то ни было остался в живых? Так что она говорит только: — Замечательно.
— Зеб был уверен, что ты выберешься. Он все время это говорил. Ну-ка улыбнись!
Тоби очень не нравится слово «говорил» в прошедшем времени. От него разит смертным одром.
— А когда он это говорил?
— Ой, да он, почитай, каждый день это повторяет. Ну-ка пойдем на кухню, я тебе дам чего-нибудь поесть. Расскажешь мне, где была.
Значит, Зеб жив, думает Тоби. Теперь, когда это точно, ей кажется, что она всегда это знала. Но все же она продолжает сомневаться — не поверит, пока не увидит. Пока не потрогает.
Они пьют кофе — жареные корни одуванчика, гордо объясняет Ребекка — и едят запеченные корни лопуха с пряной зеленью и куском… не может быть — неужели это холодная свинина?
— Эти свиньи жутко наглые, — говорит Ребекка. — Умные головы дуракам достались.
Она с вызовом смотрит на Тоби.
— Голод не тетка, — продолжает она. — Мы хотя бы знаем, что это — в отличие от секрет-бургеров.
— Очень вкусно, — честно говорит Тоби.
После перекуса Тоби отдает Ребекке три ноги париковцы. Они уже не очень свежие, но Ребекка говорит, что на бульон сгодятся. Ребекка и Тоби погружаются в историю. Тоби вкратце рассказывает про свою жизнь в «НоваТы» и появление Рен; Ребекка — про то, как она под прикрытием фальшивой личности продавала страховки в охраняемых поселках на западе страны, заодно распространяя биоформы, изобретенные Беззумным Аддамом. И про то, как она вскочила в последний скоростной поезд, идущий на восток, — это было рискованно, куча пассажиров уже кашляла, но Ребекка надела респиратор и перчатки, а потом законопатилась в «Велнесс-клинике» с Зебом и Катуро.
— В нашей прежней комнате для совещаний, помнишь? И Арарат, который мы там создавали, сохранился.
— А Катуро как поживает? — спрашивает Тоби.
— Отлично. У него был какой-то вирус, но не тот, не чума. Он уже выздоровел. Они с Зебом, Шекки и Черным Носорогом сейчас ушли на поиски. Они ищут Адама Первого и всех остальных. Зеб говорит, если кто и смог выбраться, так это они.
— Правда? Думаешь, у них есть шанс? — спрашивает Тоби.
На самом деле она хочет спросить: «А меня он искал?» Скорее всего, нет. Наверняка решил, что она сама выкрутится. И ведь выкрутилась, правда же?
— Мы слушали круглые сутки на заводном коротковолновом приемнике и передавали сигналы тоже. Пару дней назад наконец-то получили ответ, — говорит Ребекка.
— Это был он? — Тоби уже всему готова поверить. — Адам Первый?
— Мы только один голос услышали. И он только повторял: я здесь, я здесь.
— Будем надеяться, — говорит Тоби.
И она действительно надеется. Во всяком случае, очень хочет надеяться.
Снаружи доносится собачий лай и какофония воплей.
— Черт! Опять собаки напали, — говорит Ребекка. — Ну-ка давай туда с ружьем.
Беззумные Аддамы с распылителями уже у ограды. Собаки, большие и маленькие, штук пятнадцать, несутся к ним, виляя хвостами. Люди начинают стрелять. Тоби не успевает вскинуть карабин, как семь псов уже мертвы, а остальные убежали.
— Это генные сплайсы из института Уотсона-Крика, — говорит Белоклювый Дятел. — Не настоящие собаки, у них только вид такой. Вырвут глотку и глазом не моргнут. Их использовали в тюремных рвах и всяком таком — их ведь не хакнешь в отличие от системы сигнализации. Но они вырвались на волю во время потопа.
— А они размножаются? — спрашивает Тоби. Придется ли отражать нападения этих несобак, волну за волной, или их немного?
— Одному Богу известно, — говорит Белоклювый Дятел.
Голубянка и Белая Осока выходят проверить, мертвы ли собаки. Затем Майна, Американская Лисица, Ребекка и Тоби присоединяются к ним, и они все вместе обдирают и разделывают туши. Мужчины с пистолетами стоят наготове, на случай если собаки вернутся. Руки Тоби быстро вспоминают нужные движения — память давних дней. И запах тот же. Запах детства.
Шкуры собак откладывают, мясо режут и отправляют в кастрюлю. Тоби подташнивает. Но помимо этого ей очень хочется есть.
73
Рен. День святой Рейчел и всех Птиц
Год двадцать пятый
Я спрашиваю Кроза, не пойти ли мне помочь обдирать собак. Но Кроз отвечает, что там уже достаточно народу, а у меня усталый вид, так что, может, я хочу пойти в дом и прилечь у него на кровати? В комнате прохладно и знакомо пахнет саманным домиком, так что я ощущаю себя в безопасности. Кровать оказывается просто возвышением на полу, но она покрыта шкурой серебряной париковцы и простыней. Кроз говорит: «Приятных снов» — и уходит, а я снимаю накидку «НоваТы» и брюки, потому что уже очень жарко, а руно париковцы ужасно мягкое и шелковистое, и засыпаю.
Меня будит послеобеденная гроза, и я обнаруживаю, что Кроз свернулся рядом. Я вижу, что он обеспокоен и печален, и поворачиваюсь к нему, и мы начинаем обниматься, и он хочет заняться сексом. Но я вдруг понимаю, что не хочу заниматься сексом с человеком, которого не люблю, а я никого так по-настоящему и не любила после Джимми, и, уж конечно, не в «Чешуйках», где все было понарошку и я только исполняла фантазии разных извращенцев.
И еще у меня внутри есть темное пятно, словно мне в мозги пролили чернила, — и в этом месте я не могу думать про секс. Там колючие кусты и что-то про Аманду, и я не хочу там быть. Поэтому я говорю: «Потом, попозже». И Кроз понимает, хотя раньше он был какой-то примитивный, так что мы только лежим обнявшись и разговариваем.
Он полон планов. Они построят то и это, избавятся от свиней или даже приручат их. Когда оба больболиста будут убиты — он лично об этом позаботится, — он возьмет меня, и Аманду, и Шекки тоже, и мы пойдем на пляж и будем ловить рыбу. А Беззумные Аддамы — Дятел, Осока, Майна, Носорог и все остальные — ужасно умные, так что мигом наладят связь.
— А с кем мы будем связываться? — спрашиваю я.
Кроз говорит, что должны быть другие выжившие. Потом рассказывает мне про Беззумных Аддамов — как они работали с Зебом, но ККБ их выследила через Беззумного Аддама по кличке Коростель, и они оказались рабами умственного труда в каком-то месте, которое называлось «купол проекта „Пародиз“». Им предложили выбор: либо это, либо расстрел из распылителей, так что они согласились работать на корпорацию. Потом, когда пришел потоп и охрана исчезла, они отключили сигнализацию и вышли, но это им было не очень трудно, потому что они все мозговитые.
Что-то из этого он мне уже рассказывал, но не упоминал ни «Пародиз», ни Коростеля.
— Погоди, — говорю я. — Значит, этим они и занимались в куполе? Бессмертием?
— Да, — говорит Кроз. — Они все помогали Коростелю с этим грандиозным экспериментом. Какой-то совершенно прекрасный человеческий генотип, который может жить вечно. Еще они сделали большую часть работы над «НегойПлюс», но им самим было запрещено ее принимать. Не то чтобы они сильно хотели: да, секс от нее получался просто улетный, но были и побочные эффекты, такие как смерть.
— От нее и началась пандемическая чума, — говорит Кроз. — Они сказали, что Коростель велел им засунуть ее в эти суперсекс-таблетки.
Я еще раз понимаю, как мне повезло, что я сидела в «липкой зоне», потому что я могла втайне съесть эту таблетку, хотя Мордис и запрещал «чешуйкам» принимать колеса. Про «НегуПлюс» рассказывали просто потрясающие вещи, словно с ней человек попадал куда-то в другую реальность.
— Кому такое могло в голову прийти? — спрашиваю я. — Отравленная секс-таблетка?
Это точно был Гленн, больше некому. Именно об этом он рассказывал в «Чешуйках» большим боссам из «Омоложизни». Про яд он, конечно, ничего не говорил. Я помню имена, Орикс и Коростель. Я думала, это просто любовные прозвища, придуманные Гленном и его главной дыркой. Многие люди во время секса называют друг друга именами разных зверей. Жеребец, Пантера, Тигр, Киска или Песик. Значит, это были не интимные клички, а кодовые имена. А может, и то и другое.
На долю секунды мне хочется рассказать обо всем Крозу. О том, что я хорошо знаю этого Коростеля по прошлой жизни. Но тогда придется объяснять, чем я занималась в «Чешуйках». Не только про танцы на трапеции, не только про то, как Гленн нас нанимал мурлыкать и петь, как птицы, но и про другое, про то, что творилось в комнате с перистым потолком. Крозу не захочется про это знать: мужчины не любят слышать, как другие мужчины делали с тобой что-то такое, что они сами хотели бы сделать.
Так что я вместо этого спрашиваю:
— А что же эти модифицированные люди? Идеальные? Их правда сделали?
Гленн всегда хотел, чтобы все было как можно более идеально.
— Да, сделали, — говорит Кроз, словно в этом нет ничего особенного и новых людей делают каждый день.
— Наверное, они умерли вместе со всеми?
— He-а. Они живут там, на побережье. Они ходят голые, питаются листьями и мурлычут, как кошки. Это далековато от моего идеала. Мой идеал больше похож на тебя!
Он смеется. Я пропускаю последние слова мимо ушей.
— Ты все сочиняешь, — говорю я.
— Нет, честное слово. У них, когда встают, становятся такие огромные… и синие. И тогда они устраивают групповушку с ихними синезадыми женщинами. Круто!
— Ты шутишь, верно?
— Вот только разберемся с больболистами, сама увидишь, — говорит Кроз. — Но мне придется пойти с тобой. Там живет еще один мужик — спит на дереве, разговаривает сам с собой. Он чокнутый, как мартовский заяц, при всем моем уважении к зайцам. Мы его не трогаем — вдруг он заразный. Я пойду с тобой, чтобы он тебя не напугал.
— Спасибо, — говорю я. — А этот Коростель из проекта «Пародиз», как он выглядел?
— Я его не видел. И никто не рассказывал, какой он из себя.
— А у него не было друга? В этом проекте, в куполе?
Когда Гленн притащил Джимми в «Чешуйки», они точно работали вместе.
— Носорог говорил, что у Гленна плохо с друзьями. Но да, у него был какой-то приятель и еще девушка — они двое вроде бы маркетингом занимались. Носорог рассказывал, что тот парень был сплошной перевод кислорода. Все время пил и рассказывал дурацкие анекдоты.
Точно, это Джимми.
— А он выбрался? Из купола? С этими синими людьми?
— А я почем знаю? Да и кого это чешет?
Меня. Я хочу, чтобы Джимми был жив.
— Как это грубо, — говорю я.
— Эй, не обижайся.
Кроз обнимает меня, и словно бы случайно его рука оказывается у меня на груди. Я ее снимаю.
— Ну что ж, — разочарованно говорит Кроз. И целует меня в ухо.
Я просыпаюсь оттого, что Кроз меня будит.
— Они вернулись, — говорит он. И торопится во двор.
Я одеваюсь и, когда выхожу, вижу во дворе Зеба и Тоби, которая его обнимает. Еще там Катуро и человек, которого зовут Черный Носорог, и он оказывается на самом деле каким-то черным. Шекки тоже тут. Он мне ухмыляется, он еще не знает про Аманду и двух больболистов. Пускай Кроз ему расскажет. Если я начну рассказывать, Шекки будет задавать мне вопросы, а у меня ответы только плохие.
Я медленно подхожу к Зебу — стесняюсь, — и Тоби его отпускает. Она улыбается — не натянуто, а по-настоящему, — и я думаю: «Она еще может быть хорошенькой».
— Малютка Рен. Ты выросла, — говорит мне Зеб.
У него прибавилось седины за это время. Он улыбается и мимолетно сжимает мне плечо. Я вспоминаю, как он пел в душе — тогда, у вертоградарей. Я вспоминаю, как добр он был ко мне. Мне хочется, чтобы он мной гордился за то, что я прорвалась, хоть это и было в основном везение. Мне хочется, чтоб он больше удивлялся и радовался тому, что я жива. Но у него, наверное, и без меня много дел.
Зеб, Шекки и Черный Носорог пришли с рюкзаками. Они начинают их распаковывать. Жестянки сойдин, пара бутылок — похоже, спиртное, — горсть энергетических батончиков. Три батареи для пистолета-распылителя.
— Из охраняемых поселков, — говорит Катуро. — У них у многих ворота открыты. Мародеры нас опередили.
— В «Криогении» было заперто, — говорит Зеб. — Наверное, они думали отсидеться внутри.
— Да, со всеми ихними замороженными головами, — добавляет Шекки.
— Судя по всему, оттуда никто не спасся, — говорит Черный Носорог.
Мне неприятно это слышать, потому что Люцерна, скорее всего, была там. Не важно, что она сделала потом: когда-то она была моей матерью, и тогда я ее любила. Я смотрю на Зеба, потому что он, может быть, тоже ее любил.
— Нашли Адама Первого? — спрашивает Белоклювый Дятел.
Зеб мотает головой.
— Мы заглянули в «Буэнависту». Они, похоже, там сидели какое-то время — они или кто-то другой. По всем признакам. Потом мы проверили еще несколько Араратов, но ничего не нашли. Должно быть, они ушли куда-то еще.
— А ты сказал ему, что кто-то жил в «Велнесс-клинике»? — спрашиваю я у Кроза. — В той комнатке за уксусными бочками? С лэптопом?
— Да, сказал. Это он и был. С Ребеккой и Катуро.
— Мы видели того хромого психа, который болтает сам с собой, — говорит Шекки. — Который спит на дереве там, на берегу. Но он нас не видел.
— Вы его не подстрелили? — спрашивает Дятел. — На случай, если он заразный?
— Что зря патроны переводить? — говорит Черный Носорог. — Он и так долго не протянет.
Когда солнце идет на закат, мы разводим огонь во дворе и едим мясной суп с крапивой — не знаю, из чьего мяса, — корни лопуха и по чуть-чуть сыра из молока париковец. Я ожидаю, что ужин начнется с молитвы, «Дорогие друзья, мы — единственные выжившие на земле, так вознесем же хвалы», или чего-нибудь еще вертоградарского. Но ничего такого не происходит, мы просто ужинаем.
После ужина все обсуждают дальнейшие планы. Зеб говорит, что нужно найти Адама Первого и вертоградарей, пока еще кто-нибудь до них не добрался. Завтра он сходит в Отстойник, проверит сад «Райский утес» и еще пару конспиративных квартир «трюфелей». И другие места, где мог спрятаться Адам Первый со своей группой. Шекки говорит, что пойдет с Зебом, и Черный Носорог с Катуро — тоже. Всем прочим нужно остаться и оборонять жилище от собак, свиней и двух больболистов, на случай если они вернутся.
Белоклювый Дятел рассказывает Зебу про Тоби и про то, что Бланко умер. Зеб глядит на Тоби и говорит: «Отлично, детка». Мне почти страшно слышать, как Тоби называют деткой: все равно как если бы Бога кто-нибудь назвал славным малым.
Я набираюсь храбрости и заявляю, что надо найти Аманду и отнять ее у больболистов. Шекки говорит, что проголосует «за», и я вижу, что он не врет. Зеб говорит: очень жаль, но мы должны понять, что это выбор, или-или. Аманда — один человек, а там целая группа вертоградарей, и, если бы Аманда была тут, она бы и сама так решила.
— Хорошо, тогда я пойду одна, — заявляю я.
— Не говори глупостей, — отвечает Зеб, как будто мне все еще одиннадцать лет.
Кроз говорит, что пойдет со мной, и я благодарно сжимаю ему руку. Но Зеб говорит, что Кроз нужен дома, без него не обойдутся. Если я подожду, пока вернутся Зеб, Шекки, Носорог и Катуро, то со мной пошлют трех человек с распылителями, и тогда у нас будет гораздо больше шансов.
Но я говорю, что у нас мало времени: больболисты хотели обменять Аманду, а это значит, что она им надоела и они могут ее убить в любой момент. Я знаю, как это бывает. Как в «Чешуйках», с временными сотрудницами: она — расходный материал. Поэтому я должна ее найти прямо сейчас, и я знаю, что это опасно, но мне все равно. Тут я начинаю плакать.
Все молчат. Тоби заявляет, что пойдет со мной. Она возьмет свой карабин — она неплохо стреляет. Может быть, больболисты уже израсходовали весь заряд распылителей, и тогда наши шансы возрастут.
— Это не очень удачная идея, — говорит Зеб.
Выдержав паузу, Тоби говорит, что более удачной идеи у нее нет и она не может отпустить меня в лес одну, это равносильно убийству. Зеб кивает:
— Будь очень осторожна.
Значит, дело улажено.
Беззумные Аддамы вешают в большой комнате гамаки, сплетенные из изоленты, для Тоби и меня. Тоби все еще разговаривает с Зебом и остальными, так что я ложусь первая. В гамак постелили коврик из париковцы, так что лежать очень удобно. Я ужасно беспокоюсь о том, как искать Аманду и что будет, когда мы ее найдем, но все равно умудряюсь наконец заснуть.
Утром, когда мы встаем, оказывается, что Зеб, Шекки, Катуро и Черный Носорог уже ушли, но Ребекка говорит, что Зеб нарисовал для Тоби карту в старой детской песочнице, на ней показан саманный домик и побережье, чтобы Тоби знала, куда идти. Тоби долго со странным выражением лица — какой-то печальной улыбкой — рассматривает карту. Но может быть, она просто запоминает ее наизусть. Посмотрев, она ее стирает.
После завтрака Ребекка дает нам с собой сушеного мяса, а Белоклювый Дятел — два гамака полегче, потому что на земле спать опасно, и мы наполняем бутылки водой из колодца, выкопанного за домом. Тоби много чего оставляет — бутылочки с Маком, грибы, контейнер с опарышами, все лечебное, — но берет котелок, нож, спички и веревку, потому что мы не знаем, сколько времени нас не будет. Ребекка обнимает Тоби и говорит:
— Будь осторожна, миленькая.
И мы выходим.
Мы идем долго-долго; в полдень останавливаемся перекусить. Тоби все время прислушивается. Она говорит, что неправильные птичьи звуки — тревожный сигнал. Например, слишком сильное карканье ворон. Или если птицы, наоборот, совсем замолкли. Но мы не слышим ничего, только фоновое чириканье и трели.
— Обои из птиц, — говорит Тоби.
Мы идем, потом опять едим и опять идем. Вокруг очень много листьев; они воруют воздух. И еще мне страшно, потому что в прошлый раз, идя по лесу, мы нашли повешенного Оутса.
Когда темнеет, мы находим деревья побольше, вешаем гамаки и залезаем в них. Но я не могу заснуть. Потом я слышу пение. Оно прекрасно, но не похоже на нормальное пение. Прозрачное, как стекло, но какое-то слоистое. Словно колокольчики.
Пение затихает, и я думаю — может, это у меня фантазии. А потом мне приходит в голову, что это, должно быть, те самые синие люди: наверное, это они так поют. Я представляю себе Аманду среди них: они ее кормят, заботятся о ней, мурлычут, чтобы ее исцелить и утешить.
Это все фантазии. Я выдаю желаемое за действительное. Я знаю, что так нельзя делать. Нужно жить в реальном мире. Но в реальности слишком много тьмы. Слишком много ворон.
Адамы и Евы когда-то говорили: «Мы — это то, что мы едим». Но я думаю, лучше так: «Мы — это то, о чем мы мечтаем». Потому что если человек не может мечтать, зачем вообще жить?
День святого Терри и всех Путников
День святого Терри и всех Путников
Год двадцать пятый
Дорогие друзья, дорогие создания, дорогие мои спутники на опасной дороге, кою ныне представляет собой наш жизненный путь!
Как далеко ушел в прошлое последний День святого Терри, который мы отмечали в нашем возлюбленном саду на крыше «Райский утес»! Тогда мы не понимали, сколь блаженны были те времена по сравнению с темными временами, переживаемыми ныне. Тогда мы могли взглянуть окрест и хоть видели только трущобы и порок, но взирали из места воскресения и возрождения, украшенного невинными Растениями и хлопотливыми Пчелами. Мы вздымали голоса в песне, уверенные, что одержим победу, ибо наши цели были достойными, наши методы — ненасильственными. Мы, в своей невинности, верили в это. Множество прискорбных событий произошло с тех пор, но Дух, что вдохновлял нас тогда, по-прежнему с нами.
День святого Терри посвящен всем Путникам, и первый среди них — святой Терри Фокс, убежавший столь далеко на одной живой и одной железной ногах. Он оставил нам блистательный пример храбрости перед лицом непреодолимых препятствий; он показал, на что способно человеческое тело в плане передвижения без использования горючих полезных ископаемых; он бросил вызов Смерти, в конце концов обогнал собственную Кончину и поныне живет в нашей памяти.
Также в этот день мы вспоминаем святую Соджорнер Трут, что вела беглых рабов два века назад. Она прошла много миль, ориентируясь лишь по звездам. Еще мы вспоминаем святых Шеклтона и Крозье, прославившихся в Антарктике и Арктике; и святого Лоуренса (Титуса) Оутса из экспедиции Скотта. Оутс шел там, где до него не ступала ничья нога, и во время метели пожертвовал собой ради своих спутников. Да будут его бессмертные последние слова вдохновлять нас на пути: «Я пойду пройдусь и, может, вернусь не сразу».
Все святые, чью память мы чтим сегодня, — Путники. Они прекрасно знали, что путешествие лучше прибытия, если идешь в твердой вере и бескорыстно. Пусть же эта мысль живет в наших сердцах, друзья-спутники.
Сегодня подобает также вспомнить о тех, кого мы потеряли на этом пути. Даррен и Куилл пали жертвой болезни, симптомы коей возбуждают мрачные предчувствия. По собственному желанию Даррен и Куилл остались позади. Мы благодарим их за самоотверженность, проявленную ради спасения тех, кто еще здоров.
Фило вошел в состояние «под паром» и ныне отдыхает на крыше многоэтажного гаража, каковое место, возможно, напоминает ему наш милый сад «Райский утес».
Мы не должны были позволять Мелиссе так сильно отстать. Посредством стаи диких собак она ныне принесла высший Дар своим собратьям-созданиям и стала частью великого Господня круговорота белков.
Окутаем ее Светом в своих сердцах.
Воспоем же.
Последний шаг
74
Рен. День святого Терри и всех Путников
Год двадцать пятый
Когда я просыпаюсь, Тоби уже сидит в гамаке и делает упражнения на растяжку рук. Она мне улыбается — в последнее время она как-то чаще стала улыбаться. Может быть, хочет меня подбодрить.
— Какой сегодня день? — спрашивает она.
Я ненадолго задумываюсь.
— Святого Терри, святой Соджорнер, — говорю я. — И всех Путников.
Тоби кивает.
— Давай помедитируем немного. Сегодня мы пойдем по очень опасному пути; нам понадобится внутренний покой.
Если Адам или Ева велят медитировать, отказываться нельзя. Тоби вылезает из гамака, а я сторожу на всякий случай. Тоби садится в позу лотоса; для своего возраста она очень гибкая. Наступает моя очередь; я хоть и гнусь как резиновая, но не могу медитировать как следует. У меня не выходят первые три части — Испрашивание прощения, Благодарность и Прощение других. Особенно Прощение других, потому что я не знаю, кого мне нужно простить. Адам Первый сказал бы, что я слишком исполнена страха и гнева.
Так что я думаю про Аманду и про то, сколько всего она для меня сделала, а я никогда ничего не делала для нее. Вместо этого я позволила себе ревновать ее к Джимми, хотя это была совершенно не ее вина. И это было нечестно. Мне нужно найти Аманду и спасти ее оттого, что с ней происходит. Хотя, может быть, она уже висит на дереве с вырезанными частями, как Оутс.
Но я не хочу представлять себе такую картину, так что вместо этого представляю себе, как я иду к Аманде, потому что именно это мне нужно будет сделать.
Адам Первый, я помню, говорил: путешествует не только тело, но и Душа. И конец одного путешествия — это начало другого.
— Я готова, — говорю я Тоби.
Мы съедаем часть сушеного мяса париковцы, запиваем водой и прячем гамаки под кустом, чтобы не тащить их. Но рюкзаки надо взять, говорит Тоби, с едой и всем прочим. Потом мы осматриваемся — не осталось ли чересчур заметных следов? Тоби проверяет ружье.
— Мне понадобятся только две пули, — говорит она.
— Это если ты не промахнешься, — поправляю я. По одной на каждого больболиста: я представляю себе, как пули летят по воздуху, прямо… куда? В глаз? В сердце? От этой картины меня передергивает.
— Я не могу позволить себе промахнуться, — говорит Тоби. — У них пистолет-распылитель.
Мы снова выходим на тропу и идем по ней в направлении моря, откуда ночью слышались голоса.
Скоро мы опять слышим эти голоса, но они не поют, а только разговаривают. Пахнет дымом — от горящего костра, — и смеются дети. Это Гленновы искусственные люди. Без вариантов.
— Иди медленно, — тихо говорит Тоби. — Те же правила, что и для животных. Будь очень спокойна. Если придется уходить, пяться, иди спиной вперед. Нельзя поворачиваться и бежать.
Я не знаю, чего жду, но то, что я вижу, совершенно неожиданно. Передо мной поляна, где горит костер, а вокруг него сидят люди, человек тридцать. Они все разных цветов — черные, коричневые, желтые и белые, — но все молодые. И все совершенно голые.
Лагерь нудистов, думаю я. Но это я так шучу. Они слишком красивы — идеальны, даже чересчур. Будто сошли с рекламы салона красоты «НоваТы». Сисимпланты и полная эпиляция всего тела воском — у них на теле нет вообще никаких волос. Отретушированы. Покрыты лаком.
Иногда трудно во что-то поверить, пока не увидишь своими глазами, и с этими людьми как раз так. Я до конца не верила, что Гленн их все-таки сделал; я не поверила Крозу, хотя он по правде видел этих людей. Но вот они, прямо передо мной. Все равно что единорога встретить. Мне хочется послушать, как они будут мурлыкать.
Заметив нас — сперва кто-то из детей, потом женщина, потом все, — они бросают свои дела и поворачиваются к нам, все разом. Вид у них не испуганный и не угрожающий — заинтересованный, но спокойный. Они смотрят, как париковцы. И жуют, как париковцы. Жуют они что-то зеленое — один-два ребенка настолько удивились нашему появлению, что застыли с разинутыми ртами.
— Здравствуйте, — говорит им Тоби. А мне: — Стой тут.
Она делает шаг вперед. Один из мужчин, сидящих на корточках у огня, встает и выдвигается из общего ряда.
— Приветствуем тебя, — говорит он. — Ты друг Снежного Человека?
Я будто слышу, как Тоби обдумывает ответ. Кто такой Снежный Человек? Если она скажет «да», не сочтут ли ее врагом? А если она скажет «нет»?
— А Снежный Человек — хороший? — спрашивает Тоби.
— Да, — отвечает мужчина. Он выше других и, кажется, говорит от имени всех. — Снежный Человек — очень хороший. Он наш друг.
Остальные кивают, не прекращая жевать.
— Тогда мы тоже его друзья, — говорит Тоби. — И ваши друзья тоже.
— Ты похожа на него, — говорит мужчина. — У тебя лишняя кожа, как у него. Но нет перьев. Ты живешь на дереве?
— Перьев? — спрашивает Тоби. — На лишней коже?
— Нет, на лице. Приходил другой похожий на Снежного Человека. С перьями. И с ним другой, с короткими перьями. И женщина, которая пахла синим, но вела себя не по-синему. Может быть, та женщина, которая с тобой, тоже такая?
Тоби кивает, словно все поняла. Может, и правда поняла. Я даже не могу сказать, что именно ей понятно.
— Она пахнет синим, — говорит другой мужчина. — Эта женщина, которая с тобой.
Все мужчины принимаются обнюхивать меня, словно я цветок или какой-нибудь сыр. У нескольких возникает внушительная эрекция. Синего цвета. Кроз меня об этом предупредил, но я никогда ничего подобного не видела, даже в «Чешуйках», где некоторые клиенты увлекались раскраской тела и разными удлинителями. Несколько мужчин начинают странно гудеть, как гудит хрустальный бокал, если провести пальцем по кромке.
— Но та другая женщина, которая приходила, испугалась, когда мы запели ей, и предложили ей цветы, и стали махать ей членами, — говорит главный.
— Да. И двое мужчин тоже испугались. Они убежали.
— Какого роста была та женщина? — спрашивает Тоби. — Выше этой?
Она показывает на меня.
— Да. Выше. Она была больна. И печальна. Мы бы помурлыкали над ней и вылечили ее. И тогда мы могли бы с ней спариться.
Это Аманда, думаю я. Значит, она еще жива, ее не убили. Мне хочется завопить: «Скорее!» Но Тоби пока никуда не торопится.
— Мы хотели, чтобы она выбрала четырех мужчин для спаривания, — говорит главный. — Может быть, эта женщина, которая с тобой, выберет. Она очень сильно пахнет синим!
При этом все мужчины улыбаются — у них ослепительно белые зубы, — указывают на меня своими членами и качают ими из стороны в сторону, словно довольные собаки виляют хвостами.
Четырех? И со всеми сразу? Я не хочу, чтобы Тоби застрелила кого-нибудь из этих мужчин — они, кажется, очень кроткие и точно очень красивые, — но мне не хочется иметь ничего общего с этими ярко-синими членами.
— На самом деле моя подруга не синяя, — говорит Тоби. — Это все ее лишняя кожа. Ей одолжила лишнюю кожу женщина, которая была синей. Потому моя подруга и пахнет синим. Куда они пошли? Те двое мужчин и женщина?
— Вдоль берега, — отвечает главный. — А сегодня утром Снежный Человек пошел их искать.
— Мы можем заглянуть ей под лишнюю кожу и посмотреть, насколько она синяя.
— У Снежного Человека болит нога. Мы над ней мурлыкали, но мало, нужно еще.
— Если бы Снежный Человек был здесь, он бы разобрался, насколько она синяя. Он бы сказал нам, что мы должны делать.
— Синий цвет нельзя терять попусту. Это дар Коростеля.
— Мы хотели пойти с ним. Но он велел нам оставаться тут.
— Снежный Человек все знает, — говорит одна из женщин.
До сих пор все женщины молчали, но теперь они все кивают и улыбаются.
— Теперь нам нужно идти — помочь Снежному Человеку, — говорит Тоби. — Он наш друг.
— Мы пойдем с вами, — говорит другой мужчина, пониже ростом, желтокожий, с зелеными глазами. — Мы тоже поможем Снежному Человеку.
Я замечаю, что у них у всех зеленые глаза. А пахнет от них цитрусовыми.
— Снежному Человеку часто нужна наша помощь, — говорит высокий. — У него слабый запах. В его запахе совсем нет силы. А теперь он болен. У него больная нога. Он хромает.
— Если Снежный Человек велел вам оставаться здесь, вы должны оставаться здесь, — говорит Тоби.
Они переглядываются: их что-то беспокоит.
— Мы останемся здесь, — отвечает высокий. — Но вы возвращайтесь скорее.
— И приведите Снежного Человека, — говорит одна женщина. — Чтобы мы ему помогли. Тогда он снова сможет жить у себя на дереве.
— И еще мы дадим ему рыбу. Он радуется рыбе.
— Он ее съедает, — говорит один ребенок и морщится. — Он ее жует. Он ее глотает. Так велел ему Коростель.
— Коростель живет на небе. Он нас любит, — говорит низенькая женщина.
Они, кажется, думают, что Коростель — Бог. Гленн в черной футболке в роли Бога — это довольно забавно, если знать, какой он был на самом деле. Но я не смеюсь.
— Мы и вам можем дать рыбу, — говорит женщина. — Вы хотите рыбу?
— Да. Приведите Снежного Человека, — говорит высокий мужчина. — Тогда мы поймаем двух рыб. Трех. Одну тебе, одну Снежному Человеку, одну этой женщине, которая пахнет синим.
— Мы постараемся, — говорит Тоби.
Это, кажется, ставит их в тупик.
— Что такое «постараемся»?
Мы выходим из-под деревьев к солнечному свету и шуму моря, идем по мягкому сухому песку до полосы твердого мокрого песка у края воды. Волна скользит вверх, потом с тихим шипением отступает, словно дышит большая змея. Берег усеян разноцветным мусором: обломками пластика, пустыми жестянками, битым стеклом.
— Я уж думала, они сейчас на меня прыгнут, — говорю я.
— Они тебя почуяли, — объясняет Тоби. — Запах эстрогена. Они решили, что ты в течке. Они спариваются только тогда, когда самка синеет. Как бабуины.
— Откуда ты все это знаешь? — спрашиваю я. Кроз рассказывал мне про синие члены, но не про эстроген.
— От Белоклювого Дятла, — говорит Тоби. — Беззумные Аддамы помогали разрабатывать эту схему. По их задумке она должна упрощать жизнь. Упрощать выбор полового партнера. Больше никаких романтических страданий. А теперь нам надо идти очень тихо.
Романтических страданий, думаю я. Интересно, что она об этом знает?
Из воды прямо у берега торчат несколько многоэтажных зданий. Я помню их по вертоградарским походам на пляж Парка Наследия. Раньше тут была суша — до того, как уровень моря сильно поднялся, и до всех ураганов. Мы это проходили в школе. В небе реют чайки, садятся на плоские крыши.
Я думаю: тут можно достать яйца. И рыбу. При крайней нужде, учил Зеб, можно рыбачить ночью со светом. Сделать факел, рыба плывет на свет. В песке видны норы крабов — небольших. Дальше по пляжу растет крапива. И водоросли можно есть. Святой Юэлл и все такое.
Я снова размечталась: планирую обед, когда в глубине сознания у меня только страх. У нас ничего не получится. Мы не сможем выручить Аманду. Нас убьют.
Тоби обнаруживает следы на мокром песке: несколько человек в ботинках, вот место, где они разулись — может быть, чтобы вымыть ноги, а вот тут они снова обулись и пошли к лесу.
Может быть, сейчас они смотрят на нас из-за тех деревьев. Наблюдают. Или даже целятся.
Поверх их следов — следы другого человека. Босые.
— Кто-то хромой, — шепчет Тоби, и я думаю: это наверняка Снежный Человек. Сумасшедший, живущий на дереве.
Мы осторожно снимаем рюкзаки и оставляем их на границе песка с травой и сорняками, под крайними деревьями. Тоби говорит: лишняя тяжесть ни к чему, нам нужны будут свободные руки.
75
Тоби. День святого Терри и всех Путников
Год двадцать пятый
Тоби думает: ну что, Господи? Что скажешь? Если считать, что Ты существуешь. Только говори быстро, потому что это, может быть, конец всему: стоит нам сцепиться с больболистами, и у нас будет примерно столько же шансов, сколько у снежинки на сковородке. По-моему, так.
И что, эти новые люди соответствуют Твоему представлению об улучшенной модели? Таким ли был задуман первый Адам? Заменят ли они нас? Или Ты пожмешь плечами и продолжишь работу с нынешним человеческим родом? Если и так, Ты выбрал довольно странно: кучку бывших ученых, горсть вертоградарей-отступников, двух психов и одну почти мертвую женщину. Вряд ли можно сказать, что выжили наиболее приспособленные: кроме разве что Зеба, но даже Зеб устал.
А вот еще Рен. Неужели нельзя было выбрать не такое хрупкое существо? Не такое невинное? Кого-нибудь покрепче? Будь она животным, кем она оказалась бы? Мышкой? Синичкой? Оленем в свете фар? В критический момент она просто развалится. Нужно было оставить ее на берегу. Но это лишь оттянуло бы неизбежное, потому что, если погибну я, погибнет и она. Даже если она побежит, до саманного домика слишком далеко: она туда не доберется, и, даже если больболисты ее не поймают, она заблудится. А кто будет защищать ее в диких лесах от свиней и псов? Не эти же синие. Особенно если у больболистов есть работающий распылитель. Если Рен не убьют сразу, ей придется гораздо хуже.
Адам Первый, помнится, говорил: «Набор нот человеческой души ограничен: все мелодии, которые можно из него составить, давно уже сыграны и переиграны. И, друзья мои, хоть мне и неприятно это говорить, в нем есть очень низкие ноты».
Тоби останавливается и проверяет карабин. Снимает его с предохранителя.
Левая нога, правая, тихо продвигаемся вперед. Ноги ступают по опавшим листьям, и слабый звук шагов бьет по ушам, как крик. Как я видна и слышна, думает Тоби. Все твари, какие есть в этом лесу, смотрят на меня. Ждут крови, чуют ее, слышат, как она бежит у меня по жилам, «та-дыш». Над головой, в вершинах, клубятся предатели-вороны: «Ха! Ха! Ха!» Они хотят моих глаз.
Но каждый цветок, каждая веточка, каждый камушек сияют, словно освещенные изнутри, как однажды раньше, как в мой первый день в саду. Это стресс, это адреналин, это биохимия: Тоби это прекрасно знает. Но почему в нас такое встроено? — думает она. Почему мы запрограммированы на то, чтобы видеть мир прекраснейшим в момент, когда нас вот-вот замочат? Чувствуют ли кролики то же самое, когда лисьи зубы вонзаются им в загривок? Может, это милосердие?
Она останавливается, оборачивается, улыбается Рен.
«Интересно, насколько у меня ободряющий вид? — думает она. — Спокойный и собранный? Похожа ли я на человека, который соображает, что делает? Я не справлюсь. Я медленно двигаюсь, слишком стара, заржавела, у меня уже не та реакция, меня отягощает совесть. Прости меня, Рен. Я веду тебя на верную смерть. Я молюсь, чтобы, если промахнусь, мы обе умерли быстро. На этот раз тут нет пчел и некому нас спасти.
Какому святому я сейчас должна молиться? У кого достаточно решимости и умения? Безжалостности. Умения выбирать. Меткости.
Милый Леопард, милый Волк, милый Львагнец. Укрепите меня своим Духом».
76
Рен. День святого Терри и всех Путников
Год двадцать пятый
Заслышав голоса, мы идем очень медленно. Пятку на землю, объяснила Тоби, перекатываешь ступню вперед, другую пятку на землю. Так сухие ветки не будут трещать под ногой.
Голоса — мужские. Мы чуем дым от их костра и еще другой запах — обугленное мясо. Я понимаю, до чего голодна: чувствую, как у меня текут слюнки. Я стараюсь думать об этом голоде, а не о своем страхе.
Мы подглядываем из-за листвы. Да, это они: один с темной бородой подлиннее, другой со светлой щетиной и начинающей зарастать бритой головой. Я вспоминаю про них все, и меня тошнит. Страх и ярость скручивают мой желудок и посылают щупальца по всему телу.
Но я вижу Аманду, и мне вдруг становится очень легко. Словно вот-вот полечу.
Руки у нее свободны, но на шее петля, а другой конец веревки привязан к ноге темнобородого. Аманда по-прежнему в хаки, в костюме первопроходицы, но он еще грязнее, чем раньше. Лицо у нее в потеках грязи, волосы тусклые и свалялись. Под одним глазом фиолетовый синяк, и на руках, где они видны из-под рукавов, тоже синяки. На ногтях еще сохранились следы оранжевого лака от маникюра, что мы тогда делали в «Чешуйках». Когда я это вижу, мне хочется плакать.
От нее остались кожа да кости. Правда, двое больболистов тоже не сказать, что упитанны.
У меня учащается дыхание. Тоби берет мою руку и сжимает. Это значит: «Сохраняй спокойствие». Она поворачивает ко мне смуглое лицо и улыбается улыбкой мумии: губы приподнимаются, обнажая кончики зубов, мускулы челюсти напряжены, и мне вдруг становится жаль больболистов. Тоби отпускает мою руку и очень медленно поднимает карабин.
Мужчины сидят по-турецки и жарят какое-то мясо на палочках над углями. Мясо скунота. На земле рядом валяется черно-белый полосатый хвост. Пистолет-распылитель тоже лежит на земле. Тоби, должно быть, его видела. Я будто слышу, как она думает: «Если я застрелю одного, успею ли застрелить другого раньше, чем он меня?»
— Может, это у них, дикарей, так принято, — говорит темнобородый. — Синяя краска.
— Не. Татуировки, — отвечает коротковолосый.
— Кто ж станет себе хер иголками колоть? — спрашивает бородатый.
— Дикари на чем угодно наколки сделают, — говорит другой. — У них, у каннибалов, так.
— Это ты разных тупых фильмов насмотрелся.
— Зуб даю, они ее принесут в жертву на раз, — говорит бородатый. — Сперва все трахнут, а потом…
Они глядят на Аманду, но она смотрит в землю. Бородатый дергает за веревку.
— Эй, бля, мы с тобой разговариваем.
Аманда поднимает голову.
— Съедобная секс-игрушка, — говорит коротковолосый, и оба хохочут. — А ты видал, какие у ихних баб сисимпланты?
— Не, это настоящее. Можно узнать, если разрезать. В фальшивых внутри гель такой. Может, вернемся, поменяемся с ними? — говорит бородатый. — С дикарями. Отдадим им эту, раз они ее так хотят, пускай суют в нее свои синие, а мы у них возьмем пару красивых девочек. По-моему, отличный обмен.
Я вижу Аманду их глазами: использованная, пустая. Бесполезная.
— Чего с ними меняться? — спрашивает коротковолосый. — Вернемся да пристрелим.
— Заряда на всех не хватит. По правде мало осталось. Они сообразят и навалятся всей толпой. Разорвут нас на клочки и сожрут.
— Нужно убраться от них подальше, — говорит коротковолосый, уже встревоженно. — Их тридцать, а нас двое. Вдруг они подкрадутся в темноте?
Они замолкают, обдумывая такую возможность. У меня по всей коже ползут мурашки от ненависти. Я не понимаю, чего ждет Тоби. Почему не возьмет и не убьет их? Потом я думаю: она из старых вертоградарей, она не может хладнокровно взять и убить. Ей религия не позволяет.
— Неплохо, — говорит бородатый, пробуя мясо на палочке. — Завтра пристрелим еще одного, они вкусные.
— А ее будем кормить? — спрашивает коротковолосый. Он облизывает пальцы.
— Можешь ей дать из своей порции, — говорит бородатый. — Дохлая она нам ни к чему.
— Это мне дохлая ни к чему, — говорит коротковолосый. — А ты такой извращенец, что и дохлую трахнешь.
— Кстати говоря, сегодня ты первый. Смажешь трубу. Ненавижу ебать по сухому.
— Я вчера был первый.
— Ну так что, поборемся на руках?
Вдруг на поляне возникает еще один человек — голый мужчина, но не из зеленоглазых красавцев. Он изможден и весь в язвах. У него длинная косматая борода и очень сумасшедший вид. Но я его знаю. Или мне кажется. Ведь это Джимми?
У него в руках пистолет-распылитель, направленный на двух мужчин. Он их застрелит. Он сосредоточен, как бывают только сумасшедшие.
Но тогда он и Аманду застрелит, потому что темнобородый при виде его вскакивает на колени и притягивает к себе Аманду, прикрываясь ею, как щитом, и захватив одной рукой ее шею. Коротковолосый ныряет за них. Джимми колеблется, но не опускает пистолет.
— Джимми! — кричу я из кустов. — Не стреляй! Это Аманда!
Он, наверное, решил, что кусты с ним разговаривают. Поворачивает голову. Я выхожу из-за кустов.
— Отлично! — говорит бородатый. — Вторая девка. Теперь у нас будет у каждого своя!
Он ухмыляется. Коротковолосый, скрючившись, тянется за их пистолетом.
На поляну выходит Тоби. Карабин поднят и наведен на цель.
— Ну-ка брось, — говорит она коротковолосому.
Уверенно и четко, но очень ровно и без всякого выражения. Должно быть, ее голос его пугает, да и вид тоже — тощая, оборванная, зубы оскалены. Как баньши из телевизора или ходячий скелет: существо, которому нечего терять.
Коротковолосый застывает. Темнобородый не знает, куда повернуться: Джимми стоит перед ним, а Тоби — сбоку.
— А ну назад! А то я ей шею сломаю, — говорит он всем сразу. Говорит очень громко — это значит, что он боится.
— Меня это, может, и волнует, а его — точно нет. — Тоби имеет в виду Джимми.
Она обращается ко мне:
— Забери пистолет. Смотри, чтобы этот тебя не схватил.
Коротковолосому:
— Ложись!
Мне:
— Береги щиколотки.
Бородатому:
— А ну отпусти ее!
Все происходит очень быстро, но словно в замедленной съемке. Голоса доносятся будто издалека; солнце такое яркое, что мне больно; свет словно потрескивает у нас на лицах; мы сверкаем, сияем, словно электрический ток бежит по нам, как вода. Я как будто вижу тела насквозь — все тела. Вены, сухожилия, кровоток. Слышу стук сердец, как приближающийся гром.
Я думаю, что сейчас упаду в обморок. Но не могу, потому что должна помочь Тоби. Сама не знаю как, я подбегаю к ним. Так близко, что слышу их запах. Застарелый пот и сальные волосы. Хватаю их пистолет.
— Обойди его сзади! — командует мне Тоби. А больболисту: — Руки за голову!
Снова мне:
— Если он сейчас же не поднимет руки, стреляй.
Она говорит так, как будто я умею обращаться с этой штукой. А Джимми она говорит: «Тихо, тихо» — словно большому перепуганному животному.
Все это время Аманда не двигалась, но стоит темнобородому ее отпустить, она бросается, как змея. Сдергивает с шеи веревочную петлю и наотмашь бьет его по лицу. Потом пинает его в яйца. Я вижу, что силы у нее на исходе, но она вкладывает их все в этот удар, а когда бородатый падает и складывается пополам, она пинает второго. Потом хватает камень и бьет одного за другим по голове, течет кровь. Аманда роняет камень и хромает ко мне. Она плачет, хватая ртом воздух, и я знаю, что ей пришлось очень лихо, пока меня не было, потому что нужен целый отдельный ужас, чтобы довести Аманду до слез.
— Ох, Аманда, — говорю я ей. — Бедная ты моя.
Джимми шатается.
— Ты настоящая? — спрашивает он у Тоби.
Он совершенно сбит с толку. Он протирает глаза.
— Не меньше, чем ты, — отвечает она и обращается ко мне: — Ну-ка свяжи их. И хорошенько. Когда они придут в себя, то будут очень сердиты.
Аманда вытирает лицо рукавом. Мы связываем больболистов — по отдельности, а потом вместе, руки за спину, каждому по петле на шею. Веревки мало, но пока что хватит.
— Это ты? — спрашивает Джимми. — Я, кажется, тебя где-то видел.
Я иду к нему — очень медленно и осторожно, потому что у него до сих пор пистолет в руках.
— Джимми, — говорю я, — это я, Рен. Помнишь меня? Положи эту штуку. Уже все хорошо.
Так говорят с детьми.
Джимми опускает пистолет-распылитель; я обнимаю Джимми и долго не разжимаю рук. Он дрожит, но на ощупь ужасно горячий.
— Рен? — повторяет он. — Ты умерла?
— Нет, Джимми. Я жива, и ты тоже.
Я приглаживаю ему волосы.
— У меня в голове такая каша, — говорит он. — Мне иногда кажется, что все умерли.
День святой Юлианы и Всех Душ
День святой Юлианы и Всех Душ
Год двадцать пятый
Дорогие мои, немногие оставшиеся друзья!
У нас совсем мало времени. Часть его мы использовали на то, чтобы добраться сюда, на место бывшего сада «Райский утес», где во дни, более преисполненные надежд, мы столь счастливо проводили время.
Воспользуемся этой возможностью, чтобы в последний раз поразмыслить о Свете.
Ибо восходит новая луна, знаменующая наступление Дня святой Юлианы и Всех Душ. Всех Душ, а не только человеческих; в их число входят души всех живых Созданий, прошедших по этой Жизни, претерпевших Великое Превращение и вошедших в состояние, называемое Смертью, которое правильнее называть Новой Жизнью. Ибо в сем, нашем Мире и в очах Господа ни единый атом, когда-либо существовавший, не потерян.
Дорогой Диплодок, дорогой Птерозавр, дорогой Трилобит; дорогой Мастодонт, дорогой Додо, дорогая Бескрылая гагарка; дорогой Странствующий голубь; дорогая Панда, дорогой Американский журавль; и вы, бесчисленные остальные, кто в свой день резвился в нашем общем саду: будьте с нами в день нашего испытания, укрепите нашу решимость. Как и вы, мы радовались воздуху, солнечным лучам, лунной дорожке на воде; как и вы, мы слышали призывы времен года и отвечали им. Как и вы, мы наполняли Землю. И, как и вы, мы ныне должны присутствовать при гибели своего Вида и исчезнуть с лица Земли.
Как всегда в этот день, слова святой Юлианы Нориджской, этой сострадательной святой четырнадцатого века, напоминают нам о хрупкости нашего Космоса — о хрупкости, вновь подтвержденной физиками двадцатого столетия, когда Наука открыла огромные пустые пространства не только внутри атомов, но и меж звездами. Наш Космос — не более чем снежинка. Обрывок кружева. Как прекрасно сказала наша святая Юлиана, выразив свою нежность ко Вселенной в словах, которые отдаются эхом в веках:
«…Он также явил маленькую вещь, размером с лесной орех, в ладони моей руки, и вещь эта была круглой, как шарик. Я посмотрела на нее мысленным взором и подумала: „Что бы это могло быть?“ И был мне примерно такой ответ: „Это все, что сотворено“. Я удивилась, как она вообще могла существовать, потому что мне казалось, что она была такой крошечной, что могла в одночасье исчезнуть. И был мне ответ в моем сознании: „Она пребывает и пребудет вечно, потому что Бог любит ее; и все имеет свое бытие по любви Божьей“».[22]
Заслуживаем ли мы Любви, с коей Господь хранит наш Космос? Заслуживаем ли мы ее как Вид? Взяв данный нам Мир, мы беспечно уничтожили самую его ткань и населявших его Созданий. Другие религии научили нас, что сей Мир будет свернут, как свиток, сожжен и превращен в ничто и что затем мы увидим новое небо и новую землю. Но с какой стати Господь дарует нам новую землю, если мы так плохо обошлись с нынешней? Нет, друзья мои. Не эта земля будет уничтожена, а Род Человеческий. Быть может, Господь создаст новую расу, более сострадательную, которая займет наше место.
Ибо Безводный потоп прокатился по нам — не ураганом, не градом комет, не облаком ядовитых газов. Нет; как мы давно подозревали, это оказалась чума: чума, не поражающая ни одного вида, кроме нашего, не вредящая никаким иным Созданиям. Огни наших городов погасли, системы связи не работают. Гибель и разрушение нашего Сада стали прообразом гибели и разрушения, опустошивших улицы, пролегающие там, внизу. Мы больше не страшимся, что нас обнаружат; прежние враги больше не могут нас преследовать, ибо их, должно быть, сейчас больше всего волнуют чудовищные мучения, сопровождающие распад их собственных телесных оболочек, — если они вообще еще живы.
Но мы не должны, да и не можем, радоваться этому. Ибо вчера чума забрала троих из нас. И я уже чувствую в себе те изменения, которые отражаются в ваших глазах. Мы слишком хорошо знаем, что нас ждет.
Но да встретим мы свою кончину смело и с радостью! Окончим молитвой за Все Души. Среди них — и души тех, кто нас преследовал; тех, кто убивал Господни Создания, кто привел к вымиранию Его Виды; тех, кто пытал именем закона; тех, кто поклонялся лишь богатству; и тех, кто ради достижения земной славы и власти причинял другим боль и смерть.
Простим убийц Слонов, и тех, кто уничтожил последних Тигров; и тех, кто убивал Медведей ради их желчных пузырей, и Акул ради их хрящей, и Носорогов ради их рогов. Простим их от всей души, как и нас — мы надеемся — простит Господь, держащий в Своей деснице наш хрупкий Космос и хранящий его Своей бесконечной Любовью.
Это Прощение — самая трудная задача, которая когда-либо выпадала на нашу долю. Дай нам сил, Господи.
А теперь давайте все возьмемся за руки.
Воспоем же.
Земля простит нам
77
Рен. День святой Юлианы и Всех Душ
Год двадцать пятый
Над морем восходит новая луна: это начался День святой Юлианы и Всех Душ.
В детстве я любила праздник святой Юлианы. Каждый из детей мастерил свой Космос из восторгнутых материалов. Потом мы обклеивали космосы блестящими штучками и подвешивали на веревочках. За трапезой в этот день подавалась круглая еда — тыквы, редиска, — и весь сад украшался нашими сверкающими вселенными. Один раз мы сделали космосы из проволоки и засунули внутрь по свечному огарку; это было очень красиво. В другой раз мы хотели изобразить руки Бога, держащие Космос, но желтые резиновые перчатки для хозяйственных работ, которые мы решили использовать, смотрелись очень странно, как руки зомби. И вообще трудно представить себе Бога в перчатках.
Мы сидим у костра — Тоби, Аманда и я. И Джимми. И два больболиста из «золотой» команды. Их тоже приходится считать. Отблески костра мерцают на наших лицах, делая их мягче и красивее, чем на самом деле. Но иногда — темнее и страшнее, когда лицо уходит в тень и глаз не видно, только глазницы. Колодцы, уходящие в глубь головы, — их переполняет, льется через край чернота.
У меня болит все тело, но в то же время я ужасно радуюсь. Нам повезло, думаю я. В том, что мы здесь. Всем нам, даже больболистам.
Когда прошла послеобеденная гроза и жара спала, я сходила на пляж за нашими рюкзаками и принесла их на поляну, а заодно и пучок листовой горчицы, найденной по дороге. Тоби вытащила котелок, чашки, нож и большую ложку. Сварила суп из останков скунота, остатков выданного Ребеккой мяса и каких-то сушеных трав. Опуская кости скунота в воду, она ритуально испросила прощения.
— Но ты же его не убивала, — сказала я.
— Я знаю. Но мне было бы не по себе, если бы я этого не сделала.
Больболисты привязаны к соседнему дереву веревкой и плетеными полосами из некогда розовой накидки Тоби. Плела я: если у вертоградарей чему и учили крепко-накрепко, это разным видам рукоделия с использованием вторичных материалов.
Больболисты в основном молчат. Наверняка им нехорошо, особенно после того, как Аманда их избила. И должно быть, они чувствуют себя полными идиотами. Я бы, во всяком случае, так чувствовала себя на их месте. Тупые, как рашпили — по выражению Зеба, — раз так подпустили нас к себе.
Аманда, похоже, все еще в шоке. Она тихо плачет время от времени и крутит концы неровных прядей. Первое, что сделала Тоби, когда мы надежно привязали больболистов, — дала ей чашку теплой воды с медом от обезвоживания, с добавкой порошка из Мари.
— Не пей все сразу, — сказала Тоби. — Маленькими глотками.
Она объяснила, что, когда у Аманды восстановится уровень электролитов, можно будет заняться лечением всего остального. Начиная с порезов и синяков.
Джимми совсем плох. У него температура, на ноге — гноящаяся рана. Тоби говорит, что, если только нам удастся дотащить его до саманного домика, она будет лечить его опарышами — может, они и сработают, если дать им достаточно времени. Но у Джимми может не оказаться этого времени.
Тоби уже помазала ему ногу медом и дала ложку меда внутрь. Она не может дать ему ни Ивы, ни Мака, потому что они остались в саманном домике. Мы укутали Джимми в накидку Тоби, но он все время раскрывается.
— Надо найти ему простыню или что-нибудь такое, — говорит Тоби. — На завтра. И придумать, как ее на нем закрепить, иначе он до смерти изжарится на солнце.
Джимми совсем не узнаёт ни меня, ни Аманду. Он все время разговаривает с какой-то другой женщиной, которая, как ему кажется, стоит у огня.
— Совиная музыка. Не улетай, — говорит он ей. В голосе — ужасная тоска.
Я начинаю ревновать, но как можно ревновать к женщине, которой тут нет?
— С кем ты разговариваешь? — спрашиваю я.
— Там сова, — отвечает он. — Кричит. Вон там.
Но я не слышу никакой совы.
— Джимми, посмотри на меня, — говорю я.
— Музыка встроена, — говорит он. — Ее не убьешь.
Он смотрит вверх, в кроны деревьев.
Ох, Джимми, думаю я. Где ты?
Луна движется на запад. Тоби говорит, что бульон из костей уже сварился. Она добавляет собранную мной листовую горчицу, ждет с минуту, потом начинает разливать. У нас только две чашки — Тоби говорит, что придется пить по очереди.
— Неужели ты и их собралась кормить? — спрашивает Аманда. Она не смотрит на двух больболистов.
— Да, — отвечает Тоби. — Их тоже. Сегодня — День святой Юлианы и Всех Душ.
— А что с ними будет потом? — спрашивает Аманда. — Завтра?
Хорошо, что она хоть чем-то заинтересовалась.
— Их нельзя просто так отпускать, — говорю я. — Они нас убьют. Они убили Оутса. И посмотри, что они сделали с Амандой!
— Я это всесторонне обдумаю, — говорит Тоби. — Позже. Сегодня мы празднуем.
Она разливает суп по чашкам, оглядывает кружок людей, сидящих вокруг костра.
— Тот еще праздник, — говорит она голосом Сухой ведьмы. И хихикает. — Но с нами не покончено! Верно ведь?
Последние слова обращены к Аманде.
— Капут, — отзывается Аманда. Очень тихо.
— Старайся об этом не думать, — говорю я, но она опять плачет, едва слышно: она впала в состояние «под паром». Я ее обнимаю.
— Я здесь, ты здесь, все хорошо, — шепчу я.
— Какой смысл? — говорит Аманда, но не мне, а Тоби.
— Сейчас не время размышлять о конечном целеполагании, — произносит Тоби прежним, Евиным голосом. — Давайте все забудем прошлое — самые худшие его части. Вознесем хвалы за ниспосланную нам пищу. Аманда. Рен. Джимми. И вы двое, если можете.
Последние слова обращены к больболистам.
Один из них бормочет что-то похожее на «иди нахуй», но не очень громко. Он хочет супа.
Тоби продолжает, словно не слышала:
— И давайте вспомним тех, кого больше нет, — всех жителей Земли, но более всего — наших отсутствующих друзей. Милые Адамы, милые Евы, милые собратья-млекопитающие и собратья-создания, все те, кто ныне упокоился в Духе, — помяните нас и укрепите нас своей силой, ибо она нам несомненно понадобится.
Тоби отхлебывает из чашки и передает ее Аманде. Другую получает Джимми, но не может удержать и разливает половину супа в песок. Я сажусь рядом с Джимми на корточки, чтобы помочь ему пить. Может быть, он умирает, думаю я. Может быть, утром он будет уже мертв.
— Я знал, что ты вернешься, — говорит он, на этот раз мне. — Знал. Не превращайся в сову.
— Я не сова, — говорю я. — Ты с ума сошел. Я Рен — помнишь меня? Я только хотела тебе сказать, что ты разбил мое сердце; но все равно я рада, что ты жив.
Вот я это и сказала. С души словно сваливается удушающая тяжесть, и я по-настоящему счастлива.
Он улыбается мне — или той, за кого меня принимает. Слабо, насколько позволяют обметанные губы.
— Вот опять, — говорит он своей больной ноге. — Слушай музыку.
Он склоняет голову набок; на лице — экстаз.
— Музыку не убьешь, — говорит он. — Не убьешь!
— Какую музыку? — спрашиваю я, потому что ничего не слышу.
— Тихо, — говорит Тоби.
Мы прислушиваемся. Джимми прав: звучит музыка. Слабо, далеко, но все ближе и ближе. Это поют люди, много людей. Вот уже их факелы мерцают, приближаются, лавируя в темноте меж деревьями.
Выражения признательности
«Год потопа» — фантастический роман, но описанные в нем общие тенденции и многие детали пугающе близки к реальности. Вертоградари (Садовники Господни) впервые появляются в романе «Орикс и Коростель». То же относится к Аманде Пейн, Бренде (Рен), Бернис, Джимми — Снежному Человеку, Гленну (он же Коростель) и группе Беззумные Аддамы. Вертоградари не списаны ни с одной из существующих религий, хотя у ряда их богословских положений и практик есть реальные прототипы. Святые, чтимые вертоградарями, выбраны за свой вклад в области жизни, наиболее близкие сердцу вертоградарей. У них есть и много других святых, не вошедших в эту книгу. Для гимнов вертоградарей основным источником послужил Уильям Блейк, с некоторой помощью Джона Беньяна и «Книги гимнов Англиканской церкви Канады и Объединенной церкви Канады». В гимнах вертоградарей, как и в любых других, могут быть некоторые моменты, не полностью понятные неверующим.
Музыка для этих гимнов родилась на свет благодаря счастливому совпадению. Певец и музыкант Орвилль Стоубер из города Венис (штат Калифорния, США) начал сочинять музыку к нескольким гимнам, чтобы посмотреть, что получится, а потом увлекся. Замечательные результаты были собраны в компакт-диск «Гимны вертоградарей». Любой желающий может использовать эти гимны для религиозного поклонения или для целей охраны окружающей среды. Гимны можно прослушать на сайтах www.yearoftheflood.com, www.yearoftheflood.co.uk и www.yearoftheflood.ca.
Имя Аманда Пейн впервые появляется в романе «Орикс и Коростель» в результате благотворительного аукциона в пользу британского Медицинского фонда помощи жертвам пыток. Имя святого Алана Спэрроу от Чистого воздуха было спонсировано через аукцион, проведенный организацией CAIR (организацией, борющейся за восстановление земель и закрытие аэропорта в порту г. Торонто, Канада). Имя Ребекка Экклер появилось в романе благодаря аукциону, проведенному канадским журналом The Walrus. Спасибо всем подарившим свои имена.
Я, как всегда, благодарна своим полным энтузиазма и чрезвычайно загруженным работой издателям — Эллен Селигман из издательства «Маклеллан и Стюарт» (Канада), Нэн Тализи из издательства «Даблдей» (США), Александре Прингл и Лиз Кэддер из издательства «Блумсбери» (Великобритания), а также Луиз Деннис из издательства «Винтадж/Кнопф» (Канада), Лу-Энн Уолтер из издательства «Энкор» (США), Ленни Гудингсу из издательства «Вираго» (Великобритания) и Майе Мавджи из издательства «Даблдей» (Канада). А также моим агентам — Фиби Лармор, агенту по Северной Америке, Вивьен Шустер и Бетси Роббинс из «Кертис Браун», агентам по Великобритании. И Рону Бернстайну. И всем остальным моим агентам и издателям по всему миру. Я также благодарю Хезер Сэнгстер за героическое редактирование; и моих исключительно высокопрофессиональных сотрудников канцелярии — Сару Уэбстер, Анну Джолдерсма, Лору Стенберг и Пенни Каванах; Шеннон Шилдс, которая тоже помогала. И Джоэля Рубиновича, и Шелдона Шойба; и Майкла Брэдли, и Сару Купер. А Колин Куинн и Сяолань Чзан благодарю за то, что моя пишущая рука сохраняет способность двигаться.
Особая благодарность — бесстрашным первым читателям этой книги: Джесс Этвуд Гибсон, Элеонор и Рэмси Кукам, Розали Абелле, Валери Мартин, Джону Каллену, Ксандре Бингли. Я очень ценю вас.
И наконец, мое особое спасибо — Грэму Гибсону, с которым я отпраздновала столько Дней Апрельской рыбы, Змеиной мудрости и Всех путников. Мы вместе прошли долгий и прекрасный путь.
От переводчика
Святые, почитаемые вертоградарями
Переводчик выражает благодарность В. В. Андерсену за консультации по истории Средних веков.
Агарвал, Анил (1947–2002) — индийский журналист, борец за охрану окружающей среды. Основатель Научно-природоохранного центра — индийской общественной организации, исследующей, пропагандирующей и стимулирующей устойчивое развитие. В частности, Агарвал более 20 лет боролся за улучшение экологии в Дели — против загрязнения воздуха автомобильными выхлопами — и в конце концов добился перевода такси, авторикш и автобусов с бензина и дизтоплива на сжиженный природный газ. В 1987 году Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) включила Агарвала в «Почетный список 500» в знак признания его заслуг в охране окружающей среды. Агарвал — автор многочисленных книг о науке и экологии Индии.
Алуз, Башир — иранский орнитолог, автор книги «Птицы Ирака».
Аткинс, Анна (урожд. Анна Чилдрен, 1799–1871) — английский ученый, ботаник и иллюстратор, одна из первых английских фотографов. Анна Аткинс была единственным ребенком ученого, члена Королевского научного общества Джона Дж. Чилдрена, занимавшегося преимущественно химией, минералогией и зоологией. В 1823 году Анна создала 200 иллюстраций для сделанного ее отцом перевода одного из трудов Ламарка. Когда в 1839 году Дж. Гершель открыл фототехнику цианотипии, Аткинс овладела новым методом и начала использовать его для создания изображений различных научных явлений и объектов. Аткинс выпустила свой альбом фотографий «Британские водоросли: цианотипные отпечатки» (British Algae: Cyanotype Impressions), который впервые был проиллюстрирован изображениями, сделанными по фотографической технологии.
Басрийские братья, или «Ихван ас-Сафа», «Братья чистоты» (X в.), — загадочная группа арабских ученых-просветителей, среди которых в источниках упоминаются: Абу Сулейман Мухаммад ибн Мушир аль-Бусти, Абу-ль-Хасан Али ибн Харун аз-Занджани, Мухаммад ибн Ахмад ан-Нахраджури, Абу-ль-Хасан аль-Ауфи и Зайд ибн Рифа’а. Работали преимущественно в Басре (совр. Ирак). Само название «Ихван ас-Сафа» предположительно происходит от одной из сказок сборника «Калила и Димна» (арабский перевод индийской «Панчатантры»), в которой животные, называемые верными друзьями (ихван аль-сафа), общими усилиями избегают сетей охотника. Сочинения группы собраны в коллективном энциклопедическом труде «Послания братьев чистоты и друзей верности». В него входят 52 трактата, в том числе 17, посвященных естественным наукам. В трактате «О животных» содержится классификация растений и животных, а также басня-притча «Суд зверей против человека», в которой самые разные животные, от лошадей до пчел, являются к могущественному Царю джиннов, чтобы пожаловаться на жестокое обращение со стороны людей. Царь приказывает рассмотреть дело, и обе стороны, животные и люди, выступают с речами в собственную защиту. По ходу действия в увлекательной форме затрагивается множество экологических и более широких, этических тем.
Бёрнс, Роберт (1759–1796) — шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так называемом равнинном шотландском и английском языках. Автор стихотворения «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом», в котором сочувствует мыши и сравнивает ее участь с участью человека, преследуемого судьбой. По мнению Бернса, мышь счастливее людей, так как видит только «то, что есть сейчас», в то время как «мы не сводим скорбных глаз//с былых невзгод//и в тайном страхе каждый раз//глядим вперед». (Стихи процитированы в переводе С. Маршака.)
Бо, Уэн (р. 1972) — китайский общественный деятель, борец за охрану окружающей среды. Способствует созданию в Китае небольших местных неправительственных организаций, борющихся за охрану природы. Стремительное развитие промышленности в Китае приводит к массовому загрязнению воздуха и воды. Китайское правительство пообещало выполнить программу под девизом «230 дней без загрязнения окружающей среды» к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, но, по словам Уэн Бо, это лишь пропаганда, которая не была подкреплена делами.
Брендан Мореплаватель — святой Брендан Клонфертский (ирл. Breanainn as Cluain Fearta, ок. 484 — ок. 578), прозванный Мореплавателем или Путешественником, ирландский монах, один из проповедников христианства в Ирландии. Персонаж легендарного «Плавания Св. Брендана», весьма популярного в Средние века ирландского сочинения в жанре «плавания» (immram), полного фантастических сюжетов и описывающего плавание Св. Брендана к так называемому острову Блаженных (Тир-на-Ног).
Бхагат, Сурьямани — индийская общественная деятельница, участница движения «Спасем леса Джаркханда». Основательница центра по сохранению культуры и традиций «Торанг» в деревне Котари района Ранчи в индийском штате Джаркханд.
Ганди, Мохандас Карамчанд, известный также как Махатма Ганди (1869–1948), — один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движение сторонников мирных перемен. Ганди боролся с кастовым неравенством, и в частности за равные права касты неприкасаемых. Отвергал насилие в любой форме. Борьба Ганди с неприкасаемостью, как и с любым неравенством, также имела религиозную основу: Ганди считал, что изначально всем людям, независимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозно-общинной принадлежности, присуща врожденная божественная природа. Погиб от руки убийцы-экстремиста.
Гарридо, Орландо — кубинский биолог, орнитолог, автор ряда книг о фауне Карибского бассейна.
Гиббонс, Юэлл Теофилус (1911–1975) — американский натуралист. Детство Гиббонса прошло в Техасе в период «Пыльного котла» — серии катастрофических пыльных бурь, происходивших в прериях США и Канады между 1930 и 1936 годами (в отдельных регионах до 1940 года). Бури были вызваны сочетанием антропогенных (экстенсивное ведение сельского хозяйства, деградация почв) и природных (засухи) факторов. Гиббонс пропагандировал натуральное питание («подножный корм»), написал и издал ряд книг по этой теме.
Грейди, Уэйн (р. 1948) — канадский писатель и переводчик, автор семи книг. В настоящее время работает научным редактором журнала Equinox. Его книга «Воскрешение додо» (Bringing Back the Dodo, 2006) — сборник эссе, посвященный истории отношений человечества с природой и вымиранию видов. Другие книги Грейди также посвящены природе, в том числе городской.
Гульд, Стивен Джей (1941–2002) — известный американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки. Один из наиболее знаменитых и читаемых писателей научно-популярного жанра в своем поколении. Преподавал в Гарвардском университете, работал в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. В самом начале своей научной деятельности, в 1972 году, Гульд разработал вместе с Нильсом Элдриджем теорию прерывистого равновесия, согласно которой большая часть эволюционных изменений происходит за небольшие промежутки времени по сравнению с гораздо более длительными периодами эволюционной стабильности. Гульд неоднократно высказывался в поддержку использования марихуаны в лечебных целях и сам использовал ее, чтобы избавиться от тошноты, когда болел раком.
Джекобс, Джейн (1916–2006) — канадско-американская писательница, общественный деятель, теоретик городского планирования и одна из основоположниц движения нового урбанизма. Известна как автор книги «Жизнь и смерть великих городов Америки» (The Death and Life of Great American Cities, 1961 год). См. также Спэрроу, Аллан.
Завадский, Александр (Иосиф Антоний Завадский, 1798–1868) — польский натуралист, автор описаний флоры и фауны Галичины. Преподавал ботанику, а затем физику в Львовском университете. Из-за беспорядков, вызванных революциями 1848–1849 годов (так называемой «Весной народов»), оказался в Брно (Моравия, ныне — Чехия), где стал наставником Грегора Менделя, направил его интерес на разработку теории наследственности и помог заложить основы науки генетики.
Иероним Стридонский (342–419 или 420) — церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии («Вульгаты»), Иероним перевел Ветхий Завет на латынь напрямую с древнееврейского языка (кроме книг, изначально написанных на арамейском и древнегреческом) и отредактировал латинскую версию Нового Завета. Почитается как в православной, так и в католической традиции как святой и один из учителей Церкви. В молодости он много путешествовал, обучаясь теологии. В Святой земле, охваченный жаждой аскетизма, он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню. Здесь он изучал еврейский язык и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей». С помощью богатой вдовы Павлы ему удалось организовать несколько монастырей в окрестностях Вифлеема. Предание гласит, что однажды, когда святой Иероним сидел у врат своего монастыря в Вифлееме, туда пришел лев. Он хромал, как будто от боли. Вся братия, когда увидела льва, в ужасе разбежалась. Святой Иероним, однако, поднялся и направился ко льву, как если бы это был его гость. Лев поднял больную лапу, и святой Иероним, осмотрев ее, увидел, что в ней заноза. Лев послушно дал святому Иерониму извлечь ее. С тех пор лев служил при монастыре, охраняя монастырского осла.
Ичида, Норитака — бывший президент азиатского отделения Birdlife International, альянса различных организаций, борющихся за сохранение популяций птиц.
Карсон, Рейчел (1907–1964) — американский биолог и эколог, автор бестселлера «Безмолвная весна» (1962) о вреде инсектицида ДДТ для биосферы; в итоге уже в 1970-е годы использование ДДТ было запрещено.
Кинг, Стивен — новозеландский борец за охрану окружающей среды. Известен как организатор кампании за спасение лесов Пуреоры (Новая Зеландия). Пуреорский лес, где произрастают тысячелетние подокарповые деревья, считается одним из лучших тропических лесов в мире. Участники кампании протеста разработали особые платформы, закрепляемые в кроне дерева, и сидели на этих платформах, чтобы не дать срубить деревья. Усилия борцов принесли тройной результат: в 1978 году был образован Пуреорский национальный парк; правительство Новой Зеландии выполнило требования протестующих и изменило законы, регулирующие вырубку лесов; было образовано Национальное общество по восстановлению лесов.
Крик, Фрэнсис (1916–2004) — физик и молекулярный биолог. В 1953 году он совместно с Джеймсом Уотсоном (см. Уотсон, Джеймс) и Морисом Уилкинсом определил трехмерную структуру молекулы ДНК, за что в 1962 году они получили Нобелевскую премию.
Крозье, Фрэнсис Родон Мойра (1796 — после 1848?) — офицер британского флота, участник шести исследовательских экспедиций в Арктику и Антарктику. Командовал кораблем «Террор» в составе экспедиции Франклина — неудачной попытки пройти по Северо-Западному проходу из Атлантического в Тихий океан, предпринятой в XIX веке британской командой во главе с опытным исследователем Джоном Франклином. В 1845 году два корабля, «Эребус» и «Террор», с экипажем в 128 человек покинули берега Англии и уже не вернулись.
Кусто, Жак Ив (1910–1997) — знаменитый французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Член Французской академии. Командор ордена Почетного легиона. Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал и испытал акваланг. Это впервые позволило проводить длительные подводные исследования, что в значительной степени способствовало изучению подводного мира. В 1957 году Кусто был назначен директором Океанографического музея в Монако. В 1973 году он основал некоммерческое Общество Кусто по охране морской среды. Общество Кусто и его французский партнер «Команда Кусто», основанная Жаком Ивом Кусто, действуют и сегодня.
Лавлок, Джеймс Эфраим (р. 1919) — британский ученый, член Лондонского королевского общества, независимый исследователь, специалист в различных областях химии, биологии, медицины, экологии, ныне живущий в Корнуолле (Англия). Лавлок приобрел известность как создатель «гипотезы Геи», согласно которой планета Земля функционирует как суперорганизм. Лавлок — критик ортодоксальных экологических организаций и доктрин, а также активный сторонник использования атомной энергии.
Лешем, Йосси (р. 1948) — орнитолог, сотрудник биологического факультета Тель-Авивского университета (Израиль). Занимается вопросами охраны окружающей среды, в особенности птиц. Его исследования, проведенные совместно с израильским военно-воздушным флотом и Министерством науки, позволили на 76 % снизить количество столкновений птиц с самолетами и вертолетами и таким образом сберечь сотни человеческих и птичьих жизней. Лешем много лет изучал привычки птиц в аспекте безопасности авиации и был награжден премией Ицхака Саде по военной литературе за свою книгу «Полет с птицами» (1991). В книге рассмотрены проблемы, возникающие при взаимодействии перелетных птиц с самолетами в крошечном воздушном пространстве Израиля, через которое ежегодно пролетает более 900 миллионов птиц не менее 300 видов. Поскольку военно-воздушные силы жизненно необходимы Израилю для обороны, по совету Лешема военно-воздушные базы начали использовать специальные тактики — в том числе обученных собак для отпугивания птиц, определенные звуки, а также пугала, расположенные в стратегически важных местах, — чтобы держать птиц как можно дальше от взлетно-посадочных полос.
Линней, Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель и врач, создатель единой системы классификации растительного и животного мира, обобщившей и в значительной степени упорядочившей биологические знания всего предыдущего периода и еще при жизни принесшей Линнею всемирную известность. Одной из главных заслуг Линнея стало определение понятия биологического вида, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры и установление четкого соподчинения между систематическими (таксономическими) категориями.
Маттисен, Питер (р. 1927) — американский писатель и борец за охрану окружающей среды, двукратный лауреат Национальной литературной премии США. Часто пишет о проблемах и истории американских индейцев. В книге «Дух бешеного коня» (In the Spirit of Crazy Horse) подробно описал дело Леонарда Пелтиера, активиста движения американских индейцев, осужденного за убийство в 1975 году двух агентов ФБР. Автор 10 беллетристических и 23 документальных книг, призывающих к сохранению природы и борьбе с глобальным потеплением.
Мендес, Чико (1944–1988), настоящее имя Франсиску Алвес Мендес Филью, — бразильский профсоюзный деятель и эколог, защищавший амазонские джунгли, один из основателей Партии трудящихся. Национальный герой Бразилии. Родившийся в семье сборщиков каучука, Чико Мендес был пионером бразильского движения за охрану окружающей среды, который мобилизовал местные сообщества, чтобы остановить рост вырубки бразильской сельвы (влажных тропических лесов), и первым призвал к ограничению прав владельцев ранчо. Мендес защищал каучуковые деревья, спасая их от произвола землевладельцев, которые вырубали леса, чтобы расчистить пастбища для скота. Мендес был убит 22 декабря 1988 года на пороге собственного дома в поселке Шапури (штат Акри, Бразилия). Сегодня Мендеса считают человеком, который внес большой вклад в создание нового современного лица Амазонии, а также в разработку концепции, сочетающей в себе принципы экологически устойчивого использования лесных ресурсов, социальную политику и защиту прав местного населения. После Мендеса в Бразилии осталась сеть организаций, помогающих местным сообществам вести бизнес в сельве, не вырубая тропические леса.
Мериан, Мария Сибилла (1647–1717) — немецкая художница и гравер эпохи барокко, энтомолог. В своих произведениях оставила совершенные изображения цветов, фруктов и животных. В возрасте 52 лет переехала в Суринам, где изучала и рисовала местную природу. В 1705 году опубликовала книгу «О метаморфозе суринамских бабочек» (Metamorphosis Insectorum Surinamensium). Своими наблюдениями внесла значительный, хотя и малоизвестный, вклад в энтомологию.
Минхинник, Нганеко — новозеландская общественная деятельница, борец за права народа маори на землю и рыболовные угодья, а также за охрану окружающей среды, за сохранение качества воды и почвы.
Моуэт, Фарли (р. 1921) — известный канадский писатель, биолог, борец за охрану природы. Работал в Службе изучения животного мира Канады. Эта организация командировала его в канадскую тундру для изучения волков. Экспедиция, давшая весьма неожиданные и удивительные для того времени результаты, описывается Моуэтом в книге «Не кричи: „Волки!“». Кавалер («офицер») ордена Канады (1981). В честь Моуэта назван один из кораблей Общества охраны морской фауны (Sea Shepherd Conservation Society), радикальной неправительственной экологической организации, базирующейся в США.
Одига Одига — нигерийский общественный деятель и политик, выступающий против уничтожения последних тропических лесов Нигерии. С 1996 по 1998 год вынужденно находился в подполье, так как нигерийский режим Абачи преследовал и казнил общественных деятелей. При этом Одига втайне продолжал вести работу среди крестьян. После смерти Абачи Одига вышел из подполья и снова стал работать открыто. Он помог добиться моратория на рубку леса в штате Кросс-Ривер, а также, впервые в истории страны, заставил правительство начать программу по оценке воздействия на окружающую среду. Организовал первую в Нигерии государственную комиссию по лесному хозяйству.
Оутс, Лоуренс (1880–1912) — английский полярный исследователь, участник экспедиции Роберта Скотта к Южному полюсу. Экспедиция испытывала значительные трудности при возвращении. Чтобы выжить, нужно было вовремя добираться до складов пищи, для чего следовало проходить не менее 9 миль в день. Капитан Оутс отморозил обе ноги и сильно замедлял продвижение товарищей. Он просил не задерживаться ради него, но товарищи не могли его оставить. Как-то утром Оутс спокойно сказал: «Пойду пройдусь и, может, вернусь не сразу» — и выполз из палатки; тело его так и не было найдено.
Сиддхартха Гаутама, известный как Будда (563 до н. э. — 483 до н. э.), — духовный учитель, легендарный основатель буддизма, живший в северо-восточной части Индийского субконтинента, создатель учения «Четырех Благородных Истин». Составной частью учения Будды является воздержание от убийства любых живых существ, в том числе от охоты рыбной ловли и пр., а также практика духовного совершенствования.
Силквуд, Карен (1946–1974) — американская профсоюзная деятельница. Работала химиком-технологом на заводе Керр-Макги недалеко от г. Крессент (штат Оклахома, США). Силквуд занималась изготовлением плутониевых топливных гранул (пеллетов) для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Она критиковала организацию техники безопасности на заводе. В последние дни своей жизни Силквуд собирала доказательства того, что руководство завода нарушает правила техники безопасности. Сама Силквуд в это время несколько раз загадочным образом оказалась в контакте с плутонием. Кроме того, следы радиоактивного плутония были обнаружены в квартире Силквуд. На той же неделе Силквуд погибла в автокатастрофе при странных обстоятельствах (официальный вердикт гласил, что она заснула за рулем). При вскрытии во внутренних органах Силквуд были обнаружены следы плутония, в том числе проглоченного (следы в желудке и кишечнике). Родные Силквуд подали в суд на завод Керр-Макги и получили компенсацию в 1,3 млн долл. США. Завод Керр-Макги закрылся в 1975 году.
Сильва-Табоада, Гильберто — старший научный сотрудник Гаванского Национального музея естественной истории (Куба). Автор книги «Летучие мыши Кубы» (Los Murcielagos de Cuba).
Смарт, Кристофер (1722–1771) — английский поэт. Известен поэмами «Песнь Давиду» (англ. A Song to David) и «Возвеселитесь во Агнце» (лат. Jubilate Agno), частично написанными во время заключения в сумасшедшем доме. Поэма Jubilate Agno сохранилась во фрагментах; полностью они были изданы только в 1954 году. В ней поэт называет себя «летописцем Божьим, писцом-евангелистом» и стремится дать поэтическое описание всем существующим в мире вещам и живым существам. Наибольшей известностью пользуется отрывок, посвященный коту Смарта по имени Джеффри, где автор возвышенным стилем, близким к богослужебному, перечисляет его достоинства.
Спэрроу, Аллан (1944–2008) — канадский политический деятель и долговременный член муниципального совета г. Торонто (Канада). Один из организаторов успешной кампании по остановке строительства скоростного шоссе, которое должно было пройти через жилые районы Торонто. Против шоссе возражали на основании того, что оно вынудит местных владельцев малого бизнеса переехать в другие места, приведет к сносу исторических зданий и уничтожению целых сложившихся городских районов со своеобразной историей и культурой. Среди протестующих были также Джейн Джекобс (см. Джекобс, Джейн), Маршалл Маклюэн и другие общественные деятели. Строительство было отменено в 1971 году. Спэрроу принимал участие и в других кампаниях: против нарушения прав граждан канадской полицией, за использование велосипедов как средства перемещения по городу, за права сексуальных меньшинств. Активно участвовал в кампании против постройки моста, ведущего на остров, где располагается городской аэропорт Торонто (ширина пролива между берегом и островом — 122 метра). Кампания была успешной, проект отменили, и теперь авиапассажиры, чтобы попасть в аэропорт, совершают путешествие на пароме длительностью в 1 минуту.
Стачбери, Бриджет — профессор экологии и биологии охраны природы в университете Йорк (Торонто, Канада). Наблюдает за перелетными певчими птицами, которые зимуют в Латинской Америке и возвращаются в Северную Америку выводить птенцов. Автор книг «Молчание певчих птиц» (Silence of the Songbirds, 2007), «Птичий детектив» (The Bird Detective, 2010) и других.
Судзуки, Дэвид Такаёси (р. 1936) — канадский генетик, заслуживший известность как ведущий научных передач и активист экологического движения. Сооснователь Фонда Дэвида Судзуки, главная задача которого — популяризация науки и защита окружающей среды.
Томасдоттир, Сигридюр (Сигридюр Гюдльфосская) — уроженка Исландии. Согласно легенде, боролась за спасение водопада Гюдльфосс, одного из самых красивых водопадов Исландии. Водопад принадлежал отцу Сигридюр, Томасу Томассону, а впоследствии был продан правительству Исландии, но и после этого существовали планы постройки электростанции на реке Хвитау, питающей водопад. Сигридюр протестовала против этого плана и, по существующей легенде, даже грозилась броситься в водопад, если электростанция будет построена. Чтобы придать веса своим словам, Сигридюр отправилась в пеший марш протеста и босиком прошла от Галфосса до Рейкьявика по немощеным дорогам, сильно изранив ноги. Электростанция построена не была. Ныне над водопадом стоит памятник Сигридюр, а сам водопад — излюбленное место для посещения туристов.
Трут, Соджорнер (1797–1883) урожденная Изабелла Баумфри, — американская аболиционистка и феминистка, рожденная в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?», произнесенной в 1851 году. С 1 июня 1843 года Изабелла стала себя называть Соджорнер Трут (можно перевести как «Скиталец Истина»; sojourner — «временный житель», truth — «правда» или «истина»), сказав друзьям: «Святой Дух зовет меня, я должна идти». Она отправилась по стране, проповедуя идеи аболиционизма. Всю жизнь вела активную общественную работу, добиваясь равноправия для чернокожих жителей США. Она помогала вербовать чернокожих на службу в армию северян, встречалась с несколькими президентами США, добивалась принятия законов о земельных субсидиях для бывших рабов.
Уилсон, Эдвард Осборн (р. 1929) — американский биолог, социобиолог, мирмеколог, эколог, писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии, профессор Гарвардского университета, академик Национальной академии наук США. В 1975 году Уилсон создал свой фундаментальный труд «Социобиология: новый синтез» (Sociobiology: The New Synthesis), в котором развил понятие социобиологии. Книга была первой попыткой объяснить такие типы социального поведения животных (в основном муравьев, так как именно на них специализировался Уилсон), как альтруизм, агрессия и т. п., при помощи эволюционных механизмов. Позднее Уилсон написал книгу «Человеческая природа» (On Human Nature), в которой применил принципы социобиологии к поведению людей. За эту книгу Уилсон получил Пулитцеровскую премию.
Уотсон, Джеймс (р. 1928) — молекулярный биолог (см. Крик, Фрэнсис).
Фабр, Жан Анри (1823–1915) — французский энтомолог и писатель. Автор 10-томного сочинения «Энтомологические воспоминания» (Souvenirs Entomologiques). Некоторые его исследования, например жуков-скарабеев, продолжались около 40 лет. Хотя Фабр писал и о жуках, и о гусеницах бабочек, и о сверчках, и о пчелах, его наибольшие симпатии были на стороне ос. Разгадывание их нравов стало делом жизни Фабра: 4 тома «Воспоминаний» написаны как раз об осах. В отличие от своих предшественников Фабр изучал живых существ, тогда как ранее главным источником знания в энтомологии были мертвые экземпляры, наколотые на булавки.
Флэннери, Тим (р. 1956) — австралийский териолог (специалист по изучению млекопитающих), палеонтолог, борец за охрану окружающей среды и борец с глобальным потеплением. В 2007 году получил звание «Австралиец года». В настоящее время преподает в университете Маккуори (Австралия). Председатель Копенгагенского совета по климату, который придерживается теории о влиянии человечества на глобальное потепление и ставит своей задачей снижение риска климатических изменений путем принятия международных договоров о сотрудничестве, продвижения конструктивного диалога между бизнесом, правительствами и наукой.
Фокс, Терренс Стэнли (1958–1981), также Терри, — канадский общественный деятель, борец за поддержку людей, болеющих раком. В возрасте 19 лет у Терри был обнаружен рак, и ему ампутировали ногу. Через несколько лет он предпринял попытку марафонского пробега через Канаду с востока на запад, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования. Терри Фокс начал «Марафон надежды» 12 апреля 1980 года, окунув ногу в Атлантический океан (у г. Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд), и намеревался окунуть ее второй раз уже в Тихий океан в Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Он пробегал в среднем 42 км в день — типичная марафонская дистанция, но к этому времени болезнь уже почти победила его, и он бежал, испытывая постоянную боль, да еще и с протезом вместо ноги. Он не смог закончить свой марафон. Рак дал метастазы в легкие, и Терри был вынужден прервать дистанцию 1 сентября 1980 года. Он остановился рядом с городом Тандер-Бей (на севере провинции Онтарио) после 143 дней беспрерывного марафона, пробежав 5373 км (3339 мили) через провинции Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансвик, Квебек и Онтарио. Через десять месяцев, не дожив до своего 23-летия, Терри скончался. К февралю 1981 года было собрано чуть больше 24 миллионов долларов (при тогдашнем населении Канады около 24 миллионов), но самое главное — Терри сумел привлечь внимание широкой общественности к проблемам борьбы с раком. Теперь в Канаде и еще более чем в 50 странах по всему миру ежегодно проводятся благотворительные пробеги имени Терри Фокса (англ. Terry Fox Run) в фонд пожертвований для исследований онкологических заболеваний.
Фосси, Диана (1932–1985) — выдающийся этолог и популяризатор охраны окружающей среды. Изучала поведение горных горилл в течение 18 лет. Была активнейшим поборником охраны природы и боролась с браконьерством на территории национального парка Вирунга (расположен на стыке Республики Конго, Руанды и Уганды). Была зарублена насмерть мачете в лагере недалеко от исследовательского центра Киракосу 26 декабря 1985 года. Убийство не раскрыто. В 1983 году вышла научно-популярная книга Фосси «Гориллы в тумане» (Gorillas in the Mist). Позднее, в 1988 году, по мотивам этой книги был снят одноименный художественный фильм с Сигурни Уивер в главной роли.
Франциск Ассизский (1182–1226) — католический святой, учредитель монашеского ордена францисканцев, проповедовавшего идеи добровольного нищенства. По сохранившимся легендарно-дидактическим жизнеописаниям («Цветочки Франциска»), святой Франциск очень бережно относился к животным. Он кормил зимой пчел медом и вином, поднимал с дороги червяков, чтобы их не раздавили, выкупил ягненка, которого вели на бойню, освободил зайчонка, попавшего в капкан, проповедовал птицам в поле. Весь мир, со всеми его живыми существами и стихиями, был для Франциска любящей семьей, происходившей от одного Отца и соединенной в любви к Нему. Этот образ был источником, из которого вылилась его поэтическая хвала Господу со всеми Его творениями, в том числе с «господином братом солнышком» и т. д.
Шеклтон, Эрнест Генри (1874–1922) — исследователь Антарктики. В 1901–1903 годах участвовал в экспедиции Р. Ф. Скотта. В 1908–1909 годах возглавил экспедицию на судне «Нимрод». Экспедиция разделилась на три группы. Одна из них во главе с Шеклтоном отправилась к Южному полюсу, но не дошла до него, достигнув 88° южной широты; в пути был открыт ледник Бирдмора. В 1914–1917 годах Шеклтон организовал экспедицию с целью пересечения Антарктиды. Была обследована только часть берега Земли Котса (Шеклтон назвал ее Берегом Кэрда), так как в дальнейшем судно «Эндьюранс», затертое льдами, погибло. В 1921 году на судне «Квест» Шеклтон снова направился к берегам Антарктиды, но в пути умер. Его именем названы берег, шельфовый ледник, пролив в Антарктиде, три горы — в Антарктиде, Канаде и Восточной Гренландии.
Шумахер, Эрнст Фридрих (1911–1977) — английский экономист немецкого происхождения. Получил известность благодаря критике современных ему экономических концепций и выступлениям в защиту окружающей среды, ввел термин «буддийская экономика». Буддийская экономика сосредоточена на освобождении души. Она бросает вызов основным принципам западной экономики: (I) максимизации прибыли, (II) культивирования желаний, (III) развития рынков, (IV) использования мира и (V) эгоистических интересов. Буддийская экономика предлагает альтернативные принципы, такие как (I) сведение к минимуму страданий, (II) упрощение желаний, (III) отказ от насилия, (IV) подлинная забота и (V) щедрость. Для буддийского экономиста потребление не цель, а средство, а показателем уровня жизни является максимальное благополучие при минимальном потреблении, в то время как традиционная экономика ориентирована на максимальное потребление с помощью оптимального производства.
Юлиана (также Иулиания) Нориджская (англ. Julian of Norwich, 1342 — ок. 1416) — английская духовная писательница, религиозный мистик. О ее жизни сохранилось очень мало сведений, даже имя, под которым она осталась в веках, дано условно — по собору Святого Юлиана в Норидже (Norwich), английском городе, близ которого она была затворницей в скиту. В тридцатилетием возрасте Юлиана перенесла тяжелую болезнь, во время которой пережила несколько сильнейших духовных озарений. От болезни Юлиана оправилась и через двадцать лет записала свои видения в книге «Шестнадцать откровений Божественной любви» (Sixteen Revelations of Divine Love, ок. 1393) — вероятно, первой книге, написанной женщиной на английском языке. Духовный опыт Юлианы был широко известен в Англии. Юлиана принадлежит к числу крупнейших мистиков английского Средневековья. Она не была канонизирована, но глубоко почитается как католиками, так и протестантами. Юлиана верила, что страдание не является Божьей карой — по ее мнению, Бог добр и хочет спасти всех. Это противоречило популярному в то время мнению, еще усиленному серией крестьянских восстаний и эпидемиями «черной смерти», что страдания — это кара, которую Господь посылает грешникам. Юлиана верила, что за реальностью ада стоит величайшая тайна Божьей любви и что Бог не гневается: гнев существует только в людях, но Бог прощает их за это.