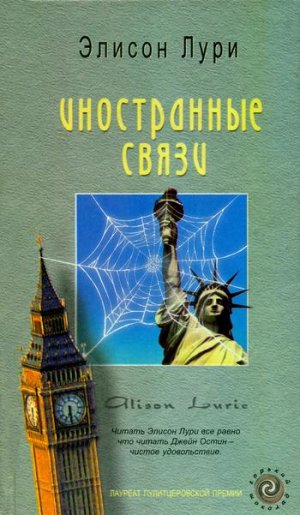
1
Однажды гулял я сам по себе
И что-то бубнил сам я себе,
И вдруг мне кто-то сбоку бубнит:
Себя ты, дружок, не лишай уж любви.
О себе ты подумай, побалуй себя,
Иначе кому ты нужен тогда.
Английская народная песня
Холодным ветреным февральским утром на самолет, вылетающий десятичасовым рейсом в Лондон, садится женщина, а следом за ней — невидимый пес. Зовут женщину Вирджиния Майнер, ей пятьдесят четыре года, низенькая, невзрачная, не замужем, — одним словом, из тех, кого никто никогда не замечает, хотя мисс Майнер — преподаватель в престижном университете, автор нескольких книг и крупный специалист по детской литературе, исследование которой сейчас бурно развивается.
Невидимый пес, по пятам следующий за Винни, — ее домашний дух; зовут его Фидо, и олицетворяет он жалость Винни к самой себе. Это грязно-белая, лохматая, средних размеров дворняга, похожая на вельш-терьера; пес то идет тихонько за ней по пятам, то скулит и тяжело дышит, путаясь под ногами, а в хорошем настроении носится вокруг Винни — так и норовит повалить на землю и покрыть слюнявыми собачьими поцелуями. Винни знает, что Фидо хочется вместе с ней на самолет. Надо бы его оставить дома, как уже не раз бывало, когда она уезжала за границу, но на этот раз, видимо, не получится: уезжает она надолго, да и другие причины есть.
Винни отправляется на полгода в Англию, работать по гранту. Там, под известным в профессиональных кругах именем В. А. Майнер, она продолжит свое исследование игрового фольклора школьников. Летит Винни не в первый раз, и путем проб и ошибок ей удалось свести все неудобства и расходы к минимуму. Она всегда выбирает дневные чартерные рейсы, желательно такие, где не показывают фильмов. Если бы позволяли средства, Винни заплатила бы полную стоимость, лишь бы улететь побыстрее (она простояла в очередях уже без малого час), но это ненужная расточительность. Грант небольшой, так что к деньгам надо относиться бережно.
Принято считать, что женщина, тем более пожилая, должна быть терпеливой. Однако Винни ждать не любит и, если только есть возможность, никогда не ждет. Вот и сейчас, извиняясь тоненьким любезным голоском, она ловко прокладывает себе путь среди менее опытных пассажиров, которые не могут найти свои места, нагружены непомерным багажом или обременены детьми. По пути через кухню в конец салона и обратно Винни обходит встревоженную толпу неотесанных деревенщин с дорожными сумками в наклейках «Сан-Турз». Вы еще и абзац до конца не дочитали, а Винни уже пробралась к своему месту у иллюминатора, возле выхода из салона для некурящих, остановившись только затем, чтобы взять с полки «Лондон таймс» и журнал «Вог». (Когда самолет поднимется в воздух, стюардесса, конечно, раздаст пассажирам газеты и журналы, но самых любимых Винни может не хватить.)
Как у нее давно заведено, Винни проскальзывает на свое место и расстегивает сапожки. В одних носках становится на сиденье и открывает шкафчик наверху (роста в ней всего пять футов с небольшим, так что иначе не дотянуться). Достает оттуда две подушки и синий плед, бросает их на соседнее кресло, рядом со своей сумочкой и журналами, тем самым деликатно заявляя на кресло свои права — на случай, если место ничье, а скорее всего, в феврале, да еще в середине недели, так оно и есть. Засовывает в шкафчик поношенный плащ на шерстяной подкладке, мягкую бежевую шляпу из фетра и светло-коричневую шерстяную шаль с набивным рисунком — теперь никто не посмеет сунуть что-нибудь сверху, разве что среди попутчиков попадется совсем уж грубиян. Не без труда захлопнув дверцу, Винни устраивается в кресле. Сапожки ставит под сиденье, рядом с коробкой беспошлинного хереса «Бристоль Крим», и надевает дорожные тапочки. Одну подушку кладет под голову, другую на ручку кресла. Наконец, приглаживает жесткие стриженые волосы с проседью, откидывается на спинку и со вздохом защелкивает ремень поверх желтовато-коричневых юбки и свитера.
Винни отдает себе отчет, что сторонний наблюдатель может осудить ее маневры, а ее саму счесть беспардонной эгоисткой. В Америке, где самовлюбленность и напористость поощряются у молодых и красивых, невзрачные пожилые женщины должны быть скромны и неприхотливы — чем меньше занимают они места и вдыхают воздуха, тем лучше. Ну конечно! — думает Винни. Если летишь с кем-то из близких или хотя бы знакомых, тебе и пальто убрать помогут, и подушку подложат под голову, и газету принесут, и поговорят с тобой, если захочешь.
А как быть тем, кто путешествует в одиночку? С какой стати Винни Майнер, чьи интересы почти всю жизнь ущемляли, должна забыть о собственном удобстве? Зачем позволять, чтобы твою шляпу, пальто и прочие вещи уродовали те, кто моложе, крепче, красивее? Неужели придется семь-восемь часов полета провести без подушек, дрожа от холода, листая прошлогодний «Панч», и сойти с самолета с распухшими ногами и красными глазами, слезящимися от рвения соседей-курильщиков? Как Винни частенько повторяет про себя — но никогда не говорит вслух, чтобы никого не обидеть, — почему бы о себе не позаботиться? Ведь больше некому.
Подобные внутренние монологи для Винни дело обычное, однако сейчас ей не до них. В ее шумном вздохе, с которым она откинулась на жесткую спинку синего плюшевого кресла, прозвучало не облегчение, а горечь. К полету Винни готовилась чисто механически, и если бы не люди вокруг — разрыдалась бы от боли и обиды, заливая слезами страницы «Лондон таймс».
Двадцать минут тому назад, в зале ожидания, будучи еще в прекрасном расположении духа, Винни прочла в одном из центральных журналов страны презрительный отзыв о работе, которой она посвятила жизнь. Проекты такого рода, — говорилось в статье, — есть не что иное, как пустая трата государственных денег, торжество мелкой, никому не нужной псевдоучености, свидетельство общего упадка гуманитарных наук в сегодняшней Америке. Кому нужно исследование детского дворового вздора? — вопрошал автор, некий профессор Л. Д. Циммерн, преподаватель английского языка в Колумбийском университете. — В ответ на этот вопрос мистер или мисс Майнер, несомненно, примется рассуждать об историческом, социальном и культурном значении стишка «Хоровод мы ведем», выискивая доводы в свою пользу, но они будут малоубедительны.
Обиднее всего, что незаслуженные нападки напечатал «Атлантик», самый любимый журнал Винни вот уже более тридцати лет. Она выросла в предместьях Нью-Йорка и преподает в университете на севере штата, но в душе осталась верна Новой Англии. По мнению Винни, американская культура, отдав в конце XIX века бразды правления Нью-Йорку, сделала гигантский шаг назад; хорошо еще, что «Атлантик» по-прежнему издается в Бостоне. Именно с этим журналом связывает Винни мечты о том, как ее работа получит признание. Она не раз представляла, как это будет: письмо из редакции со стандартными вопросами; первое интервью любознательному, преисполненному почтения журналисту; название готовой статьи; наконец, тот миг, когда коллеги в университете Коринф и по всей стране откроют журнал и увидят на глянцевой странице ее имя, напечатанное знакомым изящным шрифтом. (Честолюбие Винни, при всем его постоянстве и пылкости, весьма скромно: она ни разу не воображала свое имя на обложке «Атлантик».) А потом будут изумленно-радостные улыбки друзей; кривые усмешки недругов — тех, кто недооценивает и саму Винни, и ее работу. Увы, их намного больше, чем друзей.
А все потому, что на кафедре у Винни — впрочем, как и на большинстве языковых факультетов — детская литература — что-то вроде бедной родственницы, падчерицы, которую вынужденно терпят, потому что слова ее схожи со сверкающими драгоценными камнями, которые притягивают многочисленных, пусть и не столь блестящих, студентов. И сидит она в углу за печкой, пока ее сестры, ленивицы и уродины, обедают за столом у декана — хотя, судя по тому, как неохотно к ним идут студенты, изо рта у этих сестриц должны сыпаться жабы и ящерицы.
Вот и сбылась моя мечта, с горечью думает Винни. «Атлантик» отметил мой труд. Как всегда, не повезло. Были ведь и другие, на кого профессор Циммерн мог бы излить свою злобу. А выбрал он, разумеется, меня — кого же еще?
А Фидо-то, оказывается, все-таки пробрался на борт самолета и теперь посапывает у ног Винни, вот только оттолкнуть его нет у нее сил.
Над креслом вспыхнула сигнальная лампочка; загудели двигатели, как будто им передалась внутренняя дрожь Винни. Сквозь мутное, кривое стекло Винни смотрит на серый бетон взлетного поля, на кучи грязного мерзлого снега, на взлетающие самолеты, но видит она бесчисленное множество номеров «Атлантик»: одни вот-вот отправятся, другие уже в пути, летят в одиночку или целыми армиями по Америке, едут в чемоданах у путешественников, мчатся в автомобилях и поездах, лежат стопками в киосках. Нетрудно представить последствия этого массового перелета. Винни видит — по всей стране, дома и на работе, в библиотеках и зубных кабинетах — своих нынешних и бывших коллег, студентов, соседей, друзей (не говоря уж о членах комитета, который присуждает гранты). Все они рано или поздно откроют «Атлантик», станут листать белые глянцевые страницы и наткнутся на ужасную заметку. Винни знает, кто из них разразится хохотом, кто прочтет эти строки вслух со злорадной ухмылкой, кто вздохнет сочувственно, а кто подумает или скажет со стоном: какой позор для кафедры и для фонда! «Бедняжка Винни, — бросит кто-нибудь. — Но согласитесь, название проекта у нее и впрямь забавное: „Сравнительное исследование игрового фольклора британских и американских детей“. Смех, да и только, в самом деле».
Забавное название? Может быть. Но уж никак не содержание, что и доказывает Винни вот уже много лет. Материал ее лишь на первый взгляд кажется несерьезным, а на деле в нем скрыт глубокий смысл. Взять, к примеру, — в голове у Винни само собой складывается письмо редактору «Атлантик» — тот стишок, против которого ополчился профессор Циммерн:
Стихотворение это, как свидетельствует и сам текст, и исторические данные, скорее всего, датируется периодом Великой чумы 1665 года. Если так, то в строке «и цветы с собой несем» речь, вероятно, идет о букетах цветов и трав, которыми лондонцы пытались защититься от болезни, а в строках «Пепел, пепел, все умрем» — о том, как сжигали мертвые тела, которыми были усеяны улицы.
Если бы профессор Циммерн взял на себя труд провести исследование… или хотя бы обратился к специалистам по данному вопросу, сочиняет дальше Винни свое воображаемое письмо, он… он остался бы жив. Непрошеные слова возникают по собственной воле и заканчивают предложение. Неведомый Л. Д. Циммерн — Винни представляет его толстым и лысым, хотя на самом деле он вовсе не такой — предстает перед ней жертвой чумы. Бледным раздутым трупом он лежит на лондонской мостовой семнадцатого века; одежда вся в блевотине, лицо почерневшее, перекошенное, руки и ноги уродливо сведены предсмертной судорогой, а рядом — букетик увядших трав.
Многие из этих стишков, на первый взгляд «бессмысленные», — продолжает Винни, слегка напуганная своим видением, — содержат подобные ссылки на исторические события и передают в устной форме…
Пока стюардесса на безукоризненном английском произносит заученные фразы, Винни все пишет мысленное письмо редактору. В голове у нее вертятся слова из лекций и статей вперемешку с обрывками речи из громкоговорителей. «Детский игровой фольклор… поднимите спасательный жилет над головой… древнейшая в мире литература… затяните ремни спереди и убедитесь, что замок… олицетворяющая для миллионов людей первый, если не единственный, опыт соприкосновения с… потяните за шнур, чтобы жилет наполнился воздухом». Да уж, воздухом… Именно что воздухом. Винни знает из горького опыта: от таких писем никакого проку. В лучшем случае на них отвечают вежливым отказом («К сожалению, объем нашего журнала не позволяет…»), а в худшем — печатают спустя несколько недель или месяцев, когда о твоем позоре все уже забыли, и выставляют тебя разобиженным неудачником.
Нет, писать в «Атлантик» ни в коем случае нельзя. Мало того, нельзя никому ни слова говорить о статье — ни друзьям, ни врагам. В ученом мире не принято жаловаться на критиков, это считается унизительным, недостойным. Жаловаться можно только на злоключения, общие для всех коллег: на плохую погоду, инфляцию, на шалопаев-студентов и так далее. А плохие отзывы критиков, как и недостатки внешности, нужно обходить молчанием. Недаром мать учила Винни в юности: «Если у тебя прыщик на лице или пятнышко на платье — ради бога, не говори об этом вслух. Ни к чему лишний раз напоминать о своем недостатке и уж тем более привлекать внимание тех, кто сам ни за что не заметил бы». Вполне разумно. Одно плохо: никогда не знаешь наверняка, кто заметил, а кто — нет. Никогда, никогда. Фидо, который до сих пор лишь с надеждой поскуливал, положив лапы на колени Винни, теперь залезает к ней на руки.
Все громче ревут двигатели; самолет катится по взлетной полосе, набирает скорость. Наконец, задрав нос, отрывается от земли; у Винни, как всегда, желудок ухает куда-то вниз, а изголовье кресла, кажется, бьет по затылку. Сглотнув, Винни поворачивается к иллюминатору: внизу, под неестественным углом, проносится мимо кусок замерзшего, серого Лонг-Айленда. Кружится голова, подташнивает, на душе обида. «Немудрено, — скулит Фидо, — никогда не избавиться тебе от такого позора. Это часть твоей убогой жизни, череды потерь и неудач».
Винни, конечно, знает: ни к чему так убиваться. Но знает она и другое: люди, у которых, кроме работы, в жизни больше ничего нет — ни мужа, ни любовника, ни детей, ни родителей, — принимают подобные неудачи близко к сердцу. В те времена, когда Винни была замужем — очень давно и недолго, — неприятности на работе не задевали ее глубоко, не могли потревожить ее домашнего уюта (а позже не могли отвлечь ее от семейных передряг). Они были, скажем так, за бортом — за стенами дома, приглушенные. Теперь же все удары обрушиваются прямо на нее, будто из иллюминатора вынули стекло и ее хлещет наотмашь по щекам Атланти… нет, не «Атлантик», а холодная, замерзшая, мокрая ладонь океана, над которым они сейчас пролетают и в честь которого назван журнал; хлещет снова, и снова, и…
— Простите. — На этот раз Винни слышит настоящий голос; говорит пассажир в кресле у прохода, грузный, лысоватый, в кирпичного цвета костюме на западный манер и кожаном галстуке.
— Да?
— Хотел взглянуть на вашу газету, вы не против?
Винни, конечно же, против, но из вежливости не говорит об этом вслух.
— Пожалуйста.
— Спасибо.
В ответ на улыбку соседа Винни вяло кивает и тут же, чтобы избежать разговора и отвлечься от собственных мыслей, открывает «Вог». Равнодушно листает глянцевые страницы, пробегает глазами сначала статью о зимних супах, потом о комнатных растениях. Упоминания о мозговых костях, пастернаке и куропатках, о плюще и чемерице и стиль — научный и в то же время спокойный, домашний, не то что безвкусица американских модных журналов — вызывают у Винни улыбку, как при встрече со старым другом. Статьи о моде и косметике она пропускает. Никогда ей такие советы не помогали, а теперь и вовсе не нужны.
Почти сорок лет Винни страдала, как и все женщины, которых природа не наделила красотой. Даже в детстве личико у нее было невзрачное, смахивающее на мордочку маленького лесного грызуна: глаза круглые, близко посаженные, носик острый, губки узенькие. Лет до одиннадцати внешность ее никому не доставляла хлопот, но, когда Винни подросла, сначала забеспокоилась мать, потом и сама Винни. Всеми силами пытались они восполнить то, чего ей не хватало от природы. Строго следовали советам знакомых, черпали сведения в журналах, но ничего хорошего не получалось. Локоны и рюшечки, модные в школьные годы Винни, ей совершенно не шли; строгие фасоны времен Второй мировой войны, с квадратными плечами, подчеркивали ее юношескую костлявость; в пышных платьях ее просто-напросто не было видно — и так далее с каждым новым веянием моды. О том, как одевалась Винни в зрелые годы, лучше и вовсе умолчать — худые ноги сорокалетней женщины из-под оранжевой кожаной мини-юбки; мышиная мордочка с громадными зеркальными очками, в обрамлении немыслимого начеса.
Однако к пятидесяти годам Винни бросила мучительные попытки угнаться за модой. Перестала красить волосы — светло-русые, с проседью — в кричащий, молодежный каштановый; раздала половину нарядов, вышвырнула почти всю косметику. «Взгляни правде в лицо, — велела себе Винни, — теперь ты не только некрасива, но и немолода; мужчины не станут на тебя бросаться, сколько бы ярких тряпок ты ни нацепила. Что ж, по крайней мере не будь посмешищем. Пусть ты не красавица, зато хотя бы можешь выглядеть прилично».
Но стоило Винни признать полное поражение, как обстоятельства начали меняться в ее пользу. За последние пару лет она в чем-то нагнала сверстниц, щедрее одаренных природой, а иных даже обошла. Теперь уже не стыдно сравнивать себя с ними, как прежде. Винни, понятно, не похорошела, зато ее ровесницы заметно подурнели. Ее стройное, ладное тело не расплылось и не обрюзгло от родов, переедания и бесконечных диет; небольшие, но красивой формы груди (нежные, с розовыми сосками) не опали; на лицо не легла печать напряженного, горестного выражения, как у бывших красавиц. Она не ходит расфуфыренная, не кривляется и не сюсюкает в надежде вернуть привычное внимание мужчин. Ее не злит и не печалит, что за ней больше не ухаживают, поскольку ухаживания и прежде были кратки и непостоянны.
Вот почему мужчины — даже те, с кем Винни была близка, — не смотрят на нее с тоской, как на любимый уголок природы, изувеченный пожаром, наводнением или многоэтажными новостройками. Винни Майнер, никогда не блиставшая красотой, постарела? И что с того? В постель с Винни они ложились не по страстной любви, а скорее по дружбе и от сиюминутного одиночества, зачастую бездумно, — и получали от нее то, что жаждали получить от другой женщины, более привлекательной. Сколько раз, бывало, мужчина после секса с Винни садился нагишом на кровати, закуривал и заводил рассказ о своей несчастной любви к какой-нибудь своенравной красотке, время от времени вставляя: «Здорово, что у меня есть такой друг, как ты!»
Многие удивились бы, узнав об этой стороне жизни профессора Майнер. Однако не следует считать, будто все некрасивые женщины обречены на воздержание. Это ошибка, причем довольно распространенная: в сознании обычного человека (а тем более в средствах массовой информации) секс неотделим от красоты. Отчасти из-за этого мужчины неохотно признаются в интрижках с некрасивыми женщинами. Что до самих дурнушек, то из природного чувства самосохранения они тоже зачастую скрывают связи, где им изначально уготована роль не столько любовницы, сколько наперсницы.
Говорят, найти с кем переспать может любая — не надо лишь требовать от мужчины слишком многого. Это вовсе не значит, что на долю некрасивых женщин остаются одни негодяи, уроды, тупицы, импотенты и неудачники. Скорее нужно отказаться от надежды на бурные чувства и постоянство, не ждать признаний в любви, восхищенных взглядов, остроумных телеграмм, красивых писем, открыток на день рождения, валентинок, конфет и цветов. Словом, некрасивым женщинам секса вполне хватает. Чего им не хватает, так это любви.
Винни читает в «Вог» советы, как отпраздновать день рождения ребенка, и ее, как профессионала, статья настораживает, поскольку речь здесь идет в основном о платных развлечениях с участием взрослых — о приглашенных фокусниках и клоунах, о всевозможных экскурсиях, обо всем том, что постепенно вытесняет традиционные игры и обряды. Во многом именно из-за таких статей умирает детский фольклор, драгоценное культурное наследие. А над теми, кто стремится его сохранить, насмехаются, издеваются, глумятся в популярных журналах. Р-р-р-гав-гав!
— Ваша газета. — Сосед Винни протягивает ей небрежно свернутую «Лондон таймс».
— Спасибо.
Чтобы никто из попутчиков больше на газету не покусился, Винни кладет ее на колени, под «Вог».
— Это вам спасибо. Жалко, почитать там почти нечего.
Это не вопрос — следовательно, отвечать Винни не обязана. Как это — нечего? — удивляется она про себя. Должно быть, новостей, простеньких статеек, спорта, рекламы — и той маловато по сравнению с его любимой газетой, неважно какой. Или же он привык к кричащим заголовкам и восклицательным знакам и его сбил с толку строгий стиль «Таймс». А раз ничего этого нет — значит, ничего особенного в мире вчера не случилось. В мире-то, может быть, и не случилось, а вот с ней, с В. А. Майнер… Р-р-р-гав-гав! У-у-у! Фидо, перестань!
Отложив в сторону «Вог», Винни разворачивает газету. Мало-помалу выдержанный, неторопливый, слегка ироничный слог «Таймс» успокаивает ее, как голос няни-англичанки — обиженного, капризного ребенка.
— В Лондон летите?
— Что? Да. — Застигнутая врасплох, Винни признается, куда она летит, и вновь углубляется в газету, где нянюшка рассказывает ей о принце Чарльзе.
— Ну и погодка стоит в Нью-Йорке… Рады, что выбрались наконец?
Винни вновь соглашается, но таким тоном, чтобы уж наверняка отбить у соседа желание общаться. Шурша газетой, отодвигается к окну — не беда, что ничего не видно. Самолет как будто стоит на месте, то и дело вздрагивая, а за стеклом клубятся косматые серые тучи.
Винни избегает знакомств в любых перелетах, и особенно когда пересекает океан. Тут больше вероятность наткнуться на зануду, которого придется слушать семь с половиной часов подряд, чем на интересного собеседника; да и вообще, так долго разговаривать не захочется даже с самым лучшим другом.
А сосед Винни к тому же из тех, рядом с кем она не выдержала бы и семи с половиной минут. Судя по одежде и речи — житель Юго-Запада, мелкий предприниматель, без мало-мальски существенного образования и профессиональных заслуг; такие, как он, Европу посещают организованными группами. Так и есть — на дорожной сумке, под его ногами в тяжелых ковбойских сапогах, красуется знакомая наклейка «Сан-Турз» с толстыми смешными буквами и улыбающимся диснеевским солнышком посередине. Внешне сосед тоже абсолютно не во вкусе Винни: грузный, краснолицый, с грубоватыми чертами лица и жестким ежиком рыжих с проседью волос. Кое-кому из женщин наверняка понравился бы обветренный ковбой с Дикого Запада, но Винни в мужчинах всегда привлекали стройность, изящество, светлые волосы, нежная кожа, тонкие черты лица — иными словами, облагороженная мужская версия ее самой.
Спустя полчаса Винни сворачивает газету, достает книгу и бросает быстрый взгляд на попутчика. Тот сидит, едва умещаясь в кресле, не спит и не читает, а на его могучих коленях, забытый, лежит журнал, который выдали в самолете. Любопытно, на минуту задумывается Винни, что он за человек? Летит через океан и не взял с собой чтива; полный невежа, не иначе, и к тому же недальновидный. Надеяться скоротать время в разговорах глупо, ведь рядом с тобой может оказаться молчун вроде Винни, или ребенок, или иностранец. Ну и что тогда — просто сидеть сиднем?
Гудит самолет, летит дальше, и Винни получает ответ на свой вопрос. Сосед ее то и дело встает, уходит в конец салона, а когда возвращается, от него несет куревом. Винни, которая терпеть не может табачного дыма, безмолвно возмущается: что ж он не попросил место в салоне для курящих? Сосед берет у стюардессы пластмассовые наушники, надевает (уши у него большие, красные) и слушает скверную музыку — без особого удовольствия, поскольку все время переключает каналы. Наконец поднимается, заговаривает с туристом из своей группы, который сидит впереди, потом долго беседует с двумя другими, сзади. Теперь понятно, что Винни со всех сторон окружают туристы из «Сан-Турз»; они воплощают все то, от чего ей больно и стыдно за свою страну, от чего хочется убежать подальше, в Лондон.
Винни невольно подслушивает, как они громко, растягивая слова на западный манер, жалуются, что рейс задержался, фильмов не показывают, а турагентство их надуло. Услышав несколько раз это слово, Винни представляет Надуло среди пассажиров самолета — тощее, горбатое, хромое существо стоит в проходе на трех ногах, с наклейкой «Сан-Турз» на буром облезлом крупе.
Читать под этот галдеж немыслимо; Винни встает и идет в конец салона. Находит в туалете самую чистую кабинку и вытирает сиденье сначала влажной салфеткой, потом сухой. Перед уходом, по своему обычаю, собирает с полки пластмассовые бутылочки — одеколон «Блю Грасс», лосьон и увлажняющий крем — и кладет их в сумочку, как всегда уверяя себя, что авиакомпания «Бритиш Эйруэйз» и фирма «Элизабет Арден» нисколько не удивятся, даже обрадуются, если кто-то из пассажиров заберет эти бутылочки себе. Это ведь разновидность рекламы, разве нет?
Профессор Майнер нередко берет чужие вещи — в долг, можно сказать, хотя никогда, разумеется, не возвращает. Магазины у нее под запретом, она не какая-нибудь воровка; имущество знакомых Винни тоже не трогает — только будьте осторожны, если даете ей ручку, особенно с тонким стержнем: вместо того чтобы вернуть, она по рассеянности может положить ее в свою сумочку. Другое дело самолеты, рестораны, гостиницы, учреждения, приемные врачей. Вот откуда у Винни замечательная коллекция полотенец и неистощимые запасы подставок, спичек, бумажных салфеток, вешалок, ручек, карандашей и дорогих журналов. У нее не счесть канцелярских принадлежностей из Лондонского университета и университета Коринф, а еще есть маленький причудливый кувшинчик для сливок — из рыбного ресторана в штате Мэн. Винни жалеет только о том, что не взяла заодно и точно такую же сахарницу. Ну да ладно, как-нибудь в другой раз…
Только не подумайте, что эти мелкие кражи — дело для Винни повседневное. Бывает, неделями и месяцами Винни даже не помышляет о том, чтобы пополнить свои бесплатные запасы. Но если что-нибудь не ладится, она начинает смотреть по сторонам и берет то, что приглянется. И на душе становится чуть легче — как будто она сидит на чаше весов, до того чувствительных, что стоит положить на другую чашу бесплатную коробочку скрепок — и Винни вмиг окажется высоко-высоко.
Случается, Винни совершенствует окружающий мир, не присваивая себе, а выбрасывая чужие вещи, которые ей не нравятся. Во времена своего недолгого замужества она отправила в небытие несколько галстуков мужа и сувенирную пепельницу-ванну, которую он купил на отдыхе. Дважды она утаскивала из женского туалета для преподавателей в Коринфе возмутительную табличку «МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ТУАЛЕТА: ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ».
Никто из знакомых Винни не подозревает о ее привычках, объяснить которые проще всего смутным убеждением Винни, что жизнь в чем-то ее обделила. Жадность тут ни при чем: Винни исправно платит по счетам, охотно делится вещами (и купленными, и «взятыми в долг»), а если с кем-то обедает, то всегда расплачивается за себя. И при этом нередко говорит, что ее зарплаты вполне хватает для одинокой женщины без излишних запросов.
Иногда Винни мучает совесть — особенно если на душе так тяжело, что ничем не поможешь. Вот и сейчас она стоит в тесной кабинке, среди табличек с предупреждениями и запретами на разных языках, и ее внутренний голос заглушает рев самолета. «Мелкая воровка! — завывает он. — Клептоманка чокнутая! Автор никому не нужного проекта!»
Не без труда взяв себя в руки, Винни приводит в порядок одежду и возвращается на свое место. Краснолицый сосед поднимается с кресла, чтобы пропустить ее; вид у него помятый и жалкий. По неопытности он надел в дорогу костюм из какой-то ворсистой, легко мнущейся ткани.
— Вот чертовщина, — бормочет он. — Не могли кресла пошире поставить.
— Да, хорошо бы пошире, — вежливо соглашается Винни.
— Денег им жалко, вот что. — Сосед тяжело опускается в кресло. — Будто не людей везут, а скот.
— М-да, — невнятно мычит Винни и берется за книгу.
— В других авиакомпаниях, должно быть, то же безобразие. Сам-то я не любитель путешествий.
Винни вздыхает. Если пустить все на самотек, этот предприниматель, или фермер с Запада, или кто он там есть, не даст ей почитать «Захват Сингапура» и испортит весь полет.
— Верно, в самолетах всегда неудобно, — отвечает она. — Самое лучшее — брать с собой интересную книгу, тогда ничего этого не замечаешь.
— Эхма, жалость какая, не догадался. — Сосед смотрит грустно, озадаченно, точь-в-точь как недалекие студенты-спортсмены, которым вовсе не место в Коринфе.
— У меня с собой есть книги. Хотите взглянуть? — Винни наклоняется и достает из большой дорожной сумки «Оксфордскую антологию юмористической поэзии», карманный справочник «Цветы Великобритании» и «Маленького лорда Фаунтлероя», которого ей нужно перечитать для научной статьи. Положив книги на соседнее кресло, Винни чувствует, насколько здесь не к месту и каждая из них по отдельности, и все, вместе взятые.
— Ну и ну! Вот спасибо! — радуется сосед Винни при виде каждой новой книги. — Они вам точно сейчас не нужны?
— Нет, не нужны, — уверяет его Винни. — Мне и так есть что читать, — объясняет она, сдерживая досаду. Потом, облегченно вздохнув, снова открывает «Захват Сингапура» и несколько мгновений прислушивается, как справа от нее шуршат страницы, но вскоре, увлеченная сюжетом, перестает замечать.
В последнем оконченном романе Джима Фаррелла над Сингапуром сгущаются тучи войны. А за окнами самолета Винни светлеет небо. Из серого оно становится золотым; прорвавшись сквозь густые тучи, самолет летит теперь в солнечных лучах над облаками, похожими на взбитые сливки. Винни смотрит на часы: полпути до Лондона. Изменилось не только небо, но даже шум двигателей — на пути домой самолет гудит ниже, ровнее. И на душе у Винни теперь не смятение, а покой и радостное ожидание.
Англия для Винни всегда была желанной, любимой страной. Целых двадцать пять лет Винни путешествовала туда в мечтах, населяла ее образами из любимых книг, от Беатрис Поттер до Энтони Пауэлла. И когда наконец очутилась там наяву, то обрадовалась, как дети из книжки Джона Мейсфилда «Коробка с сюрпризом», когда они узнали, что можно попасть в картину на стене в гостиной. Мир ее фантазий вырос, сделался объемным — Винни вошла в страну мечты. С первых минут Англия и особенно Лондон стали для Винни родными, будто она уже бывала там прежде. И сама она стала как будто лучше, добрее, а жизнь ее — интереснее. С годами это чувство не исчезало, а, напротив, крепло, и Винни при каждом удобном случае стремилась пережить его вновь. Последние десять лет она ездила в Англию почти каждый год, но всякий раз, увы, лишь на несколько недель. Зато сейчас едет в самое длинное свое путешествие — на целых полгода. Винни мечтает в один прекрасный день поселиться в Лондоне навсегда, даже подумывает сменить гражданство. Придется преодолеть немало трудностей — юридических, денежных, бытовых, — и пока непонятно, как с ними справиться; но раз так сильно хочется, то когда-нибудь непременно получится.
Многие преподаватели английского, как и Винни, влюбляются в Англию и в ее литературу, но стоит им познакомиться со страной поближе, на смену влюбленности зачастую приходит равнодушие, а то и презрение. Они любят не нынешнюю Англию, а ее прошлое, чаще всего ту эпоху, которую сами изучают: шекспировскую Англию, полную жизни и красок, или Англию времен Эдуарда VII, с ее роскошью и изяществом. Словно разочарованные любовники, они сетуют на то, что в современной Британии холодно, сыро, цены бешеные, народ негостеприимный, природа загублена, даже климат не тот, что прежде. «Англия в упадке, — твердят они. — Потрепанная, старая и скучная, как большинство стариков».
Винни с ними не согласна; более того, ей втайне жаль своих друзей и коллег, которые отвергли Англию, — ведь на самом деле это Англия отвергла их. Погода, на которую они жалуются, — дело вкуса. Британцы не раскрывают объятия и сердца каждому встречному, они отгорожены друг от друга, как английские газоны. Прячутся за высокими кирпичными стенами и колючими живыми изгородями, поэтому на первый взгляд кажутся холодными, неприветливыми. Только те, кто побывал внутри, знают, как там тепло и уютно.
Жалобы коллег на погоду и природу Винни всерьез не принимает, поскольку исходят они от жителей страны, изувеченной буранами и торнадо, изуродованной рекламными щитами и свалками подержанных автомобилей. А то, что здесь якобы ничего не происходит, для Винни большое благо: как-никак она только что сбежала из страны, где нет покоя от громких скандалов и ужасных новостей, а заодно и из родного университета, где что ни день то демонстрации, то пьяные студенческие потасовки. Винни погружается в английскую жизнь, как в большую теплую ванну, где ничто не тревожит спокойную воду, лишь поднимаются порой мыльные пузырьки мелких скандалов и лопаются, оставляя в воздухе тонкий аромат сплетен. В ее маленькой личной Англии жизнь полна событий, — во всяком случае, Винни приключений вполне хватает.
А еще в этой стране с давних времен изучают и уважают фольклор. Три сборника сказок, которые Винни редактировала, и ее книга о детской литературе были встречены в Англии намного теплее, чем в Америке, да и как рецензента ее здесь больше ценят. К тому же — приходит в голову Винни — в Англии не так популярен «Атлантик»; даже если по чистой случайности ее друзья наткнутся на статью Циммерна, то не обратят внимания. Здешние интеллектуалы, как замечала Винни, не очень-то прислушиваются к мнению американских критиков.
Винни улыбается про себя, вспоминая отзывы ее английских друзей об американской прессе, а тем временем в самолете разносят обед. Или ужин — ведь в Лондоне уже семь вечера. Винни покупает крошечную бутылочку хереса, берет чашку чая и, как всегда, отказывается от пластмассового подноса с грудами какого-то неопределенного пресного вещества (сырых опилок? крахмала?), выкрашенного и уложенного в виде тушеной говядины, брюссельской капусты, картофельного пюре и лимонного пудинга. Когда-то Винни думала, что еда в самолете кажется безвкусной из-за высоты или оттого что волнуешься, но теперь ее не проведешь: домашние обеды, которые Винни неизменно берет с собой в полет, ничуть не хуже, чем на земле.
— Вот это я понимаю! Вкуснотища! — восклицает сосед Винни, глядя на ее бутерброд с курятиной; в глазах у него — вожделение, которое Винни случалось видеть и раньше у других попутчиков. — А эта дрянь на вкус — ну чистый силос.
— Точно. — Винни натянуто улыбается.
— Что же с ней делают? Облучают, что ли?
— М-да.
Винни доедает бутерброд, аккуратно сворачивает обертку, достает большое блестящее яблоко, плитку горького шоколада «Тоблер» и вновь открывает книгу. Ее сосед все еще жует свой силос — медленно жует, без аппетита. Наконец отодвигает поднос и открывает «Маленького лорда Фаунтлероя».
— Рады, что летите домой? — спрашивает он, когда Винни берет у стюарда вторую чашку чая.
— М-м-м… да, — бросает она машинально. Дочитывает предложение, останавливается и хмурит брови. С чего вдруг такой вопрос? Неужели она по привычке разговаривала сама с собой? Нет, должно быть, соседа сбила с толку ее необычно правильная речь и любовь к чаю — вот он и принял ее за англичанку.
Винни улыбается. Простой, необразованный человек, а ведь верно подметил, как и ее друзья-англичане, которые говорят, что Винни вовсе не похожа на американку. Разумеется, их представление о «настоящем американце» — всего лишь стереотип, навязанный средствами массовой информации. И все же Винни часто приходило в голову, что хоть она родилась и выросла, как здесь говорят, «в Штатах» — она исключение из правил и по складу ума и души настоящая англичанка. Приятно, что сосед подумал то же самое; надо бы рассказать друзьям.
Однако Винни смущает это недоразумение. Как ученый и преподаватель, она не любит ошибок, каждую из них ей хочется тут же исправить. К тому же если не прояснить недоразумение сейчас, то ее грузный краснолицый сосед узнает правду позже, когда увидит Винни в очереди к стойке с надписью «Иностранные паспорта». Или решит, что Винни ошиблась, и примется во всеуслышание разъяснять ей, что к чему. Нет, нужно сказать ему, что она не англичанка, до того, как самолет приземлится.
Только вот как сказать? Напрямик, ни с того ни с сего — пожалуй, не очень-то вежливо. По себе зная, до чего неприятно, когда отрывают от чтения, Винни не хочет мешать соседу, тем более что тот с головой ушел в «Маленького лорда Фаунтлероя», где один из второстепенных персонажей, простодушный лавочник мистер Хоббс, чем-то на него похож. Винни вздыхает, смотрит в окно, на темное небо поверх алой полосы заката, и думает, как бы невзначай упомянуть о том, что она американка. «Эту книгу я прочла еще маленькой девочкой в Коннектикуте»?.. Винни поглядывает на мистера Хоббса в надежде, что он обернется и заговорит, но тот не шевелится. Он увлеченно читает, и Винни проникается уважением и к нему, и к Фрэнсис Ходжсон Бернетт, автору книги.
Только несколько часов спустя, над Ирландией, когда мистер Хоббс, дочитав «Маленького лорда Фаунтлероя», с благодарностью возвращает книгу, Винни удается исправить его ошибку.
— Американка, говорите? — Сосед Винни изумленно хлопает глазами. — Шутите? А откуда?
Лондон уже близко, глаза у Винни устали от чтения, и она становится разговорчивее, отвечает любезнее. За следующие двадцать минут она узнает, что попутчика зовут Чарльз (Чак) Мампсон, что он инженер-сантехник из Талсы, закончил Оклахомский университет, женат, у него двое взрослых детей — сын и дочь — и трое внуков (Чак не забыл сообщить, как зовут каждого из родственников, сколько им лет и чем они занимаются) и что он летит на две недели в Англию по путевке от компании «Сан-Турз». Жена его, которая «занимается недвижимостью», не смогла с ним поехать («Сейчас в Талсе все кому не лень скупают дома, так что она в делах по самые уши»). Зато с ним летит старшая сестра с мужем: в туристической группе в основном сотрудники электрической компании, где работает зять Чака, и их родственники. Хоббс-Мампсон тяжело поднимается с кресла и топает по проходу, чтобы представить Винни «сестренку» с супругом, о которых здесь достаточно сказать, что это милая пара из Форт-Уэрта, штат Техас, обоим под шестьдесят, в Европу летят впервые.
Винни слушает новых знакомых, сдержанно отвечает на дружелюбные вопросы, гадая про себя, почему жители Соединенных Штатов считают своим долгом выложить каждому встречному подробности личной жизни. Мало того, что забивают головы ненужной чепухой, так ведь можно и обидеть ненароком, отпугнуть случайных знакомых. (Зять Мампсона, как и многие до него, только что сказал Винни: «Стало быть, английский преподаете? Черт подери, надо мне подбирать выражения — я сроду в английском ничего не смыслил».) На Британских же островах, напротив, если два незнакомца едут в купе и разговаривают, то обсуждают они только общие темы и обычно не рассказывают, кто они, чем занимаются, куда и откуда едут.
Когда самолет уже над Хитроу, Винни успевают порядком надоесть и Чак Мампсон, и его родня. А динамики, как назло, сообщают, что из-за «пробки» над аэропортом посадка задерживается. Пока самолет, заваливаясь набок, с гулом наматывает круги в туманном ночном небе, наверняка с риском врезаться в другие самолеты, Винни узнает много нового о климате и росте населения Талсы и Форт-Уэрта, о коммунальных службах и электроснабжении, о вязании крючком («сестренка» вяжет детское одеяльце — ждут пятого внука) и о маршруте, который предлагает фирма «Сан-Турз». И когда лайнер наконец тяжело опускается на посадочную полосу Хитроу, Винни рада не только благополучному приземлению, но и возможности отделаться от новых знакомых.
Винни предусмотрительно выбрала место, поэтому одной из первых спускается по трапу на землю и проходит паспортный контроль. Нужно поторопиться: самолет опоздал на полчаса с небольшим, и автобусы до Лондона вот-вот перестанут ходить. Однако в зоне выдачи багажа от опыта Винни пользы немного. Она, конечно, знает, где взять багажную тележку и где лучше встать у конвейерной ленты, чтобы скорее увидеть и схватить чемоданы, но если ее сумка появляется почти сразу, то чемодана все нет и нет.
Длинный прохладный зал с низким потолком заполняется растерянными пассажирами; стрелка на часах Винни отсчитывает минуты; проползают мимо незнакомые чемоданы, сумки, рюкзаки, картонные коробки. Винни мысленно перебирает содержимое своего (потерянного? украденного?) чемодана: в нем не только почти вся ее теплая одежда, но и, что самое печальное, записи для научной работы, важные справочники и распечатки, все стихи, которые она собрала в Америке для сравнения с британской поэзией, — почти сто страниц бесценного материала. Пока у ног Винни скапливаются чужие сумки, она представляет, через что придется пройти, чтобы заменить все содержимое чемодана. Походы по универмагам, аптекам и книжным магазинам, ксерокопирование по 15 пенсов за страницу (в Коринфе ксерокс бесплатный), письмо иностранному профессору, который пользуется сейчас ее кабинетом, с просьбой открыть запечатанную картотеку и найти папку с пометкой… какой пометкой, черт возьми? А вдруг папка не в университете, а дома, в запертой нежилой комнате, от которой у временных жильцов нет ключа? Неужели придется отправлять дубликат ключа жильцам, двум аспирантам-архитекторам, предоставив им доступ к письмам, дневникам, к первым изданиям книг с иллюстрациями Артура Рэкхема и Эдмонда Дюлака и к коллекции вин? Вокруг Винни собирается чужой багаж, а невидимый грязно-белый пес носится с жалобным воем. «Бедняжка Винни, чего же ты хотела? — скулит он. — Опять не повезло».
Двадцать минут спустя, когда в зоне выдачи багажа почти никого не остается, лента конвейера подтаскивает наконец и чемодан Винни; один уголок у него смят, замок с того же боку открыт. Винни так устала и измучилась ожиданием, что у нее нет сил ни радоваться, ни думать об иске за убытки. С унылым видом снимает она чемодан с конвейера и громоздит на тележку. Таможенный инспектор, позевывая, взмахом руки пропускает Винни в вестибюль, где, несмотря на поздний час, все еще ждет многоязычная толпа. У одних на руках дети, другие держат таблички с именами тех, кого должны встретить. Когда входит Винни, все сначала глядят на нее, потом ей за спину. Смотрят, машут руками, кричат, бросаются вперед, тянутся к друзьям и родным, оттесняя Винни в сторону.
Винни, которую никто не ждет и не встречает, бросает еще один тревожный взгляд на часы, ахает и устремляется с тележкой через весь зал к выходу, а позади нее трусит Фидо. Вскоре Винни начинает задыхаться, сердце готово выскочить из груди — надо сбавить шаг. Дело ясное: она стареет, слабеет и телом, и духом. Сумки тяжелеют с каждым разом; не за горами тот день, когда Винни, совсем немощная и больная, не сможет ездить одна — а больше ей ездить не с кем; Фидо трется о ноги Винни и горестно посапывает. Прекрати! Сумки тяжелее обычного, потому что Винни едет надолго и вещей взяла больше. Только и всего. А автобус, конечно, подождет — ведь сегодня все рейсы задерживаются. Ни к чему спешить, думает Винни. Ни к чему выбиваться из сил, беспокоиться.
И ошибается, как оказалось. Когда Винни, осторожно толкая тележку, выходит на залитую дождем ночную улицу, от остановки чуть поодаль отъезжает красный двухэтажный автобус. Ее криков «Стойте! Подождите!» то ли не слышат, то ли не желают слышать. Хуже того, на стоянке ни одного такси — только очередь измученных людей. Винни тоже стоит и ждет, продрогшая, усталая, и тоска после перелета накатывает на нее холодной соленой волной. Что она делает здесь среди ночи, в этой каменной пустыне? Зачем ехала так далеко и столько денег пустила на ветер? Никто ее не звал, никто не ждет — ни здесь, ни в другом месте. Никому не нужно ее дурацкое исследование детских стишков. Фидо забрался на помятый чемодан и протяжно воет.
Если я сейчас же не сделаю что-нибудь толковое, с ужасом понимает Винни, я тоже завою. Из горла уже рвутся рыдания, слезы наворачиваются на глаза.
Что-нибудь толковое… Но что? Можно, конечно, вернуться в аэропорт и вызвать такси, хотя здесь они вечно опаздывают. И дерут бешеные деньги. А если и впрямь сдерут — хватит ли обмененных перед полетом фунтов?
Впрочем, о деньгах пока волноваться рано. Переведя дух, Винни поворачивает с тележкой в сторону аэропорта в надежде, что откуда-то чудом появится такси. Никаких такси, разумеется, нигде не видно — только толпа туристов из «Сан-Турз» ждет посадки на заказной автобус. Винни готова уйти, когда ее окликает мистер Хоббс-Мампсон. Теперь на нем светло-коричневая ковбойская шляпа с перьями и куртка из овчины мехом внутрь; он с ног до головы обвешан фотоаппаратами — ни дать ни взять карикатура на американского туриста с Дикого Запада.
— Привет вам еще раз! Что стряслось?
— Ничего, — отвечает Винни подчеркнуто спокойно, подозревая, однако, что по лицу ее всем очевидно обратное. — Просто ищу такси.
Мистер Мампсон оглядывает пустой, залитый дождем, освещенный фонарями асфальт.
— Что-то их тут не видать.
— Нет. — Винни робко, натянуто улыбается. — Похоже, в полночь все такси превращаются в тыквы.
— Как? A-а! Ха-ха-ха! Слышьте-ка, а поехали с нами? Автобус везет нас в Лондон. В брошюре сказано, гостиница в самом центре столицы. Там-то вы точно такси поймаете, ей-богу.
Пропустив мимо ушей слабые протесты Винни, мистер Мампсон исчезает в толпе и минуту спустя возвращается с заверениями, что все устроилось как нельзя лучше. К счастью, Винни с мистером Мампсоном заходят в автобус последними и места им достаются далеко друг от друга, так что Винни избавлена от разговоров.
Дорогу до Лондона для Винни застилает туман усталости. За границей она бывала не однажды, но в туристическом автобусе едет в первый раз в жизни и надеется, что в последний. Разумеется, Винни часто видела их на улицах, со смесью жалости и презрения смотрела, как туристы сидят в тесноте и мутными рыбьими глазами таращатся сквозь толстое зеленое стекло своего передвижного аквариума на чужой, безмолвный мир снаружи.
Автобус подъезжает к большой безымянной гостинице, на стоянке рядом с которой и в самом деле ждут несколько такси. Мистер Мампсон помогает Винни уложить в одно из них багаж, и она расстается с новым знакомым, искренне поблагодарив его и совсем не искренне согласившись, что «хорошо бы как-нибудь еще свидеться».
Уже почти час ночи. Пока такси несется к северу сквозь пелену дождя, измученная Винни гадает, какие новые злоключения ждут ее в квартире на Риджентс-парк-роуд, которую она третий раз подряд снимает у одного оксфордского преподавателя. «Не иначе, соседей нет дома, — скулит Фидо, — и не у кого взять ключи. Или жутко грязно. Или света нет. Уж если не везет, так во всем и до конца».
Однако молодая женщина из квартиры на первом этаже оказывается дома и еще не спит; ключи без труда поворачиваются в замках; выключатель на старом месте, сразу за дверью. И все тот же белый телефон, и стопка телефонных книг в светлых обложках («А-Д» — кремовая, «Е-К» — цвета розовой герани, «Л-Р» — зеленая, словно папоротник, «С-Я» — голубая, как незабудки), на страницах которых прячутся имена всех лондонских друзей Винни. Диван и стулья на прежних местах, справа и слева над камином поблескивают гравюры с видами Оксфорда в золотых рамках. На чистой каминной решетке по-прежнему висит бумажный веер, такой же белоснежный, как эмалированные горшки с плющом на веранде. Во второй раз за вечер к глазам Винни подступают слезы, только сейчас это слезы облегчения, даже радости.
Никто не видит — почему бы и не поплакать. Вся в слезах, Винни втаскивает сумки в квартиру, запирает дверь на засов. Она наконец дома, в Лондоне.
2
Всякий имеет право наслаждаться жизнью.
Джон Гей. Опера нищего
На станции метро «Ноттинг-Хилл-Гейт» высокий темноволосый красавец американец ждет поезда в восточном направлении. Беспокойно переминаясь с ноги на ногу, он разглядывает яркие, но в грязных подтеках, рекламы продуктов, которые ни за что не станет покупать: шоколадных конфет «Черная магия» и сигарет «Крейвен». Привыкший внимательно вчитываться в тексты (молодой человек преподает в университете английский язык и литературу), он удивляется про себя: как могут англичане покупать конфеты, чье название связано со злыми чарами, и сигареты «Трус»?[1] Может быть, у этих блестящих плакатов на самом деле мрачный подтекст? Неужели блондинка с алыми губками, которая протягивает коробку конфет, замышляет околдовать или отравить гостей? А веселые парень и девушка с сигаретами втайне боятся друг друга? Фреду Тернеру, в его нынешнем настроении, обе сцены кажутся пустыми и фальшивыми, даже зловещими, как и сам город.
Фред в Лондоне уже три недели, но на метро едет в первый раз. Обычно он везде ходит пешком — совсем как Джон Гей, английский поэт восемнадцатого века, о котором Фред пишет книгу. В поэме «Тривия, или Искусство бродить по улицам Лондона» Гей презрительно отзывается о транспорте:
В тщетных поисках «сладостного покоя» Фред обошел уже пол-Лондона. А если нет дождя, он еще и пробегает каждое утро две мили по парку Кенсингтон-гарденс, мимо пустых мокрых скамеек и голых сучковатых деревьев, под хмурым небом, затянутым облаками. Вдыхая сырой холодный воздух и выдыхая пар, Фред задается вопросом: что он делает здесь, один в этом холодном, противном городе? Но сегодня с неба весь вечер сыплется мокрый снег, а Фреда ждут к ужину в Хэмпстеде. В такую погоду даже Гей не пошел бы пешком так далеко.
Большинство других людей на платформе смотрят не на рекламы, а на Фреда Тернера — кто тайком, а кто и в открытую — и вспоминают, где могли его видеть. Не в кино ли? Или по телевизору? Кассирше в мини-юбке кажется, что он вылитый герой с обложки ее любимого романа ужасов «Тайна Розвин». Усталая учительница на скамейке, с набитой плетеной сумкой в руках, уверена, что видела его прошлым летом в Стратфорде, в спектакле «Бесплодные усилия любви», в одной из второстепенных ролей. Хозяин магазинчика мужской одежды, взглядом знатока отметив про себя нездешний покрой шерстяного пальто Фреда, гадает, не этот ли парень играет в обожаемом детьми американском детективном сериале. Никому из пассажиров метро не приходит в голову связать Фреда с комедией или какой-нибудь телевикториной: гордый разворот его плеч, твердый подбородок, сурово сдвинутые темные брови исключают подобное легкомысленное предположение.
Фреда всеобщий интерес не смущает. Для него это в порядке вещей, он к этому привык и не догадывается, что мало кому из людей дано так притягивать взоры. С раннего детства его внешностью восхищались, нередко вслух. Фред унаследовал черты красавицы матери, роскошной брюнетки: густые темные кудри, широко расставленные карие глаза с пушистыми ресницами («Подумать только, такое богатство — и досталось мальчишке!» — говорили люди). Надо отметить, здесь на Фреда глазеют не так бесцеремонно, как дома, в Америке; вежливых британцев с малых лет учат, что в упор рассматривать незнакомых неприлично, и они умеют обуздывать свое любопытство. А еще их учат не заговаривать с незнакомцами, и до сего дня никто из англичан при Фреде этого правила не нарушил, зато на прошлой неделе двое канадцев остановили его посреди улицы вопросом: не он ли случайно поборол гигантскую хищную капусту с другой планеты в фильме «Нечто из ниоткуда»?
Фред Тернер, конечно, понимает, что он красивый, хорошо сложенный молодой человек, из тех, кого режиссеры любят посылать на борьбу с овощами-людоедами. Сказать, что он этим недоволен, было бы преувеличением, и все же Фред не раз жалел, что родился таким красавцем. Чертами лица и сложением он схож с героем начала века, благородным, утонченным, будто сошедшим с рисунка Чарльза Дана Гибсона. Живи Фред в довоенные годы, он благодарил бы судьбу за свою внешность, но в наши дни мужчине-англосаксу быть настолько красивым немодно, если он, конечно, не гомосексуалист. На современный вкус подбородок у него слишком твердый, осанка слишком гордая, волосы не в меру вьются, а ресницы чересчур длинные.
Будь Фред актером, красота его была бы достоинством. Но у него нет ни призвания к лицедейству, ни честолюбия; а в его профессии, как он понял за последние пять лет, красота — большой недостаток. В школьные и студенческие годы Фред этого не чувствовал. Мальчикам позволено быть хорошенькими, если кроме красоты им есть еще чем гордиться. Фред же был во всем одним из лучших: живой, общительный паренек, первый и в учении, и в спорте — таких ребят любят учителя. В старших классах он был из тех юношей, кого выбирают в старосты, а в университете — из тех студентов, а потом и аспирантов, про кого в рекомендательных письмах пишут «и к тому же на редкость привлекательный молодой человек».
Сложности начались, когда Фред стал преподавать. Как знает всякий, кто учился в университете, большинство преподавателей не отличаются ни привлекательной внешностью, ни большой физической силой, и если подобные качества у студентов они ценят или хотя бы терпят, то собратьям-педагогам их не прощают. Будь Фред преподавателем живописи или театрального искусства, он, возможно, не так выделялся бы среди коллег и легче уживался с ними, а на кафедре английского языка и литературы к нему из-за внешности относились предвзято, несправедливо считали тщеславным, себялюбивым, неумным и легкомысленным.
Со студентами Фреду тоже приходилось нелегко. Как только он поступил ассистентом на кафедру, в него тут же влюбились не меньше трети студенток и даже один-два студента. Стоило ему обратиться к кому-то из них с вопросом, у них подгибались коленки, прерывалось дыхание, разбегались мысли. Они ходили за Фредом по пятам после занятий, провожали его до кабинета, наклонялись над его столом в облегающих свитерах и блузках с глубокими вырезами, хватали его за руки с немой мольбой, а иногда и открыто признавались в любви — в записках или в разговоре («Я только о вас и думаю, просто с ума схожу»). Но Фред не собирался спать ни с десятком обезумевших первокурсниц, ни даже с одной-единственной избранной первокурсницей в здравом уме. Его не привлекал юношеский жирок и незрелые мозги, и, хотя несколько раз соблазн был велик, Фред строго следовал кодексу профессиональной чести. К тому же он справедливо полагал, что если поддастся искушению и об этом узнают, то может серьезно пострадать его карьера.
В первый год работы Фред научился держать студентов на расстоянии — к примеру, попросил их больше не обращаться к нему по имени, хоть это ему и нелегко далось. Со временем страсти вокруг него утихли, а когда он встретил женщину, чья внешность и темперамент не давали ему скучать, стало еще легче. Но на занятиях ему до сих пор неуютно. Мало приятного, когда тебя называют «профессор Тернер»; жаль, что со студентами приходится вести себя холодно и сухо, что на твоих занятиях никогда не будет той теплоты и свободы — не доходящей до фамильярности, — как у твоих менее привлекательных коллег. Время исправит это положение, но не раньше чем через четверть века, а в двадцать восемь лет это кажется вечностью. Пока же нужно мириться с тем, что студенты считают тебя сухарем и распространяют это мнение в «Секретном руководстве для студентов», которое выпускают каждую осень.
Однако сейчас, как и последние два месяца, мысли Фреда занимают не университетские неприятности, а его семейная жизнь, которая трещит по швам. До недавнего времени Фред думал, что его жена Рут (или Ру — для Фреда) поедет за границу вместе с ним. К поездке они готовились сообща, читали книги, изучали карты, расспрашивали друзей, и Ру радовалась предстоящему путешествию даже больше, чем сам Фред.
И вдруг дома разразилась буря: гром, молнии, потоки слез. Перед самым Рождеством Фред и Ру расстались мрачные, злые, а родным и друзьям объявили, что они «в процессе развода». В глубине души Фред подозревает, что исход «процесса» предрешен, вердикт присяжных — «виновен», и браку их будет вынесен смертный приговор.
Но что толку об этом думать, ворошить горькие воспоминания? Ру далеко и сюда уже не приедет. Она не ответила ни на одно из двух писем Фреда — кратких, но тщательно продуманных, спокойных, дружеских — и, похоже, не собирается отвечать. Фреду предстоят пять одиноких месяцев в Лондоне, без смысла и радости; и в городе, и в душе у него непрестанно моросит холодный дождь. Никогда прежде Фред не был таким несчастным.
Он готовился даже без Ру жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в городе Джона Гея, в городе Джонсона, Филдинга, Хогарта и многих других замечательных людей. А в итоге без души, как будто по обязанности, ходил в одиночку туда, где они мечтали побывать вдвоем, — в собор Св. Павла, на Лондонский мост, к дому доктора Джонсона и так далее. Все вокруг казалось ему фальшивым и пустым, достопримечательности Лондона выглядели равнодушными, мертвыми громадами из камня и кирпича. Фред прилетел в сердце Британии, но душа его осталась в Коринфе, в той жизни, которой больше нет. Он живет в прошлом, как и собирался, да только не в Лондоне восемнадцатого века, а в своем собственном недавнем прошлом, мрачном и унылом.
И все-таки Фред не верит, что настоящего, прекрасного Лондона нет на свете. Есть такой город. Фред жил в нем полгода десятилетним мальчуганом, а на прошлой неделе побывал там снова. И хотя некоторых из памятных местечек больше нет, зато те, что остались, наполнены смыслом, светятся воспоминаниями, как будто от них исходит благотворное излучение. Дом, в котором когда-то жила семья Фреда, уже снесли; на месте развалин, оставшихся от бомбежек, — Фред и его школьные друзья играли там в фашистов и союзников или в полицейских и бандитов — теперь выстроили многоквартирные дома. Но на углу осталась кондитерская, где так густо, сладко пахнет анисом, корицей и молочным шоколадом; осталась широкая каменная лестница в проулке за церковью, с низкими, неровными, стершимися ступенями, где Фредди (как его тогда называли) часто останавливался по пути домой, ел черные, блестящие витые лакричные палочки из бумажного пакета и читал комиксы «Бино» — ни одно из удовольствий никак нельзя было отложить на потом.
Через дорогу находилась приемная хирурга, куда отец на руках принес Фредди, когда тот упал с велосипеда, и врач, старушка с коротко стриженными седыми волосами, зашила ему подбородок тремя колючими черными стежками, приговаривая: «Ай да красавчик янки, храбрец-молодец»! Не просто хвалила, как теперь понимает Фред, а определила самую его суть. На медной табличке теперь другое имя, но осталась прежней тяжелая дверь с витражом, на котором красуются помидоры с нимбами, и по-прежнему Фреду они кажутся знаком того, что это не просто дом, а священное место, пусть даже теперь Фред знает, что витраж — произведение современного искусства, а помидоры-святые — на самом деле не помидоры, а гранаты. На одной-единственной улице в Кенсингтоне длиной в несколько сот футов ум Фреда напряженно работает, все чувства обострены, а весь остальной Лондон — холодный, блеклый, скучный и безрадостный.
Фред считает, что настоящий Лондон для него закрыт не только оттого, что рядом нет Ру. Отчасти дело в том, что он здесь как турист; то же самое Фред замечал у недавно приехавших сюда американцев, а дома — у друзей и родных, когда те возвращались из-за границы. Вся беда в том, что в чужой стране можно в полной мере пользоваться лишь двумя из пяти чувств. Зрение не страдает — недаром говорят «осматривать достопримечательности». Чувство вкуса тоже всячески поощряется, более того, приобретает мистический, почти сексуальный смысл и значимость: если ты отведал местных блюд и напитков — значит, узнал страну по-настоящему.
Однако слух, можно сказать, не работает. Доступные пониманию звуки — лишь голоса официантов, продавцов, экскурсоводов и гостиничных служащих, да еще обрывки весьма сомнительной «народной» музыки. Даже в Англии произношение, мелодика речи и некоторые слова кажутся чужими, туристы не узнают многие звуки, а общаются в основном с должностными лицами. Обоняние с грехом пополам работает, но запахи сплошь и рядом или незнакомы, или неприятны. А больше всего страдает осязание. На всем и вся вокруг туристу мерещатся таблички «Руками не трогать!».
Для связи с миром недостаточно двух чувств, поэтому места, где ты побывал как турист, кажутся блеклым, безмолвным пространством с отдельными светлыми пятнами. Белые с пурпурными прожилками крокусы в ящике на окне; красное, искаженное гневом лицо орущего таксиста; рыба с горсточкой жареной картошки, завернутая в страницу скандального таблоида «Новости мира», — эти редкие минуты полноценного восприятия выделяются в памяти Фреда среди событий прошедшего месяца будто яркие цветные снимки на серых листах старого фотоальбома. Если подумать, так и должно быть — ведь туристы обычно привозят домой фотографии.
А еще привозят яркие безделушки под названием «сувениры». Как подразумевает само слово, это даже не предметы — скорее воплощенные воспоминания, а все воспоминания, как известно, несколько приукрашены и искажены. У сувениров мало общего с теми вещами, которыми пользуются жители страны. Кто-нибудь видел гречанку в платке с желтыми блестящими монетками или французского рыбака в «настоящей рыбацкой куртке» из тех, что продаются в сувенирных магазинах? Эти символы-фальшивки выдуманы для того, чтобы восполнить человеку те несколько недель или месяцев, на которые он был отрезан от своего мира, от близких людей…
Вот-вот, в самую точку. Отрезан от близких… Будь рядом с ним Ру, разве стал бы он сочинять подобные теории? Такое состояние души неестественно, это отражение серого Лондона. Хорошо бы найти кого-нибудь, в компании с кем он… нет, не забыл бы Ру — это невозможно, — а просто отвлекся и отогрелся бы.
С глухим ревом рассекая воздух, к платформе подлетает поезд. Вагон полупустой: уже седьмой час вечера, и народ в основном едет в другую сторону, в пригороды. Фред заходит в вагон и садится, вновь привлекая к себе любопытные взгляды. Напротив сидит хорошенькая девушка в темно-зеленой шерстяной накидке с капюшоном; они встречаются глазами, девушка слегка улыбается Фреду и вновь опускает взгляд на книгу. Вот он, неплохой и далеко не первый пример того, чего не хватает ему в Лондоне, да только Фред не чувствует в себе сил что-либо предпринять.
На пути у Фреда два препятствия. Во-первых, недостаток опыта. В отличие от большинства мужчин заурядной или вовсе непривлекательной внешности, Фред так и не научился знакомиться с женщинами. Ему это никогда не было нужно, поскольку с ранней юности вокруг него толпились девушки, которые сами были не прочь, а то и страстно желали познакомиться с ним поближе. Девушек привлекала не только его красота, но и жизнерадостность, приятные манеры и то, что он был умница и спортсмен, но никогда этим не кичился. Фреду оставалось всего лишь сделать выбор.
Даже сейчас, когда у Фреда так тяжело на душе, он без труда мог бы познакомиться с девушкой, если бы захотел, — и на его неловкость и застенчивость, скорее всего, не обратили бы внимания. Но есть еще одно препятствие, куда серьезнее. У всех девушек в Лондоне один общий недостаток: они не Ру. Ясное дело, глупо и вредно продолжать думать о женщине, которая вычеркнула тебя из своей жизни, вспоминать о ней, мечтать. Как говорил Роберто Франк, его друг детства, на одной девчонке свет клином не сошелся.
Если бы Роберто был сейчас здесь, а не преподавал в Висконсине французский, он бы посоветовал подкатить к девушке в зеленой накидке и сегодня же затащить ее в постель. Еще в школе Роберто прописывал случайный секс как лекарство от всех бед. «Лучшее средство — быстрый трах», — заявлял он, когда кто-то из приятелей жаловался на простуду или скулил, что растянул ногу, в школе много задают, родители не понимают, сломалась машина или велосипед, подружка ревнует, изменяет или динамит. Роберто со школьной скамьи начал коллекционировать женщин, как в детстве коллекционировал открытки с бейсболистами, предпочитая количество качеству (в младших классах он как-то раз отдал Фреду самого Микки Мэнтла за трех каких-то слабаков из «Рэд Сокс»). Роберто убежден, что мир кишит похотливыми красотками, жаждущими легких связей. «Заметь, я не предлагаю тебе уламывать их или водить за нос. Если я встречаю крошку, с которой хочу переспать, я ей выкладываю все начистоту. Не хочет играть по моим правилам — ну и ладно, адью, никто не в обиде». Фред не согласен. Он по опыту знает, что не бывает отношений без обязательств, — и неважно, что там говорят двое друг другу в самом начале. Бывало, уже после пары свиданий ему начинало казаться, что он запутался в чувствах, как кот в клубке.
«М-да, — думает Фред, — а может быть, в чем-то Роберто и прав; может быть, если бы я с кем-нибудь…»
Поезд останавливается на «Тоттенхем-Корт-роуд». Фред выходит, чтобы пересесть на Северную линию. Выходит и девушка в зеленой накидке; оказывается, читала она «Случай» Джозефа Конрада. Фред сначала устремляется за ней — ему тоже нравится Конрад, — потом, не зная, что ей сказать, замедляет шаг. Сворачивая к лестнице на южную платформу, девушка бросает на Фреда грустный взгляд.
Фреду приходит в голову, как начать разговор, и он пускается вслед за незнакомкой, но тут же вспоминает, что в Хэмпстеде его ждут к ужину Джо и Дебби Вогелер, которые обидятся, если он не придет. С Вогелерами он учился в аспирантуре и, кроме них, никого из своих ровесников в Лондоне не знает, поэтому для Фреда очень важно сохранить их дружбу. Среди прочих знакомых Фреда только пожилые друзья его родителей да еще коллега по работе, старая дева Вирджиния Майнер, тоже приехавшая сюда в научный отпуск. Если с друзьями родителей Фред общается из вежливости, но без особой охоты, то профессора Майнер и вовсе старается избегать. Хотя у Фреда с ней не было ни одного серьезного разговора, именно ей в конце концов придется решать, оставить ли Фреда на кафедре или вышвырнуть на улицу. Говорят, она обидчивая и с причудами, к тому же без ума от всего английского. Случайная встреча скорее оттолкнет ее от Фреда, чем порадует, а если при ней обнаружить свое плохое настроение и признаться в нелюбви к Лондону и Британскому музею, то Фред, что бы она ни думала о нем сейчас, неминуемо упадет в ее глазах. Кроме всего прочего, непонятно, как к ней обращаться — профессор Майнер, мисс Майнер, Вирджиния или Винни? Чтобы не обидеть отказом, Фред согласился прийти в конце недели к ней на «вечеринку», но, скорее всего, позвонит и соврет, что ему нехорошо, — то есть что заболел, поправляет себя Фред: в этой стране «мне нехорошо» означает, что тебя тошнит.
Джо и Дебби не стоит обижать и еще по одной причине: Фреда ждет у них бесплатный ужин, притом вкусный — Дебби неплохо готовит, хоть и без особой фантазии. Впервые в жизни Фред остался без гроша в кармане. Он представления не имел, какие в Лондоне цены и сколько нужно времени, чтобы получить зарплату по чекам. Квартиру, которую он и Ру нашли по объявлению, дороговато снимать в одиночку, а готовить он не умеет. На первых порах Фред обедал в ресторанах и барах, сначала в дорогих, потом все более и более дешевых, от которых страдал не только его кошелек, но и желудок; сейчас он кое-как перебивается бутербродами с сыром, консервированной фасолью, готовыми супами, вареными яйцами и апельсиновым соком в пакетах. Если станет совсем худо, можно послать письмо или телеграмму родителям и попросить денег, но выглядеть это будет по-детски беспомощно. В конце концов, ему скоро двадцать девять и он доктор наук!
— Хочешь еще шоколадного торта? — спрашивает Дебби.
— Нет, спасибо.
— Правда ведь, не удался? — Круглолицая Дебби хмурится, между бровей-ниточек пролегает морщинка.
— Что ты, очень вкусно, просто…
— Глазурь, по-моему, не такая, как обычно, — замечает Джо — как всегда, с философским спокойствием.
— Да, сыровата, — соглашается Дебби. — И начинка слишком сладкая. Я взяла не то печенье, а хорошего шоколада ни в одном магазине не оказалось. Но здесь всегда так, понимаешь?
Фред молчит. Ему все понятно: ведь друзья весь вечер рассказывали (Дебби — горячо и возмущенно, Джо — с прохладной ехидцей) о том, как их разочаровала Англия, особенно Лондон. Больше месяца они изо всех сил пытались привыкнуть, а теперь махнули рукой. И зачем только они сделали такую глупость — уехали сюда из Южной Калифорнии (оба преподают там в колледжах по соседству), да еще и с годовалым ребенком? Их ведь предупреждали, но голову им вскружила любовь к английской литературе (Дебби) и английской философии (Джо). Что ж мы не послушались советов умных людей? — без конца спрашивают они друг у друга. Почему не поехали в Италию, или в Грецию, или, наконец, не остались дома, в Клермонте? В прошлом Британия, возможно, и была великой, но теперешний Лондон — гадость.
— Скажем, магазины. Продавец в бакалейном — форменный грубиян! Можно подумать, я его оскорбила, когда сказала, что у них должен быть горький шоколад для выпечки. Он о таком слыхом не слыхивал — и рад до смерти!
— Они все сговорились. Похоже на то, во всяком случае, — вторит Джо. — Встречаются раз в неделю в местной забегаловке и думают: «Как нам досадить этим молокососам-янки, которые рады по уши, что приехали в Лондон?» — Джо хохочет, сморкается.
— И водопроводчик не пришел, когда у нас забилась раковина. Даже не изволил сообщить, когда к нам доберется и появится ли вообще.
— Или, допустим, сегодня в химчистке. Там женщина так посмотрела на мои брюки, будто от них чем-то воняло. «Нет, сэр, с этими жирными пятнами ничего нельзя сделать, один фунт десять пенсов, пожалуйста». — Изысканный британский выговор у Джо не очень-то выходит: во-первых, ему медведь на ухо наступил, во-вторых, у него насморк.
— Но хуже всего, что здесь так некрасиво, — жалуется Дебби. — Серо, мокро, а все эти современные здания — просто кошмар какой-то. Посреди самых красивых старинных улиц понастроили многоэтажных домов, ресторанов быстрого питания, понаставили рекламных щитов. Куда девалось их чувство прекрасного?
— Вымерзло, — отвечает ей муж. Уроженец Калифорнии, Джо щуплый, узкогрудый и не выносит холода; сразу после приезда в Лондон он заболел, бывало ему и «нехорошо». — Сначала пытался не обращать на это внимания, — рассказывает он Фреду, пока Дебби готовит кофе внизу, в темной сырой кухне. — Потом слег и четыре дня провалялся в постели, все ждал, когда же станет лучше, наконец отчаялся и снова встал на ноги.
Сейчас у него кашель, лихорадка, горло болит, нос заложен, голова раскалывается. Больше всего на свете хочется пойти наверх, повалиться на кровать и уснуть мертвым сном. Но ведь он философ и по натуре стоик. Дебби и малыш Джеки тоже простужены.
— Самое плохое здесь — климат, — продолжает Джо. В ответ на окрик жены он берется за веревку буфетного «лифта» и поднимает из кухни приготовленный Дебби поднос. — Погоду они тоже, по-моему, нарочно портят.
— А какая, наверное, сейчас погода в Клермонте! — восклицает Дебби минуту спустя, разливая кофе. — Как подумаю — кажется, что меня провели как последнюю дурочку. А ведь нас и вправду надули. Может, я тебе уже рассказывала… (А как же, и не раз.) Этот дом мы нашли по объявлению, агент прислал нам снимок и описание. В то утро, когда мы сюда прилетели, Фласк-уок была просто чудо: в кои-то веки выглянуло солнышко, и, когда такси остановилось, дом был точь-в-точь как на фотографии, только еще лучше, потому что в цвете — настоящий загородный домик в георгианском стиле. И я подумала: видно, не зря мы отдали столько денег за дом и за билеты и восемь часов промучились с Джеки в самолете. А когда зашли внутрь, то оказалось, задней части у дома просто нет — будто срезана. Агент нам, конечно, ни словом не обмолвился… — Дом Вогелеров стоит на углу улицы; кухня в полуподвале, гостиная и две спальни, одна над другой. Комнаты все треугольные — как куски пирога, только куда тоньше тех, что нарезала Дебби. — Гостиная — пятнадцать на восемнадцать футов, не меньше, так говорилось в описании, — продолжает Дебби. — Я-то думала, это без учета плинтусов, стенных шкафов и всего такого прочего. Как бы не так! Да еще эта ужасная пластмассовая мебель по углам. И разумеется, никакого сада. Я чуть с ума не сошла, честное слово. Взяла и разрыдалась, и Джеки, конечно, тут же заревел — дети чувствуют, когда родители расстроены.
— Мы никак не могли в себя прийти, — признается Джо. — Отчасти, наверное, из-за смены часовых поясов. Но уже почти полтора месяца прошло, а все то же самое.
— Понимаю, о чем ты. — Фред протягивает чашку за добавкой кофе. — У меня бывает странное чувство: кажется, что я на самом деле не в Лондоне, что это не настоящий Лондон, а плохая подделка.
— С нами было то же самое первое время после приезда. — Дебби подается вперед, ее ровно подстриженные каштановые волосы накрывают щеки. — Особенно когда ходили смотреть достопримечательности — Вестминстерское аббатство, здание Парламента и все такое прочее. Все казалось каким-то игрушечным, а вокруг автобусы, толпы туристов — американцев, французов, немцев, японцев. Вот мы и решили: пропади оно все пропадом!
— Такое происходит повсеместно, — объясняет Джо. — Туризм — это саморазрушение, вроде как реакция окисления железа. — Джо любит научные сравнения, эта любовь у него осталась с тех времен, когда он учился на биохимическом факультете. — Какое-то место становится достопримечательностью из-за того, что оно символично или характерно и олицетворяет настоящую Британию. Туда стекаются сотни туристов — и что же они видят? Разумеется, других туристов.
— И когда доберешься до какой-нибудь достопримечательности, она оказывается вовсе не такой красивой, — вставляет Дебби, — потому что ты уже видел ее прилизанный снимок в ясный летний день, без туристических автобусов, окурков и оберток от конфет. Естественно, наяву она выглядит грязной и облезлой. Теперь мы на экскурсии не ходим. Зато на работу больше времени остается.
— Что правда, то правда, — соглашается Джо. — При такой погоде, если никуда не ходишь, только и остается сидеть и писать. Больше и делать нечего — разве что играть с ребенком да смотреть телевизор. Эй, сколько времени?
— Скоро восемь, — отвечает Дебби.
Джо распрямляет длинные ноги, поднимается и идет к телевизору в дальнем углу комнаты, похожей на кусок пирога.
Пока все сдвигают стулья, подтягиваются к телевизору и ждут очередного выпуска сериала по роману Генри Джеймса, который идет раз в неделю на Би-би-си, Фред решает поделиться своими взглядами на туризм, но оставляет затею, сообразив, что главная его мысль не относится к Вогелерам. Судя по тому, как они устроились в обнимку на уродливом диване, чувство осязания у них вовсе не страдает.
С первыми звуками печальной мелодии к фильму Джо прибавляет громкость. Фред, который пропустил предыдущие серии, смотрит вполглаза, с тоской сравнивая себя с Вогелерами. Они-то вместе, у них ребенок, и работа их, судя по всему, не стоит на месте, а книга Фреда о Джоне Гее, для которой он собирает материалы в Британском музее (Ру называет его «БМ» или «Бумагомаралка»), продвигается из рук вон плохо.
Фред нетерпелив, деятелен, не любит сидеть в четырех стенах. В библиотеке ему нравится бродить среди полок, искать нужные книги — заодно попадаются и те, о которых он не подозревал. В БМ трогать книги на полках запрещено, далеко не всегда там можно найти то, что нужно, а если книга нужна, но ты пока не знаешь об этом, то путь к ней закрыт. Иногда приходится ждать часа по четыре, пока пищеварительная система древней библиотеки извергнет из себя несколько жалких книжонок, чьи номера Фред выписал из громоздкого, запутанного каталога. И даже когда книги наконец приносят, все далеко не так просто. Фред привык работать у себя в кабинете, где никто не шумит и не отвлекает. Здесь же его окружают другие читатели, некоторые из них довольно странные, а иные и вовсе сумасшедшие, судя по тому, как они выглядят и ведут себя: кладут в пыльные тома разноцветные закладки, барабанят пальцами по столу, топают ногами, разговаривают сами с собой, беспокойно перешептываются, кашляют, сморкаются и мешают работать.
К тому же Фред, когда пишет, повсюду разбрасывает свои бумаги и любит ходить по комнате; дома его записи занимали целых два стола и кровать в комнате для гостей. А в БМ высокий, крепкий Фред вынужден сидеть скрючившись на маленьком стульчике, на клочке пространства между двумя другими учеными или сумасшедшими и их грудами книг, в душном зале, построенном по одному плану с образцовыми тюрьмами, детищем викторианских философов-моралистов.
Фред убежден, что БМ вредит его работе. Чтобы написать о Джоне Гее что-то стоящее, нужно (как говорил сам Гей) «пуститься в путь». Нужно «кружиться пчелкой», чтобы собрать воедино не только литературную и театральную критику, но и фольклор, материалы по истории музыки и криминальные хроники восемнадцатого века. Ничего удивительного, что фразы, которые выдавливает из себя Фред, сгорбившись над парой книг в огромной душной ученой тюрьме, выходят тяжелыми и невнятными. Снова и снова поднимается он, чтобы лишний раз порыться в каталоге или просто пройтись по залу. Смотрит на завсегдатаев библиотеки, которых он уже запомнил в лицо, а кое с кем и знаком, — и все больше мрачнеет. Частенько в зале сидит кто-то из Вогелеров, корпит над книгами. Вогелеры вместе учились в аспирантуре, и у них полное равноправие: всю заботу о маленьком Джеки они делят пополам. Условия работы в Бумагомаралке Вогелерам не помеха. Когда Фред проходит мимо, Джо или Дебби всякий раз поднимают на него глаза и снисходительно улыбаются. Наверное, думают: бедняга Фред, никогда не умел сосредоточиться на работе!
Очередная серия фильма подошла к концу, лица героя и героини застыли на фоне роскошной архитектуры начала века, по экрану побежали титры.
— Что ж… — Фред поднимается на ноги, — мне, пожалуй, пора…
— Не уходи, посиди еще, — гнусавит Джо.
— Посиди, расскажи, что у тебя новенького. Кстати, как дела у Рут? — Джо и Дебби задают этот вопрос каждую неделю, по очереди, будто сговорились.
— Не знаю. Она мне не пишет, — отвечает Фред уже в четвертый раз.
— Вот как… до сих пор не написала… — тянет Дебби. За этим, казалось бы, невинным и спокойным замечанием Фреду слышится неприязнь. Его друзья плохо знают Ру и недолюбливают ее. Они видели ее всего два раза и явно старались полюбить, но, как и в случае с Лондоном, безуспешно. — Она не тот человек, который тебе нужен, — нарушает Дебби трехлетнее табу. — Нам с самого начала было ясно.
— Верно, — поддакивает Джо. — Девушка-то она неплохая, только слишком уж беспокойная.
— Взять хотя бы ее фотографии. Они всегда были какие-то странные, безумные. И в сравнении с тобой она казалась просто ребенком.
Ну еще бы: Ру моложе Дебби на четыре года, а Фреда и Джо — на три.
— Она как будто была настроена не на ту волну.
— Судя по всему, да. — Фред берет с пластмассового кофейного столика, отделанного под дуб, свежий номер «Гардиан».
— Слушай, только не вешай нос, — поучает его Джо.
— Легко сказать. — Не различая ни строчки, Фред шелестит газетными страницами.
— Ты ошибся, только и всего, — говорит Дебби. — Ошибиться всякий может, даже ты.
— Правильно, — соглашается Джо.
— До сих пор жалею, что у вас с Кариссой ничего не вышло, — бормочет его жена. — Она мне всегда так нравилась. И что ни говори, она очень талантливая.
— Умница, — добавляет Джо.
— Гм, — отзывается Фред, про себя отметив, что о Кариссе говорят в настоящем времени, а о Ру — в прошедшем; не только подразумевают, что она посредственность, но и делают вид, будто ее больше нет.
— Карисса не такая, как все, — продолжает Дебби.
«Как бы не так, — безмолвно возражает Фред. — Серая мышка-преподавательница, робкая, забитая; умна, спору нет, — но из кожи вон лезет, чтобы казаться еще умнее».
— Давайте не будем об этом, ладно? — резко произносит он вслух.
— Боже мой… Прости нас…
— Что ты, мы не хотели…
Почти десять минут Фред уверяет друзей, что вовсе не обиделся, что все понимает, что ужин был отменный и хорошо бы поскорей увидеться снова.
Фред шагает по Фласк-уок к станции метро сквозь ночной холод и туман, а на душе у него обида и злость. Когда попадаешь в беду, то слышать от друзей, что они с самого начала это предвидели и только из вежливости молчали, — слабое утешение.
Фред, правда, не винит Вогелеров за их отношение к его жене, ведь когда Фред впервые встретил Ру, ему тоже казалось, что она настроена не на ту волну; на деле же волны, которые она излучала, заставляли его жужжать как стереоусилитель. Вся она будто светилась изнутри — и ее пышная грудь под оранжевой футболкой с надписью «Солнечная энергия», и широко раскрытые влажные глаза, и загорелые румяные щеки, и длинная темно-рыжая коса, из которой во все стороны выбивались жесткие прядки.
Фред второй месяц преподавал в Коринфе, когда познакомился с ней на банкете в честь приезжего лектора. Ру пригласили сделать фотографии для местной газеты, а Фред пришел потому, что искренне восхищался взглядами гостя. Ру их, кстати, решительно не разделяла и честно призналась в этом. Сначала Фред и Ру друг другу совсем не понравились, если не сказать больше. Но настоящего противостояния не вышло — оказалось, что у них общее хобби. Ру с утра ездила верхом и даже не удосужилась переодеться, и когда Фред узнал, что ее брюки для верховой езды и высокие вощеные ботинки — не напоказ, а для дела, вся его неприязнь мигом улетучилась. Когда Ру с невозмутимым видом (позже выяснилось, что ее спокойствие — только маска, за которой скрывалась порывистость) пригласила Фреда покататься в выходные верхом, он с радостью согласился. Ру, как она призналась потом, чуть дольше сомневалась на его счет. «Я совсем голову потеряла, мне так хотелось, чтобы у нас с тобой что-нибудь вышло, но внутренний голос мне твердил: „Эй, детка, постой, он же сухарь-профессор, а в душе наверняка женоненавистник и свинья. От таких, как он, одни несчастья“».
Фред сворачивает с Хай-стрит к станции метро «Хэмпстед», спускается внутрь, покупает билет до «Ноттинг-Хилл-Гейт» и заходит в старый железный лифт, по стенам которого развешаны плакаты с полуобнаженными красотками. Лифт погружается в холодную, сырую шахту, а Фред — против воли — в пучину воспоминаний.
Октябрь, три с лишним года назад. Фред и Ру, с которой он был знаком три дня, лежали в заброшенном яблоневом саду, на холме возле фермы ее матери и отчима, а их лошади щипали жесткую, высокую, жухлую траву на ближнем лугу.
— Знаешь что? — сказала Ру, повернувшись на бок. На ее теплой смуглой коже играли тени, как на спелых полях в солнечный день, когда по небу бегут облачка. — Это неправда, что когда сбываются наши детские мечты, то остается одно разочарование.
— Ты представляла себе что-то похожее? — Фред лежал не шевелясь на спине и смотрел сквозь сетку ветвей на небо, ярко-синее, как пламя газовой горелки.
— Еще бы! Однажды за мной прискачет мой принц — и тому подобную чушь. Лет с семи, наверное.
— В таком нежном возрасте — и уже?..
— А что? О периоде скрытой сексуальности у детей я узнала только в университете, но в детстве, сколько себя помню, пыталась заставить мальчишек играть в доктора, только им обычно не очень-то хотелось. Разумеется, я не знала, что случится после того, как приедет принц. Представляла природу вокруг, и самого принца, и как он выезжает на коне из леса — точь-в-точь как ты, только в моих детских мечтах ему тоже было семь.
— Тогда ты и научилась ездить верхом?
— Нет. По-настоящему я тогда не умела. — Ру приподнялась. Ее толстая темно-рыжая коса (того же оттенка, что и шкура у ее лошади по кличке Шара) расплелась во время их недавней любовной битвы, и теперь волосы струились по спине, распускаясь будто по собственной воле. — Мне страшно хотелось, но было негде — разве что летом в лагере, всего пару недель. А по-настоящему я научилась только в тринадцать, когда мама познакомилась с Берни. А ты?
— Не помню точно. Одно из первых воспоминаний детства — как меня у дедушки сажали верхом на пони. Он казался мне высоченным, как гора, и широким, как диван. Было мне тогда года два-три.
— Везет же некоторым! — Ру сжала кулак и шутливо стукнула Фреда, но удар вышел довольно сильный. — Я бы все за такое отдала — с детства обожала лошадей, и почти все мои подруги тоже. Мы просто с ума по ним сходили, честное слово.
— Да, встречал таких девчонок. Интересно, откуда это у вас? Наверное, дело в том, что мы живем в мире машин и женщинам, даже маленьким девочкам, в нем еще тяжелее, чем мужчинам.
— Некоторым женщинам. — Ру передернула плечами. — Есть еще и объяснение в духе Фрейда, но, по-моему, это чушь собачья. Никогда не представляла себя с конем, мне казалось, что я сама — лошадь. И всем подругам моим — тоже, честно тебе говорю. У нас в младших классах было два сорта девчонок: паиньки, которые любили наряжаться, печь печенье и играть в куклы, — и я с подругами. Мы носились по улицам в старых джинсах и кроссовках, возились в грязи и обожали лошадей. Мне кажется, лошади для нас означали свободу, силу, движение. Нам не хотелось быть обычными девчонками, такими, как все.
— Помню я этих девочек-паинек. Толку от них было мало. — Фред притянул Ру к себе. — О-ох! Слушай, — спросил он немного погодя, — а твоя прогулка верхом впервые вот так заканчивается?
— Ну, как сказать. — Ру тепло дышала ему в лицо. — Пару раз, конечно, случалось. — Ру отодвинулась, чтобы лучше видеть Фреда. — Но это было совсем не то. Многие мои знакомые парни не умеют ездить верхом или умеют, но совсем неважнецки, только строят из себя хороших наездников, и выходит еще хуже. А те, кто умеет, — по большей части милые дурачки, которых и мужчинами-то не назовешь. Вроде моих сводных братьев… Я ни разу еще никого сюда не приводила. В это место — никогда. — Ру понизила голос, заглянула в глаза Фреду.
— Спасибо.
— Только не воображай, что ты такой особенный, — поспешила добавить Ру. — Но нельзя же до конца дней ждать какого-то дурацкого принца. Я ведь старею — вот и подумала: сейчас самое время.
— Нечего сказать, старушка — всего-то двадцать два. — Фред погладил ее по щеке, но Ру отвернулась, подперла рукой подбородок и устремила взгляд сквозь ветви на склон холма, на лошадей.
— А еще из-за Шары. Знаешь, я тебе уже говорила, что прошлой весной хотела убраться из Бостона подальше: мой начальник в газете был женоненавистник и гадина, и с моим тогдашним парнем дела шли хуже некуда. Возвращаться домой было необязательно, я могла бы податься в Нью-Йорк или на Западное побережье — мне там предлагали неплохую работу. Но мне хотелось быть рядом с Шарой. Кто знает, а вдруг она последний год так скачет? Она мне почти ровесница, а после двадцати лет с лошадью всякое может случиться. Хорошую скорость она еще набирает, но устает сильно. Можно было, конечно, любую другую лошадь взять, но это совсем не то. В мечтах я всегда представляла себя верхом на Шаре — по-другому и быть не могло, понимаешь? Да и на дворе уже октябрь, еще неделя-другая — и настанут холода, и тогда на улице уже не покувыркаешься. Выходит, сейчас — или никогда. — Ру невесело засмеялась. — Так что не думай, что ты такой особенный, — повторила она.
Но Фред думал, что он и вправду особенный, — и торжествовал.
Недолго же длилась его радость. Сейчас Фред ходит взад-вперед по холодной, полупустой платформе лондонского метро, а в ушах у него снова звучат недавние слова Джо, Дебби и других приятелей и родственников, кое-кто из которых не постеснялся поздравить Фреда, когда его брак развалился. Большинство из них с самого начала были от Ру не в восторге. Им казалось, что она не та девушка, в которую мог бы всерьез влюбиться Фред, и они поздравляли его с выбором только из вежливости.
К примеру, отец Фреда сказал: «Недурна, спору нет. И кажется, очень добрая девушка. На ее фотографиях мексиканских трущоб видно сострадание. Человек она прямой, говорит что думает. Будьте счастливы». Ру снимала сезонных рабочих-мексиканцев на севере штата Нью-Йорк, но Фред уже устал исправлять подобные ошибки отца — тот привык мысленно отгораживаться от любого общественного зла.
Фред вспомнил и тогдашние слова Джо и Дебби: «Те фотографии, что Ру делала на дискотеке, очень необычны. Видно, что она свое дело знает». — «Сил ей, похоже, не занимать». — «Занятное было у нее платье, с красной вышивкой и все в блестках — албанское, что ли?» — «Она очень похожа на одну студентку из Нью-Йорка. Мы удивились, когда узнали, что она выросла в Коринфе».
На самом деле это значило, что Ру слишком беспокойна, шумна, чересчур интересуется политикой, ведет богемный образ жизни и еврейка к тому же. Между прочим, Джо и сам еврей, но совсем другой породы: отшлифован Принстоном, эрудирован, скромен.
Большинство родных Фреда и многие из его друзей по аспирантуре рады, что Ру, как выразился один из них, «сошла со сцены». И убеждены — или, по крайней мере, надеются, — что она больше там не появится, а останется навсегда в странном, мрачном мире своих фотографий. И только мать Фреда, напротив, от всей души желает, чтобы ее сын и Ру помирились. Вероятно, не хочет нарушать семейные традиции. Фред помнит, как мать говорила совсем по другому поводу со спокойной гордостью: «Ты знаешь, милый, в нашей семье до сих пор не было ни одного развода». Но это не единственная причина, мать с самого начала искренне привязалась к Ру, несмотря на то что они совершенно разные: Ру — богемная, шумная и все такое прочее, а Эмили Тернер — настоящая леди, с безупречным вкусом, с ровным, приятным голосом.
Ру тоже привязалась к матери Фреда, хотя и не сразу.
— Подумаешь, дождь идет. И что с того? Хочу прогуляться, — заявила она, когда в первый раз гостила у родителей Фреда, как только осталась с ним вдвоем. — У вас всюду такие строгости — шагу нельзя ступить… А мама у тебя что надо. Поселила нас для приличия в разных комнатах, зато с общей ванной. И разумеется, красавица — почти как ты. — Ру нежно прижалась к Фреду. — Спорим, что приключений у нее было хоть отбавляй.
— То есть как — приключений? — Фред, ласкавший левую грудь Ру, замер.
— Ну, романов и всего такого прочего. Не то чтобы много, — поправилась Ру, увидев, что Фред изменился в лице, — но наверняка достаточно. Будет что вспомнить в жизни. В этом доме без них нельзя — умрешь от скуки.
— Что ты, мама не такая! — возразил Фред, но тут же, впервые в жизни, представил мать в роли неверной жены — и понял, что для этой роли она прекрасно подходит. А память сама подсказывала ему возможных любовников. К примеру, приезжий профессор-историк, с которым мама всегда танцевала на вечеринках, а отец мрачно острил на его счет. А еще тот старик, который заведовал конюшней, — в семье даже шутка ходила о том, что он влюблен в маму. Вспомнился и такой случай (Фред тогда был совсем маленький; сколько же ему было — четыре? пять?): у них в столовой сидит какой-то дядя, чинит тостер, и Фредди на него злится, а мама, в красном свитере, стоит слишком близко к незнакомому дяде, и Фредди злится на маму… Что же это такое было? Нет, ничего особенного. Его родители очень счастливы вместе. — Если бы она захотела, то могла бы, но…
— Ладно, ладно. Считай, что я ничего не говорила. Она твоя мать, и для тебя она чиста, как статуя Девы Марии у вас в церкви. Может быть, она такая и есть — откуда мне знать?
— А у тебя полно предрассудков, — сказал Фред, обнимая Ру. — Нет у нас в церкви никаких статуй Девы Марии — сплошной абстракционизм, все на современный лад. Надевай пальто, пойдем покажу.
Хотя со дня их знакомства прошло уже три месяца, Фред был по-прежнему опьянен Ру — и не только ее телом. Ру была для него как зелье, расширявшее границы сознания; рядом с ней он обостренно воспринимал окружающий мир, все казалось непонятным, чуждым и в то же время странно знакомым. Волшебство началось с фотографий Ру, но дело было не только в них. Сначала в присутствии Ру, а потом и когда ее не было рядом, Фред начал замечать, что рабочие на ферме, изможденные и морщинистые, похожи на готические деревянные скульптуры, а танцоры на дискотеке будто сошли с картин Фрэнсиса Бэкона: бледные, с искаженными криком лицами, в неестественных позах. Ему стало казаться, что ворота университета — это застывший железный цветок, а университетское начальство — точь-в-точь куры и индюки на птичьем дворе. Более того, Фред знал, что это не просто игра воображения, что теперь он видит жизнь как она есть — такой, как Ру: нагой, прекрасной, полной смысла.
Вскоре Фреда перестало волновать, что слова и фотографии Ру выводят из себя его родных и близких. Он даже втайне радовался этому, как подметила однажды Ру:
— Вот что. Похоже, ты меня используешь — я говорю за тебя дерзости, которые ты не решаешься сказать из вежливости. Как тот чревовещатель из передачи, которую я смотрела в детстве. На руке у него сидела большая дурацкая игрушка — желтый мохнатый лупоглазый медведь с широченной оранжевой пастью. Медведь отпускал шуточки и про всех говорил гадости, а чревовещатель удивлялся, делал вид, что он тут ни при чем: «Ах, какой ужас! Ничего не могу с ним поделать, он совсем от рук отбился!» Ты только не думай, я не против. Все хорошо.
— Тем более что это взаимно, — ответил Фред. — Ты тоже используешь меня, чтобы говорить слишком «правильные» вещи, которые тебе вслух сказать стыдно. На прошлой неделе заставила меня сказать твоей маме, что мы решили пожениться, — и пусть, мол, думает, что я обыватель.
Мать Ру на это сказала: «Правда? Ну и дела! А я-то считала, нынешняя молодежь так рано не женится, разве что… Ах, вот как! У вас будет ребенок?.. Нет? Ну тогда я ничего не понимаю, но раз уж хотите — так и быть, я не против». (Что и говорить, единственный раз, когда Фред и Ру из-за бурана остались после вечеринки ночевать у матери и отчима Ру, их уложили спать в одной комнате.)
Вообще-то пожениться предложил Фред, чтобы ему проще было общаться со студентами, а Ру — с его коллегами («Это… м-м… подруга Фреда»), Однако Фред еще и хотел доказать, что относится к Ру серьезно, что она для него не просто «девица, с которой можно неплохо поразвлечься», как предположил один из его двоюродных братьев. А Ру, думал Фред, хотела за него замуж потому, что, несмотря на радикальные взгляды, броские наряды и грубоватые замашки, в душе была нежной и ранимой.
Во время жениховства Фред понял, что должен сыграть роль героя еще одной детской мечты Ру. Мечты об Идеальной Свадьбе. Залитый солнечными лучами газон, много-много цветов, музыка Моцарта и Бартока, клубника, домашний свадебный торт и шампанское на бузине. Романтическая оказалась девушка, хотя и феминистка до мозга костей. Для начала Ру не взяла фамилию мужа, но и прежнюю свою фамилию — Циммерн — не захотела оставить. С отцом, профессором Л. Д. Циммерном, преподавателем английского языка и весьма уважаемым нью-йоркским критиком, отношения у нее были теплые, дружеские, но зачем феминистке всю жизнь носить фамилию отца, тем более отца, который ушел из семьи, когда Ру была совсем крошкой? Вместо этого по случаю брака Ру сменила фамилию на Марч. Новую фамилию она выбрала, потому что родилась в марте, а еще в честь любимой книги детства, «Маленькие женщины», — Ру была очень близка главная героиня, Джо Марч. (Ру решила, что если у них будут дети, то мальчики получат фамилию отца, а девочки — ее новую фамилию, которая будет наследоваться по материнской линии.)
Фред уже подумывает, не остановилось ли движение на Северной (или, как называют ее лондонские газеты, Невезучей) линии, когда к платформе наконец подходит поезд. Фред садится в вагон, доезжает до станции «Тоттенхем-Корт-роуд» и пробирается вдоль холодных, выложенных плитками, похожих на сточные трубы туннелей — стены их пестрят афишами, которые приглашают лондонцев на февральские культурные события. Фред на афиши не смотрит. У него туго с деньгами, ему не на что ходить на концерты, спектакли, фильмы, выставки и спортивные зрелища; не на что ему и выехать из Лондона. Прошлой осенью, обдумывая поездку, Фред и Ру рассчитывали на его отпускные, сбережения обоих и деньги от сдачи квартиры и надеялись облазить весь Лондон. И не только Лондон. Они собирались в Оксфорд, Кембридж, Корнуолл, Уэльс, в Шотландию, Ирландию, на материк. Фреду хотелось увидеть все, путешествовать целую вечность — казалось, ему и Ру даже вечности не хватит. А сейчас, если бы и были деньги, все равно нет желания исследовать даже Ноттинг-Хилл-Гейт.
Ру мечтала в июне поехать в Лапландию снимать белые ночи, ледники, северное сияние, оленей. «Пейзажи Снежной королевы», — объясняла она. Но что толку думать о Ру, твердит себе Фред, стоя уже на платформе в ожидании поезда на запад. Она не любит меня и никогда не любила; она оскорбила меня и, может быть, предала; сказала, что не хочет меня больше видеть. И я, после всего что случилось, видеть ее не хочу.
Несмотря ни на что, Фред видит Ру внутренним взором: широко раскрытые темные глаза, жесткие волосы; вот она рассказывает о зеленых льдах, о высокогорных цветах… Ру предавала его уже тогда. Фотографировала, а то и трахалась — иначе, приличней, и не скажешь — с теми двумя! И что самое страшное, она и его тогда фотографировала, и с ним занималась любовью. В те последние, необычайно теплые ноябрьские недели Ру была еще более оживленной, чем обычно, еще больше похорошела, вся светилась радостью, потому что готовилась к своей первой персональной выставке и собиралась (как она думала) с Фредом в Лондон.
Выставку Ру решила назвать «Творения природы». Большинство снимков были сделаны в округе Хопкинс, некоторые из них для газеты, где Ру работала. Позже Ру клялась, что предлагала Фреду посмотреть фотографии, пока не вставила их в рамки, а Фред сам не захотел. Но, насколько он помнит, Ру сказала, что лучше увидеть всю выставку целиком.
Еще Ру говорила, что якобы велела ему ждать сюрпризов и сомневалась, будет ли он доволен, но Фред ничего такого не припомнит. Помнит только, что однажды она сказала:
— Я возьму несколько твоих прошлогодних летних фотографий, ладно? Лица твоего видно не будет.
На что Фред, к несчастью, — видимо, был увлечен работой — согласился. Ру действительно не раз повторяла, что кое-кому ее выставка не понравится, однако, по мнению Фреда, преподнести правду таким способом еще хуже, чем солгать. Фред и без того знал, что есть люди, которым фотографии Ру не нравятся, кому неприятно видеть нищету или изнанку американской мечты.
Холодным ясным ноябрьским днем, за час до открытия выставки, Фред вошел в галерею. В первом, большем из двух залов, подле кубка с кроваво-красным пуншем и аккуратно расставленных тарелок с сырными кубиками, нанизанными на зубочистки, Фред и Ру в последний раз тепло и безмятежно обнялись. Вокруг висели парами фотографии Ру. Она объединила снимки живых существ и неживых предметов, чтобы подчеркнуть их сходство. Некоторые из пар Фред уже видел, другие были новые — насекомые с усиками и телевизионные антенны на крыше, круп Шары и персик. Одни пары были трогательные и забавные, другие откровенно сатирические: двое жирных политиков, а рядом — два быка мясной породы. Но общее настроение выставки, по сравнению с другими, более ранними, было теплое, даже лирическое. Три года счастья, думал дурачок Фред, держа в объятиях свою талантливую жену, научили ее видеть в мире прекрасное и забавное, а не только уродливое и трагическое.
— Все здорово, Ру, — сказал он. — Просто замечательно. — Выпустил жену из объятий и вошел во второй зал.
Первое, что он увидел на фотографиях, — это себя. Точнее, кусочки себя: увеличенный левый глаз с длинными ресницами, а рядом — гигантский паук; рот с поджатыми губами — и изогнутый побег бугенвиллей; загорелые колени — и корзина румяных яблок. Фреда восхитила изобретательность Ру, но он слегка смутился. Как Ру и обещала, лица его почти не было видно; просто так не скажешь, кто это, хотя многие догадаются. Фред глянул на Ру (на лице ее застыли — сомнений быть не могло — смятение и тревога), потом — на следующую пару снимков. Рядом с прекрасной цветной фотографией грибов, торчащих из лесного мха — крепких, покрытых капельками росы, — красовался снимок его собственного напряженного члена, тоже с капелькой на конце. Фред вспомнил фотографию, с которой он был взят и увеличен. Никогда не ожидал он, что снимок выставят на всеобщее обозрение.
— Бог мой, Ру!
— Я же тебя предупреждала. — Ее полные, сочные губы дрогнули. — Я просто не могла его не выставить, он такой красивый! И если уж на то пошло, — голос ее, как бывало иногда, зазвучал напряженно, сухо, — никто ведь не догадается, что он твой.
— Господи, да чей же еще?
Ру молчала. Но, как вскоре узнал Фред, на этот вопрос был ответ. На стенах, рядом с его собственными фотографиями, висели и чужие. В том числе и члены — точнее, два члена. Не так сильно увеличенные (в обоих смыслах), но тоже небезынтересные. Один — длинный, но тонкий, среди жидких курчавых волосков — соседствовал со снимком побега спаржи. Второй, покороче и потолще, весь в темных веснушках, — с фотографией тяжелого, ржавого засова на двери старинного амбара.
За этим закрытым просмотром последовали ссоры — бурные, яростные, нескончаемые. Ру не стала убирать ни одну из фотографий, ни до открытия выставки, ни после. Ее поддержали владелицы галереи, две ярые феминистки — худенькие, обманчиво спокойные. А Фреду-то они поначалу казались такими славными. Отказалась Ру и назвать имена двух других моделей — их чувства она щадила явно больше, чем чувства мужа («Честное слово, не могу. Я обещала сохранить их инкогнито»).
Фред возмутился, стал говорить о «хорошем вкусе» и тому подобном. Ру принялась на него орать:
— Знаешь ли, милый мой, что это такое? Сплошная чушь и лицемерие. Как насчет художников и скульпторов-мужчин, которые веками использовали женские тела? Фотографы, кстати, тоже: у них женщины бывали похожи то на фрукты, то на песчаные дюны, то на чайные чашки. Целая комната сисек и попок — это да, это прекрасно, это Искусство! Но только попробуйте с мужчинами проделать то же самое! Что ж, очень жаль. Выходит, вам можно, а нам нельзя?
— Ладно, — согласился тогда Фред. — Хочешь фотографировать красивых мужчин — их тела, руки, ноги, плечи — пожалуйста! Даже мужские задницы, в конце концов…
По-прежнему вне себя от ярости, Ру перебила его:
— Нет, приятель, дело не в этом. Женщинам, в отличие от гомиков, нет дела до мужских задниц.
Ну да, зато им есть дело — не было нужды это говорить — до мужских членов.
В то же время Ру упрямо твердила, что не была близка ни с кем из своих неизвестных моделей.
— Ума не приложу, отчего они так возбудились. Многих людей возбуждает, когда их снимают. Думаешь, если бы я спала с другим, я бы повесила на выставке снимок его члена? По-твоему, я такая дрянь?
— Не знаю, — ответил Фред устало и сердито. — Я теперь вообще не знаю, чего от тебя ждать. Да и какая разница?
Ру метнула на него гневный взгляд.
— Правы были Кейт и Гарриет, — сказала она. — Ты и впрямь свинья-женоненавистник.
Глубоко под землей, на станции метро «Тоттенхем-Корт-роуд», к холодной, грязной платформе, на которой стоит Фред, подходит поезд. Фред садится в вагон, на душе у него тревога и мрак, как всегда, когда наперекор здравому смыслу он начинает думать о Ру. От нее надо освободиться, ее нужно забыть, оставить в прошлом. Их брак — ошибка, неудавшаяся затея, которая заставила его трезво взглянуть на себя и на мир; может быть, он стал мудрее, но при этом ожесточился.
Выбрав Ру, Фред думал, будто сделал решительный шаг, отмел все предрассудки, отринул собственное мещанское «я». Долгие годы ему казалось, что, несмотря на все его таланты и достижения, в жизни его недостает ярких событий. Чуть ли не с пеленок Фред был, по словам отца, «очень благополучным ребенком» — способным, красивым, везде первым и, главное, послушным. Переходный возраст у него прошел гладко, без особых хлопот для родителей. Фред был бы и рад их слегка побеспокоить, но не хотел проваливаться на экзаменах, одурманивать себя наркотиками или разбивать старый «бьюик», на который пять лет копил деньги — разносил газеты в мороз и подстригал газоны в жару.
Ру была его знаменем, символом свободы, и поначалу чем более неловко было рядом с ней его родным, чем холоднее с ней обходились его друзья, тем больше радовался Фред. Теперь ему больно и стыдно сознавать, что они были правы на ее счет. В отличие от него. Отец Фреда, например, всегда считал, что Ру не настоящая леди (хоть никогда и не говорил об этом вслух). В прежние дни Фред, узнав об этом, бурно возмутился бы, точнее, сказал бы, что «настоящая леди» — понятие устаревшее и бессмысленное. А оказалось, в нем своя правда. Даже если предположить, что Ру не спала с теми двумя парнями, чьи члены красовались на выставке, все равно снимки пошлы до крайности. Более того, Ру этого даже не понимает. По словам Джо, Ру «настроена не на ту волну»; как выразилась Дебби, «она не нашего круга», хотя и Фред, и Ру выросли в университетских городах и у обоих отцы — профессора.
Наверное, общность происхождения и сбила Фреда с толку, заставила думать, что Ру, несмотря на ее словечки и манеры, близка ему по духу. Его вины здесь нет. Как сказала Дебби, «ошибиться может всякий, даже ты».
Слова Дебби звучат у Фреда в ушах и обретают иной смысл, кажутся холодными, злобными, презрительными. В первый раз ему приходит в голову, что Дебби плохо к нему относится, что она, быть может, всегда его недолюбливала и теперь рада его несчастью. Только вот непонятно отчего. С Дебби они знакомы даже дольше, чем с Джо, с первого года аспирантуры, и Фред всегда считал ее другом, пусть и не самым близким.
На деле же — Фред и не подозревает об этом — он с самого начала очень нравился Дебби, настолько нравился, что лишил покоя. Они виделись почти каждый день на занятиях, встречались на вечеринках, вместе обедали (чаще — в компании, но иногда и вдвоем), и Фред даже не догадывался о ее чувствах. Добродушный, но слегка высокомерный, как и многие очень красивые люди, Фред не мог предположить, что коренастая, курносая Дебби мечтала о его любви, а со временем сочла себя отвергнутой. Если у Дебби сейчас поинтересоваться мнением о Фреде, она скажет, что Фред ей «нравится», но в глубине души она считает его избалованным дитятей. И как ученого ставит его невысоко, держит на него обиду и за себя, и за мужа. Фред в аспирантуре учился нисколько не лучше, и печатных работ у него не больше, но преподает он в престижном университете, а Дебби с мужем — в никому не известных калифорнийских колледжах. Почему? Да потому лишь, что он хорошо одевается и умеет себя подать; ну и еще благодаря связям отца, декана другого престижного университета. Как-то раз Дебби прочитала статью о психологии избалованного ребенка — это как раз про Фреда. Ему с детства внушили, что он достоин только самого лучшего. Тогда к чему его жалеть, если он оступился, даже упал? Пусть набьет шишек, поваляется в грязи. Это ему только на пользу. А то, что Джо не держит на Фреда зла (при том, что он, по мнению Дебби, умнее и талантливее), для Дебби еще одно доказательство превосходства мужа.
Фред, однако, никогда не отличался проницательностью и плохо разбирается в том, что движет его друзьями. Сейчас он гадает: а не обидел ли чем-то ненароком Дебби? Может быть, она недовольна, что он зачастил к ним ужинать? Ей, наверное, кажется, что Фред сидит у них на шее, — да так оно, собственно, и есть. (На самом деле такое ни Джо, ни Дебби в голову не приходило.) Надо развеяться, думает Фред, подъезжая в тряском вагоне к станции «Ноттинг-Хилл-Гейт»; хорошо бы познакомиться с кем-нибудь в Лондоне.
Почему бы, в конце концов, не пойти на вечеринку к профессору Майнер? Скорее всего, там будут одни чудаки-профессора, из которых песок сыплется, но как знать? По крайней мере, выпить дадут, а главное — поесть. Наверняка закусок будет столько, что не придется ничего покупать к ужину.
3
Клубничный, черничный, брусничный компот,
Кто имя дружка моего назовет?
Из английской народной поэзии
В небольшом, но дорогом ресторане «У месье Томпсона» на Кенсингтон-парк-роуд Винни Майнер поджидает своего старинного лондонского друга — редактора детских книг, писателя и критика Эдвина Фрэнсиса. Она не волнуется: внимательный Эдвин позвонил в ресторан и предупредил, что может опоздать. Винни спокойно ждет и не скучает. Ей нравится все: и новая книга, и свежие шелковистые нарциссы на столе, и золотые солнечные блики на белых стенах соседних домов, и аромат ранней лондонской весны.
Если вы недостаточно хорошо знакомы с Винни, то едва ли узнаете в ней ту несчастную преподавательницу, которая садилась на самолет в первой главе. Сидя на дубовой скамье, как на жердочке, поджав под себя ноги, она выглядит юной девушкой, почти ребенком. Ее маленький рост и яркая обложка книги (об австралийских подвижных играх) еще больше вводят в заблуждение. Наряд у нее тоже, по ученым меркам, молодежный: белая кружевная блузка и светло-коричневый шерстяной джемпер с большими воланами. На худеньких плечах шерстяная шаль с набивным рисунком, и в ней Винни похожа на переодетую школьницу в роли доброй бабушки. Быть может, и очки у нее только для солидности, и морщинки на лице нарисованы карандашом для бровей, и волосы не седые, а просто напудренные.
— Винни, дружок, прости! — Эдвин Фрэнсис наклоняется к ней через стол, чтобы поцеловать в щеку. — Как дела?.. Ах, спасибо, дружок. — Эдвин снимает пальто и отдает официанту. — Я только что узнал такое — ты не поверишь!
— А может, и поверю. Расскажи — посмотрим, — отвечает Винни.
— Вот что. — Эдвин наклоняется поближе.
Он всего на несколько лет моложе Винни, но внешне — когда он в хорошей форме, как сейчас, — тоже напоминает ребенка, переодетого старичком. Как и Винни, он невелик ростом; коротенькие ручки и ножки, круглое лицо, пухлый живот, яркий румянец и светлые, начинающие редеть кудри довершают облик. (Когда Эдвин не в форме, когда тоскует, много пьет, страдает от несчастной любви, то становится похож на грустного хоббита.) По безобидной внешности и манере держаться — простой, веселой, непринужденной — ни за что не догадаться, что Эдвин — влиятельный человек в мире детской литературы и крупный критик как детских, так и взрослых книг, знающий, образованный, острый (а иногда и злой) на язык.
— Итак, — продолжает он, — ты знаешь Пози Биллингс?
— Конечно.
Вопреки убеждению Фреда Тернера, лондонский круг знакомых Винни состоит не из одних престарелых чудаков-профессоров. Через Эдвина и остальных друзей она знакома с писателями, издателями, людьми из театрального мира и даже с одной-двумя светскими львицами вроде леди Биллингс.
— Я сегодня с утра говорил с Пози. Так вот, ты была не права. Розмари действительно встречается с твоим коллегой мистером Тернером. Она даже хочет взять его с собой к Пози в Оксфордшир на выходные.
— Правда? — Винни чуть хмурится.
Розмари Рэдли — давняя подруга Эдвина, актриса, прехорошенькая, очень обаятельная, известна своими бурными, краткими и, как правило, несчастными любовными увлечениями. Когда Эдвин в первый раз объявил, что Розмари «встречается» с Фредом Тернером, Винни просто-напросто не поверила. Их видели вместе в театре или на вечеринке? Вполне возможно, но это не значит, что они пришли вдвоем или что у них роман. Розмари могла пригласить Фреда, он ведь красивый молодой человек, к тому же из-за океана, поэтому выделяется в толпе ее обычных обожателей. А возможно, и не приглашала: о Розмари вечно ходят слухи, нередко ложные, поскольку она была героиней бесчисленных интрижек и на экране, и в жизни.
Эдвин обожает сочинять истории о своих друзьях и знакомых. Быть в гуще событий, приключений, действительных и мнимых, ему нравится не меньше, чем стоять у Винни над душой, когда та стряпает. Приходя к ней на ужин, он вечно путается под ногами на кухне — то помешает кушанье, то добавит щепотку пряностей. «С твоей фантазией тебе бы романы писать, честное слово», — сказала ему однажды Винни. «Нет уж, — ответил он. — Так, как сейчас, намного интересней».
Даже если Эдвин прав и все зашло так далеко, — это всего лишь легкое увлечение. У Розмари случаются грешки, а потом она, смеясь, оправдывается: «Не знаю, что на меня нашло» или «Это все шампанское виновато». С Фредом у нее наверняка подобный случай, весьма невинный. Едва ли Розмари влюбилась в него всерьез, и не потому, что она старше, а потому, что ее душевный мир намного ярче и сложнее. Если уж Фред наводит скуку даже на свою коллегу Винни, то о чем с ним говорить Розмари Рэдли? С другой стороны, Розмари не надо интересовать — ею надо интересоваться. Наверное, ей нужны поклонники, а не соперники-таланты.
— Это все ты виновата, — замечает Эдвин, оторвавшись от меню, которое до этого любовно созерцал. — Если бы не твоя вечеринка…
— Я не собиралась сводить Розмари с Фредом. — Винни смеется: ведь Эдвин, ясное дело, дразнит ее. — У меня и в мыслях не было…
— Ты сама себя обманываешь.
— И не помышляла. Мне хотелось познакомить Фреда с кем-то из молодежи, вот я и пригласила старшую дочь Марианны. Откуда мне было знать, что она окажется панком? Месяц назад видела ее дома у матери — вполне приличная девушка.
— Могла бы и со мной посоветоваться, — отвечает Эдвин, в нарушение своей диеты от души намазывая маслом одну из пшеничных булочек, которыми славится ресторан «У Томпсона».
Винни молчит. Эдвину дай волю — он бы перед каждым приемом диктовал ей список гостей. Круг знакомых у него шире, чем у Винни, и гораздо более блестящий; и хотя Винни рада, когда Эдвин приводит к ней в дом кого-то из своих знаменитых друзей — как в свое время привел Розмари, — это не должно заходить слишком далеко. Винни давно заметила, что одна-две знаменитости на вечеринке — это хорошо, а если их слишком много, то от них никакой пользы — только и знают, что болтают друг с другом.
— И вообще, если дочка Марианны — настоящий панк, — спрашивает Винни, — зачем ей понадобилось приходить ко мне на вечеринку, да еще с этим ужасным прыщавым юнцом, с ног до головы в черной коже и молниях?
— Чтобы насолить мамаше — для чего же еще?
— Боже мой! Ну и как, удалось?
— Еще бы. Хотя ее мать никогда вслух не скажет — noblesse oblige.[2]
— Конечно, — со вздохом соглашается Винни. — Приглашать гостей стало небезопасно, правда? Не знаешь, что из этого выйдет, каких бедствий ожидать.
— Хозяйка дома — вершительница судеб. — Эдвин хихикает, а вслед за ним смеется и успокоенная Винни.
— Я не виновата, что Фред пришел ко мне в гости, — говорит Винни чуть позже, возвращаясь к старой теме. — Все из-за тебя, ей-богу. Это ведь ты заявил, что у меня ни одного знакомого американца, — кривит душой Винни.
— Ничего я такого не говорил. — Эдвин лжет: оба прекрасно помнят его недавнее замечание, которое и польстило Винни, и пристыдило ее.
— Так или иначе, не пойму, чем ты недоволен. По-моему, Фред из всех увлечений Розмари самое безобидное. В сравнении с лордом Джорджем или с Ронни, согласись…
— Соглашусь. Против самого Фреда я ничего не имею… Спасибо, на вид заманчиво. — Эдвин с вожделением смотрит на запеченную камбалу с виноградом, потом с видом знатока смакует кусочек. — М-м… превосходно… К тому же, что ни говори, он красавчик.
— На мой взгляд, даже слишком красив. — Винни принимается за свою отбивную, хотя и не с таким аппетитом, как Эдвин.
— Ну, допустим, для Розмари это не препятствие.
— Да уж, — смеется Винни. — Он как никто другой подходит для мимолетной интрижки.
— Пожалуй. — Вопреки запрету врача Эдвин с жадностью набрасывается на картофель со сливками. — Однако Розмари не ищет мимолетных интрижек. Она ищет вечной любви, как и большинство из нас.
У Эдвина, как и у Розмари Рэдли, было немало несчастных любовей, хотя и не столь частых и, разумеется, не столь широко известных. Его пассии — в основном неуравновешенные юнцы, выходцы из Южной Европы или с Ближнего Востока, без приличной работы (официанты, продавцы в бакалейных магазинах, подручные в химчистках), зато с непомерным честолюбием, все в мечтах о золотом дожде, о лаврах на сцене или в живописи. Время от времени кто-то из них поспешно съезжает с квартиры Эдвина, прихватив с собой его магнитофон, пальто с меховым воротником, запасы вина и прочие мелочи на память. Или, напротив, у кого-то из них случается нервный срыв, а выставить его из квартиры невозможно.
Винни хочет возразить, что уж она-то не ищет вечной любви, но сдерживается — Эдвин и без того это знает.
— Возможно, беспокоиться надо не о Розмари, а о Фреде, — продолжает Эдвин. — Эрин, друг Розмари, говорит, что та беднягу Фреда съест живьем.
— Вряд ли! — После двадцати лет работы в Коринфе Винни чувствует себя частью кафедры английского языка и литературы, и ей неприятна сама мысль, что одного из сотрудников кафедры (пусть даже самого молодого) может съесть живьем какая-то английская актриса. — На мой взгляд, не так-то его легко переварить.
— Может быть, ты и права… М-м… Пробовала кабачки?
— Да, очень вкусно.
— Похоже, с эстрагоном. И чуть-чуть укропа? — Эдвин хмурится — многозначительно, как настоящий гурман.
— Не знаю. — Еда в жизни Винни значит не так уж много.
— Нет, это не укроп. Спрошу у официанта. — Эдвин вздыхает. — Ну и как по-твоему, есть ли у них будущее?
— Не знаю. — Винни в задумчивости кладет вилку на стол. — В любом случае это у них ненадолго. Фред в июне возвращается в Америку.
— Вот как? Кто сказал?
— Фред — кто же еще?
— Когда?
— Что? Не помню — кажется, в декабре, перед отъездом.
— Вот-вот. — Эдвин широко улыбается и становится еще больше похож на Чеширского Кота — Винни и раньше замечала это сходство.
— Да какая разница? Фреду в середине июня нужно вернуться в Коринф. Он ведет два летних курса.
— Если не передумает.
— Быть того не может, — уверяет Винни. — Он бы подвел всю кафедру. Начальство такого не одобряет.
— Неужели? — Эдвин поднимает брови, как будто сомневается даже в том, что на белом свете есть кафедра английского языка и литературы университета Коринф. Да что там — в существовании самого округа Хопкинс, штат Нью-Йорк. (Любимая шутка Эдвина: «Повтори, пожалуйста, еще раз замечательное название места, где ты живешь. Округ Симпкинс, да?»)
— Вдобавок интрижки ему сейчас не по карману, — продолжает Винни. — Между нами говоря, он сейчас на мели.
— У Розмари полно денег, — отвечает Эдвин. — С головой хватит на двоих.
На этот раз Винни молчит, хотя мысль о том, что ее коллегу может содержать английская актриса, ей не просто неприятна, а отвратительна.
— Все равно я уверена, что у Фреда с ней ничего серьезного. Прежде всего, она старше его лет на десять, разве не так?
— Кто знает… — Эдвин, который знает наверняка, пожимает плечами. Считается (и говорится в газетах), что Розмари тридцать семь, о настоящем же ее возрасте остается только гадать. — Ага, ну-ка посмотрим! — При виде меню десертов у Эдвина загораются глаза. — Взять, что ли, лимонного мороженого? Или лучше кусочек абрикосового пирога, совсем крошечный, — ведь от одного кусочка не растолстею? Как думаешь, Винни?
— Если ты и вправду на диете, возьми дыню, — предлагает Винни, на сей раз отказываясь потакать слабостям Эдвина. Ей досадно, что Эдвин скрывает, сколько лет Розмари, а Фреду приписывает корыстные побуждения.
— Нет, только не дыню. — Эдвин пристально изучает меню; лицо у него решительное и при этом слегка обиженное.
— Мне, пожалуйста, кофе, — просит Винни официанта, подавая другу хороший пример.
— Два кофе. И абрикосовый пирог, будьте добры.
Винни молчит, но впервые задумывается о том, что для человека такого большого ума Эдвин неприлично толст и избалован, что диета его — одно лишь нелепое притворство, а привычка говорить загадками утомляет.
— Однако довольно радоваться жизни, — говорит Эдвин немного погодя, вытирая со своей кошачьей мордочки взбитые сливки. — Надо всерьез подумать о Розмари, чтобы она не попала опять в беду, как тогда, с Ронни. Если она снова забудет о работе и сбежит с очередным прохвостом… Мир слухами полнится. Станут говорить, что Розмари Рэдли не стоит давать ролей, что на нее нельзя положиться. — Пухлым указательным пальцем Эдвин чертит в воздухе круг, показывая, как именно слух облетит весь мир. — Скажем, Джонатан после ее гринвичского скандала не станет с ней связываться, это я точно знаю… Однако сейчас она очень много работает над телефильмом, а в июле должна ехать сниматься в сериале, так что ей никак нельзя расстраиваться. Сделай же что-нибудь!
— Что именно? Предупредить Розмари, чтобы не связывалась с Фредом Тернером? — В голосе Винни слышна досада.
Глядя, как Эдвин смакует абрикосовый пирог, она думает, что, желая пристыдить его, только сама себя наказала, по глупости осталась без десерта. И смысла в этом никакого, поскольку она вовсе не толстая, а как раз наоборот.
— Боже сохрани, — успокаивает ее Эдвин с сытым довольством. — Все мы знаем, что предупреждать Розмари бесполезно — только подстрекать. Когда она сбежала в Тоскану с этим художником, Даниелем… как его там?.. — все ее предупреждали, а на деле раззадорили.
— Понятно. Ну и что я могу сделать? — Винни смеется.
— Думаю, просто поговорить с Фредом. — Эдвин по-прежнему улыбается, но по тому, как он отодвигает в сторону кофе и склоняется над скатертью в сине-белую клетку, видно, что он не шутит. — Я уверен, он бы тебя послушался. С твоим-то влиянием в университете. Попробуй убедить его — как бы он выразился? — «не гнать коней», а то будет поздно.
Мысль о том, что можно воспользоваться служебным положением, чтобы убедить — точнее, вынудить — Фреда отказаться от любви, не из приятных. Винни с удовольствием пользуется своим заслуженным авторитетом, но только в профессиональных вопросах. В отличие от Эдвина, ей претит мысль о том, чтобы вмешиваться в чужую личную жизнь.
— Поговорить можно. — Винни отодвигается от Эдвина подальше. — Но я ни в коем случае не стану.
Мартовский день на Сент-Джеймс-сквер. В Лондонской библиотеке, на самом удобном и хорошо освещенном — как стало известно по опыту — месте читального зала сидит за работой Винни Майнер. Если только ей не нужна какая-нибудь книга, которую можно найти исключительно в Британском музее, Винни предпочитает работать здесь, в этом тихом старинном зале, куда захаживают и живые писатели, и духи писателей прошлого. Ничего не стоит представить, как по лестнице горделивой поступью поднимается осанистый, элегантный призрак Генри Джеймса, а среди темных полок скользит тень Вирджинии Вулф, окутанная мягкими, мятыми шелками по моде двадцатых годов. И в любой день здесь можно встретить живого, настоящего Кингсли Эмиса, Джона Гросса или Маргарет Дрэбл. Захаживают в библиотеку и многие из друзей Винни, всегда есть с кем пообедать.
Теоретическая часть работы Винни почти готова. Как только перестанут лить дожди и пригреет солнышко, можно будет приступить к самому интересному: начать собирать игровой фольклор в школах Лондона и пригородов. Винни уже говорила со многими учителями и директорами школ, некоторые не просто разрешили ей приехать, а предложили сами записывать стихотворения или поручили это ученикам. Здесь, в Англии, учителей не приходится учить, интерес Винни к народной поэзии считают естественным и относятся к нему с уважением. Осталось только дождаться хорошей погоды.
Сейчас Винни, можно сказать, забыла о своем грустном перелете в Англию и почти не вспоминает омерзительную статью в «Атлантик». Пока что никто из здешних знакомых Винни ни словом не обмолвился о ней, — возможно, никто ее и не читал. Чтобы статья не попалась никому на глаза — ведь многие из ее друзей постоянно ходят в Лондонскую библиотеку, — Винни, когда в первый раз пришла в читальный зал, на всякий случай сунула мартовский номер «Атлантик» под соседнюю стопку журналов «Археология». Время от времени журнал появляется вновь, и Винни опять его прячет. Сегодня утром она всего лишь переложила его в самый низ стопки «Атлантик», и это хорошая примета: значит, Винни слегка успокоилась. Перекладывая журнал, она представила, как Л. Д. Циммерна — крошечного, всего шести дюймов ростом, — сплющили между страниц его же собственной статьи, словно уродливую бумажную куклу, а на бумаге после него осталось коричневое пятно. И еще ей в который раз подумалось: а что, если тайком засунуть журнал в холщовую сумку для продуктов, вынести из библиотеки и на досуге уничтожить? Жаль, воспитание не позволяет. Для Винни жечь журналы — почти такое же преступление, как жечь книги, тем более что в том же номере замечательная статья об исчезающих животных и растениях, которую многие с интересом прочтут.
Только одно тревожит сейчас Винни — вчерашний разговор с Эдвином Фрэнсисом в ресторане. Винни перебирает в памяти слова, и ей не сидится даже на самом удобном стуле в читальном зале. Она злится на Фреда Тернера и винит его — хотя и несправедливо — в том, что между нею и старейшим ее лондонским другом Эдвином Фрэнсисом пробежал холодок, и в том, что, расставаясь вчера с Эдвином, они не условились о следующей встрече. Более того, Фред, можно сказать, оставил ее без абрикосового пирога со взбитыми сливками, что кажется особенно досадным сегодня, после обеда из пары тоненьких ломтиков хлеба с лососевым паштетом и резинового яйца в колбасном фарше. С какой стати ей вмешиваться в любовные дела едва знакомого младшего коллеги? Нужна ему рекомендация на грант — пожалуйста; решил он поразвлечься с общей знакомой — его дело. Вместе с тем неприятно сознавать, что попроси Фред рекомендацию сейчас, ей трудно будет ответить доброжелательно и непредубежденно.
Для начала, не стоило приглашать его в гости. Шестое чувство всегда подсказывало Винни, что американских коллег лучше не знакомить с английскими друзьями. Они могут не оценить друг друга по-настоящему, а то и вовсе не понравиться друг другу — и эта неприязнь отразится и на ней, ляжет пятном на ее отношения и с теми, и с другими («Не понимаю Винни. Что она нашла в этих людях?»). Раз или два ей хотелось отбросить подозрения в сторону, но, хорошенько поразмыслив, Винни решала не рисковать. Как сказал однажды Эдвин, светская жизнь — та же алхимия: смешивать чужеродные элементы опасно. Месяц назад Винни нарушила это правило всего лишь ради младшего коллеги, и, вместо того чтобы невзлюбить друг друга, Фред и Розмари, похоже, понравились друг другу слишком сильно. Как ни крути, все плохо.
Сначала Винни вовсе не собиралась приглашать Фреда. Она, конечно, знала, что он в Лондоне — видела его несколько раз в Британском музее. Знала, что приехал он один, а жена его куда-то делась, но куда — непонятно. Как замечала Винни, преподавателям на кафедре мало что известно о личной жизни их младших коллег, при том что слухов о преподавателях-сверстниках ходит предостаточно. Винни и не думала жалеть Фреда из-за того, что он приехал без жены, поскольку после долгих лет наблюдений со стороны не очень-то уважала институт брака.
А пригласила она его в результате чистой случайности. Однажды ветреным дождливым днем, по пути домой из гостей, Винни зашла в продуктовый магазин на Ноттинг-Хилл-Гейт и встретила там Фреда — он живет по соседству. Продрогший, мокрый до нитки, он покупал к ужину два чахлых зеленых апельсина и банку скверного овощного супа. Винни почему-то стало обидно за него и страшно его жалко. Дома, в Америке, она редко заботилась о ком-то, кроме своих студентов и самых близких друзей, — ну не хватало у нее сил на других. Однако сейчас перед ней был младший коллега, голодный и несчастный, в чужом городе. В Коринфе она бы небрежно кивнула и прошла мимо, но в Лондоне Винни — совсем другой человек, здесь она лучше, добрее. И ей, против обыкновения, подумалось, что надо чем-то ему помочь. А не пригласить ли его в воскресенье на вечеринку? В конце концов, гостям его показать не стыдно.
Что и говорить, не стыдно. Есть, правда, во внешности Фреда что-то чересчур изысканное, как у щеголей с реклам времен ее детства, — хотя, видит бог, его вины здесь нет. Он не наряжается в пух и прах, не смотрит свысока на других; носит обычную, даже скучную деловую одежду, хорошо воспитан, не выделяется из толпы. И все же красота его часто злит людей, особенно мужчин, достаточно вспомнить, как над ним насмехались после собеседования в Ассоциации изучения современного языка. Его счастье, что у него вышли две серьезные статьи и занимался он литературой восемнадцатого века: по этой части достойные кандидаты — редкость.
Не спасла красота Фреда и его брак, размышляет Винни. И пожалуй, немудрено. Такая совершенная красота рождает пустые надежды. За благородным обликом якобы должен таиться столь же могучий ум и прекрасная душа — заблуждение в духе философов-платоников. Между тем Фред, насколько может судить Винни, всего лишь обычный, в меру умный молодой человек, который кое-что смыслит в литературе восемнадцатого века. Да и жизнь рядом с писаным красавцем утомляет, как и любые слишком яркие впечатления.
Винни тут же пожалела о приглашении, но на вечеринке Фред ей хлопот не доставил. Винни заметила, что он едва обменялся парой слов с девушкой-панком и ее грозным на вид приятелем, — ну кто бы его обвинил? Много ел, что неудивительно: если судить по овощному супу и настойчивым расспросам о том, как получить зарплату по чекам из Коринфа без четырехнедельной задержки (ответ: никак), Фред сейчас без гроша.
Чуть позже Винни заметила, что Фред присоединился к кружку вокруг Розмари Рэдли, но вокруг Розмари каждый раз собирается кружок. У нее дар притягивать к себе внимание и при этом не подавлять собеседников, — по мнению Винни, этим даром должен обладать всякий хороший актер. Влияние Розмари распространяется недалеко, всего на несколько футов, как и положено актрисе кино и телевидения. В отличие от многих театральных артистов, знакомых Винни, Розмари не способна приковать к себе все взоры в большой комнате, но в маленьком кружке ей нет равных. При этом она не задерживается подолгу на одной теме, не сплетничает, не выдает чужих тайн, не умничает — словом, не говорит ничего такого, чего не стали бы говорить ее героини на экране.
Играет Розмари в основном настоящих леди, аристократок всех времен и народов — от Древней Греции до сегодняшней Англии. Но не королев и императриц, для которых ей недостает величия и царственности. Красавицей Розмари не назовешь, скорее она на редкость хорошенькая: бело-розово-золотистая, изящная, будто с картины Франсуа Буше, черты лица приятные, но мелкие и не очень выразительные. Она легка, нежна, воздушна и изысканна (при этом на экране может быть смешной, жалкой или печальной, как того требует сценарий). Без работы она не сидит, ведь среди героинь британских телесериалов масса аристократок, а критики называют Розмари одной из тех редких актрис, кому удается убедительно играть истинных леди. Иногда в прессе добавляют, что это и неудивительно, поскольку она и есть истинная леди, дочь графа.
В личной жизни, по всеобщему мнению, Розмари не везет. Она дважды была замужем, оба раза недолго и неудачно. Детей у нее нет; сейчас она живет одна в большом, красивом, неопрятном доме в Челси. Злые языки, понятно, говорят, что она сама виновата в своем одиночестве — Розмари безнадежный романтик, слишком много (или слишком мало) требует от мужчин, необоснованно ревнива, себялюбива (или, наоборот, позволяет вытирать об себя ноги), ненасытна (или, напротив, холодна) в постели и так далее и тому подобное. То же самое, как известно Винни, говорят о любой одинокой женщине. Поэтому Винни от души сочувствует Розмари. Но не доверяет ей.
Точнее, ее обаянию: вкрадчивости, легкомысленной порывистости, привычке говорить с тобой как с близким другом, но при этом держать на расстоянии. Например, когда в кругу ее знакомых появляется новый человек, Розмари делает ему необычный комплимент — хвалит какую-нибудь черточку, на которой никто иной не заострил бы внимание, а возможно, и вовсе не заметил бы. Розмари может объявить во всеуслышание, что обожает свою двоюродную сестру, или знакомую, или дантиста, или продавщицу фруктов за то, что она (или он) чудесно составляет букеты из роз, четко выговаривает слова, у нее прелестно вьются волосы… Говорит Розмари так, будто сделала удивительное открытие, и неважно, где находится предмет восхищения — рядом с ней или за много миль.
Как-то раз за обедом у Эдвина, когда на минуту стих шум голосов, Розмари пропела, что в восторге от того, как Джейн (подруга Винни) ест салат! Джейн впоследствии убедилась, что уточнять у Розмари, что она имела в виду, совершенно бесполезно. Даже если удастся вновь завладеть ее вниманием — а это дело непростое, — Розмари лишь откинет со лба бледно-золотистые локоны, рассмеется, как только она одна умеет («будто хрусталь сверкает на солнце», по словам одного восторженного телевизионного критика), и воскликнет: «Ах, даже не знаю, как это объяснить! Просто… это так… чудесно!» А если ответить возьмется кто-то другой, Розмари либо пропустит объяснение мимо ушей, либо возразит, что дело совсем, совсем не в том! Она не могла вынести, чтобы ее минутные настроения — легкие, как бабочки, — кто-то разбирал, раскладывал по полочкам.
Услышав от Розмари похвалу собственным необыкновенным достоинствам (или узнав из третьих уст), многие радуются. Приятно, конечно, когда тебя любят и восхищаются тобой, пусть даже мимоходом, тем более что Розмари очаровательна и знаменита. Даже если и неясно, что она имела в виду, в ее манере делать комплименты есть что-то необычайно милое. В самом деле, некоторым из тех, кого Розмари еще ни разу не похвалила — в том числе и Винни, — казалось, что их несправедливо обошли.
Но были и такие, кому от похвал Розмари делалось неловко. Представьте, к примеру, зубного врача Розмари. Его знаменитая пациентка только что ушла, и он остался в кабинете один. Он направляет на себя зеркальце, смотрит в него и хмурится. Неужели волосы у меня и вправду очень мило вьются за ушами? Или, наоборот, в этом есть что-то странное, уродливое? Может быть, леди Розмари смеялась надо мной?
Джейн призналась, что много дней после приема у Эдвина похвала Розмари не выходила у нее из головы. В конце концов Джейн достала из холодильника миску вчерашнего салата, встала напротив зеркала в столовой, сняла с миски полиэтиленовую обертку и принялась перед зеркалом жевать пряные, пропитанные маслом листья салата и ломтики помидоров, пытаясь понять, что же такого замечательного или необычного в том, как она ест. Что же на самом деле хотела сказать Розмари?
Скорее всего, ничего особенного, объяснила ей Винни. Сказала первое, что пришло на ум, чтобы привлечь к себе внимание или сменить тему разговора, — словом, сотрясала воздух, не более того. Для актера слова не столь важны, как для человека, имеющего дело с литературой, значение для них таится в жестах и тоне голоса. Слова для артиста — всего лишь либретто, ряд пустых бокалов, которые можно наполнить голосом, словно золотистым, серебристым или бронзовым вином. В драматических школах, слышала Винни, учат говорить «Закрой, пожалуйста, дверь» двадцатью разными способами.
В любом кругу знакомых всегда есть люди, которые считаются «друзьями», но общаются лишь вынужденно, а если круг распадется, легко забудут друг о друге. Винни и Розмари как раз такие «друзья». Благодаря Эдвину они встречаются достаточно часто и делают вид, что очень рады, но на самом деле друг друга недолюбливают. По крайней мере, Винни не очень-то любит Розмари и чувствует, что неприязнь эта взаимна. Но ничего тут не поделаешь. Винни представляет себе нити, точнее, паутину, которая связывает их с Розмари, — тончайшую, протянутую через дождливый Лондон от Фулхэма до Айлингтона, с отдельными ниточками до Хайгейта и Уимблдона. Винни и Розмари — точки пересечения нитей, их связывает множество витых шелковых паутинок. Если нити добрых отношений оборвутся, то останутся липкие, зияющие дыры, и всем от этого будет плохо. И возможно, думает Винни, не мы одни так связаны поневоле. Но паутина остается, простирает над Лондоном свой узор из упругих нитей, весь в капельках росы, — и никуда не денешься.
Читать стало темно, да и час пик вот-вот начнется, пора собираться домой. За стенами Лондонской библиотеки сыро и зябко, дождевые капли как будто не падают, а висят в воздухе. Есть по-прежнему хочется, а дома в буфете пусто. Винни сворачивает на Дьюк-стрит и заходит в «Фортнам и Мэйсон». Продавец в строгом костюме, как у банкира начала века, подходит к ней и любезным полушепотом предлагает помочь. Винни вежливо отказывается. Нет уж, выкладывать здесь безумные деньги — сущая глупость. Пока Винни стоит в раздумье перед вавилонской башней импортных варений и конфитюров, ее окликает другой голос, гораздо громче и далеко не такой вежливый, — настоящий голос американца со Среднего Запада.
— О-о, здрасьте! Вы ли это, профессор Майнер?
Винни оборачивается. Ей улыбается во весь рот грузный мужчина в зеленом полупрозрачном полиэтиленовом плаще, самом что ни на есть отвратительном из тех, что носят в Америке. К широкому, потному, красному лбу мужчины прилипли рыжеватые, седеющие пряди волос.
— Мы в самолете познакомились, месяц назад. Чак Мампсон.
— Ах да, — вяло отзывается Винни.
— Ну что, как оно? — Чак смотрит на нее, хлопая глазами, точно так же, как в самолете.
Оно? Должно быть, работа? Или жизнь в целом?
— Все хорошо, спасибо. А у вас?
— Потихоньку. — Радости в его голосе не слышно. — Хожу вот по магазинам. — Чак поднимает бумажную хозяйственную сумку, всю в дождевых пятнах. — Везу своим гостинцы, без них на порог не пустят. — Он невесело, вымученно смеется.
То ли мистер Мампсон и вправду боится возвращаться к «своим» без подарков, то ли — что более вероятно — это всего лишь одна из тех глупых, бессмысленных шуток, что в ходу у полуобразованных жителей Среднего Запада.
— Вот повезло, что вас встретил, — продолжает Мампсон. — Хотел кое о чем спросить, вы-то страну получше меня знаете. Как насчет чашечки кофе?
Винни не особенно рада встрече с Мампсоном, но ей льстит, что к ней обратились как к знатоку, да и подкрепиться совсем не помешает.
— Почему бы и нет?
— Отлично. Славно было бы пропустить по стаканчику, но сейчас, должно быть, все закрыто. Ну и дурацкие здесь законы!
— Да, до половины шестого, — подтверждает Винни. Очень даже хорошо, что здесь такие строгие законы торговли спиртным. Она не любит местные бары и тем более не хочет там появляться с человеком, одетым как Мампсон. — Здесь, прямо в магазине, есть кондитерская, только там очень дорого.
— Спокойно. Я угощаю.
— Ладно, договорились. — Винни ведет своего спутника мимо искусно сложенных пирамид из печенья и цукатов, а потом по лестнице наверх.
— Вот это да! Видали тех двух парней? — громким шепотом спрашивает Мампсон, кивая на маленький столик на лестничной площадке, за которым сидят двое служащих универмага в костюмах начала прошлого века, пьют чай и играют в шахматы. — Вот придурки!
— Что? Ах да. — Винни отходит от него на безопасное расстояние. — Они частенько здесь сидят. Изображают Фортнама и Мэйсона, основателей универмага.
— Ага! — Мампсон оборачивается и смотрит на них в упор, бесцеремонно, с тупым любопытством туриста. — Понял. Еще одна рекламная штучка.
Винни угрюмо молчит. Верно, «рекламная штучка», но ведь, в сущности, довольно милый обычай. Не надо было принимать приглашение этого Мампсона. Если пустить все на самотек, то для начала придется добрых полчаса выслушивать его рассказы о поездке — что видел, что купил, что ел и какая скверная гостиница.
— Не думала, что вы здесь так надолго, — говорит Винни, усаживаясь на один из бледно-зеленых металлических стульев с бабочками, из-за которых кондитерская Фортнама похожа на зимний сад времен короля Эдуарда VII.
— Дак и я не помышлял. — Чак Мампсон снимает полиэтиленовый плащ, обнаруживая под ним коричневую кожаную куртку на западный манер, с бахромой, блестящую желтую рубашку с перламутровыми запонками вместо пуговиц, тоже на западный манер, и кожаный галстук-ленточку. Вешает плащ на свободный стул — с него на темно-красный ковер льется вода — и тяжело усаживается напротив Винни. — Остальные уехали домой еще в прошлом месяце. А я подумал: раз уж попал сюда, почему бы, черт возьми, не остаться на подольше? Сколько всего не успел посмотреть. Ходил на экскурсии с одной парой из Индианы — в гостинице познакомился, — но и они в понедельник уехали.
— Никогда не понимала, что хорошего в этих двухнедельных поездках, — соглашается Винни. — В Англию нужно ехать хотя бы на месяц. Если, конечно, работа позволяет, — добавляет она, вспомнив, что далеко не у всех такие длинные отпуска, как у университетских преподавателей.
— Да. То есть нет. — Чак моргает. — Вообще-то мне об этом беспокоиться нечего. Я на пенсии.
— Правда? — В самолете он, кажется, этого не говорил… с другой стороны, Винни и не слушала. — Рано вы на пенсию вышли, — добавляет она, приглядываясь к Мампсону, которому не дашь шестидесяти пяти.
— Угу. — Мампсон ерзает на бледно-зеленом железном стуле, маловатом для такого крупного мужчины. — Так они и сказали: досрочный уход на пенсию. Не моя была затея. Меня, можно сказать, вышвырнули. Был Чак, а стал — никак. — Он смеется громко, неестественно, как человек, над которым подшутили, а он не хочет подавать вида, что обиделся.
— Вот как! — Винни вспоминает статьи о том, как пожилых руководителей досрочно отправляют на пенсию, и в душе радуется бессрочным университетским контрактам.
— Да, в пятьдесят семь выкинули на свалку. Был Чак, а стал — никак, — повторяет он на случай, если Винни не поняла шутку — ведь она не смеялась. — Ну, Вирджиния, что будете?
— Винни, — поправляет она, не подумав, и тут же понимает, что разрешила Мампсону — то есть Чаку — называть ее по имени. Винни предпочла бы, чтобы к ней обращались «профессор Майнер» или даже «мисс Майнер», но требовать этого теперь, по неписаным законам Среднего Запада, было бы неслыханной грубостью.
Чак заказывает кофе, Винни — чай и абрикосовый пирог. Потом, чтобы отвлечь Чака от неудач на деловом поприще, а может быть, даже утешить, Винни уговаривает его попробовать бисквитный торт со взбитыми сливками.
— Думаю, в том, что не надо каждый день ходить на работу, есть и немало хорошего, — бодро говорит ему Винни после ухода официантки. — Во-первых, теперь вы сможете гораздо больше успеть. («Успеть? Что именно?» — беззвучно прибавляет Винни, безуспешно гадая, чем мог бы заниматься на досуге Чак.) Путешествовать можете, навещать друзей, читать… (Читать? Едва ли он возьмет в руки книгу.) Играть в гольф, ходить на рыбалку… (А водится ли в Оклахоме рыба?) Заниматься еще чем-нибудь интересным…
— Жена то же говорит. Но если в гольф каждый день играть, от него тошнит, а больше я никаким спортом не занимаюсь. Любил когда-то бейсбол, еще как любил, только давно уж бросил.
Занять сам себя не умеет, говорит с ошибками, выносит вердикт Винни.
— Жаль, что жена ваша с вами не поехала, — замечает она.
— Угу. Мирна недвижимостью занимается, а дома в Талсе нынче покупают вовсю. Она сейчас в делах по самую за… — из уважения к старомодному аристократизму Винни — или всей обстановке вокруг — Чак заменяет часть тела на более приличную, — по горло. Деньги гребет лопатой. — Чак проводит в воздухе большой веснушчатой рукой, будто гребет к себе, и тяжело опускает ладонь на стол.
— Вот как!
— Да уж, сил ей не занимать. Она, должно быть, даже рада, что я не путаюсь у нее под ногами, не болтаюсь дома без дела. Я на нее не в обиде.
— Хм.
При слове «болтаюсь» Винни смотрит, как болтаются концы его галстука из сыромятной кожи, сколотого огромной, безвкусной серебряной брошью с бирюзой вроде тех, что любят носить истинные и липовые фермеры на Юго-Западе. Можно понять, почему Мирне хотелось выпроводить Чака из дому, как и немудрено, что после долгих одиноких дней вдали от родины Чаку очень хочется излить кому-то душу. А Винни совсем не улыбается выслушивать его откровения. И она направляет разговор в другое русло, в сторону общих туристских тем, которых так надеялась избежать.
По мнению Чака, в Лондоне смотреть не на что. На погоду он не жалуется:
— Не беда. Зато все время разная. Дома изо дня в день одна и та же проклятая жара. А земля, если не поливать, делается твердая как камень. Когда я сюда приехал, не мог отделаться от мысли, до чего же зеленая эта Англия — точь-в-точь как на картинке для туристов! Зато, — сетует Чак, — кровати в гостинице все в буграх, горячей воды мало. А еда? Ну что твое сено. Хочешь более-менее прилично пообедать — иди в ресторан заморской кухни. Водители будто с ума посходили, все как один едут по встречной полосе. А как эти англичане говорят? Сам черт ногу сломит, коверкают язык как им вздумается.
Винни сердится и уже готова объяснить, что английский коверкают именно американцы, но тут приносят чай.
— Как, говорите, это называется? — Чак тычет ложкой в гору из фруктов, заварного крема, варенья, бисквита, пропитанного ромом, и взбитых сливок, которая выросла перед ним на мраморном столике.
— Бисквитное пирожное.
— Ничего себе пирожнице! Да оно побольше, чем банановый сплит![3] — Чак ухмыляется и набрасывается на пирожное. — А есть можно! И ложку дали тоже здоровенную!
Винни, наслаждаясь абрикосовым пирогом, хочет сказать, что в Англии десертные ложки всегда такого размера, но предпочитает промолчать.
В отличие от Эдвина, Чак ест жадно и некрасиво — роется в изысканном десерте, как в стоге сена, и при этом болтает без умолку.
— Видел я почти все достопримечательности, — сообщает он Винни. — И чего в них такого особенного? Некоторые и вовсе не понравились. Взять хоть Тауэр. Приезжаешь туда — а это, оказывается, старая заброшенная тюрьма, только и всего. Экскурсовод говорил, будто там сидели известные люди, которых, по большому счету, сажать было не за что. В основном хорошие ребята. Но их запирали в камеры, тесные, как лошадиные стойла, холодные, без солнца. Оттуда, похоже, почти никто не выбирался. Одни умирали от болезней, других травили, душили, рубили им головы. И женщинам, и детям маленьким. Ума не приложу, чем тут гордиться. Если ты хоть раз сидел в тюрьме, то у тебя волосы дыбом встанут!
— Понимаю, о чем вы, — вежливо соглашается Винни, а про себя ужасается: уж не сидел ли Чак в тюрьме?
— А эти большие черные вороны во дворе, которые бродят вокруг, будто привидения? — Чак стучит широкими ладонями по мрамору с зелеными прожилками. — Тюремные стражи, да?
— Да, — улыбается Винни.
— В наших краях верят, будто эти птицы приносят несчастье. Вот я и подумал, что, может, когда строили тюрьму, их потому сюда и привезли. Я и спросил у экскурсовода.
— И что же он ответил? — Винни уже находит Чака забавным.
— Да ничего. Ничего-то он не знал, просто повторял заученное как попугай. Показывал нам драгоценности королевской семьи — мы за это еще и доплачивали. А оказалось, что это всего-навсего копии, фальшивки. Никакие не драгоценности, а стекляшки цветные. А настоящие драгоценности где-то еще заперты. Да черт подери, это всякому понятно. Короны и прочая дребедень — точь-в-точь как у масонов на каком-нибудь сборище.
Винни смеется.
— Помню, и мне тоже так казалось много лет назад. Дешевые побрякушки.
— Угу, точно. Я так и сказал экскурсоводу. Вы что, дескать, за дурачков нас держите, раз за такое денежки берете? Так он не на шутку взбесился — похоже, балбес какой-то. Но я таких, как он, больше здесь не встречал, честно скажу. Здесь почти никто на такие разговоры не обижается. Никто тебе не станет рассказывать, какие они все замечательные, хвастаться, что у них все самое лучшее. Наоборот, люди над собой смеются — даже по газетам видно.
— Что правда, то правда.
— Знаете, у нас в Талсе полно горлопанов. Улыбайтесь, мол, думайте про все хорошее, цените то, что у вас есть, и так далее. Эта чушь с ума может свести, тем более если тебе плохо. Университет Орала Робертса — слыхали о таком?
— Нет, — отвечает Винни. Название ей смутно знакомо, но и только.
— Это университет у нас в Талсе, основал его один проповедник с телевидения. Там учат, что если ты человек верующий и в церковь ходишь исправно, то тебе будет во всем везти, разбогатеешь, призов всяких наполучаешь и все такое прочее. Мне сначала казалось, вреда в этом нет. Но когда теряешь работу, то смотришь на все с другой стороны. Если ты не работаешь — значит, ты богом обиженный неудачник. А-а, вспомнил! Я ж кой о чем у вас спросить хотел. — Чак опускает ложку. — Навела меня на мысль книжка, что вы мне в самолете давали. Ну, о том, как американский парнишка едет в Англию, а там у него дед — герцог, что ли… Забыл, как называется.
— «Маленький лорд Фаунтлерой».
— Точно. Ну так вот, я когда читал, то вспомнил своего деда. Я мальчишкой каждое лето у него на ранчо работал. Он, бывало, рассказывал, что у нас в роду тоже был какой-то английский лорд.
— Правда?
— Ей-богу, без шуток. Он говорил, что почти все наши английские предки были люди простые, а один — звали его Чарльз Мампсон, как меня и деда, и жил он во времена Революции — был какой-то знатный лорд. Жил в большом поместье где-то на юго-западе Англии, и знали его все в округе. Был он мудрец. Ночевал не в замке, а в лесной пещере. И одевался по-особенному, ходил в шубе до пят, из меха дюжины разных зверей. Звали его Отшельником из Саутли, и люди со всей округи приходили на него полюбоваться.
— Правда? — повторяет Винни, на этот раз совсем другим тоном. Впервые в ней проснулся профессиональный интерес к Чаку Мампсону.
— Вот и вздумалось мне, что, пока я здесь, попробую-ка разузнать побольше о нем и обо всех наших здешних предках. Да только не знаю, как это делается. Ходил в публичную библиотеку, но ничего там не нашел, даже толком не знал, с чего начать. В том вся беда, что у этих герцогов, рыцарей и прочих по несколько разных фамилий, по три-четыре на семью. Да и нет в этой части Англии такого места — Саутли. — Чак улыбается, пожимает плечами. — Я пробовал вам позвонить, спросить совета, но, должно быть, номер неправильно записал — каждый раз попадал в прачечную.
— Хм. — Винни, конечно, не сознается, что нарочно продиктовала свой номер с ошибкой. — Ну, есть кое-какие места, где обязательно стоит поискать. К примеру, Общество специалистов по генеалогии.
Пока Чак записывает ее советы, Винни думает, что в его поисках, как и в нем самом, ничего особенного нет: всего лишь обычное желание среднего американца-обывателя породниться с английской знатью — найти «корни», обрести семейную историю, герб, родовое поместье и дворянский титул.
Такой же, как все. Неинтересный. Однако отдельные подробности семейной легенды Чака любопытны для фольклориста: чудак-аристократ и местный мудрец, одетый в шкуры и живущий в лесной пещере. Религиозный фанатик? Последователь Руссо? Лекарь-травник? Колдун? Или, может быть, какой-нибудь языческий лесной бог, полузверь-получеловек, созданный народной фантазией? В голове у Винни мелькают обрывочные фразы будущей статьи, небольшой, но занимательной. А еще забавно думать, что Чак — в некотором роде примитивное заокеанское воплощение этого народного героя, — как ни странно, тоже с юго-востока страны и тоже облачен в шкуры.
Официантка приносит счет, и Винни, как обычно, настойчиво предлагает заплатить свою долю. Кое-кто из друзей Винни объясняет это ее феминистскими убеждениями. Винни не оспаривает, хотя на самом деле ее правило появилось намного раньше, чем женское движение. За ним стоит ее нежелание быть перед кем-то в долгу. Чак уверяет, что все равно должен отблагодарить ее за совет, но Винни напоминает, что он помог ей добраться до Лондона на автобусе «Сан-Турз» и теперь они в расчете.
— Ладно уж. Так и быть. — Чак комкает фунтовые бумажки Винни в огромном красном кулаке. — Знаете, когда я учился в четвертом классе, была у нас одна учительница, на вас похожая. Такая была славная… Такая…
Винни молча слушает излияния Чака. Видно, такая уж у нее судьба — напоминать чуть ли не каждому встречному какую-нибудь учительницу.
— Я вот что хотел сказать: похоже, я здесь надолго. Может, встретимся как-нибудь, пообедаем вместе?
Винни вежливо отказывается — говорит, что на этой неделе ужасно занята (хотя это неправда), и добавляет, что хочет быть в курсе поисков. Потом дает Чаку свой номер телефона — на этот раз без ошибок, — а заодно и адрес.
— Если и в самом деле хотите что-то разузнать, — говорит она, — поезжайте в город или деревню, откуда родом ваши предки. Разумеется, когда узнаете, где это.
— Съезжу, а как же, — обещает Чак. — Можно взять напрокат машину и поехать.
— А можно и поездом. Знаете, прокат машин здесь ужасно дорогой.
— Не беда. Денег мне хватает. Честно признаюсь, когда меня вышвырнули из «Амальгамейтед», следом вышвырнули и кучу акций.
Денег Чаку Мампсону хватает, думает Винни, садясь в автобус до Кэмден-тауна (от предложения Чака поймать ей такси она отказалась), свободного времени у него тоже достаточно, даже слишком много. Страдает он от одиночества, скуки, ненужности, потери самоуважения. А прячет это за напускной веселостью, которая когда-то, наверное, была искренней.
Винни сразу хочется добавить к списку несчастий Чака еще одно — сексуальный голод. Достаточно вспомнить, как он нежно, но твердо держал ее за руку — точнее, за рукав плаща — чуть повыше локтя, пока вел через площадь Пикадилли к автобусной остановке. Он ведь как-никак здоровый, крупный, сильный мужчина и без этих глупых, довольно безвкусных ковбойских тряпок, наверное, неплох в постели. Вот что он, должно быть, пытался выразить без слов.
Чуть подумав, Винни отбрасывает эту мысль. Чак Мампсон — самый обычный делец со Среднего Запада, и, если ему понадобится то, что Кинзи и прочие называли неромантичным словом «разрядка» (при этом слове Винни почему-то всегда представляет электрическую розетку), он ее попросту купит. И наверняка Чак уже не раз покупал эту самую «розетку» на рынках Сохо, перед тем напиваясь до беспамятства, чтобы не мучила совесть («Пьян был как свинья — не соображал, что делаю»). Мужчины вроде Чака никогда не станут думать о Винни как о женщине, для любовных утех им нужна какая-нибудь «малышка» или «горячая девчонка» — именно девчонка, не старше тридцати. Чаку необходимо было сочувствие, понимание, внимательный слушатель. Видимо, с проститутками не очень-то поговоришь, а кроме них и Винни, у него в Англии ни одной знакомой женщины.
Эта мысль, не очень лестная и до боли знакомая, сегодня не только вызывает у Винни досаду и тоску, но и утешает. По крайней мере, не придется отражать домогательства Чака Мампсона (о домогательствах она подумала лишь потому, что дружба и секс для нее всегда шли рука об руку).
Как мы уже говорили, Винни спала в основном с мужчинами, которые испытывали к ней не столько пылкую любовь, сколько дружеские чувства. «Люблю» ей говорили редко, разве что по ошибке, в минуты страсти; чаще «я от тебя без ума, ты чудеса творишь в постели, ты настоящий друг». (Возможно, из-за этого Винни не любит выражение «быть без ума». Что, собственно, хорошего в безумии?)
В юности Винни нередко допускала досадную ошибку, позволяя себе всерьез увлекаться некоторыми из этих мужчин. Она даже имела глупость выйти замуж за одного из них. Ее избранник залечивал раны после несчастной любви к одной роковой красавице и намокшим теннисным мячиком закатился в ближайшую ямку. В последующие три года на глазах у Винни он постепенно обрел былую уверенность и прыгучесть, начал скакать на вечеринках, заигрывать и танцевать с женщинами помиловиднее; упал ненадолго в объятия одной из своих студенток, потом и вовсе улетел из семьи, и вскоре его подобрала и унесла другая женщина — Винни когда-то считала ее близкой подругой.
После развода, боясь привязаться к кому-то слишком сильно, Винни намекала своим случайным любовникам, что у нее уже кто-то есть. «Я тоже люблю другого человека, — говорила она. — Он живет в другом городе». Только, в отличие от своих мужчин, она не вдавалась в подробности. Прием этот удавался блестяще. Более чуткие и благородные из мужчин не боялись, что Винни всерьез привяжется к ним, а потом будет страдать; менее чуткие и благородные радовались, что она «не наделает шуму».
Более того, секрет успеха, возможно, заключался и в том, что в словах Винни была доля правды. Она позволяла себе, как и в юные годы, мечтать о мужчинах, которых едва знала и редко видела. Предметами ее тайной страсти были уже не киноактеры, как прежде, а писатели и критики, знакомые по книгам, лекциям, иногда по банкетам, которые обычно устраивают в университетах после лекций. За эти годы в числе героев ее воображаемых романов побывали Дэниел Аарон, М. X. Абрамс, Роберт Лоуэлл, Артур Мизенер, Уокер Перси, Уоллес Стегнер, Питер Тейлор, Лайонел Триллинг, Ричард Уилбур, Роберт Пенн Уоррен, Джон Чивер и Марк Шорер. Из этого перечня очевидно, что Винни предпочитала мужчин постарше, причем непременно интеллектуалов. Когда некоторые из участниц женского движения, к которому Винни принадлежала в начале семидесятых, признавались, что мечтали о каком-нибудь плотнике, садовнике или механике со станции техобслуживания, Винни было дико это слышать и слегка противно. Как можно отправиться в постель с работягой?
Воображаемые романы Винни обычно бывали кратки, хотя иногда блестящая новая книга или лекция заставляла ее вспомнить былую страсть. А если по чистой случайности кто-то из этих выдающихся людей приезжал к ним в университет читать курс лекций и заводил дружбу с Винни, она тут же отбрасывала в сторону мечты о нем. Это не составляло труда — в конце концов при близком общении оказывалось, что в этом человеке нет ничего особенного, что он в подметки не годится Дэниелу Аарону, М. X. Абрамсу или какому-нибудь новому кумиру.
После неудачного замужества Винни каждый раз рвала отношения с очередным любовником, как только начинала мечтать о нем перед сном, или у него все чаще проскакивало «люблю», или он подумывал остаться с ней всерьез и надолго. Нет уж, спасибо, приятель, я уже один раз обожглась, про себя возражала Винни. Не сказать, правда, чтобы у нее всегда был постоянный любовник. Бывали времена, когда единственными спутниками Винни оставались тени Ричарда Уилбура, Роберта Пенна Уоррена и прочих, которые каждый вечер неизменно появлялись, чтобы обнять ее и восхититься ее умом, обаянием, чувством юмора, достижениями в науке и изобретательностью в постели.
За все годы, что Винни ездила в Англию, она ни разу не завела там любовника. Сейчас ему тоже неоткуда взяться, и, наверное, это к лучшему, думает Винни. Потому что пора завязывать с этим, так ведь? В представлении большинства людей и, что важнее, в английской литературе, которой Винни в детские годы верила всем сердцем и которая целых полвека диктовала ей, что делать, чувствовать, о чем мечтать и кем быть, женщины ее возраста редко заводят романы и занимаются сексом. А если встречаются исключения из этого правила, то они или нелепы и жалки, или смешны и пошлы.
За последний год Винни не раз посещала мысль, что подобные развлечения с друзьями ей уже не по возрасту — поезд ее давно ушел. Не пристало в пятьдесят четыре года испытывать желание и страстно предаваться любви. Какое облегчение оказаться вдали от дома и от любовников — как будто в творческом отпуске от секса, в отпуске, который может плавно перетечь во временное отстранение или даже в досрочный уход на пенсию. Поэтому Винни досадно и стыдно, что она, пусть даже на миг, вообразила Чака Мампсона нагишом, возле ее кровати на Риджентс-парк-роуд. Ради всего святого, веди себя как подобает женщине твоего возраста, уговаривает себя Винни. Такой, как Чак, тебе уж точно не нужен. Собственно, и твои блестящие, красивые, обаятельные воображаемые любовники тоже не слишком-то нужны.
Мчась в автобусе сквозь сумрак города к северу, подальше от соблазнов Фортнама и Мэйсона, мимо площади Пикадилли с ее чувственной ритмичной музыкой и цветными огнями, к тихим, полутемным старинным улицам близ Риджентс-парка, Винни в который раз повторяет про себя: уже давным-давно пора оставить позади «все это», как говорила мама. Пора, миновав Сциллу старческого любовного фарса и Харибду несчастной любви, войти в спокойное море воздержания, прохладные воды которого никогда не всколыхнет шторм страсти.
4
Отчаиваться глупо,
А унывать — тем паче,
Ведь юность гуляет под ручку с удачей.
Джон Гей. Полли
В сумрачном, полупустом вестибюле небольшого театра в Хаммерсмите Фред Тернер ждет Розмари Рэдли, которая, по обыкновению, опаздывает. Всякий раз, когда двери с шумом распахиваются и входит очередной незнакомец, впуская за собой влажный порыв ночного мартовского ветра, Фред вздыхает, словно садовник, у которого грозой побило цветы, — ведь одна за другой уходят драгоценные минуты, которые он мог бы провести наедине с Розмари.
Может, Розмари и вовсе не придет. Такое уже не раз бывало, хотя и давненько, но и сейчас Фред нисколько не удивился бы. Удивляет его другое: что он здесь, в театре, с таким нетерпением ждет Розмари. Еще месяц назад весь Лондон был для него схож с пустой ярмарочной площадью на окраине родного города — угрюмая, усыпанная камнями пустошь. А теперь благодаря Розмари Рэдли город преобразился, стал напоминать сверкающий огнями цирк. Фред же, как маленький мальчик, топчется с широко раскрытыми глазами у самого входа в шатер и не может понять, как он сюда попал и что делать с розовой сахарной ватой на палочке, которую сжимает в руке.
Разумеется, чисто логически все можно объяснить его интересом к драматургии восемнадцатого века. Этот интерес привел Фреда в Лондон, а позже подсказал кое-какие темы для бесед с Розмари. (Как выяснилось, она очень много знает об истории театра и сценических традициях и даже играла в «Опере нищего».) Можно подобрать и более фантастическое объяснение: что Фред оказался здесь в награду за добродетели, в частности за добродетели восемнадцатого века — вежливость и храбрость.
Ведь именно из вежливости Фред задержался месяц назад на вечеринке у профессора Майнер после того, как съел и выпил столько, сколько позволяли приличия, хотя никто из гостей не привлек его внимания и, в свою очередь, не заинтересовался им. Поэтому, когда приехала Розмари Рэдли — как обычно, с опозданием, — он все еще был там.
Фред увидел Розмари у самого входа, рядом с горшком розовых гиацинтов, — очаровательную, тоже в полном цвету, благоухавшую нежной прелестью истинной англичанки, как в тот миг показалось Фреду. Такую красоту прославляли живописцы восемнадцатого века. Круглое личико, шаловливые искорки в глазах, небольшой рот с поджатыми губами, ямочка на подбородке, светлая кожа, румянец и густые льняные локоны. В мгновение ока Фред очутился на другом конце комнаты, чтобы взглянуть на это чудо поближе, а потом, безотлучно стоя рядом, в конце концов добился того, что его представили «леди Розмари Рэдли» (это сделала не сама хозяйка, профессор Майнер, — она-то знает, как знает теперь и Фред, что в обществе не принято использовать титул, как не принято при представлении называть человека «мистер» или «мисс»).
— Очень приятно. — Фред, впервые в жизни увидевший настоящую английскую аристократку, в упор уставился на Розмари. Теперь ему кажется, что это было неприлично, хотя Розмари потом призналась, что давно привыкла к пристальным взглядам — актриса как-никак. Фред чувствовал себя путешественником, который не раз читал о снежных барсах или домовых, но никак не ожидал увидеть одного из них своими глазами.
— Американец? Обожаю американцев! — воскликнула Розмари и рассмеялась радостно, светло — этот смех скоро станет для Фреда таким знакомым и родным.
— Рад слышать, — ответил Фред. Как выяснилось, с опозданием: Розмари уже отвернулась, чтобы поприветствовать кого-то еще.
Весь вечер он ходил за ней по пятам, иногда пытался обратить на себя внимание, но большей частью просто смотрел и слушал с тем же благоговейным восторгом, что и месяц назад на спектакле Королевского шекспировского общества «Два веронца».
Только у себя дома, в холодной пустой квартире, он понял, что очень хочет снова увидеть Розмари Рэдли, а еще раз смотреть «Двух веронцев» ему совсем не хочется; понял и то, что надежды увидеть Розмари очень мало. Да, она была с ним весьма мила, но она точно так же мила со всеми. Она спросила, где он живет. Хороший знак, подумал Фред. Он еще не знал, что англичане задают этот вопрос не для того, чтобы напроситься в гости, а для того, чтобы определить положение собеседника в обществе. Точно так же американцы спрашивают: «Кем вы работаете?»
Но где живет сама Розмари Рэдли? В телефонной книге ее имени нет, а звонить Винни Майнер и спрашивать у нее напрямую невежливо и бесполезно, поскольку засекреченный номер телефона, понятное дело, никто не будет раздавать направо и налево. Фред отчаялся было и впал в уныние, но тут же вспомнил, что Розмари завтра собиралась на предварительный просмотр новой пьесы; она даже посоветовала ему (впрочем, как и всем, кто слушал ее в ту минуту) обязательно посмотреть эту постановку.
С деньгами у Фреда было туго, и он решил вовсе не ходить на современные спектакли в Лондоне. На этот раз, однако, он нарушил данное себе слово и поужинал банкой куриной лапши с куском черствого хлеба, чтобы не тратить больше, чем следовало. Он уже начал получать зарплату по чекам из Коринфа, но в пересчете на фунты денег оказалось до смешного мало. В это время у Фреда и в мыслях не было, что он влюблен в Розмари Рэдли. Им двигало всего лишь желание развеять тоску или, в лучшем случае, тяга к новым впечатлениям. Так другие американцы в поисках выхода своим силам и фантазии стремятся попасть на какую-нибудь выставку или увидеть местный обряд, недоступный большинству туристов.
Хотя Фред приехал в театр заранее, долго простоял у входа и лишь в последнюю минуту ринулся по лестнице на балкон, к своему месту, Розмари Рэдли так и не появилась. Пьесу — остроумный, тонкий фарс — Фред смотрел вполглаза; его мучили тоска, стыд и голод. Но в антракте, когда он скорее с беспокойством, чем с надеждой, спускался по лестнице, внизу, в вестибюле, он увидел Розмари. Одета она была еще изысканнее, чем накануне, бледно-золотистые волосы забраны наверх, сочные округлые груди полуприкрыты нежно-зеленым шелком, словно заморские фрукты у продавца в Мэйфере. Глядя на нее сверху, Фред вдруг увидел в ней не только настоящую англичанку-аристократку, но и обаятельную, желанную женщину.
Розмари, как и следовало ожидать, была не одна, а в кругу друзей, среди которых был и сам автор пьесы, высокий изящный человек в плаще военного покроя. В первый и далеко не в последний раз Фреду подумалось, что у леди Розмари Рэдли наверняка много прославленных, знатных воздыхателей и поэтому шансов у него почти нет. Другой бы на его месте отчаялся и вернулся на балкон, но Фреду прошлые любовные победы позволяли надеяться на лучшее, а уныние и одиночество придали храбрости. Была не была! Терять-то нечего!
Как выяснилось, чтобы ухаживать за Розмари Рэдли, нужна не только храбрость, но и нечто новое для Фреда — несгибаемое упорство. В былые времена девушки, можно сказать, сами падали ему в объятия, иногда и в прямом смысле — с визгом и хихиканьем бросались на него на вечеринках или в машинах, на заднем сиденье. Приятно и удобно, но не слишком интересно. А сейчас Фред испытал радость погони, впервые вдохнул пьянящий животный запах преследуемой добычи. При всем обаянии Розмари, на нее невозможно было положиться. Бывало, она опаздывала на полчаса или больше, или звонила и говорила, что должна перенести встречу (как правило, на неудобное для Фреда время), или приходила с подругой, или не приходила вовсе. Когда она, задыхаясь, лихорадочным шепотом просила прощения, казалось, что она говорит искренне, — но ведь она же актриса. Еще одним препятствием оказались деньги. Фреду не по карману было водить Розмари в дорогие рестораны или покупать ее любимые цветы. Он делал и то и другое, но в ущерб своему кошельку; и теперь это пора прекращать, чтобы не умереть с голоду.
Так шла неделя за неделей, а Фред все еще топтался на месте. Ухаживать за Розмари нужно было на старомодный лад, причем так долго, что большинство американских друзей Фреда сочли бы это глупостью. Роберто Франк хохотал бы до упаду, узнав, что Фреду понадобилось почти две недели, чтобы дойти с Розмари до поцелуев, а спустя месяц с лишним он все еще не уложил ее в постель. «Так-то оно так, но это тебе не в бейсбол на пустыре играть, — мысленно возражал Фред ухмыляющемуся Роберто. — Это Англия, здесь настоящая жизнь».
Несмотря на все трудности, Фред не отчаивался. Напротив, в нем проснулся дух противоречия: чем труднее дело, тем желаннее победа. Раз он столько сил потратил ради Розмари Рэдли — значит, она того стоит, а чувство его настоящее. И в самом деле, чем больше Фред узнавал ее, тем сильнее влекла она к себе.
Часть обаяния Розмари заключалась в том, что она полная противоположность Ру, и Фред это понимал. Розмари — изящная, нежная блондинка, Ру — смуглая, высокая, крепкая; Розмари утонченная, остроумная, Ру в сравнении с ней кажется наивной, не в меру серьезной, и чувства юмора ей по лондонским меркам недостает. Розмари грациозна, обходительна, речь ее льется как песня, Ру рядом с ней выглядит шумной и неуклюжей, если не сказать — грубой. Точно так же Америка в сравнении с Англией кажется большой, шумной, наивной, грубой и так далее.
Когда Фред, упорно продолжая погоню, стал медленно настигать добычу, стали видны и другие национальные — а возможно, и классовые — различия. Ухаживания Фреда за Ру вряд ли можно было назвать погоней, потому что «добыча» столь же стремительно неслась в направлении «хищника». Они приблизились друг к другу, задыхаясь от нетерпения, и тут же друг на друга набросились, будто лошади, на которых скакали они в тот первый, незабываемый день. То, что случилось тогда в заброшенном саду, не назовешь обольщением — скорее столкнулись два сильных, потных, горячих молодых тела и покатились, задыхаясь, по земле среди густой травы и сорняков.
Розмари, напротив, наводит на мысли не о животных, а о цветах. Фред представляет ее гиацинтом в горшочке или другим, еще более диковинным растением, хрупким, с нежными листьями, которые трепещут и сворачиваются от холодного ветра или неловкого прикосновения, но если за ним ухаживать терпеливо и заботливо, оно пышно расцветет. И в самом деле, всего два дня назад, через полтора месяца проб и ошибок, старания Фреда почти увенчались успехом: развернулись последние лепестки — мягкие, сочные, бело-розовые, — открыв взору нежную чашечку. Сегодня вечером, если все пойдет как надо, он добьется желаемого.
Фред ходит взад-вперед по вестибюлю, думая о Розмари и Ру, и впервые по-настоящему понимает, что такое ретроспективное влияние, о котором говорят ученые Йельского университета. Подобно тому как Вордсворт навсегда изменил наш взгляд на Мильтона, Розмари Рэдли помогла ему по-новому взглянуть на Рут Марч. Фред мысленно видит, как Розмари парит высоко над крышами Лондона. В руке она держит ослепительный дуговой фонарь, как в театре, и луч белого света от него льется сквозь пространство и время — в Коринф, штат Нью-Йорк, к событиям трехлетней давности.
В этом свете образ Ру в его памяти — под яблонями, с отпечатками веток на потной загорелой спине и ягодицах, с жухлыми травинками в густых спутанных каштановых волосах — кажется пестро раскрашенным, топорным, почти что диким. Ру подарила ему себя быстро и радостно, и раньше Фред видел в этом знак искренности и пылкой страсти, а теперь клеймит как отсутствие женственности и даже грубость. В сравнении с долгими, нежными поцелуями Розмари, трепещущими на устах, как бабочки, в ненасытных ласках Ру ему чудится животная жадность, по которой можно было догадаться о несдержанности Ру, о ее привычке все выставлять напоказ (как потом и оказалось).
Не прошло и двух недель с того дня, как они познакомились, а Ру мало того что успела не раз покувыркаться с ним, но и потеряла всякий стыд, если он у нее был. Она рассказала ему о себе все до последнего слова, включая подробности своих прошлых романов, о которых Фреду знать было необязательно. Ру не скрывала от него ничего. С самого начала она спала рядом с ним голышом, а если было очень холодно — в бесформенной ночной рубашке из красной фланели, которая собиралась в складки под мышками. Расхаживала нагишом по квартире в университетском городке в любое время дня и ночи и при этом не всегда задергивала шторы. При Фреде сморкалась, ковыряла в зубах, стригла ногти на ногах, принимала душ и даже могла посреди самого интересного разговора (а для Ру почти все разговоры были интересными) выйти в туалет. Фред был влюблен и поэтому старался подавить неловкость, даже на себя злился. Себя он считал ханжой и чистюлей, а поведение Ру — свободным и естественным.
Для Розмари, напротив, отдаться мужчине вовсе не значит отказаться от права на уединение. Она безотчетно окружает себя тайной, ореолом романтики. Она любит приглушенный свет — две высокие белые свечи на ночном столике или лампу с шелковым абажуром. Принимает ванну и одевается в одиночестве — Фред еще ни разу не видел ее полностью обнаженной. Не открывает она до конца и душу, хранит в тайне свое прошлое и не стремится узнать о прошлом Фреда. Только по случайным намекам он догадывается, к примеру, о том, что детство у Розмари было тяжелое, что хотя она и жила в довольстве, но глубоко страдала из-за бесконечных переездов и любовных увлечений родителей.
Иногда, надо признать, Розмари заходит в своей таинственности слишком далеко. Фред не покушается на ее уединение и не расспрашивает ее о прошлом, но ему хотелось бы поглубже заглянуть ей в душу. Розмари порывиста, капризна, полна противоречий. Всякий раз, решаясь поговорить с ней серьезно, Фред чувствует себя назойливым жуком, который пытается прогрызть лучшую розу в теплице, но в конце концов отступает, опьяненный ароматом и напуганный трепетом светлых лепестков.
Скоро семь. Вестибюль уже заполнился народом, и зрители понемногу тянутся в зал. Фред ждет без малого сорок минут, а Розмари все нет. Вдобавок он очень голоден, и если даже Розмари появится, то они не успеют перед спектаклем перекусить бутербродами, как собирались.
Фред почти потерял всякую надежду, когда дверь затормозившего перед театром такси распахивается и в вестибюль влетает Розмари. Розовая шерстяная накидка развевается позади нее, словно крылья ангела в стиле рококо.
— Милый! — Совсем запыхалась — или только делает вид? Нежной белой рукой дотрагивается до рукава Фреда и смотрит на него снизу вверх из-под пушистых ресниц. — Прости, прости! Такси никак не хотело приезжать.
— Так и быть, прощаю. — Фред смотрит на нее сверху вниз и улыбается, хотя и не так охотно, как всегда.
— Умираешь с голоду?
— Пока нет.
— Не сердись. Я договорилась с Эрином, после спектакля мы все вместе поужинаем. Он знает очень милое местечко поблизости, а я, чтобы искупить свою вину, угощу тебя отменным ужином… Ах, Надя! Я и не знала, что ты уже вернулась! Как тебе понравился безумный Лос-Анджелес?
— Ни к чему это… — говорит Фред, но слов его никто не слышит.
Однако решение он уже принял и не изменит его. Фреду хочется побыть наедине с Розмари, а не сидеть в ресторане с каким-то актером из предстоящего спектакля. К тому же в последнее время она слишком часто угощает его дорогими ужинами, а в ответ на попытки Фреда отказаться Розмари всякий раз находит повод: то сериал, в котором она играет, купили в Австралии, то она дала удачное интервью женскому журналу, то еще что-нибудь.
— Розмари, я хочу тебе кое-что сказать, — начинает Фред, как только они остаются одни и идут на свои места.
— Что, милый? — Розмари останавливается, машет кому-то рукой через весь зал и лучезарно улыбается.
— Не надо угощать меня сегодня ужином.
— Ну что ты, Фредди. — Розмари поднимает на него широко раскрытые небесно-голубые глаза с пушистыми ресницами. — Ты злишься, что я опоздала, но дело не во мне! Эти ужасные такси…
— Нет, я не сержусь, я просто…
Их беседу прерывает билетер; Фред покупает две программки по десять пенсов. Транжира, нечего сказать, мрачно думает он, вспомнив, что билеты на спектакль достала Розмари — то ли ей предложили бесплатно, то ли купила сама.
— Дело вот в чем, — снова начинает Фред, как только они с Розмари садятся на свои места. — Я просто не хочу, чтобы ты платила за мои ужины. Так нельзя.
— Не глупи! Я уже договорилась. — Розмари высматривает в толпе зрителей знакомые лица. — Ой, смотри! Мими! Кто это с ней, интересно?
— Нет. Мне это не нравится, — решительно заявляет Фред. — Только представь, что подумает Эрин? Примет меня за альфонса.
— Что ты, милый. — Розмари вновь смотрит на Фреда. — В театре все по-другому. Есть у тебя работа — ты угощаешь. Это всякому понятно.
— Но я-то не актер. С сегодняшнего дня плачу за себя сам.
Фред вспоминает, что у него с собой всего восемь фунтов да кое-какая мелочь и, по расчетам, на это придется жить до конца недели. Через пару часов он в который раз очутится перед меню, таким же раздутым, как и цены, выберет самое дешевое блюдо (скорее всего, миску жесткой зелени) и станет уверять, что сытно пообедал и вовсе не проголодался.
— Чего бы мне хотелось, — продолжает Фред, наклоняясь поближе к Розмари и пытаясь вновь завладеть ее вниманием — она опять как будто ускользает от него, — это пойти с тобой куда-нибудь, где подешевле, и самому угостить тебя. Готов поспорить, что поблизости найдутся недорогие местечки…
— Да, в Хэммерсмите полно скверных дешевых ресторанчиков, — отвечает Розмари. — И почти во всех я была. Когда мама сломала щиколотку, а отец перестал давать мне денег, чтобы я ушла из театра и вернулась домой вести хозяйство — самому-то лень было, — я и узнала об этих забегаловках все, что можно. И наелась рыбными палочками и макаронами с сыром на всю оставшуюся жизнь, милый.
— Все равно… Это нечестно, что ты платишь за меня.
— Значит, я должна ужинать в какой-то скверной забегаловке? По-твоему, это честно?
— Я не говорил, что приглашаю тебя в скверную забегаловку…
— Где мы оба можем отравиться. — Розмари надувает свои красивые губки. Немного погодя, когда в зале гаснет свет, на лице ее появляется улыбка. — И вообще… нельзя так обижать Эрина — он подумает, что мы сошли с ума или что нам совсем не понравилась его игра и мы решили его наказать. — Розмари тихонько смеется.
Фред больше не спорит, но весь остаток вечера ему неуютно — и в театре, и позже, в ресторане, где он заказывает мясной салат с помидорами, яйцами и сыром, а еще съедает четыре булочки, треть Надиного гуляша по-бургундски и полватрушки с вишней с тарелки Розмари («Не глупи, милый, я уже сыта»). Что я здесь делаю? — думает он. Хватаю с чужих тарелок в дорогом ресторане, в шикарной компании?..
— Все еще злишься, — жалобно говорит Розмари чуть позже, уже в такси. — Я же вижу. Так и не простил меня за опоздание.
— Нет, не злюсь, простил, — уверяет Фред.
— Правда? — Розмари прижимается к нему, ее золотистые локоны покоятся у него на плече.
— Я тебя всегда прощаю. — Фред слегка разжимает объятия. Какая она нежная и податливая под шерстяной накидкой! — Я люблю тебя, — говорит он, мечтая о том мгновении, когда покажет это на деле.
— Ах, любовь, — шепчет Розмари мягко, но довольно равнодушно, будто ей напомнили о какой-то детской игре — прятках или прыгалке.
— Не веришь?
— Верю. — Розмари слегка встряхивает головой. — Кажется, верю.
— И что же?
— И я тебя тоже люблю… Но, знаешь ли, все не так просто, — вздыхает Розмари. — В моем возрасте…
Вздыхает и Фред, но тихо, еле слышно. Да, мне всего двадцать девять, а Розмари тридцать семь, но это неважно, а для таких отношений, как у нас, и вовсе пустяк. Ясное дело, женщины беспокоятся о своем возрасте, а актрисы тем более, но в устах Розмари это сущая нелепость. Она красавица, я ее люблю; мы ни жениться не собираемся, ни детей заводить, боже сохрани.
— Какая разница? — спрашивает он вслух.
Фред вырос в ученой среде — он считает, что на каждый, даже самый трудный вопрос должен быть ответ. У Розмари после долгих лет работы в театре и общения с недружелюбными, назойливыми репортерами мнение прямо противоположное. Вместо ответа она зевает, прикрывая рот трепещущей ладонью, — будто бабочка застыла над розовым цветком.
— Боже мой, как я устала! До чего утомляет иногда классическая драма! Время, должно быть, очень позднее?
— Нет, всего полдвенадцатого.
У Розмари есть уважительная причина для вечных опозданий: она никогда не носит часов («Страшно подумать, что время держит меня за руку, будто злая старуха гувернантка»).
— Какой ужас! Милый, пора мне отправляться спать.
— И не думай. — Фред крепче прижимает ее к себе. — Или отправляйся, но не одна.
— Боюсь, мне все-таки пора. — Розмари глубоко вздыхает, будто уйти ее заставляет неведомая сила.
— Но я хотел… — Фред кладет руку на грудь Розмари, поверх ее крылатой накидки.
— Милый, оставь меня в покое. Завтра позвоню тебе.
Вот так, будто невзначай, Розмари отменила самую лучшую часть свидания. Весь следующий день Фред не находил себе места. Он звонил несколько раз — или, как говорят англичане, «названивал», — начиная с десяти утра, всякий раз попадая на автоответчик. То ли ее нет дома, то ли злится. Фред сел писать, но, как с ним нередко бывало в последнее время, работа не клеилась. Ему нужна была книга, которой нигде не было, кроме Британского музея, а далеко отходить от телефона не хотелось.
Розмари позвонила около шести вечера. Была, как всегда, очень ласкова, говорила, что «ждет не дождется». Уверяла, что вовсе не злится, даже не желала это обсуждать, а через час радостно встретила его у дверей.
Весенние сумерки за окном библиотеки английского загородного дома, фотографии которого нередко появляются в журналах и цветных приложениях к ним — он славится своей монументальной красотой, а также монументальной красотой хозяйки, Пенелопы (Пози) Биллингс, и деловой хваткой хозяина, сэра Джеймса (Джимбо). Стены, обитые малиновой парчой, потертые кожаные диваны с ручками красного дерева и пуговками, книги в золотых переплетах, стеклянные шкафы с безделушками и старинные лакированные глобусы звездного неба и Земли — словом, пошловатая поздневикторианская обстановка. Разнообразят ее аккуратно расставленные пышные букеты весенних цветов и столик со свежими газетами и журналами — на виду лежат те, что консервативного толка, да еще номер «Харперс-Квин», где в рубрике «К дачному столу» напечатана фотография леди Биллингс у себя на кухне и ее собственный рецепт супа-пюре из авокадо и водяного кресса.
На стенах — картины викторианской эпохи в толстых разукрашенных золотых рамах; на двух изображены предки Пози, славные вояки, а с третьей печально смотрит призовая овца, очень похожая на писательницу Джордж Элиот. Все три портрета хранятся в доме уже более века. А Лейтон над мраморной каминной полкой — напротив, свадебный подарок от Джимбо. Картину он купил как раз перед тем, как взлетели цены, по совету близкой подруги Пози, модного дизайнера интерьеров Нади Филипс. На картине изображена стройная, величавая викторианская красавица, похожая на Пози Биллингс, тоже с копной медно-рыжих волос. Она целомудренно закутана в розовые и бледно-лиловые шелка, стоит на мраморной террасе, залитой солнцем и усыпанной лепестками цветов, и умиленно поглядывает на птичку в клетке.
Теперь, спустя шесть лет, Пози уже слегка поднадоели и Лейтон, и овца, и безделушки, и славные предки. Отправить бы их на чердак, а вместо них устроить что-нибудь посовременней. В последнее время Пози то и дело думает, что было бы славно обставить библиотеку заново, с помощью Нади Филипс, в стиле тридцатых годов: низенькие белые диванчики, столики из лакированного дерева и нержавеющей стали, зеркала с гравировкой, яркие подушки, лампы и вазочки в стиле ар деко.[4]
Сейчас хозяйки в библиотеке нет — она в детской, пьет чай с двумя маленькими дочками и гувернанткой. В библиотеке один Фред Тернер, и он очень расстроился бы, узнав, что викторианская обстановка доживает последние дни. Фред стоит у окна с малиновыми плюшевыми занавесками до пола, украшенными длинной бахромой, смотрит вниз, на газон — еще достаточно светло, чтобы разглядеть, как на круглой клумбе у дорожки, посыпанной гравием, теснятся нежные желтые нарциссы, — и его переполняет бурный восторг и изумление. Почему я здесь, в этом безупречном викторианском поместье, в туманной весенней Англии, а не в современной Америке, на севере штата Нью-Йорк, где начало апреля — это холодная, седая зима? Как будто чудесным образом перемешались жизнь и искусство и я очутился в романе Генри Джеймса, фильм по которому смотрел два месяца назад с Джо и Дебби Вогелер. Как далеки сейчас от меня они со своими жалобами на Лондон! Как неглубоки и отрывочны оказались их представления об Англии — словно какой-нибудь телесериал по классическому роману.
Несколько недель назад Фред попал в мир, о котором раньше знал лишь по книгам, в мир переполненных зрительных залов, блестящих премьер, неторопливых изысканных воскресных обедов в Хэмпстеде и Холланд-парке, пышных званых ужинов с иностранными гостями на Коннот-сквер и Честер-роу. Он побывал за кулисами студии Би-би-си в Илинге и в редакции «Санди таймс», повстречал немало людей, о которых раньше только читал в журналах и учебниках. И что самое удивительное, некоторые из них, похоже, считают его другом или по крайней мере хорошим знакомым, помнят, что Фред пишет о Джоне Гее, интересуются его успехами, рассказывают ему, как близкому человеку, о своих неприятностях с критиками или несварении желудка. (Зато другие, если честно, знакомятся с Фредом на одной вечеринке, а к следующей уже не помнят, как его зовут, — что, впрочем, в этих кругах дело обычное.)
В начале романа с Розмари Фред удивлялся, откуда среди ее знакомых столько знаменитостей. Оказалось, она и сама в некотором роде знаменитость, хотя Фред никогда прежде о ней не слыхал. Розмари играет одну из главных ролей в «Замке Таллихо», популярном комедийном сериале о жизни аристократов в поместье, поэтому ее знают в лицо миллионы британских телезрителей и с ней то и дело кто-нибудь заговаривает в магазине, ресторане или театре («Простите, вы случайно не леди Эмма Талли? Я просто в восторге от сериала и обожаю вашу героиню!»). Вот и получается, что в лицо ее знают лучше, чем многих ее друзей, более знаменитых, но далеких от театрального мира.
Фред с тех пор понял, что такая слава Розмари приятна, но недостаточна. Он замечал, как сияет Розмари при виде очередного поклонника — будто внутри у нее вспыхивает лампочка в двести ватт. С другой стороны, она не раз говорила, что ей до смерти надоели и леди Эмма, и прочие милые дамы, которых приходится изображать на экране.
— Я мечтаю, — как-то призналась она Фреду, — играть в театре «великие трагические роли» — Гедду Габлер, Бланш Дюбуа, леди Макбет, — пока еще не поздно. Я могу играть их, Фредди, знаю, что мне это по силам, — уверяла она. — Я знаю, что значит быть жестокой, кровожадной, сгорать от ненависти. («Если она и знает, — возразил про себя Фред, — то разве что каким-то шестым чувством».) Все это живет во мне, Фредди, поверь. Не веришь? — добавила она, повернувшись к Фреду и глядя ему прямо в глаза.
Прижав ее к себе, Фред улыбнулся, покачал головой.
— Думаешь, мне не по плечу такие роли? — Между светлых, изогнутых бровей Розмари появилась складочка, точно ее больно ущипнул невидимый злой дух.
— Что ты! Верю, ты можешь все, — успокаивал ее Фред. — Я знаю, что ты молодец, так все говорят. Уверен, ты сможешь играть что угодно.
Но режиссеры не спешат поручать Розмари такие роли. Если ее просят играть в театре — не так часто, как ей бы хотелось, — то всякий раз это легкая комедия: Шоу, Уайльд, Шеридан или Эйкбурн.
— Все дело в том, — объяснил Фреду друг Розмари Эдвин Фрэнсис, — что она не похожа на трагическую актрису. Голос у нее слишком высокий и нежный, и от нее не исходит мрачная сила. Можете представить Розмари в роли леди Макбет? Нет, серьезно: «Чтоб нож не видел ран, которые он нанесет, и небо напомнить не могло: остановись!»[5] — продекламировал Эдвин приятным, слегка сюсюкающим голоском, которым Розмари изображает леди Эмму. — Никому и в голову не придет, что она замешана в убийстве. Скорее уж решат, что она задумала разрезать торт на благотворительном празднике.
Хотя Фреду не по душе, что Эдвин иногда посмеивается над Розмари, он в самом деле не может представить ее в роли леди Макбет, не представляет он ее и жестокой, кровожадной — пусть даже на сцене. Желание Розмари играть трагических героинь до сих пор остается для него загадкой.
Еще одна загадка для Фреда — ужасающий беспорядок в ее хорошеньком домике в Челси. С первого взгляда просторная гостиная кажется весьма изысканной, хотя и видавшей виды. Но вскоре, особенно при дневном свете, становится видно, что окна давно не мыты и засижены мухами, подоконники черны от сажи, позолоченные рамы картин облупились, атласная, серая в полоску, обивка мебели выцвела и вся в пятнах, на столиках красного дерева — следы от стаканов и сигарет. Повсюду смятые газеты, липкие стаканы, грязные чашки из-под кофе, пепельницы с окурками, коробки из-под сигарет и брошенная одежда. Внизу на кухне и наверху в спальне и того хуже: шкафы забиты всяким хламом, а туалеты не всегда чистые. Уму непостижимо, как Розмари умудряется выходить из этого хаоса такой чистой и прекрасной, а еще одна тайна — как она может жить в такой грязи.
Понятно, что Розмари не умеет вести хозяйство, думает Фред. Да и ни к чему ей учиться, но почему бы не нанять прислугу? Согласны с Фредом и друзья Розмари. «Ей нужна, — объясняла сегодня Пози Биллингс, когда показывала Фреду свой заботливо ухоженный сад, — приходящая домработница. Крепкая, порядочная женщина, которая приходила бы по утрам убирать, покупала бы продукты, стирала, готовила, чтобы Розмари пореже обедала в ресторанах». Если Фред уговорит Розмари нанять прислугу (Пози знает в Лондоне одно надежное агентство), он сделает доброе дело.
— Ладно, — согласился Фред, остановившись рядом с Пози перед длинной клумбой из многолетних растений — земля вокруг нее была посыпана крошкой из коры, сквозь которую пробивались опрятные крокусы и мышиные гиацинты. — Так и быть, постараюсь.
Но убедить ее будет нелегко, думает он сейчас, представляя Розмари в постели в «розовой комнате», где они расстались четверть часа назад. Золоченое резное изголовье огромной кровати обито атласом в цветочек, Розмари лежит под стеганым покрывалом того же цвета. На ней ночная рубашка из тонкого шелка цвета слоновой кости, с полупрозрачными кружевными вставками в виде бабочек; пепельно-золотистые локоны разметались по бледно-розовым простыням с оборками. Ночник с шелковым абажуром льет алый свет на ее нежную кожу, на серебристо-розовую старомодную мебель, французские гравюры на стенах, серебряную вазочку нарциссов на ночном столике рядом с перевернутыми флаконами и груду сброшенной одежды на обюссонском ковре.
Нет, не так-то просто будет перевоспитать Розмари. Она не любит говорить о «скучных повседневных делах» и не может ни на чем надолго сосредоточиться. Ею владеют случайные, внезапные порывы — и в этом для Фреда таится часть ее очарования. Он представляет Розмари прекрасной редкой бабочкой вроде тех, кружевных, что украшают ее ночную сорочку; она порхает, танцует в воздухе, то приближаясь, то снова удаляясь, и удержать ее можно лишь на краткий миг.
Сейчас она уединилась, но это вовсе не очередная причуда. Ложиться в постель средь бела дня — или хотя бы говорить, что ложишься, — как узнал Фред, весьма уважаемый обычай среди англичан. В отличие от американцев, они не считают, что отдыхать, не чувствуя усталости, — признак слабости или лени. Напротив, «немного вздремнуть» или «прилечь» — это вежливый предлог для уединения и срабатывает намного лучше, чем в Америке, потому что здесь даже супруги спят каждый в своей комнате. Кроме того, англичане — по крайней мере те, с кем Фред в последнее время имеет дело, — нуждаются в уединении намного сильнее, чем американцы. Вот и сейчас, в шесть вечера, все гости леди Биллингс разошлись по своим комнатам. Расставшись с Розмари, Фред сначала тоже пошел к себе, но вскоре заскучал и снова спустился вниз. Если бы не сумерки и мелкий дождик, он вышел бы в сад.
Кроме Фреда и Розмари у Пози в эти выходные гостят еще трое. Первый гость — Эдвин Фрэнсис, редактор и критик. С Розмари и Пози он ласков почти до приторности, а с Фредом общается так, будто берет у него интервью для телепередачи: на словах вежлив и внимателен, но на деле за этим вниманием таится насмешка. («Как известно, мистер Рейган снимался в фильме вместе с шимпанзе. Тем не менее многие из ваших коллег-преподавателей за него голосовали. Чем, по-вашему, можно это объяснить?»; «Я полагаю, на вашу нынешнюю работу большое влияние оказала французская школа уничтожения — то есть, простите, деконструкции».)
С собой Эдвин привез юношу по имени Нико — по словам Розмари, это его нынешний «лучший друг». Розмари и Пози парень нравится; обе считают, что Нико намного приличней прежних «лучших друзей» Эдвина, которых Пози «просто-напросто не желала видеть в своем доме». По сравнению с ними Нико образован, прекрасно говорит по-английски и «выглядит вполне достойно». Нико — грек-киприот, стройный, с гладкой кожей, блестящими темными кудрями и твердыми взглядами на политику и искусство. Он мечтает работать в кино или на телевидении — в Англии, а лучше в Америке, — желательно режиссером. Сегодня за обедом он поинтересовался взглядами Фреда, явно более искренне, чем Эдвин, зато не так бескорыстно. («У вас очень интересные мысли по поводу кино, Фред, просто исключительные. Должно быть, у вас много знакомых из мира американского кино или, может быть, театра — вы с кем-нибудь из них обсуждали свои взгляды?.. Неужели ни с кем? Очень жаль. Мне бы так хотелось когда-нибудь пообщаться с американскими режиссерами».) Сейчас Нико по-прежнему любезен с Фредом, но отчаялся извлечь из него хоть какую-то выгоду.
И наконец, еще один гость — Уильям Прост, дальний родственник Пози; они с Розмари называют его «Просто-Уильям». Средних лет, неприметный на вид, неряшливо одетый, с отсутствующим взглядом. Просто-Уильям работает на Би-би-си и знает все самые свежие новости в мире; знает он, похоже, и всех лондонских знакомых Розмари, Пози, Эдвина и даже Нико. Держится он в тени. Фреду кажется, что пригласили его отчасти из чувства семейного долга (он разведен, и ему, должно быть, грустно одному), а отчасти чтобы он подыскал Нико работу на Би-би-си.
Фред находит Эдвина и Нико занятными, а Уильяма уважает за знание политической кухни. Жаль, что не удастся познакомиться с мужем Пози, Джимбо Биллингсом. Если верить газетчикам, Биллингс — проныра и ловкач, вкладывает деньги в рискованные предприятия и знаком со многими известными политиками. Мужчина он крупный, видный (фотография его на камине в гостиной сразу бросается в глаза). Однако сейчас он уехал по делам на Ближний Восток.
Нико еще больше, чем Фред, жалеет, что не сможет познакомиться с Джимбо Биллингсом.
— Да-а, я уж высказал бы ему все, что думаю о его правительстве и его политике, — с вызовом заявил он Фреду, когда после обеда все гости вышли прогуляться. — Он мог бы много сделать для моей родины, для моих друзей, если бы захотел.
— Но ведь муж Пози не связан с британским правительством, — возразил Фред, — он всего лишь предприниматель.
— Всего лишь? Неправда! — ответил Нико, замахиваясь ивовым прутиком, который отломил у декоративного пруда, на живую изгородь из самшита, покрытую молодой листвой. — Он очень влиятелен, в руках у него больше власти, чем у многих здешних политиков, поверьте мне, но он пользуется ею во вред моей родине.
За окном темнеет. Фред отворачивается и берет одну из четырех ежедневных газет, которые чья-то невидимая рука аккуратно разложила после обеда на полированном столике из красного дерева. Вскоре в комнату входят Эдвин и Нико, а вслед за ними Пози, Просто-Уильям и Розмари. Подают напитки, затем ужин из пяти блюд (щавелевый суп, молодой барашек, зеленый салат, лимонный кисель со взбитыми сливками, фрукты с сыром) и кофе в просторной гостиной. За ужином говорят об Общем рынке, о том, как выращивать дома редкие луковичные растения, о фильмах и личной жизни Вернера Фассбиндера, о книгах и любовных приключениях Эдны О’Брайен, о том, как готовить телятину, о недавнем случае массового убийства, о денежных и кадровых трудностях в редакции литературного приложения «Таймс», о гостиницах на острове Тортола и на Крите. Фред пытается участвовать в общей беседе, но у него не очень-то получается: он никогда не выращивал луковицы, не готовил телятину, не видел ни одного фильма Фассбиндера и так далее. Он чувствует себя отставшим от жизни и лишним, хотя Пози и Уильям, пытаясь ему помочь, расспрашивают о том, как в Америке разводят сады, готовят и ходят в кино. Фред вздыхает с облегчением, когда Пози предлагает: хватит болтать, давайте поиграем в шарады.
Оказывается, английская игра в шарады и американская, к которой привык Фред, — вовсе не одно и то же, каждая из них отражает культуру своей страны. В американском варианте каждый участник должен жестами показать своей команде известную пословицу, название книги, пьесы, фильма или песни, которое загадали противники; побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. В Америке ценят быстроту, личные достижения и всячески поощряют попытки объясниться с соотечественниками, которые — в прямом или переносном смысле — не говорят на твоем языке.
В английской игре в шарады — или в том ее варианте, в который играли у Пози, — нет ни награды за скорость, ни победителей. Команды выбирают по одному-единственному слову и изображают его по слогам, каждый слог в виде сценки со словами. Разумеется, противника стараются всячески запутать, однако игра эта — прежде всего повод для маскарада, шуток и дурачеств. Здесь требуются остроумие, преданность своей команде, любовь к изысканным представлениям на публике и детская непосредственность. Все эти черты, думает Фред, присущи англичанам или, по крайней мере, Розмари и ее друзьям.
Перед началом игры почти целый час придумывают слова и роются в шкафах и чемоданах, чтобы подобрать костюмы для игроков. Первыми выходят Розмари, Эдвин и Просто-Уильям. Слово свое (СТРАНОВЕДЕНИЕ) они выбрали, похоже, для того, чтобы Эдвин мог покрасоваться в одежде Пози, которая замечательно ему подходит, поскольку Пози — женщина крупная, а Эдвин невысок ростом. В первой сценке (СТРАСТЬ) Эдвин с Розмари изображали проституток, а Уильям, в котелке и с тростью, — пьяного клиента. Эдвин, в рыжем парике, оранжевом сарафане в желтый цветочек, с набитым косметическими салфетками бюстом и в золотистых босоножках на высоком каблуке, смешон и ужасен. Вид Розмари тоже напугал Фреда. Грубо размалеванная, вся в побрякушках, а главное — в той самой ночной сорочке с кружевными бабочками, в которой лишь несколько часов назад… Сдержав возмущение, Фред хохочет вместе с остальными — в конце концов, это ведь просто игра.
Во второй сценке (НОЖ) Эдвин превратился в торговку мясом (в чепце и розовом клетчатом фартуке и с кухонным ножом), а Розмари и Уильям с помощью коричневого мохнатого одеяла и двух рогов изображали печальную корову. В третьей (ПОВЕДЕНИЕ) Эдвин облачился в твидовый костюм Пози, нацепил твидовую шляпу с загнутыми полями, роговые очки и жемчужное ожерелье. Фред решил, что Эдвин, низенький, крепко сбитый, с тонкими и приятными чертами лица, в наряде почтенной дамы выглядит даже лучше и естественнее, чем в своем обычном костюме. С явным удовольствием играя свою роль, он пытался всучить груду умных книг и пластинок двум хмурым школьникам, одетым как панки, — Розмари и Уильяму.
Вдоволь насмеявшись, поаплодировав и выпив еще, Пози, Нико и Фред исчезли в библиотеке, чтобы переодеться для первого слога (их слово — ПИРАМИДА). Нико и Фред появились оттуда без пиджаков, подпоясанные пестрыми кушаками, в черных резиновых сапогах (Пози называет их «веллингтоны»), с кухонными ножами за поясом. Изображая пиратов, они собрались сечь юнгу (Пози) бельевой веревкой.
— Что там за шум? Машина? — Пози, в белой матроске, напяленной поверх длинного красного шелкового платья со складками, бросается к окну и отодвигает тяжелую бархатную занавеску. — Боже! Да это Джимбо! А ну быстро все наверх — и не забудьте одеться по-человечески!
Пози распахивает двери библиотеки и опрометью бежит через коридор в гостиную:
— Уильям, это Джимбо, скорей наверх, он как раз отводит машину. А ну поторапливайтесь!
Не обращая внимания на расспросы и возгласы гостей, Пози мчится впереди всех вверх по лестнице, застланной малиновым ковром, и дальше, по коридору, стены которого увешаны портретами восемнадцатого века в тяжелых золоченых рамах.
— Ну вот, — выдыхает она, убедившись, что никого из гостей не видно снизу через перила. — Уильям, милый, лети через черный ход и спускайся к сараю для лодок, ключ в каменной урне под плющом. Осторожней, когда пойдешь мимо конюшен: вдруг Джимбо все еще там? Розмари и Эдвин… Боже! — Пози оглядывает Розмари в костюме школьницы-хулиганки и Эдвина в обличье пожилой дамы. — Ладно, живо одевайтесь оба, а потом спускайтесь в гостиную. Вся надежда на вас: займите Джимбо минут на пять, а я сменю простыни и наведу порядок. Фред и Нико, милые мои, вы мне тоже поможете — дело спешное. Соберите вещи Уильяма — одежду, книги, все, что найдете. Если точно не знаете, его вещь или нет, — все равно кладите в чемодан. Все ясно? Идем!
До Фреда доносится скрип двери внизу, шаги в коридоре и усталый, повелительный мужской голос:
— Эй! Кто еще не спит?
— Джимбо! — восклицает Пози. Стаскивает через голову матроску, запихивает ее в старинный дубовый сундук и сбегает вниз по ступенькам. — Милый, как я рада! Думала, тебя еще ждать до понедельника.
— Я отправил утром телеграмму из Анкары.
— Я ее не получила. Ничего страшного, милый. Ты был за рулем от самого Гатвика? Устал, наверное, до смерти? Пойдем в гостиную, я тебе налью чудного, крепкого виски. У нас сейчас гости, но они почти все легли спать. Только Розмари, по-моему, пока не ложилась, да еще Эдвин Фрэнсис. Сейчас скажу им, что ты приехал, только сначала хочу послушать про… — Голос ее звучит все тише и тише.
— Потрясающе, — еле слышно восхищается Эдвин, качая головой в женской твидовой шляпке. — Где вы еще увидите такую природную хватку, армейскую решительность, стратегический ум? Это у нее в роду, несомненно, — добавляет он. — Армейская кровь… Эх, бедняжка Пози! Такие гены завоевателей пропадают в наш жалкий век. Ей бы родиться сто лет назад…
— Эдвин, поторапливайся, не то Джимбо застанет тебя в таком виде, — шепчет Розмари и хихикает.
— …и конечно, мужчиной. Совсем другое дело было бы. Надеюсь, у Джимбо хватит ума взять ее в партнеры, когда детей наконец-то отправят в школу.
— Ну что ж, за дело, — обращается Фред к Нико, опуская на кровать потертый кожаный саквояж Уильяма. — Я ищу в шкафу, а вы в ящиках. — Фред открывает шкаф и начинает стаскивать одежду с вешалок. — Хорошо хоть вещей немного.
Но когда Фред, с охапкой одежды в руках, оборачивается, Нико все еще стоит посреди турецкого ковра. В белой рубашке с открытым широким воротом, в черных резиновых сапогах, подпоясанный красным шарфиком Пози с бахромой, он похож на игрушечного пирата; на лице его застыла недовольная гримаса.
— Ну же, давайте, — поторапливает его Фред.
— Нет! — шипит сквозь зубы Нико, словно разъяренный пират.
— То есть как это — нет?
— Я не прислуга. — Нико едва сдерживается, чтобы не сорваться на крик. — Не стану копаться в чужой грязной одежде.
— Ну что вы, ей-богу. — Фред убирает в саквояж на редкость элегантную пижаму из красно-коричневого шелка. — Прекращайте скулеж.
Нико не двигается с места, вид у него обиженный. Похоже, впервые в жизни услышав слово «скулеж», он решил, что это страшное ругательство.
— Простите, — говорит Фред. — Слушайте, а может, соберете хотя бы книги и бумаги?
— Ладно, — хмуро соглашается Нико.
— Ума не приложу, — продолжает Фред, чтобы разрядить обстановку, — к чему такая спешка? Понимаю, сэр Джеймс Биллингс только что из Турции, не нужна ему здесь поздней ночью толпа чужих людей. Но к Уильяму он, должно быть, привык — они ведь с Пози родственники.
Нико презрительно фыркает.
— Вы не правы, да еще и глупы, — цедит он, швыряя на кровать книги — «Ройял Чарльз» и «Измену».
Фред решил не обращать внимания на слово «глупы». Ясно же, что Нико мстит за «скулеж».
— То есть? Уильям и вправду ее родственник, Пози сама сказала, когда знакомила нас перед обедом, — продолжает Фред, опуская в саквояж кожаную сумочку с туалетными принадлежностями.
— Да уж, родственник. — В голосе Нико слышится презрение. — Все они тут родственники. А заодно и любовники.
— Не может быть. — Перед глазами Фреда предстала Пози, такая высокая, золотоволосая, царственная — тоже красавица, как и Розмари, только в другом роде. — Не верю. — Он представил себе нагую Пози, роскошную, пышную, как с картины поздневикторианской эпохи, в объятиях тощего, бесцветного пятидесятилетнего Уильяма. У того почему-то вместо мужского достоинства — старая бобровая кисточка для бритья, с белыми следами засохшего мыла, которую Фред только что уложил в саквояж.
— Это почему же не верите?
— Ну, во-первых, он для нее староват. Во-вторых, далеко не красавец. Пози-то — красивая женщина.
— Разве красоту можно измерить? — Нико швыряет вслед за книгами «Таймс». — Это дело вкуса. Лично я бы не стал спать с леди Пози, а вы бы, думаю, не стали спать с кузеном Уильямом.
— Не стал бы! — возмущается Фред и тут же вспоминает, что Нико, несмотря на свой мужественный вид (а быть может, и благодаря ему), скорее всего, спит с Эдвином Фрэнсисом.
— К тому же, как вы знаете, секс и страсть — не одно и то же. — Нико замолкает; в молчании его чувствуется что-то гадкое. — Кузен Уильям — не богач, не знаменитость, но он человек со связями. Благодаря ему Пози пробилась в журналы, на телевидение. Скоро у нее выйдет цикл из шести передач об английских садах, и ей хорошо заплатят. Он столько для нее делает.
А если бы кузен Уильям делал столько же для меня — можно прочесть в глазах у Нико, — я бы тоже не возражал с ним спать. Или того хуже: Розмари богата и знаменита, она столько для вас делает! Теперь Нико кажется Фреду всего лишь жалким проходимцем, который позорит весь дом.
— Может быть, но это еще не доказывает…
— А еще, как видите, ему отвели комнату рядом со спальней леди Пози — а это, между прочим, комната мужа. — С театральной торжественностью Нико приоткрывает обшитую панелями дубовую дверь, и в щелку становится видна спальня Пози в стиле Лоры Эшли — бело-голубая, вся в кружевах и узорах из веточек.
— Ну и что? — Фред успешно скрывает страх, что Нико может оказаться прав, но не свою явную неприязнь.
— Удобно, не правда ли, — ухмыляется Нико.
Фред, не отвечая на улыбку, принимается еще быстрее складывать одежду Уильяма. В основном она чистая, но теперь ему кажутся мерзкими и темные, тонкие, туго свернутые фильдекосовые носки, и скользкие накрахмаленные рубашки с бумажными ярлыками прачечной. Какая гадость! До чего противна и вся комната — и панельные стены, и обшитые гобеленом подушки на стульях, и диванчик, и кривые сводчатые окна, и дверь в смежную спальню. Хочется встать и уйти, но строгое воспитание не позволяет, и Фред продолжает работу.
— То есть вы хотите сказать, что Уильяму нужно побыстрее убраться отсюда, чтобы его не застал муж Пози и не догадался, что у них роман? — спрашивает Фред, желая разобраться до конца.
— Да чего ему догадываться. — Нико смотрит на Фреда свысока. — Он уже давным-давно знает, что они спят вместе.
— Кто вам сказал?
— Эдвин. Сказал, что они так условились между собой.
— То есть у них открытый брак? — Фред выдвигает один за другим нижние ящики шкафа, выложенные красной глянцевой бумагой с противным вычурным рисунком. В ящиках пусто.
— Называйте как хотите, — отвечает Нико. Развалившись на диванчике у окна, он уже и вида не делает, что помогает. — Эдвин говорит, они друг друга прекрасно понимают и пока кузен Уильям не попадается Биллингсу на глаза — ради бога, почему бы и нет? У Биллингса красавица жена, хорошенькие дочки, роскошный загородный дом…
— Да, но…
— Ну и разумеется, свобода. У него свои развлечения.
— То есть как? Что за развлечения?
— Откуда мне знать. — Нико пожимает плечами. — Эдвин говорит, дорогие и не особо приличные.
Фред невольно задумывается: интересно, что же это за развлечения, которые считает неприличными даже Эдвин — извращенец и любитель наряжаться в одежду хозяйки дома? Но его тут же отвлекают от этих мыслей.
— Ну, как тут у вас дела? — В дверях появляется Пози с охапкой желтых кружевных простыней. Она, как всегда, прекрасна и мила, но Фреду кажется рыхлой и развязной.
— Почти готово. — Фред засовывает в саквояж «Таймс» и берется за молнию.
Пози оглядывает комнату, задерживается глазами на Нико, лениво развалившемся на диванчике.
— Отлично, — говорит она Фреду. — А теперь, будь другом, отнеси, пожалуйста, саквояж к сараю для лодок.
— Хорошо.
— Дорогу я покажу. А когда вернешься, выпьем вместе по рюмочке, познакомим тебя с Джимбо. Только не засиживайся с ним допоздна, он ведь только что с дороги. Придумала: скажешь ему, что тебе нужно пораньше лечь, чтобы успеть пробежаться перед завтраком. Джимбо это понравится, он и сам любит бегать по утрам, и хорошо бы так устроить, чтобы вы завтра с утра вместе пробежались. Тогда уж он точно не побежит туда, куда не надо. — Снова улыбнувшись Фреду, Пози переключается на Нико. — А ты, Нико… — Пози окидывает его холодным взглядом, — немедленно отправляйся спать. О душе и не думай, а то Джимбо горячей воды не хватит. Ты после обеда целый час плескался. И к завтраку, будь другом, не выходи: Джимбо по утрам очень сердитый. Я пришлю тебе завтрак в спальню.
С минуту Нико сидит не двигаясь. Пока он выслушивал Пози, его красивое лицо помрачнело и исказилось, и сейчас на нем застыл гнев. Но, не в силах выдержать властного взгляда Пози, он не спеша поднимается и идет к выходу.
— Спасибо. — Пози опять сама любезность. — Ну что, Фредди, милый, пойдем.
Пози ведет Фреда по коридору, между двумя рядами предков — мясистых самодовольных физиономий в пышных завитых париках. Они смотрят из-под самого потолка, нависают над головами.
— Какой же он все-таки зануда, этот Нико, — говорит Пози. — Несет всякий вздор о политике, а я не желаю, чтобы он приставал к бедному Джимбо с этими глупостями, тем более за завтраком. Ты же знаешь, какие они вспыльчивые, эти южане. — Пози открывает дверь на заднюю лестницу, с улыбкой приглашая Фреда в общество северян, которые не отличаются вспыльчивостью и не несут глупостей. — Если завтра утром увидишь, что он пытается проскользнуть наверх, будь умницей, не пускай его, пожалуйста.
— Постараюсь, — неохотно соглашается Фред.
— Я знала, что на тебя можно положиться.
Пози останавливается у подножия лестницы, улыбается из-под золотой гривы. Волосы ее кажутся чересчур густыми, слишком безупречно завитыми, почти как парик; быть может, под всем этим великолепием у Пози Биллингс лысина или короткий ежик, совсем как у ее предков под пудреными париками.
— Сюда. — Пози распахивает дверь, впуская в дом холодный порыв ночного ветра. — И дальше по дорожке к пруду — мы туда ходили днем, помнишь?
— Кажется, да.
— Молодчина. — Эдвин верно подметил, что в повадках Пози есть что-то властное, почти армейское. — Вот фонарик, но он тебе вряд ли понадобится, еще светло. Сарай для лодок вон там — сразу за теми высокими соснами. Вот и дождик кончился, и небо прояснилось. Какой чудный вечер! Ну что ж, вперед!
Фред идет по дорожке прочь от дома. Ему вечер вовсе не кажется чудным. Гравий в круге света у него под ногами — мокрый и скользкий; если посветить фонариком вверх, то по обеим сторонам дорожки видны двухсотлетние фигурные деревья, темные и влажные. Причудливые кроны в виде голубей, павлинов, сов и урн кажутся уродливыми, почти зловещими. В небе застыла кривобокая изжелта-белая луна с тусклым маслянистым кольцом вокруг, будто плохо прожаренная яичница. Зато света достаточно, чтобы за соснами разглядеть сарай для лодок — каменный покосившийся домишко с низко нависшей крышей, у порога которого плещется темно-синяя, как чернила, вода.
— Кто? — Уильям осторожно приотворяет дверь. На нем все те же мешковатые спортивные трусы и клетчатые гольфы, в которых он изображал сорванца-школьника, а на плечах — жесткое мохнатое коричневое одеяло, тоже сослужившее службу в игре, в качестве коровьего крупа. Вид у Уильяма побитый и виноватый, точно у старого помешанного бродяги, которого поймали на задворках богатого поместья. — Вам чего?
— Я принес ваши вещи. — Фред решает для себя, что если когда-нибудь, боже сохрани, его угораздит связаться с замужней женщиной, ноги его не будет у нее в доме. Не потому, что неудобно или стыдно, а потому что противно.
— Ах да. Спасибо. — Уильям открывает дверь ровно настолько, чтобы протиснулся саквояж. Он не приглашает Фреда зайти, да Фред и не согласился бы.
— Ну, до свидания. — Фред поворачивает назад.
С берега пруда дом Пози кажется уродливо высоким — может быть, из-за того, что стоит он на вершине холма среди кустарников, да еще из-за света луны, похожей на яичницу-глазунью. Фред не спеша идет по дорожке мимо гигантских деревьев-птиц и деревьев-урн и вдруг понимает, что возвращаться в дом ему вовсе не хочется. Лучше дойти до ближайшей деревни и там попроситься на ночлег (например, в трактире?), а утром первым же поездом или автобусом уехать в Лондон.
Но так, понятное дело, нельзя — это глупо и невежливо, да и Розмари не бросишь. Нельзя же оставить ее здесь с парой кривляк-извращенцев и властной женой-изменщицей, у которой прическа как парик. Господи, а ведь еще час назад все здесь казалось таким прекрасным!
Снова Генри Джеймс, думает Фред. Фразы, сюжет — все как у Джеймса, только в романах великосветские скандалы и тайны изображены красивее, у людей больше достоинства. Может быть, потому, что описаны события столетней давности, а может быть, изящная проза Джеймса скрывает грубость происходящего. Может быть, и у Джеймса ничуть не лучше…
В конце концов, чем Розмари не классическая джеймсовская героиня — прекрасная, возвышенная, утонченная, безрассудная? Она считает Пози и Эдвина своими лучшими друзьями; благородство не позволяет ей увидеть их такими, какие они есть, она так беспечна, так доверчива. Ей нужны новые друзья, лучше прежних — лучше во всех смыслах, — друзья, которые оградят ее от безобразий вроде сегодняшнего…
Может быть, потому-то он и здесь. Надежный молодой защитник из-за океана. Такого, как он, мог бы придумать сам Джеймс. Второй раз за день Фред чувствует, будто попал в роман, — и вновь голова у него идет кругом от радости. Он громко смеется и бросается через темные кусты к дому.
5
Черт летел на север дальний,
А в зубах держал [мисс Майнер].
Как увидел, что за дура, —
Бросил в школу с верхотуры.
Английская дразнилка
Винни Майнер сидит на скамейке во дворе начальной школы в Кэмден-таун и смотрит на стайку девчонок, которые прыгают через скакалку. Ветреный апрельский день; грязно-белые облака проплывают по небу, словно мыльная пена, и на страницах записной книжки Винни играют тени. В этой и еще нескольких школах Винни уже насобирала толстую папку стихотворений, однако ее, как современного исследователя, интересуют не только сами стихи, но и кто, как, зачем и в какой обстановке их рассказывает. Сегодня Винни не услышала почти ничего нового, но все равно довольна. Она побеседовала с одним классом, собрала материал в нем и еще в двух других — в основном у десяти-одиннадцатилетних школьников. Они ее самые лучшие помощники: дети помладше знают не так много стихов, а ребята постарше начинают их забывать из-за вредного влияния массовой культуры и оттого, что взрослеют.
В целом рабочая гипотеза Винни о различиях между британским и американским детским фольклором подтвердилась. Британские тексты древнее, некоторые из них можно отнести к Средневековью или даже к англосаксонскому периоду; кроме того, они более литературны. Американская поэзия моложе, грубее, в ней меньше лирики.
Более глубокое изучение еще впереди, но уже сейчас видно, что в фольклоре обеих стран часто звучит тема насилия. Для Винни, как и для любого опытного исследователя, в этом нет ничего удивительного, поскольку она никогда не считала детей особенно добрыми или нежными.
Песенка продолжается, повторяются куплеты; вертится веревочка, и кажется, что в воздухе застыл прозрачный волшебный шар. Внутри шара прыгает девочка — длинные волосы треплет ветер, серая школьная юбка в складку высоко задралась, из-под нее торчат тоненькие ножки в серых шерстяных чулках. Лицо сосредоточенное, уверенное, радостное. Те же чувства написаны на лице у другой девочки, которая ждет своей очереди и уже подпрыгивает под топот башмачков по мокрому асфальту. Винни смотрит, и самое сильное чувство у нее — с ним не сравнятся ни профессиональный интерес, ни холод, когда солнце прячется за тучу, — это зависть.
Почему-то все считают, что Винни, как видный исследователь детской литературы, непременно должна любить детей, а то, что она бездетна, — для нее большое несчастье. Чтобы не портить ни с кем отношения, Винни не пытается никого переубедить. На самом же деле детей она вовсе не любит. В глубине души она считает, что почти все нынешние дети, особенно в Америке, не в меру напористы, жестоки, шумны, ничем не интересуются, что они пресыщенны и невежественны, потому что слишком много сидят у телевизора, общаются с няньками, смотрят рекламу и играют в электронные игры. Винни нужны не дети, а детство, мечта ее — не стать матерью, а вернуться в свои самые лучшие годы.
Не секрет, что многие ученые-коллеги Винни, да и некоторые детские писатели, на деле равнодушны к детям. Как она часто отмечала в своих лекциях, у многих из классиков детской литературы было безоблачное детство, которое окончилось внезапно, а то и трагически. Кэрролл, Макдональд, Киплинг, Бернетт, Несбит, Грэм, Толкиен — список можно продолжить. И зачастую итог — неизбывная тоска. Тоска не по детям, а по утраченному детству.
Винни в детстве тоже была безоблачно счастлива. Родилась она в хорошей, благополучной, любящей семье, первые одиннадцать лет прожила в небольшом городке, среди живописной природы. Винни не страдала ни от того, что некрасива, ни из-за маленького роста — все дети маленькие. Девочка она была живая, смышленая, сверстники ее любили. Из-за маленького роста ей нелегко давались подвижные игры, зато ее уважали за самостоятельность, а еще за цепкую память на стихи, загадки, истории и шутки. Ей нравилось все: и школьные занятия, и игры на площадке, и захватывающие странствия по лесам, полям, аллеям и заросшим травой пустырям, и музеи, и походы по магазинам, и пикники, и летние поездки в горы или к морю с родителями. Винни любила читать — по правде говоря, она до сих пор предпочитает детскую классику современной литературе для взрослых. Любила игрушки, песни, игры, дневные субботние сеансы в соседнем кинотеатре, радиопередачи (особенно «Сиротку Энни» и «Тень»). Любила череду праздников, от Нового года, когда она чокалась с родителями бокалом пенистого гоголь-моголя, до Рождества с его красивыми обычаями и сборищем дядюшек, тетушек, двоюродных братьев и сестер.
Когда Винни было двенадцать, ее родители неожиданно переехали в город. В новой школе Винни перевели на класс старше, и она внезапно потеряла все самое главное в жизни и превратилась в несчастного подростка — в низкорослую, прыщавую, плоскогрудую, невзрачную «зубрилку». Боль от этого превращения навсегда осталась в ее душе.
И все-таки Винни не пришлось расставаться с детством навечно. Это вовсе не обязательно — считает она про себя и нередко заявляет вслух. Главная мысль всех ее лекций, книг и статей (иногда она выражена напрямую, а еще чаще между строк) — что детство нужно хранить и беречь: «Мы должны лелеять ребенка, который живет в каждом из нас». Мысль эта, разумеется, не нова, но она лежит в основе профессии Винни.
Облака, похожие на грязное белье, сгустились над головой, школа — закопченное кирпичное здание викторианской эпохи, чем-то напоминающее замок, — осветилась предзакатными лучами. Прыгалка уже не рисует в воздухе волшебный шар, она повисает, снова превращаясь в обрывок бельевой веревки. Девочки собираются уходить, и Винни уточняет у них только что услышанные стишки, благодарит девочек, записывает, как их зовут и сколько им лет. Прячет записную книжку и идет следом за детьми по холодной, сумрачной игровой площадке, кутаясь в пальто и мечтая о чашке чая.
— Эй! Эй, миссис!
Девочка, окликнувшая Винни, стоит у закопченной, изрисованной кирпичной стены, в узком проходе, ведущем от школы на улицу. Она постарше, чем девочки с прыгалкой, — лет двенадцати-тринадцати на вид, — худая, одета бедно и в то же время вызывающе. Засаленный, когда-то розовый вязаный жакет, школьная юбка и красная с черным футболка с названием какой-то рок-группы. Лицо у нее бледное, короткие волосы выкрашены в противный розовато-лиловый цвет, как меховые игрушки, которые выигрывают (а еще чаще не могут выиграть) на праздничных базарах.
— Да? — отзывается Винни.
— Хотела вам кое-что сказать. — Девочка хватает Винни за рукав пальто. — Мне сестра говорила, вам нужны стишки. Те, что нельзя рассказывать учителям. — Девочка хитро улыбается, обнажая неровные, некрасивые зубы.
— Я собираю разные стихи, — вежливо улыбается Винни. — А в классе, где учится твоя сестра, я сказала, что мне нужны всякие, в том числе и не совсем приличные, которые они стесняются рассказывать.
— Во-во, я об этом. Я таких много знаю.
— Очень хорошо, — отвечает Винни, которой теперь придется забыть о чае. — С удовольствием послушаю. (Девочка молчит.) Расскажешь мне?
— Может быть. — Недетская хитрость искажает прыщавое личико. — Сколько дадите?
Первое желание Винни — тотчас прервать разговор. Еще никто из детей или взрослых не предлагал ей материал за деньги, и сама мысль об этом ей неприятна. Фольклор — бесплатное искусство, он никому не принадлежит. Как говорит один ее коллега-марксист, «это не часть капиталистической товарно-денежной системы», и в этом для Винни таится очарование фольклора. Но вдруг противная девчонка знает интересные, редкие стихи? За тридцать с лишним лет работы Винни поняла, что никогда нельзя отвергать материал или судить о его ценности по внешности того, кто предлагает. Да и видит бог, этой девочке лишние деньги не помешали бы.
— Не знаю. — Винни смеется, чувствуя себя неловко. — Пятьдесят пенсов устроит?
— Идет. — Девочка отвечает с готовностью, почти радостно. Видимо, ей предложили намного больше, чем она ожидала.
Винни достает записную книжку и ручку; тут же, поймав недоверчивый взгляд девочки, начинает рыться в кошельке. Когда Винни в первый раз приехала в Англию, в ходу еще была старая серебряная монета. Новая, восьмиугольная, кажется ей похожей на дешевую медаль: Британия, сидя со щитом на льве, съежилась, и вид у нее испуганный.
Куда бы присесть? Нехотя Винни опускается на грязноватую цементную плиту у здания школы — больше ничего подходящего нет.
Зажав в руке монету, девочка с сиреневыми волосами бросается вдоль прохода к опустевшей детской площадке, оттуда — в сторону улицы. Может быть, ей всего-то нужно было выманить деньги и убежать? — думает Винни. Но нет: осмотревшись вокруг, девочка тем же путем возвращается назад.
— Начнем? — говорит она.
— Минуточку. — Винни открывает записную книжку. — Как тебя зовут?
Девочка отступает на шаг:
— Это еще зачем?
— Для порядка, — успокаивает Винни. — Я никому не скажу.
Это не совсем так: во всех своих печатных работах Винни называет по именам и благодарит тех, кто ей помогал, и за эти годы многие из детей, которым попадались в руки книги или статьи Винни, благодарили ее в ответ в письмах.
— М-мэри… Мэлони.
Ясно, что это не настоящее имя девочки, но Винни все равно записывает.
— Ну, начинай.
«Мэри Мэлони» наклоняется поближе к Винни и хрипло шепчет:
Не стоит даже делать вид, что стишок нравится. Но Винни прежде его не слышала, поэтому записывает, а потом, как всегда, читает вслух для проверки.
— Ага, правильно.
— Спасибо. А еще?
Мэри Мэлони молчит, прислонившись к закопченной кирпичной стене. Подол юбки у нее порван, розовые носки спущены, красные дерматиновые туфли на толстой подошве все в царапинах, худые незагорелые ноги покрыты гусиной кожей.
— Хотите еще — платите, — гнусавит она.
Винни не находит слов, до того грязной кажется ей сделка.
— Вы-то получите больше, когда все это продадите.
— Я стихи не продаю. — Винни старается, чтобы голос ее звучал дружелюбно, без отвращения и укоризны.
— Так уж и не продаете! Что ж вы тогда с ними делаете?
— Собираю для… — Да разве можно говорить о деле всей жизни с подобным существом? — Для университета, где я работаю.
— Правда, что ли? — Девочка смотрит на Винни, как смотрят на лгунов, которых не хотят изобличать. Судя по всему, она решила, что Винни собирает похабные стишки для какой-то сильно сомнительной цели. Кроме того, очень похоже, что за хорошие деньги она продаст кому угодно что угодно, скажет или сделает любую гадость. — Ладно. — Девочка разочарованно вздыхает. — Десять пенсов.
Раз уж дело зашло так далеко, надо идти до конца. Винни снова открывает кошелек, достает еще одну мелкую монетку. Мэри Мэлони наклоняется ближе, так близко, что видны темные, усеянные перхотью корни ее волос и чувствуется несвежий запах изо рта.
Винни, начав было писать, останавливается. Этот стишок нравится ей еще меньше, чем первый: мало того что пошлятина, так он еще и противоречит главной мысли ее работы. Еще пара таких стишков — и вся ее теория о различиях между британским и американским игровым фольклором «вылетит в трубу», как говорят здесь, в Англии.
— Достаточно. — Не дописав стишок до конца, Винни закрывает записную книжку и поднимается на ноги. — Спасибо за помощь. — Она вымученно улыбается.
Холодный ветер гуляет по темной площадке и дует вдоль проулка, неся с собой бумажные обрывки.
— Эй, погодите, это не все! — Мэри Мэлони шаркает ногами следом за Винни.
— Мне хватит, спасибо.
Винни идет по Принсес-роуд, но девочка не отстает, хватает ее за пальто:
— Эй, подождите! Я знаю много стишков! Совсем-совсем похабных! — Мэри Мэлони следует за ней по пятам; толстая подошва делает ее выше Винни — предусмотрительная мисс Майнер всегда ходит собирать стихи в туфлях без каблуков.
— Отстань от меня, пожалуйста! — кричит Винни. В голосе ее слышится отвращение и, что греха таить, страх. Улица почти пуста, над головой нависли низкие, хмурые тучи.
— У Мэри был барашек…
Страх услышать следующие строки придает Винни сил. Тяжело дыша, не оглядываясь, она спешит прочь, стараясь не переходить на бег.
В теплой уютной квартире Винни мало-помалу приходит в себя. Рядом с ней на столе — чайник горячего чая «Твайнингз», сорт «Королева Мария», и ваза с белыми гиацинтами. Теперь уже Винни жалеет Мэри Мэлони за нищее, изломанное детство, за то, что та раньше времени прикоснулась к массовой культуре, ко всему, что есть в ней пошлого и искусственного.
Пожалуй, думает Винни, намазывая маслом вторую половинку булочки с корицей, не стоит включать эти два стишка в исследование. Ведь это уже не «строки детства» (так будет называться ее книга), а скорее стихи рано созревших, испорченных подростков. К тому же нельзя точно сказать, сколько Мэри Мэлони лет, она может быть гораздо старше, чем кажется. Как многие обитатели трущоб, она маленького роста, а на деле ей, должно быть, лет четырнадцать, а то и пятнадцать, никакой она и не ребенок вовсе.
В то же время Винни не может отделаться от неприятного чувства. Перед глазами у нее стоит Мэри Мэлони: белые худые ноги в гусиной коже, хмурое чумазое личико, неровные зубы, спутанные крашеные волосы, нищета в облике и жадность во взоре.
И все же, думает Винни, девочка отчасти права. Когда работа выйдет в свет, за каждый стишок в записной книжке дадут намного больше десяти пенсов. Тем более если Джанет Эллиот в Лондоне и Мэрилин Кринни в Нью-Йорке согласятся выпустить избранные стихи отдельной книгой для детей — переговоры уже идут. Что же скажет на это ее друг-марксист? Зависит от настроения, которое у него очень часто меняется. Или что-нибудь вроде: «Понимаю, жить-то на что-то надо». Или даже: «Стерва-капиталистка».
Правда, если Винни не воспользуется стихами Мэри Мэлони, значит, не будет ее эксплуатировать. С другой стороны, Винни эксплуатирует десятки — нет, сотни школьников, которые вот уже тридцать лет бесплатно рассказывают ей стишки, истории, загадки и анекдоты. Глупость. Думать так — значит осуждать всех фольклористов, начиная с братьев Гримм.
Нужно выкинуть из головы эти стишки, размышляет Винни. Как и большую часть фольклора для взрослых. Исследователь, ясное дело, не должен быть ханжой, и сама Винни за долгие годы записала немало непристойных стишков, даже глазом не моргнув. Дети любят «туалетный» юмор:
Винни даже приводила этот стишок на лекциях (разумеется, не показывая жестами на соответствующие части тела) как пример народной метафоры, доказывающий, что маленький ребенок получает одинаковое удовольствие и от еды, и от отправления естественных надобностей.
Но все же от некоторых шуток, что рассказывают взрослые и собирают другие исследователи, Винни просто «с души воротит», как сказали бы ее студенты. Мало того что шутки эти непристойны — они заостряют внимание на той стороне отношений между мужчиной и женщиной, о которой Винни старается поменьше думать. На какие бы высоты наслаждения ни уносил ее секс — а иногда она совершенно теряет голову, — Винни каждый раз возвращается на грешную землю с неприятным осадком на душе. Разум ее считает физическую сторону любви в лучшем случае нелепой, а то и отвратительной. Безусловно, это не самое удачное изобретение природы. Женские органы, на ее взгляд, слишком влажные и слишком запутанные, а мужской и вовсе дурацкий, похожий на розовую поганку. Единственная дочь скромных, даже не в меру стыдливых родителей, Винни только в шесть лет увидела голого мужчину — грудного братишку подруги. Винни была девочка воспитанная и не стала спрашивать, что это за большая мясистая бородавка на животе у бедного малыша. Потом, рассматривая скульптуры в музеях и репродукции в книгах у родителей, Винни поняла, что это уродство есть не только у крошки Бобби, но и у других мужчин, — хотя на картинах и у статуй оно обычно прикрыто листом (полностью или частично). Бывают, правда, мужчины и без этого недостатка (как узнала Винни, когда побывала в Рокфеллер-центре, а в журнале «Лайф» увидела фотографию «Оскара»), Когда Винни узнала правду, ей стало жалко всех мужчин. А через десять лет она впервые увидела возбужденный член, и, несмотря на все ее знания, с первого взгляда он показался ей нездоровым: красный, опухший, воспаленный. Сколько ни боролась Винни с подобными мыслями, они посещают ее и поныне. Она до сих пор не привыкла к наготе секса.
Однако некоторое время спустя Винни все-таки поняла, что секс, при всем своем дурацком, даже отвратительном виде, — занятие очень приятное. Ничего удивительного, с едой ведь точно так же. В устрице или тарелке спагетти на вид тоже нет ничего красивого. Выход прост: заниматься любовью в темноте или с закрытыми глазами. Жаль, не всегда получается. В аспирантуре Винни однажды порвала с очень привлекательным молодым человеком только потому, что напротив его кровати висело огромное, во всю стену, зеркало в золотой раме — из соседнего дома, который снесли. Винни почти все время держала глаза закрытыми, но иногда нет-нет да и приоткрывала их, и при виде собственных худых белых ног на плечах у загорелого, волосатого Пола Кэтлмана ей делалось невыносимо стыдно, а от ее удовольствия не оставалось и следа.
В детстве Винни часто слышала от священника в церкви, куда ходили ее родители, что любовь (разумеется, освященная браком) — благословение Божие. Сама Винни слегка суеверна, однако в Бога не верит, поэтому ни на кого не сваливает вину за акт размножения человека. Но если все же вообразить Бога, который его изобрел, то такой Бог вряд ли будет внушать благоговейный трепет. Винни представляет одного из тех голых толстопузых идолов, которые продаются иногда в лавках восточных редкостей и земным воплощениям которых поклоняются самые неуравновешенные из ее студентов. Именно таких пухленьких божков, с бедной фантазией и грубым чувством юмора, напоминают иногда маленькие дети.
До отъезда из Америки предстоящие полгода воздержания страшили Винни, она с тревогой ждала неудобств, которые внесет оно в ее жизнь, и боялась, что слишком часто придется взывать к воображаемым любовникам. Однако оказалось, что желание уже не мучает ее так часто, как прежде, — должно быть, возраст уже не тот.
Все чаще Винни мечтает о научном признании, а не о любви. Когда она дремлет над книгой или засыпает на взбитых подушках, ей видятся уже не мужские органы, а органы общественные. Их «ухаживания» она принимает все так же тепло и благосклонно, только уже не лежа, а стоя, и вместо любимой черной ночной рубашки на ней черная мантия и цветная шелковая шапочка — как и подобает исследователю, которого удостаивают наград и почетных званий. Винни, как ни печально, женщина своего поколения: при свете дня она стыдится подобных фантазий. Ее студентки-феминистки стеснялись бы их гораздо меньше, чем любовных, даже сочли бы достойными восхищения. Но Винни с детства внушили, что мужчина трудится ради богатства и славы, а женщина ради любви — если не к мужу и детям, то хотя бы к своему делу.
Все-таки зря Винни боялась — она почти не скучает по сексу. Чего ей не хватает, так это нежности и романтической стороны любви, как она ее понимает: неспешных прогулок по лесу, любовных записок, быстрых ласк украдкой на многолюдных вечеринках, взглядов через весь зал в факультетском клубе, всей сложной, тайной жизни, которую делишь с другим человеком. Но ей не привыкать: почти всю жизнь Винни была этого лишена.
А здесь, в Лондоне, Винни думает об этом еще реже — ведь вокруг столько всего интересного! Скажем, сегодня вечером она идет в Английскую национальную оперу с подругой, чудесным человеком и одной из лучших в Англии детских писательниц.
Вечером, в Колизее, на спектакле «Так поступают все», Винни в антракте спускается с балкона и идет на поиски кофе для себя и своей подруги Джейн, которая растянула ногу. Винни надеется, что в буфете на первом этаже будет поменьше народу, но там еще хуже, чем всегда, — целая толпа дюжих парней, все толкаются, и хоть бы один уступил ей дорогу. Винни и раньше замечала, что англичане, в отличие от американцев, всегда спокойно стоят в очередях, но в очереди за спиртным тут же начинают толкаться. Какое-то всенародное сумасшествие — по-видимому, из-за строгих законов о торговле спиртным.
Винни оставляет всякую надежду на кофе и на обратном пути видит на скамейке Розмари Рэдли и Фреда Тернера. То, что они здесь вместе, вовсе неудивительно. Все знают, что они встречаются, даже в «Прайвит Ай» писали о том, что Розмари «развлекается с молодым красавцем преподавателем из Америки». Более того, Розмари отказалась, не иначе как из-за Фреда, от роли в фильме, который снимают сейчас в Италии. Роль была небольшая, но деньги за нее обещали хорошие; да и о добром имени Розмари надо бы побеспокоиться, не девочка уж.
Но влюбленной парочке до сплетен, похоже, дела нет. Они всюду ходят вместе и смотрятся, надо признать, неплохо. Розмари бесспорная красавица, а про Фреда многие друзья Винни говорили, что в профиль он похож на Руперта Брука, — очень лестно, если кому-то нравится такая броская внешность. Разница в возрасте не бросается в глаза, поскольку Фред серьезен для своих лет, а Розмари нежна и игрива. И похоже, они благотворно влияют друг на друга: Фред явно приободрился, а Розмари стала спокойнее. Она по-прежнему перескакивает с темы на тему, но уже не так резко.
Но самое удивительное для Винни даже не то, как Фред смотрит на Розмари (на нее точно так же смотрят все подряд, в том числе и недоброжелатели), а то, сколько внимания Розмари уделяет Фреду.
Как многие актеры, Розмари больше показывает себя, другие ее мало интересуют. К тому же она не может сосредоточиться на чем-то одном больше нескольких секунд, — возможно, именно поэтому она никогда не имела большого успеха на сцене. А телефильмы снимают маленькими кусочками, здесь нужна не тщательно проработанная игра, а всего лишь краткие всплески чувств. Розмари они, безусловно, удаются и на экране, и в жизни (можно сказать, ими она и знаменита).
Обычно Розмари мило порхает от темы к теме, от чувства к чувству, от собеседника к собеседнику, да так стремительно, что теряется не только нить беседы, но затуманивается сам облик Розмари — остается лишь блеск и трепет. То же самое впечатление от ее нарядов. Розмари никогда не следует моде, у нее свой стиль. Все ее наряды мерцают, волнуются, трепещут; она словно и не одета, а окутана чем-то тонким, кружевным, цветастым — вуалями, шарфиками, струящимися прозрачными блузками, длинными юбками, шелковыми шалями с бахромой. Волосы ее тоже как будто все время в движении. Подкрашенные, с разноцветными прядками — от бледно-золотистых до рыжевато-каштановых, — они то завиты мягкими локонами и зачесаны наверх, то ложатся на плечи шелковистым облаком, то рассыпаются во все стороны непослушными завитками.
Однако сегодня Розмари кажется безмятежной как никогда. Волосы падают на лоб мягкой светлой волной, поблескивают серебристо-голубые бусы, струится длинное шифоновое платье с нежными лазурными цветами; глаза следят за Фредом не отрываясь. Ни Розмари, ни Фред сначала не замечают Винни, и заговорить с ними ей удается лишь со второй попытки.
— A-а… Винни, добрый вечер. — Фред вежливо встает, но имя ее произносит с запинкой (она совсем недавно попросила называть ее просто Винни). — Рад вас видеть. Поддержите меня, пожалуйста. Розмари упрямится. Убедите ее, что я прав.
— Не глупи, милый. Винни согласится со мной. Ну же, садись. — Розмари проводит рукой по сиденью, обитому материей, — шуршит платье, звенят посеребренные браслеты.
Оказывается, спор о том, стоит ли Розмари нанимать домработницу, и, еще не услышав доводов Фреда, Винни принимает его сторону. Как известно, у Розмари в Челси царит поэтический беспорядок, дом полон вещей, которые нужно починить, вымыть, вычистить, вытереть, а то и просто выбросить. Но Розмари нравится, как она ведет хозяйство. Пусть все идет своим чередом, считает она, а когда не остается сил терпеть грязь — звонит в бюро «Помощь хозяйке», чтобы прислали прислугу на день.
— Терпеть не могу наводить порядок, — объясняет она Винни. — Всякий раз, когда делаю уборку, вспоминаю тетушек моей матери, двух старых дев. Еще в войну, совсем маленькой, я жила у них в Бате. Ну и злобные старушенции были! Злобные и настырные. Всю прислугу разогнали в конце концов, осталась одна миссис Макгаун, настоящий солдат в юбке, но они все равно считали, что дом — огромный, страшный, не дом, а сарай — нужно держать в порядке. Только и знали, что мыли, убирали, стирали пальцы в кровь. — Розмари заламывает руки; пальцы у нее тонкие, все в кольцах. — Тетки страшно злились на меня за то, что я такая неряха. «Ты ни с кем не считаешься», — твердила тетя Изабель. — Розмари говорит чужим голосом — тоненьким, гнусавым. — «По-твоему, миссис Макгаун обязана за тобой убирать? У нее других забот хватает. Если ты не исправишься, то когда вырастешь, ни одна порядочная прислуга не захочет у тебя работать». Я сразу и придумала, как мне быть. Сказала, чтоб вообще не убирали в моей комнате. Будто бы мне и так нравится. Ой, до чего они возмутились! Тетя Этти сказала, — другой голос — низкий, усталый: — «Ни один мужчина не станет жить в таком доме, как у тебя». Ха! Попала пальцем в небо!
Розмари хихикает, будто дразнит.
— И вообще, — продолжает она, — прислуга обожает откровенничать. Все эти домработницы так и норовят посвятить тебя в свою жалкую жизнь. Вы, американцы, — Розмари строит гримаску Винни и Фреду, — не представляете, как трудно в этой стране нанять прислугу. Думаете, если я позвоню в агентство, то мне пришлют милую старушку домработницу, как в кино?
— Нет… — начинает Винни. Сама она никогда не пыталась найти в Лондоне домработницу — ей это не по карману.
— Мне пришлют какую-нибудь несчастную эмигрантку, которая ни слова не понимает по-английски, а электричества боится как огня. Или жуткую неряху, которую не берут на приличную работу — на фабрику там или в магазин — из-за тупости и скверного характера. Дважды в неделю мне придется выслушивать рассказы про ее больную спину, запоры, мужа-забулдыгу, детей-шалопаев и про дрязги с городским советом из-за квартиры. — Розмари переходит на простонародный говор, каким его обычно изображают на сцене: — «У собачки-то нашей глисты, а у кошки-то блохи, а попугайчик болеет, ах бедняжечка, перышки-то все повылезли, ужасти какие, а к кормушке и вовсе не подходит!»
Фред награждает Розмари лучезарной улыбкой за игру, но критикует сценарий.
— Бывает и по-другому, правда? — обращается он за поддержкой к Винни. — Можно подыскать хорошую домработницу, если обратиться в подходящее агентство. Кстати, Пози Биллингс посоветовала мне одно, когда мы у нее гостили в прошлые выходные. Ну а если прислуга попадется болтливая — можно просто-напросто уйти из дома, чего не сделаешь с прислугой из агентства. Оттуда ведь каждый раз присылают кого-нибудь нового, так ведь?
— М-да, — соглашается Винни, а про себя думает, что Фред Тернер всего лишь после двух недель знакомства удостоился такой чести, которая ей и не снилась, — приглашения в Оксфордшир, в гости к Пози Биллингс.
— Видите ли, ребята из агентства почти сплошь безработные актеры, танцоры, певцы, — объясняет Фред. — В уборке они ничего не смыслят. Когда я прихожу, они или стоят с тряпкой в руках, будто с реквизитом, или водят пылесосом по одному и тому же месту, болтают о театре и уговаривают Розмари дать им роль в «Замке Таллихо».
— Необязательно, — возражает Розмари, посмеиваясь.
— А если уйти из дома, — продолжает Фред, — и оставить их одних хоть на минуту, то эти ребята все дочиста уберут: и виски, и паштет, и пластинки с операми, и даже одежду. Пачкают окна моющими средствами, портят паркет горячей водой с мылом, рвут шелковые шарфики на тряпки.
Когда Фред повествует об этих злоключениях, Винни удивляет не то, что он так хорошо разбирается в домашнем хозяйстве, а его столь близкое знакомство с домашней жизнью Розмари. Судя по всему, они пока вместе не живут, думает Винни, но, может быть, Фред не прочь к ней перебраться, особенно если у нее станет поуютней? Видно, недаром тетушка говорила Розмари, что в такой грязи, как у нее, ни один мужчина жить не станет. По словам Розмари, та ошибалась: в ее доме жили многие мужчины. С другой стороны, ни один там надолго не задержался.
Не успела Винни вставить свое слово, как прозвенел звонок на второй акт. Ну и хорошо, думает Винни, пробираясь по ступенькам на балкон среди зрителей повыше ростом и потолще. Не дело чужаку вмешиваться в подобные споры влюбленных. Для Розмари это вовсе и не спор, а всего лишь повод пококетничать и показать свой актерский талант. Иногда она даже переходила на сторону противника, поддерживая Фреда рассказами о том, как однажды пришла домой, а в ванне у нее, в розовой пене, плещется паренек из агентства. «Думаете, красавчик? Ничего подобного! Маленький, толстый, весь в мыле, рассыпался в извинениях, а после оказалось, что он истратил всю мою пену для ванн».
Но Фред, при всей его внешней мягкости, твердо стоит на своем — ведет, так сказать, басовую партию. Он ярый сторонник порядка, в чем Винни успела убедиться на собраниях Библиотечного комитета в Коринфе. Пыль и кавардак в доме Розмари — далеко не лучшая декорация для их любовного дуэта. Да и Фреду вряд ли по душе, когда молодые актеры (пусть даже маленькие и толстые) мило беседуют с Розмари или плещутся у нее в ванне.
Скорее всего, думает Винни, в этом споре победит Розмари. Она привыкла всегда поступать по-своему, к тому же это ее дом и, что ни говори, ее страна. Однако и Фред, похоже, не сдастся без боя. Прошлой осенью на собрании Библиотечного комитета он хоть и был неизменно вежлив, но упорно добивался своего, желая продолжить собрание после пяти вечера, чтобы доказать свою правоту. Винни тогда подумала: не оттого ли это, что он не хочет возвращаться в пустую квартиру? А может быть, всему виной природное упрямство и именно из-за него Фред остался один?
Тем же вечером Винни лежит в постели, погружается в сладкую дремоту, в голове вертятся обрывки мелодий Моцарта — и вдруг раздается звонок в дверь. Вздрогнув, Винни отрывает голову от подушки. Должно быть, трезвонит один из обитателей местных меблированных комнат, кто-нибудь из тех забулдыг с мясистыми лицами, в засаленной одежде, что в хорошую погоду бездельничают на скамейках у железнодорожного туннеля, передавая из рук в руки бутылку в смятом бумажном пакете, или шатаются по улицам возле станции метро «Кэмден-таун», бормочут что-то себе под нос и пристают к прохожим. Потом Винни приходит в голову другая, еще более нелепая мысль. Вдруг та девчонка с игровой площадки узнала, где она живет, и теперь ждет на ступеньках, а стоит открыть парадную дверь — тут же примется тараторить свои похабные стишки?
Еще один звонок, более настойчивый. Винни осторожно вылезает из-под пухового одеяла и шлепает по коридору босиком, во фланелевой ночной рубашке и халате. Свет с лестничной площадки льется сквозь окошко над дверью на холодные черно-белые плитки, и дрожь пробегает по телу Винни. Незваные гости в ее воображении множатся; ей чудится на пороге толпа пьяных бродяг и девочек с сиреневыми волосами, распевающих непристойные куплеты.
Третий звонок — долгий, какой-то жалобный. Нельзя до бесконечности прятаться за двумя запертыми дверьми, это трусость, думает Винни. Лондон — это не Нью-Йорк, где никто тебя не знает и никому до тебя нет дела. Я знаю всех соседей в доме; если я закричу, они сбегутся посмотреть, что стряслось, — как в прошлом месяце, когда нянечка наверху обварилась кипятком. Завернувшись в халат, Винни открывает внутреннюю дверь.
— Что вам? — кричит она. — Кто там?
— Профессор Майнер? — Из-за тяжелой дубовой двери доносится приглушенный мужской голос с американским акцентом.
— Да. — В голосе Винни уже не страх, а любопытство.
— Это Чак. Чак Мампсон, с самолета. Зашел вам кое-что сказать.
— Минуточку.
Скоро двенадцать, в такой поздний час порядочные люди в гости не ходят, а с Чаком Мампсоном она едва знакома. Они не виделись с тех пор, как пили чай у Фортнама и Мэйсона, хотя однажды он звонил, чтобы рассказать, как идут поиски. По совету Винни он нашел деревушку в Уилтшире, под названием Саут-Ли («Пишется по-другому, как вы говорили»), и собрался туда. Если отослать его прочь, можно будет снова лечь и хорошенько выспаться, чтобы завтра к девяти утра ехать в начальную школу на юге Лондона. С другой стороны, если он сейчас уйдет, то, может быть, больше не вернется — и как тогда узнать о его предке — местной легенде?
— Минуточку, сейчас открою, — кричит Винни.
— Жду, — отвечает ей Чак.
Вернувшись в спальню, Винни надевает то же платье, в котором ходила в оперу, проводит щеткой по волосам и недовольно, удрученно смотрит в зеркало. Краситься ни к чему — ни лицо ее, ни гость того не стоят.
При взгляде на Чака Винни охватывает тревога: он кажется усталым, больным, неухоженным. Его обветренное загорелое лицо стало землистым; редкие, рыжеватые с проседью волосы растрепаны, ужасный полиэтиленовый плащ измят и запачкан. Когда Винни закрывает за Чаком дверь, он идет спотыкаясь и пошатываясь, потом становится у зеркала в коридоре и тупо глядит в него.
— С вами все в порядке? — спрашивает Винни.
— Не совсем.
Винни невольно отступает.
— Да вы не бойтесь. Я не пьяный, что вы. Где бы присесть?
— Проходите, садитесь, пожалуйста. — Винни включает лампу в гостиной.
— Долго шел пешком. — Чак плюхается на диван, тот скрипит под его тяжестью. Чак не может отдышаться. — Увидел у вас свет и подумал, вы еще не спите.
— Хм. — Винни не торопится объяснять, что у нее в кабинете, который выходит окнами на улицу, по ночам всегда горит настольная лампа, чтобы грабители не совались. — Может быть, чашечку кофе? Или чего-нибудь выпить?
— Все равно. Лучше выпить, если есть.
— Кажется, есть немного виски. — На кухне Винни наливает в бокал слабенький скотч, для себя ставит чайник и гадает, что за несчастье обрушилось на Чака Мампсона.
В гостиной Винни находит Чака в той же позе, устремившим неподвижный взгляд перед собой. В этой комнате он явно не к месту, а диван ему мал.
— Не хотите снять плащ?
— Что? — Чак смотрит на Винни и хлопает глазами. — Ах да. — На губах его слабая улыбка. — Забыл.
Чак с трудом поднимается на ноги, сбрасывает грязный плащ и опять валится на диван. Без плаща вид у него ничуть не лучше. Пиджак западного покроя застегнут не на ту пуговицу и весь перекошен. Вслух Винни ничего не говорит. В конце концов, костюм Чака Мампсона — не ее забота.
— Вот, пожалуйста.
Чак берет бокал и сидит как каменный, держа его в руке.
— Что с вами? — спрашивает Винни с тревогой и нетерпением. — Что-то… с семьей?
— Нет, с ними все в порядке. Наверное. Новостей давно от них не было. — Чак смотрит на бокал с виски, подносит его ко рту, пьет, опускает — будто в замедленной съемке.
— Нашли предков в Уилтшире?
— Да.
— Ну что ж, рада за вас. — Винни подливает в чай побольше молока, чтобы не было изжоги. — А нашли того мудреца, отшельника?
— Да, нашел.
— Вам повезло, — замечает Винни. Ей не терпится узнать, что же дальше. — Многие американцы приезжают сюда искать корни, но большинство так и возвращаются ни с чем.
— Чушь все это собачья. — Впервые за вечер Чак говорит в полный голос, а то и громче.
— Что? — Винни вздрагивает от неожиданности, ее фарфоровая чашка подпрыгивает на блюдце.
— Чушь все это, извините, собачья. Граф, замок… Дед мне сказки рассказывал, только и всего. Или его самого одурачили.
— Вот как? — притворно удивляется Винни. На деле же в том, что Чак Мампсон — не потомок английской знати, ничего удивительного нет. С другой стороны, для ее исследования неважно, был ли его предок-отшельник графом. — Ну, рассказывайте.
— Угу. Так вот. Взял я напрокат машину в том гараже, что вы посоветовали, и поехал в деревню, в эту самую Саут-Ли. Деревушка крохотная, два-три дома да церковь. Остановился я в гостинице, в городке поблизости. Пошел в библиотеку, попросил, как вы сказали, метрические книги Саут-Ли и списки налогоплательщиков. Мампсонов там не счесть, но все самые обычные. Почти сплошь фермеры, и ни одного Чарльза. Черт знает сколько я там проваландался! Ничего не хотели выдавать по всяким дурацким причинам — скажем, из-за того, что сегодня четверг. Середина недели, а у них все закрыто. И магазины тоже. Недаром мы Англию так обскакали, верно?
— Хм. — Винни сейчас вовсе не хочется затевать спор о том, кто кого обошел — Англия или Америка.
— Ну, наконец открылось Историческое общество. Говорил я с секретаршей, а она и сказала, что место, похоже, то самое. У нее в книге написано, что жил здесь отшельник, в конце восемнадцатого века, в нынешнем имении одной пары, она с ними встречалась как-то раз. Дженкинсы их зовут, полковник с женой. Вот она им и позвонила, а те пригласили меня к себе. Можно я закурю?
— Да, пожалуйста. — Винни вздыхает. Обычно она никому не разрешает курить у себя дома, на занятиях или в кабинете, а на вечеринках отправляет гостей-курильщиков на улицу или в другую комнату.
— Все пытаюсь бросить. — Чак достает пачку. — Врач говорит, нельзя мне. Но я без сигарет места себе не нахожу. Не сплю, думать ни о чем не могу. — Чак невесело смеется, чиркает спичкой, затягивается.
— Нехорошо, — отвечает Винни. В душе (а иногда и вслух) она гордится, что никогда в жизни не курила.
— Уф-ф-ф. — Изо рта у Чака валит грязно-серый, едкий, вонючий дым. — Ага. Но жить-то как-то надо.
Винни едва сдерживается, чтобы не сказать, что, как известно, самая мучительная смерть — от рака легких и от эмфиземы.
— В общем, до встречи с полковником Дженкинсом мне почти целый день было некуда деваться. Торчал я в Историческом обществе, читал про местное дворянство, и завязался у меня разговор с одним археологом. Он ведет раскопки за городом — там когда-то, в старые времена, была деревня. Настоящее древнее селение, средневековое. Для него двести лет назад — то же, что вчера. Он кое-что отыскал, но самое лучшее место для раскопок залило водой. Никто из их группы не мог понять, откуда вода и что с ней делать. Ну, это как раз по моей части — во всяком случае, раньше было.
В голосе Чака звучат жалобные, горестные нотки. Винни узнает в них тот печальный свист, которым она когда-то подзывала Фидо. Может быть, оттого, что она еще не до конца проснулась, ей кажется, что Фидо тоже прислушивается, лежа под диваном, где он зимовал последние два месяца, — вот он просыпается, хлопает большими, скорбными карими глазами.
— Я и говорю, — продолжает Чак, — взгляну-ка, что у вас стряслось. Оказалось, они неправильно подключили насос, поэтому почти вся вода, что они выкачивали, текла назад. Ну и вот, археолог, профессор Джилсон, собрал своих ребят, и мы переставили трубы, и вода начала уходить. Я доволен был — слов нет. Взял фотоаппарат, нащелкал кучу фотографий. И самих ребят снимал, и кое-что из их находок. Потом пошли это дело отметить, выпили пива, пообедали в кабачке поблизости. Еда там куда лучше, чем в моей лондонской гостинице, да и по цене не сравнить, куда как дешевле. Я всем рассказал про то, что я делаю здесь, в Уилтшире, про то, что ищу предка-графа. Ну и болван же я был! Знал бы я, что меня ждет. Вот что значит невезуха!
— Хм, — снова отзывается Винни. Теперь зов ни с чем не спутаешь: Фидо вылезает из-под дивана и пристраивается у ног Чака.
— А я-то, дуралей, пошел назад в гостиницу и вырядился этаким франтом. Весь же в грязи вывозился на раскопках, а хотелось быть похожим на родственника лорда. Когда увидел дом Дженкинса — сперва расстроился. Он и на замок-то не был похож. Ни башен, ни рва с водой — ну ничегошеньки. Самый что ни есть обыкновенный каменный дом, разве что большой и старинный. Ему лет двести с лишком. Фронтон, конечно, колонны, на лужайке всякие статуи римских императоров, все во мху. А трава — точь-в-точь как искусственный газон с цветочками. Я и подумал, что ничего местечко, сойдет. Размечтался! Знал, что Дженкинсы здесь живут всего тридцать лет, вот и решил, что купили дом у моих предков. А те, должно быть, переехали туда, где побогаче, или вовсе вымерли. Обидно, конечно, — значит, никогда мне с ними не увидеться. Но ведь может и оказаться, что я потерянный наследник, правда? То есть могло бы оказаться, да?
— Могло бы, — машинально соглашается Винни. Она засмотрелась на Фидо — тот виляет грязно-белым хвостом и ласково глядит на Чака снизу вверх.
— Ага! Не тут-то было. Дженкинсы все знали. Повели меня в лес за домом, посмотреть жилище отшельника. Называется «грот». Это что-то вроде пещеры в скалах, у ручья, стены цементные, с галькой и раковинами. Этакая, одним словом, комнатка из камня. Дверь полукруглая, одно окошко, стены все мокрые. Всюду мох, сухие листья, паутина, а мебель старая, из неструганых бревен — знаете, как в заповеднике.
— Гм.
— Сейчас там, ясное дело, никто не живет, но раньше будто бы и вправду жил отшельник. Только никакой не лорд, а обычный старик, который в гроте сидел за деньги. Полковник Дженкинс говорит, в старые времена богачи таких нанимали. Ну, вроде как сейчас у нас в Талсе бизнесмен, у которого ранчо на десять акров, заводит пару лошадей, да еще коров, только не ради денег, просто для красоты, что ли. Вот и те завели себе отшельника. Дженкинсы мне показывали картинку из старой книги, на ней этот самый грот еще новехонький. А возле грота — сам отшельник, весь лохматый, с жидкой бороденкой, на голове соломенная шляпа, как у старухи нищенки.
— Но ведь нет никаких доказательств, что именно он и есть ваш предок, — замечает Винни.
— Он самый, кто ж еще. Звали его Старый Мампсон, получал он двадцать фунтов в год и бесплатные харчи. Так в книге написано. Он был неграмотный, вместо подписи ставил крест. Попрошайка, короче, только и всего.
Винни чудится, что Фидо встал на задние лапы, а передние положил Чаку на колени.
— А как же та история, что вам дедушка рассказывал? — спрашивает она. — Про то, что ваш предок был мудрец, и про шубу из меха дюжины зверей?
— Кто его знает… На картине, может, и вправду мех — не больно-то разберешь. Дженкинсы ни о чем таком прежде не слыхали, но им было интересно, даже записать хотели мой рассказ. Принимали меня очень хорошо. Чаем поили, угощали тортом, плюшками и домашним вареньем. Варенье с виду какое-то странное, зеленое, но на вкус ничего. Из крыжовника, что ли. Показывали мне дом, я их расспрашивал. Но, по всему видно, за дурачка меня держали: мол, вздумал в сырой лесной пещере графов искать. У них у самих куча предков, самых настоящих. Весь дом портретами увешан.
— Очень жаль, — говорит Винни. Жаль ей не только Чака, но и саму себя.
— Я ходил будто оглушенный. Для начала решил убраться оттуда подальше. Поехал в Лондон, сдал машину, вернулся в ту же гостиницу, у аэровокзала, и становилось мне час от часу хуже. Устал как собака, но ни спать, ни есть не мог, даже в номере сидеть не мог спокойно. Вышел на улицу. Не знал, куда иду, — должно быть, пол-Лондона обошел. И тут подумал про вас. — Чак откидывается на спинку дивана и замолкает.
Научная работа таит опасности, думает Винни, глядя на Чака. Например, изучение детской литературы открыло ей глаза на многое, чего она, к счастью, не знала в детстве, да и сейчас не рада, что знает. Скажем, Кристофер Робин Милн рос несчастным ребенком, оттого что все связывали его имя с книжками отца о Винни-Пухе, а в книге «Ветер в ивах» полно дурацких идей о рабочем классе. Есть и у взрослых мечты, которые лучше оставить в покое, как, например, мечту Чака Мампсона о знатном предке.
— Да, жаль, что и говорить, — отрывисто, чтобы не потакать Фидо, произносит Винни. — Но честное слово, я не понимаю, отчего вы так расстроились. Знатными предками не всякий может похвастаться. А у кого-то не то что предков — даже потомков нет. — Фидо поворачивает морду и с надеждой смотрит на Винни. — Жили же вы раньше без родословной? Ну и теперь проживете.
— Вам-то легко говорить. — Чак едва сдерживает стон, и Фидо снова навостряет уши. — Вам невдомек, что ждет меня дома, в Талсе. У Мирны родня не из простых. Родословная у них еще с дореволюционных времен, и они вечно передо мной нос дерут. Ни семья им моя не нравится, ни мой выговор, ни работа. Инженер-сантехник! Мать Мирны считает, это гадость какая-то. Сказала однажды Мирне, что это название ей только о сортирах и напоминает.
— Ничего себе! — удивляется Винни, которую аристократические замашки Мирниной родни тоже начинают выводить из себя.
— А сестра у нее — психолог, в Стэнфорде училась. Представляете, сказала Мирне, что я без своей работы так мучаюсь, потому что ум у меня как у трехлетнего и мне на самом деле только того и надо, чтобы повозиться с какашками.
— Ничего себе! — повторяет Винни, на этот раз возмущенная всерьез.
— Когда из «Амальгамейтеда» меня вышвырнули — такое началось! «Мирна, я же всегда тебе говорила!»
— Думаю, у каждого найдутся такие родственники, — отвечает Винни, хотя у нее такой родни нет. Зато есть так называемые друзья, которые предупреждали, что ее муж все еще страдает по прежней возлюбленной и что брак их долго не протянет. А потом, естественно, гордились своей проницательностью. — Не обращайте внимания.
— Я-то стараюсь. Не то что Мирна. Вот когда я не мог устроиться на новую работу, ей казалось, что сестра была права. Думала, что я и не пытался. Да черт подери, я одних только резюме и писем разослал добрую сотню! Но дело-то в том, что в пятьдесят шесть, пятьдесят семь никто тебя на работу не возьмет. Страховки слишком дорого обойдутся, да и силы наверняка уже не те. Я и сам раньше так думал.
— Точно, — отвечает Винни, вспомнив собрания в университете. — Многие так думают, наверное.
— Немного погодя я на все махнул рукой. Начал выпивать… сперва все больше по ночам, когда не спалось. По ночам лучше. В доме тишина, с Мирной не надо разговаривать, прислуга не шныряет туда-сюда, не ходит за мной по пятам со своим треклятым пылесосом. Если было совсем худо, напивался в стельку. Бывало, не вставал до самого обеда. Или садился в машину и мчался неведомо куда, вслепую, как крыса… то есть как летучая мышь. — Чак невесело смеется. — Разбил машину вдребезги.
— И что дальше? — торопит его Винни, но Чак молчит. — Попали в аварию? Сильно разбились?
— Нет, ничего страшного. Я… да вы не волнуйтесь. Плохо было дело. Машина — в лепешку, а меня поволокли в участок за вождение в нетрезвом виде. Мирну это доконало. Она меня любила когда-то, а теперь ей смотреть на меня стало противно. Не могла дождаться, когда же наконец посадит меня на этот самолет. Стыдится меня теперь, да и не она одна. Грег с Барби тоже. — Торжествующий Фидо кладет лапы Чаку на плечи и радостно лижет его широкое, обветренное лицо.
— Ну, я не думаю, что… — начинает Винни и тут же умолкает. Может быть, жена и взрослые дети и вправду стыдятся Чака — откуда ей знать?
— Вот я и не вернулся домой из этой чертовой турпоездки. Лондоном я был сыт по горло, но и в Талсу не хотел возвращаться. Думал, если я вовсе домой не приеду — всем будет только лучше. Мирна выдержит, ей даже легче станет. Освободится от меня, будет женщиной уважаемой. Есть у нас один застройщик, жирный такой… Мирна ему еще продала большой земельный участок под торговый центр. У него денег куры не клюют, лезет в политику и увивается за Мирной. Ей это будет по душе, ей всегда хотелось, чтобы меня выбрали на какую-нибудь должность. Ее родня собрала бы денег, да только мне это не нравилось. Не люблю политиков. Но этот малый вдобавок новообращенный христианин, и семья у него строгая, верующая. На вдове он женился бы, а на разведенной нет. Ну, я и подумал, что без меня Мирне стало бы только легче. Знаете, я здешние правила движения никогда не понимал. Все эти крохотные машинки — их и не разглядишь толком, пока на тебя не наедут, да еще эти дурацкие автобусы двухэтажные. Я пытался запомнить, в какую сторону смотреть, но все время забывал. Пару раз меня чуть не сбили. Мне было наплевать. Ладно, думал, и так неплохо пожил, с меня хватит.
На Винни вдруг находит что-то непонятное: хочется обнять и утешить этого большого, глупого, невежественного человека. Винни злится сначала на себя, потом на Чака.
— Ну что вы. Полно преувеличивать, — одергивает она его, а заодно и себя.
— Нет, я и вправду так думал, ей-богу. Только после того, как поговорил с вами тогда, в кафе, а особенно когда отыскал Саут-Ли, мне полегчало. Ладно, думаю, я им покажу! Вернусь домой — а у меня куча английской знати в родне, собственный замок. Может быть, привезу набор тарелок, что здесь продают, с золотыми ободками, а посредине герб. «Вот видишь, — скажу Мирне, — не такой я никчемный лодырь, как ты думала. Давай-ка, милая, расскажем твоей мамаше и гордячке сестрице про моих предков!» И дети пусть тоже порадуются. Наконец-то смогу хоть что-то им дать. Оправдаться перед ними, что ли. Сегодня после обеда отправил Мирне из Саут-Ли открытку: «Иду по следу лорда Чарльза Мампсона Первого. Похоже, дед был прав». И что теперь будет, когда она узнает правду? Засмеет вконец. Мирна любит пошутить, а надо мной и подавно.
— Даже так! — говорит Винни. Жена Чака нравится ей все меньше и меньше.
— Это в ней по наследству. Ее дядя Мервин, тот и мертвого рассмешит. Ему подавай только мальчика для битья.
— Правда? — Давненько Винни не слышала этого слова. Она мысленно видит Чака мальчиком для битья, жалким шутом, которого заставляют вновь и вновь проделывать одни и те же трюки на потеху родственникам жены. — Раз такое дело — не надо им ничего говорить.
— Угу. — Чак придвигается ближе. — Так-таки и ничего? А как же чертова открытка?
— Скажите им, что вы ошиблись, пошли по ложному следу. Ради бога, Чак, не будьте таким размазней!
— Да, мне и жена вечно твердит то же самое. — Чак откидывается на подушки, прижимая к себе Фидо.
— Значит, будьте размазней! — выходит из себя Винни. — Лягте на асфальт, и пусть вас задавит автобус, если вам так хочется. Только перестаньте себя жалеть!
Лицо Чака с тяжелым, квадратным подбородком вытягивается, он тупо смотрит на Винни.
— Бога ради, я серьезно! — Винни задыхается от ярости. — Вы белый американец, вы здоровы, обязанностей у вас никаких, а денег и свободного времени хоть отбавляй. Многие все бы отдали, только бы оказаться на вашем месте. Но вы по глупости даже не знаете, как интересно можно жить в Лондоне.
— Неужели? И как же, по-вашему? — Голос у Чака обиженный, недовольный, но Винни разошлась не на шутку.
— Живете в дрянной гостинице для туристов, едите всякую гадость, смотрите псевдоамериканские мюзиклы, когда вокруг полно хороших ресторанов, а в «Ковент-Гарден» можно ходить хоть каждый вечер.
Чак молча смотрит на Винни.
— Это, конечно, не мое дело, — добавляет Винни уже тише, удивляясь собственной вспышке. — Простите, что накричала на вас, но уже ночь на дворе, а завтра с утра мне ехать в Кенсингтон, в школу.
— Ясно. Ничего страшного. — Чак смотрит на часы, медленно поднимается; говорит он обиженно, сухо, сердито. — Ладно, профессор, я пошел. Спасибо за виски.
— Не за что. — Винни не может заставить себя извиниться перед Чаком Мампсоном. Провожает его до дверей, моет за ним бокал, а за собой чашку, ставит их в сушилку, снова надевает фланелевую ночную рубашку и ложится в постель, с досадой думая, что уже десять минут первого.
Однако заснуть не получается — в голове вертятся надоедливые мысли. Винни злится на себя, что не сдержалась, высказала Чаку все, что о нем думает. Толку-то от этого никакого. Вот уже много лет она ни на кого так не кричала; обычно она ведет себя по-другому: сжатые губы, ледяное молчание.
Злится Винни и на Чака. За то, что разбудил ее, не дал выспаться, в Уилтшире ничего интересного не нашел, и за то, что он такой толстый, несчастный, никчемный! Чак и его рассказ напомнили ей все, что она так не любит не только в Америке, но и в Англии: гостиницы и магазины для туристов, безвкусицу и дешевку, сделанную туристам на потребу, и то, что многие англичане испорчены американской массовой культурой почти как грубые, невежественные американцы («Как хочу я птичкой стать и над пляжами летать…»).
За что меня преследует заокеанская пошлость? Это нечестно, думает Винни, беспокойно ворочаясь с боку на бок. И на этой жалобной ноте начинает искать Фидо. Но ее воображение, всегда такое живое и яркое, на этот раз не рисует его. Винни видит другую картину: следом за Чаком Мампсоном, по освещенной желтыми фонарями Риджентс-парк-роуд, плетется в тумане грязно-белый пес и, тяжело дыша, останавливается с ним рядом, когда Чаку не удается поймать такси.
Винни потрясена предательством Фидо. Почти двадцать лет своей воображаемой жизни он интересовался лишь ею одной; казалось, для него никого больше не существует, кроме хозяйки. Почему же теперь она так живо представляет, как Фидо бежит следом за Чаком Мампсоном через весь город, как он дарит Чаку слюнявые собачьи ласки? Неужели ей и вправду жаль Чака? Жаль даже больше, чем саму себя? Может быть, они похожи? В конце концов, Чак мечтает стать английским лордом, а Винни — конечно, не в прямом смысле, а на более тонком, сверхъестественном уровне — английской леди. Может быть, кому-то ее притязания кажутся столь же смешными и нелепыми?
Почти так же больно сознавать, что именно она укрепила веру Чака в эту небылицу, а значит, в его разочаровании есть и ее вина. Как будто я ему обещала, что он окажется отпрыском знатного рода! Винни снова начинает злиться.
В конце концов, что в этом невероятного? Среди английских аристократов тоже полно никчемных людишек. За примерами далеко ходить не надо — взять хотя бы ту же Пози Биллингс, которую у Винни язык не повернется назвать настоящей леди. Розмари Рэдли, напротив, при всех своих недостатках, этого звания вполне достойна. Розмари никогда бы не вспылила, как Винни сегодня, ни за что бы не выставила Чака Мампсона глупцом, не испортила бы ему окончательно и без того плохое настроение. Видела бы все это Розмари — отвернулась бы, как и от всякой жестокости, от любой ссоры.
А что же сам Чак? Неважно, что для него такое настоящая леди. Пусть даже представление у него самое расхожее, обывательское, но Винни он настоящей леди теперь не назовет. Будет считать ее несдержанной и бесчувственной — ни воспитания в ней, ни душевной теплоты.
Теперь-то уже все равно, думает Винни, в очередной раз переворачивая подушку. Скорее всего, Чака Мампсона я никогда больше не увижу. Я его обидела до глубины души, и он сейчас пойдет и покончит с собой — или отправится домой, в Оклахому, а в душе останутся неприятные воспоминания и об Англии, и о профессоре Майнер.
На экране электронного будильника светятся ядовито-зеленые цифры: 12.39. Винни со вздохом поворачивается на другой бок. Ночная рубашка у нее сбилась в тугой, сморщенный ком, совсем как ее мысли. Винни пытается лечь поудобнее и начинает медленно, размеренно дышать, чтобы прийти в себя. Раз-два, три-четыре, вдох-выдох, вдох…
Звонит телефон. Винни вздрагивает, поднимает голову, ползет на четвереньках по кровати, ища в темноте трубку, — телефон стоит на ковре, хозяин квартиры так и не удосужился поставить ночной столик. Где же эта чертова трубка?
— Алло, — выдавливает наконец из себя Винни, лежа вверх ногами, полуприкрытая одеялом.
— Винни? Это Чак. Я вас разбудил?
— Да, разбудили, — отвечает Винни, хоть это и неправда, и тут же смущенно добавляет: — С вами все в порядке?
— Да, само собой.
— Вы на меня больше не обижаетесь? Сама не знаю, отчего я так разошлась. Простите меня за грубость.
— Нет, ничего страшного, — отвечает Чак. — То есть… я потому и звоню. Может быть, вы и правы и мне стоит получше узнать Лондон, а не бросаться сразу под автобус… В общем, если вы на этой неделе свободны — пойдем, куда скажете. В любой ресторан, какой захотите. Я даже в оперу готов идти, если только места приличные достану.
— М-м-м. — С большим трудом Винни выпрямляется и залезает обратно в постель, подтаскивая за собой телефон и одеяло. — Не знаю. — Если ему сейчас отказать, Чак уж точно отправится домой, в Оклахому, и мнение его о Лондоне и о Винни Майнер к лучшему не изменится. И больше она его никогда не увидит. А заодно пропустит и вечер в «Ковент-Гардене», где «приличные места» по тридцать фунтов. — Почему бы и нет? — вырывается у нее. — Было бы замечательно.
Боже мой, зачем же я это сделала? — думает Винни, повесив трубку. Я даже не знаю, что на этой неделе в «Ковент-Гардене». Не иначе я сошла с ума.
Но, несмотря ни на что, на лице у Винни улыбка.
6
Сердце женщины — что море,
Так изменчиво оно.
Что в нем завтра — радость, горе?
Нам предвидеть не дано.
Джон Гей. Полли
Май в Кенсингтон-гарденс. Широкие бархатные газоны похожи на футбольные поля с искусственной травой, а высаженные рядами тюльпаны покачивают головками, будто стайки радужных птиц. Высоко в небе, брызжущем светом, легкий ветерок носит бумажные змеи. Фред Тернер идет по парку, и перед ним одна за другой предстают картины природы, каждую оживляют фигуры: гуляющие парочки, бегуны в шортах и трико, чинные собаки на поводках, красные и синие воздушные шары, из-под которых свисают на ниточках малыши.
Фред идет на другой конец города, на вечеринку (он уже знает, что здесь не говорят «коктейли») к Розмари Рэдли. У Круглого пруда смотрит на часы и садится на скамейку подождать пару минут, чтобы прийти ровно в шесть. Фред предлагал прийти пораньше и помочь, но Розмари и слышать не пожелала. «Фредди, милый, не надо. Я хочу, чтобы ты просто хорошенько отдохнул. Приходи ровно в шесть и ни минутой раньше. Обо всем позаботится фирма. Вместе с миссис Харрис, конечно».
Дело в том, что спор выиграл Фред и Розмари наняла домработницу. Фред с ней еще не знаком, но, по словам Розмари, она просто чудо. Очень трудолюбивая, старательная: полы натирает на четвереньках. И не пристает к Розмари с рассказами о муже, детях и домашних любимцах — детей у нее нет, зверей она дома не держит, а с пьяницей-мужем давным-давно развелась.
Фред сделал для Розмари доброе дело, когда убедил ее нанять миссис Харрис, зато Розмари для него сделала куда больше: помогла ему из печального, растерянного преподавателя-иностранца снова стать самим собой, обрести былую уверенность. Теперь Фред понял, что все его былые страдания только оттого, что ему было нечем заняться. С точки зрения психолога, туристы — растерянные, призрачные существа; они гуляют по лондонским улицам и заходят в лондонские дома плоскими, полупрозрачными, будто голограммы. Лондон кажется им неживым, и сами они для лондонцев тоже ненастоящие — бледные, безликие, плоские фигурки, которые мельтешат перед глазами и не дают проходу.
До встречи с Розмари Фред тоже как бы ни для кого не существовал, кроме кучки таких же ученых призраков. Не существовал для него и Лондон. На Ноттинг-Хилл-Гейт Фред словно бы и не жил, а просто ночевал, каждый день ходил в Британский музей, чтобы посидеть над грудой выцветших брошюр и старых, пропахших сыростью книг в кожаных переплетах. Теперь город для него ожил, ожил и сам Фред. Повсюду живая история, все дышит смыслом, таит новые возможности, а больше всего — сама Розмари. Когда она рядом, Фред как будто держит в объятиях саму Англию, все лучшее в ней.
Фред уже полностью оправился от того ужаса, что охватил его месяц назад в Оксфордшире, когда деревья-птицы и слишком живые воспоминания о романах Джеймса до того испугали его, что он готов был вынести приговор целому обществу. Эдвину и Нико он по-прежнему не доверяет. Фред всегда опасался гомосексуалистов, возможно, оттого, что получал от них немало непристойных предложений. Но против Пози Биллингс и Уильяма Проста Фред ничего не имеет, а свой приступ праведного гнева теперь считает мелким и ханжеским.
Оказалось, что среди давно женатых друзей Розмари семейный уклад, как у четы Биллингс, далеко не редкость. Сплошь и рядом мужья и жены полюбовно предоставляют друг другу определенную свободу, а друзья семьи считают, что так и надо. Все знают, с кем «встречается» Джек или Джилл, но никто не говорит об этом вслух, разве что спросят Джилл, с кем ее приглашать на вечеринку — с мужем или с любовником. При этом супруги тепло относятся друг к другу, делят кров (а то и не один), заботятся друг о друге и о детях, вместе отмечают праздники, устраивают званые обеды. По словам Розмари, англичане дают выход страсти гораздо культурнее, чем американцы. Нет ни скандалов, ни приступов ханжеской ревности и собственничества, а именно из-за них, как считает Розмари, вспыхивают мерзкие семейные ссоры, ведутся разорительные бракоразводные процессы, страдают семьи, дети, доброе имя, карьера. Нет здесь и яростного самооправдания и работы на публику, как в «открытых браках». Розмари доводилось такие встречать в Америке среди актеров (а Фреду — среди аспирантов); из подобных браков, по ее словам, никогда ничего не выходит. «Это все равно что держать все окна и двери в доме открытыми. Жди сквозняков или, того хуже, воров».
Денежные дела у Фреда тоже поправились, по крайней мере на время, — ему чудом удалось договориться по почте с университетским кредитным союзом о ссуде. Если ничего не случится, то денег должно хватить почти до самого отъезда. Теперь можно ходить с Розмари в рестораны и заказывать что-нибудь посущественнее салата; можно покупать ее любимые цветы. Если на будущий год придется затянуть пояс потуже — не беда, оно того стоит.
Только два обстоятельства омрачают сейчас настроение Фреда. Во-первых, его книга о Джоне Гее почти не движется. Сразу после приезда в Лондон ему плохо работалось от тоски, теперь — от счастья. БМ давит на него еще сильнее, чем прежде, потому что за стенами ждет огромный, прекрасный мир. Фред злится на недоверчивого охранника — мог бы уже давно запомнить его в лицо, но каждый раз требует пропуск; возмутительно, что перед выходом обыскивают портфель. Еще больше злит его, когда нужные книги оказываются в книгохранилище в Вулидже (значит, ждать придется еще два дня) или у других читателей (от одного до четырех дней). И чем реже заглядывает Фред в «Бумагомаралку», тем хуже — книги, отложенные Фредом или кем-то еще из читателей, на третий день исчезают и возвращаются в темные подземелья.
Зная об этом, Фред тем не менее заходит в библиотеку все реже и реже, и все больше книг, которыми он пользовался, куда-то пропадают. Требования возвращаются к нему с пометками «нет в книгохранилище», «уничтожена бомбежкой» или, что самое обидное, «выдана Ф. Тернеру». А в Лондоне столько всего интересного, столько спектаклей, фильмов и выставок, на которые можно сходить с Розмари, столько вечеринок! К черту все! — говорит про себя Фред почти каждый день. От Розмари и ее друзей можно узнать об истории и традициях английского театра куда больше, чем в библиотеке, — видит бог, дома в Коринфе он над книжками еще насидится.
Другой груз у него на душе гораздо тяжелее, хоть это и не груда книг, а легкое, едва ли не легче воздуха, по которому оно прилетело, авиапослание. Письмо от его далекой жены Ру. Первое за четыре месяца — при том, что Фред писал ей несколько раз, просил переслать ему почту, возвращал ее медицинский полис, спрашивал адрес друга, который сейчас в Сассекском университете. Ру, разумеется, почту не отправила, за полис не поблагодарила и адрес не выслала.
Но сейчас, словно запоздалая голубка, которая вернулась в ковчег через сто двадцать дней и ночей, долетело к нему через океан голубое письмо. А в клюве у голубки — не иначе как свежая оливковая ветвь.
…Дело вот в чем, — пишет Ру, — думаю, надо было тебя предупредить, прежде чем выставлять твой член и остальные фотографии. Я бы их, наверное, все равно не сняла, даже если бы ты поднял шум, но такой сюрприз я устроила зря. Будь на твоем месте я — то есть моя киска, — я бы, пожалуй, тоже взбесилась. Кейт говорит, это все оттого, что я на тебя злилась — видимо, за то, что ты пропадал на работе. Или боялась, что у меня не хватит духу выставить фотографии, если ты скажешь нет.
Вот я о чем, понимаешь?
Здесь все по-старому, погода опять скверная. Я получила второй приз в конкурсе Ганнетта за фотографии из детского лагеря. До первого места не дотянула. Те, что из отделения скорой помощи, были лучше, но не такие душевные. Все по тебе скучают. Надеюсь, Лондон тебе нравится и ты собираешься с мыслями в БМ. С любовью Ру.
Письмо, которого Фред так ждал весь январь и февраль, в темноте и пустоте, опоздало на четыре месяца. Вот оно, то самое письмо, которое он так мечтал найти на исцарапанном столике красного дерева в передней, изо дня в день представляя, как разорвет конверт, как будет смеяться и кричать от радости, как пошлет в ответ телеграмму или позвонит. В своих фантазиях он стелил чистые простыни и ехал в аэропорт встречать Ру…
Теперь, когда налицо и раскаяние Ру, и ее честность — Фред не помнит, чтобы она хоть раз солгала, даже во благо, — он вынужден признать, что несправедливо обвинил ее. Если бы Ру ему изменила, Фред узнал бы об этом первым, от нее же самой. Ру говорила правду, утверждая, что те два члена только фотографировала. Скорее всего, их обладатели — старый друг Ру из школы искусств, который работает сейчас в Нью-Йорке, и его голубой любовник. По большому счету, обвинить ее можно лишь в дурном вкусе.
Но в кругу друзей Розмари дурной вкус считают не пустяком, а верным признаком душевного изъяна. Фред помнит, как Розмари на днях сказала Пози об общем знакомом: «Ясное дело, можно ненадолго увлечься Хауи, он красив и талантлив, но хоть убей, не пойму, как Мими могла переехать в его ужасную квартиру в Кентиш-тауне, со всеми этими искусственными папоротниками и плакатами с боем быков». «А кошмарные занавески с блестками? Смахивают на дешевые рождественские ленты, — согласилась Пози. — Должно быть, совсем голову потеряла». Имелось в виду, что всякий, кто окружил себя показной роскошью и подделками, и сам по натуре наверняка неискренен и фальшив. Очень возможно, думает Фред, вспоминая свои впечатления о Хауи, одном из руководителей канала Ай-ти-ви, Розмари и Пози правы.
Дурной вкус у Ру, конечно, иного свойства, он отдает грубостью, а не фальшью, что несколько лучше, хоть и ненамного. Фред, как и Мими, был ослеплен красотой и талантом — вот что сказала бы Розмари. Может быть, и так. Но Ру, как бы ни был плох ее вкус, все-таки его жена и любимый когда-то человек. Меньше всего она заслужила, чтобы ей сказали правду. И как ей эту правду сейчас преподнести? «Спасибо за письмо, рад был получить от тебя весточку, но, извини, я влюблен в очаровательную английскую актрису, удачи и всего наилучшего». Не хочется писать эти строки или другую лицемерную чушь, и Фред уже почти две недели медлит с ответом. Не хочется думать сейчас ни о Ру, ни о возвращении в Коринф. Когда они встретятся, Фред попросит прощения и все объяснит. Ру поймет. А может быть, и не поймет. Но это не так уж важно; важно сейчас только одно — его страсть к Розмари Рэдли.
Обладание не погасило в нем огонь страсти. Позади упоение погоней, однако на смену ему пришло предчувствие, что счастье будет недолгим. Джо и Дебби Вогелер, как обычно, ничего хорошего не ждут. «А не ошибка ли, — рассуждала Дебби, — позволить себе так увлечься, когда через месяц тебе уезжать из Англии?» Слова Дебби не звучали как вопрос и не требовали ответа, но про себя Фред твердо ответил «нет». Уже не в первый раз он подумал, что мирок Вогелеров такой же ограниченный и узенький, как их здешний треугольный дом, — будто он достался им волей потустороннего агента по недвижимости, наделенного чувством юмора.
Но ведь Джо и Дебби не знают ни Розмари, ни ее Лондона. Фред рассказывал им о вечеринке у Винни Майнер и о тех, что последовали за ней, — о том, какая Розмари чудесная, скольких интересных людей знает, как доброжелательны большинство из них. Вогелеров его рассказ не впечатлил.
— Подумаешь, сказали тебе пару теплых слов, — говорила Дебби пасмурным сырым днем, когда они сидели втроем в треугольном доме, среди воскресных газет и пластмассовых игрушек. — В школе их учат хорошим манерам. Только вот увидишься ли ты с ними снова? Вот что важнее. Сразу после нашего приезда мы с Джо обедали с тем старичком писателем, знакомым его тети, в Кенсингтоне, и все были очень любезны, сказали, что хотят с нами еще увидеться, но дальше разговоров дело не пошло.
— Это все из-за Джеки. — Джо кивнул на сына, который сидел на полу в белом пушистом комбинезончике, перепачканном детским питанием, и рвал на кусочки журнал «Обсервер». — Надо было его оставить дома.
— Джеки вел себя отлично, — возразила Дебби. — Не плакал, не капризничал. А ту старую кошку он не обижал — просто играл. Не пойму, отчего они все так разволновались.
— А еще им не понравилось, что за обедом ты держала Джеки на коленях, — добавил Джо.
— Ну, тут ничего не поделаешь. Куда мне было его девать? Если бы Джеки ползал по полу, им бы тоже не понравилось, могу поспорить. Тем более что он непременно ушибся бы о какой-нибудь угол их гигантской старинной мебели.
Ничего они не понимают, подумал тогда Фред и решил устроить для Джо и Дебби встречу с Розмари (разумеется, без Джеки). Как только они ее увидят или когда познакомятся поближе с ней и ее друзьями — размышляет Фред, сидя на скамейке в Кенсингтон-гарденс, — они поймут, какие это замечательные люди.
В конце концов, даже он понял это не сразу. Но сейчас все прежние сомнения — на которые он в минуту слабости намекнул Джо и Дебби — кажутся ему мелкими, недостойными. Только трус отказался бы от Розмари из-за того, что чем сильнее чувство, тем больнее потом будет разлука. Нет ничего хуже, чем до конца дней сожалеть: «Розмари Рэдли любила меня, но мне пришлось от нее отказаться, потому что мне не нравились ее друзья… потому что она сорила деньгами… потому что я в июне уезжал и знал, что увижу ее только через год».
Если Джо и Дебби этого пока что не поняли, то Розмари и ее друзья, конечно, поймут. Фред помнит интервью с Лу, другом Розмари, которое на прошлой неделе напечатали в «Таймс». На страницах газеты Лу признался, что велел своему агенту отклонять все предложения съемок, потому что ему дали возможность две недели в Ноттингеме играть короля Лира. «Неважно, где театр и сколько времени будет идти пьеса, — заявил он. — Если тебе выпала такая удача, все остальное не имеет значения».
— Какая прелесть наш Лу! — воскликнула Розмари, прочитав этот отрывок Фреду вслух. — Я ему, разумеется, сразу позвонила и поздравила. В самом деле, сказала я, ему давным-давно пора играть эту роль, он великолепный актер, настоящий гений. И на диету не нужно садиться — отчего бы Лиру не быть толстым? Может быть, он и вправду был толстый, и его лихие рыцари тоже. А что? Они ели до отвала, напивались, уничтожали все запасы Гонерильи. Не работали, спортом не занимались, так ведь? Я ему так и сказала: «Лу, милый, ты ошибаешься, тебе не нужно худеть ни на грамм. Сам знаешь, что после сытного обеда у тебя голос звучнее». Жаль, что у меня совсем наоборот. Как только снова начну работать — придется голодать. Нет, ты только взгляни на эту груду мяса! — Розмари приподняла краешек кимоно, расшитого белыми и серыми хризантемами, и взору Фреда предстало прелестное, розовое, округлое бедро. — Фредди, милый, не надо, я не хотела… Ах, милый… Ах…
Вспомнив этот миг и все, что за ним последовало, Фред поднимается со скамьи и уверенно шагает в сторону Челси, будто его влечет туда неведомая сила.
Гости еще не все собрались, но уже нет сомнений, что вечеринка у Розмари удалась на славу. Погода чудесная, дом сверкает чистотой, ящики для растений и каменные урны у входа вычищены до блеска, в них пышно цветет белая герань, вьется шелковистый плющ; через открытые стеклянные двери виден палисадник позади дома, весь в зеленой дымке. Внутри тоже все блестит — по крайней мере, все, что могут увидеть гости (в поисках места, где можно повесить плащи, Фред приоткрыл дверь в спальню Розмари и тут же захлопнул ее при виде первозданного хаоса, — похоже, миссис Харрис была так занята внизу, что на все остальное ей просто не хватило времени).
Фред снова спускается по ступенькам. Внизу все как в роскошной рекламе — идеальная вечеринка. Огромная гостиная полна света, цветов, изящно одетых людей. Многие из друзей Розмари красивы, многие знамениты, а некоторые могут похвастаться и тем и другим. Лишь несколько человек слегка портят картину — в настоящей рекламе их ни за что бы не стали снимать. Скажем, коротышка Винни Майнер в одном из своих «костюмов ежихи Тигги Уинкль», как называет их Розмари, — накрахмаленный белый хлопок и пушистая светло-коричневая шерсть, словно мех какой-нибудь зверушки. Фред с изумлением вспоминает, какой грозной она ему казалась всего лишь пару месяцев назад. Теперь он, как и все друзья Розмари, пришел к мысли, что Винни, при всем своем уме и обаянии, по большому счету, комический персонаж, с ее любовью к народным танцам, книжкам для детей и английской старине.
— Винни, здравствуйте. Как у вас дела?
— Спасибо, хорошо. — Винни смотрит на Фреда снизу вверх, задрав голову. — Сколько народу! Я и не предполагала, что будет такое торжество. А у вас как дела? Как ваша книга о Джоне Гее?
— Спасибо, отлично, — увиливает от правдивого ответа Фред.
— Рада за вас. Какая красота в доме! Просто удивительно! Должно быть, миссис Харрис постаралась?
— В общем, да.
— Пра-астите, па-ажалста, мадам, пра-астите, па-ажалста! — Позади Фреда раздается американская речь; впервые в жизни он прислушивается к ней со стороны и изумляется, до чего же она громкая, вялая, гнусавая. Неужели и его собственный голос все здесь воспринимают так же, стоит ему раскрыть рот? — Винни, возьмите. — Грузный лысоватый мужчина лет шестидесяти, в ковбойских сапогах и замшевой куртке, как американский певец кантри, протягивает Винни бокал. — Сухой херес, как вы просили, милая.
— Спасибо, — отвечает Винни. — Чак, это Фред Тернер, мы вместе работаем на кафедре в Коринфе. А это Чак Мампсон.
— Рад познакомиться. — Чак протягивает большую, мясистую, красную руку.
— Взаимно, — сдержанно отзывается Фред.
В первую минуту ему кажется, что карикатурные, неуместные на этой вечеринке речь и наряд Чака — всего лишь маскарад; и имя, должно быть, ненастоящее. Никакой это не американец, а переодетый актер, друг Розмари, — актеры, как узнал Фред, любят развлекаться, если долго сидят без работы.
— Наслышан о вас. — Чак широко улыбается.
Любопытно, думает Фред, что же этот Чак, кто бы он ни был на самом деле, про меня слышал. Наверняка доложили, что я любовник Розмари.
— А я о вас, увы, нет, — признается Фред, в первый раз за многие годы, с ранней юности, прислушиваясь к своему голосу. Произношение похоже, но мелодия речи другая. За последние несколько месяцев Фред стал говорить если не с британским акцентом, то, во всяком случае, с британскими интонациями и слова подбирать британские. Почти невольно он начал в подражание английской манере речи повышать тон в конце фраз и вполне осознанно, чтобы его понимали, говорит теперь «лифт», «метро» и «уборная», а не «подъемник», «подземка» и «туалет».
— Чак приехал из Оклахомы, — уточняет Винни.
— Вот как? — В голосе Фреда все еще слышится сомнение, хотя вряд ли Винни сговорилась бы с каким-то актером, чтобы разыгрывать гостей. — Я там не был, зато фильмы смотрел.
— Ха-ха! — Чак гогочет, как самый настоящий американец со Среднего Запада, — во всяком случае, очень правдоподобно. — Ну, сейчас-то у нас совсем не как в кино.
— Понятно, не как в кино.
Неприятный для Фреда разговор обрывается, поскольку приходят новые гости, за ними еще и еще. Вскоре большая комната с высоким потолком заполняется людьми. Начищенная люстра рассыпает во все стороны лучи света; звон хрустальных бокалов, плеск вина, громкий смех и возгласы.
Чудо, которое сотворила новая домработница Розмари, не остается незамеченным. Все друзья Розмари в восторге, даже те из них, кто сомневался, а так ли на самом деле хороша миссис Харрис, как описывают ее Розмари и Фред. Кое-кто говорил, что оба они не слишком разбираются в домашнем хозяйстве и не им судить, кому-то просто не верилось, что миссис Харрис настолько уж замечательна. А теперь, увидев все своими глазами, они опасаются другого.
— Пожалуй, даже слишком образцовый порядок, — доносятся до Фреда слова гостьи. — Как в историческом здании, которое охраняется государством.
— Точно, — соглашается ее собеседница. — Похоже, миссис Харрис из тех, кто помешан на чистоте. Такие, как она, все немножко с приветом, — продолжает подруга Розмари, хотя в ее собственную квартиру тоже не помешало бы вызвать миссис Харрис. — Розмари надо быть поосторожнее, а то в один прекрасный день ее задушат в собственной постели.
Откровенное недоброжелательство со стороны друзей Розмари появилось не так давно. Раньше зависть к красоте Розмари, ее славе, обаянию, жизнерадостности и богатству — на телевидении, даже на британском, платят хорошо — смягчалась состраданием к ее неустроенной жизни и любовным неудачам. Хотя недостатка в поклонниках у Розмари никогда не было, она почему-то всегда выбирала самых непривлекательных и ненадежных. Более того, ее возлюбленные обычно оказывались женаты и в конце концов или возвращались к женам, или, еще того хуже, бросали и жену, и Розмари ради другой женщины. Поэтому красота и известность Розмари не мешали друзьям любить ее и беспокоиться о ней, а знакомым — тепло к ней относиться и жалеть ее. А сейчас, когда у нее чудесный, чистый дом в Челси и красивый, по-видимому, свободный молодой любовник, многие из друзей Розмари не могут ей этого простить.
Сегодня кое-кто из гостей не только пророчит беду, но и пытается выведать у Фреда побольше о миссис Харрис. Как заметила Розмари, не так-то просто в Лондоне найти хорошую домработницу-англичанку. «Вот погоди, — предупреждала она Фреда. — Увидишь, сколько найдется охотников сманить у меня миссис Харрис, даром что друзья. Никому ничего о ней не рассказывай, не говори даже, по каким дням она приходит. Обещай мне, милый». Фред, хоть и считал это излишним, пообещал никому ничего не говорить. А теперь убедился, что Розмари была права. Многие гости, когда она не слышит, задают ему вопросы с намеками. Сколько берет миссис Харрис за работу? Есть ли у нее выходные? К счастью, Фреду не приходится лгать, поскольку ответов он не знает. Особенно усердствует пожилая актриса Дафна Вэйн, которая снималась вместе с Розмари в «Замке Таллихо», пока в прошлом году ее героиня не скончалась на глазах у зрителей от воспаления легких.
— Как бы я хотела познакомиться с миссис Харрис, — говорит Дафна задумчиво, прерывистым шепотом, который и сделал ее звездой экрана и сцены полвека назад. — Похоже, она настоящее сокровище. Хорошая прислуга в наши дни большая редкость. Я так надеялась, что она будет здесь, на приеме, — помогать и все такое прочее. — Дафна окидывает взглядом комнату, хлопая своими знаменитыми ресницами.
— Ее сегодня не будет, — объясняет Фред Дафне. — Розмари отказалась от ее помощи — говорит, что миссис Харрис стыдно показывать гостям.
— Правда? Ну что ж, у каждого свои недостатки, ведь так? Но может быть, она все-таки внизу, на кухне?
Фред качает головой; если бы он кивнул, то воздушную, неземную Дафну ничто бы не остановило — скользнула бы по черной лестнице в нижний этаж.
— А вы случайно не знаете, по каким дням она приходит?
— Нет, точно не знаю.
— Жаль! — Дафна улыбается ему ласково, снисходительно, будто деревенскому дурачку, и тут же, не сходя с места, плавно перетекает к другому разговору.
На самом деле Фред отлично знает, что приходит миссис Харрис по вторникам и пятницам, потому что в эти дни не видится с Розмари: здесь ему появляться запрещено, а сама Розмари заглянула к нему всего один раз и с тех пор отказывается. Фред как мог старался навести уют, но его любимая и пяти минут у него не пробыла. Укуталась потеплее в светлую шубку, заявила, что здесь «холод собачий» и «никакой романтики», и даже не присела на диван — а Фред представлял, как она будет лежать там полуобнаженная.
При том, что миссис Харрис свое дело знает, недостатки есть и у нее. Она не выносит, когда кто-то «путается под ногами» во время уборки, на звонки не отвечает, ничего Розмари не передает — телефон ей, видите ли, мешает работать. Иногда хватает трубку, орет: «Никого нет дома!» — и швыряет ее на рычаг, но чаще просто не подходит к телефону. Для некоторых из друзей Розмари это еще одно доказательство того, что миссис Харрис — опасная сумасшедшая; Фред подозревает, что у нее нет никакого образования. Может быть, поэтому такая работящая и порядочная женщина не смогла найти работу получше.
Есть и еще один довод в пользу того, что у миссис Харрис не все в порядке с головой: она никому не открывает дверь. В прошлый вторник после обеда, когда Фред узнал, что у него свободный вечер (у Вогелеров заболел ребенок), но не мог ни дозвониться до Розмари, ни оставить сообщение на автоответчике, он решил зайти к ней домой. Стучал, звонил, пытался кричать, но никто не отозвался, хотя слышно было, что в доме кто-то есть. В конце концов Фред нацарапал на обратной стороне конверта записку.
Открывая натертую до блеска медную крышку щели для писем, Фред услышал, как за дверью кто-то ходит. Он наклонился, заглянул в щель и в первый раз в жизни увидел миссис Харрис. Домработница стояла на четвереньках в другом конце темного коридора и мыла пол — некрасивая женщина средних лет, в широченной хлопчатобумажной юбке, шерстяной кофте, с красным платком на голове. Услыхав, как записка падает на мраморный пол, она оглянулась и сдвинула брови, хотя, возможно, недовольная гримаса застыла на ее лице давным-давно.
— Здравствуйте! — крикнул Фред. — Я оставил записку для леди Розмари! Передайте ей, пожалуйста.
Без единого слова в ответ миссис Харрис повернулась к Фреду спиной и принялась дальше мыть пол.
С гостями миссис Харрис не разговаривает, зато с хозяйкой беседует охотно и подолгу. Слушать ее вовсе не скучно, как опасалась Розмари, а, наоборот, забавно. Теперь Розмари потчует друзей рассказами о том, что сказала или сделала миссис Харрис, быть может слегка смягчая или, напротив, приукрашивая. Миссис Харрис верит, что смотреть в зеркало на полную луну можно только через левое плечо, а то сойдешь с ума. Спасается от малокровия пивными дрожжами и хлебом с патокой. Ходит на собачьи бега и ставит на собак с кличками на «С» («Скорость») и на «П» («Победа»). «На бегах все расписано, это всякий знает, — делилась она с Розмари своим опытом. — Однако ж есть кой-какие секреты».
Но лучше всего удаются миссис Харрис суждения о новостях в мире и знаменитостях — как правило, мрачного свойства. Политиков и почти всю королевскую семью она терпеть не может, зато остается верна «принцессе Маргарет Роуз», несмотря на ее скандальные любовные истории. «Обманули ее, и все тут, обманул и предал этот никчемный коротышка». Фред хорошо помнит, как Розмари повторяла это новое словцо голосом своей домработницы — грубым, простонародным, с пьяной слезливостью, — жестом показывая рост лорда Сноудона.
Фред даже ловит себя на том, что стал пересказывать истории о миссис Харрис друзьям, например Вогелерам. Несмотря на сварливость, миссис Харрис тоже стала олицетворять для него Англию. Почти всех приезжих-американцев — скажем, ту же Винни Майнер — в Англии привлекает все старинное, живописное, благородное. А любовь Фреда к Британии более всеобъемлюща. Ему близко все, что воспето в песнях или описано в книгах. Сейчас, когда на душе у него так радостно, он принимает здесь даже то, что презирает в родной Америке. Груды шлака напоминают ему о Лоуренсе, ломбарды — о Гиссинге; столбы, что уродуют Сассекские холмы, связаны для него с Оденом, а грязные трущобы Южного Лондона — с Дорис Лессинг. Вкус сливового пудинга в банках для него — вкус Диккенса, а голос любого толстого ученого человека — голос доктора Джонсона. Розмари, словно розовые очки, преображает для него мир, с ней и миссис Харрис кажется героиней литературы восемнадцатого века — второстепенным персонажем какой-нибудь грубоватой комедии с иллюстрациями Хогарта или Роуландсона. Фреду не просто нравятся ее причуды — он гордится ими, как будто сам их открыл. Ведь если бы не он, миссис Харрис ни за что бы не взяли на работу.
Снова звонок. Фред идет к двери — пришли Джо и Дебби Вогелер и, вопреки его предостережениям, заявились с ребенком.
— Нянечку так и не дождались, — обиженно бубнит Дебби при виде Фреда — будто он тоже в чем-то виноват, — вот мы и взяли Джеки с собой.
— Он всю дорогу не капризничал, — говорит Джо примиряюще. — Почти все время спал.
Малыш сидит в потрепанной голубой холщовой сумке на груди у Дебби, пухлые ножки свисают по бокам, а лысая головка прильнула к маминой шее. Дебби одета под стать малышу. На ней линялая джинсовая куртка, длинная широкая джинсовая юбка и туфли на платформе — как будто для передачи «Спутник фермера». Джо, как всегда, похож на очкарика-ученого: потертый вельветовый пиджак, облезлый растянутый свитер с высоким воротом, стоптанные кожаные туфли. Фред привык видеть Вогелеров в таких нарядах, но сегодня ему кажется, что друзья его одеты явно не по случаю, если не сказать — вызывающе. Зато есть хотя бы одна перемена к лучшему: с приходом теплых дней у них поправилось здоровье, и сегодня, в первый раз за все время, никто из них, по-видимому, не простужен.
— Заходите, рад вас видеть, — Фред пытается изобразить радушие, — малыша можно отнести наверх, в одну из свободных спален. Я вас отведу…
— Нет, ни в коем случае. — Дебби крепче прижимает к себе Джеки.
— Так нельзя, — объясняет Джо, глядя на Фреда чуть ли не как на преступника. — Сам представь: а вдруг он проснется один в незнакомой комнате? Это очень большое потрясение.
— Ну ладно.
Много дней Фред мечтал познакомить старых друзей со своей новой возлюбленной. И вот теперь с тяжелым сердцем ведет Вогелеров через всю гостиную к окну, где рядом с цветущим апельсиновым деревцем стоит Розмари — такое же ароматное весеннее видение, окутанное бледно-зеленым мерцающим шелком.
— Ах, очень приятно! — восклицает Розмари, протягивая нежную, унизанную кольцами руку. — И подумать только: весь путь от самого Северного Лондона прошли пешком!
Фреду в этих словах слышится намек на обувь его друзей, но Джо и Дебби улыбаются, даже сияют: Розмари их сразу очаровала.
— Да, к тому же с ребенком, — отвечает Дебби то ли с гордостью, то ли, наоборот, извиняясь.
— Вижу. — Розмари весело смеется, но по ее смеху понятно, что об этом лучше было не упоминать. — Фред, милый, ты же не принес друзьям выпить!
— Прошу прощения.
Фред идет за джином с тоником для Дебби и разбавленным скотчем для Джо: пива нет. Большинство гостей, как принято в Лондоне на вечеринках в теплое время года, пьют белое вино.
На обратном пути Фреда останавливает Эдвин Фрэнсис.
— Если у вас найдется свободная минутка, Фред, — Эдвин размахивает рукой с печеньем, намазанным толстым слоем паштета, — я хотел бы с вами поговорить.
— Разумеется. Секундочку.
Отчасти потому, что Эдвин ему не очень нравится, Фред с ним всегда подчеркнуто любезен. Раздав Вогелерам напитки и представив Джо и Дебби другим гостям (Розмари куда-то упорхнула), Фред выходит вслед за Эдвином в коридор.
— Это касается миссис Харрис. — Как бы невзначай Эдвин спускается на нижнюю ступеньку изящно изогнутой лестницы. Отсюда не так заметно, что он ниже Фреда ростом.
— Да?
Неужели и Эдвин, которого Розмари любит и которому доверяет, хочет переманить у нее домработницу?
— Мне она внушает опасения. Судя по всему, она… как бы это сказать… человек очень властный. Ко всем и каждому относится с подозрением. И похоже, слегка неуравновешенна. Я очень боюсь, что она плохо влияет на Розмари — бедняжка все больше и больше ей подчиняется. Вы понимаете, о чем я. — Эдвин хмурит брови и становится еще больше похож на пухлого, серьезного малыша. — Повторяет за ней всякие глупости.
— Хм. — Фреду знакомы эти жалобы. Многие друзья Розмари говорили ему то же самое, только более резко. «Розмари без ума от этой женщины, — сетовали они. — Верит каждому ее слову».
— Знаете ли, некоторым актерам даже на руку, если собственная личность у них не слишком яркая. Намного легче перевоплощаться. Но есть и сложности.
— То есть как? — недоумевает Фред. Что Эдвин несет? Розмари, без сомнения, очень яркая, замечательная личность. Любит она передразнивать миссис Харрис — ну и что? Одно другому не мешает.
— Ладно, шутки шутками, верно?
Фред неохотно соглашается: шутки шутками.
— Однако это может зайти слишком далеко, вот что меня тревожит. Видите ли, я на будущей неделе уезжаю в Японию читать лекции, месяц с лишним буду далеко отсюда, и если вдруг что случится… Надя в Италии, я в Японии, Эрин едет в Америку сниматься в фильме, а бедняжка Пози сидит в четырех стенах в Оксфордшире со своими скучными маленькими дочками… В общем, чтобы спать спокойно, я должен быть уверен, что наша Розмари в надежных руках. Желательно — в ваших.
Фреду не по душе выражение «наша Розмари» и неприятна мысль о том, что возлюбленную нужно делить с Эдвином или с кем-то еще.
— Пообещайте мне. Вы-то знаете, какая она хрупкая. У нее бывают приступы ярости, с ней может быть очень трудно.
Фред кивает, стараясь не выдать недовольства. Никаких «приступов ярости» он у Розмари не замечал, не согласен и с тем, что миссис Харрис навязывает хозяйке свои суждения. Напротив, в последнее время он начал подозревать, что это Розмари навязывает — точнее, приписывает — свои взгляды миссис Харрис. Мало того что реплики слишком отточенные, они как будто отражают наименее лестные суждения самой Розмари. К примеру, балет всегда нагонял на нее скуку, а миссис Харрис, по словам Розмари, отзывается о нем так: «Скачут, ногами дрыгают, педики». Розмари презирает нынешнее правительство, а миссис Харрис называет его «сборищем чертовых мошенников».
Все чаще и чаще миссис Харрис находит для Розмари оправдания, если та что-то хочет или не хочет делать. Недавно устраивали ночной благотворительный концерт в пользу знаменитого старого театра в Ист-Энде. Розмари отказалась выступать, и не потому, что это неудобно, тяжело и невыгодно, а лишь потому, что миссис Харрис заявила: «Ребятам из Хэкни выкрутасы на сцене не нужны — они только и знают, что в телевизор пялиться. Лучше бы на эти деньги детскую площадку сделали. У меня там племянница живет, все знает». Как бы то ни было, миссис Харрис, если верить Розмари, сказала, что весь этот концерт — сплошное надувательство. На прошлой неделе, на званом обеде, друг Розмари Эрин возражал против этого и пытался — с большим терпением и тактом — переубедить Розмари. Она и слушать не стала. «Полно, милый мой, не болтай чепухи, — восклицала Розмари с серебристым смехом, накалывая на вилку пирожное (Розмари обожает „эти гадкие десерты“). — Ничегошеньки ты не знаешь о Хэкни, как и я. Миссис Харрис абсолютно права! Как всегда».
В душе досадуя на Эдвина, Фред возвращается к гостям и тут же видит, что Вогелеры не участвуют в общем веселье, а забились в уголок и успокаивают Джеки, а тот хнычет и пищит — будто скрипит выдвижной ящик.
— Дай я его возьму, теперь моя очередь, — говорит Джо, глянув на часы. С помощью Фреда на удивление тяжелый малыш в холщовой сумке перекочевывает на папину спину, и там хныканье и писк продолжаются с новой силой. — Надо дать ему печенье или что-нибудь вроде этого.
— Конечно. — Фред берет с тарелки канапе и счищает с него икру.
— Отлично. Кушай, мой хороший, — приговаривает Джо.
Джеки хватает печенье и неумело запихивает его в рот, осыпая крошками отцовский пиджак.
Пока Джеки спал на груди у мамы, его было почти не видно. А сейчас, когда проснулся и сидит за спиной у своего рослого отца, стал очень заметным в комнате и, на взгляд Фреда, смотрится довольно нелепо: спереди кажется, что у Джо две головы и четыре руки. Надо что-то предпринять. Мать когда-то учила Фреда, что, если гости пришли вместе, нельзя им стоять в сторонке и болтать друг с другом — нужно их разделить.
Решив начать с самого простого, Фред отводит в сторону Дебби и представляет ее одной писательнице как «американскую феминистку». («Неважно, что говоришь, когда представляешь людей друг другу, — учила Фреда мать, — главное, начать разговор».) Потом, чтобы не вести своего двухголового, четырехрукого, усыпанного крошками приятеля через всю гостиную, Фред знакомит Джо с театральным критиком, телеведущим и известным занудой, который стоит рядом, у камина, — под видом того, что Джо — гость из Америки, которому интересно узнать, какие спектакли стоит посмотреть в Лондоне. Вот и хорошо, — думает Фред и отправляется на поиски Розмари, а заодно и чего-нибудь выпить.
Но на душе у Фреда неспокойно из-за Вогелеров, и он без конца проверяет, как у них дела. Спустя двадцать минут Дебби уже беседует с другими гостями, а Джо застрял на одном месте и говорит все с тем же человеком — точнее, слушает его. Видно, что ему скучно. По привычке, знакомой Фреду еще со времен аспирантуры, Джо сдвинул очки на макушку, и они глядят из копны нечесаных, мышиного цвета волос, будто еще одна пара глаз, устремленных вверх, к чему-то более высокому и философскому.
А в целом Джо, в потрепанной одежде и с Джеки за спиной, на вечеринке у Розмари выглядит нелепо. Особенно не к месту он смотрится рядом с белым мраморным камином, где на резной полке стоят фотографии в рамках, приглашения с тиснеными буквами, безделушки и тепличные цветы в высоких вазах, отражаясь в большом старинном зеркале с золоченой рамой. Малыш не спит, капризничает, машет пухлыми ручонками, сжимает кулачки, дергает отца за волосы.
Фред уже готов идти к Джо на выручку, но тут в толпе начинается суматоха. Джо отступает назад, пропуская одного из слуг, а ручонка Джеки тянется к хрустальной вазе, полной высоких белых ирисов и оранжевых фрезий. Фред машет руками, кричит, но только пугает Джо и привлекает внимание гостей: многие успевают увидеть, как ваза, покачнувшись, падает и на знаменитого театрального критика обрушивается поток воды вперемешку с листьями. И, будто гром в грозу, через миг раздаются проклятия, испуганные возгласы и рев младенца.
— Прости, что так вышло с малышом Вогелеров, — говорит Фред, как только Розмари закрывает дверь за последними из гостей.
— Прости? Милый, это было чудесно! Это был гвоздь моей вечеринки! — Изысканная прическа Розмари растрепалась, помада стерлась во время прощальных поцелуев, а под левым глазом след от туши. Фреду это пятнышко кажется манящим и трогательным, как слезинка, нарисованная на щеке у мима. — Ну и физиономия была у Освальда! — Раскат смеха. — А его противные жирные рыжие волосы отстали от макушки и повисли сосульками; разумеется, с самого начала было ясно, что он зачесывает их на лоб этакой дурацкой челкой, чтобы не было видно лысины. Подумаешь, ваза разбилась, большое дело! — Розмари окидывает взглядом гостиную. Весь хрусталь и фарфор убрали, мебель переставили; ничто не напоминает больше о празднике — лишь влажное пятно на бежевом ковре и несколько цветочных лепестков на полу. — Замечательно. — Розмари опускается на низкий кремовый диванчик с подушками, затканными шелком.
— Я думал, ты разозлилась не на шутку. — Фред тоже смеется, вспоминая испуганный возглас Розмари, ее ужас и тревогу, потоки извинений, просьбу принести побольше полотенец, чтобы вытереть Освальда… С другой стороны, она же актриса.
— Нисколечко, милый. — Сбившиеся бледно-золотистые волосы Розмари рассыпались по спинке дивана, руки протянуты к Фреду. — Ах, это было чудесно!
— Чудесно, — эхом отзывается Фред. Душа его ликует. Никогда еще он не был так счастлив, как в эту минуту.
— Правда, милый. — Розмари высвобождается из его объятий после второго долгого поцелуя. — Это была одна из лучших минут в моей жизни. Как вспомню, что сказал Освальд о моей игре в спектакле «Как вам это понравится»! Столько лет прошло, а я вздрагиваю каждый раз. А каких только гадостей он не писал все эти годы о бедняге Лу! И даже о Дафне — можешь себе представить? Он так чертовски умело доказывал, что Дафна стара, чтобы играть героинь, — бедняжка едва не ушла со сцены. Мы все от души повеселились, когда он опозорился! И что за крик он поднял — глупо, пошло, хуже младенца! — Еще раскат смеха. — И главное, почти все это видели.
— Еще бы! — Суматоха, которую подняла Розмари, теперь видится Фреду в ином свете. — Ты об этом позаботилась.
Фред проводит рукой по спине Розмари, чувствует под тонким платьем соблазнительные формы и в который раз удивляется, откуда в таком нежном и шелковистом создании такая непреклонность и воля. Через пару минут, решает Фред, надо бы подняться и приглушить свет.
— Разумеется, — подтверждает Розмари с лукавой улыбкой. — Но у меня был помощник. Малыш — просто прелесть! Только, пожалуйста, милый, не надо приглашать их с ребенком снова — одного раза достаточно.
— Я и не приглашал. Я просил Джо и Дебби не брать его с собой. Честное слово.
— Верю. Честное слово, — передразнивает его Розмари и одаривает поцелуем, легким, словно бабочка. — Нельзя доверять этим хиппи, от них всего можно ожидать.
Не желая разрушать романтическое настроение, Фред не берется объяснять, что Вогелеры — никакие не хиппи. Он целует Розмари, та тихонько смеется и прижимается к нему крепче.
— Бог знает что могут сделать или сказать, — добавляет Розмари, слегка хмуря тонкие золотистые бровки. — Например, твой друг Джо, — что-то неуловимое в ее голосе дает понять, что ей Джо не друг и никогда другом не станет, — твой друг Джо говорит, что ты в июне собираешься назад в Америку. Я сказала, что он ошибся, что ты останешься хотя бы до осени.
— Он, к сожалению, прав, — подтверждает Фред с неохотой. — С двадцать четвертого июня я должен вести в Коринфе летние курсы. Я же тебе говорил, — добавляет он с нехорошим чувством, что говорил об этом Розмари очень давно, а в последнее время даже думать об этом не хотел.
— Ах, что за чепуха, — мурлычет Розмари. — Ты мне не говорил ни слова. Так или иначе, у тебя не получится просто взять и уехать: нас ждет столько всего интересного! Будет премьера пьесы Майкла, а еще я беру билеты на оперный фестиваль в Глиндбурне. А в июле начнутся съемки «Замка Таллихо» для следующего сезона, в Ирландии. Тебе должно понравиться. Там всегда так весело! Мы останавливаемся в прелестной маленькой гостинице, хозяева — пожилая пара, такие забавные чудаки! Готовят там восхитительно, бывает свежая лососина, настоящий ирландский хлеб на соде, пшеничные лепешки. И обычно полдня льет дождь, и тогда мы свободны на целый день.
— Здорово, — отвечает Фред. — Хотелось бы поехать. Но если я откажусь вести летние курсы, начальству это не понравится.
— Ну и что? — Розмари ерошит Фреду волосы. — Пусть себе злятся.
— Так нельзя. На кафедре станут считать меня безответственным, и когда будет решаться, дать ли мне бессрочный контракт, это сыграет против меня, я точно знаю.
— Ах, милый, — голос у Розмари мягкий, ласковый, — тебе не о чем беспокоиться. На самом деле все по-другому. Если ты хорошо работаешь, на тебя всегда будет спрос. Посмотри на Дафну: характер у нее скверный, но режиссеры до сих пор из кожи вон лезут, чтобы заполучить ее.
— В ученом мире все не так, — объясняет Фред. — Во всяком случае, в Америке. Да и я не звезда.
Розмари не спорит. Просто отодвигается от Фреда подальше. Светлые, тонкие волосы падают ей на лицо.
— В июне ты в Америку не уедешь, — шепчет она лениво, но с ноткой угрозы в голосе — будто дедушка Фреда правит бритву.
— Я должен уехать. Не потому, что мне так хочется, а…
— Я тебе наскучила.
— Да что ты!..
— Ты с самого начала хотел меня бросить. — Лезвие почти заточено.
— Нет! То есть да, но я же тебе говорил…
— Ты притворялся с самого начала. — Слова Розмари ранят его, как бритва.
— Нет…
— Все, что ты мне говорил, одни красивые слова… — Розмари всхлипывает.
— Нет! Я же люблю тебя, о господи, Розмари… — Фред рывком притягивает ее к себе. — Не говори так. — Фред баюкает Розмари в своих объятиях, вновь чувствует, какая она нежная, хрупкая, воздушная.
— Значит, не пугай меня.
— Не буду, не буду. — Фред покрывает поцелуями лицо и шею Розмари сквозь мягкие, растрепавшиеся локоны.
— Ты ведь не уедешь в июне, правда? — шепчет Розмари немного погодя. — Правда?
— Не знаю, — бормочет Фред, про себя гадая, что бы, черт возьми, такого сказать на кафедре, если и впрямь не поедет? Смятое платье из бледно-зеленого шелка сползает с нежных плеч Розмари, руки Фреда ласкают ее нагую грудь. — Любовь моя…
Но Розмари уворачивается от его ласк, вырывается.
— Принимаешь меня за дурочку, да? — говорит Розмари дрожащим голосом, какого Фред раньше никогда не слышал. — Решил, что я… как ты сказал про свою двоюродную сестру?., легкая добыча?
— Нет…
— А через месяц ты меня бросишь и уедешь в свою Америку. Думаешь, это тоже проще простого?
— Боже ты мой! Не хочу я ехать назад в Америку. Но, так или иначе, это ведь не навсегда. Следующим летом… — Фред снова протягивает руки к Розмари, но в этот миг она резко встает, Фред теряет равновесие и валится на диван, на белые шелковые подушки.
— Прекрасно, — говорит Розмари дребезжащим «голосом леди Эммы», как называет его Эдвин Фрэнсис. Фред слышал этот голос и раньше, но нечасто, и разговаривала она так только с упрямыми таксистами и официантами. — В таком случае прошу покинуть мой дом сию же минуту. — Розмари шествует к парадной двери, отворяет ее.
— Розмари, подожди! — Фред спешит за ней вдогонку.
— Вон. — Спутанные волосы падают Розмари на лицо, словно светлый занавес, ее прелестная грудь все еще полуоткрыта, но голос у нее строгий, равнодушный. — Вон отсюда. — Она указывает Фреду на дверь, будто выставляет кошку или собаку.
В этот миг хорошее воспитание идет Фреду во вред. Сам того не желая, он послушно переступает через порог.
— Ну выслушай же меня, всего одну минуту, ради бога… — начинает он, но Розмари хлопает дверью у него перед носом. — Подожди! Ты с ума сошла, Розмари! — кричит он блестящей сиреневой двери, медному дверному молотку с дельфином. — Я люблю тебя, ты же знаешь! Никогда в жизни я не был так счастлив… Розмари! Розмари!
Ответа нет.
7
[Винни] — дурья голова,
Пустим [Винни] на дрова!
Коль рубить невмоготу,
Отдадим ее коту.
Английская дразнилка
В первый раз за всю весну Винни заболела: у нее сильная простуда, влажный кашель и, похоже, вот-вот начнется бронхит. В это тихое дождливое утро она свернулась клубочком в кровати, под пуховым одеялом; у ног ее грелка, завернутая в кусочек фланели, а в изголовье рулон туалетной бумаги, поскольку в квартире не осталось ни одного носового платка. Грелка чуть теплая, а весь ковер вокруг кровати усыпан влажными комками бумаги. Винни от природы чистоплотна, и ей это отвратительно, но сейчас ей так тяжело и тоскливо, что уже не до грелки и не до бумажек.
Простуда сейчас для Винни — не только неприятность, а еще и позор. Она всегда верила и всем заявляла, что в Англии никогда не болеет, что микробы и головные боли, которые преследуют ее в Коринфе, не могут перебраться за ней через Атлантический океан, в ее настоящий дом. И как она теперь выглядит?
Более того, Винни подозревает, что заболела от плохого настроения, хотя вообще-то ни во что подобное не верит. Она чувствовала себя превосходно, пока на прошлой неделе не узнала, что ее грант не станут продлевать еще на полгода. Причиной болезни стала не сама по себе эта новость — Винни и не рассчитывала на дополнительные деньги, — а письмо, пришедшее в тот же день от нью-йоркской знакомой, известного ученого и члена комитета, который присудил Винни первоначальный грант. В письме знакомая сообщала, что не поддерживает нынешнее решение комитета. «Я старалась изо всех сил, — писала она, подчеркивая слова жирной черной линией, — но переубедить их было просто невозможно. Боюсь, это из-за того, что в нынешнем году в комитете Ленни Циммерн. Кстати, должна Вам сказать, очень многие считают его замечания в журнале „Атлантик“ крайне несправедливыми».
«Другими словами, — думает Винни, отматывая еще один кусок шершавой бумаги и вытирая маленький красный носик, — если бы не Л. Д. Циммерн, я могла бы остаться в Лондоне еще на полгода». Нехорошие, больные мысли, словно маленькие невидимые летучие мыши, взлетают с закрытых ставен, кружатся по темной спальне и шлепаются то там, то сям. За что Винни преследует Циммерн, который ее даже не знает? Чем она ему не угодила?
Чак Мампсон считает, что нечего выискивать причины. Мнение Чака известно Винни потому, что, размышляя, с кем бы поделиться, она выбрала Чака. Из всех ее знакомых он один не станет сплетничать, осуждать ее или жалеть. Два дня назад, когда Чак звонил из Уилтшира, Винни рассказала ему о том, как ее преследует Циммерн, при этом смягчив некоторые подробности. Вроде бы он ей просто «очень надоел». Самого же Циммерна она назвала всего-навсего «зловредным».
— Понимаю, — ответил Чак. — На самом-то деле он, может, не такой уж и зловредный. Может, он это не нарочно. Знаете, как бывает: надо что-то доказать, а для этого пример нужен. Вот и набрасываются на что-то и не думают, что за этим живой человек со своей судьбой. Такое со всяким может случиться. Я и сам по молодости так делал. Помню, был в Восточном Техасе, на заводе по переработке отходов, один начальник, который неправильно проводил испытания; у меня лицо его и сейчас перед глазами стоит. Я ему зла не желал, ей-богу. Даже не знал, что он есть на свете, но жизнь ему подпортил изрядно. Должно быть, и ваш профессор так же.
— Возможно, вы и правы, — прогундосила Винни в трубку. Она всегда так отвечает, когда не хочет спорить.
Действительно, может оказаться, что против нее лично Циммерн ничего не имеет. Вдруг у него предубеждение (корни которого в детстве, тяжелом и полном лишений) против детства вообще, или против женщин-ученых, или фольклора, или всего, вместе взятого. Однако это его не оправдывает. Как и любого преступника, его нужно судить по справедливости. И вынести ему приговор. И наказать.
По справедливости эту простуду заслужил профессор Циммерн, а не профессор Майнер; пусть у Циммерна раскалывается голова, болит горло, пусть его мучают кашель и насморк, пусть ему будет плохо. Винни представляет, будто у него та же самая болезнь, что и у нее, только желательно еще хуже, будто он в эту самую минуту лежит в постели, под тяжелой кучей одеял (обойдется без пухового, все равно в Америке они мало у кого есть). Он лежит в своей нью-йоркской квартире, должно быть, в одном из тех больших закопченных каменных зданий при Колумбийском университете. (На самом деле Л. Д. Циммерн живет на втором этаже роскошного дома в Вест-Вилледж.) Вот уже несколько недель — нет, месяцев! — ему то лучше, то хуже, фантазирует Винни. С тех самых пор, как он написал эту гадкую статью. А с тех пор как он высказался и проголосовал против того, чтобы Винни продлили грант, лучше ему вообще не становилось.
Циммерн пока не знает, что скоро ему станет еще хуже. Его простуда перейдет в бронхит, а бронхит — в вирусную пневмонию. Вскоре он окажется в одной из огромных, холодных, безликих нью-йоркских больниц, в руках у равнодушных безымянных докторов, усталых медсестер и хмурых, работающих за гроши санитаров-эмигрантов, почти сплошь наркоманов. Циммерна положат в палату на двоих, лучше ему не станет, а его друзьям — если он вообще с кем-то дружит — надоест его навещать. Винни живо представляет палату: грязное окно с видом на мрачные кирпичные стены, две высокие жесткие белые кровати, на второй из которых вонючий старикашка храпит, кашляет и ходит под себя, по телевизору с утра до вечера показывают одни викторины. Циммерн в линялом полосатом больничном халате равнодушно откладывает в сторону зачитанный до дыр «Таймс», берет с подноса пластмассовую чашку и тянет через соломинку затхлую тепловатую нью-йоркскую воду.
Больную Винни тоже пока никто не навещал, хотя она, собственно, никого и не звала. Когда Винни в плохом настроении или неважно себя чувствует, она всегда старается затаиться, пока ей не станет лучше. Даже совсем молодая, очаровательная женщина при сильной простуде кажется не такой хорошенькой, а Винни зеркало в ванной говорит, что сейчас она особенно некрасива; да и настроение у нее хуже некуда. И хотя в Лондоне у нее много знакомых, чутье подсказывает ей, что в основном это не друзья, а всего лишь добрые приятели (кроме разве что Эдвина Фрэнсиса, да и тот сейчас в Японии). Винни, конечно, любит их, но ей кажется — быть может, и несправедливо, — что их ответная дружба идет от природной доброты и человеколюбия, а не от глубокой сердечной привязанности. Винни боится подвергать эту дружбу суровым испытаниям. Если друзья и не испугаются, увидев ее такой, как сейчас, то наверняка станут жалеть, а Винни, хотя иногда и жалеет себя сама, вовсе не хочет, чтобы ее жалели другие, — даже мысль об этом ей ненавистна.
Чтобы защититься от такой опасности, Винни обычно начинает думать о невзгодах ближних и от души им сочувствует. Если бы она заболела в подходящую для простуд погоду — скажем, в начале апреля, — то с пользой поразмышляла бы о несчастьях Чака Мампсона: безработице, духовной нищете, недостатке образования, тоске, одиночестве, нелюбви к Лондону и печальном открытии, что его мудрый и благородный английский предок на деле оказался безграмотным попрошайкой. А заболей она пару недель спустя, добавила бы к списку несчастий Чака трудное детство и уголовную юность.
«Папаша» и «мамаша», рассказывал Чак, когда они с Винни в первый раз ужинали вместе, были люди темные, «без гроша в кармане» и не в ладах с законом. «Папаша был человек вовсе пропащий. Если хотите знать, полжизни просидел по тюрьмам. И на нас на всех ему было плевать».
Как поняла Винни, Чак и его многочисленные братья и сестры росли в какой-то загородной трущобе, а мать их надрывалась на работе и выпивала.
— Женщина-то она была неплохая, — объяснял Чак, накалывая на вилку непомерной величины кусок камбалы с виноградом и заедая картофелем с петрушкой (совершенно не умеет вести себя за столом), — только дома бывала редко, не могла за нами присматривать. А когда дела у нее шли плохо, злилась, и тогда нам доставалось будь здоров!
Чак и его братья росли как трава, и едва повзрослели немного, у них начались неприятности.
— Я спутался с плохой компанией. К девятому классу мы уже вовсю сбегали с уроков, ошивались в бильярдных или устраивали покатушки.
— Что? — переспросила Винни, изумляясь, насколько не к месту Чак и его история в изысканном, старомодном ресторане Уилера.
— Покатушки-то? Ну, это… Находите тачку, в которой оставили ключи, или заводите ее от другой машины и всей шайкой едете кататься. Выводите драндулет на большую дорогу и смотрите, чего он выжать способен, или берете девчонок — и айда с ними в соседний город. Если бензин кончается или за вами хвост, то бросаете на дороге. А еще, бывало, брали не машину, а пару лошадей. Потом нам эти забавы надоели. Стали вламываться в пустые дома. Просто так, чтобы поразвлечься, но если что-нибудь из вещей нравилось, брали себе. Лично я прихватывал фотоаппараты. Как-то раз в доме оказались люди и нам пришлось удирать. А потом никто не хотел сознаваться, что струсил, и мы давай выхваляться друг перед другом. Мол, в следующий раз возьмем пушку, и попадись кто на пути — всех перестреляем к чертовой матери. Один из наших знал, где его отец прячет пистолет. Можно считать, нам повезло. Нас поймали раньше, чем мы успели кого-то пристрелить, — и раньше, чем пристрелили кого-то из нас. Почти всех ребят взяли на поруки, а меня — как узнали, что у меня за семейка, — отправили в тюрьму для малолеток.
— Нет же, не тюрьма меня перевоспитала, — продолжал Чак свой рассказ, сидя рядом с Винни в партере «Ковент-Гардена», где они ждали начала «Фиделио». — Шутите? Вы были хоть раз в таком месте?.. Война перевоспитала! Меня призвали и отправили на Тихий океан, в инженерные войска. Если б не война, шел бы, наверное, и дальше по кривой дорожке и кончил бы, как отец. Только после войны перестало казаться, что убивать людей так уж весело, даже какого-нибудь япошку, который только и ждал, чтобы пристрелить тебя первым. А уж дома… Мне как-то прежний дружок рассказывал, как он пошел на ночную автозаправку с револьвером, а там малый дежурит. Не хотел никого трогать, просто услыхал шум в дальней комнате, испугался. И вот он лежит мертвый, мой дружок его лишил жизни. За что, спрашивается? Из-за каких-то пары сотен долларов. Это, знаете ли, не для меня.
— Понимаю. — Винни окинула взглядом огромный зал — сияние ламп, малиновый бархат, ярусы позолоченных лепных балконов — и снова взглянула на Чака и его кожаный галстук-ленточку. Ей показалось, будто столкнулись два мира. — И вы, значит, встали на путь истинный?
— Можно и так сказать. — Чак неловко хохотнул. — Короче, вернулся я из армии, но дома надолго не задержался. У меня были льготы для поступления в университет, экзамены в инженерный колледж я сдал хорошо, ну и подумал — черт возьми, почему бы и нет?
— Почему бы и нет? — повторила Винни, думая о том, какими неисповедимыми путями этот несчастный безработный, бывший преступник из оклахомской глуши очутился рядом с ней в «Ковент-Гардене», и о том, как ей повезло родиться в образованной, любящей, непьющей и состоятельной семье.
После вечера в опере Чак мало-помалу перестал казаться таким жалким. Ему было скучно и грустно, а потому он готов был идти куда угодно, есть что угодно и смотреть какие угодно достопримечательности. Кое-что ему нравилось, кое на что просто любопытно было взглянуть. К примеру, после «Фиделио» он сказал: «Здесь все, конечно, не так, как в жизни, но если б можно было, когда дела плохи, постоять и покричать, то всем пошло бы на пользу. Мой дед так и делал. Бывало, если его разозлить не на шутку — бросит все дела и ну крыть всех без разбору. Минут десять-пятнадцать бранится, пока не задохнется».
Винни слегка смущало, что Чак каждый раз платил за их развлечения, да еще и благодарил ее. С самого начала он по ошибке решил, что Винни добрая и отзывчивая. Это заблуждение родилось, когда они летели в Лондон (хотя на самом деле Винни всего лишь пыталась избежать разговора с ним), и укоренилось, когда Винни дала пару нехитрых советов насчет родословной. «Вам только кажется, что я добрая», — хочет иногда сказать Винни, но сдерживается.
Пусть Чак в ней ошибся, но Винни со временем поняла, что он не так уж глуп, просто недостаточно образован, а в ее понимании — вовсе невежествен. Зато хотя бы готов учиться. Чак почти ничего не читал, и Винни решила начать с азов, с детской классики — Стивенсона, Грэма, Барри, Толкиена, Уайта. Стала покупать ему книги, чтобы у него были приличные издания, а заодно в благодарность Чаку за ужин и за билеты в театр, которые он исправно покупал.
Появляясь с Чаком на самых интересных спектаклях, фильмах, концертах и выставках, Винни, конечно, рисковала наткнуться на кого-нибудь из лондонских знакомых. И в самом деле, уже во время третьего их выхода в свет — в Национальный театр — они встретили Розмари Рэдли. Винни с тяжелым сердцем представила ей Чака и увела его, как только позволили приличия. Как и следовало ожидать, Чак сказал потом: «Ни дать ни взять настоящая леди. Хоть одну аристократку встретил в Англии! Надо же, еще и красотка».
Винни была крайне удивлена, когда через несколько дней, на праздничном обеде, Розмари без тени насмешки посетовала, что Винни так быстро увела своего «забавного друга-ковбоя», и попросила во что бы то ни стало на следующей неделе привести его к ней. Винни обещала постараться, но для себя поначалу решила, что лучше не надо. Чак ей, конечно, никакой не друг и значит для нее не так уж много, но к чему брать его на вечеринку в Челси и делать из него посмешище? С другой стороны, Чак, скорее всего, не догадается, что Розмари и ее друзья над ним смеются, и если уж показывать ему Лондон, то пусть увидит не одни достопримечательности с открыток.
Итак, Винни снова нарушила свое правило держать подальше друг от друга своих английских и американских знакомых и взяла Чака с собой на вечеринку к Розмари, надеясь, что в большой пестрой компании он будет не слишком заметен. Как ни странно, его западный костюм и выговор имели небывалый успех. И хотя Чак объяснил, что на ранчо работал только в далеком детстве, англичане обступили его и забросали вопросами в невидимых кавычках о том, как заарканивают и клеймят скот и много ли в прериях краснокожих. «Что за прелесть ваш мистер Мампсон, — сказала Винни актриса Дафна Вэйн. — Американец до мозга костей, правда?» А Пози Биллингс нашла Чака «ужасно забавным» и стала настойчиво звать его и Винни к себе в Оксфордшир. Винни поняла, что здесь, в Англии, Чак не обычный американец, каких тысячи, а своеобразная, даже диковинная личность. Точно так же воспринимали бы в Америке, допустим, шотландского инженера-сантехника в юбке.
Однако в Лондоне Чак развлекался недолго. Через десять дней после вечеринки у Розмари он решил вернуться в Уилтшир, и главной причиной стали слова Эдвина Фрэнсиса. Вместо того чтобы сочувствовать Чаку из-за Старого Мампсона, Эдвин поздравил его: «Превосходно! Похоже, настоящий персонаж из книги Гарди. Вы счастливчик — мои предки по большей части такие скучные, что слов нет. Сплошь адвокаты да священники. Разузнайте о нем побольше во что бы то ни стало».
— Вот что я думаю, — поделился позже Чак своими мыслями с Винни. — Сдается мне, мистер Фрэнсис дело говорит. Надо разузнать о старике побольше. Кто бы он ни был, а он мне как-никак родня.
И Чак уехал, оставив у Винни почти все вещи. Винни дала ему с собой книгу и собрала в дорогу еду — а что тут такого? За последние пару недель он столько раз ее угощал, а в поездах здесь кормят отвратительно. К тому же они теперь друзья, — по крайней мере, так думает Чак. Многие знакомые Винни, как ни оскорбительно, считают их еще и любовниками, вопреки — а может быть, благодаря — ее совершенно искренним уверениям, что это не так.
За все годы, что Винни приезжала в Англию, она еще ни разу не была близка с англичанином. Разумеется, до сих пор она приезжала ненадолго, самое большее на несколько недель. На этот раз она в душе надеялась на любовное приключение и, как и в прошлых поездках, представляла в мечтах английских интеллектуалов, а не американских. Не то чтобы она рассчитывала на роман с каким-нибудь знаменитым университетским преподавателем, критиком, фольклористом или писателем, но уж конечно, не за тем ехала в Лондон, чтобы развлекаться с американцем-южанином, который отбился от тургруппы, с безработным инженером-сантехником в полиэтиленовом плаще и ковбойских сапогах, не имевшим никакого понятия о Гарольде Пинтере, Генри Перселле и Уильяме Блейке, пока в пятьдесят семь лет не услышал о них от нее же самой. От несправедливых подозрений в подобной связи Винни делается неловко в обществе; страдает, как ни странно, и ее самолюбие. Если бы Чак стал ее домогаться, она бы его, понятно, отвергла… только почему он до сих пор так и не попытался? То ли предчувствует отказ (хотя вряд ли — проницательностью он не блещет), то ли Винни нравится ему как человек, но не привлекает его как женщина.
Такое положение дел начало злить и расстраивать Винни, и она вздохнула с облегчением, когда Чак покинул Лондон. Она с удовольствием представляла, как он поездом едет в Бристоль за машиной, которую взял напрокат: крупный краснолицый американец в ковбойской шляпе и кожаной куртке с бахромой, который уплетает отличные бутерброды с ветчиной, приготовленные Винни, и, к удивлению остальных пассажиров первого класса, читает «Английские народные сказки» Джейкобса. Но со временем, хоть Винни и не желает в этом признаться, ей стало не хватать Чака. Она почти с нетерпением ждет его звонков — правда, звонит он часто, рассказывает о своих поисках и благодарит Винни за то, что та пересылает ему почту. Большинство писем, судя по всему, деловые, от домашних Чака не было почти ни слова. Тем не менее голос у Чака по телефону бодрый, а изредка даже веселый.
Поскольку Чака теперь не очень-то пожалеешь, простуженная Винни, лежа в постели, гадает, а не пожалеть ли ей Фреда Тернера? Вид у него в прошлый раз был достаточно жалкий.
В последнее время Фред не появлялся ни на одной из вечеринок, куда ходила Винни. Зато перед тем как слечь, она встретила его в Британском музее, куда пошла в первый раз за много недель. Работа ее почти закончена, а читальный зал она не любит, особенно весной и летом, когда толпами приходят туристы и чокнутые, духота стоит невыносимая, а издерганные библиотекари ворчат (и их, пожалуй, можно понять).
Винни шла по мокрой после дождика мостовой перед музеем и увидела Фреда: пристроившись у стенки, под карнизом, он ел бутерброд. Сначала Винни подумалось, что холостяку, живущему на приличные отпускные, нет нужды так экономить. То ли он не желает отрываться от работы больше чем на несколько минут, решила Винни, то ли, что более вероятно, билеты в театр, цветы и дорогие обеды для Розмари Рэдли сильно подточили его банковский счет.
На красивом лице Фреда застыло тоскливое, голодное выражение, и при виде Винни он не слишком повеселел. Он усадил ее рядом с собой на дощатую скамью, но в ответ на слова Винни о чудесном деньке лишь промычал что-то, хотя картина перед ними была как на рекламе «Бритиш Эйр»: небо в пушистых облаках, деревья зеленеют юной листвой, будто усыпаны блестящими конфетти, полупрозрачная дымка над площадью пронизана радужными лучами.
— Все у меня хорошо, — заверил Фред, когда Винни поинтересовалась его делами, но по его голосу чувствовалось, что все как раз наоборот. — Вы, наверное, уже знаете? Мы с Розмари расстались.
— Да, я слышала. — Винни не стала уточнять, что эта новость известна всем ее лондонским друзьям, не говоря уж о журнале «Прайвит Ай». — Понимаю, она расстроилась оттого, что вам так скоро уезжать.
— В том-то и дело. Но ей кажется… она так себя ведет… можно подумать, я ее предал. — Фред сердито мял бумажную обертку от бутерброда. — Думает, мне стоило только захотеть и я без труда остался бы. Но ведь это, черт побери, не так! Уж вы-то знаете!
Винни безоговорочно согласилась. Своим отказом преподавать на летних курсах Фред подвел бы и разозлил очень многих в Коринфе. Винни стала перечислять этих людей по именам и должностям.
— Ни к чему, — перебил ее Фред. — Я ей все это уже объяснял. Розмари замечательная женщина, но она просто-напросто не слушает. Если ей не нравится то, что ты говоришь, — она, извините, не слушает, хоть ты тресни.
— Понимаю.
— Господи, да я бы остался, если б только мог. Я ее люблю, и Лондон тоже люблю, — воскликнул Фред, роняя крошки бутерброда с арахисовым маслом. — Даже не знаю, что тут еще сказать.
— Понимаю, — повторила Винни, разделявшая его любовь к Лондону. — Уезжать всегда тяжело. По себе знаю.
— Боже, что она вбила себе в голову? У нас на этот месяц было столько планов, мы взяли билеты на фестиваль в Глиндбурне… Я никогда не говорил, что останусь в Англии навсегда и все такое прочее. Не лгал ей. Я ей давным-давно сказал, что в июне должен уехать, — видит бог, сказал. — Фред тряхнул головой, пригладил темные волнистые волосы — жест получился и озадаченный, и в то же время уверенный. Винни впервые заметила в нем ту же черту, что и у Розмари Рэдли: как и многие очень красивые люди, они убеждены, что могут распоряжаться всем, чем угодно, в своей жизни. У обоих это еще сильнее бросается в глаза потому, что сами они об этом не задумываются, а Фред, возможно, вовсе не сознает.
— Может быть, у нее это пройдет.
— Может быть, — ответил Фред безжизненным голосом, хмуро глядя на голубей, слетевшихся на крошки. — Сейчас она ни видеть меня не хочет, ни по телефону говорить со мной — ничего. Ладно уж. — Фред бросил на мостовую корочку из обертки; жирные грязно-белые голуби, расталкивая друг друга, набросились на угощение. — Скорей бы уж прошло… я через три недели уезжаю.
— Очень надеюсь, что так и будет, — поддержала Винни, хотя на самом деле отношения этих двоих ее не трогали.
— Я тоже. — По красивому лицу Фреда будто пробежала черная туча. — Послушайте, Винни, вы очень хорошо знаете Розмари…
— Я бы так не сказала.
— Все равно. Вы с ней часто видитесь. Мне пришло в голову… Вы не могли бы с ней поговорить?
— Не думаю, что…
— Объяснили бы насчет летних курсов — что я не могу просто взять и отказаться от них. — Фред раскрошил недоеденный бутерброд, вызвав нашествие голубей. Десятки птиц слетелись со всех сторон, хлопая крыльями.
— Честно говоря, не думаю, что у меня получится. — Носком туфли Винни оттолкнула в сторону самого наглого сизого голубя, чтобы тот не порвал ей чулки.
— Вас бы она выслушала, ей-богу. А ну кыш отсюда! Нет больше ничего! — Фред поднялся, взял в руки туго набитый портфель. — Винни, прошу вас.
Винни тоже поднялась, отступила на несколько шагов от стаи голубей. Взглянула на Фреда Тернера: вот он стоит у порога Британского музея, среди птиц, не уступающих ему в настырности, и ждет от нее ответа. Высокий, сильный, сейчас он пошатывается от тяжести портфеля и тяжести на душе. В этот миг Винни поняла, что Фред стал одним из тех людей (в большинстве ее бывших студентов), которые принимают как должное, когда она пишет им рекомендательные письма, представляет их зарубежным коллегам, читает их книги и статьи, болеет за их профессиональные успехи и личное счастье. Обычно выполнение одной из таких просьб не освобождает от обязательств, скорее налагает новые, как езда на автомобиле подзаряжает аккумулятор. В ученом мире отношения покровителя и подопечного — замкнутая электрическая цепь, только не подверженная законам физики. Искры иногда сыплются до самой смерти.
Для Винни одна из приятных сторон жизни в Англии — это возможность спрятаться от таких паразитов (правда, некоторые из них забрасывают ее письмами). А теперь и Фред записался в ее подопечные всего лишь потому, что они вместе работают на кафедре, вместе оказались в чужом городе и она старше на целую четверть века. А еще, наверное, потому, что она невольно стала виновницей его несчастья. Винни была в комитете, который дал Фреду творческий отпуск, и именно она пригласила его на вечеринку, где он познакомился с Розмари Рэдли.
Винни со вздохом пообещала Фреду поговорить с Розмари, если представится такая возможность. Надежды на успех было мало, и Винни втайне желала, чтобы возможность так и не представилась. На другой день Винни захворала, и желание сбылось, хоть и не самым приятным образом. Впрочем, так оно и случается обычно с желаниями — и в сказках, и в жизни.
Может быть, Фред сейчас и достоин жалости, размышляет Винни, лежа в постели с едва теплой грелкой, но о нем лучше не думать. По большому счету, жалеть его не за что. Он молод, здоров, красив, умен, образован, и — хотя Винни ему об этом никогда не скажет — на кафедре английского языка и литературы считают, что у него большое будущее. Сейчас он растерян и страдает оттого, что Розмари его бросила, но это пройдет. У него будет еще много женщин, в работе его ждут успехи, и если его не задавит машина, не поразит смертельная болезнь или иной страшный удар судьбы, то всю оставшуюся жизнь он будет до безобразия счастлив.
А Винни между тем одна, и, быть может, до конца дней. Если она заболеет, как сейчас, никто не станет сочувственно выслушивать ее жалобы и приносить ей свежий апельсиновый сок, при этом не пугаясь ее наружности и не унижая ее высокомерной жалостью, липкой, как варенье из крыжовника. Винни уже пятьдесят четыре, она стареет. С каждым годом она будет болеть все чаще и дольше, и никому не будет до нее дела.
Фидо, почти три дня подряд дремавший возле Винни, хлопает пушистым хвостом по одеялу, но Винни отталкивает его. Сейчас она имеет полное право себя пожалеть, однако увлекаться этим опасно. Если и дальше подкармливать и ласкать Фидо, даже просто вспоминать о нем чаще, чем надо, то он вконец обнаглеет. Начнет расти, станет размером уже не с гончую, а с ретривера, с овчарку, с сенбернара. Если за ним не следить, то в один прекрасный день окажется, что за Винни по пятам ходит невидимый пес величиной с быка. И пусть даже другие не смогут увидеть его, как Винни, его присутствие они непременно почувствуют. Рядом с ним Винни будет казаться маленькой и жалкой, как всякий, кто согласился в жизни играть роль Несчастненького.
— Ступай прочь, — полушепотом гонит пса Винни. — Я всего-навсего простудилась, скоро поправлюсь. Слезай с кровати. Вон из моего дома. Иди ищи мистера Мампсона, слышишь? — ни с того ни с сего добавляет она вслух, представив, как Чак, один, без друзей, в сельской глуши, роется в пыльных архивах, разыскивая своих неграмотных предков.
Воображаемый пес обдумывает слова Винни. Поднимает голову, садится, принюхивается. Спрыгивает с кровати и не оглядываясь идет к выходу.
Воспрянув духом, Винни сбрасывает одеяло и встает с постели, голова у нее кружится. Винни ковыляет на кухню, наливает стакан апельсинового сока и бросает в него таблетку редоксона со вкусом черешни. Винни не верит в Бога, зато верит в волшебную силу витамина С и, как большинство верующих, обращается к своему богу более истово, когда дела плохи. Вот и теперь она пьет до дна шипучее ярко-малиновое зелье, снова ложится в постель, опять сморкается, надевает маску для сна, прячется под одеяло и впадает в забытье.
Через час ее будит телефонный звонок.
— Винни? Это Чак, из Уилтшира. Как дела?
— Все в порядке.
— Вы, похоже, простыли?
— Если честно, да.
— Вот беда. Сильно простудились? Я во второй половине дня буду в Лондоне, хотел с вами поужинать.
— Даже не знаю. Я уже третий день лежу в постели. Чувствую себя скверно, выгляжу ужасно. — Винни без колебаний признается в этом Чаку. Не такой уж он важный человек в Лондоне и в ее жизни — пусть думает что хочет. — Посмотрим, как буду чувствовать себя к вечеру.
— Вот беда-то какая. Слушайте-ка, ложитесь в постель и укутайтесь потеплей, ладно?
— М-м-м… — Вот уже много лет никто не говорил Винни таких слов.
— Я позвоню, как только приеду, около половины восьмого. А там, если захотите, могу принести чего-нибудь перекусить.
— Спасибо за вашу заботу. — Винни представляет свой буфет и холодильник, где нет ничего, кроме трех литров супа. — Но это вовсе не обязательно. Квартира наверняка кишит микробами.
— Мне не страшно. Я ж такой здоровяк. — Чак хохочет.
— Ну… так и быть.
Винни вешает трубку и снова валится на кровать.
К восьми вечера, когда приходит Чак с пивом и ужином по-индийски, которого хватило бы по меньшей мере на четверых, Винни уже намного лучше. Чак в гостях у нее всего второй раз, и Винни вновь поражена, насколько не вписывается он в обстановку, каким кажется большим, неуклюжим, провинциальным.
Чак, естественно, ни о чем подобном не подозревает.
— Славная у вас квартирка, — замечает он, глядя в окно на лондонский палисадник, который в предзакатных лучах отливает всеми оттенками зеленого и золотого. — Славный вид. И цветы какие красивые! — Он кивает на кувшин с пышным букетом раскрытых желтых роз.
— Спасибо. — Винни неловко улыбается. Она-то знает, что розы не в магазине куплены, а срезаны вечером в соседних садах. Это мелкое воровство — первое за три месяца — случилось на другой день после того, как Винни узнала историю с Л. Д. Циммерном и грантом, и его, как и простуду, можно связать с этой неприятностью. — Давайте вашу сумку, — меняет тему Винни.
— Нет уж. Вы сидите себе, отдыхайте, я сам как-нибудь управлюсь.
Вопреки сомнениям Винни, управился Чак отлично, ужин разогрел и подал умело, проворно. Сейчас, когда Винни так плохо, его нехитрая забота ей приятна, а неспешная беседа почти успокаивает. Чак рассказал, что в Саут-Ли на этот раз съездил с пользой, и за разговорами уплел две трети ужина по-индийски и выпил почти все пиво.
— А знаете, я понял, что наука совсем не то что бизнес. В науке иной раз выходит лучше, если не пытаешься на чем-то одном сосредоточиться. Начинаешь искать одно, а случайно находишь совсем другое, тоже важное.
— Озарение, — уточняет Винни.
— Что?
Винни объясняет.
— Ага, и я о том же. Просто не знал, что для этого слово есть. — Теперь знает, но пользы от этого, похоже, немного. — В общем, рылся я в тамошней библиотеке…
— Гм. — Винни воображает себе Чака большой коровой — нет, быком, который роется в книгах сельской библиотеки, пожевывая страницы то тут, то там.
— Ну так вот, у них в метрических книгах записано, кто родился, женился, был крещен, похоронен. На кладбище многие из имен узнаешь на камнях, и за каждым именем живой человек. Рождались они, росли, учились, играли в игры. Взрослели, пахали, доили коров, косили сено, ужинали и пили пиво в «Петухе и курице», влюблялись, женились, заводили детей, болели, выздоравливали, жили, умирали. В это время Талса была всего-навсего клочком земли, где бегали бизоны да, может, охотилась кучка индейцев. А все те люди жили в Саут-Ли и в Англии много сотен лет, еще с доисторических времен, а теперь их никто не помнит. Вымерли, как бизоны. В голове не укладывается.
— Да… — Винни тоже видятся поколения призраков, Англия навевает ей точно такие же мысли. Ей чудится, что каждый клочок земли, каждая улица, каждый дом здесь населены привидениями.
— И стал я думать о моем предке, за которого мне было так стыдно. Кое-что нашел о нем, не так уж много. Он записан в метрической книге Саут-Ли. Родился в 1731-м, умер в 1801-м, было ему семьдесят лет. «Чарльз Мампсон, по прозванию Старый Мампсон». Что-то вроде почетного титула. Для нас семьдесят — это не так уж много, но в те времена мало кто до таких лет доживал. Доктора ничего тогда не знали — да и сейчас, по правде говоря, толку от них не больше.
— Верно, — кивает Винни.
— Прожить на свете семь десятков лет в те времена было большое дело, тем более для простого человека. — Чак отхлебывает пива. — Должно быть, крепкий мужик был.
— Видимо, так, — соглашается Винни. Судя по могучему сложению его потомка, похоже на правду.
— В общем, вот что я думаю… Когда Старому Мампсону было столько, сколько мне сейчас, на ферме он уже не работал — никто его больше не брал. Жена его умерла много лет назад, а двое сыновей уехали — может, даже в Америку. Нигде не записано, что они женились или умерли в Уилтшире. Ну а кроме фермерской работы, Старый Мампсон, должно быть, мало что умел. Но по миру не пошел, а стал отшельником. По-хорошему, я гордиться им должен, а не стыдиться его, так ведь?
— Пожалуй, — отвечает Винни. В душе она сомневается, но не хочет разубеждать Чака.
— А тот самый оксфордский профессор, о котором я вам рассказывал, — ну, тот, что командует раскопками, Майк Джилсон его зовут, — так вот, Майк мне и говорит: «Знаете, если Старый Мампсон не умел читать и писать, это еще не значит, что он был глупый. Может, он просто нигде не учился. В те времена многие деревенские жители были неграмотные». Может, он и вправду был местным мудрецом, вот его и наняли. Может, к нему со всей округи приходили за советом.
— Вполне, — снова соглашается Винни, в глубине души сожалея, что сама не додумалась этим утешить Чака еще несколько недель назад.
— Знания-то не только из книг берутся, верно я говорю?
— Возможно, вы и правы. — По мнению Винни, знаний, которые нельзя получить из книг, на самом деле вовсе не так много, как принято считать.
— В общем, я и о Майке хотел вам рассказать. Я говорил уже, я много бываю на раскопках, фотографии для него делаю. А еще у него есть снимки района, сделанные с воздуха, государственные. На них можно много увидеть полезного, если знаешь, что искать, — и подземные воды, и русла рек, и развалины, и границы, и дороги. Всякую всячину, которую он сперва и не заметил. Если кое-что смыслишь в геологии, это здорово помогает. Ну и вот, пару дней назад Майк мне говорит: «Почему бы тебе не остаться здесь на лето вместе с нашей группой?» Денег, правда, он мне платить не может, потому как я не гражданин Великобритании, зато он снимает на лето большой дом недалеко от раскопок, а в одном из флигелей пустует отличная меблированная квартирка. Майк сказал, что я могу в ней поселиться задаром, а обедать вместе с ними в большом доме, когда захочу.
— В самом деле? — Винни подается вперед. — Ну и как? Вы согласны?
— Пожалуй, да. — Чак широко улыбается. — Делать-то мне все одно больше нечего. А в деревне сейчас красота такая! Цветы кругом, зелень. Да и в земле рыться приятней, чем в архивах. — Чак смеется. — И Майк мне нравится, и его ребята, и как они к работе относятся. Трудятся на совесть, но и на работе не помешаны. Майк, бывает, устраивает себе полдня отдыха — идет погулять, поразмыслить. И студенты тоже. Конечно, у них голова не болит о прибыли, о доле в производстве. В бизнесе-то вот так не будешь топтаться на месте. Там если хоть на минуту остановишься — сразу назад покатишься.
— Как Черная Королева.
— Кто? — Чак хлопает глазами. — Что за королева такая?
— Из «Алисы в Зазеркалье».
— Алисы в?.. Не читал. По-вашему, стоит прочесть?
— Гм. — Составляя для Чака список книг, Винни не включила в него «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье», решив, что Чаку они покажутся запутанными и скучными, как и многим ее студентам. Но раз уж ему предстоит провести лето с оксфордским профессором, то, пожалуй, лучше подготовиться. — Думаю, стоит. — Винни вздыхает, предчувствуя, сколько разъяснений потребуется, если Чак Мампсон будет читать «Алису» как следует: о викторианской системе образования, нравах, поэзии, пародии, шахматах, психологии развития, дарвинизме…
— Ладно, раз уж вы советуете, то прочту. Постойте-ка, Винни! Вы как себя чувствуете?
— Спасибо, уже лучше.
— Вот и отлично. Знаете, я бы не прочь выпить чашечку кофе, если у вас найдется.
— Нет, но я могу сварить, — говорит Винни, отмечая, что все мужчины почему-то верят, будто где-то рядом с каждой женщиной спрятана чашечка кофе.
— Отлично.
Чак топает следом за Винни в тесную кухоньку и путается у нее под ногами, пока она наливает воды в электрочайник и готовит ему кофе, а себе чай с шиповником (в нем много витамина С).
— Вот здорово, спасибо! Молоко у вас есть?
— Не уверена. Может быть.
Винни открывает крохотный холодильник — он стоит на кухонной полочке и по американским меркам годится разве что для комнаты в студенческом общежитии. Сейчас он забит почти до отказа, хотя вместил лишь кастрюлю с супом из авокадо и водяного кресса по рецепту Пози Биллингс из журнала «Харперс Квин». Винни приготовила суп для завтрашнего званого обеда, который придется отменить, если ей не станет хоть капельку лучше.
В поисках молока Винни достает из холодильника кастрюлю, разворачивается, чтобы поставить ее на полку, но тут и Чак поворачивается к Винни, они сталкиваются, обливая друг друга холодным зеленым супом и горячим черным кофе.
— Фу ты, черт! Простите.
— Господи!
— Я не видел… Бог ты мой… Простите… Дайте-ка я… — Чак хватает кухонное полотенце, шлепает по животу Винни, пытаясь вытереть кофе и суп.
— Ничего страшного, — бормочет Винни, с трудом скрывая досаду и едва сдерживаясь, чтобы не воскликнуть: «Олух царя небесного!» — Сама виновата.
Схватив мокрую губку, Винни начинает вытирать Чака. Хорошо хоть платье подходящее надела: хлопчатобумажное, оливково-зеленое, цветастое, в стиле Лоры Эшли, суп на нем не будет виден, а вот желтая синтетическая ковбойка и светло-коричневые брюки Чака пострадали существенно. Из-за разницы в росте Винни и Чака почти весь суп оказался у него на брюках. Промокая брюки губкой, Винни вдруг замечает под ними что-то большое и твердое — а еще замечает, что Чак вполне целенаправленно возит красным клетчатым полотенцем по ее груди.
— Довольно, спасибо. — Винни отодвигается от него как можно дальше, насколько позволяет крохотная кухонька.
— Винни…
— В самом деле, Чак, хватит. Думаю, нужно замочить одежду, чем скорее, тем лучше. Ступайте в ванную, раздевайтесь. Брюки с рубашкой положите в ванну и откройте воду — чуть теплую, не горячую.
— Ладно, как скажете.
Винни подбирает осколки кофейной чашки, принимается мыть на кухне пол, но тут же бросает, уходит в спальню, стягивает липкое мокрое платье, надевает блузку и юбку. В голове у нее путаница. Три литра супа пропали — что теперь подавать завтра к обеду? Совершенно ясно, чего хотел Чак, — так ведь? Или это ошибка? Выскочить завтра с утра в магазин, купить паштета? Как бы там ни было, а я вовремя сообразила… вовремя ли? По крайней мере, он не путается больше под ногами… Или купить фунт креветок на рынке Кэмден-Лок?.. Не путается под ногами? Как сказать… Сидит в ванной почти голышом, одежда плавает рядом (слышно, как шумит вода). Может быть, если не кофе, то хотя бы пятна от супа отстираются, но во что же Чаку переодеться? Надо было отправить его назад в гостиницу, но уже поздно, нельзя ему никуда идти в мокрой насквозь одежде. Слишком много аспирина, мысли путаются, не сообразила заранее. Будь у него хотя бы приличный плащ, а не этот кошмарный прозрачный кусок полиэтилена — он висит в прихожей, Винни смотрит на него с отвращением, — надел бы его, пока сушится одежда, или даже пошел бы в нем в гостиницу.
— Эй, Винни! Есть у вас халат или что-нибудь вроде того?
Так-так, Чак и об этом успел подумать. Надо ему найти какую-нибудь одежду — не сидеть же ему в ванной всю ночь. Ну да, а как только выйдет, так сразу начнет приставать. Или не начнет. Может быть, это он от смущения. Или вообще показалось.
Винни один за другим открывает шкафы и ящики с женской одеждой маленьких размеров.
— Винни!
— Сейчас! — В отчаянии Винни бежит в кабинет и стаскивает с кушетки покрывало. — Вот. Заворачивайтесь пока в него, больше ничего подходящего нет. — Винни просовывает в дверь домотканое коричневое покрывало с геометрическим орнаментом и бахромой и, не дожидаясь возражений, вновь принимается мыть на кухне пол, весь в зеленой жиже.
— Ну и грязища! Дайте-ка я вам помогу.
— Спасибо, не надо. — Винни, стоя на четвереньках с ведром мыльной воды и той же самой губкой, которой вытирала Чака, поднимает голову. Кожаные сапоги с узором, мясистые голые ноги в бледно-рыжих волосах, домотканое покрывало с бахромой, которое кажется таким маленьким на могучем теле Чака. Винни выпрямляется.
— У вас листик в волосах. — Чак вынимает листик, протягивает его Винни.
— Водяной кресс. — Винни выбрасывает его. — Это был суп из авокадо и водяного кресса. Прошу прощения, пойду замочу платье.
— Само собой, идите, идите.
В ванной Винни стряхивает липкое платье, опускает его в воду и смотрит в зеркало — не осталось ли в волосах супа. До чего же я страшная, старая, седая, некрасивая, думает она. Зачем ему такая? Он и не подумает приставать. Перед тем как выйти, Винни опять заглядывает в ванну, где ее мокрое платье лежит рядом с рубашкой и брюками Чака — так близко, что стыдно смотреть! Включает струю прохладной воды, чтобы они отплыли друг от друга подальше, — а платье и брюки похотливо сплетаются в объятии. Ну же, возьми себя в руки, думает Винни и идет на кухню, а там — вот так чудо! — Чак уже домыл пол.
— Не ожидала… спасибо, — благодарит Винни, про себя отмечая, что в покрывале Чак превратился из фальшивого ковбоя в карикатуру на индейца. — Еще чашечку кофе?
— Нет, спасибо. — Чак, слегка улыбнувшись, продолжает смотреть на нее в упор. Винни, смутившись, не отвечает ни на взгляд, ни на улыбку.
— В таком случае… — начинает она, — не хотите ли…
— Знаете, чего бы я хотел? — И, не дожидаясь ответа, Чак-индеец хватает Винни за плечи и крепко целует в губы.
— Нет! Не надо! — возмущается Винни, но поздно.
— Ах, Винни. Знали бы вы, как давно мне этого хочется. С тех самых пор, как мы вместе пили чай. Только не хватало… даже не знаю, чего не хватало. Храбрости, что ли. Слишком тяжко было на душе. — Чак снова обнимает ее — скорее нежно, чем страстно. Может быть, это объятие говорит просто о дружбе?
— Пожалуйста, не надо, — повторяет Винни. — И давайте выйдем из кухни, а то еще что-нибудь прольем.
— Ладно.
Чак пропускает Винни вперед, идет следом за ней в гостиную, но, едва переступив порог, снова придвигается к Винни поближе, прижимает ее к стене под акварелью с видом Нью-Колледжа. На этот раз он обнимает Винни вовсе не по-дружески. Сердце у Винни радостно трепещет — как всегда, когда ею интересуются как женщиной («Я, конечно, не красотка, зато и не уродина!»). Винни переводит дух, силится овладеть собой. Но за все время после отъезда из Америки ей только жали руку или целовали в щечку, не больше, а Чак обнимает ее так крепко, так нежно. Винни обдает теплая волна, хочется расслабиться, забыть, кто она и где…
— Нет, нет, — пробует она сказать. — Я совсем не хочу… — Но вместо слов у нее выходит нечто бессвязное. Оттолкни его прочь, приказывает она себе, но тело не желает ей повиноваться, только рука держит Чака на небольшом расстоянии.
Первым отстраняется Чак.
— Винни, погодите минутку. — Тяжело дыша, он выуживает большую теплую руку у нее из-под блузки. — Господи, до чего хорошо. Но мне нужно кое-что сказать. — Чак снова укутывается в покрывало. — Присядем на минутку, ладно?
— Ладно, — вторит ему Винни дрожащим голосом.
— Я хотел сказать, что… — Чак, опустившись на диван, медлит. — Ах, черт!
— Ну же, — подбадривает его Винни, опускаясь на стул напротив; к ней понемногу возвращается самообладание. — Я знаю, что вы хотите сказать.
— Не может быть! Откуда вы знаете? — Голос у Чака сердитый и, кажется, испуганный.
— Потому что я все это уже слышала. — Теперь голос у Винни почти не дрожит. Она бросает взгляд на Чака, думая, до чего нелеп этот толстый карикатурный розовощекий индеец среди английской мебели и цветастого ситца. — Сейчас вы скажете, что вы от меня без ума, но если честно — вы очень дорожите своим браком и любите жену.
— Люблю? Черта с два! Не люблю я Мирну, я ее ненавижу Нет у нас больше никакой любви! Давно все протухло. — Чак мрачнеет. — Нет, все еще хуже, намного. — Чак хватается за покрывало, откашливается. — Помните, я рассказывал, как еще тогда, в Талсе, попал в аварию, машину разбил?
— Да, — отвечает Винни, гадая, не признается ли он сейчас, что после аварии он больше не мужчина.
— Ну так вот, я не только машину разбил. Там еще… паренек был… в «фольксвагене». Дело было на шоссе Маскоги-Тернпайк, около двух ночи. Я мчался во весь дух, миль под восемьдесят. Я всегда так по ночам летал, когда мне было страшно. Вдруг откуда ни возьмись этот старенький «фольксваген»… Выворачивает прямо передо мной с проселка, вихляет туда-сюда, будто пьяная курица. До сих пор перед глазами стоит. А в нем — тот самый парнишка шестнадцатилетний, весь накачанный амфетаминами. Хотел я затормозить, но слишком поздно сообразил — пьян был как свинья.
— И что потом?
— Погиб он. — Чак взглядывает на Винни тревожно, вопросительно и тут же, как будто боясь увидеть ее лицо, опускает глаза в пол. — Ну, вы знаете эти махонькие дряхлые иностранные машинки. Такая если попадет в аварию — считай, конец, — продолжает Чак, обращаясь к ковру. — Смяло, короче, машину, как кусок фольги. Моему «понтиаку» тоже досталось, но я из него кое-как выбрался. Трещина была в колене, голова разбита в кровь, но я тогда ничего не заметил. А парнишка… застрял в «фольксвагене»… его насквозь рулем проткнуло… и кричал. А я ничего не мог сделать, даже дверь открыть не мог. — Чак вновь поднимает глаза на Винни. — Вот так, — вздыхает он. — Темнота кругом хоть глаз выколи. У меня одна фара еще работала, и виден был кусок дороги. Кругом обломки железа да кучи битого стекла, будто колотый лед. Когда приехала полиция, я себя не помнил. У меня было двенадцать сотых процента алкоголя в крови, а когда меня заталкивали в полицейскую машину, я полез драться: решил почему-то, что должен остаться с парнишкой. Ясное дело, меня арестовали. Сопротивление при аресте, нападение на полицейского, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, преступная небрежность… А потом родители парнишки подали на меня в суд за непредумышленное убийство. Я хотел признать себя виновным; мне уж плевать было, что дальше, — так было тяжко. Мирна решила, что я спятил. Говорит, раз уж сам себя не уважаешь, так будь хотя бы порядочным человеком, обо мне подумай, о детях, об их положении в обществе.
— А вы?
— Послушался в конце концов. Наняла она для меня дорогого адвоката, и тот выиграл дело. Понимаете, я-то по главной ехал, значит, право проезда мое, а парнишка был под наркотиками, а у нас в Талсе это похуже выпивки. Только будь я трезвый, я бы его вовремя увидел, это уж точно.
— Боже, — сочувствует Винни. — Какое ужасное несчастье.
— Нейдет оно у меня из головы — и все тут. То есть вначале не шло. А теперь полегчало немного. Я долго думал, что тоже должен умереть, чтоб искупить вину перед парнишкой и его родителями. Вот это меня и мучило, а не то, что я остался без работы, как я сказал. Всякий раз, когда сажусь в машину или просто улицу перехожу, думаю об этом. Все испытываю судьбу — собьют меня или нет. Если собьют, то, может, меня простят. Хоть и знаю, что это бред.
— Конечно, бред! — решительно заявляет Винни. — Если вы погибнете в аварии, то ни мальчику, ни его родителям лучше не станет.
— Око за око…
— Сделает весь мир слепым, — заканчивает Винни.
— Да? — Чак широко улыбается. — Хорошая пословица. Не слыхал раньше.
— Это Ганди сказал.
— Кто? A-а, тот самый индус! — Улыбка сходит с лица Чака. — Ну так вот, — он беспокойно ерзает на диване, тот жалобно скрипит, — я и подумал, что нужно вам рассказать. То есть, если не захотите больше иметь со мной дела…
Винни открыли путь к отступлению, но она не может решиться. Было бы жестоко и бессовестно отвергнуть Чака из-за того, что случилось с ним на том шоссе. Никакой это не путь к отступлению — скорее предлог, чтобы продолжать.
— Глупости, — отвечает она взволнованно. — Это всего лишь несчастный случай.
— Винни! — Чак бросается к ней так стремительно, что покрывало наполовину сползает с него, и заключает Винни в теплые, полунагие объятия. — Я наперед знал, что вы скажете. Вы такая хорошая.
Лицо Винни серьезно. До сих пор никто ее хорошей не называл, и она знает, что это неправда: никакая она не хорошая — ни в понимании Чака, ни в общепринятом смысле. Не отличается ни щедростью, ни храбростью, ни теплотой; крадет розы в чужих садах и придумывает для своих врагов мучительные казни. Разумеется, этому есть оправдания, особенно если учесть, как обходится с ней жизнь и другие люди. Да и достоинства у нее все же есть: ум, вкус, такт…
— Вы столько для меня сделали, — продолжает Чак. — Можно сказать, от смерти спасли. — Он покрывает лицо Винни поцелуями, то и дело прерываясь, чтобы вставить пару слов. — Знаете, не попадись вы мне на пути, я ни за что не додумался бы искать предков… А уж Саут-Ли точно никогда не отыскал бы. Когда мы пили с вами чай, я был готов махнуть на все рукой. Если б не вы, я б и Старого Мампсона не нашел, и с Майком бы не познакомился. Ничего б не было! Попал бы уже, наверное, под машину. Или, того хуже, сидел бы дома, в Талсе.
— Подождите, — пытается вставить Винни между поцелуями, на которые мало-помалу начала отвечать. — Я не уверена, хочу ли…
Но голос ее совсем не слушается, а тело — непокорное, жадное — прижимается к Чаку. Еще! — требует оно. Еще, еще! Винни сдается. Так и быть, если очень хочется. Всего разочек. Никто ведь никогда не узнает.
8
Раненое сердце и стучит иначе.
Словно лягушонок, прыгает и скачет.
Джон Гей. Молли Мог
На другой день после вечеринки у Розмари их ссора показалась Фреду пустяковой. Характер у Розмари переменчивый, она и раньше делала мелкие глупости. Как-то раз отменила свидание из-за неудачной прически. «Похоже на гнездо бешеной мышки, — сказала она. — Не хочу, чтобы ты видел меня такой!» Но во время их следующей встречи вину свою Розмари более чем искупила. Фред невольно улыбнулся, вспомнив об этом.
Однако прошло двое суток, а Розмари по-прежнему не отвечала на звонки и не звонила сама, и Фред начал беспокоиться. Затем, к счастью, вспомнил, что на этой неделе Розмари работает над ролью в историческом сериале. Фред уселся за телефон и принялся названивать по всем известным номерам. Первым делом навел справки у агента Розмари, который, похоже, ничего не знал ни о какой ссоре (добрый знак, решил Фред), и в конце концов разузнал, что следующим утром снимается сцена на открытом воздухе всего в нескольких шагах от его дома.
Окрыленный надеждой, Фред поднялся в восемь утра, наскоро выпил кофе с подгоревшим хрустящим гренком (здешний открытый гриль он так и не освоил) и поспешил к Холланд-парку. Несмотря на ранний час, площадь, где снимают фильм, и окрестные улицы запружены машинами, фургонами и грузовиками, которые в Англии называют фурами. Часть дороги оцепили; ограждение охраняет полицейский в вальяжной позе человека, которому выпала легкая работенка. К месту съемок уже стекаются зеваки.
На небе клубятся серые тучи, но фасад высокого красивого кирпичного дома, внутренний дворик и мостовая залиты мягким золотистым светом. Льется он из прожекторов — точно такие же, только побольше, Фред видел на вечерних бейсбольных матчах. Дом не только светится от искусственных солнц, но и сияет свежей краской: колонны и отделка — белой, железные украшения — черной. Перила и деревянные части двух соседних домов тоже недавно покрасили, но только с той стороны, где видит камера, а сзади колонны этих домов тусклые и облупленные. На другой стороне площади двое рабочих с лестницей заменяют железную вывеску «Магазин Кумарасвами. Продукты» деревянной, с надписью заглавными буквами в викторианском стиле «Аптека».
Благодаря приятной внешности, американскому акценту и скромной, но уверенной манере держаться Фред без труда проходит через заграждение. Ему уступают кусочек тротуара, запруженного народом, уставленного техникой, кишащего змеями-проводами — черными, желтыми, ядовито-зелеными, — и Фред обращается к испуганной девушке с папкой в руках.
— Розмари Рэдли? Да, она здесь, но сейчас к ней нельзя. — Девушка хватает Фреда за руку, не пускает дальше. — Через пару минут начнется съемка.
Съемка, как обычно, задерживается. Проходит больше четверти часа, а Фред, прислонившись к фургону с надписью «Ли Электрикс», все смотрит и ждет. Рабочий в синем халате прикрепляет проволокой искусственные белые цветы к живым розовым кустам вдоль дорожки, что ведет к золотистому дому; двое других возятся с прожекторами. Несколько актеров в костюмах начала века стоят у бордюра и беседуют: старушка в черном, с корзиной в руках, женщина помоложе с белым зонтиком в рюшах, мужчина в твидовом костюме и шляпе, нянечка с пустой плетеной коляской. Многие из съемочной группы тоже томятся в ожидании, но то и дело поднимается шум, начинается бурная деятельность. И каждый раз в гуще этой суматохи оказывается маленький толстенький человечек с растрепанными седыми волосами и в драном коричневом свитере, похожий на облезлого бобра, — самый неопрятный и невзрачный в съемочной группе. Решив, что все задержки из-за этого неумехи техника, полного олуха под защитой профсоюзов, Фред не сразу соображает, что это режиссер.
Наконец шум затихает. Из двери золотистого дома выходит благообразный старик в старомодном костюме, за ним — очаровательная женщина в сером и розовом. Льняные волосы красавицы собраны в высокую прическу, сверху огромная шляпа с розовыми перьями и вуалью — точь-в-точь фламинго на гнезде. Розмари. Старик обращается к ней; она что-то говорит в ответ, мило улыбается. Фред не может разобрать ни слова среди шума машин на площади и криков режиссера. Что-то здесь не то, думает он и тут замечает, что микрофонов нигде не видно. Должно быть, отснятую сцену будут озвучивать потом, где-нибудь в студии.
Розмари и ее спутник спускаются по мраморной лестнице, оживленно беседуют, смеются — или по крайней мере делают вид. Камера отъезжает назад, сцена меняется: нянечка катит коляску по тротуару, навстречу молодой паре. Бобер кричит: «Стоп! Снято!» К Розмари и пожилому актеру бросаются две женщины и мужчина в комбинезоне и начинают поправлять им одежду, прически, грим. Возлюбленная Фреда и ее спутник стоят неподвижно, принимая эту заботу безучастно, как манекены. Бобер о чем-то советуется с оператором, потом еще с кем-то из съемочной группы. Наконец подает знак, и Розмари, так и не взглянув в сторону Фреда, возвращается в дом.
В следующие сорок минут то же самое повторяется множество раз, с небольшими изменениями: Розмари и пожилой актер, спускаясь по ступенькам, меняются местами; идут то быстрее, то медленнее; Розмари чуть сдвигает набок шляпу цвета розового фламинго; рабочий с пилой и лестницей срезает нависшую над перилами ветку; нянечке велят катить коляску побыстрее; в очередной раз меняют места прожекторов. Фред, которому незнакомы секреты киносъемки, не всегда может догадаться, что именно изменилось. Дважды актеры доходят до самых ворот и к ним обращается бедно одетая женщина в черном, Розмари смотрит с тревогой, потом вежливо улыбается и неслышно, но горячо говорит что-то своему спутнику.
Фред не сводит с нее глаз. Он вновь покорен красотой и обаянием возлюбленной, которая в необычном свете кажется неземным существом, он восхищен ее неизменной веселостью и терпением. Каждый раз, выходя из дома, она улыбается все так же нежно и лучезарно, сходит вниз по ступенькам все так же легко и изящно, смеется неслышной шутке актера так же непосредственно. Впервые Фред понимает, что Розмари — не просто чудное создание природы, не просто нежный цветок; он видит, что съемки — это сложная, напряженная, однообразная работа, и с новой силой восхищается любимой.
Вместе с тем многое в игре Розмари смущает его. Скажем, то, как она склоняет голову и полушутя-полусерьезно дотрагивается тремя пальчиками до рукава актера. До сих пор Фреду казалось, что это естественный, непосредственный, предназначенный только для близких жест, а не сценический прием. Не потому ли Розмари никогда не показывала ему «Замок Таллихо» на видео, хотя он не раз просил?
Наконец объявляют перерыв. Коляска брошена посреди улицы; электрики и плотники (Розмари называет их «работягами»), облокотясь на свою технику, с шумом открывают банки с содовой; помощники раздают кофе в пластмассовых стаканчиках. Из дома вновь выходит Розмари, на этот раз без шляпы. Фред спешит ей навстречу, стараясь не наступить на переплетенные провода, спотыкается, чуть не падает.
— Фредди! — Лицо ее светится радостью, как только что светилось перед камерой. — Где ты пропадал? Почему не звонил? Не надо, не трогай меня — я вся в гриме. — Розмари на ходу обнимает Фреда, пряча лицо, — вблизи оно кажется неестественно белым и гладким, будто свежеоштукатуренная стена.
— Я звонил, но попадал каждый раз на автоответчик. А ты так и не перезвонила.
— Что за глупости, милый! Никаких сообщений на автоответчике не было.
— Я звонил раза четыре-пять, не меньше, и каждый раз оставлял свое имя, — уверяет Фред.
— Вот как? Ох уж эти глупые девчонки! Завидуют, наверное. Хотят разрушить мое счастье. — Розмари хихикает.
— Что-то не верится… То есть с какой стати им так делать?
— Кто их знает, — пожимает плечами Розмари. — Каких только странностей нет у людей. — Она встает на носки, ерошит темные кудри Фреда. — Ты у меня совсем не то что они. Вот что мне в тебе нравится, Фредди, милый: ты такой благоразумный. Пойдем в гримерную. Мне бы присесть… это не корсет, а издевательство какое-то!
Розмари ведет Фреда к автобусу, который стоит чуть поодаль с распахнутыми дверьми. Внутри почти все сиденья сняты, повсюду зеркала, вешалки, складные металлические столы и стулья.
— Ах, милый. — Розмари крепко обнимает Фреда и, усевшись перед зеркалом, оглядывает себя быстро и тревожно. — Как я рада тебя видеть! — говорит она, оборачиваясь. — У меня замечательная новость. Пандора Бокс приглашает нас в конце июня к себе в замок. Места там чудные, и Джордж получил разрешение ловить рыбу в тамошней реке. Любишь рыбалку?
— Да, но ведь ты знаешь, в конце июня меня здесь уже не будет.
— Фредди, умоляю тебя. Не надо больше об этом. — Розмари вновь поворачивается к зеркалу, чтобы поправить бледно-золотые шелковистые локоны, выбившиеся из высокой прически.
— Господи, это же не от меня зависит. Надо возвращаться и вести занятия. К тому же я без гроша. Даже если бы я мог остаться, мне это не по карману.
— Ах, Фредди, — повторяет Розмари, но уже совсем другим голосом — нежным и удивленным. Перегнувшись через спинку складного стула, она протягивает к Фреду белые округлые руки в тонких серых кружевах. — Не тревожься об этом, котик. Если в этом все дело, мне ничего не стоит тебя выручить. Денег у меня сейчас полно от повторных показов, да и то, что мы сейчас снимаем, — скучища редкостная, но платят за нее хорошо.
— Я не могу жить на твои деньги, — глухо возражает Фред.
— Я и не предлагаю тебя содержать, глупенький. До такого я еще не докатилась. — Розмари весело смеется, но в голосе ее сквозит нетерпение. — Я всего лишь хочу дать тебе взаймы.
— Я не могу брать у тебя деньги. Они все погубят.
— Ах, бога ради, не прикидывайся дурачком. Это же совсем немного. А хочешь — перебирайся из этой гадкой дорогой квартиры ко мне? Вот и еще сэкономишь. А в Ирландии вообще все почти даром, а я заодно спрошу у Эла, не найдется ли для тебя в фильме какой-нибудь роли. Было бы просто восхитительно, правда?
— Ну… — тянет Фред, про себя отмечая, что Розмари вместе с викторианской модой переняла и язык тех времен.
— Роль будет без слов, — продолжает щебетать Розмари. — Тебе никак нельзя открывать рот. Из-за твоего акцента.
Фред улыбается. Мысль о том, чтобы сниматься с Розмари в британском телесериале, кажется нелепой, но приятной.
— Но из тебя вполне вышел бы молчаливый ученик садовника, или бродяга-цыган, или кто-то еще в этом духе. И тебе, конечно, заплатят кое-какие деньги. Буду на этом настаивать.
— Нет! — с жаром отвечает Фред и морщится, невольно примеряя на себя унизительную роль, которую придумала для него возлюбленная. — Это все равно что брать у тебя деньги. Нет, хуже.
Светлые, тонко очерченные брови Розмари хмурятся едва заметно, но тая угрозу. Розмари грациозно встает, поправляет складки кружевной юбки.
— Ты ведешь себя ужасно глупо, честное слово, — говорит она, глядя на Фреда сверху вниз. — Вообразил себя героем исторической драмы. Похоже, костюм и грим не мне, а тебе нужны. Хочешь нас обоих сделать несчастными из-за какого-то викторианского принципа, что мужчина не должен брать денег у женщины!
— Во всяком случае, не у любимой, — упрямо бурчит Фред.
— Не понимаю, что с тобой. — Мелодичный голос Розмари дрожит, дрожит и ее маленький округлый подбородок над высоким воротником с оборками. — Чего ты от меня хочешь? Ах, проклятье! — Розмари хватает из картонной коробки салфетку, вытирает влажные от слез глаза. — Из-за тебя весь грим испорчу!
Фред встает, обнимает Розмари. Стараясь не коснуться белого напудренного лица и испачканных тушью глаз, целует тонкий шелк волос за ухом, нежную шею под кружевами, белую, унизанную кольцами руку, в которой зажата мокрая салфетка.
— Ничего не хочу. Хочу все сразу. Просто хочу, чтобы мы и дальше любили друг друга.
— Еще четыре недели.
— Да, — отвечает Фред, удивляясь про себя, какая Розмари жесткая и в то же время мягкая: тяжелый, скользкий муар и тонкое кружево; жесткий корсет и нежная, податливая плоть под ним. Фред крепче прижимает Розмари к себе.
— Маленький паршивец! — говорит Розмари грубым, чужим голосом; таких слов Фред никогда от нее не слышал и не ожидал услышать. — Убери свои поганые руки.
Фред отшатывается.
— Надо было слушать миссис Харрис, — продолжает Розмари своим обычным голосом, но сердито. — Говорила она, что нельзя тебе доверять. — Розмари смотрит Фреду в лицо, прищурив огромные глаза с пушистыми ресницами. — Давным-давно говорила: «Вертихвост американский. Подлец, обманщик».
— Розмари, любимая…
— Прошу прощения. Мне нужно подправить грим. — Прошелестев длинной атласной юбкой, Розмари выбегает из дверей и летит прочь.
Потрясенный, Фред застывает на месте, потом пускается за ней вдогонку.
— Розмари, прошу тебя…
Розмари останавливается. Оборачивается и, смерив Фреда ледяным взглядом, подзывает одного из полицейских:
— Будьте любезны!
— Что вам угодно, мисс?
— Проводите, пожалуйста, этого джентльмена, — Розмари кивком указывает на Фреда, — он мне мешает.
— Будет сделано, мисс.
— Спасибо. — Розмари улыбается — ее огромные серо-голубые глаза влажны, и от этого улыбка еще более ослепительна — и исчезает.
— Не надо меня тащить! Сам уйду, — говорит Фред, освобождаясь от хватки полицейского.
Пробравшись среди змей-проводов, он обходит заграждение и большую толпу любопытных. Оглядывается, смотрит поверх голов на дом, окутанный неживым бронзовым светом. Во внутреннем дворике рабочий с ведром и кистью старательно красит пластмассовые розы яркой малиновой краской.
Даже после этого происшествия Фред не теряет надежды. Еще ни разу в жизни его не отвергала девушка или женщина, которая ему по-настоящему нравилась, и в чувствах Розмари он почти так же уверен, как и в собственных. Разве не оттого она плакала, что не хотела с ним расставаться?
Слезы ее, конечно, нельзя принимать всерьез. Фреду и прежде случалось видеть слезы любимой: то она рыдала над грустным фильмом, то оплакивала смерть актера, которого едва знала, а спустя полчаса могла самозабвенно хохотать над какой-нибудь скандальной историей о том же актере, рассказанной другом. Актерская душа, думает Фред, жаждет бурных сцен, стремится запутать отношения, а после так же увлеченно их распутывает. Их с Розмари чувства были не то чтобы бурными, а переменчивыми, словно погода в Англии весной, — то солнце, то дождик сменяли друг друга весело, стремительно, беззаботно.
Но дни идут за днями, о Розмари ни слуху ни духу, и Фред все больше волнуется, мрачнеет. Настроение у него меняется час от часу. То он злится на Розмари и не желает больше ее видеть, то хочет с ней увидеться, но лишь затем, чтобы отчитать ее, сказать, как он зол, то хочет ворваться к ней в дом, взять ее силой, то готов умолять ее: «Довольно от меня бегать! Времени осталось совсем мало, нельзя им так разбрасываться!»
И впервые Фред задается вопросом: а не подчиниться ли желанию Розмари? Может, и впрямь стоит позвонить или дать телеграмму в Коринф и отказаться в этом году от летних курсов? Сослаться, к примеру, на нездоровье? Разве два месяца в Англии с Розмари того не стоят? И пусть сердятся старшие коллеги, пусть даже не будет повышения по службе… Но если в это лето не преподавать, на что тогда жить? Деньги почти кончились, и, если остаться в Англии, придется жить у Розмари на ее деньги — разве не так? Она будет кормить Фреда, а когда придет время ехать в Уэльс или Ирландию, возьмет билеты на поезд или на самолет. Словом, Фред превратится в альфонса, жалкую личность, которую держат при себе и кормят, как дорогого ручного зверька. Выходит, недаром Розмари в прошлый раз назвала его «котиком»? Нет, не бывать этому!
Найти бы ключ от дома Розмари, который она дала когда-то, — можно было бы зайти в дом и дождаться ее прихода. Но проклятый ключ куда-то запропастился — должно быть, потерялся на вечеринке. Правда, Фред и без ключа делает все возможное — без конца звонит и даже ездит в Челси, да только дома никогда никого нет. Лишь однажды он застал миссис Харрис, а та не пустила его на порог, не пожелала передать, что он заходил. Гаркнула через дверь: «Проваливай!» — и большего Фред не добился. Может быть, Розмари переехала? Может быть, ее нет в городе? Фред обращается к ее агенту, однако на сей раз тот холодно-вежлив и неразговорчив. «Сожалею, — цедит он. — Я не имею представления, где искать Розмари» (и то и другое — явная ложь).
Друзья Розмари полюбезней, но помощи от них тоже немного. А их дружелюбие, как понял сейчас Фред, относится ко всем подряд, а не к нему лично. До ссоры с Розмари Фреда расспрашивали о работе, с ним советовались по вопросам политики, культуры и домашнего хозяйства. А теперь его просто-напросто бросили — мимоходом, небрежно, как смахивают на пол хлебную крошку. Знакомые Розмари очень милы и учтивы. Когда Фред звонит, они неизменно вежливы, но уклончивы и всегда «страшно заняты». Некоторые, похоже, не сразу узнают его («Ах да, Фред Тернер! Очень рад вас слышать!»). Хотя до его отъезда еще несколько недель, ему уже желают счастливого пути домой, в «Штаты», словно он уже стоит у трапа самолета. Его вопросы о Розмари или пропускают мимо ушей, или отвечают на них ничего не значащей болтовней, как принято у здешних аристократов, когда их спрашивают о неприятных мелочах («Господи, да кто ж ее знает… она, кажется, собиралась в Овернь?»). Самые близкие друзья Розмари могли бы помочь, если с ними поговорить начистоту, но их сейчас не найти. Пози живет за городом, а номера ее телефона Фред не знает (его нет в справочнике), Эрин, Надя и Эдвин за границей.
От его американской коллеги Винни Майнер тоже никакого толку. Когда на прошлой неделе они виделись в Британском музее, она обещала поговорить с Розмари, объяснить, что Фред не по своей воле уезжает из Лондона, что он любит ее… Ничего не вышло из этого поручения, если Винни его и выполнила, хотя это вряд ли. Даже если она поговорила с Розмари, думает Фред, то наверняка все только испортила. Вряд ли Винни хоть раз испытала настоящую любовь, не говоря уж о страсти, а если и было в ее жизни истинное чувство, то она наверняка уже забыла об этом.
Тем временем Фред страдает телом и душой и ничего не может с собой поделать. И днем и ночью думает он только об одном. О Розмари. Он пытается работать дома, ходит в БМ, но не может сосредоточиться, не может читать, писать, сочинять. А ведь свободного времени у него впервые за многие месяцы сколько угодно. Одинокие дни и ночи тянутся бесконечно.
И снова, как прошлой зимой, у Фреда вошло в привычку бродить по Лондону. Но теперь он знает, что город — живой, настоящий, что за его стенами, ставнями и занавешенными окнами течет сложная, интересная, насыщенная жизнь. На каждом шагу ему попадаются дома, рестораны, конторы, магазины, кварталы, где он бывал с Розмари; кажется, что улицы населены живыми воспоминаниями. На душе неспокойно, Фреду везде чудится Розмари: то она заходит в универмаг «Селфридж», то стоит в толпе зрителей в антракте, то мелькает вдалеке на Холланд-парк-роуд ее золотая головка, стучат легкие шажки, то она выходит из такси в Мэйфере. Сердце Фреда готово выскочить из груди; он бежит со всех ног, уворачиваясь от машин и расталкивая прохожих, — но всякий раз это оказывается не Розмари, а незнакомка.
Сегодня Фред попал туда, где вряд ли можно встретить Розмари. Солнечным июньским днем он прогуливается вдоль Риджентс-канала неподалеку от Кэмден-Лок вместе с Джо и Дебби Вогелер. Идут они медленно: Джо катит коляску с малышом, а старинная набережная в воскресный день запружена гуляющими. Когда Фред доберется до дома и сядет за пишущую машинку, почти весь рабочий день пропадет. С другой стороны, останься он дома — все равно ничего бы не сделал. Трудно сосредоточиться на восемнадцатом веке, когда все мысли занимает век двадцатый, особенно та минута, когда он впервые за две недели увидит Розмари и объяснится с ней. До этой минуты остается уже меньше суток.
Джо и Дебби тоже озабочены, однако в отличие от Фреда своих чувств не скрывают. Их волнует умственное развитие малыша, точнее, его задержка. Джеки уже год и четыре месяца, а он все еще не начал говорить — ни единого словечка не сказал, между тем другие дети его возраста, даже младше (следуют примеры), уже болтают вовсю. Их беспокойство, отмечает про себя Фред, идет, как сказали бы некоторые современные критики, от переоценки роли языка. Так ли уж важно, что малыш пока молчит, если Джеки (и на это Вогелерам сейчас указывает Фред) — здоровый, крепкий, подвижный ребенок.
— Он станет похож на человека, — объясняет Дебби, — только когда начнет говорить. То есть… я, конечно, понимаю, что он здоров, иногда он просто прелесть, но как бы не совсем человек… Понимаешь?
— Обидно ведь, что нельзя с ним разговаривать, — сокрушается Джо. — А так хочется узнать, о чем он думает, что чувствует. Это же наш малыш! Интересно, что он нам скажет, когда начнет говорить?
— Он может вас разочаровать, — предупреждает Фред. — Мой отец рассказывал, что, когда я был маленький, он смотрел на меня в глубоких раздумьях о детстве, в духе Вордсворта, и ждал, что за послание из высших сфер я ему принесу. А моими первыми словами были: «Хочу печенья!»
— Сколько тебе тогда было? — спрашивает Дебби, так и не поняв самого главного.
— Понятия не имею, — вздыхает Фред.
— Большинство детей начинают говорить предложениями где-то к двум годам, — сообщает Джо, — но отдельные слова умеют произносить намного раньше. Джеки лопочет без остановки, только всегда что-то бессвязное. Как думаешь, к чему бы это?
— На мой взгляд, с ним все в порядке, — отвечает Фред, никогда не имевший дела с маленькими детьми. Возможно, с Джеки в самом деле что-то не так — откуда ему знать?
Фреду вообще сейчас не до Вогелеров с их заботами, он едва замечает, что делается вокруг. А ведь места здесь красивейшие: по одну сторону — берег, заросший высокой травой и полевыми цветами, по другую — ярко раскрашенные прогулочные катера и стройные каштаны в садах на дальнем берегу, которые уже роняют в воду цветы, превращая гладь канала в ковер, расшитый бело-розовыми звездами. Теперь настоящий Лондон видится Фреду только в мучительных воспоминаниях; большую часть времени он живет в городе невнятных шумов и угрюмых призраков.
После вечеринки у Розмари Фред видится только с Вогелерами; видится чаще, чем хотелось бы, просто потому, что нет сил каждый раз придумывать отговорки. С приходом тепла Лондон стал нравиться Джо и Дебби больше, но ненамного.
— Да, здесь стало лучше, — признает Джо, — но для июня все равно холодина!
— Дома мы уже давным-давно бы купались, — поддакивает Дебби. — А уж о том, чтобы как следует загореть, здесь и мечтать не приходится.
Взгляды Вогелеров разделяют их новые друзья — двое канадских историков, с которыми Джо и Дебби познакомились в столовой Британского музея, и еще одна пара из Австралии, родственники канадцев. Все четверо согласны с Джо и Дебби: еда здесь невкусная, пиво теплое, народ угрюмый, а все памятники архитектуры такие крошечные, что смотреть не на что.
Есть у них и объяснение всему этому. Энди (австралиец) на прошлой неделе, в хэмпстедском баре, вкратце изложил Фреду свою теорию.
— Все беды нынешней Британии, — утверждал он, — оттого, что на протяжении трех веков самые храбрые, предприимчивые, независимые и стойкие из ее жителей уезжали отсюда к чертовой матери и отправлялись в колонии — в том числе в Америку, так? Ну а оставшиеся благодаря естественному отбору мало-помалу сделались робкими, косными, хилыми и раболепными. Да черт подери, оглянись вокруг! — твердил Энди. — Нынешние британцы — сборище бледных несчастных выродков, жалкие остатки благородного племени. Согласен, — признал Энди, — Австралию заселили каторжники, но погоди их хулить, приятель. Для начала подумай: за что они попали на каторгу? На самом деле это были ребята из низов, которые не принимали классовую систему и прочее дерьмо, не желали трудиться в поте лица за гроши, а в старости жить подачками. Это были люди смелые и с фантазией, они шли на риск, боролись за место под солнцем. Молль Флендерс, одним словом, а не Оливер Твист.
В сущности, потомки этих первопоселенцев, в том числе и Вогелеры, теперь относятся к Британии, как преуспевающие люди — к старичкам родителям. Восхищаются историей и традициями Англии, трогательно любят ее природу и архитектуру, но жить здесь — боже сохрани!
Соприкоснувшись на вечеринке у Розмари с настоящим (по мнению Фреда) Лондоном, Джо и Дебби не изменили своих взглядов. Почти все новые знакомые показались им «надутыми и фальшивыми», а о том, как отнесся кое-кто из гостей к малышу, им до сих пор больно вспоминать. Особенно оскорблена Дебби. Фреду даже кажется, что она лелеет свою обиду, словно уродливого, капризного ребенка — скажем, самого Джеки, когда у него плохое настроение. Ссора Фреда с Розмари и его рассказ о последней встрече с ней только укрепили их подозрения.
— Англичане все такие, особенно богатеи, — поучает Джо Фреда, пока они возвращаются по набережной к Кэмден-Лок. — Никогда не знаешь, как они на самом деле к тебе относятся.
— Коварный Альбион, — кивает Фред. Отчасти он согласен с Джо, отчасти жалеет его за ограниченность.
— Угу, угу. — Джо как будто не понял шутки. — Они умеют быть чертовски любезными, если пожелают. Ничего удивительного, что ты влюбился в Розмари Рэдли, она и меня сперва очаровала. Но вы с ней совсем разные люди.
— Гм, — недовольно мычит Фред. В который раз он удивляется, почему супружеские пары так бесцеремонно обсуждают любовные дела своих холостых друзей. Между тем, скажи он что-нибудь о семейной жизни Джо и Дебби, те преисполнились бы праведного гнева.
— Совершенно разные, — вторит мужу Дебби. — Что с тобой, мой маленький? — Она опускается на корточки рядом с Джеки, который беспокойно ерзает в коляске — у него сегодня плохое настроение.
— По-моему, он хочет вылезти, — догадывается Фред.
— Он всегда не прочь вылезти. Ну ладно, глупышка. — Дебби помогает малышу выбраться и ставит его на неловкие ножки — ходить Джеки научился всего лишь несколько месяцев назад. — Да погоди ты капельку! Бог ты мой. — Она поправляет на Джеки полосатый комбинезон и шапочку, в которых он похож на гномика-железнодорожника, и крепко берет малыша за пухлую ручонку.
— Пришла тебе пора подумать, что для тебя главное, а без чего ты вполне проживешь, — наставляет Фреда Джо, двигаясь по набережной со скоростью малыша и толкая впереди себя пустую коляску.
Как бы не так, про себя возражает Фред.
— Верно, — вставляет Дебби. — У вас с Розмари все равно не было будущего. Во-первых, она для тебя слишком стара.
— Я так не считаю, — морщится Фред. — Ты-то ведь тоже старше Джо?
— Всего на год и три месяца, это не считается, — обиженно уточняет Дебби.
— Допустим. Ну а Розмари тридцать семь. Да и какая разница, если мы любим друг друга? — говорит Фред, втайне жалея, что доверился Вогелерам и даже что знаком с ними.
— Тридцать семь? Ничего подобного! — поправляет Дебби. — Ей сорок четыре, а то и все сорок пять.
— Что за выдумки? Глупость какая, — со злобным хохотком восклицает Фред.
— А я говорю, сорок пять. Сама недавно прочла в «Санди таймс».
— Подумаешь, «Санди таймс». Мало в газетах чуши пишут? — возмущается Фред, вспомнив жалобы возлюбленной на бессовестную ложь, которую сочиняют газетчики о ней и других актерах. — Ну их всех к черту.
— Ладно, не хочешь — не верь. — В голосе Дебби слышны досада и высокомерие. — Джеки, нельзя! Не трогай! — Дебби наклоняется и отнимает у малыша сдутый, облезлый резиновый мячик с выцветшим рисунком английского флага на боку. — Это бяка! Джо, подержи-ка его.
Отец хватает непослушную ручонку малыша, а Дебби закидывает мяч подальше, на заросший травой склон. Джеки смотрит мячу вслед и изумленно вопит.
— Джеки, Джеки, посмотри-ка сюда! — кричит отец, пытаясь отвлечь ребенка. — Смотри, какой… кораблик! — Джо показывает на расписную прогулочную лодку, что стоит на якоре у дальнего берега. — О черт!
Сдутый резиновый мячик выныривает из травы, прыгает впереди по тропинке, падает в лягушачье-зеленую воду и занимает место в целой флотилии мусора, рядом с пластмассовой бутылкой из-под отбеливателя, половинкой апельсина, мокрыми деревяшками и соломинками.
— Джеки, нельзя! — Отец держит малыша, тот вырывается, кричит. — Там одна зараза! Все, уплыл.
— Ну зачем тебе этот старый грязный мячик, — уговаривает Дебби. (Все вранье, думает Фред.) — Прекрати сейчас же!
Малыш вопит во все горло и брыкается, скукожив красное личико в страшную маску.
— Фу ты черт, — вздыхает Джо. — Ладно, Джеки, пошли. — Он берет орущего гномика на руки, тот вырывается. — Раз, и два, и три… — Джо подбрасывает сына, пытаясь его успокоить, и быстрыми шагами идет по набережной впереди Дебби с коляской. — Раз, и два, и… Вот умница!
— Послушай, Фред… Прости, если я тебя чем-то обидела, — говорит Дебби, когда мяч остается далеко позади, а Джеки перестает вопить и только обиженно хнычет.
— Не страшно, — отвечает Фред, которому от души жаль Вогелеров — родителей умственно отсталого маленького чудовища.
— Мне просто не хочется, чтобы ты так расстраивался из-за пустяка.
— Не страшно, — повторяет Фред. — Постепенно все забудется, — добавляет он, думая, что если повезет, то завтра он снова будет вместе с любимой.
— Конечно, забудется, — уверяет его Джо. — Розмари Рэдли — не тот человек, который тебе нужен.
— Могу поспорить, вернешься в Америку — будешь смотреть на все другими глазами, — говорит Дебби.
— Гм, — бормочет Фред. Похоже, для Вогелеров его любовь к Розмари — тот же каприз Джеки из-за старого резинового мячика.
— Джо прав, — соглашается Дебби. — Тебе нужна женщина умная, не пустышка. Я всегда так думала, — продолжает она, приняв молчание Фреда за знак согласия. — Та, с кем ты сможешь общаться на равных. Делиться мыслями.
— Верно, — вставляет Джо. — Девушка вроде Кариссы.
— Карисса ни за что не станет вести себя так легкомысленно, безрассудно. От Кариссы всегда знаешь, чего ожидать. Она человек прямой. Помню, как-то раз она…
— Послушай, Дебби, — перебивает Фред, останавливаясь и глядя на нее в упор, — будь другом, не надо больше о Кариссе. Не в ней дело.
— Как раз таки в ней, — настаивает Джо. — Ладно, ладно! — При виде лица Фреда он идет на попятный. — Не хочешь — не будем.
— Не хочу, — отвечает Фред. Ему кажется, что он и Вогелеры вот-вот поссорятся всерьез и их семилетней дружбе придет конец. Ну и черт с ними. Сейчас ему все равно.
Все трое стоят на набережной лицом друг к другу, а внизу течет грязная зеленоватая вода, неся с собой всякий хлам. Джеки, глядя отцу через плечо, вдруг замечает свое потерянное сокровище и начинает радостно лопотать:
— А-а-а! Мя-а-а… Мя… аць!
— Мяч! — восклицает Джо. — Дебби, он сказал «мяч»!
— Слышала! — Сердитое, напряженное лицо Дебби вдруг озаряется радостной улыбкой. — Джеки, хороший мой! Скажи еще разок! Скажи: мяч!
— Мя-у-а… Мя-а… Мяць! — Малыш тянется ручонками к желанному мячу, а тот проплывает мимо среди намокшего мусора.
— Он сказал «мяч»! — торжествует мать.
— Первое слово. — Голос отца дрожит.
— Мяч, — шепчет Дебби. — Слышал, Фред?
Он сказал «мяч»!
Но они с Джо не дожидаются ответа; позабыв о Фреде, они глядят на сына с облегчением и трепетом, а потом принимаются его обнимать и осыпать счастливыми поцелуями.
Встречу с Розмари на другой день Фред собрался устроить без ее ведома и согласия. Из воскресных газет Фред узнал, что Розмари участвует в радиопередаче, посвященной недавно вышедшим воспоминаниям ее подруги Дафны Вэйн, и решил прийти во что бы то ни стало. Просидев целое утро над своей книгой (без особого успеха), он уточняет время, адрес и отправляется в путь.
Вид студии разочаровывает Фреда — совершенно неподходящее место для любовных свиданий. Он предпочел бы здание Би-би-си на Портленд-плейс, где как-то раз был с Розмари: причудливое, в стиле ар деко, над входом — золотое солнце с лучами, внутри — ряд лифтов с позолотой, а за ними лабиринт коридоров, по которым шныряют странного вида люди, все как один чем-то похожие на Белого Кролика из «Алисы в Стране чудес». Комнаты с мягкими потертыми кожаными креслами — будто уютные норки; микрофоны и пульты кажутся памятниками истории; в воздухе до сих пор веет Битвой за Англию.[6]
А здание этого частного радиоканала холодное, безликое, ультрасовременное, стеклянный коридор обставлен по-американски скупо. На пластмассовых диванах развалились больше десятка подростков, жуют резинку и болтают ногами под ритмичную рок-музыку.
— Я должен увидеться с Розмари Рэдли, — перекрикивая шум, сообщает Фред сексапильной секретарше с фиолетовыми губами и ярко-зелеными веками. — Она участвует в программе «Живое искусство» в четыре часа.
— Представьтесь, пожалуйста.
Фред машинально называет свое имя, не сразу сообразив, что стоило бы назваться чужим.
— Минутку, красавчик. Посмотрим, чем я могу помочь. — Девушка смотрит на Фреда с неподдельным восхищением, сияет улыбкой цвета спелой сливы, поднимает красную телефонную трубку. — Сейчас ее попробуют найти. — Девушка вновь улыбается Фреду. — Американец?
— Угадали.
— Я так и думала. Давно мечтаю прошвырнуться в Штаты. — Девушка держит трубку, прислушивается, улыбка ее становится натянутой — уже не спелая слива, а чернослив. Вскинув глаза на Фреда, секретарша качает головой.
— Скажите, что дело важное. Очень важное.
Девушка смотрит на Фреда иначе: все с тем же восхищением, но уже не столь почтительно — похоже, принимает его теперь не за важную персону, а за фаната. Снова что-то говорит в красную трубку.
— Извините, сейчас никак нельзя, — произносит наконец она. — Я бы вас впустила, но мне влетит.
— Дождусь конца программы.
Фред садится на черный блестящий кожаный пуфик. Пока он сидит на краешке и ждет, к столу секретарши подходят другие посетители. Девушка говорит по телефону, нажимает на кнопку звонка, пропуская их в дверь, обитую искусственной кожей. Музыка не умолкает, завывает все громче, некоторые из подростков поднимаются с диванов, дергаются в танце.
Музыка прерывается оглушительной рекламой. Подростки сгрудились в конце коридора, в руках у некоторых записные книжки, по-видимому, для автографов.
— Не упустите эту потрясающую возможность! Звоните СЕЙЧАС!.. Это программа «Живое искусство», оставайтесь с нами.
Звучит бравурная мелодия.
— И вновь я приветствую вас на программе «Живое искусство», — начинает мягкий, доверительный голос. — С вами ведущий Деннис Уитер. Сегодня мы приготовили для вас настоящий сюрприз! У нас в гостях достопочтенная Дафна Вэйн, чью автобиографию под названием «ДАФНее прошлое: жизнь в театре» недавно опубликовало издательство «Хайнеман». Госпожа Дафна Вэйн сейчас у нас в студии вместе с леди Розмари Рэдли, звездой телесериала «Замок Таллихо», удостоенного многочисленных наград…
Подростки-панки от новости не в восторге: кое-кто стонет, один притворяется, будто его сейчас вытошнит. Фред сердито косится на них, хотя и понимает, что у сериала Розмари, при всей его популярности, есть свои хулители. Например, некоторые умники-либералы считают, что загородная жизнь в нем изображена слащаво и лицемерно. Но эти бездельники, эти наглые малолетки, которых тошнит от имени Розмари… Поубивал бы всех!
— Мы будем с вами через минуту.
Пока по вестибюлю разносится реклама шампуня с дурацкой музыкальной заставкой («Еще волшебней, еще прекрасней!»), из дверей позади секретарши появляется тощий человечек в белом кожаном комбинезоне с заклепками, а за ним — двое потолще, в дешевых костюмах. Фанаты с воплями окружают тощего.
Их кумир — кто бы он ни был — пробирается сквозь толпу с натянутой улыбкой, на ходу дает пару автографов и бросается к выходу, где его ждет лимузин, а двое толстяков бегут наперерез толпе. Что в Нью-Йорке, что в Лондоне, везде одно и то же, думает Фред, с отвращением наблюдая за этой сценой.
В коридоре неожиданно звучит серебристый смех Розмари — только раза в три громче, чем в жизни. Сердце у Фреда готово выпрыгнуть из груди.
— Спасибо, дорогой Деннис, я безумно рада, что сегодня я в вашей студии. — Голос Розмари — нежный, чистый, безупречно поставленный голос аристократки — отдается эхом по всему вестибюлю, будто над головой у Фреда плывет невидимая Розмари, футов шестнадцати ростом.
Фред слушает, и мало-помалу им овладевает гнев. Розмари на все лады расхваливает автобиографию Дафны, но Фред-то знает, что это ложь. Не так давно та же Розмари при нем называла сочинение Дафны «глупой детской книжкой», а над автором насмехалась — пожалела, мол, денег на хорошего писателя-невидимку. А теперь что? Заявляет на весь Лондон — да что там, на всю Англию, — что была «просто очарована блестящим остроумием» Дафны. Как у нее язык поворачивается так врать? Как она может щебетать, заливаться смехом и болтать о театральных пустячках с Дафной и прочими олухами? Похоже, она не страдает так, как Фред, ей на него наплевать; она забыла, что он есть на свете. Ну ничего, как только кончится передача, он ей напомнит.
Под звуки все той же бравурной мелодии программа подходит к концу, и Фред направляется к дверям, обитым искусственной кожей. Пять минут спустя ни Розмари, ни остальных участников программы по-прежнему не видно.
— Эй! — окликает Фреда секретарша, пытаясь перекричать очередную современную мелодию. — Эй, молодой человек!
— Вы меня? — Фред оглядывается.
— Все еще ждете Розмари Рэдли?
— Да.
— Зря теряете время. Звезды в эти двери не выходят — разве что хотят пообщаться с поклонниками.
— Спасибо. — Фред подходит к столу, наклоняется к девушке, призвав на помощь все свое обаяние, хотя сейчас это и нелегко. — А как они выходят?
— Из задней двери и через автостоянку. Только они все, наверное, уже ушли. — Девушка опускает ядовито-зеленые веки, опушенные густыми ресницами, придвигается к Фреду поближе. — Никак в толк не возьму, зачем красавчику вроде вас эта старая корова?
— Я… — Фред рвется на защиту любимой, но одергивает себя: нельзя терять ни минуты. — Простите.
Он летит по вестибюлю, распахивает тяжелую стеклянную дверь и обегает здание кругом. Отыскивает задний ход, но двери не открываются.
С бьющимся сердцем стоит он возле груды пустых картонных коробок и ждет Розмари. Наверняка она появится в компании Дафны и прочих ослов, но это не беда… Надо увести ее в сторону, сказать ей… Фред повторяет про себя подготовленную речь, утекают минуты, пока он не догадывается наконец, что Розмари ушла. Ушла, зная, что он ее ждет.
Вне себя от долго сдерживаемой ярости, Фред разражается проклятиями.
— Чертова стерва! — вопит он на всю пустую автостоянку и продолжает ругаться. Кричит, что Розмари холодная, бессердечная, что все ее слова и жесты — некоторые всплывают в памяти, но Фред загоняет воспоминания внутрь — одна фальшь, спектакль. «Живое искусство», думает он. Ах, какое живое. И насквозь фальшивое. Дьявольщина! Фред поддает ногой влажную картонную коробку, еще раз, еще, еще…
Может быть, от него требовалось побольше «живого искусства»? Может быть, нужно было соврать Розмари, сказать, что летние курсы вести теперь не надо, пожить припеваючи еще четыре недели — и смыться на самолете домой, как «вертихвост американский», по словам миссис Харрис.
Но Фред не выдержал бы такого притворства — плохой из него лицедей. Даже думать тошно. Какая это любовь? Сплошной холодный расчет, потребительство это, а не любовь. А вот Розмари, пожалуй, выдержала бы, если б захотела…
Ревность и подозрения окутывают Фреда, словно едкий дым; как будто влажные серо-лиловые тучи, нависшие над автостоянкой, вдруг накрыли весь Лондон. А что, если Розмари с самого начала притворялась? И ссору после вечеринки разыграла нарочно… А вдруг она влюбилась в кого-то еще или вспомнила прежнюю любовь, и сейчас ее обнимает другой, и она тихонько шепчет ему что-то, смеется своим серебристым смехом, предназначенным только для самых близких. Фреду вновь кажется, что он очутился в романе Генри Джеймса. Только у Розмари теперь совсем другая роль — роль злодейки из Европы, прекрасной, многоопытной, порочной, каких у Джеймса немало.
Неужели все, что она говорила, все, чему он верил, — ложь? Что, если Дебби права и Розмари на самом деле намного старше? Ей и тридцати семи не дашь, но Нико заявил, что она сделала немало пластических операций, что для актрис это дело обычное. Фред тогда решил, что Нико просто злобный извращенец. Но предположим, что это правда… и что? Сколько бы ей ни было лет, она все равно его Розмари. Та, которую он любит. Та, которая не любит его, быть может, никогда не любила, не хочет сейчас с ним разговаривать и, возможно, лгала ему с самого начала.
Нет, ну не осел ли он? Топчется в ожидании возле кучи мусора, как влюбленный фанат ждет после концерта звезду, которая так и не появится.
Фред хмуро глядит на смятую коробку, на мусор, прибитый ветром к стене: грязные бумажки, фольгу, банку из-под пива, обрывок красной крученой шерстяной нитки, похожей на ту, которой Ру повязывала волосы.
И вдруг, в первый раз за многие недели, перед ним как живая возникает Ру. Она сидит голышом на краешке незастеленной кровати в их коринфской квартире, подняв кверху загорелые гладкие руки, удерживая тяжелую копну темно-рыжих волос. Ру делит волосы на три части и с сосредоточенной улыбкой заплетает их в блестящую косу, тугую, как трос морского корабля. Перекидывает косу на плечо и заплетает дальше, пока не останется короткий хвостик, потом прихватывает кончик косы резинкой, а поверх нее повязывает алую шерстяную нитку. Наконец, тряхнув головой, забрасывает косу с пушистым медно-рыжим хвостиком через голое смуглое плечо на спину.
Жгучая тоска по Ру охватывает Фреда. При всех своих недостатках, думает он, Ру не способна на театральное притворство. «Пока моря не высохнут до дна», как поется в ее любимой народной песне, не скажет она, что «безумно рада» выступить на какой-нибудь треклятой радиостанции.
И мучительно стыдно Фреду делается при воспоминании, что письмо Ру до сих пор одиноко лежит без ответа, поверх стопки непрочитанных умных книг, в квартире на Ноттинг-Хилл-Гейт. Сегодня же напишу ей, решает Фред, поворачивая от студии к дому. Сейчас же.
Однако почта ходит медленно, до Ру письмо дойдет только дней через десять. Может, позвонить? Дорого, конечно, ну и пусть! Но после такого долгого молчания — больше четырех недель, вспоминает Фред со стоном — Ру опять разозлится. И поделом ему, между прочим. Кричать станет, бросит трубку. А вдруг она будет в это время с другим мужчиной? На это она тоже, черт возьми, имеет полное право! Нет уж. Надо послать телеграмму.
9
Скажу вам, правду не тая,
Ей-богу, я не лгу:
Чтоб не взлететь на воздух, я
Спиной вперед бегу.
Из английской народной поэзии
В Лондонском зоопарке на дощатой скамейке сидит Винни Майнер и смотрит на белых медведей. Отсюда видно сразу нескольких: один лениво плещется в бассейне, выложенном камнями, другой спит на боку у входа в пещеру и кажется издали похожим на кучу мокрых кусочков желтовато-белого меха, третий прохаживается взад-вперед, то и дело поворачивая широкую морду, грубая шерсть на которой слиплась иголочками, и вопросительно посматривая на Винни блестящими темными глазками.
Винни живет всего в нескольких кварталах от зоопарка, но в этом году она здесь в первый раз, да и то потому, что ее пригласили двоюродные сестры из Америки. Они хотят «осмотреть» Лондон за три дня, носятся сломя голову и сегодня уже побывали в Национальной галерее. Винни никуда не спешит. Во-первых, раз уж отдала несколько фунтов за вход, может полюбоваться вволю, а во-вторых, погодка сегодня славная, а работа у нее идет быстрее, чем она ожидала. Винни собрала в Лондоне все нужные сведения, прочла почти всю литературу по теме, побывала в Оксфорде, Кенте, Гэмпшире и Норфолке, побеседовала со специалистами по детской литературе и фольклору.
Винни не из тех, кто радуется бурно, но сегодня настроение у нее на подъеме, если не сказать больше. Впервые за многие месяцы — или даже за годы — она настолько счастлива. Ей нравится все вокруг: и звери, и посетители зоопарка, и стройные деревца в молодой листве, и сверкающие мокрые газоны Риджентс-парка. Даже двоюродные сестры, против обыкновения, кажутся не скучными, а лишь слегка наивными. Фидо не появлялся вот уже несколько дней, а сама Винни о нем ни разу и не вспомнила. Должно быть, отправился вслед за Чаком в Уилтшир.
Сидя в одиночестве на скамейке, Винни чувствует себя не просто счастливой, но еще и на удивление свободной. Университет далеко, и нет нужды играть роль старой девы-преподавательницы. Смолкли настойчивые, требовательные голоса коллег, студентов и друзей. Более того, английская литература, которой Винни в детстве доверяла всем сердцем и которая целых полвека указывала ей, что думать, делать, чувствовать, к чему стремиться и кем быть, больше не имеет над ней власти. Книги ей теперь не указ просто потому, что она уже слишком стара.
В мире английской классической литературы, хорошо знакомом Винни, почти нет героев старше пятидесяти, а то и сорока. Это и понятно, ведь так оно на деле и было во времена, когда зарождался роман. Тем немногим пожилым людям — особенно женщинам, — которые все-таки попадают в книгу, обычно отводятся роли родственников, а Винни никому не мать, не дочь, не сестра. Людям старше пятидесяти, если они не родственники главных героев, остаются лишь второстепенные, характерные роли, и стариков обычно изображают смешными, жалкими или злобными. Иногда кто-то из них — учитель или наставник юного героя, но чаще он показывает плохой пример, дает вредные советы, а прошлое такого учителя скорее предупреждение, чем образец для подражания.
Авторы большинства романов принимают как должное, что люди, которым за пятьдесят, похожи на старые яблони, что они уже не меняются, не растут, а шрамы прожитых лет останутся у них навечно. В литературе принято считать, что с ними не может произойти ничего значительного, что жизнь больше ничего не дарит им, а только отнимает. Их может поразить молния или подрезать рука человека, они могут захиреть или высохнуть, их скудные плоды могут вырасти безобразными, невкусными или покрыться пятнами. Эти невзгоды они сносят достойно или не очень. Но никогда, даже при самом заботливом уходе, не пустить им новых ростков, не расцвести пышно и нежданно.
Даже в современной художественной литературе на удивление мало пожилых героев. Былые условности по-прежнему живы, и нынешний писатель, как садовод, вырубает почти все старые деревья, чтобы дать простор молодым, которые еще не привиты и не пустили глубоких корней. Принимала эту условность и Винни; долгие годы пыталась она привыкнуть к мысли, что весь остаток ее жизни будет лишь эпилогом к довольно скучному роману.
Но, сколько бы ни было человеку лет, его мировосприятие подчиняется обычным законам оптики. Какую бы малозначительную роль ни играли мы в жизни других людей, для себя самого каждый из нас — центр мироздания. А мир, размышляет Винни, — это вам не английская литература. Он полон людей за пятьдесят, которым жить и здравствовать еще добрую четверть века, у которых предостаточно времени для приключений и перемен, а то и для подвигов и прозрений.
Зачем, в конце концов, переходить на вторые роли в собственной жизни? Почему бы не представить себя исследователем, перед которым простираются новые земли, еще не описанные в литературе, — заинтересованным, увлеченным, готовым к сюрпризам?
А сейчас перед Винни открывается зоопарк, и сегодня он просто загляденье. Полуденный ливень смыл пыль с блестящей листвы и посыпанных слюдой дорожек, а воздух напоил благоуханной свежестью. К тому же благодаря дождю Винни сегодня в новом серо-голубом плаще, длинном, ярком, из мерцающего непромокаемого шелка. Сама она на такой дорогой плащ ни за что не раскошелилась бы, это подарок. В нем Винни кажется выше ростом и красивее и почти гордится собой.
Переполняет ее гордость и за Лондон. Винни радует красота его природы и архитектуры, чистота и спокойствие на улицах, разнообразие магазинов и их очарование, здешняя культура и утонченность — ученый, ироничный слог газет, уважение к истории и традициям, почтение к старости, терпимость ко всякого рода чудачествам, даже преклонение перед ними.
События, которые в другое время привели бы Винни в ярость или уныние, сегодня кажутся лишь неприятными пустяками. Утром пришел свежий номер «Атлантик» с хвалебным отзывом на статью Л. Д. Циммерна, а Винни почти не огорчилась. Бедный глупый Циммерн! Сидит себе в грязном, противном Нью-Йорке и купается в собственной мрачной злобе. Винни представляет эту злобу глубокой, холодной, грязной лужей — точь-в-точь как выложенный камнями бассейн в вольере для белых медведей. Вот Циммерн увяз почти по самый подбородок (в ее представлении — жирный) и не может выбраться. Стоит ему вскарабкаться на скользкий борт, самый большой белый медведь, который сейчас вылез из воды и греется на камнях возле бассейна, бьет его по голове тяжелой лапой, словно мокрой шваброй, и заталкивает обратно в воду.
Денек сегодня чудесный, настроение у Винни отличное, и она щадит профессора Циммерна, не дает ему утонуть. Такая ужасная смерть принесла бы дурную славу Лондонскому зоопарку. Да и медведю пришлось бы несладко — возможно, ему даже грозила бы опасность, узнай смотритель, что его призовой Thalarctos maritimus — убийца. А все-таки славный зверь! Не беда, что он неуклюжий, неповоротливый, а его грубый желтоватый мех не совсем чистый; да и умом он, похоже, не блещет. Зато он такой большой, и морда у него такая славная, веселая, лукавая! По правде сказать, он чем-то похож на Чака Мампсона. Точно такое же лицо было у Чака, когда они на прошлой неделе ходили за покупками в «Харродз», как раз перед его отъездом в Уилтшир.
Это была последняя попытка Винни привести Чака в божеский вид — не только ради него, но и ради себя самой. Если уж ходить с Чаком по Лондону — а ходить они будут немало, — то он ни в коем случае не должен быть карикатурой на американского туриста с Запада, тем более что он уже не турист. Его ковбойский наряд Винни менять не стала, поняла, что это бесполезно, к тому же, как ни странно, в обществе Чак от своего костюма только выигрывает. Ей удалось мало-помалу убедить Чака не таскать с собой столько карт и путеводителей, а фотоаппараты и экспонометры оставлять в гостинице. Винни сказала, что экскурсоводом теперь будет она, а постоянное щелканье фотоаппаратом мешает разговаривать.
Труднее было избавиться от мерзкого полиэтиленового плаща. Объяснять Чаку, какой у него отвратительный плащ, бессмысленно, как в конце концов поняла Винни. Чувство прекрасного у него развито плохо, даже об искусстве он судит почти исключительно по смыслу, а не по красоте форм. (Может быть, думала Винни, точно так же он судит и о ней — ведь для Чака неважно, как она выглядит, ему нравится не смотреть на нее, а ласкать.)
И Винни решила воззвать к его разуму и чувству приличия: отзывалась о плаще пренебрежительно, говорила, что такие носят невежественные туристы и коммивояжеры, сравнила его с занавеской для душа в дешевом мотеле. Но даже когда она в отчаянии сказала, что плащ похож на презерватив, Чака это нисколько не задело.
— Да брось, Винни, — ухмыльнулся он, — что в нем такого особенного? Ясное дело, он неказистый, зато не протекает. И почти новый.
— Неужели? — усомнилась Винни.
— Ага. Я его к турпоездке купил. А к нему конвертик из того же материала, видишь? Можно свернуть и спрятать прямо в карман. Для путешествий — самое то. Хорошо бы и тебе купить такой же.
Увидев его довольное лицо, Винни уж было совсем отчаялась. Оставалась последняя надежда, крайне слабая, учитывая климат Англии. Винни могла рассчитывать только на то, что, если они с Чаком куда-нибудь вместе пойдут, дождя не будет.
А через два дня Чак пришел к Винни обедать и, когда уходил — гораздо позже, с физиономией, довольной пуще прежнего, — забыл у нее плащ. Винни нашла это чудовище в углу гостиной — плащ лежал на ковре, похожий на большую дохлую рыбу. Винни с отвращением подняла его с пола, удивляясь про себя, до чего же он жесткий и при этом склизкий, этот серо-зеленый кусок полиэтилена! Как может Чак, такой привлекательный мужчина, носить эту мерзость? И куда бы ее повесить до следующего его прихода? Только не в чулан в коридоре — в этом уголке без дверей его увидит всякий, кто войдет в квартиру.
Винни втащила дохлую рыбу в спальню, открыла крохотный платяной шкаф и сдвинула в сторону одежду. Хорошенькие светлые блузки, платья, юбки — все из мягких натуральных тканей, — казалось, жались в сторону, подальше от незваного полиэтиленового гостя. Винни уже протянула руку, чтобы их поправить, как вдруг ни с того ни с сего сдернула плащ с вешалки, взяла за шиворот, вышла из дома, спустилась по ступенькам крыльца. Во дворе подняла железную крышку мусорного бака и затолкала плащ внутрь, между зеленым мусорным пакетом и стопкой мокрых газет.
— Тут тебе самое место, — сказала Винни дохлой рыбе. — А если Чак спросит — скажу, что нигде тебя не видела. Пусть думает, что забыл тебя где-то еще.
Как выяснилось, ничего подобного Чак не подумал и не поддался на заверения Винни, что ей ничего не известно о судьбе плаща.
— Нет уж. Я его в четверг у тебя забыл. Спорим, что ты его спрятала!
— Ну что ты! — с улыбкой, как ни в чем не бывало ответила Винни. — С какой стати мне его прятать?
— Ты его на дух не переносишь, вот с какой! — ухмыльнулся Чак.
— Полно, не смеши меня. Лежит себе, наверное, у тебя в гостинице.
— Брось, Винни. Я у тебя его оставил. Позавчера. — Чак заулыбался во весь рот. — Ты его спрятала — по глазам вижу. Меня, старого мошенника, не проведешь.
— Честное слово, не трогала. — Винни смешалась под пристальным лукавым взглядом Чака. — Хотя была бы не прочь.
— Так-так. — Чак заглянул в чулан в прихожей, пошел к Винни в спальню и настежь распахнул дверцу шкафа.
— В самом деле, Чак! — воскликнула Винни, спеша за ним следом. — Видишь ведь, его здесь нет!
— Может быть, и нет. — Чак проверил за дверью спальни и принялся выдвигать ящики комода — заглянет в каждый и снова со стуком закроет. — Ладно, радость моя. Пошутили — и будет. Давай его сюда, а я обещаю в театр сегодня не надевать.
— Нет его здесь больше. То есть и не было.
Чак весь затрясся от смеха.
— Стащила мой плащ! — сказал он. — Вот уж не ожидал! Милая, воспитанная женщина-профессор! Ну и где же он?
— Честное слово, я не… — Но у Винни больше не было сил притворяться. — Мусорщики вчера увезли, — выдавила она наконец. — Туда ему и дорога.
— Красота! И что мне теперь делать, если дождь пойдет?
— Гм… — Кровь бросилась Винни в лицо. — Куплю тебе новый.
— Идет. — Чак снова расхохотался. — Хочешь — купи.
— Только не такой, как эта твоя гадость, — решительно сказала Винни.
— Какой хочешь. — Насмеявшись вволю, Чак крепко обнял Винни.
Очутившись в его объятиях, а потом обняв его в ответ еще крепче, Винни решила, что Чак это не всерьез. Хорошо, если послушается ее совета и купит новый плащ, но вряд ли заставит ее платить, — а если и заставит ради справедливости, то уж не больше, чем стоила дохлая рыба.
Так думала Винни и на другой день, в универмаге «Харродз», даже когда Чак снял с вешалки очень дорогой плащ с поясом — Винни он тоже понравился больше всех — и сказал продавцу: вот этот подойдет.
— Вам завернуть?
— Нет, спасибо, — ухмыльнулся Чак. — Я в нем пойду. А платить будет дама, — добавил он и с невозмутимым видом дожидался, пока с карточки у Винни снимали почти сто фунтов. «Господи, что же подумал продавец? — вертелось в голове у Винни. — Решил, должно быть, что Чак — какой-нибудь альфонс… — Винни с тяжелым сердцем подписала чек. — Или что я жена-командирша, которая распоряжается его деньгами. Еще неизвестно, что хуже».
Тем не менее возражать у Винни не хватило духу — в конце концов, сама виновата. К тому же, если посчитать, сколько платил Чак за обеды, ужины и билеты в театр, она все равно в выигрыше. При всем при том Винни не могла избавиться от чувства, будто ее ловко обвели вокруг пальца. Ей вспомнилось, что Чак — бывший малолетний преступник. Старый мошенник, по его же словам.
— Ну что ж, спасибо большое, — сказал Чак.
Интересно, кого он благодарил — Винни или продавца? Понять можно было по-всякому. Затем он протянул Винни руку, но она сделала вид, что не замечает, мучительно соображая, как бы повежливей попросить назад хотя бы часть денег. Как бы сказать, что шутки шутками, а сейчас… Но не находила слов.
— Рад, что заглянули сюда, — сказал Чак уже у лифта. — Славное пальтишко, правда?
— Да, — безропотно согласилась Винни.
— И ты молодчина, — улыбнулся Чак. В эту минуту, в новом бежевом плаще, он был точь-в-точь как тот белый медведь. — Как чек подписала! Даже не пискнула!
— Да, — пискнула Винни, неловко улыбаясь.
— Все, мы в расчете. А теперь я тебе покупаю плащ.
— Мне? Но мне-то плащ не нужен!
— Еще как нужен!
Винни отпиралась изо всех сил, но Чак твердо стоял на своем.
— Хочешь сделать из меня подлеца, воришку, коммивояжера, да?
— Нет конечно, — сдалась Винни, и у нее появился новый плащ, элегантный, с капюшоном в сборках, с этикеткой известной фирмы. Уж сколько лет Винни не носила ничего столь роскошного.
Чак удивил Винни не только подарком. Он оказался великолепным любовником — настолько, что Винни нарушила данное себе слово и допустила его к себе еще раз, другой, третий… и так почти каждый день до его отъезда в Уилтшир. Подумать только, если бы не Пози Биллингс и ее суп из авокадо и водяного кресса, то, может быть, она так никогда бы и не узнала…
Иногда Винни задается вопросом: для чего вообще женщине ложиться в постель с мужчиной? Снять всю одежду и лечь рядом с кем-то большим, тоже раздетым, — чертовски опасная затея. Надежда на выигрыш так же мала, как в лотерее штата Нью-Йорк. Этот «кто-то» может обидеть тебя, посмеяться над тобой, брезгливо отвернуться при виде твоего немолодого тела. Может оказаться неловким, невнимательным, неумелым, вовсе ни на что не способным. Или с причудами. Скажем, ему нравишься не ты, а твое нижнее белье, или он предпочитает одну позу в ущерб другим. Риск так велик, что ни одна женщина в здравом уме не пошла бы на это (хотя обычно, когда на это решаешься, ум твой помрачен). Однако если тебе повезет, то выигрыш будет огромен, опять же как в лотерее штата Нью-Йорк, которой Винни иногда не брезгует.
За сорок с лишним лет Винни вытягивала немало билетов без выигрыша, зато с Чаком ей повезло, как победителям лотереи, чьи фотографии с глупыми, недоверчивыми улыбками печатают иногда в газетах. Удача и прежде улыбалась Винни, но она не надеялась пережить это вновь. Даже теперь, после четырех свиданий с постелью, ей все еще не верится.
А виной всему, догадывается Винни, не только английская литература, но и современная культура в целом. Газеты, журналы, телевидение внушают нам, что такие люди, как Чак и Винни — особенно Винни, — занимаются сексом редко и без особого удовольствия. Заблуждение это идет из прежних времен, когда большинство женщин к пятидесяти годам превращались в развалины, а то и вовсе не доживали до этих лет. А возможно, в нем отражается и брезгливость, которую испытывают многие при мысли, что их родители тоже занимаются любовью. Образы родителей должны быть величественны и бесплотны, ничто низменное не должно их касаться.
Конечно, сейчас не редкость, когда пожилые пары на глазах у всех обнимаются или целуются по-дружески. Публика смотрит на эти проявления нежности снисходительно, как посетители зоопарка на двух мокрых белых медведей напротив Винни, которые трутся носами, игриво, ласково, неуклюже. Но позволь себе медведи нечто большее — и почти все зрители смущенно удалились бы, таща за собой детей, хотя, быть может, и бросая украдкой похотливые взгляды назад. Представлять, как медведи — или Винни с Чаком — занимаются любовью, не очень-то приятно. В книгах, спектаклях, фильмах, рекламе это занятие — удел молодых и красивых. А то, что этим грешат и пожилые, и уродливые (и нередко получают от этого удовольствие), — тайна за семью печатями.
Чак в отъезде уже почти неделю, и Винни очень тоскует по нему. Вспоминает, как он гладит ее по спине и ниже, не забывая ни одного потаенного местечка; как не спеша, со вкусом ласкает языком ее грудь. Вспоминает его самую интимную часть — форму, цвет, размер, необычайную подвижность (в ответ на вопрос может кивнуть или покачать головкой — Винни такое видит впервые в жизни). Сидя на скамейке и перебирая в памяти эти и многие другие подробности, Винни так тоскует по Чаку, что ей больно. С другой стороны, присутствие Чака ставит ее перед мучительным выбором.
Винни считает, что лучше оставаться — или хотя бы казаться — свободной, чтобы не запятнать себя в глазах лондонских знакомых. В кругу Эдвина, среди таких людей, как Розмари Рэдли или Пози Биллингс, мимолетные романы считаются простительными, а вот у Винни круг знакомых несколько иной. У большинства ее здешних друзей взгляды весьма старомодные, и, даже если Чак им понравится, на супружескую измену они будут смотреть косо. В их глазах случайные связи — удел актеров, студентов, секретарш и им подобных, но женщина в возрасте Винни и с ее именем должна быть или одинока и свободна, или замужем. Или, если уж на то пошло, жить вместе с таким же образованным, уважаемым человеком.
Винни вовсе не жалеет, что легла в постель с Чаком, — как раз наоборот, но ей не хочется, чтобы об этом узнали. К сожалению, как только они стали любовниками, Чак и в обществе стал вести себя с ней совсем по-другому. Он так смотрит на Винни, так держит ее за руку, что всем сразу все становится понятно. Или же станет очень скоро, если он чуть дольше задержится в Лондоне. В следующие выходные Чак вернется, а вместе с ним вернется и удовольствие, и опасность. Едва ли можно попросить его при посторонних вести себя иначе, чем наедине с ней: пришлось бы объяснять истинные причины или, того хуже, лгать. А прятать Чака от знакомых неудобно и, скорее всего, просто не выйдет. С другой стороны, нельзя объяснять каждому встречному, что не спишь с Чаком Мампсоном, — тем более что это уже неправда.
Винни поднимается со скамейки и идет прочь от вольера. Можно подумать, если кто-то из знакомых застанет ее у вольера с медведем, смахивающим на Чака Мампсона, то сразу обо всем догадается. Если сочтут, что у меня любовник, рассуждает Винни, будет сложно; но если решат, что я сплю с Чаком Мампсоном — а здесь, в Англии, это все равно что с белым медведем, — то будет еще хуже.
Дело не в том, что здешним друзьям Винни не нравится Чак. Напротив, очень даже нравится: его находят занятным, своеобразным, а его американскую простоту и грубоватость — очень забавной. Вся беда в том, что если английские друзья Винни узнают, что она сошлась с Чаком, то ее начнут равнять с ним, станут смотреть на нее другими глазами. И не потому, что они англичане, — так мыслят все люди. Бывает, что эта путаница затягивает и самих влюбленных: опьяненные страстью, они верят, что души их слились в одно или всегда были единым целым. Как сказал однажды американский друг Винни, когда их краткие отношения достигли высшей точки, в городском парке в Саратога-Спрингс: «Иногда мне кажется, что я — это ты, а ты — это я». «И мне», — согласилась Винни, тоже во власти этого заблуждения. (Сейчас ей ничего подобного не кажется. Скорее наоборот: рядом с Чаком она, как никогда, чувствует себя маленькой, робкой и необычайно умной.)
Еще чаще ставят знак равенства между влюбленными люди со стороны, наделяя их чертами друг друга. Если радикал встречается с консерватором, то политические взгляды обоих кажутся умеренными, даже если на деле они не изменились. Заведи роман с человеком намного моложе тебя — и сама будешь казаться моложе, а твой возлюбленный — более зрелым.
Винни не хочет, чтобы лондонские друзья путали ее с Чаком, считали простоватой, смешной, вульгарной — одним словом, обычной американкой. Пусть ее принимают такой, какая она есть. Пусть считают ее одной из них (между прочим, до сих пор Винни казалось, что это на самом деле так). Пусть видят в ней главную героиню, а не второстепенный персонаж; наблюдателя, а не ту, за кем наблюдают, думает Винни, остановившись у вольера с водоплавающими птицами, напоминающего гигантскую сетку от комаров, кое-где подпертую высокими алюминиевыми шестами. Хорошо быть одной из тех маленьких, неприметных бурых птичек, что плещутся на мелководье или бродят, шурша, среди болотных трав возле ограды, — деловитые, довольные собой, настоящие хозяева. И совсем не хочется быть похожей на одну из жирных, ярко раскрашенных редких птиц, на которых сейчас с хихиканьем показывает пальцами кучка горожан.
Яркие птицы и зеваки напомнили Винни о Дафне Вэйн и о том, что через час, а то и меньше, начнется банкет у издателя в честь выхода ее воспоминаний, написанных в основном чужой рукой. Чтобы успеть прилично одеться и помыть голову, надо спешить. Хорошо, что банкет устраивают в Мэйфере, куда нетрудно добраться на семьдесят четвертом автобусе, который ходит от зоопарка и останавливается чуть ли не у дверей дома Винни.
Винни появляется в роскошном перестроенном особняке в георгианском стиле, когда банкет у Дафны уже в самом разгаре. Первые полчаса ей кажется, что здесь весело и оживленно, потом — чересчур шумно и людно. Приемы, где нужно стоять, даются Винни тяжело из-за ее небольшого роста: почти все разговоры ведутся над ее головой, а если нужно куда-то пройти, Винни чувствует себя ребенком, который, увидев в толпе знакомое лицо, пробирается среди равнодушных взрослых, то и дело натыкаясь на острые локти и толстые зады. К тому же сегодня многие, кого с первого взгляда узнает Винни, оказываются вовсе не знакомыми, а актерами, которых она видела когда-то на сцене или на экране. Понятно, что, как большинству актеров, им неинтересно с людьми иного круга.
— Ну как, весело? — спрашивает настоящий знакомый, Уильям Прост, глядя на Винни сверху вниз.
— Да. То есть не особенно. Прием у издателя — не лучший повод для встреч, на мой взгляд.
— А это и не повод для встреч, — уточняет Уильям Прост, дотянувшись до тарелки с горячими закусками и предлагая их Винни. — Как обычно, народ пригласили не просто так, а с расчетом. У одних — связи с какой-нибудь фирмой, у других — с газетой, у третьих — с театральным миром. Правда, я слышал, Найджел очень разочарован, что пришло так мало театральных деятелей. Я здесь затем, чтобы устроить обсуждение книги на Би-би-си, а вы — чтобы рассказать всей Америке, до чего она замечательная.
— По-видимому, вы правы. — Ничего умнее Винни придумать не может. В голове у нее гудит, желудок разболелся от крепкого пунша и острых канапе.
Винни прощается с Уильямом и идет к дверям, на ходу приветствуя немногочисленных знакомых. Среди них, как и следовало ожидать, Розмари Рэдли.
— Чудесно здесь, правда? — Несмотря на изысканный наряд и безупречный макияж, Розмари кажется рассеянной, равнодушной, она слегка навеселе.
— О да, очень.
Винни вспоминает, что должна была о чем-то поговорить с Розмари, но о чем именно? Ах да! Нужно объяснить, что Фред Тернер любит ее и в Америку возвращается не по своей воле. Поручение не из приятных, да и место для разговора — в зале, полном людей, — неподходящее. И зачем это нужно, если подумать? Исход их романа был предрешен, с самого начала было ясно, что вместе им не быть. Розмари, конечно, красавица, и жизнь у нее яркая, блестящая. Некоторым как раз такое по душе, но для Фреда она слишком сложный человек и влияет на него дурно. Розмари легкомысленна, себялюбива, несдержанна, любит все дорогое и фальшивое. Даже если и можно их помирить, то вряд ли нужно.
Однако капризная судьба предоставляет Винни случай выполнить обещание. Как только Винни сняла с вешалки плащ, вновь появилась Розмари с вопросом, не подвезти ли ее до дома. Розмари едет на Глостер-Кресент, на званый ужин, и без труда подбросит Винни. Стыдясь своих недавних мыслей, Винни колеблется, но голова у нее болит все сильнее, а семьдесят четвертый автобус с закрытием зоопарка становится редким, почти вымирает — и Винни соглашается.
Поймать такси в этот час в Мэйфере обычно сложно, но Розмари каким-то чудом высматривает одно. Пустившись нетвердой походкой по Верхней Гросвенор-стрит (в серебристых босоножках на шпильках и длинной розовой накидке, развевающейся позади), Розмари обгоняет двух мужчин в котелках, уже остановивших такси. Те возмущаются, но Розмари, одарив их лучезарной улыбкой, отворяет дверь, машет Винни и со вздохом сама опускается на сиденье — безвольно, как сдутый розовый воздушный шарик.
— Сборище идиотов, — начинает она нежным, мелодичным голосом. — Дураки университетские. Когда-то прочитали пьесу и мнят, что все знают о театре.
Винни молчит. Насколько она помнит, кроме нее, «университетских дураков» на банкете больше не было. Так на кого же намекает Розмари?
— Вино скверное, — продолжает ее спутница, — а закусок кот наплакал.
— Нет, что вы, — спешит поправить ее Винни, — еды было достаточно.
— Неужели? Меня никто не угощал. — Розмари звонко смеется. — Сами объедались, а мне не предлагали.
Винни снова молчит. Не в ее ли собственный огород этот камешек? Молчит и Розмари, сидит печальная в своем шелковом коконе.
Машин на дороге много, такси движется по Саут-Одли-стрит рывками: лишь тронется с места и тут же тормозит. С такой скоростью и за два часа не доползти до Риджентс-парк-роуд. Если сию минуту выйти и пешком добраться до станции метро «Бонд-стрит»… Но не успевает Винни решиться, как Розмари, повернувшись к ней, начинает жаловаться на Фреда, причем называет его «ваш друг Фред», тем самым исключая его из круга своих друзей и перекладывая ответственность за него на плечи Винни.
— Меня не проведешь! — заявляет она. — Я отлично знаю, что вашему другу Фреду вовсе необязательно возвращаться летом в свой дурацкий колледж.
Нехотя, покорившись судьбе, Винни уверяет Розмари, что это не так, и объясняет почему. Розмари слушает недоверчиво, постукивая по полу носком серебряной туфельки и глядя из окна куда-то вдаль.
— Довольно, Винни, — перебивает она. — Не желаю снова выслушивать этот бред. Ясно, что это неспроста. Он возвращается к своей дуре жене, так ведь?
Винни уверяет, что к жене Фред возвращаться не собирается, что между ними все давным-давно кончено.
— Он любит вас, — добавляет она, морщась от головной боли и мечтая поскорей выбраться отсюда. — Только и твердит, какая вы замечательная.
— Да уж, конечно. — Странное дело: голос у Розмари стал низким и грубым. Не будь они в такси, Винни оглянулась бы в поисках говорящего.
— Именно так он о вас и отзывается. И я верю, — добавляет Винни.
— Ничего удивительного, — произносит Розмари своим обычным голосом аристократки, слегка растягивая слова. — Вы же не разбираетесь в мужчинах, Винни. Все они обманщики.
Винни с тревогой смотрит в затылок таксисту и, подавшись вперед, рывком закрывает окно.
— Знаете ли, милочка, если мужчина ищет предлог, чтобы вас бросить, он начинает каждому встречному расписывать, какая вы замечательная. — Розмари говорит то грубым голосом, то своим обычным, сбиваясь с одного на другой, как будто пробуется на неподходящую ей роль в простонародной комедии и не может до конца войти в образ. — Они всегда так делают, мерзавцы. Это дурной знак.
— Поймите же, это вовсе не предлог… — Превозмогая усталость, Винни принимается объяснять Розмари систему контрактов в американских университетах.
— Зря время теряете, дорогуша, — перебивает Розмари. — Мне на все это плевать. Я одно знаю: он хочет улизнуть от меня, — говорит она голосом комедийной героини, который Винни слышала и прежде, только не может вспомнить где.
— Фред не хочет улизну…
— Я не могу без него, Винни! — стонет Розмари жалобным, нежным голосом и всхлипывает. — Скажите ему, чтоб и думать забыл о своей дурацкой работе. Если он ко мне не вернется, я опять останусь одна. Вы не представляете, что для меня значит остаться одной. — Она наклоняется к Винни, дыша ей в лицо, — и тут до Винни наконец доходит, что Розмари не просто навеселе, а сильно пьяна.
Раздосадованная, Винни пытается успокоить Розмари, обращаясь к ней не спеша и твердо, как к шумным студентам на занятиях:
— Вы не останетесь одна. У вас столько друзей, столько поклонников, я точно знаю, что…
— Это вам только так кажется, дорогуша. Думаете, все мужчины хотят спать со мной? Я тоже раньше так думала. — Розмари продолжает уже другим голосом: — Ну и дура же я была! Мужчины не спать со мной хотят, а только переспать. Чтоб хвалиться потом друзьям: «A-а, леди Розмари Рэдли, телезвезда? Да, я с ней хорошо знаком. По правде говоря, мы с ней были когда-то о-очень близки». — Розмари примеряет на себя еще один голос — низкий, вкрадчивый, многозначительный. — Все они такие, подлецы. — Голос опять меняется. — Кроме Фредди. Фредди знал, что я актриса, но ему было плевать. До нашей встречи он даже не слыхал о «Замке Таллихо». Я-то думала, все американцы помешаны на британском телевидении, а у него и телевизора-то дома нет, прости господи. Он и сериала ни разу не видел — просто любил меня такой, как есть. — Розмари рыдает, некрасиво скривившись, совсем не как в кино, когда она плачет перед камерой. — Но и он оказался подлецом. Все мужчины одинаковы!
На Оксфорд-стрит такси застревает в пробке, со всех сторон водители и пассажиры глядят на плачущую пьяную женщину, которую отделяет от них всего лишь тонкое стекло, — к чужому горю британцы втайне питают жгучее любопытство.
— Он все звонит и звонит мне на автоответчик, но я ни видеть его не могу, ни говорить с ним. Тяжело мне, Винни! Если б я только знала, что он остается насовсем, я бы… — Розмари умолкает, заметив, что окружена зеваками. — Чего надо? — оборачивается вдруг она с уродливой гримасой и грубым жестом к ближайшему зрителю, дородному, хорошо одетому мужчине в такси напротив. Он вздрагивает и отворачивается, делая вид, будто ничего не случилось.
Розмари хохочет злобно, почти как безумная, потом валится на Винни и снова кричит в раскрытое окно, пугая девушку за рулем «мини»:
— Что уставилась, любопытная сучка? Не лезь в чужие дела!
Ухмыляясь, Розмари снова падает на сиденье. Смятая розовая накидка валяется рядом, будто сброшенный шелковый кокон; вот только то, что вылупилось из кокона, думает Винни, — явно не бабочка.
Такси наконец трогается с места на зеленый сигнал светофора. Повернувшись к Винни, Розмари воркует сладким голоском:
— В следующий раз, когда увидите мистера Фредерика Тернера…
— Что?
— Будьте так любезны, передайте ему от меня пару слов. Хорошо? — Розмари стала подчеркнуто любезна, почти нежна.
— Непременно, — кивает Винни, озадаченная и даже слегка напуганная такой быстрой сменой масок.
— Передайте ему, пожалуйста… м-м… Скажите ему, чтобы он больше мне не звонил, не писал. — Голос ее снова меняется. — И вообще пусть проваливает к чертовой матери!
— Право же, Розмари. Вы ведь не хотите сказать, что…
— Право же, Винни. Именно это я и хочу сказать, — перебивает Розмари, передразнивая интонацию и акцент Винни. — Я вами сыта по горло, америкашки чертовы, — продолжает она грубым, простонародным говором, смутно знакомым Винни. — Ишь повадились к нам! Никому вы здесь не нужны, только всю страну поизгадили! — Розмари тычет пальцем в сувенирные магазины и рестораны быстрого питания, обезобразившие Оксфорд-стрит.
Широкий, развязный жест и гримаса выходят у нее точь-в-точь как у героини простонародной комедии, как у домработницы из мюзикла — скажем, миссис Харрис. Так и есть. Вот, оказывается, где Винни слышала этот голос раза два — по телефону, когда не могла застать Розмари, и множество раз — на вечеринках, когда Розмари, рассказывая какую-нибудь историю, передразнивала миссис Харрис.
— Это не про меня, — защищается Винни с вымученным смехом, пытаясь перевести слова Розмари в шутку (может быть, это и в самом деле шутка). — Я и в мыслях не держала…
— Само собой, — неожиданно соглашается Розмари. — Вы мне лучше вот что скажите, Винни. Сколько вам лет?
— Мне… пятьдесят четыре. — На этот вопрос Винни всегда дает точный ответ.
— Ну и ну! — с милой улыбкой изумляется Розмари. — Ни за что бы не подумала!
— Спасибо. — Несмотря ни на что, Винни довольна, даже польщена. — Это оттого, что я маленького роста, только и всего.
— Знаете, Винни, что в вас такого удивительного?
— Н-нет. — Винни улыбается в предвкушении.
— Ну так я вам скажу, что в вас удивительного. — Розмари Рэдли раскрывает розовые, нежные, как лепестки, губки… и вновь раздается голос миссис Харрис: — Вам пятьдесят четыре, а выглядите на все шестьдесят и ни черта не смыслите в жизни!
Такси, после многих остановок, наконец свернуло на Портман-сквер и затормозило возле клумбы с канареечно-желтыми тюльпанами. Пользуясь случаем, Винни бормочет, что ей к половине восьмого нужно домой, распахивает дверь и пускается в бегство.
Не оглядываясь, на ходу уворачиваясь от машин, спешит Винни к остановке семьдесят четвертого автобуса. Идет она очень быстро, дышать тяжело, но Винни рада, что у нее хватило духу выскочить из такси и теперь не придется выслушивать оскорблений пьяной Розмари. Всю страну поизгадили. Пятьдесят четыре, а на вид все шестьдесят. Винни стоит на тротуаре, дрожа от гнева и обиды. Нельзя было сидеть и молча терпеть! Надо было сказать… Но Винни не приходит в голову, что надо было сказать. Да и что толку спорить с пьяной женщиной?
Конечно, Винни никогда не любила Розмари, и неприязнь эта, скорее всего, взаимна. Их и друзьями-то назвать нельзя. Настоящие друзья Винни точно так же недолюбливают Розмари — все, кроме Эдвина, да и тот считает ее избалованной и неуравновешенной, хоть и прощает ей эти недостатки за то, что она актриса. «Актриса! Подумаешь, актриса», — яростно повторяет про себя Винни.
На подходе к автобусной остановке Винни вспоминает, что в актерском ремесле ей всегда чудилось нечто неприятное. В самом деле, разве естественно для человека по собственной воле полностью менять голос и манеру держаться? Такие раздумья зачастую одолевают Винни в театре, где ей всегда немного неуютно, каким бы интересным или трогательным ни был спектакль. Нехорошее это дело — перевоплощаться в другие живые существа, и чем удачнее превращение, тем больше веет от него ужасом, сверхъестественной жутью.
Именно сверхъестественной, потому что лицедейство разрушает нашу веру в неповторимость каждого человека, размышляет Винни, стоя в очереди на остановке за шестью женщинами разных возрастов и профессий, в любую из которых могла бы при желании превратиться Розмари, как несколько минут назад она превратилась в Винни Майнер, и вновь слышит, как Розмари говорит ее голосом: «Право же, Винни…» Неужели она и вправду так разговаривает — свысока, гнусаво, будто школьная учительница? Правда, собственный голос мало кому нравится. Винни помнит, как неловко ей было, когда ее записывали на магнитофон. Интересно, слышала ли хоть раз миссис Харрис, как изображает ее Розмари? Пожалуй, вряд ли. Женщина вроде миссис Харрис не стерпела бы такого, пришла бы в ярость, осыпала бы Розмари бранью, а то и дала бы ей пощечину (и поделом — размечталась Винни).
Актерский дар таит и другие опасности, думает Винни, переводя дух после своей пробежки. Бывает, что одну и ту же роль играют слишком часто; бывает, актерам поручают роли одного и того же плана и они годами играют простушек или мудрых молчаливых сыщиков. Иногда актер так сживается с ролью, что она затмевает его собственную личность, не такую яркую — как в глазах самого артиста, так и в глазах общества.
«Прав был Эдвин», — говорит про себя Винни, когда подходит большой красный автобус. Еще до отъезда в Японию он уже понимал, что творится, он видел, что миссис Харрис дурно влияет на Розмари. Вначале Розмари в шутку изображала ее в светской беседе, а теперь дошло до того, что в пьяном угаре личность домработницы, сильная, но неприятная, берет верх над ее собственной, более слабой, — и Розмари несет такие пакости, которые ей самой и в голову бы не пришли. Разумеется, она не думает, что Винни изгадила весь Лондон и ни черта не смыслит в жизни.
Да, любопытная теория. К тому же хорошая, утешительная, размышляет Винни, пока семьдесят четвертый автобус ползет на север, к Риджентс-парку. С другой стороны… быть может, Розмари, хоть и была пьяна, сказала то, что думала? Наверное, в порыве ревности к жене Фреда гнев ее излился и на Винни — тут-то и вышла наружу правда? А правду о Винни — то, что на самом деле думают о ней все ее друзья, а то и весь Лондон, — не сможет начистоту выложить такая милая, обаятельная и утонченная женщина, как леди Розмари Рэдли. Чтобы выразить это, нужно стать грубой, несдержанной, мстительной, как миссис Харрис. И Розмари это удалось на славу. Она ведь актриса.
Дома Винни хочется сразу же забраться в постель, под одеяло с головой. Но она не поддается минутной слабости. Не устала ведь, в конце концов, не больна — просто злится, тоскует, голова болит. Не хочется снова куда-то идти, даже в «Лимонию» рядом с домом, поужинать с двоюродными сестрами. Нет у Винни доверия к миру: не делаешь людям ничего дурного или вовсе их не знаешь (как Л. Д. Циммерна), а они тебе желают зла. Надо позвонить сестрам, извиниться и отменить встречу. Но не успевает Винни найти номер гостиницы, как раздается звонок.
— Привет, ласточка моя, это Чак.
— A-а, здравствуй. Как дела в Уилтшире?
— Отлично. У меня целая куча новостей. Помнишь, когда я в первый раз приехал, Дженкинсы мне показывали картину с гротом и отшельником из Саут-Ли?
— Да, помню.
— Ну так вот, я все пытался раздобыть копию, а один малый из Бата мне как раз прислал. Не всю книгу целиком, одну эту гравюру, зато она раскрашена вручную и сохранилась недурно.
— Замечательно.
— А вчера мы на раскопках нашли камень с интересной росписью, Майк думает… — Чак пускается в объяснения; Винни, сжимая в одной руке трубку, а другой держась за больную голову, пытается поддакивать. — Выходит… Эй, Винни! С тобой что-то неладно?
— Нет, все отлично, — лжет Винни.
— А мне сдается, ты не в духе.
— Разве что чуть-чуть. Меня сегодня немного расстроили. — Сама того не желая, Винни рассказывает Чаку о встрече с Розмари и опускает только отзыв о своей внешности.
— Черт знает что, — рычит Чак. — Умом тронулась, не иначе.
— Как знать. А вдруг она это нарочно? Как-никак Розмари актриса. Может быть, она просто американцев не любит. Да и я с самого начала ей не нравилась. — Винни пытается крепиться, но голос у нее дрожит.
— Ох, ласточка моя. Тяжко, когда на тебя так ругаются. Был бы я рядом — я б тебя утешил.
— Все со мной хорошо, честное слово. Просто она передразнивала и меня, и всех остальных… Вот я и расстроилась.
— Чего ж тут непонятного. Мирна точно так же голос меняла. Бывало, кричит на меня, или на детей, или на прислугу, никакими силами ее не унять. А как телефон зазвонит — подруга в трубке или клиент, — отвечает сладеньким таким голоском. Ну чисто мороженое с сиропом. Ей-богу, голоса меняет — будто каналы на пульте щелкает. Мне от этого не по себе.
— Представляю. И не догадаешься, который из голосов настоящий.
— А что тут гадать? — Чак хрипло смеется. — Слушай, ласточка моя, а не выбраться ли тебе из Лондона? Тебе ведь домой только в конце августа?
— Да.
— Ну так вот что я придумал-то… Здесь, в Уилтшире, можно столько фольклора насобирать! Тут тебе и книги, и рукописи, и всякая всячина в Историческом обществе. Сам кое-что смотрел на днях. И школы здесь, ясное дело, есть, и ребятишки. Ты бы столько стихов записала! Давай, приезжай ко мне на лето! Места для работы хватит. Вот было бы славно!
— Чак, — вздыхает Винни, — спасибо за твою доброту, но…
— Не можешь сразу решить — не надо. Подумай немножко. Ладно?
— Ладно, — обещает Винни.
На все лето в Уилтшир, конечно, ехать нельзя, думает она, повесив трубку. Не хочется ни библиотеку Британского музея бросать, ни друзей. Но почему бы не съездить ненадолго? А можно и не один раз… Они с Чаком будут вместе целыми днями и ночами — и в Лондоне никто не узнает. Почему бы и нет?
У Винни даже голова болеть перестала, так что от ужина отказываться не пришлось.
10
Что же ты гонишь меня прочь?
Это я, твоя Полли…
Джон Гей. Опера нищего
На Ноттинг-Хилл-Гейт Фред Тернер укладывает чемоданы, собираясь домой. Лето в разгаре, весь Лондон в цвету. Стройные каштаны тянут в окно зеленые руки с кремовыми свечками-цветами, а сквозь сетку листьев в комнату льется мягкий свет, преображая все вокруг. Викторианская деревянная мебель с толстым слоем краски и лепные украшения на потолке стали похожи на ванильное мороженое со взбитыми сливками. Дует теплый ветерок, ярко синеет небо.
Но Фред ничего не замечает вокруг. На душе у него тоскливо, серо и уныло, как зимой на замерзшем пруду. Послезавтра он уедет из Лондона, так и не закончив книгу, не повидав Розмари и не получив вестей от Ру. Вот уже больше двух недель прошло с тех пор, как он отправил телеграмму в ответ на письмо жены. В телеграмме было и «люблю», и «позвони за мой счет», а Ру молчит. То ли он слишком поздно спохватился, то ли Ру не очень-то и хотела мириться.
Между тем работа его зашла в тупик. Фред делает вид, будто занимается наукой: читает первоисточники и критику, выписывает цитаты из сочинений Гея, из работ его современников, из исторических документов и криминальной хроники, пытаясь кое-как слепить их в одно целое, — но выходит вымученно и фальшиво. Все, что складывает Фред в два потрепанных холщовых чемодана, наводит на мысли о провале, о времени, потраченном впустую. Стопки черновиков, скудных и разрозненных (ну кто так ведет записи?), наполовину чистые блокноты, пустые карточки три на пять дюймов. Письма без ответов, в том числе одно от матери и два от студентов, которым нужны рекомендации, — с ними надо было разобраться еще много недель назад. Его любимая фотография четырнадцатилетней Ру с кроликом на руках; Ру сама снимала, первым своим фотоаппаратом с автоспуском. Невинная, добрая улыбка, открытый, доверчивый взгляд… У Фреда щемит сердце: эта Ру еще никогда не любила, еще не испытала боли. К горлу Фреда подступает комок. Он переворачивает фотокарточку лицом вниз и, стиснув зубы, продолжает укладываться.
Бумага, конверты, желто-коричневые папки; все нетронутые, каждая — как немой укор. Театральные программки на пьесы, оперы, концерты, где он был с Розмари. Для чего все это хранить? Фред швыряет их в переполненную корзину для бумаг. Длинный бежевый кашемировый шарф ручной работы, который Розмари подарила Фреду на день рождения, сама повязав ему на шею. Квадратное зеркальце с ярко-розовым отпечатком ее губ — память об их первом поцелуе. Они тогда как раз пообедали в «Ла-Жирондель» на Фулхэм-роуд, и Розмари подкрашивала губы. При мысли о том, что они вот-вот расстанутся, Фред наклонился к ней через стол и зашептал что-то сбивчиво, горячо. Розмари подняла на него глаза, расцвела чудной улыбкой и тут же промокнула раскрытые губы о зеркальце, чтобы не испачкать Фреда помадой. Что она за прелесть, какая она чуткая, внимательная! — восхитился тогда Фред, и не успела Розмари спрятать зеркальце к себе в сумочку, как он придержал ее за руку и попросил его на память. Теперь этот случай видится Фреду по-иному: перед тем как поцеловать его, Розмари поцеловала свое отражение.
Выкинь это из головы, старается осадить себя Фред, все кончено. Послезавтра он улетает из Лондона и, наверное, больше не увидит Розмари Рэдли. А еще, как понял он сегодня утром, когда убирал в шкафу, ему никогда не увидеть ни своего свитера, ни голубой рубашки, ни оксфордской антологии поэзии восемнадцатого века, ни запасной бритвы и зубной щетки. Все это он оставил у Розмари перед злополучной вечеринкой.
Однако Розмари не выходит у него из головы. На нее можно злиться, но забыть ее нельзя. За последние две недели он несколько раз, вопреки рассудку, изобретал неубедительный предлог — забрать свитер, рубашку или что-нибудь еще — и набирал номер Розмари. Обычно трубку никто не брал, только однажды к телефону подошла миссис Харрис, рявкнула: «Нет дома!» — и швырнула трубку. Фред пытался найти Розмари через телефонистку, но всякий раз слащавый женский голосок сообщал ему, что «леди Розмари нет в городе». По снисходительным ноткам в этом голосе Фред в конце концов догадался, что его обладательница знает о нем все и что, как только он повесит трубку, захихикает и скажет подругам: «Угадайте, кто опять звонил леди Р.? Вот дуралей! Когда он поумнеет, интересно?» Фред всякий раз представлялся, но Розмари так и не перезвонила.
А если попросить передать, что он в Америку не едет? Перезвонит она тогда или нет? Не исключено, думает Фред. Возможно, этого-то она и дожидается. Или не дожидается. Фреду приходит в голову, что история их любви в чем-то повторяет историю отношений Англии с Америкой. Может быть, Розмари его и любит, но мыслит как колонизатор: готова ради него на все, но дать ему свободу — нет уж, увольте! И стоило ему потребовать свободы, как началась война.
Отчасти для того, чтобы не звонить больше Розмари и не оставлять эти жалкие послания, Фред только что отключил телефон. Деньги тоже поберечь не грех, тем более что домой он едет без гроша, наделав долгов по обе стороны океана.
Разбирая груду писем от родных и друзей, Фред большую часть отправляет в мусорную корзину. Находит открытку из Буффало, от Роберто Франка, с репродукцией картины Джошуа Рейнолдса из галереи Олбрайт-Нокс. «Купидон-факельщик», 1774 год, любимая эпоха Фреда, за что ее и выбрал Роберто. Фред рассматривает репродукцию пристальнее.
На портрете, судя по всему, один из тех сорванцов, что за небольшую плату водили путешественников по ночным лондонским улицам восемнадцатого века, освещая им путь. Этот Купидон — далеко не пухлый смеющийся голенький младенец, он худощав, одет в сильно потрепанный наряд того времени, и лет ему на вид девять-десять. Он хорош собой, чем-то напоминает Фреда в детстве, но с первого взгляда видно, что он дитя тьмы. За спиной у него черные крылышки, как у летучей мыши, а в руке — высокий тлеющий факел, явно фаллический символ; от факела в воздух поднимается язык пламени и грязно-серый дымок. Между тем Купидон смотрит не на факел, а куда-то влево, и лицо у него задумчивое, скорбное — похоже, раскаивается, что стольким людям принес несчастье. За спиной у него лондонская улица, вдали — нелепая парочка: высокий и тощий как жердь мужчина и безобразно толстая женщина.
Вот он, думает Фред, тот мрачный божок, что опалил и меня. Ожог все еще дымится. Я ранен дважды — опален любовью к двум прекрасным, жестоким, невыносимым женщинам, забыть которых невозможно. Безответно любить одну женщину — уже несчастье, а сразу двоих и вовсе нелепость. Да уж, Роберто нахохотался бы всласть!
Не раскисай, уговаривает себя Фред. Брось о них думать. Собирай чемоданы. Он рывком выдвигает верхний ящик письменного стола, забитый всяким хламом, тот опрокидывается, и все содержимое — карандаши, скрепки, старые схемы автобусных маршрутов, туристические брошюры — вываливается на пол. Вместе с лавиной мелкого мусора на пол падает и что-то тяжелое, металлическое. Фред наклоняется — ключи от дома Розмари в Челси! А он-то думал, что давным-давно потерял их.
В доме сейчас, наверное, никого. Можно пойти туда сегодня же и заполучить вещи назад. Жаль, если пропадут — особенно антология и свитер. Розмари никогда не узнает, а если и узнает — жалеть не станет. Библиотека у нее большая и всегда в беспорядке, а в платяном шкафу, которого не касалась рука миссис Харрис, вечно все вверх дном. Что ж, надо идти. Фред задвигает ящик, содержимое отправляет в мусорную корзину и выходит на улицу. На Ноттинг-Хилл-Гейт, чтобы скорее добраться, спускается в метро.
Но в тряском вагоне, который едет по Кольцевой линии в Южный Кенсингтон, шум колес уже звучит для Фреда предостережением. А вдруг у Розмари гости? Или она сменила замок? А вдруг увидят соседи и вызовут полицию? «ПРОФЕССОР ИЗ АМЕРИКИ ПЫТАЛСЯ ОГРАБИТЬ ДОМ ЗВЕЗДЫ В ЧЕЛСИ».
Фред в нерешительности стоит на станции метро «Южный Кенсингтон», но тут замечает указатель «К музеям» и вспоминает, что за пять месяцев в Лондоне так и не зашел в Музей Виктории и Альберта и не увидел знаменитое собрание мебели и предметов быта восемнадцатого века. Пожалуй, самое время пойти. Заодно и подумает. Если не получится увидеть Розмари, хотя бы время будет потрачено не зря.
Через пять минут из теплого, солнечного города Фред попадает в прохладные, гулкие залы и коридоры Музея Виктории и Альберта. Там почти ни души — по-видимому, оттого, что день выдался на удивление погожий. Тысячи предметов искусства пылятся без дела в полумраке, и лишь иногда сквозь узкое готическое окно пробивается косой неяркий солнечный луч и выхватывает из темноты резной средневековый сундук или серебряный чайник эпохи короля Георга. Но в душе Фреда — ни единого проблеска света, там холодно и сумрачно, как и прежде. Со всех сторон его окружают прекрасные, совершенные творения, лучшие из лучших, но ничто не трогает его сердца. В просторных залах он видит не сокровища, не роскошь, не живую историю. На его взгляд, они вычурны, безвкусны, набиты дорогой рухлядью. Как сказали бы Розмари и ее друзья, к Англии он охладел. Особенно тягостным кажется ему Лондон, где некуда деваться от памятников старины. Город населен призраками, отягощен грузом прошлого, как сам Фред — историей любви к Розмари и ее собственным прошлым.
В эти последние лондонские недели Фред был точно так же одинок и отрезан от мира, как и в первый месяц. Он не говорил по-настоящему ни с одним англичанином — разве что спрашивал дорогу, не видел никого из тех людей, с кем познакомила его Розмари. Точнее, никого из них не видел воочию. На телевидении и в газетах они повсюду: вещают об анатомии человека и о международном праве; играют в фильмах и спектаклях; рассуждают о событиях культурной жизни; дают интервью; любезно и со знанием дела отвечают на трудные вопросы в телеиграх и новостях. Стоит Фреду взять в руки журнал — всякий раз кто-то из них толкует, как судить о творчестве Джона Констебля, готовить спаржу или бороться с гонкой вооружений. Если их не цитируют напрямую, то на них ссылаются — как в той гадкой статье в «Прайвит Ай», где говорится, что «леди Розово-Вредная (прозвище, данное Розмари Рэдли желтой прессой) порвала со своим янки», далее следует длинный список тех, с кем она еще порвала. С некоторыми из них Фред даже встречался, но и вообразить не мог, что это бывшие любовники Розмари.
Разумеется, у нее было прошлое, думает Фред, с тяжелым сердцем блуждая по длинной галерее, где выставлена мебель эпохи позднего Возрождения, а в глубине смутно вырисовывается громада с колоннами — судя по надписи на табличке, «Большая Уэрская кровать», где умещались до двенадцати человек. Конечно, у нее было прошлое. Но когда в журнале пишут, что ты один из многих… Стиснув зубы, Фред снова смотрит на Большую кровать и думает о Розмари и ее любовниках. Здесь, между витыми столбами, хватит места для всех, о ком пишет «Прайвит Ай», и не только для них. Понятное дело, их было еще больше, и Фред всего лишь последний из них… пока еще последний. А может быть, уже и нет. Он невольно представляет, как Розмари, в светлой атласной ночной сорочке с кружевными бабочками, резвится на Большой кровати с дюжиной голых незнакомых мужчин. Руки, ноги, члены, ягодицы… спутанные бледно-золотистые волосы… смятые, испачканные простыни… клубок тел, запах секса…
Чтобы прогнать прочь видение, Фред подходит ближе, дотрагивается до парчового, без единой морщинки, покрывала и в ужасе отдергивает руку: Большая Уэрская кровать тверда как камень.
А что тут удивительного? Строго говоря, это уже не кровать. На ней больше не будут ни спать, ни заниматься любовью. Никто больше не сядет на эти дубовые стулья с высокими спинками, обитые малиновым бархатом, теперь выцветшим до розового. От седалищ наших современников их теперь защищает грязный золотистый шнурок. Расписные кубки в стеклянных шкафах никогда больше не наполнятся ни водой, ни вином; не положат больше на оловянные тарелки старый добрый английский ростбиф.
Художественные музеи — другое дело. Скульптуры и полотна по-прежнему служат своей истинной цели: радуют людей, объясняют мир, помогают строить будущее. Они продолжают жить, они бессмертны, а вся эта рухлядь мертва; нет, хуже — спит вечным сном, как и его страсть к Розмари Рэдли. Есть что-то жуткое и бессмысленное в этой огромной викторианской лавке древностей. Стулья, блюда, скатерти, ножи, часы — столько, что и не счесть, — застыли здесь навеки, ненужные, бесполезные, как и его страсть к Розмари и любовь к Ру.
Фреду вдруг становятся отвратительны тысячи застывших вещей, которые обступили его со всех сторон, и он идет прочь, потом пускается бегом по лестнице к выходу. Оказавшись снаружи гигантского мавзолея цвета шоколада, Фред жадно глотает свежий воздух, вдыхает запах бензина и скошенной травы. Ну и что теперь делать? Забрать вещи у Розмари или пусть они спят вечным сном у нее дома, как в Музее Виктории и Альберта?
Если бы Розмари была в Лондоне… если бы проклятый ключ нашелся еще до ее отъезда… можно было бы нагрянуть к ней и без приглашения, войти в дом, поклясться в любви и доказать ее на деле, уверить, что не разлюбил. Боже милостивый, как можно разлюбить Розмари?
Надо было пойти к ней сразу после ссоры… Или тогда, две недели назад, на радиостанции… нужно было набраться смелости, пройти в студию вслед за кем-нибудь, разыскать Розмари, сказать ей… Как вышло, что он сделался таким медлительным и осторожным, стал так чтить правила, условности и общественное мнение — словом, превратился в настоящего англичанина?
Полюбуйтесь: профессор одного из лучших американских университетов, двадцати девяти с лишним лет, шести с половиной футов роста, стоит как дурак возле Музея Виктории и Альберта, переминается с ноги на ногу, не может пойти забрать какой-то несчастный свитер. Духу у него не хватает! «Ну же, не трусь, как слюнтяй-англичанин», — подгоняет себя Фред и бодрым шагом направляется к югу, в сторону Челси.
Спустя двадцать минут, на Чейн-сквер, Фред понимает, отчего ему так не хотелось идти. Дом все тот же, до боли знакомый, и не верится, что Розмари — настоящая, его Розмари, а не та, фальшивая, с радиостанции — не откроет сейчас сиреневую парадную дверь, не подставит ему личико для поцелуя. Совсем не хочется переступать порог этого дома, входить в знакомые комнаты незваным гостем. Если бы все не пошло наперекосяк — возможно, сегодня, сейчас… К горлу Фреда подступает комок, будто он проглотил мокрый воздушный шарик.
Пытаясь подавить это чувство и думать только о сером свитере, Фред поднимается по лестнице, звонит в дверь. В ответ на знакомый перелив звонка — ни звука.
— Розмари! — не выдержав, кричит Фред. — Розмари! Ты здесь?
Тишина. Фред снова звонит, ждет еще минуту-другую и вставляет ключ в замок.
В доме, как он и ожидал, тихо и сумрачно. Фред закрывает за собой дверь, нажимает на кнопку под золоченым столиком в прихожей, чтобы не взревела сигнализация, — он уже не раз отключал ее по просьбе Розмари.
Ставни в большой гостиной закрыты, но даже в полумраке видно, что в комнате все вверх дном. По полу разбросаны газеты и диванные подушки, на столах — неубранные тарелки и бокалы. Похоже, миссис Харрис в отпуске. Фред осматривается в поисках книги, но здесь ее не видно. Может, наверху?
Фред уже направляется в коридор, как вдруг слышит снизу шум — глухой стук и шарканье ног. Фред замирает, прислушивается. Неужели Розмари пустила жильцов? Или в доме воры и сигнализация не помогла? Бежать бы без оглядки, но ведь это трусость и слюнтяйство! Фред ищет глазами, чем бы вооружиться, хватает черный зонтик из китайской урны возле столика в коридоре. От кочерги проку было бы больше, зато если это не воры, то зонт сойдет за часть наряда. На улице, правда, солнечно, но многие лондонцы в любую погоду ходят с зонтами, как Гей и его современники ходили с тросточками.
До боли в пальцах сжимая бамбуковую ручку, Фред спускается по изогнутой черной лестнице. На нижнем этаже сквозь зарешеченное окно кухни, увитое плющом, сочится неяркий зеленоватый свет. В глубине кухни, в кресле-качалке, сидит женщина. Миссис Харрис, точно: голова повязана все тем же платком, рядом, у раковины, ведро со шваброй. На столе перед домработницей — бокал и недопитая бутылка, судя по всему, джина Розмари.
— Явился! — гаркает миссис Харрис грубым пьяным голосом, даже не повернув головы в сторону гостя. Фред видел ее лишь однажды, да и то мельком, но не может не заметить, что с тех пор домработница сильно изменилась к худшему. Она сидит босиком, пряди нечесаных волос закрыли лицо. — А я-то думала, ты в Штаты убрался.
— Послезавтра уезжаю.
— Вот как? — Язык у нее заплетается. — Ну и чего тогда пришел?
— Забрать одежду, — цедит в ответ Фред, едва сдерживая гнев. — Услышал шум и спустился посмотреть, в чем дело.
— Угу, — фыркает миссис Харрис.
— Именно. — Не хватало еще, чтобы Фред испугался какой-то пьяной домработницы.
— В дом залез. Внаглую. Щас полицию вызову. — На губах миссис Харрис хмельная улыбочка.
Полицию она, конечно, не вызовет, зато расскажет обо всем Розмари, да еще с самыми скверными подробностями.
— А вы? Сами-то вы что здесь делаете? — переходит в наступление Фред.
Миссис Харрис таращится на него из мрака пьяным, неподвижным взглядом.
— А ты как думаешь, профессор Всезнайка? — отвечает наконец она.
Фред отшатывается. «Профессором Всезнайкой» любя, полунасмешливо звала его наедине Розмари, стоило ему сказать что-нибудь умное. Откуда это прозвище известно миссис Харрис? Подслушивала телефонные разговоры? Или Розмари рассказала?
— Леди Розмари еще не приехала? — спрашивает Фред, в душе у которого затеплилась надежда, что любимая уже вернулась или скоро вернется и застанет его. Вполне возможно, миссис Харрис было велено прийти и убрать в доме к ее приезду. Нечего сказать, уборка! Тем не менее Фред старается говорить вежливо или хотя бы спокойно. — Скоро ли приедет?
Миссис Харрис долго молчит. Наконец пожимает плечами:
— Может, и скоро.
Наверняка ведь знает, но или не хочет говорить, или подчиняется приказу Розмари.
— А сегодня вы ее не ждете? (Нет ответа.) Завтра?.. Ладно. Тогда пойду за вещами.
— То-то же. Забирай свое барахло и уматывай. Скатертью дорожка! — рявкает миссис Харрис и тянется к бутылке.
Возвращаясь наверх, Фред представляет себе, как ужаснется Розмари, когда приедет, если только миссис Харрис не возьмет себя в руки! Кто-то — только не Фред! — должен ее предупредить, должен рассказать ей, что устроила без нее в доме образцовая домработница!
Фред ставит на место грозный зонтик и поднимается по изогнутой белой лестнице в спальню Розмари. Здесь не так мрачно — ставни полуоткрыты, и яркий, с золотыми пылинками, свет льется в комнату Розмари, на взгляд Фреда, самую красивую в доме, с высоким потолком и зеркалами повсюду. Стены в спальне выкрашены в нежный розовато-кремовый цвет, деревянные украшения, лепнина и камин снежно-белые, старинная мебель тоже белая, с позолотой. Увы, и эта комната в страшном беспорядке. Все ящики выдвинуты, их содержимое усеяло пол, там же валяется и лампа; покрывало с кровати сдернуто, подушки раскиданы, на туалетном столике — битое стекло, перевернутые флаконы, и пахнет от них чем-то затхлым и приторным.
Фреда охватывает приступ вины, тоски и отчаяния. Боже, что творилось в душе у Розмари, когда она покидала Лондон! Затем горечь сменяется злостью на миссис Харрис. Что она себе думает? Почему не навела порядок, не избавила Розмари — да и его тоже — от подобного зрелища? И вновь возвращаются муки совести: ведь это он уговорил Розмари нанять миссис Харрис. Отчасти из-за него в доме такой кавардак, а внизу торчит пьяная неряха. Ну, теперь-то уж ничего не поделаешь.
Фред заглядывает в ванную. Вся в зеркалах и плитке цвета персика, комната до того грязна (даже унитаз полон несмытого дерьма), что Фред из брезгливости не дотрагивается до бритвы и зубной щетки. Неужто миссис Харрис — и думать противно! — хозяйничает у Розмари как у себя дома, шарит в ее вещах, моется в ее ванне и… даже отсыпается с похмелья в ее белой с золотом кровати с четырьмя столбиками?
Так вот, значит, откуда беспорядок. А он-то решил, что это Розмари от расстройства… А ведь когда он слышал голос Розмари на радиостанции, она не показалась ему такой уж несчастной. Говорила спокойно, даже весело. Фреду чудится ее серебристый голосок: «Спасибо, Деннис, я безумно рада, что я здесь». Розмари его больше не любит, а возможно, никогда и не любила.
Содрогнувшись, Фред ступает по замусоренному китайскому ковру с нежным цветочным рисунком, открывает стенной шкаф и без груда находит в глубине свой свитер. Фред сдергивает его с крючка, перебрасывает через руку и продолжает поиски, но любимой рубашки не видно. Спальня полна одежды Розмари. Взгляд Фреда выхватывает то ее длинную розовую накидку и небесно-голубой стеганый халат, то прозрачные блузки, то ряды босоножек на высоких каблуках — точно клетки крохотных птичек. Многие из вещей будят у Фреда сокровенные воспоминания. Вот длинное светло-серое вечернее платье с размытым узором из листьев — его складку, тонкую, как паутинка, Фред ласкал тайком на спектакле «Так поступают все»; вот шелковая вуаль цвета зеленого яблока — Розмари была в ней на вечеринке, и легкая ткань так нежно шелестела при каждом ее шаге.
Фред ослаб и выдохся, будто пробежал марафон или несколько часов гонял мяч. Подперев плечом дверной косяк, он пытается перевести дух, но ничего не выходит. Воздушный шарик у него в горле начинает сдуваться с жалобным, стонущим звуком. Всхлипывая, Фред бьется головой о косяк, чтобы хоть как-то отвлечься. Но тут снизу доносятся звуки шагов: это миссис Харрис ковыляет вверх по лестнице, на ходу натыкаясь на стены. Похоже, она едва держится на ногах.
Фред отступает в глубь стенного шкафа, прячется в темноте, надеясь, что миссис Харрис сюда не пойдет или не увидит его, но не тут-то было. Пыхтя, она останавливается в коридоре, а потом вваливается в спальню и, чтобы не упасть, хватается за комод.
— Что, скучаешь по своей милашке?
Даже со спины поза Фреда так красноречиво передает страдание, что и пьяная домработница догадалась. Не смея поднять на нее глаз, не то что ответить ей — да и зачем? — он сдвигает одежду Розмари в поисках своей голубой рубашки и мечтает, чтобы миссис Харрис поскорее ушла.
А миссис Харрис ковыляет через всю комнату к нему, по дороге спотыкается о покрывало, хватается за столбик кровати, чтобы не упасть, и наконец заглядывает в стенной шкаф.
— Эт-та к чему, котик? — хрипит она. — Накосим-ка лучше сена.
Фред каменеет. «Накосим сена» — их с Розмари тайное словцо. В погожие деньки, как сегодня, когда предзакатное солнце освещало комнату и кровать с пологом, Розмари любила нежиться в его лучах, подставляя ему свою белую кожу. «Давай-ка, милый, накосим сена, пока солнце еще высоко», — сказала она ему однажды, тихонько смеясь. Через несколько дней Фред подарил ей репродукцию картины Брейгеля «На сенокосе», и Розмари повесила ее над тумбочкой, где она и темнеет сейчас квадратом на светлых обоях с цветами. Теперь ясно, что миссис Харрис шпионила за ними, подсматривала, подслушивала под дверью. Гадость, мерзость! Ладно, черт с ней, с рубашкой, и с книгой тоже, главное — убраться отсюда подобру-поздорову.
— Прошу прощения, — говорит он злобно.
Миссис Харрис и не думает его пропускать.
Шатаясь, она подходит еще ближе к Фреду. Лицо ее — насколько можно разглядеть под вылезшими из-под платка крашеными лохмами — измазано сажей и губной помадой; от нее несет потом и перегаром. Миссис Харрис протягивает руку, засаленный цветастый халат распахивается, открывая ослепительно белое, роскошное нагое тело.
— Ах, милый! — говорит она сиплым, пьяным шепотом, передразнивая Розмари. Хватает Фреда за руку, наваливается на него всем телом и начинает об него тереться.
— Прекратите! — вопит Фред, пытаясь отодвинуть миссис Харрис в сторону, но домработница, даром что пьяная, на удивление сильна. — А ну прочь, старая карга!
Хватка миссис Харрис разжимается. Фред отталкивает ее с такой силой, что миссис Харрис, взвыв диким зверем, валится на пол, среди туфелек Розмари.
Даже не взглянув на миссис Харрис, не предложив помощь, он прижимает к себе свитер и улепетывает без оглядки. Мчится вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и захлопывает за собой дверь.
Очутившись на улице, Фред шагает куда глаза глядят. Минует квартал за кварталом, все дальше от Чейн-сквер, и на смену ужасу и гадливости приходит смущение. Фред сворачивает на юг, к реке, переходит дорогу и оказывается на набережной. Прислоняется к каменному парапету над широкой, спокойной Темзой, где катера, пришвартованные у берега, мерно покачиваются на волнах. По левую руку от Фреда — мост Альберта, будто собранный из детского конструктора, вдали зеленеет Баттерси-парк; справа — мост Баттерси, кирпичная громада в романском стиле. Фред следит за неспешным течением воды и игрой солнечных бликов на ней. Плывут друг за другом вниз по реке баржи, клубятся в закатном небе облака… Фреду понемногу становится легче.
Никогда больше не смогу я мечтать о спальне Розмари, думает Фред. Впрочем, возможно, это и к лучшему. С чего думать о какой-то дурацкой комнате? Если честно, то приходил он не столько за вещами, сколько в надежде еще раз увидеть Розмари. Глупая и тщетная надежда. А Фред, несмотря ни на что, по-прежнему любит Розмари. Ну и поделом ему! Теперь самое главное — забыть Розмари Рэдли; она-то его давным-давно забыла и славно развлекается где-нибудь за городом.
Слегка успокоившись, Фред бредет домой. Вещи еще не собраны, а через пару часов нужно идти на ужин и на ночной сеанс со старыми друзьями, только что приехавшими в Англию на лето.
Когда Фред встречается с Томом и Паулой, он почти пришел в себя, хотя и слегка подавлен. Друзья его так рады встрече и так жадно слушают рассказы о Лондоне, что на душе у него становится легче. Какое счастье, что не все американские ученые похожи на Вогелеров (за последнее время они Фреду поднадоели) или на Винни Майнер. От тоски по дому у Фреда щемит сердце; хочется увидеть знакомые места, услышать родные голоса, он соскучился по таким людям, как Паула и Том, — они говорят то, что думают, без утайки, без насмешек, никогда не станут притворяться друзьями, чтобы потом бросить тебя как ни в чем не бывало.
Сидя с друзьями в кафе рядом с домом, лакомясь блинчиками и попивая божоле, Фред рассказывает им о здешних достопримечательностях, культурной жизни, ресторанах, пытаясь не выдать своего разочарования. (Чего ради портить ребятам настроение? Ведь они приехали всего на пару недель.) Рассказывает Фред и сегодняшнюю историю с миссис Харрис, умолчав кое о чем. К примеру, он не сознается, что у него был ключ от дома, а Розмари превращается в «знакомых, которых сейчас нет в Лондоне». Без этих подробностей происшествие выглядит грубоватой комедией, сценой в духе Смоллетта или карикатур Роуландсона, оборачивается анекдотом, шуткой, и Том с Паулой принимают ее на ура.
— Вот так история! — восхищается Том. — Везет же тебе на приключения!
Поздно вечером, лежа в постели, Фред вспоминает слова Тома, от которых ему сделалось неловко. Том, разумеется, никогда не видел Розмари и хотел ему польстить. Мол, такому красавчику, как Фред, даже пьяные домработницы делают непристойные предложения.
В самом деле, за долгие годы Фред получал немало нежеланных предложений такого сорта, хотя и не столь нелепых и омерзительных. Девушки и женщины, на которых он никогда бы и не взглянул, вешались ему на шею или просто бегали за ним, смущая до крайности. Друзья мужчины и не думали ему сочувствовать. «На него девицы вешаются, а он еще скулит», — хмыкали они, не понимая, каково это, когда в тебя влюбляется женщина, которая тебе не нужна.
Внешняя привлекательность — загадка, размышляет Фред, глядя, как на стене играют тени листьев и отсветы фонаря. Очень похожий узор был на платье у Розмари, в котором она ходила в оперу, на «Так поступают все», с широкой летящей юбкой и узким лифом, облегавшим ее груди, нежные, словно яблоневый цвет… не видеть их больше Фреду, не ласкать, не целовать.
Почему пышная, белая, мягкая грудь делает красавицу Розмари еще прекраснее, а грязнуху вроде миссис Харрис еще отвратительнее? Грудь у миссис Харрис не больше, чем у Розмари, думает Фред, с трудом заставив себя вспомнить сцену в чулане. Примерно такая же. Такие же большие, розовые, как земляника, соски, а на левой груди точно такая же родинка — светло-коричневая, похожая на страусиное перо…
Нет! Не может быть. Лежа под одеялом, Фред дрожит как осиновый лист. Определенно померещилось.
Но воспоминание очень живое и яркое. У миссис Харрис точно такая же грудь, как у Розмари. Обе женщины одного роста, и цвет волос у них почти один и тот же. Миссис Харрис живет в доме Розмари, пьет ее джин, спит на ее кровати.
Конечно, у нее совсем другой голос и акцент. Но ведь Розмари актриса, она частенько изображала миссис Харрис. Господи! Фред вскакивает с кровати и открыв рот глядит в темноту, будто перед ним отвратительный призрак.
Минуточку! Фред не в первый раз видит миссис Харрис, он бы заметил… Да, но видел он ее лишь мельком, в тот вечер, когда освободился раньше, чем надо. Миссис Харрис приоткрыла дверь и, не взглянув на него, буркнула, что леди Розмари нет дома. Даже не впустила его, не предложила подождать, и ему пришлось тогда идти в бар.
Не впустила в дом… и никого не пускала… Не потому, что не любила, когда у нее под ногами путаются (как говорила Розмари), а чтобы ее не узнали… потому что она… потому что пьяная ведьма, которую Фред обозвал сегодня старой коровой и повалил на пол, — это и есть его настоящая (то есть ненастоящая, насквозь фальшивая) любовь, звезда сцены и экрана, леди Розмари Рэдли.
Господи ты боже мой! Не заметив, как выпрыгнул из постели, Фред стоит голышом в тусклом лунном свете и стучит кулаком в стену. Так бы и стучал, если бы не шаги наверху — должно быть, от шума проснулся кто-то из жильцов или, того хуже, хозяин квартиры.
Настоящая миссис Харрис, вероятно, когда-то и была, но уволилась, а Розмари никому не сказала и продолжала ее голосом отвечать на звонки. Или вовсе не было никакой миссис Харрис и Розмари с самого начала своими руками мыла полы.
Надо же быть таким тупым, слепым, глухим! Как тут было не догадаться?
А все потому, что Розмари ему внушила, что она прекрасна, изящна, воспитанна — словом, настоящая англичанка-аристократка, и тот, кто этими качествами не обладает, даже если живет в ее доме, спит на ее кровати, говорит ее голосом, — это не Розмари. И когда Розмари решила, что не хочет больше видеть Фреда и разговаривать с ним, ей оставалось всего лишь одеться и заговорить, как миссис Харрис. Так она и поступила сегодня. И насмехалась над Фредом, вставляя в речь их тайные словечки. Все, что между ними было, она разрушила.
Да она, наверное, издевалась надо мной все эти месяцы, думает Фред, стоя у открытого окна и глядя в неспокойную полутьму. Если бы Розмари любила его по-настоящему, то ни за что не сыграла бы с ним такую шутку. Все это время он любил не живую женщину, а театральную героиню, вроде леди Эммы Талли. Она постоянно дурачила его: когда Фред был ей нужен, притворялась леди Розмари, а чтобы оттолкнуть его от себя, надевала маску миссис Харрис. Кто же она на самом деле — одному Богу известно.
Что ж, по крайней мере, теперь все предельно ясно. Розмари больше его видеть не хочет. И он ее тоже. Даже если она раскроет ему объятия, вновь станет той самой Розмари, которую он любил, — Фред ей не поверит. Станет присматриваться, прислушиваться: а вдруг она всего лишь играет роль?
Фред бросается на постель и долго лежит, уставившись в потолок, глядя, как на викторианской лепнине, покрытой толстым слоем краски, мечутся беспокойные тени. Сон не идет к нему, и Фред снова встает. Кое-как одевшись, зажигает свет и принимается наводить порядок в холодильнике и шкафчиках на кухне — большую часть продуктов выбрасывает, а кое-что приберегает для Вогелеров, к которым вечером приглашен на прощальный ужин. Чтобы не тащить початую бутылку скотча в Хэмпстед, Фред наливает остатки в бокал, разбавляет тепловатой водой из-под крана и, пока работает, то и дело прикладывается.
Вычищая шкафчик под раковиной, Фред вдруг застывает на месте с пакетом сливочного печенья «Маквитиз» в руке. Точно такое же печенье, густо намазанное паштетом, ел Эдвин Фрэнсис на вечеринке у Розмари, стоя на лестнице и по-старушечьи жалуясь, что миссис Харрис дурно влияет на Розмари. В ушах у Фреда звучат слова Эдвина: «У нее случаются приступы ярости… С ней бывает очень трудно».
Что, если Розмари играла миссис Харрис не в шутку, не со зла на Фреда, когда тот ворвался к ней в кухню? Ведь она не ожидала, что он придет. Если бы Фред не пришел, она бы точно так же сидела на кухне в одежде миссис Харрис и пила.
Что, если она не просто играла? Вдруг у нее был очередной «приступ ярости», как за ней, оказывается, водится? Если Фред не знает настоящей Розмари, то, возможно, он не один такой? А знает ли сама Розмари, кто она на самом деле? Уж не сумасшедшая ли она?
Быть может, Розмари и раньше выпивала и у нее не раз случались эти «приступы ярости», что-то вроде нервного срыва? Не на это ли намекал Эдвин? Хотел предупредить Фреда?
Нет. Скорее всего, Эдвин просил о помощи, как и говорил. Успокоиться не мог, пока не взял с Фреда обещание «присматривать за нашей Розмари». А Фред не принял его слова всерьез и, разумеется, ни за кем не присматривал. Да и при всем желании не мог бы, потому что через каких-нибудь пару часов Розмари выставила его из дома. Так или иначе, Фред был уверен, что Розмари в присмотре не нуждается.
А не пришла ли пора о ней позаботиться? — гадает Фред, стоя на кухне с пакетом печенья в руках. Если она запила, или не в себе, или все сразу, за ней кто-то должен ухаживать. Только вот кто?
К трем часам ночи Фред уже выпил скотч, две бутылки пива и почти покончил с кислым белым вином. Он напился на Ноттинг-Хилл-Гейт, а Розмари напилась или сошла с ума в Челси. Нет уж, это слишком! Скорей бы домой, в Америку, скорей бы снова увидеть Ру. Но Ру теперь вряд ли захочет его видеть. Фред падает на кровать прямо в одежде и проваливается в сон.
Фред приходит в себя с хмельной головой, когда лучи полуденного солнца нагрели смятую постель. О еде даже думать противно. Фред долго стоит под душем, пытаясь унять боль в затылке, но толку мало. В голове лишь одна отчетливая мысль: до отъезда надо попросить кого-нибудь, чтобы присмотрели за Розмари. Фред берет в охапку грязную одежду, простыни, полотенца и тащит их в автоматическую прачечную. Пока белье плещется в стиральной машине, при одном взгляде на которую кружится голова, Фред звонит из автомата Эдвину Фрэнсису, но тот, наверное, еще не вернулся из Японии. Потом — Уильяму Просту на Би-би-си, чтобы узнать номер Пози или Нади. И наконец, Винни Майнер. Больше звонить некому. Не застав никого из них, Фред пробует дозвониться позже, но безуспешно — и так до самого вечера. Но он все звонит и звонит.
11
Жил на свете Наплевать.
И казнить его решили.
Сунули в большой котел
И к ужину сварили.
Из английской народной поэзии
На педагогическом факультете Лондонского университета Винни Майнер слушает доклады конференции «Ребенок и литература» и все сильнее скучает. Тема интересная, и сначала выступала подруга Винни, замечательный рассказчик, но двое других докладчиков навели на нее неодолимую тоску. Первый — тучный доктор О. К. Смизерс, специалист по психологии обучения; вторая — строгая, скованная молодая женщина по имени Мария Джонс, которая посвятила жизнь изучению старинных книг по этикету.
Винни давно заметила, что большинство английских лекторов считают своим долгом развлекать слушателей и избегать ученых словечек, поэтому можно смело идти на любую публичную лекцию, если тема кажется занимательной. Однако Мария Джонс так волнуется, что ее почти не слышно, и о публике вовсе не думает, а доктор Смизерс до крайности самодоволен. Он, по собственному выражению, «получил всестороннее образование в США» и излагает свои банальности по-американски вкрадчиво и в то же время напыщенно. Как некоторые американские педагоги-теоретики, он говорит о Ребенке словно о некоем отвлеченном образе — вроде статуи Добродетели. У абстрактного Ребенка Смизерса — множество Потребностей, которые могут остаться «неудовлетворенными», и огромный Творческий Потенциал, который необходимо «развить», чтобы Ребенок — «он или она» — стал «полноценной личностью».
Выражение «полноценная личность» Винни всегда терпеть не могла, сегодня же оно вообще звучит как насмешка. Похоже, подразумевается сам Смизерс, чересчур раскормленный для жителя Британских островов. На родине Винни по статистике (точнее, по ее собственным наблюдениям) каждый третий мужчина за тридцать страдает ожирением. А здесь, в Англии, большинство остаются стройными, подтянутыми, но те немногие, кто все-таки полнеет, как будто по закону больших чисел, расплываются до безобразия. Точно так же, если голова у британца набита профессиональным жаргоном, это тоже переходит все границы.
Рассуждая на любимую тему, превысив установленные двенадцать минут, Смизерс провозглашает, что «нравственность» Ребенка необходимо пробуждать «ответственной литературой». Сложности и противоречия Современного Мира сказываются на Ребенке; «он или она» (Смизерс, видя, что в зале почти одни женщины, с самого начала использует эту неуклюжую уловку) должны обращаться за помощью к литературе.
Рассерженная Винни зевает. «Нет никакого Ребенка! — хочется выкрикнуть ей. — Есть дети, и каждый не похож на других, неповторим, как и каждый из нас в этом зале, если не больше, — ведь все мы здесь коллеги, и всех нас успел причесать под одну гребенку ваш гадкий Современный Мир с его противоречиями».
Насколько было бы веселей и интересней, будь мы все детьми, думает Винни. И, как с ней частенько бывает на скучных собраниях, пытается разогнать тоску, представляя, что все в зале вдруг вернулись в детство. Старшим из слушателей, в том числе и самой Винни, теперь лет по десять-двенадцать, а студенты и вовсе младенцы. И у всех, как только они преобразились, появляется одна и та же мысль: с какой стати сидеть в этом зале и слушать эту чушь? Докладчики и председатель за столом изумленно глядят друг на друга. Смизерс — толстый, серьезный шестилетний мальчуган — роняет на пол свои заметки. Маргарет, подруга Винни, — не по годам развитая девятилетняя девочка, наблюдательная, отзывчивая — наклоняется к Марии Джонс, утешает; той всего три года, но она уже болезненно застенчива. Маргарет вытирает Марии слезы, помогает ей спуститься с трибуны. В глубине зала возятся малыши-студенты: устраивают домики под перевернутыми стульями, царапают на стенах карандашами и мелом, возводят башни из учебников и тут же с радостным визгом их ломают.
Если бы какой-нибудь маленький проказник-бог (может быть, Ребенок — «Он или Она») сотворил такое чудо, думает Винни, всем от этого стало бы только лучше. Сама мысль о том, чтобы превратить детскую литературу в научную дисциплину, чтобы все самое свободное и вдохновенное в «Нашем Культурном Наследии» (как выражается Смизерс) задушить мнимой ученостью, высокопарной пошлостью и сомнительным анализом — психологическим, социологическим, ценностным, языковым, структурным, — заслуживает кары небесной.
Хотя работа дала Винни и кусок хлеба, и уважение, не говоря уж о счастливых месяцах в Лондоне, совесть профессора Майнер не совсем спокойна. У успеха науки о детской литературе — а значит, и у ее собственного — есть и своя изнанка. Винни порой кажется, будто она огораживает землю, бывшую когда-то ничейной. Сначала помогала протягивать колючую проволоку, потом рвала полевые цветы, чтобы исследовать их по всем правилам науки. Обычно Винни утешает себя мыслью, что ее осторожные, бережные руки не причинят вреда, но, глядя, как Мария Джонс, доктор Смизерс и им подобные режут на части дикую морковь и рвут с корнями гвоздику, чувствует и себя причастной к этому грязному делу.
Смизерс раскладывает свой гербарий, не спеша поливает мертвые цветы банальностями, липкими, как патока, и наконец усаживается на место, крайне довольный собой. С началом обсуждения поднимаются серьезные слушатели и на разные голоса, под видом вопросов к участникам произносят глубокомысленные речи, чтобы показать, какие они умные. Винни зевает, прикрыв рот ладонью, украдкой достает свежий нью-йоркский обзор новых книг, который купила в магазине Диллона по пути на конференцию. Улыбается, взглянув на одну из карикатур, и вдруг… о ужас! На титульном листе красуется реклама сборника очерков «С точки зрения меньшинства», автор — Л. Д. Циммерн, о котором Винни не вспоминала вот уже несколько недель.
Увидев фотографию Циммерна, Винни глазам своим не верит: он совсем не похож на нарисованный ею образ, на жертву Великой чумы и белых медведей. Он старше, чем Винни его представляла, тощий, угловатый, а не толстый и вовсе не лысый — напротив, лохматый и с коротенькой острой темной бородкой. Губы его скривились в насмешливой, почти презрительной или обиженной полуулыбке.
Впрочем, так ли уж важна внешность Циммерна? Главное то, что у него скоро выйдет (или уже вышла) книга, в которой, скорее всего, будет и чудовищная статья из «Атлантик». Его мерзкие книжки, и в твердом переплете и в мягком, лежат в эту самую минуту в книжных магазинах по всей Америке и ждут покупателей. На эту книгу напишут (или уже написали) множество рецензий, ее купят (или уже купили) все крупные библиотеки страны, публичные и университетские. Ее занесут в каталоги, поставят на полки, станут выдавать читателям. Проползет она и в библиотеку Элледж в Коринфе. Чуть позже наверняка появится британское издание, а возможно (особенно если Циммерн — один из этих кошмарных постструктуралистов), и французское, и немецкое… Таких ужасов можно напридумывать сколько угодно.
Под сердцем у Винни жгучая боль, а кто постарался? Л. Д. Циммерн, кто же еще. Чтобы унять ее, Винни представляет маленького Циммерна среди других детей в этом зале: никто с ним не дружит, все его обижают. Но яркой картинки не получается. Силой воображения можно перенести Циммерна в Лондонский университет, но нельзя сделать его снова юным. Навсегда застывший в угрюмой зрелости, он стоит в одиночестве у пустого стола докладчиков и смотрит свысока на толпу расшалившихся детей, особенно на Винни.
Можно изобрести для Циммерна еще одну подходящую мучительную смерть, только зачем? Придумывать такие ужасы вредно для здоровья, да и ни к чему. Отомстить за себя все равно не получится; высказаться негде — разве что в журналах вроде «Детской литературы», которые Циммерн и его коллеги никогда не возьмут в руки. Даже друзьям теперь не пожаловаться — прошло столько времени с выхода статьи, что они сочтут Винни не в меру обидчивой.
Да и не любит Винни жаловаться, полагая, что о своих бедах рассказывать опасно. Жалобы создают вокруг нас некое силовое поле, которое отталкивает удачу и притягивает несчастья. Если продолжать сетовать на жестокую судьбу, то все ее удары, все камни, стрелы, гвозди, иглы, которые только и ждут своего часа, обрушатся на тебя. Друзья отвернутся, в страхе заразиться твоим несчастьем. Хотя Винни точно не останется одна. Как и у большинства людей, среди ее знакомых есть и такие, кого притягивают чужие беды. Они слетятся к несчастной Винни, будут липнуть к ней и пичкать ее высокомерной жалостью, как железными опилками.
Единственный, кому не страшно поплакаться в жилетку, — это Чак Мампсон. На него никакое силовое поле не действует, и ни одна книга не изменит его отношения к Винни — оно не зависит ни от ее профессиональных успехов, ни от чужого мнения. Для него Л. Д. Циммерн — всего лишь ничтожный придира, на которого ни один человек в здравом уме не станет обращать внимания. «Кому какое дело, что пишет в журнале какой-то зануда?» — сказал он однажды. Чак очень мало знает об ученом мире. С одной стороны, его наивность Винни умиляет и успокаивает, с другой — пугает, впрочем, как и многие другие его черты. Именно эта двойственность мешает ей назначить день отъезда в Уилтшир.
У Чака оказался необычайно гибкий ум, о чем раньше Винни не подозревала. Сейчас, к примеру, он не просто смирился с мыслью, что Отшельник из Саут-Ли был всего лишь неграмотным крестьянином, но и стал гордиться своим предком, будто ученым графом. Когда Винни указала ему на это, Чак великодушно приписал перемену ей. «С твоей любовью, — сказал он, — мне все по душе». Винни открыла рот, чтобы возразить, и тут же осеклась. «Не знаю, люблю ли я тебя», — хотела она ответить. Но промолчала — ведь под «любовью» Чак, возможно, подразумевал «заниматься любовью».
С этим еще можно согласиться. То блаженство, которое дарит ей Чак, и в самом деле преображает весь мир — кажется, что все образы и краски сливаются в единое, гармоничное целое. Когда Чака нет рядом, гармония распадается. Короткими теплыми июньскими ночами, когда тьма накрывает город лишь ненадолго и в половине четвертого утра уже полыхает заря, Винни, лежа в одинокой постели, под тонкой цветастой простыней, тоскует по Чаку, томится желанием. Но наступает утро, и очередной звонок телефона, чья радостная трель звучит выше, взволнованнее, чем в Америке, вновь отвлекает Винни от мыслей о Чаке. Июнь в Лондоне — время светской жизни, и в календаре у Винни — вечеринка за вечеринкой, одна другой интереснее. Некогда съездить в Уилтшир.
К тому же если поехать, то придется жить с Чаком, а Винни вот уже много лет не жила ни с кем под одной крышей, тем более с мужчиной. Отчасти потому, что не хотела. За долгие годы с тех пор, как Винни разошлась с мужем, она при желании нашла бы с кем поселиться — если не с любовником, то с хорошей подругой.
«И не страшно тебе жить одной? И не одиноко?» — спрашивают у Винни друзья, точнее, знакомые, потому что всякий друг, который осмелится задать такой вопрос, тут же переходит в разряд знакомых, хотя бы на время. «Нет, что вы», — неизменно отвечает Винни, скрывая досаду. Как можно спрашивать такие глупости? Конечно, страшно; разумеется, одиноко, но приходится мириться, потому что жить с кем-то еще хуже.
Порой, несмотря на уверения Винни, ее знакомые не унимаются. Опасно, мол, немолодой слабой женщине жить одной, надо бы завести большую злую собаку. Винни всегда отнекивается: она не любит собак и не хочет быть похожей на одинокую старую деву с моськой. Единственным ее спутником был и остается Фидо. Винни кажется иногда, что она обращается с Фидо точно так же, как обычная старая дева со своими домашними любимцами. В самом деле, если не считать последних двух месяцев, он всюду следовал за ней, а Винни его то баловала, то бранила.
Суть в том, что Винни по натуре одиночка. В прошлый раз, когда Чак приезжал в Лондон, им было замечательно вместе (вспоминается, как они лежали в обнимку на ковре в гостиной, поглядывая в окно, как колышутся листья), но даже тогда Винни порой казалось, что ей будто бы тесно, душно. Чак слишком большой и шумный, слишком много места он занимает у нее в квартире, в постели, в жизни.
Те же чувства Винни испытывает не только рядом с Чаком. В гостях у друзей, даже у самых любимых, ей всегда неуютно. Когда живешь с кем-то под одной крышей, приходится терпеть массу неудобств. Все эти приличия, церемонии, бесконечные «надо» и «нельзя». Вечные «спасибо», «пожалуйста», «извините», «вы не против?». Целый день не смеешь ни зевнуть, ни вздохнуть, ни почесать в голове, ни пукнуть, ни разуться. Постоянно кажется, что за тобой наблюдают, хоть и по-дружески, и только попробуй сделать что-нибудь необычное — скажем, выйти перед завтраком гулять под дождь или встать в два часа ночи, сварить себе чашку какао и забиться куда-нибудь в уголок с книжкой Троллопа, — тут же засуетятся: «Винни, что ты там делаешь? Что-нибудь случилось?»
И наконец, шум и беспорядок. Все время кто-то путается под ногами, ходит из комнаты в комнату, хлопает дверьми, включает радио, телевизор, проигрыватель, плиту, душ. Нужно договариваться о каждом пустяке: когда, где и что есть, во сколько ложиться спать, когда купаться, куда поехать в отпуск, кого пригласить на ужин. На все нужно спрашивать разрешения: можно ли сходить к друзьям, повесить картину, купить цветок. О каждой ерунде надо предупреждать.
Так было у Винни с мужем. И даже с Чаком, у которого удивительно легкий характер, жить в одной квартире — все равно что играть в бесконечную игру со множеством ходов. «Я, пожалуй, приму ванну и лягу спать». — «Давай, милая». — «Я пошла в магазин». — «Иди, ласточка». А стоит сделать что-нибудь без разрешения, — «Эй, ласточка, ты где была? Взяла и пропала куда-то! Я уж забеспокоился». (Ход назад: вы забыли спросить разрешения.) И ясное дело, с тобой обходятся точно так же. Если твой сосед по дому хочет пойти за покупками, принять ванну, переставить мебель или что-нибудь еще — приходится выслушивать его просьбы.
А когда наконец привыкаешь к такой жизни, даже начинаешь любить ее, потому что привязываешься к человеку… тебя бросают. Нет уж, спасибо.
Вся беда в том, что с этим своим «Нет уж, спасибо» Винни уже опоздала. Скоро она поедет в Уилтшир, потому что ей так хочется, и пути назад нет, потому что Чак Мампсон, безработный инженер-сантехник из Талсы, Оклахома, привязал ее к себе до такой степени, что даже стыдно признаться английским друзьям, а американским и подавно.
А ведь в Уилтшире станет еще хуже. Там можно окончательно попасть в сети, запутаться. Винни представляет английскую деревню в июне — это уже само по себе искушение. Представляет, как они с Чаком идут мимо пышных живых изгородей, как лежат рядом на лесной опушке, среди цветов… И забудутся осторожность и сомнения; и тогда все пропало. Она будет привязываться к Чаку сильнее и сильнее… а когда он наконец одумается, ей будет совсем худо.
За тридцать с лишним лет разочарований и потерь Винни усвоила, что ни один мужчина никогда не полюбит ее по-настоящему. Она твердо верит, что никогда не была любимой в полном смысле слова, и даже, как ни странно, гордится этим. Муж однажды сказал Винни, что любит ее, но на деле выяснилось, что это обман. Те немногие мужчины, которые признавались ей в любви, делали это лишь в порыве страсти, и всякий раз это оказывалось неправдой. Между тем Чак говорил ей о любви по самым разным поводам. (Из вежливости говорил, уверяла себя Винни, или, согласно древнему кодексу чести Дикого Запада, оправдывая любовью свою супружескую измену.) Он даже делал комплименты ее внешности («Ты вся такая маленькая, ладная, против тебя все наши женщины в Талсе — просто ломовые лошади»).
Может быть, сейчас ему и кажется, что он любит Винни. Почему бы и нет? Она была добра к нему в тяжелые минуты, взяла его под крыло, утешала, бранила, как много лет назад — бывшего мужа. Но как только к нему вернется былая уверенность в себе, он — как и муж Винни — взглянет на нее другими глазами и увидит щупленькую, некрасивую, недобрую пожилую женщину. Найдет себе кого-нибудь моложе, красивее, добрее, и ничего не останется от его любви к Винни, кроме благодарности, смешанной с чувством вины.
Винни все это понимает, но знает она и то, что не сможет удержаться, что все равно поедет в Уилтшир. Можно лишь отложить поездку, да и то ненадолго. Сколько еще получится ссылаться на лондонские вечеринки или оттягивать поездку, перебирая в уме недостатки Чака, убеждая себя, что даже внешне он не в ее вкусе: слишком крупный, упитанный, веснушчатый, и волосы у него редкие, и черты лица грубые. Так-то оно так, но что толку, если все равно хочется быть с ним рядом.
После конференции и банкета, на котором было вдоволь и вина, и разговоров о литературе, Винни возвращается домой чуть-чуть повеселев, но с тяжестью на сердце, по дороге думая о сборнике «С точки зрения меньшинства» и о том, что беззащитна перед Л. Д. Циммерном. Позвонить бы Чаку в Уилтшир… но уже почти одиннадцать, он наверняка лег спать, ведь археологи встают рано. Винни в нерешительности смотрит на телефон — и тут раздается звонок. Увы, это не Чак — в трубке слышен звонкий, дрожащий от волнения голос молодой американки:
— Это Рут Марч! (Словно Винни обязана догадаться, кто это; но имя ей незнакомо.) Я звоню из Нью-Йорка. Пытаюсь связаться с Фредом Тернером. Я звонила ему в Лондон, но телефон отключен. Простите, пожалуйста, что беспокою вас в такой поздний час, но я должна с ним связаться, дело очень важное.
— Очень важное? — повторяет Винни. Ей обидно, что звонит не Чак. — Вы его студентка?
— Н-нет, — запинается Рут Марч. — Я… его жена. Мы с вами встречались в Коринфе, на кафедре английского языка, на банкете.
— Ах да. — Винни смутно припоминает высокую смуглую молодую женщину в черном вязаном костюме — броскую, красивую. И уже не в первый раз думает, что оставлять в замужестве девичью фамилию, как поступают многие женщины-борцы за равноправие, — может быть, и достойно уважения, но не совсем удобно. — Я бы рада вам помочь, но, насколько я помню, он вот-вот уедет из Лондона. Завтра, если не ошибаюсь.
— Да-да, я знаю, что он должен завтра прилететь, но дело в том, что меня уже не будет в Коринфе, я лечу в Нью-Мексико. Мне там работу предложили. Я уезжала на съемки, не получила его телеграмму и потому не перезвонила. — Голос у далекой жены Фреда прерывается, дрожит. — Мне нужно с ним связаться побыстрее, чтобы мы встретились в Нью-Йорке. Я там буду завтра вечером.
— Понятно, — отзывается Винни ровным голосом.
— Я думала, может быть, вы знаете, где он.
Винни и в самом деле знает, где сейчас Фред. Позавчера, когда они встретились в Британском музее, он сказал, что на прощанье собирается поужинать с Вогелерами, а потом они все вместе пойдут на Парламентский холм, на праздник летнего солнцестояния.
— По-моему, он сейчас у друзей, их фамилия Вогелер.
— Отлично, я их знаю! А у вас есть их номер телефона?
— Где-то был. Минуточку, не вешайте трубку. — Винни бежит в гостиную, привычно возмущаясь про себя: додумался же хозяин квартиры поставить телефон в спальне! — Здесь, наверное… нет, простите. Минуточку. — Летят секунды, Винни роется среди бумажек и телефонов такси, а у Рут Марч растет счет за международные разговоры. — Я найду, найду… Послушайте, чтобы вам не ждать, давайте я сама им позвоню и все Фреду передам.
— Правда? Вот замечательно! — Благодарная Рут вздыхает с облегчением. — Передайте, пожалуйста, чтобы он позвонил в Нью-Йорк прямо из аэропорта Кеннеди.
— Хорошо.
— Я буду у отца. По-моему, у Фреда есть номер, но на всякий случай: Л. Д. Циммерн, Двенадцатая Восточная улица.
— Л. Д. Циммерн? — переспрашивает Винни.
— Да. Слышали? Профессор.
— Кажется, слышала, — отвечает Винни.
— И еще. Будете говорить с Фредом — если можно, передайте ему…
Винни молчит как оглушенная. Рут Марч принимает ее молчание за знак согласия.
— Скажите ему, что я люблю его. Хорошо?
— Да, — машинально отвечает Винни.
— Спасибо. Спасибо вам большое. Вы меня так выручили!
Рут вешает трубку, и Винни продолжает искать номер телефона Вогелеров, одновременно пытаясь разрешить загадку жены Фреда. Почему ее зовут не Рут Циммерн и не Рут Тернер? Второй раз замужем? Однако самая главная мысль в голове у Винни — о том, что сбылась ее мечта. Враг детской литературы и ее личный враг, можно сказать, теперь в ее руках. За грехи отца ответит дочь, молодая, красивая, любимая. Винни ничего не стоит помешать Рут и Фреду помириться в Нью-Йорке. Наверняка они именно затем туда и едут. И будто сама судьба помогает Винни — номер телефона Вогелеров где-то затерялся. Винни уверена, что номер у нее есть, записан на обороте требования из Британского музея, но эта бумажка куда-то спряталась, будто вступив в сговор с темной стороной души Винни. Между тем светлая сторона не верит, что дети в ответе за грехи отцов (а сама Рут Марч не сделала ей ничего плохого), и продолжает искать.
По большому счету, разницы никакой, думает Винни, в конце концов оставив поиски. Если Фред и не встретится завтра в Нью-Йорке с женой, все равно они помирятся. Рут позвонит ему завтра из Нью-Йорка или из Нью-Мексико, неважно откуда.
Или не позвонит, решив, что Фред все знал и не связался с ней из аэропорта нарочно. Она разозлится, обидится. Устроится на ту самую работу в Нью-Мексико, переедет на другой конец страны — и их брак развалится окончательно.
Что ж, ничего не поделаешь, от Винни-то ничего не зависит. Возможно, все и к лучшему. Если Рут пошла в отца, профессора Циммерна, то она наверняка черствая, злобная, язвительная, и счастье Фреда, избавься он от такой жены. И ее первому мужу (если он был) тоже повезло, когда они расстались. Вероятно, в том, что брак с Фредом распался, вся вина лежит на ней: о Фреде не скажешь, что с ним трудно ужиться. Так или иначе, сейчас Рут Марч ничем не поможешь. Номера телефона Вогелеров нет и узнать не у кого.
Но вот беда: Винни точно знает, где искать сейчас (или в ближайшее время) Фреда Тернера — на самой высокой точке Парламентского холма, на празднестве друидов. Разумеется, искать его в такой поздний час нельзя, но, к счастью, никто и не ждет от Винни ничего подобного. Пусть все идет своим чередом. Винни выключает в гостиной свет и начинает готовиться ко сну.
Большинство знакомых, конечно, не осудят Винни, если она не пойдет на Хэмпстедскую пустошь. Кроме одного человека — думает она, сидя на краешке кровати в одной туфле. Чак Мампсон воспримет как должное, если она пойдет, несмотря на все неудобства и даже опасность такой прогулки. А если Чак узнает, что Винни не выполнила просьбу Рут Марч, — уставится на нее удивленно, печально, как уже было однажды, когда Винни призналась, что не любит собак. Перед глазами у Винни встает его лицо, в ушах звучит его голос. «И даже не попыталась помочь? — скажет Чак. — Что ж ты так, Винни!»
Винни возвращается в гостиную, зажигает свет, разворачивает карты автобусных маршрутов, схемы метро, открывает справочник «От А до Я». Добраться до Парламентского холма будет делом нелегким. Благодаря Лондонскому транспортному управлению проще простого поехать за покупками в «Селфриджз», к врачу на Гарлей-стрит или к друзьям в Кенсингтон, но тамошние чиновники и помыслить не могли, что Винни или любому приличному обитателю Риджентс-парка вздумается посетить район Госпел-Оук, а потому ничего не предусмотрели для подобного путешествия. Придется идти пешком до станции метро «Кэмден-таун», ехать на автобусе или на метро до Хэмпстеда и идти еще милю-другую через Хэмпстедскую пустошь. А потом, когда Винни найдет Фреда (если вообще найдет), возвращаться домой той же дорогой будет поздно, придется платить за такси. Винни складывает карты и думает, как дорого, тяжело, утомительно, опасно и, вполне возможно, бесполезно искать Фреда Тернера в полночь на Парламентском холме; как просто и приятно было бы остаться дома, причинив боль и горе дочери Л. Д. Циммерна. А Чаку и знать ни о чем не надо. Но, как ни странно, Винни снова обувается, на всякий случай вынимает из бумажника паспорт, кредитную карточку и почти все деньги, оставив только пять фунтов с мелочью, достает из шкафа новый плащ. Ночь-то теплая, но на холме может быть ветрено и прохладно.
Даже сейчас, в двенадцатом часу ночи, Риджентс-парк-роуд кажется знакомой и мирной. Редкие прохожие, приличные на вид, чинно гуляют с собаками или не спеша возвращаются домой. Но уже за перекрестком, по пути к центру Кэмден-тауна, сердце у Винни начинает биться чаще. Наступил самый опасный час ночи — только что закрылись бары и на улицу высыпали бродяги и безработные Кэмден-тауна, пьяные и драчливые. Стиснув зубы, Винни ускоряет шаг, отворачивается при виде каждого подозрительного субъекта или компании, не обращает внимания на то, что они говорят, а завидев особенно сомнительную парочку у темного подъезда, даже переходит улицу и, стуча по тротуару каблучками, думает, что каждый шаг уводит ее все дальше от уюта и безопасности.
Когда Винни, запыхавшись, добегает до центра города, на остановке нет ни автобусов, ни людей. Быстрым шагом спускается она в метро, хотя вряд ли там безопаснее. Там и днем не очень-то приятно: снизу дует холодный ветер и непрестанно грохочет допотопный деревянный эскалатор. Винни обгоняют трое неряшливых на вид парней, глядят на нее недружелюбно, даже с вызовом. Вопреки здравому смыслу, Винни шагает на эскалатор следом за ними, и парни, как ни странно, спустившись, исчезают в другом конце коридора и даже не смотрят на нее.
Винни идет по туннелю в противоположную сторону, спускается по ступенькам и ждет хэмпстедского поезда. До чего же ужасны эти черные дыры по обе стороны платформы, так и кажется, что оттуда вот-вот вылетит прямо на тебя что-то огромное, враждебное. Глупость, конечно, несусветная. А возможно, по Юнгу, древний подсознательный страх перед пещерами и гигантскими скользкими змеями?
Наконец из пещеры появляется не чудовище, а самый обычный, ничуточки не страшный поезд, можно сказать, островок безопасности. Лондонское метро — полная противоположность нью-йоркскому: теплое, светлое, более-менее чистое, и ездят там в основном безобидные пассажиры. Однако вагон, в который входит Винни, доверия не внушает. Здесь почти пусто, на полу валяются старые газеты, и не все лампочки работают. К счастью, ехать всего три остановки — минут пятнадцать, не больше.
Но за «Белсайз-парком», как случается иногда на Северной линии, поезд замедляет ход и, дернувшись, останавливается. Двигатель глохнет; свет мигает, меркнет. В вагоне почти никого, только двое мужчин. Один, помоложе, хмуро смотрит в пол; напротив него второй, постарше, дремлет и, похоже, пьян.
В тишине слышно, как вдалеке грохочет по туннелю еще одно чудовище. Винни смотрит на свое отражение в грязном окне напротив, читает над ним рекламу средства от черных тараканов. Минута идет за минутой, и Винни кажется, что время остановилось, что никогда ей не доехать до Хэмпстеда и сидеть ей до конца дней на этой скамейке.
Если бы не Л. Д. Циммерн, она бы здесь не оказалась. Не будь его — не было бы и его вспыльчивой, бессердечной дочери. Фред женился бы на хорошей девушке, и та не стала бы с ним ссориться, поехала бы с ним в Лондон. Он не связался бы с Розмари Рэдли, а Розмари не оскорбила бы Винни в такси.
Это Циммерн должен сейчас сидеть здесь, в темном полупустом вагоне, где остановилось время. Винни представляет, как он сидит напротив, под рекламой яда от тараканов, сам чем-то похожий на таракана. Минуты превращаются в часы, и тараканы, так правдиво нарисованные над головой у Циммерна, друг за другом выползают из рекламы и спускаются по оконной раме к нему на плечи, ползут по рукам, по лицу, по шее. Он отряхивается, но что толку, если из рекламы ползут все новые полчища насекомых. Циммерн кричит, зовет на помощь, но Винни сидит уставившись на него, смотрит, что будет дальше, желает ему зла…
Свет мигает, становится ярче, а образ Л. Д. Циммерна тускнеет и исчезает. Двигатель, икнув, точно пьяный, начинает тихонько гудеть. Наконец поезд рывком трогается с места.
Винни добирается до Хэмпстеда, где на первый взгляд совсем не страшно. Над Хай-стрит струится неяркий свет фонарей, вокруг много мирных прохожих, тут и там светятся окна магазинов. Но боковые улочки пустынны и безмолвны. До Винни то и дело долетает звук шагов запоздалого прохожего, иногда мимо проносятся машины. На Ист-Хит-роуд Винни медлит, глядя на улочку напротив, которая теряется меж густых деревьев и ведет куда-то в темную, мрачную, ветреную пустоту. В этот час идти на Хэмпстедскую пустошь — чистое безумие, можно нарваться на неприятности. Самым разумным было бы развернуться и бежать домой, пока метро не закрылось.
Подгоняемая этой мыслью, Винни быстро шагает назад по Уэлл-уок. «Я пыталась, — оправдывается она в уме перед Чаком Мампсоном, — но на Хэмпстед-хит, сам видишь, тьма кромешная. Чего доброго, ограбят». «Брось, Винни, — слышит она голос Чака. — Раз уж ты сюда дошла — все у тебя получится. Наберись храбрости и топай дальше».
Ладно уж, была не была! — думает Винни и снова поворачивает. Но как только переходит через дорогу, сердце у нее начинает тревожно биться. Бледная, зыбкая, почти полная луна едва освещает деревья, а небо пугающего, красноватого оттенка. Ночной ветерок колышет деревья и кусты, и все они как будто оживают; бродят вокруг и другие живые существа, не столь мирные, — слышны их голоса, мелькают их тени. Винни упрямо шагает вперед, дрожа от страха и злости на саму себя, шарахается от каждого куста или встречной парочки и думает, какая все-таки глупость бродить среди ночи по Хэмпстедской пустоши и искать ветра в поле! Кто знает, найдется ли ветреный Фред Тернер на Парламентском холме, среди бродяг и воров, что, быть может, — да почти наверняка — рыщут в темноте? Хорошо бы хоть сам Парламентский холм найти.
Даже если во время этой безумной прогулки ее не ограбят и не покалечат, есть и другая опасность, хоть и чисто умозрительная. Вполне возможно, что отныне Лондон не будет для нее прежним. Сколько раз она хвалилась американским друзьям, что Лондон тих и безопасен, что здесь если и ограбят твою квартиру, когда тебя нет дома (хотя и такого с ней ни разу не случалось), то тебя самого не тронут, что здесь даже худенькая, слабая женщина за пятьдесят может спокойно гулять по ночам. Если это правда, то почему так колотится сердце, почему так трудно дышать? А вдруг это все ложь, до последнего слова? Когда ты, Винни Майнер, в последний раз гуляла в полночь по незнакомой части Лондона?
В том, что она здесь, виноват не только Л. Д. Циммерн, но еще и Чак Мампсон. Если бы не Чак, она была бы дома и смотрела десятый сон. Вот убьют ее сегодня ночью на Хэмпстедской пустоши, а он и не узнает, как ее сюда занесло; и никто никогда не узнает. Винни уже почти жалеет, что встретила Чака Мампсона, что сблизилась с ним. Но назад пути нет, и Винни идет вперед, все быстрей и быстрей, по темной травянистой пустоши, под бледной луной.
На макушке Парламентского холма, рядом с зарослями деревьев и кустов, собралась небольшая толпа — посмотреть на друидов. Здесь же и Вогелеры, и Фред Тернер. Им ни капельки не страшно в полночь на Хэмпстед-хит, но на душе у каждого из них неспокойно. Вогелеры волнуются за Джеки, которого оставили под присмотром няньки — сонной девочки-подростка. Фреда преследуют образы Розмари Рэдли и миссис Харрис, слившиеся в один, — несмотря на все усилия выбросить их из головы. Что могло случиться с нею (или с ними?) со вчерашнего дня? Где она (они) сейчас?
Перед ним одна за другой встают чудовищные картины: Розмари (она же миссис Харрис) бродит по дому пьяная, безумная или лежит мертвая, со сломанной шеей, у подножия красивой, но скользкой изогнутой лестницы. А может быть, она жива-здорова, смеется с друзьями на вечеринке и рассказывает, как ловко подшутила над простачком Фредом, сыграв пьяную домработницу. «Его ничего не стоило одурачить, — хохочет она. — Как того продавца в продуктовом магазине, тупицу и грубияна, который сначала не хотел ничего продавать, а потом оправдывался, что не узнал леди Эмму Талли в джинсах и свитере!» Скорее всего, Фред никогда и не узнает, чем все кончилось, и не поймет, что же на самом деле случилось с ним вчера. Он так и не дозвонился ни до Розмари, ни до ее друзей, а через двенадцать часов он летит в Нью-Йорк.
Тяготит Фреда и неоконченная книга о Джоне Гее. Прямота и неуемная жизненная сила, что так восхищали его в произведениях Гея, теперь кажутся лишь внешней оболочкой. Чем глубже вчитывается он в тексты, тем больше находит там двусмысленностей и темных мест. С новой силой его поражает, что среди персонажей «Оперы нищего» нет ни одного честного человека, даже Люси, главная героиня, — и та обманщица. А главный герой, разбойник Макхит, названный в честь пустоши Хэмпстедхит, на которой сейчас стоит Фред, — всего-навсего грабитель с большой дороги, который шутя обманывает женщин. Лондон во времена Гея был грязен, порочен, полон насилия, и с той поры мало что изменилось. На улицах по-прежнему грязь, газеты кричат о разгуле преступности — в основном в бедных кварталах, но разве в других местах намного лучше? В этом городе каждый стремится урвать побольше, а до других никому дела нет.
Фред сравнивает и себя с капитаном Макхитом, причем далеко не в свою пользу. В женщинах он пробуждает не любовь, а ненависть, и если он заслуживает смерти, то не как Макхит — за то, что сделал, — а за то, чего не сделал, и прежде всего за ненаписанный и неопубликованный научный труд.
Вогелеры, если не считать беспокойства за Джеки, веселы и довольны. За последние несколько недель, с тех пор как потеплело по-настоящему, их мнение об Англии переменилось. Лондон им по-прежнему не нравится, зато после путешествия в Восточную Англию, где их друзья-канадцы сняли домик, они всей душой полюбили английскую деревню.
— Как будто перенеслись в восемнадцатый век, — восторгается Дебби. — В деревне все такие доброжелательные, не то что в Лондоне, и все до одного — такие забавные чудаки!
— В июле, — рассказывает Фреду Джо, — мы с канадцами хотим взять напрокат катер и отправиться путешествовать по каналам. До чего обидно, что тебе завтра улетать, а то поехал бы с нами. Будет здорово.
— Да, жаль. Повеселились бы, — отзывается Фред, морщась про себя. Целую неделю торчать на катере с Вогелерами и их друзьями, не говоря уж о Джеки, — небольшое удовольствие. Они успели полюбить нынешнюю Англию, а Фред разочаровался в ней и стал повсюду замечать все то, на что прежде жаловались они: бессмысленное подражание старине, преклонение перед ней, самодовольство и лицемерие, мелочное следование правилам, показные добродетели, мнимую утонченность. Особенно в Лондоне. Этот город, как Розмари, кажется ему то лживым насквозь, то безумным. Скорей бы наступил завтрашний вечер, скорей бы домой, пусть даже одному богу известно, что ждет его там. Ру так и не ответила на его телеграмму, вычеркнув его, должно быть, навсегда из своей жизни.
Благодаря высокому росту Фред одним из первых замечает приближение друидов. Двадцать с лишним человек, все в белых балахонах с капюшонами, со старинными светильниками в руках, шествуют с востока по тропинке. Издали, на склоне холма, в неверном свете луны они кажутся до того таинственными, что сердце замирает, будто при виде оживших призраков далекого прошлого.
Джо и Дебби затаили дыхание, а Фред, охваченный невольным трепетом, обращается с молитвой к друидам и тем магическим силам, с которыми они связаны. В детстве, помнится, он точно так же загадывал желание на белую лошадь с возом сена. «Пусть все будет хорошо», — повторяет он про себя.
Но как только друиды подходят ближе, волшебство рассеивается — как и многие иллюзии Фреда, связанные с Англией. Вблизи друиды оказываются почтенными, вполне современными гражданами средних лет и старше. Под капюшонами прячутся гладкие, бело-розовые лица англичан — такие лица Фред изо дня в день видел в Британском музее. Взгляды у современных «жрецов» торжественные, сосредоточенные — будто из другого времени, хотя у многих поблескивают очки, а из-под длинных балахонов торчат всевозможные сандалии, кожаные и пластиковые, из которых лишь несколько пар сошли бы за древнеанглийские, да и то разве что на сцене.
Вогелеры если и замечают эти нелепости, то не придают им значения.
— Здорово! — восклицает Джо, когда друиды, миновав их, выстраиваются в неровный кружок перед зарослями деревьев на макушке Парламентского холма.
— Дух захватывает, — вторит ему Дебби и благоговейным шепотом добавляет, что многие — а если точно, то больше половины участников — женщины. Она прочитала в «Гардиан», что в друидизме царит равноправие полов.
Джо сомневается.
— В наше время — может быть, — шепчет он в ответ. — А изначально все друиды были мужчинами, разве нет?
Так или иначе, думает Фред, пока Вогелеры вполголоса ведут спор, эти современные лондонские друиды — не что иное, как переодетые любители. Их вождь размахивает мечом неуклюже и неубедительно; нелепы и две женщины в очках, машущие зелеными ветками на четыре стороны света. Обрывки песнопений, которые доносит ночной ветер, — скорее не англосаксонские, а начала нашего века, манера исполнения наводит на мысль о студенческих постановках древнегреческих трагедий. Сумасшедшие, кривится Фред, когда друиды вразнобой поднимают в воздух светильники, тоненькими интеллигентными голосками распевают гимн непонятно чему — кажется, Великому Кругу Бытия, — а из-под балахонов у них, будто напоминание о современности, поблескивают наручные часы и выглядывают брюки.
Фред брезгливо отворачивается от этого маскарада, не желая видеть фальши, которая окружает его со всех сторон, от Блумсбери до Ноттинг-Хилл, от огней Хайгейта на севере до Челси на юге.
Глядя в сторону Хэмпстед-Вилледж, он вдруг замечает, что по тропинке на холм карабкается еще одна женщина-друид, и вид у нее самый что ни на есть дурацкий, и поднимается она не с той стороны, и явно припозднилась. На вершине холма «жрица» останавливается, тревожно поглядывает на толпу зрителей, потом нетвердыми шагами идет дальше с таким видом, будто раздумывает, подходить ли к собратьям-друидам или не стоит. Вряд ли ее примут с распростертыми объятиями. Ладно бы опоздала, так еще и одета не по случаю — светильник забыла, а балахон с капюшоном у нее совсем куцый, не достает до земли почти на целый фут, хоть она и маленького роста, а из-под него торчат модные туфли на высоких каблуках.
Да уж, думает Фред, глядя, как приближается нелепая фигура, вот во что превратилась Англия с ее славной историей и традициями, политическими, общественными, культурными. Британия — древняя, бесстрашная, благородная богиня — съежилась, стала похожа на маленькую робкую старушонку в костюме друида…
Минуточку… Вовсе это не друид и даже никакая не англичанка. Это же Винни Майнер!
Восемь часов спустя Фред сидит на крыльце у Розмари в Челси, а рядом с ним — весь его багаж. Или не весь. Рано утром, когда он запихивал вещи в парусиновый рюкзак, голова у него все еще шла кругом после двух бессонных ночей. Впрочем, даже если он что-то и забыл, сокрушаться поздно: в полдень из Хитроу вылетает самолет.
Несмотря на усталость, на душе у Фреда легче, чем накануне. Во-первых, теперь он знает, что в Нью-Йорке его ждет Ру, а во-вторых, поделился плохими новостями о Розмари с Винни Майнер и благодаря ей же — с Эдвином Фрэнсисом, который уже вернулся из Японии и сейчас гостит у матери в Сассексе.
— Боже мой! — воскликнул Эдвин, когда ему ни свет ни заря позвонил Фред и все рассказал. — А я-то думал, что она уехала. На звонки-то не отвечала… И ведь ждал же чего-то подобного! Послушайте, я почти позавтракал, сейчас первым же поездом выезжаю в Лондон и прямо с вокзала Виктория отправлюсь к Розмари.
— Хорошо. Встретимся там.
— Думаю, нет смысла. К тому же вы сами сказали, что сегодня утром улетаете в Штаты.
— Я успею. Самолет только в двенадцать.
— Ну…
— Я так хочу.
— Ну, раз уж вы настаиваете, — со вздохом сдается Эдвин. — Только обещайте без меня не заходить в дом.
Сам не свой от нетерпения, Фред переходит улицу и смотрит на парадную дверь дома с надеждой и страхом: вдруг Розмари покажется до прихода Эдвина? Дом кажется нежилым, все ставни закрыты, крыльцо усыпано бумажками и рекламными листовками. Не верится, что внутри кто-то есть — тем более женщина, которую Фред видел позавчера. Или ему почудилось. Была ли это на самом деле Розмари или просто миссис Харрис? Что, если Розмари ему всего лишь померещилась? Что, если неутоленное желание сыграло с ним такую шутку?
— A-а, вот и вы! — говорит Эдвин Фрэнсис, выходя из такси; он бледен и взволнован. — В дверь еще не звонили? Нет? Вот и правильно. Ну что ж, сейчас посмотрим. Вам, наверное, лучше отойти чуть-чуть подальше, в глубь улицы. Не дай бог она увидит вас и расстроится от неожиданности.
— Я… Ладно, — соглашается Фред.
Он чуть отступает и смотрит издали, как Эдвин звонит, ждет, подает ему знак.
— Довольно странно, — говорит Эдвин.
— Да. — Фред понимает, что Эдвин, как и многие англичане, говорит «довольно», а подразумевает «очень».
— Поищу-ка я запасной ключ.
Эдвин подходит к одной из каменных урн у крыльца, сломанной веточкой ковыряет землю под плющом и белой геранью.
— Вот и он. — Эдвин достает большой льняной платок — такие носил с собой дедушка Фреда — и вытирает сначала ключ, а потом изящные, холеные руки. — Вы лучше подождите, — говорит он, чуть приоткрывая дверь. — Посмотрю сначала, что там такое.
— Нет, я хочу…
— Я мигом.
Не успевает Фред открыть рот, а Эдвин уже проскользнул в прихожую и закрыл за собой дверь.
Фред опять садится на ступеньки рядом с чемоданами. В доме тихо, вокруг слышны только обычные звуки лондонского летнего утра — шелест листьев на ветру, детский визг, ленивое чириканье птиц, гул проносящихся по Кингз-роуд машин. Ухоженные викторианские домики с террасами, выкрашенные в пастельные тона, купаются в теплых солнечных лучах; трудно поверить, что за их стенами может прятаться что-то дурное.
Дверь отворяется, и Фред вскакивает на ноги.
— Что там?.. Как…
— Коротко говоря, она там, — отвечает Эдвин. За те несколько минут, что он был в доме, тревога на его лице сменилась гневом. — Ничего страшного — жива-здорова. Но соображает плохо. Возможно, просто еще не проснулась. Зато что в доме творится! Ужас. Просто ужас. — Его заметно передергивает.
— Можно мне… — Фред хочет протиснуться внутрь, но Эдвин решительно придерживает дверь:
— Честное слово, лучше не надо. Вы только расстроите Розмари.
— Я хочу ее видеть.
— Зачем?
— Что за вопрос, в самом деле! Чтобы убедиться, что с ней все хорошо… Попросить прощения… — Фред моложе, сильнее Эдвина Фрэнсиса и намного выше ростом. «Захочу, — думает Фред, — без труда прорвусь».
— Это ни к чему. Поверьте, она сейчас не в состоянии принимать гостей.
— Но я должен кое-что сделать. У меня в запасе… — Фред смотрит на часы, — целых двадцать минут.
— Вы и без того наделали дел, — язвит Эдвин, но тут же, увидев, какое у Фреда лицо, добавляет: — Все будет хорошо. Сейчас позвоню и вызову доктора. На всякий случай.
— Мне во что бы то ни стало нужно ее увидеть. — Положив Эдвину руку на плечо, Фред пытается освободить себе дорогу.
— Не надо меня злить, очень прошу, — говорит Эдвин, не двигаясь с места. — Вот что я вам скажу. Если вы готовы остаться в Лондоне и посвятить Розмари жизнь — вперед, не буду вам мешать. Если же нет, то что бы вы ни сделали, ей будет только тяжелее.
— Всего на пару минут… — Похоже, чтобы пробраться мимо Эдвина, понадобится сила, даже насилие.
— Хотите лишний раз ей напомнить, что уезжаете, и еще больше расстроить ее, да?
— Нет, я… — Под тяжестью вины руки Фреда опускаются, и он отступает. — Я просто хочу ее увидеть, и все. Вы же знаете, я люблю ее.
— Не будьте эгоистом. — Эдвин прикрывает дверь. — Ни вам, ни ей от этого лучше не станет. Тем более что любите вы не настоящую Розмари.
Фред колеблется. Он нестерпимо хочет увидеть Розмари, но боится, что Эдвин прав, что от этого станет только хуже. Он оглядывается по сторонам, словно в поисках совета и помощи, но улица пуста.
— Отправляйтесь домой, Фредди, — напутствует Эдвин. — Честное слово, лучше вам поскорее забыть о Розмари. Доброго вам пути. И ради всего святого, не надо никаких писем, — добавляет он и захлопывает дверь у Фреда перед носом.
Фред, казалось бы, оставил себе достаточно времени на дорогу в аэропорт, но не подумал, что в Челси нелегко поймать такси, а на дорогах могут быть пробки. Целый час он беспокоится лишь о том, как бы успеть на самолет. Если бы он настоял на встрече с Розмари, то опоздал бы наверняка. Зато в зале ожидания Хитроу на Фреда вновь находят сомнения и тревоги двух прошедших дней.
Вместе с пропуском на посадку Фреду выдают брошюру со списком товаров, которые разрешается ввозить в США. Смяв брошюру, Фред выбрасывает ее. Нет у него денег ни на какие беспошлинные товары, а тяжестей за полгода и так накопилось достаточно. Вещей, собственно говоря, немного: стопка книг, кашемировый шарф — подарок Розмари, да заметки о Джоне Гее и его эпохе. Гораздо тяжелее тот груз, что у него на душе, — нестерпимая усталость, разочарование в Лондоне, в Гее, в жизни и в себе самом.
Фред всегда считал себя неглупым и порядочным человеком, а теперь ему кажется, что он недалеко ушел от капитана Макхита. Труд его, как и всякая научная работа без желания и вдохновения, за последние месяцы выродился в мелкий разбой на большой дороге. Фред только и делал, что похищал мысли и сведения из чужих книг и кое-как собирал их в одно целое.
Его любовная жизнь нисколько не лучше. Как и у Макхита, она строится по законам литературы восемнадцатого века. Мужчина встречает невинную женщину, соблазняет, а потом бросает. Иногда он всего лишь «обольщает» ее, иногда берет силой. Заканчиваться история может по-разному. Женщина чахнет и умирает, или производит на свет ребенка — живого или мертвого, — или отправляется на улицу, или идет в монахини и так далее. Мужчина может пуститься на поиски новых жертв, или будет в конце концов разоблачен, или заслуженно погибнет, или вернется к прежней возлюбленной — и если вернется вовремя, то получит прощение и женится.
Можно сказать, что Фред совратил и Ру, и Розмари, а потом оставил и ту и другую, когда они больше всего нуждались в нем, — точно так же Макхит оставил Полли и Люси. Разумеется, без злого умысла. Ведь Ру — «свободная женщина», как она себя называла, а Розмари богата и знаменита. Потому-то Фреду и казалось, что им невозможно причинить вред, но за этот год он понял, что люди все хрупки, даже самые сильные и независимые.
Ру мечтала поехать в Англию, но не смогла из-за Фреда, из-за ссоры с ним. В мае она написала ему — должно быть, надеялась, что Фред тотчас вызовет ее к себе; вместо этого письмо пролежало у него на столе несколько недель. Он внушил Розмари безоглядную любовь, а сам любил ее лишь до тех пор, пока ему было удобно… Вот тут-то он и попался. В душе он, возможно, будет любить ее всю жизнь, даже если Эдвин был прав и та Розмари, которую он любит, ненастоящая.
На табло появляется сообщение о начале посадки. Подхватив чемоданы, Фред следом за другими пассажирами идет в коридор, к движущейся дорожке, которая довезет его до выхода. Фред смотрит, как мимо проплывают те же самые плакаты с живописными уголками Британии, что и полгода назад, — или уже другие, но очень похожие. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким негодяем.
Но как-никак он молодой, красивый, образованный американец, доцент в одном из крупнейших университетов, и спешит домой, к прекрасной женщине, которая любит его и ждет. Мало-помалу к нему возвращается природная жизнерадостность. В конце концов, в «Опере нищего» нет строгого приговора. В третьем действии Гей вмешивается в ход пьесы — как Господь в дела человеческие, — чтобы дать ей счастливый конец. Он не дает казнить Макхита и воссоединяет его с Полли. Фред и Ру тоже скоро будут вместе.
Сделал ли это Гей всего лишь в угоду публике, как он заявляет? Или потому, что любил своих героев? Знал ли он по опыту или догадывался чутьем гения, что всегда есть надежда — пусть не для всех, но хотя бы для самых деятельных и удачливых из нас?
На душе у Фреда становится легче. Он больше не стоит неподвижно на резиновой дорожке, а идет вперед. Цветные плакаты с видами Британии бегут назад вдвое быстрее, и Фреду кажется, будто он шагает в будущее, уверенно и стремительно, как никогда.
12
Можно кости поломать палками, камнями,
Но меня не испугать грубыми словами.
Позже будешь слезы лить над моей могилой,
Пожалеешь, что бранил меня, миленький мой милый.
Из английской народной поэзии
В Лондоне сырой, дождливый летний день. С серого неба потоками течет вода, заливая все за окном кабинета Винни: дома, сады, деревья, машины, людей в плащах и под зонтами. От дождя никуда не спрячешься, вода льется с зонтов на асфальт, и снизу летят брызги. Винни хмуро глядит сквозь пелену дождя на юго-запад, в сторону Примроз-Хилл, и гадает, почему Чак не звонит уже почти неделю.
Даже не гадает, а почти уверена, что молчит он неспроста. Вот и случилось то, чего она боялась. Чак охладел к ней; понял, как и многие до него — в особенности бывший муж Винни, — что по ошибке принимал благодарность за любовь. Может быть, еще и нашел другую, помоложе, покрасивее… Зачем ему теперь думать о Винни, которой и рядом-то нет и которая во время их последнего разговора опять отказалась назвать точный день своего приезда?
До той минуты они беседовали так же тепло и непринужденно, как обычно. Чаку интересно было послушать о том, как звонила Ру, и о ночной прогулке Винни на Хэмпстедскую пустошь.
— Ты такая добрая, — вставил он в середине рассказа, еще раз повторил в конце, и впервые Винни почти поверила. Не такая уж она добрая, зато хоть одно доброе дело сделала.
У самого Чака настроение было хорошее — может быть, даже слишком. На раскопках работа спорилась, и его поиски тоже шли отлично.
— Я столько Мампсонов нашел, что и не счесть. И все, должно быть, мои родственники, если копнуть поглубже. Один студент Майка сказал, что мне здесь, может, потому и хорошо. Говорит, генетическая память — слыхала о такой штуке?
— Есть такая теория.
— Звучит, конечно, странно. Но знаешь, Винни, мне тут и вправду нравится. Порой кажется, так бы и остался здесь навсегда. Даже домик здесь подумываю купить. Без выкрутасов, никакой не замок. В округе много продается славных домиков и почти задаром, не то что у нас в Талсе.
В Историческом обществе ему тоже очень помогли. Кто-то даже предположил, что Чак и его семья — потомки дворянина по имени де Момпессон, сподвижника Вильгельма Завоевателя, а фамилия Мампсон, возможно, простонародное сокращение. Винни, правда, в этом сильно сомневается, поскольку почти все известные на нынешний день предки Чака были, как и Старый Мампсон, неграмотными или полуграмотными крестьянами. Одна из семей — как недавно узнал Чак, — вероятно, жила в том самом доме, где он сейчас остановился.
— У меня это из головы не выходит, — признался Чак. — Прошлой ночью разглядывал я в комнате всю эту дряхлую мебель и думал, что в этой самой комнате спал кто-то из моих предков. Может быть, даже на той же кровати. А сегодня утром на раскопках — дождь как раз собирался, Майк спешил, я ему помогал — мне вот что в голову-то пришло… А вдруг Старый Мампсон или его родня копали то же самое поле? Ту самую землю, что у меня на лопате? Тут хочешь не хочешь, а задумаешься.
— Я тебя понимаю.
— Собираюсь съездить в Сомерсет, разузнать побольше об этих де Момпессонах. Но вот какое странное дело… не очень-то мне и хочется, чтобы они нашлись. Зачем мне, спрашивается, в предках француз-аристократишка? Но съездить я туда все равно съезжу. Завтра решил, если дождь не кончится. Говорят, не кончится. Но если ты приедешь — я останусь, ясное дело.
— Нет, — ответила Винни. — Пожалуй, не в эти выходные.
— Ладно, — вздохнул Чак. (Огорчился, решила тогда Винни. А сейчас теряется в догадках: разозлился? Обиделся? Решил вообще махнуть на нее рукой?) — Не хочешь — как хочешь. Может, послезавтра позвоню, расскажу, что разузнать-то удалось.
Или не позвоню. Вот что он должен был прибавить, думает Винни. Не позвонил ведь — ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник. Дуется, наверное. Или встретил другую, как, собственно, она и предполагала. Против ожиданий, Винни очень расстроилась; мало того — все выходные ни о чем другом не могла думать. В понедельник утром позвонила на Паддингтонский вокзал, чтобы узнать расписание поездов в Уилтшир, а поздно вечером, с трудом поборов стыд, набрала номер Чака в Уилтшире. «На этой же неделе приеду», — хотела сказать она Чаку. Пусть вопреки рассудку, пусть все кончится плохо — ничего не поделаешь. Да только не дозвонилась она до Чака ни в тот день, ни на следующий.
Должно быть, он все еще в Сомерсете, а значит, отыскал новых родственников, и, возможно, даже знатных. Но почему не позвонил, не рассказал? Обиделся, или я ему наскучила, или ему приглянулась другая? Что ж, это можно было предвидеть. Как в старинной песенке:
В душе у Винни досада, даже злость на Чака и на себя. Пока она с ним не связалась, ей хорошо жилось в Лондоне. Можно сказать, даже счастлива была. Как поется еще в одной старинной песенке, она никому не была нужна, и ей никто не был нужен, и теперь ей нисколько не хуже, чем было до Чака… только все равно почему-то больно, обидно, одиноко и жаль себя.
Винни мысленно видит большую гостиную в роскошном поместье далеко на юго-западе Англии, в незнакомом городке. В эту самую минуту там сидит Чак Мампсон и пьет чай с новыми английскими родственниками по фамилии де Момпессон, которые разводят розы и держат охотничьих собак. Родственников очаровало его американское простодушие и прямота, они потчуют его до отвала бутербродами с водяным крессом, тортом с грецкими орехами, малиной, жирными сливками.
Под креслом с обивкой из вощеного ситца, в котором сидит Чак, невидимый грязно-белый пес зевает, задирая морду. Недоуменно смотрит пес на Чака, затем не спеша поднимается, отряхивается и ступает на мягких лапах по персиковому обюссонскому ковру к дверям. Фидо покидает Чака, потому что больше ему не нужен; он спешит домой, к Винни.
Да что толку гадать? В шесть часов, когда тариф будет дешевле, надо снова позвонить и все узнать. А пока допить чай, хоть он и попроще, чем у де Момпессонов, и опять взяться за статью, обещанную месяц назад газете «Санди таймс».
Винни с головой ушла в работу, разложив вокруг пишущей машинки четыре сборника народных сказок, которые нужно отрецензировать, — и тут звонит телефон.
— Профессор Майнер? — Это снова не Чак. Голос женский, с американским акцентом, взволнованный, совсем молодой. Наверное, студентка-троечница, может быть даже одна из студенток Винни.
— Я слушаю.
— Вы профессор Майнер?
— Да! — нетерпеливо подтверждает Винни, решив сначала, что кто-то опять разыскивает Фреда Тернера. Однако, судя по голосу — глухому, взволнованному, — у девушки скорее не несчастная любовь, а большие неприятности в дороге. Украли багаж, к примеру, заболела или что-нибудь в этом духе.
— Я Барби Мампсон. Я сейчас в Англии, звоню из Фроума.
— Вот как? — Оказывается, звонит дочь Чака, из большого города неподалеку от Саут-Ли.
— Я звоню из-за картины… то есть из-за отца… — Голос Барби дрожит.
— Что?! — вырывается у Винни. Страшная, неясная тревога поднимается в ее душе. — Вы приехали к отцу в Саут-Ли?
— Да… то есть нет… Господи, простите. Я думаю, может быть… Ох, какая же я дура… — Винни кажется, что мир рушится, Барби Мампсон потеряла дар речи, вокруг темнота. — Я думала, профессор Джилсон вам уже сказал. Папа… в прошлую пятницу его не стало.
— Боже!
— Поэтому я здесь. — Барби все говорит и говорит, но до Винни долетают лишь обрывки фраз. — А на другой день… на самолет билетов не было… мама решила…
— Какое горе, — с трудом произносит Винни.
— Спасибо за сочувствие. Мне так жаль, что приходится вам рассказывать. — Голос Барби дрожит еще сильнее, слышно, как на другом конце провода она откашливается. — В общем, я вот по какому делу, — чуть погодя продолжает Барби. — У папы была старинная картина, и профессор Джилсон сказал, что он… то есть папа… хотел передать ее вам, если вдруг с ним что-нибудь случится. Он ее с самого начала хотел вам отдать. Вы ведь ему очень помогли с родословной. Мне профессор Джилсон рассказал. Ну и вот, я послезавтра буду в Лондоне, по дороге домой. Можно занести вам картину? Если удобно, конечно.
— Конечно. Пожалуйста, — чужим голосом отвечает Винни.
— Когда к вам лучше зайти?
— Не знаю. — Винни даже говорить тяжело, не то что строить планы. — А когда вам удобно?
— Мне все равно. Я целый день свободна.
— Понятно. — Огромным усилием воли Винни собирается с мыслями. — Часа в четыре вам подойдет? Заходите на чай. — Винни слышит свой голос как будто со стороны: до того спокойный, что становится страшно, он рассказывает Барби, как добраться.
Винни опускает трубку, но отойти от телефона нет сил, и она стоит в спальне, положив руку на телефон, и смотрит сквозь серые тюлевые занавески на залитую дождем улицу, а видит другую, страшную картину: взятая напрокат машина, разбитая всмятку, на грязной проселочной дороге. Такую смерть Чак и представлял для себя. Он ее даже искал.
Чак просил, чтобы Винни передали картину, если вдруг с ним что-нибудь случится. Выходит, знал заранее? Замышлял? Или предчувствовал? Правда, его дочь не сказала, что Чак попал в аварию, но она вообще ничего не сказала о случившемся. «Его не стало». Значит, это была не авария? Будь это авария… точнее, ненастоящая авария… — у Винни нестерпимо болит голова, — это значило бы, что Чак не хотел жить, мечтал о смерти. «Не стало». Что за нелепое выражение. Был только что человек — и нет его, словно и не было вовсе…
Винни трудно дышать, внутри у нее что-то обрывается, как будто дождь с улицы хлынул к ней в дом, заливает спальню. Впрочем, о смерти как ни скажи, все получается глупо. Не стало, скончался, дал дуба, сыграл в ящик, точно Чак играл в какую-то кошмарную игру.
А на самом деле он просто умер, его больше нет. Умер… что сказала Барби?.. в прошлую пятницу. Все эти дни Винни звонила, все эти дни ждала его звонка…
Вот почему не дождалась, думает Винни. Вовсе не потому, что наскучила ему. Радость и облегчение вспыхивают на миг в ее сердце, а за ними — еще более мучительная боль, как будто луч маяка пронзил темноту и тут же осветил страшные останки разбитого судна. Чак никого не разлюбил; он умер, его больше нет. Ничего от него не осталось — только его кошмарная семья и дочь, которая послезавтра приедет на чай. А до этого Винни ничего не узнает.
Когда приезжает Барби Мампсон, опять идет дождь, но уже не такой сильный. Барби стоит у Винни в прихожей, с нее капает вода, она не знает, куда деть мокрый плащ, кричащий цветастый зонтик и влажную картонную папку, перевязанную лентой.
— Ой, спасибо, — говорит она, когда Винни забирает у нее вещи. — Я в таких делах ничегошеньки не смыслю.
— Позвольте. — Винни наполовину закрывает зонт и ставит в угол сушиться.
— У меня никогда в жизни не было зонтика, честное слово. На той неделе купила, представляете, а открыть несколько дней не могла. И теперь всякий раз мучаюсь, не могу закрыть. Ну не беда, научусь уж как-нибудь.
Крупная, полноватая, загорелая блондинка в дурацкой мятой розовой рубахе с короткими рукавами и нарисованным крокодилом на груди, Барби оказалась старше, чем можно было подумать, судя по ее высокому, детскому голосу. На вид ей лет двадцать пять.
— Прошу, — приглашает Винни. — Проходите, присаживайтесь.
Винни подает Барби к чаю точно такое же роскошное угощение, которым всего лишь позавчера выдуманные де Момпессоны потчевали в ее мечтах Чака в своем загородном доме. Аппетит у его дочери, как и у отца, хороший, а манеры не очень. Малину со сливками она ест большими ложками, почти с жадностью, приговаривая: «Вкуснятина!»
— Как вам понравилась Англия? — спрашивает Винни, из вежливости не решаясь сразу переходить к тому, что ее волнует по-настоящему.
— Даже не знаю. — Барби вытирает сливки с подбородка — квадратный, с ямочкой, совсем как у Чака, на девичьем лице он кажется слишком тяжелым. — Ничего особенного, ведь так?
Винни в ответ только пожимает плечами.
— Захолустье какое-то, правда?
— Для кого-то и захолустье.
Оказывается, у Барби не только отцовский квадратный подбородок и крупные, резкие черты (у мужчины привлекательные, у молодой женщины не слишком), но и та же привычка после каждого вопроса хлопать глазами.
— То есть все здесь какое-то маленькое и невзрачное.
— По сравнению с Талсой в самом деле может показаться. — Винни молча слушает, как Барби ругает ее любимую страну, ее вторую родину, как самая обычная глупая туристка. Недаром тебя назвали Барби, думает Винни. Дикарь ты, варвар, вот ты кто.
— И слякоть жуткая.
— Гм. — Винни не хочется заводить спор; она сдерживает себя и ждет подходящей минуты, когда можно будет вежливо задать вопрос, который не дает ей покоя вот уже двое суток. — Как это случилось? — неожиданно вырывается у нее.
— Простите? — Барби-дикарка опускает руку с куском торта, разбрасывая крошки. — Ах, вы про папу? Сердце. Он был в здании муниципалитета, в соседнем графстве. Пошел туда посмотреть какие-то архивы.
— Да, он собирался.
— Угу. Ну и вот. День был жаркий, кабинет под самой крышей. Лифта никакого не было, идти три длинных-предлинных пролета. Ну и пока библиотекарь ходил за нужной книгой, папа стоял у стола и ждал — и вдруг потерял сознание. — Барби шумно жует, глотает, трет кулаком левый глаз, тянется за еще одним бутербродом с водяным крессом. Крокодиловы слезы, думает Винни. — Ну и пока приехала «скорая» и довезли его до больницы, его не стало.
— Вот как. — Винни глубоко вздыхает. — Сердечный приступ.
— Да. И врач так сказал.
Как говорят, умер своей смертью, думает Винни. Не по собственной воле. Ни его вины здесь нет, ни моей. Все так… Но если бы не я, Чак не умер бы в английском захолустье, в каком-то душном архиве, хотя бы потому, что не оказался бы там. («Если бы не ты, — вновь слышит Винни его голос, — ни за что бы не додумался искать предков».) Но какая разница, из-за меня он умер или вопреки мне? Его больше нет. Он не войдет больше в эту комнату, не сядет на то место, где сидит сейчас его тупая дочка и глупо улыбается.
Пересилив себя, Винни вспоминает о вежливости и вновь обращается к Барби:
— Какое горе. Какое ужасное несчастье. — Винни хмурится, сообразив, что произносит слова такие же избитые, как и Барби-дикарка.
— Да, то есть… — Барби жует, глотает. — Само собой. Но мы, можно сказать, были к этому готовы. Папу сколько раз предупреждали.
— То есть как — предупреждали?
— С ним уже было такое, и врач в Талсе сказал, надо беречься. Не пить, не курить и вообще избегать любых нагрузок. И все равно оставалась опасность. То есть он в любую минуту мог умереть. Он вам, должно быть, не говорил. — Барби хлопает глазами.
— Нет, не говорил. — Винни вспоминает, как Чак пил, курил, занимался с ней любовью… а это ведь тоже «нагрузка».
— Нельзя было ему подниматься по лестнице в этой дурацкой конторе, — продолжает Барби. — Но вы же знаете папу. Если уж он за что-то брался — всегда доводил до конца. Помню, когда мы были маленькие, я сказала как-то раз, что хочу домик на дереве. Папе стало интересно, он начал что-то чертить, а в субботу с утра до вечера просидел на нашей большой катальпе, все мастерил. Мы с Грегом помогали, а Консуэло — это наша кухарка — он попросил принести для всех бутерброды, чтобы нам не прерываться на обед. Когда мы закончили, уже почти стемнело, и мы устроили там, наверху, пикник, и пили… розовый… лимонад… Простите. — Барби всхлипывает.
— Ничего. — Винни протягивает Барби носовой платок — свой она, похоже, потеряла.
— Спасибо… Сейчас пройдет… — Барби громко сморкается в льняной платок ручной работы. — Со мной ничего страшного. Я почти не плакала. Только вначале, когда мама получила телеграмму, да в самолете. Да еще потом, с пеплом.
— С пеплом? — переспрашивает изумленная Винни.
— Да. То есть с прахом. Понимаете, мама решила, чтобы папу прямо здесь кремировали. А что, говорит, еще делать? Профессор Джилсон все устроил, он такой добрый. Он узнал, что случилось, только когда мама позвонила, и тут же связался с больницей и вместе со студентами обо всем позаботился. Нашли, где мне остановиться, встретили меня на вокзале. Так помогли, честное слово. Папа им и в самом деле был очень дорог. Я такая дурочка, вовсе не знала, что делать, но они помогли все устроить, заплатить по счетам, разобрать папины вещи — что отослать домой, а что раздать.
— Правильно, — говорит Винни, стараясь не представлять подробностей.
— Обо всем позаботились, честное слово. Кроме праха. Очень странно получилось и страшно. Профессор Джилсон оставил его мне. Я-то думала, прах будет в большой серебряной урне, а оказывается, ничего подобного. — Барби всхлипывает, умолкает.
— Ничего подобного, — напоминает Винни.
— Да. Мне дали… знаете, такую вощеную картонную коробку, как из-под мороженого, точно такого же размера. А внутри полиэтиленовый пакет, и в нем светло-серый порошок, вроде соевой смеси. Не верилось, что это все, что осталось от папы… горсточка пепла. — Барби снова всхлипывает. — Я не знала, куда это девать, — продолжает она. — Можно ли провозить пепел в самолете. То есть, а вдруг будут проверять на таможне? И в чемодан с одеждой не положишь, понимаете? — У Барби вновь на глаза наворачиваются слезы. — Простите меня. Я такая дурочка.
Постоянные уверения Барби в собственной глупости понемногу выводят Винни из себя. «Перестаньте называть себя дурочкой, — хочется ей сказать. — Не может выпускница Оклахомского университета быть настолько глупой».
— Ничего страшного, — говорит Винни вслух. — В общем и целом вы все сделали правильно.
Невольно Винни начинает казаться, что Барби — вовсе не дикарка, не варвар, а скорее невинная жертва вандала-мамаши. Кто еще мог внушить дочери, что та дурочка?
— Ну и когда я позвонила домой, мама велела пепел развеять где-нибудь, — продолжает наконец Барби. — И профессор Джилсон отвез меня за город, в любимое папино место. Ничего особенного, просто лужайка на склоне холма. Ее хозяином вроде когда-то был кто-то из папиных предков. Место и вправду хорошее, тихое такое. И профессор Джилсон сказал, что эту лужайку, скорее всего, никогда не застроят, потому что далеко слишком и склон очень крутой. Перелезла я через забор по таким деревянным ступенькам… перелезла и ушла подальше в поле. Высыпала пепел в высокую траву, в цветы. Надо было его разбросать посильнее, наверное, но я так плакала и руку не могла просунуть в пакет. Мне казалось, это грубо, понимаете?
— Да, понимаю.
— Бедный папа. — Барби со вздохом тянется к последнему бутерброду с водяным крессом. — Правильно мама говорила. Жалкий он какой-то… Бегал по стране, родню искал…
— Я так не думаю, — недовольно возражает Винни. — Ваш отец интересовался родословной — что тут такого? Многие люди интересуются.
— Да, знаю. Но ведь им наверняка есть кем гордиться. Вот у мамы, к примеру, в роду много знаменитостей. Сама-то она состоит в организации «Дочери американской революции», потому как предки у нее сплошь судьи да генералы. Между прочим, Хирам Фадд, сенатор, был ее прадедом.
— Вот как! — замечает Винни. Перед глазами у нее встает родословное древо-катальпа, с домиком на ветвях, в котором сидят обезьяны, одетые судьями, генералами, сенаторами.
— Вот и папа думал, что если копнуть поглубже, то и ему найдется кем гордиться. Профессор Джилсон рассказывал, что папа искал по всей стране, месяц за месяцем. А нашел одних крестьян, кузнеца да того старика отшельника… Вот чем он, похоже, был здесь занят, да еще помогал иногда профессору Джилсону. Мама думает, что папа, может быть, завел здесь… женщину. — Барби моргает, смотрит на Винни, но в глазах у нее скорее вопрос, а не подозрение. Ясное дело, для нее профессор Майнер — не «женщина». — Как по-вашему, могло быть что-нибудь такое?
— Понятия не имею, — отвечает Винни ледяным тоном, в душе благодаря небеса за «Бритиш Телеком». Теперь ни Барби, ни ее мать не найдут среди вещей Чака писем от нее. И у самой Винни не осталось от Чака ни строчки, ни единой крохотной записки — лишь кое-что из его зимней одежды.
— Лично я в это не верю. Папа был не такой. Он был человек очень преданный, понимаете? — Барби хлопает глазами.
— Гм. — Винни, сама того не желая, оглядывается на стенной шкаф в прихожей, где немым укором висит зимняя куртка Чака из овчины мехом внутрь. — Еще чаю? — Винни берется за чайник, поскольку угощать больше нечем. Несмотря на свое горе (а может быть, из-за него), Барби уничтожила и бутерброды с водяным крессом, и торт с грецкими орехами.
Барби качает головой, тряся длинными, выгоревшими на солнце волосами.
— Нет, спасибо большое. Я, пожалуй, пойду. — Барби неуклюже встает. — Ну, спасибо за все, профессор Майнер, — говорит она по пути в прихожую. — Очень приятно было познакомиться. Ой, стойте! Чуть не забыла отдать папину картину. Ну не дурочка ли я! Вот, пожалуйста.
— Спасибо. — Винни кладет папку на столик в прихожей, развязывает потертые хлопчатобумажные ленты, затаив дыхание, разворачивает мятую бумагу, открывая большую, вручную раскрашенную гравюру восемнадцатого века: грот и водопад на фоне леса. Перед гротом, опершись на посох, стоит старик в лохмотьях и шкурах. — Ваш отец говорил мне об этой картине. Это его предок, Отшельник из Саут-Ли; его называли Старым Мампсоном.
— Да, так и профессор Джилсон сказал.
— Может быть, хотите оставить ее себе? — спрашивает Винни, в душе надеясь, что Барби ответит «нет».
— Даже не знаю… — Барби кажется такой большой и беспомощной. — Пожалуй, нет.
— А вдруг вашему брату она понравится? — настаивает Винни, отмечая про себя, что Старый Мампсон, несмотря на свой почетный титул, выглядит не старше Чака и очень на него похож (если бы Чак отрастил косматую бороду — был бы точь-в-точь как он). Винни очень хочется взять картину себе — так хочется, что просто страшно.
— Нет, что вы! — Барби даже вздрагивает. — Грегу? Шутите! Этот старик похож на чудака-хиппи, Грег такого в доме не потерпит. К тому же папа велел профессору Джилсону, чтобы отдал картину вам, если вдруг что случится. — Барби неловко улыбается. — Если хотите — выбросьте вон, да и все.
— Нет уж, — отвечает Винни, хватая папку, будто ее сейчас отберут. — Мне очень нравится. — С гравюры она переводит взгляд на Барби — та топчется с недоуменным видом. — Сколько же вам пришлось пережить за эти дни. — Винни догадалась об этом только сейчас. — Жаль, что ваша мать или брат не смогли приехать вместе с вами. — «Или вместо вас», — думает Винни про себя. Любой из них справился бы сам, а не стал бы все перекладывать на профессора Джилсона. С другой стороны, в этом, возможно, все дело: Барби послали, поскольку она единственная не сумела отвертеться.
— Да. Мама приехала бы, но у нее была важная сделка с квартирой, на которую она не один месяц потратила. Ну и Грег, как всегда, страшно занят, а жене его через месяц рожать.
— Вот и прислали вас, — заключает Винни, почти не выдавая недовольства.
— Ну да. Кто-то же должен был приехать. — Барби хлопает глазами. — А у меня ни семьи, ни работы приличной — мной не грех и попользоваться.
— Ясно. — Винни представляет универмаг в Кэмден-тауне, с полками, заваленными одноразовым товаром — бумажными тарелками и салфетками, пластмассовыми ложками, стаканами, жестянками для пирожков и прочим. Очень удобно. Попользовался — и выбросил. Винни захлестывает волна неприязни к родственникам Чака, которые живут и здравствуют. — Ну, теперь-то вам можно ехать домой.
— Да. То есть нет. Нужно остаться в Лондоне еще на денек-другой. Мама решила, что лучше мне ехать на десять дней сразу. Чартерным рейсом, это ведь намного дешевле. Бесплатная гостиница и все такое прочее.
— Гостиница, должно быть, не из лучших, — замечает Винни.
— Да уж. Не особо хорошая. Называется «Люкс», но на самом деле паршивенькая. А вы откуда знаете?
— Обычное дело. Чем собираетесь заняться до отъезда?
— Не знаю. Честное слово, не думала. Схожу, наверное, куда-нибудь на экскурсию. Я ведь здесь в первый раз.
— Понимаю. — Винни приходит мысль, что надо бы позаботиться о Барби; именно этого ждал бы от нее Чак. Она силится вспомнить, что рассказывал Чак о дочери, но вспоминается только одно: Барби любит животных. Можно, конечно, сходить с ней в зоопарк… Однако при мысли о том, что придется еще раз идти туда, где она всего пару недель назад смотрела на белого медведя, который был похож на Чака, и была так счастлива, Винни делается так больно и грустно, что она не в силах даже спросить Барби об этом.
— Что ж… до свидания? — говорит Барби смущенно. — Ой, спасибо! — Она берет зонтик. Винни его предусмотрительно закрыла — ведь дождь уже кончился. — Спасибо за все, профессор Майнер, и хорошего дня.
Нет, думает Винни, закрывая за Барби дверь, даже если Чаку этого и хотелось бы, я не смогу. Ну не могу я сделать ничего для девушки, которая по такому случаю желает «хорошего дня». Тем более что всякий раз, когда Винни помогала другим, это кончалось только большими неприятностями и болью. Так-то оно так, да не совсем: были и приятные неожиданности, и интересные события, и даже счастье. Разве она жалеет, к примеру, о том, что дала Чаку Мампсону в самолете книгу?
Винни машинально убирает со стола, а мысли ее только о Чаке. Оказывается, все это время он был болен и знал о своей болезни. Вот почему он просил профессора Джилсона передать ей портрет Старого Мампсона, «если вдруг что-нибудь случится». Он знал, что с ним может что-то случиться, все эти месяцы над ним висел смертный приговор, а Чак не делал ничего, чтобы спастись. Врачам он не верил — так он и говорил не раз, бедный, глупый… Винни, тяжело дыша, выпускает из рук недомытую тарелку. Ей нестерпимо больно за Чака — все это время он жил на краю пропасти и знал об этом, и в то же время Винни на него злится — зачем ходил по краю пропасти, почему не берег себя?
И меня! — неожиданно приходит ей в голову. Ведь он мог умереть прямо здесь, в этой квартире… Тяжело рухнул бы на ковер, выронив из одной большой веснушчатой руки бокал виски, а из другой — тлеющую сигарету.
Или еще страшнее. Винни смотрит невидящими глазами в окно, не замечая, что через край раковины льется на пол вода. Он мог бы умереть в постели, прямо на ней. Винни хорошо помнит, как краснело у Чака лицо (от страсти, казалось ей), как тяжело он дышал (от наслаждения, думала она). Зачем же он продолжал так рисковать? Зачем так поступал с ней? Может быть, поэтому и скрывал, что болен, — боялся, что если б она узнала, то ни за что не позволила бы ему… Ни в первый раз, ни потом…
С болью, яростью и даже страхом в душе — хотя бояться больше нечего, — не сознавая, что делает, Винни выключает кран и с недомытым дуршлагом в руках возвращается в спальню. Стоит и смотрит на кровать. Сейчас она аккуратно застелена коричневым одеялом с белыми цветами, а сколько раз бывали на ней сбиты простыни! В последний раз, когда Чак приходил, вспоминает вдруг Винни, он почти не курил. Сказал, что решил бросить. И не пил ничего, кроме пары глотков белого вина, разбавленного содовой. Наверное, решил поберечься, захотел жить…
А зачем тогда он продолжал так страстно заниматься с Винни любовью? Ведь это было просто-напросто неразумно.
Нет, думает Винни, для него никакая это была не глупость, именно ради этого он и хотел жить. Он любил меня. С самого начала. Какую злую шутку сыграла судьба: в пятьдесят четыре года меня полюбил Чак, который мне вовсе не пара, и самое страшное, что он умер, а прах его развеян где-то на склоне холма в Уилтшире. Если б я только ему поверила… если б знала, сказала…
Чувства, воспоминания нахлынули на Винни; с мокрым дуршлагом в руке, рыдая, она падает на постель.
— Розмари? С ней все хорошо, — говорит Эдвин Фрэнсис, подкладывал Винни еще салата с креветками.
Прошла неделя, и теплым летним днем они обедают у Эдвина в Кенсингтоне, в крошечном, ухоженном внутреннем дворике.
— В самом деле? — настаивает Винни.
— Мы с ней виделись два дня назад, перед самым ее отъездом в Ирландию, и чувствовала она себя превосходно. Но, между нами говоря, она была на волосок от безумия.
— В самом деле? — повторяет Винни, на этот раз совсем иным тоном.
— Только никому ни слова. — Эдвин подливает и себе и Винни еще «Блан де Блан» и смотрит на нее в упор. — Я бы и тебе не стал ничего говорить, но я хочу, чтобы ты поняла, как важно хранить тайну.
— Разумеется, — отвечает Винни, слегка раздосадованная.
— Видишь ли, еще до этого… с ней это случалось пару раз. Ты не подумай плохого, но Розмари, когда остается на время без работы, у нее бывают… как бы это сказать… странности.
— Да?
— Это ведь не шутка — все время быть настоящей леди. Или джентльменом, если уж на то пошло. И лучшие из нас — а Розмари, я уверен, в своем роде одна из лучших — выдерживают это с трудом.
— Пожалуй, — соглашается Винни. — Нелегко тебе, наверное, пришлось, — продолжает она, видя, что Эдвин умолк.
— Вначале. А потом… Есть, между прочим, один доктор — большой умница, он и раньше лечил Розмари. Он очень помог. К счастью, из самого худшего она почти ничего не помнит.
— Правда?
— Да. Так бывает иногда, если много пьешь. Скажем, она совсем не помнит, как Фред приходил к ней домой.
— Ну и слава богу.
— Еще бы. Врач сказал, очень повезло. Только, прошу, никому ни слова. Я серьезно. Обещай мне.
— Обещаю, конечно, — говорит Винни.
При всей ее любви к Англии, она никогда не понимала отношения британцев к психотерапии как к чему-то постыдному. Сумасбродами здесь восхищаются, даже теми из них, кого в Америке назвали бы «чокнутыми». О чудаке, который наряжается в костюм индейского вождя и устраивает советы племени или держит в роскоши пятьдесят сиамских кошек, пишут в газетах восторженные статьи. А из обычного невроза делают тайну. Если ты лечишься у психолога, это нужно от всех скрывать, а потом как можно скорее забыть.
Будь Розмари американской актрисой, думает Винни, она давно ходила бы к психоаналитику, при каждом удобном случае как ни в чем не бывало об этом рассказывала, а возможно, и интервью давала бы о том, как лечится от пьянства. А о ее раздвоении личности — если это и вправду раздвоение, а не одно притворство — говорили бы в телепередачах и писали в журнале «Пипл».
— И Фреду ни слова не говори. Пусть думает, что это был всего лишь маскарад. Кстати, нет ли от него вестей?
— Он прислал письмо — точнее, записку. Они с женой, как он выразился, решили воссоединиться.
— Правда? — Эдвин поднимается, начинает убирать со стола. — И это, по-твоему, хорошо?
— Кто знает… Фред, похоже, рад, — вздыхает Винни, которая к браку относится с подозрением: как она замечала, брак медленно, но верно превращает любовников и друзей в родственников, а то и в недругов.
— А я рад, что ему не удалось связаться с Пози. — Эдвин возвращается из кухни в нижнем этаже с блюдами фруктов и миндального печенья. — Пози, конечно, держалась бы молодцом, но секреты она не всегда умеет хранить… Угощайся, пожалуйста. Абрикосы просто чудесные… У меня и раньше были подозрения насчет миссис Харрис, — продолжает он. — Уж слишком все было хорошо, даже не верилось.
— Мне тоже казалось, что Розмари слегка приукрашивает, — соглашается Винни. — Или… ты что же, считаешь… никакой миссис Харрис вообще не было?
— Скорее всего. Хоть и трудно поверить, что Розмари сама делала всю грязную работу по дому. Должно быть, как и прежде, нанимала временную прислугу, только чаще, чтобы Фред перестал жаловаться на беспорядок.
— Но Фред видел миссис Харрис собственными глазами!
— Видишь ли, в чем дело… Розмари всегда жаловалась, что ее считают одноплановой актрисой, в то время как сама она уверена, что может играть, к примеру, женщин из народа.
— Да, но… Фред сказал, что она мыла пол в прихожей. Не верится…
— А ты вспомни, какая она добросовестная, как каждый раз вживается в роль. Даже о себе порой забывает. Допустим, когда снимают «Замок Таллихо», она становится необычайно любезной — ни дать ни взять настоящая дама-хозяйка. Могу представить, что она мыла полы, чтобы вжиться в образ.
— М-да. — Винни догадывается, что Эдвин выискивает оправдания для странного, а то и не совсем нормального поведения подруги. — И все же вначале была какая-нибудь миссис Харрис, даже если звали ее по-другому. Я лично два раза, если не больше, говорила с ней по телефону. Чтобы так изобразить, нужно быть очень талантливой актрисой.
— А Розмари и в самом деле очень талантлива, — уверяет Эдвин, осторожно снимая кожицу со спелого персика викторианским ножом ДЛЯ фруктов, С рукояткой из слоновой кости. — Может сыграть кого угодно. Слышала бы ты, как она изображает твоего друга-ковбоя, Чака… как его там? Кстати, как у него дела? — Эдвин, по своему обыкновению, легко меняет тему. — Все еще разыскивает предков в Уилтшире?
— Да… то есть нет… — с запинкой отвечает Винни. Она просидела у Эдвина почти два часа, а до этого говорила с ним по телефону, но о Чаке упомянуть так и не решилась. Ведь если начать рассказывать, сердце вновь станет рваться на части, как разрывалось оно все эти десять дней. И все-таки Винни рассказывает, начиная со звонка Барби.
— Вот, значит, как… Ни жена, ни сын не приехали, — говорит Эдвин немного погодя.
— Нет. Но ведь это только принято считать, что, если кто-то умер, надо спешить на похороны. Мертвому от этого лучше не станет.
— Согласен. И все же о родственниках Чака складывается не лучшее мнение.
— Да уж. — Винни продолжает рассказ. Несколько раз ее голос предательски дрожит, но Эдвин, похоже, не замечает.
— Теперь здесь, среди английских полей, останется кусочек Талсы, — наконец говорит он с улыбкой.
— М-м-м, — кивает Винни, едва сдерживая рыдания.
— Бедняга Чак. Что за ужасный конец — так неожиданно, так далеко от дома.
— Не знаю. — Винни опускает голову, притворившись, что выплевывает виноградную косточку, чтобы Эдвин не видел ее лица. — Кто-то, напротив, предпочел бы такой конец. Без шума. Я бы, пожалуй, и сама не возражала.
Винни представляет, что умерла и прах ее тоже развеяли где-то на холме, в незнакомом поле, которого она никогда не увидит. Зато могла бы увидеть то поле в Уилтшире, и грот, где жил Старый Мампсон, и дом, где спал Чак и его предки. Могла бы поговорить с профессором Джилсоном и его студентами о Чаке. Все это вполне возможно. Одно мешает. Очень уж нелепой будет эта поездка.
— А я не согласен. — Эдвин дожевывает последнее миндальное печенье из горы на блюде, большую часть которой уничтожил в одиночку. — Я хочу умереть в своей постели, и пусть в газетах будут хвалебные интервью, а все мои друзья и почитатели со слезами приходят проститься. Я хочу быть готовым, а не просто так, ни с того ни с сего, взять и умереть.
— Чак и был готов, — возражает Винни. — Врач запретил ему пить и курить, велел беречься — мне его дочь говорила, — а он не слушал. В такую жару подниматься на третий этаж! Как подумаю — начинаю злиться. Да еще, должно быть, выпил перед этим в кабачке, выкурил сигарету. Хватило же ума! — Винни невесело смеется: в эти слова она вложила больше чувства, чем следовало.
— Бедняга Чак, — повторяет Эдвин. — Такой чудак был, правда? Помнишь, как однажды…
Вот так, думает Винни, слушая воспоминания Эдвина. Для ее лондонских друзей Чак Мампсон был всего лишь забавным чудаком, комическим персонажем, а не живым человеком. А Винни знала его лучше, должна была знать лучше, но откладывала поездку в Уилтшир. Откладывала не только из страха довериться мужчине, но и потому, что не хотела, чтобы здешние друзья связывали ее с Чаком, как будто в слепой любви к Англии заразилась и слабостями, которые приписывают англичанам, — робостью и высокомерием (на самом же деле у хорошо знакомых ей англичан Винни не замечала ни того ни другого).
— При всем при том, — заключает Эдвин, — мне он очень нравился. А тебе?
— Нравился? Нет, — отвечает Винни, изумляясь собственным словам. — Я его любила.
— Правда? — Эдвин отодвигается подальше от стола, подальше от слов Винни, таких горячих и неожиданных.
Правда в том, думает Винни, что Чак любил меня, а я… И я его любила! — вдруг признается она себе с изумлением.
— Да. — Винни встречает взгляд Эдвина и обижается, уловив легкую усмешку приятеля.
— Все мы подозревали что-то подобное, — говорит Эдвин, чуть помедлив. — Но все-таки я никогда не думал, что ты… — Вспомнив о приличиях, он замолкает. — Я понимаю, — продолжает он уже другим голосом, тепло и сочувственно. — Всякое бывает. Я и по себе знаю, можно любить человека, который не достоин восхищения, — любить горячо, страстно. И ничем хорошим это не кончается ни для тебя, ни для него. — По тонкому лицу его, с мелкими чертами, пробежала тень, взгляд становится неподвижен. Эдвин не видит ни Винни, ни опрятного дворика с подстриженными розами и дорожками, посыпанными белым гравием, — он заглядывает в ту часть своей жизни, на которую Винни всегда закрывала глаза.
— Но я восхищалась Чаком, — говорит Винни и тут же понимает, что и это правда.
— В самом деле? Согласен, им было за что восхищаться. Такие, как он, — соль земли.
— Я… — начинает Винни, но тут же останавливается, прикусив язык. Высокомерные слова Эдвина приводят ее в ярость, но если начать возражать, то она заплачет или сорвется на крик. К тому же какое она имеет право кричать на Эдвина, если сама долгие месяцы думала точно так же?
— Никого нельзя судить по нашим собственным глупым меркам, — говорит Эдвин, разливая остатки вина в пузатые бокалы. — Этому надо учить с пеленок.
— Думаю, ты прав, — соглашается Винни. Ее этому в детстве никто не учил, а если бы научили, возможно, вся ее жизнь сложилась бы иначе. — Кстати, а как твоя мама себя чувствует? — спрашивает Винни, чтобы увести Эдвина от горькой темы.
— Спасибо, прекрасно. Артрит ее почти не мучает — хоть какая-то польза от этой страшной жары.
— Рада слышать. — Для Винни сейчас никакая не жара, а чудесные теплые дни, но ведь для англичан жара — это все, что выше плюс двадцати.
— Если ей не станет хуже, устрою для нее на следующей неделе небольшой праздничный обед. Ты придешь?
— Не знаю. Я в выходные, может быть, уеду в деревню, а вернусь только в следующем месяце.
— В самом деле?
— Скорее всего, да, — говорит Винни, дивясь своим словам не меньше Эдвина.
— А в Штаты когда уезжаешь?
— Наверное, двадцатого.
— Винни, Винни! Как же так? Нехорошо!
— Знаю, что нехорошо. Но мне пора готовиться к осеннему семестру.
— Ну-у, когда это еще будет!
— Довольно скоро, это ведь Америка, — вздыхает Винни, вспоминая университетское расписание, которое недавно изменили, чтобы сэкономить на отоплении. Занятия теперь начинаются еще до Дня труда,[7] и к двадцать четвертому августа к Винни в кабинет начнут заходить все кому не лень и приставать с вопросами.
— Но ведь ты совсем недавно приехала.
— Глупости, — улыбается Винни. — Я с февраля здесь.
— И это замечательно. Только мне всегда казалось, что ты здесь живешь. Отчего не переедешь?
— Если б могла — с радостью переехала бы, — снова вздыхает Винни: не по карману ей бросить работу и перебраться в Лондон.
— Не расстраивайся. Зато я тебя сейчас угощу на славу. Давай-ка выпьем кофе, а еще у меня есть клубничный мусс. Пальчики оближешь! Надеюсь, ты его осилишь.
Час спустя, сытая до отвала, Винни едет в такси домой, на Риджентс-парк-роуд. В другое время она поехала бы с пересадкой на метро, но сейчас ей в голову пришла сумасбродная мысль. Если ехать в Уилтшир (а она, скорее всего, поедет, несмотря на всю нелепость такого поступка), то на Лондон остается совсем мало времени. Так зачем тратить его на метро? Особенно в такой день, когда все вокруг сверкает и лучится теплом — и деревья, и окна магазинов, и прохожие. Отчего в Лондоне сегодня так чудесно? И почему впервые в жизни она чувствует себя частью Лондона, а не сторонним наблюдателем? Что-то переменилось, думает Винни. Я сама переменилась, стала другим человеком. Я любила и была любимой.
Такси сворачивает в Риджентс-парк, и Винни смотрит в открытое окно на гладко подстриженные зеленые газоны, на нянечек с колясками, на детей и собак, которые носятся вокруг, на гуляющих, на бегунов, на парочки, которые сидят на траве. Все эти счастливцы жили и будут жить в Лондоне, а Винни, одна-одинешенька, отправится в Коринф, в изгнание. Даже Чак — и тот останется здесь навсегда. Жгучая боль потери сжимает ее сердце, и хоть день на удивление теплый, Винни дрожит от холода.
Такси сворачивает на восток, на Бэйсуотер-роуд, Винни откидывается на сиденье. Голова идет кругом, на душе усталость и тоска. Как жестоко и несправедливо, что смерть пришла к Чаку, едва ему снова захотелось жить! И как жестоко, несправедливо поступила сама Винни, не поехав в прошлые выходные к нему в Уилтшир! Чак не отправился бы тогда на поиски де Момпессонов, не стал бы взбираться по лестнице в муниципалитете.
А если бы и поехал туда позже, то уже не в такую жару. Или вместе с Винни, и они поднимались бы не спеша (а чтобы не задеть его гордость, можно было бы притвориться, что ей, а не ему нужно останавливаться, переводить дух). И тогда Чак был бы жив.
Если бы он только сказал мне, что болен… Если бы я приехала к нему, следила бы, чтобы он не пил, не курил, ходил к врачу… Он мог бы прожить еще много лет, и я жила бы с ним… здесь, в Англии. Ушла бы с работы и занималась наукой, писала книги («Денег мне хватает»). Квартиру по-прежнему снимала бы, у нас был бы и свой угол в Лондоне, и старинный дом в деревне, который Чак хотел купить, — с садом, кустами малины и смородины, грядкой спаржи…
Что за глупости лезут в голову? Не хочет она этого, и ничего бы из этого не вышло, даже будь Чак жив. Не судьба ей быть любимой, жить с кем-то под одной крышей; ей на роду написано быть одинокой, никому не нужной, всю жизнь одной…
То есть не совсем одной. Из-под сиденья такси доносится жалобный вой, слышный одной лишь Винни, — это Фидо вернулся из Уилтшира. Он снова совсем маленький, с вельш-терьера, весь в пыли, устал с дороги и не уверен, рада ли ему хозяйка.
— Иди прочь, — беззвучно гонит его Винни. — У меня все хорошо. Мне не жалко себя нисколечко. Я известный ученый, у меня много друзей по обе стороны Атлантики, я провела пять интереснейших месяцев в Лондоне и только что закончила важную книгу об игровом фольклоре. — Список кажется неполным, и от этого делается больно и горько.
Такси останавливается у ее крыльца; Винни выходит вместе с маленьким невидимым псом, расплачивается с таксистом. Подойдя к дверям, смотрит на Фидо, который стоит у стены: шерсть у него выгорела на солнце, он глядит на хозяйку тревожно и преданно, машет белым пушистым хвостом.
— Ладно уж, так и быть, — говорит Винни псу. — Пойдем!
Отзывы
Я не думаю, что я очень жестокая женщина. «Иностранные связи» — мой седьмой роман, но у меня впервые умирает персонаж. Возможно, я и посмеиваюсь над своими героями, но я их берегу — не переезжаю их грузовиками, не подвергаю тяжким болезням и не мучаю нищетой. Худшее, что с ними может случиться, — это то, что кое-какие из их иллюзий окажутся разбиты.
Элисон Лури
Нет ни одного американского писателя, чьи произведения я бы читал с таким же неослабеваемым интересом на протяжении многих лет.
Джон Фаулз
Этот безупречный роман, заслуженно получивший Пулитцеровскую премию 1985 года, в очередной раз продемонстрировал талант Лури описывать человеческие отношения с утонченной иронией.
The Daily Telegraph
Элисон Лури сложно назвать «доброй» писательницей. Но ее изысканные и эмоциональные книги доставляют истинное наслаждение. Возможно, Элисон Лури иногда сурова, но она отнюдь не бездушна. Под маской строгости скрывается бездна сочувствия, а ее изысканный юмор безупречен.
The Independent