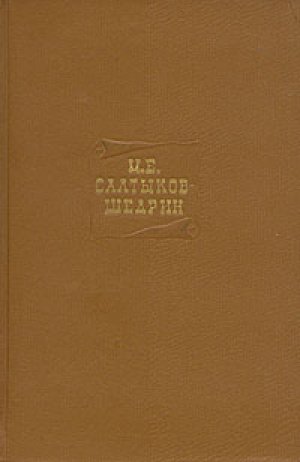
Современная идиллия*
Спите! Бог не спит за вас!*
Жуковский
I*
Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин* и говорит:
— Нужно, голубчик, погодить!
Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу.
Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл!
— Помилуйте, Алексей Степаныч! — изумился я. — Ведь это, право, уж начинает походить на мистификацию!
— Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет — погодить!
— Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
— Русские вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить — ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь… Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером — в табельку или в сибирку засядьте. Вот это и будет значить «погодить».
— Алексей Степаныч! батюшка! да почему же?
— Некогда, мой друг, объяснять — в департамент спешу! Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы — русские; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил, а последуете ли моему совету или не последуете, это уж вы сами…
С этими словами Алексей Степаныч очень любезно сделал мне ручкой и исчез. Это быстрое появление и исчезновение очень больно укололи меня. Мне казалось, что в переводе на язык слов этот факт означает: я не должен был сюда прийти, но… пришел. Во всяком случае, я хоть тем умалю значение своего поступка, что пробуду в сем месте как можно менее времени.
Да, это так. Даже руки мне порядком на прощанье не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил: «Готов я по мочь, однако пора бы и тебе, сахар медович, понять, что знакомство твое — не ахти благостыня какая!» Я, конечно, не буду уверять, что он именно так думал, но что он инстинктивно так чувствовал и что именно это чувство сообщило его появлению ту печать торопливости, которая меня поразила, — в этом я нимало не сомневаюсь.
По обыкновению, я сейчас же полетел к Глумову*. Я горел нетерпением сообщить об этом странном коллоквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, буде надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степаныча. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством… и набивал папироски.
— Ты что это делаешь? — спросил я.
— А вот, подходящее, по обстоятельствам, занятие изобрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал, теперь — папироски делаю.
— Представь себе, ко мне Алексей Степаныч заходил и то же самое советовал!
— А я так сам догадался. Садись, вот тебе гильзы — занимайся.
— Позволь, однако, надо же хоть объясниться сперва!
— А тебе что Алексей Степаныч сказал?
— Да ничего путем не сказал. Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо!
— Чудак ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значит. Вот я себе сам, собственным движением, сказал: Глумов! нужно, брат, погодить! Купил табаку, гильзы — и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».
— Помилуй! да разве мы мало до сих пор годили? В чем же другом вся наша жизнь прошла, как не в беспрерывном самопонуждении: погоди да погоди!
— Стало быть, до сих пор мы в одну меру годили, а теперь мера с гарнцем пошла в ход — больше годить надо, а завтра, может быть, к мере и еще два гарнца накинется — ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочем, что́ же праздные-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести. Вместе и годить словно бы веселее будет.
Затем мы в несколько минут начертали план действий и с завтрашнего же дня приступили к выполнению его.
Прежде всего мы решили, что я с вечера же переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать «годить». И не расстанемся до тех пор, покуда вакант* сам собой, так сказать, измором не изноет.
Залегли мы спать часов с одиннадцати, точно завтра утром к ранней обедне собрались. Обыкновенно мы в это время только что словесную канитель затягивали и часов до двух ночи переходили от одного современного вопроса к другому, с одной стороны ничего не предрешая, а с другой стороны не отказывая себе и в достодолжном, в пределах разумной умеренности, рассмотрении. И хотя наши собеседования почти всегда заканчивались словами: «необходимо погодить», но мы все-таки утешались хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности, что воля с нас не снята и что если бы, на пример, выпить при сем две-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так: «Господа! да неужто же, наконец…»
Но теперь мы с тем именно и собрались, чтобы начать годить, не рассуждая, не вдаваясь в исследования, почему и как, а просто-напросто плыть по течению до тех пор, пока Алексей Степаныч не снимет с нас клятвы и не скажет: теперь — валяй по всем по трем!*
Мне не спалось, Глумов тоже ворочался с боку на бок. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили в голову именно всё такие, какие должны приходить людям, собравшимся к ранней обедне.
— Глумов! ты не спишь?
— Не сплю. А ты?
— И я не сплю.
— Гм… не зажечь ли свечу?
— Погоди, может быть, и уснем.
Прошло еще с полчаса — не спится, да и только. Зажгли свечу, спустили ноги с кровати и сели друг против друга. Глядели-глядели — наконец смешно стало.
— Постой-ка, я в буфет схожу; я там, на всякий случай, два куска ветчины припас! — сказал Глумов.
— Сходи, пожалуй!
Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Вот он в кабинет вошел, вот вступил в переднюю, вот поворотил в столовую… Чу! ключ повернулся в замке, тарелки стукнули… Идет назад!!
Когда человек решился годить, то все для него интересно; способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, а мысли — приходят во множестве.
— Вот ветчина, а вот водка. Закусим! — сказал Глумов.
— Гм… ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить — спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?
— Была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали, окорока посолили, провесили — вот и ветчина сделалась.
— Нет, не это! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим…
— И празднословием занимаемся… Будет! Сказано тебе, погодить — ну, и жди!
— Глумов! я — немножко!
— Ни слова, ни полслова — вот тебе и сказ. Доедай и ложись! А чтобы воображение осадить — вот тебе водка.
Выпили по две рюмки — и действительно как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс, особливо если при этом имеется в виду практический результат. А так как в настоящем случае ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя и устраняя все, что могло нанести ему ущерб. Старался не переменять положения тела, всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск мысли, по преимуществу, ни с чем несообразный, даже целые сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за пределы моих скромных намерений), но, признаюсь откровенно, все они имели в своем основании слово «погодить».
Наконец, уже почти совсем сонный, я вымолвил:
— Да, брат! а насчет ветчины — все-таки… Это, брат, в своем роде — сюжет!
— Сюжет! — тоже сквозь сон ответил мне Глумов, и затем голова моя окончательно окунулась в облако.
Проснулись мы довольно рано (часов в девять), но к ранней обедне все-таки не поспели.
— Впрочем, и то сказать, — начал я, — не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
— Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит, — осадил меня Глумов, — но не об том речь, а вот я на счет горячего распоряжусь. Тебе чего: кофею или чаю?
Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все так было необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!
— Кофею, братец! — воскликнул я и даже хлопнул себя по ляжке от удовольствия,
Подали кофей. Налили по стакану — выпили; по другому налили — и опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
— Калач-то от Филиппова? — спросил я.
— Да, от Филиппова.
— Говорят, у него в пекарне тараканов много…
— Мало ли что говорят! Вкусно — ну, и будет с тебя! Глумов высказал это несколько угрюмо, как будто предчувствуя, что у меня язык начинает зудеть.
— А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач…
— Что́ «калач»?
— Ну вот родословную-то его… Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек за сохой идет, напирая на нее всею грудью, как…
— Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофей с калачом пьем, да и тебе только эта знать советую!
— Глумов! да ведь я немножко! Ведь если мы немножко и поговорим — право, вреда особенного от этого не будет. Только время скорее пройдет!
— И это знаю. Да не об том мы думать должны. Подвиг мы на себя приняли — ну, и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофей, да идем гулять! Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит!
В одиннадцать часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
— Вот, брат, и суд наш праведный! — сказал я.
— Да, брат, суд! — вздохнул в ответ Глумов.
— А коли по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды…
— Да обуздай наконец язычище свой! Ну, суд — ну, и прекрасно! И будет с тебя! Архитектура вот… разбирай ее на здоровье! Здание прочное — внутри двор… Чего лучше!
— Да, мой друг, удивительно, как это нынче… Говорят, даже буфет в суде есть?
— Есть и буфет.
— А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
— Водки рюмку выпить можно — какой еще славы нужно! Котлетки подают, бифштекс — в звании ответчика даже очень прилично!
— Удивительно! просто удивительно! И правосудие получить, и водки напиться — все можно!
— Только болтать лишнее нельзя! Идем на Фурштадтскую. Пошли по Фурштадтской; дошли до овсянниковского дома.
— Вот какой столб был! До неба рукой доставал — и вдруг рухнул! — воскликнул я в умилении, — я, впрочем, думаю, что провидение не без умысла от времени до времени такие зрелища допускает!
— Для чего провидение допускает такие зрелища — это, брат, не нашего ума дело; а вот что Овсянников подвергся каре закона* — это верно. Это я в газетах читал и потому могу говорить свободно!
— Да, но отчего же и о путях провидения не припомнить при этом?
— Оттого, что пути эти нам неизвестны, — вот отчего. А что нам не известно — к тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братец.
В конце Фурштадтской — питейное заведение. Выходит оттуда мужчина в изорванном пальто, с изорванной физиономией и, пошатываясь, горланит:
— Вот и он советует подождать! — говорю я.
— Да, потому что всем такая линия вышла!
— А бедный он!
— Кто? пьяница-то?
— Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтоб накипело у человека в груди…
Но Глумов и тут оборвал меня, запев:
— Не для того я напоминаю тебе об этом, — продолжал он, — чтоб ты именно в эту минуту молчал, а для того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, той в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что оттого вся эта неопрятность и происходит, что мы на каждом шагу послабления себе делаем. Прямо, на улице, пожалуй, не посмеем высказаться, а чуть зашли за угол — и распустили язык. Понятно, что начальство за это претендует на нас. А ты так умей собой овладеть, что, ежели сказано тебе «погоди!», так ты годи везде, на всяком месте, да от всего сердца, да со всею готовностью — вот как! даже когда один с самим собой находишься — и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка!
Я должен был согласиться с Глумовым. Действительно, русский человек как-то туго поддается выдержке и почти со всем не может устроить, чтобы на всяком месте и во всякое время вести себя с одинаковым самообладанием. Есть у него в этом смысле два очень серьезных врага: воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться на встречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох, а потому сию минуту он увядает, а в следующую — расцветает, сию минуту рассыпается в выражениях преданности и любви, а в следующую — клянет или загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются. Но, во всяком случае, он не умеет сдержать свою мысль и речь в известных границах, но непременно впадает в расплывчивость и прибегает к околичностям. Прочтите любой судебный процесс, и вы без труда убедитесь в этом. Ни один свидетель на вопрос: где вы в таком-то часу были? — не ответит просто: был там-то, но непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом пере берет всех знакомых, которых фамилии попадутся ему на язык, потом об себе отзовется, что он человек несчастный, и, наконец, уже на повторительный вопрос: где вы были? — решится ответить: был там-то, но непременно присовокупит: виделся вот с тем-то, да еще с тем-то, и сговаривались мы сделать то-то. Одним словом, самого ничтожного повода достаточно, чтоб насторожить воображение и чтобы последнее немедленно нарисовало целую картину.
Ввиду всех этих соображений, я решился сдерживать себя. Молча мы повернули вдоль линии Таврического сада, затем направо по набережной и остановились против Таврического дворца. Натурально, умилились. Тени Екатерины, Потемкина, Державина так живо пронеслись передо мною, что мне показалось, что я чувствую их дуновение.
— Вот где витает тень великолепного князя Тавриды*! — воскликнул я.
— Да, брат, вот тут, в этом самом месте, он и жил! — отозвался Глумов.
— И что от него осталось? Чем разрешилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? — Несколькими десятками анекдотов в «Русской старине»*, из коих в одном главную роль играет севрюжина! Вон там был сожжен знаменитый фейерверк, вот тут с этой террасы глядела на празднество залитая в золото толпа царедворцев, а вдали неслыханные массы голосов и инструментов гремели «Коль славен»* под гром пушек! Где все это?
Я расчувствовался, встал в позу и продекламировал:
Дальше не помню, но не правда ли, удивительно!
— Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть Мещерского, и к Потемкину, следовательно, не относится, — расхолодил меня Глумов.
— Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить приятно! Екатерина! Державин! Имена-то какие, мой друг! часто ли встретишь ты в истории такие сочетания!
— Орловы! Потемкин! Румянцев! Суворов! — словно эхо, вторил мне Глумов и, став в позицию, продекламировал:*
— А потом Дмитриев-Мамонов и наконец Зубов… И каждому-то умел старик Державин комплимент сказать!
Под наплывом этих отрадных чувств начали мы припоминать стихи Державина, но, к удивлению, ничего не припомни ли, кроме:
— Да, брат, был такой крестьянин! был! — воскликнул я, подавленный нарисованною Державиным картиной.
Как ни сдержан был Глумов, но на этот раз и он счел не уместным охлаждать мой восторг.
— Да, брат, был, — сказал он почти сочувственно.
— Было! все было! — продолжал я восклицать в восхищении, — и «добры щи» были! представь себе: «добры щи»!
— Представляю, но все-таки не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований в смысле укора настоящему!
И с этим замечанием я должен был согласиться. Да, и восторги нужно соразмерять, то есть ни в каком случае не сосредоточивать их на одной какой-нибудь точке, но распределять на возможно большее количество точек. Нужды нет, что, вследствие этого распределения, восторг сделается более умеренным, но зато он все точки равно осветит и от каждой получит дань похвалы и поощрения. Поэты старого доброго времени очень тонко это понимали и потому, ни на ком исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всем подносили посильные комплименты.
Мы повернули назад, прихватили Песков!*, и когда поравнялись с одним одноэтажным деревянным домиком, то я сказал:
— Вот в этом самом доме цензор Красовский родился!
— Врешь?
Я соврал действительно; но так как срок, в течение которого мне предстояло «годить», не был определен, то надо же было как-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжал стоять на своем.
— Верно, что тут! — упорствовал я, — мне Тряпичкин сказывал. Он, брат, нынче фёльетоны-то бросил, за исторические исследования принялся! Уваровскую премию надеется получить!* Тут родился! тут!
Постояли, полюбовались, вспомнили, как у покойного всю жизнь живот болел, наконец, махнули рукой и пошли по Лиговке. Долго ничего замечательного не было, но вдруг мои глаза ухитрились отыскать знакомый дом.*
— Вот в этом самом доме собрания библиографов бывают, — сказал я.
— Когда?
— Собираются они по ночам и в величайшем секрете: боятся, чтоб полиция не накрыла.
— Их-то?
— Да, брат, и их! — Вообще человечество все…
— Ты бывал на этих собраниях?
— Был однажды. При мне «Черную шаль» Пушкина библиографической разработке подвергали. Они, брат, ее в двух томах с комментариями хотят издавать.
— Вот бы где «годить»-то хорошо! Туда бы забраться, да там все время и переждать!
— Да, хорошо бы. При мне в течение трех часов только два первые стиха обработали. Вот видишь, обыкновенно мы так читаем:
А у Оленина (1831 г. in 8-vo) последний стих так напечатан:
Вот они и остановились в недоумении. Три партии образовались.
— Ужинать-то, по крайней мере, дали ли?
— Нет, ужина не было, а под конец заседания хозяин сказал: я, господа, редкость приобрел! единственный экземпляр гоголевского портрета, на котором автор «Мертвых душ» изображен с бородавкой на носу!
— Ну, и что ж?
— Натурально, все всполошились. Принес, все бросились смотреть: действительно, сидит Гоголь, и на самом кончике носа у него бородавка. Начался спор: в какую эпоху жизни портрет снят? Положили: справиться, нет ли указаний в бумагах покойного академика Погодина. Потом стали к хозяину приставать: сколько за портрет заплатил? Тот говорит: угадайте! Потом, в виде литии*, прочли «полный и достоверный список сочинений Григория Данилевского»* — и разошлись.
— Вот, друг, этак-то бы пожить!
— Да, хорошо! однако, брат, и они… на замечании тоже! Как расходились мы, так я заметил: нет-нет да и стоит, на всякий случай, городовой! И такие пошли тут у них свистки, что я, грешный человек, подумал: а что, ежели «Черная шаль» тут только предлог один!
Разговаривая таким образом, мы незаметно дошли до Невского, причем я не преминул обратиться всем корпусом к дебаркадеру Николаевской железной дороги и произнес:
— А вот это — результат пытливости девятнадцатого века!
Затем, дойдя до Надеждинской улицы, я сказал:
— Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла от Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невского ее продолжили. И это тоже результат пытливости девятнадцатого века!
А дойдя до булочной Филиппова, я вспомнил, какие я да веча мысли по поводу филипповских калачей высказывал, и даже засмеялся: как можно было такую гражданскую незрелость выказать!
— А помнишь, какой мы давеча разговор по случаю филипповских калачей вели? — обратился я к Глумову.
— Не я вел, а ты.
— Ну, да, я. Но как все это было юно! незрело! Какое мне дело до того, кто муку производит, как производит и пр.! Я ем калачи — и больше ничего! мне кажется, теперь — хоть озолоти меня, я в другой раз этакой глупости не скажу!
— И прекрасно сделаешь. Вот как каждый-то день верст по пятнадцати — двадцати обломаем, так дней через десять и совсем замолчим!
Но когда мы дошли до площади Александринского театра, то душевный наш уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:
— А вот и сам он тут!* — воскликнул я, указывая на пьедестал.
— А вот храм Талии и Мельпомены! — отозвался Глумов, указывая на Александрийский театр.
— А рядом с ним храм Момусу!*
— А напротив — отель Бель-вю!
Нам было так радостно, что все это так хорошо съютилось, что мы, дабы не отравлять счастливого душевного настроения, решились отвратить наши взоры от бывшего помещения конторы Баймакова*, так как это зрелище должно было несомненно ввергнуть нас в меланхолию.
Проходя мимо Публичной библиотеки, я собрался было остановиться и сказать несколько прочувствованных слов на счет ненеуместности наук, но Глумов так угрюмо взглянул на меня, что я невольно ускорил шаг и успел высказать только следующий краткий ехоrdium:[2]
— Вот здесь хранятся сокровища человеческого ума!
Зато у милютиных лавок мы отдохнули и взорами и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноград, яблоки. Представьте себе — земляника! На дворе февраль, у извозчиков уши на морозе побелели, а там, в этой провонялой лавчонке, — уж лето в самом разгаре! И какие веселые, беззаветные голоса доле тали до нас оттуда, всякий раз как дверь магазина отворялась! И как меня вдруг потянуло туда, в задние низенькие комнаты,* в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всем пространстве которых, без всякого сомнения, ни одного непроплеванного места невозможно найти! Прийти туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении «годить»!
— Да, и тут «годить» хорошо! — молвил Глумов, как бы угадывая мою мысль.
Но план наш уж был составлен заранее. Мы обязывались провести время хотя бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно. Мы понимали, что всякая примесь легкомыслия должна произвести игривость ума и что только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение «годить». Поэтому хотя и не без насильства над самими собой, но мы оторвали глаза от соблазнительного зрелища и направили стопы по направлению к адмиралтейству.
Мы шли молча, как бы подавленные бакалейными запахами, которыми, казалось, даже складки наших пальто внезапно пропахли. Не обратив внимания ни на памятники Барклаю де-Толли и Кутузову*, ни на ресторан Доминика, в дверях которого толпились какие-то полинялые личности, ни на обе Морские, с веселыми приютами Бореля и Таити, мы достигли Адмиралтейской площади, и тут я вновь почувствовал необходимость сказать несколько прочувствованных слов.
— Еще недавно здесь, на масленице и на святой, устраивались балаганы, и в определенные дни вывозили институток в придворных каретах. Теперь все это происходит уже на Царицыном лугу. Здесь же, на площади, иждивением и заботливостью городской думы, устроен сквер. Глумов! видишь этот сквер?
— Вижу, А ты — видишь?
— И я вижу. Я об том хочу сказать, что с каждым годом этот сквер все больше и больше разрастается. Сначала, когда его только что насадили, деревья вот эдакие были, и притом множество из них в первый же год погибло. Потом, по мере того, как заботливость городской думы развивалась, погибшие деревья заменялись новыми, а старые, сразу удавшиеся, пышнее и пышнее разрастались. В настоящее время не слишком тучный прохожий уже может свободно отдохнуть под их тенью, но, разумеется, не зимой. Глумов! правильно ли я говорю?
— Совершенно правильно.
— А теперь, исполнивши наш долг относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идем к окончательной цели нашего путешествия, как оно проектировано на нынешний день!
Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился «Медный всадник» Пушкина, и тут же кстати пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре:*
«Но великий человек не приобщался нашим слабостям! Он не знал, что мы плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и слабы и худы, нам нужны были общие уставы человеческие!»[3]
Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их. Затем мы бросили прощальный взгляд на здание сената, в котором некогда говорил правду Яков Долгорукий*, и так как программа гулянья на нынешний день была уже исчерпана и нас порядком-таки одолевала усталость, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной.
Было уже четыре часа, когда мы воротились домой, следовательно, до обеда оставался еще час. Глумов отправился распорядиться на кухню, а мне дал картуз табаку, пачку гильз и сказал:
— Займись!
Наконец подали обедать. Никогда не едал я так вкусно. Во-первых, никогда не приходилось делать подобного предобеденного моциона, а во-вторых, мы ели на свободе, без всяких политических соображений, «без тоски, без думы роковой»*, памятуя твердо, что ничего другого, кроме еды, нам не предстоит. Поэтому каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно, и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. Подавали на закуску: провесную белорыбицу и превосходнейшую белужью салфеточную икру; за обедом удивительнейшие щи с говяжьей грудиной, потом осетрину паровую, потом жареных рябчиков, привезенных прямо из Сибири, и наконец — компот из французских фруктов. Само собой разумеется, что при каждой перемене кушанья возникал приличный обстоятельствам разговор.
Давно, очень давно дедушка Крылов написал басню «Сочинитель и разбойник», в которой доказал, что разбойнику следует отдать предпочтение перед сочинителем, и эта истина так пришлась нам ко двору, что с давних времен никто и не сомневается в ее непререкаемости. Позднее тот же дедушка Крылов написал другую басню «Три мужика», в которой об разно доказал другую истину, что во время еды не следует вести иных разговоров, кроме тех, которые, так сказать, вытекают из самого процесса еды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теория и практика в совершенстве выяснили, что человеческий язык есть не что иное, как орудие для выражения человеческого скверномыслия, мы должны были сознаться, что прозорливость дедушки Крылова никогда не обманывала его.
Мы солидно ели и вели солидный разговор обеде. И по мере того, как обед развивался, перед нами открывались такие поразительные перспективы, которых мы никогда и не подозревали. Я покупал говядину в какой-то лавочке «на углу»; Глумов — на Круглом рынке; я покупал рыбу в Чернышевом переулке, Глумов — на Мытном дворе; я приобретал дичь в первой попавшейся лавке, на дверях которой висел замороженный заяц, Глумов — в каком-то складе, близ Шлиссельбургской заставы. Бесхозяйственность моя обнаружилась во всем ужасающем безобразии, так что я тут же мыс ленно решил, что без радикальных реформ обойтись невозможно.
— Ты сообрази, мой друг, — говорил я, — ведь по этому расчету выходит, что я, по малой мере, каждый день полтину на ветер бросаю! А сколько этих полтин-то в год выйдет?
— Выйдет триста шестьдесят пять полтин, то есть сто восемьдесят два рубля пятьдесят копеек.
— Теперь пойдем дальше. Прошло с лишком тридцать лет с тех пор, как я вышел из школы, и все это время, с очень не большими перерывами, я живу полным хозяйством. Если б я все эти полтины собирал — сколько бы у меня теперь денег-то было?
— Тысячу восемьсот двадцать пять помножь на три — выйдет пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей.
— Это ежели без процентов считать. Но я мог эти сбережения… ну, положим, под ручные залоги я бы не отдал… а все-таки я мог бы на эти сбережения покупать процентные бумаги, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенные законом финансовые операции… Расчет-то уж выйдет совсем другой.
— Да, брат, обмишулился ты!
— И заметь, что у тебя провизия превосходная, а у меня — только посредственная. Возьми, например, твоя ли осетрина или моя?
— Нет, вот я завтра окорочок велю запечь, да тепленький… тепленький на стол-то его подадим! Вот и увидим, что ты тогда запоешь!
— Ты где окорока покупаешь?
— Угадай!
— У Шписа? у Людекенса!
— В Мучном переулке!!!
— Скажите на милость!
Словом сказать, разочарование следовало за разочарованием, но, вместе с тем, являлась и надежда на исправление, а это-то, собственно, и было дорого. Ибо давно уже признано, что одни темные стороны никогда никого не удовлетворяют, если они не смягчаются светлыми сторонами, или, за недостатком их, «нас возвышающими обманами»*! Так что, например, человек, которого обед состоит из одной тюри с водой, только тогда будет вполне удовлетворен, ежели при этом вообразит, что ест наварные щи и любуется плавающим в них жирным куском говядины.
Этих мыслей я, впрочем, не высказывал, потому что Глумов непременно распек бы меня заних. Да я и сам, признаться, не придавал им особенного политического значения, так что был даже очень рад, когда Глумов прервал их течение, пригласив меня в кабинет, где нас ожидал удивительной красоты «шартрёз».
Был седьмой час в половине, когда мы встали из-за стола. Мы сели друг против друга в мягкие кресла, закурили какие-то необычайные пес р1иs ultra[4] и медленно, с толком дегюстировали послеобеденные рюмки, наполненные золотистой жидкостью. Хорошо нам было. Я не скажу, чтоб это был сон, но казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то с высоты и укачивала утомленное непривычным моционом тело. Сомкнув усталые вежды, мы молча предавались внутренним созерцаниям и изредка потихоньку вздрагивали. Наконец из груди Глумова вырвался стон, который сразу возвратил и его и меня к чувству действительности.
— А ведь я, брат, чуть-чуть не заснул, — удивился он и тут же громким голосом возопил: — зельтерской воды… и умыться!
Выпили по бутылочке зельтерской воды, потом умылись и сделались опять так же свежи и бодры, как будто, только сейчас отстоявши раннюю обедню, собрались по-христиански про вести день свой.
Было около половины девятого, когда мы сели вдвоем в сибирку с двумя болванами. Мы игроки почти ровной силы, но Глумов не обращает внимания, а я — обращаю. Поэтому игры бывают преинтересные, Глумов горячится, не рассчитывает игры, а хочет сразу ее угадать — и попадает впросак; а я, разумеется, этим пользуюсь и записываю штраф.
В конце концов я почти всегда оказываюсь в выигрыше, но это нимало не сердит Глумова. Иногда мы даже оба от души хохочем, когда случается что-нибудь совсем уж необыкновенное: ренонс, например, или дама червей вдруг покажется за короля. Но никогда еще игра наша не была так весела, как в этот раз. Во-первых, Глумов вгорячах пролил на сукно стакан чаю; во-вторых, он, имея на руках три туза, получил маленький шлем! Давно мы так не хохотали.
В одиннадцать часов мы встали из-за карт и тем же порядком, как и накануне, улеглись спать.
— А что, брат, годить-то, пожалуй, совсем не так трудно, как это с первого взгляда казалось? — сказал мне на прощание Глумов.
Я возобновил в своей памяти проведенный день и нашел, что, по справедливости, ничего другого не остается, как согласиться с Глумовым.
Действительно, все мысли и чувства во мне до того угомонились, так сказать, дисциплинировались, что в эту ночь я даже не ворочался на постели. Как лег, так сейчас же почувствовал, что голова моя налилась свинцом и помертвела. Какая разница с тем, что происходило в эти же самые часы вчера!
На другой день я проснулся* в восемь часов утра, и первою моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за совершившееся во мне обновление…
II*
Глумов сказал правду: нужно только в первое время на себя поналечь, а остальное придет само собою. Исключительно преданные телесным упражнениям, мы в короткий срок на столько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас; мы не следили ни за открытиями, ни за изобретениями, не заглядывали в книги, не ходили в заседания педагогического общества,* не сочувствовали ни славянам, ни туркам и совсем позабыли о существовании Мак-Магона*. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным…
По-прежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя мимо памятников, которые некогда заставляли биться наши сердца, уже не чувствовали ничего такого, что заставляло бы нас лезть на стену. Мы прежде всего направляли стопы на Круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей; оттуда шагали на Мытный двор и почти с гневом восклицали: да когда же наконец белорыбицу привезут? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных, во-первых, за то, что мы, не торгуясь, выбирали лучшие куски, а во-вторых (и преимущественно), за то, что мы обо всем, касающемся съестного, во всякое время могли высказать «правильное суждение». Это «правильное суждение» приводило в восхищение и хозяев и приказчиков.
— Не то дорого, что вы покупатели, лучше каких желать не надо, а любовь, да совет, да умное ваше слово — вот что всяких денег дороже! — говорили нам везде.
В согласность с этою жизненною практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, не могли произнести сряду несколько слов, чтобы не впасть в одышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно сбираясь сосать собственный язык. Так что я нимало не был удивлен, когда однажды на улице неизвестный прохожий, завидевши нас, сказал: вот идут две идеально-благонамеренные скотины!
Даже Алексей Степаныч (Молчалин) и тот нашел, что мы все ожидания превзошли.
Зашел он ко мне однажды вечером, а мы сидим и с сыщиком из соседнего квартала* в табельку играем. Глаза у нас до того заплыли жиром, что мы и не замечаем, как сыщик к нам в карты заглядывает. То есть, пожалуй, и замечаем, но в рожу его треснуть — лень, а увещевать — напрасный труд: все равно и на будущее время подглядывать будет.
— Однако спесивы-таки вы, господа! и не заглянете к старику! — начал было Алексей Степаныч и вдруг остановился.
Глядит и глазам не верит. В комнате накурено, нагажено; в сторонке, на столе, закуска и водка стоит; на нас человеческого образа нет: с трудом с мест поднялись, смотрим в упор и губами жуем. И в довершение всего — мужчина необыкновенный какой-то сидит: в подержанном фраке, с светлыми пуговицами, в отрепанных клетчатых штанах, в коленкоровой манишке, которая горбом выбилась из-под жилета. Глаза у него наперекоски бегают, в усах объедки балыка застряли, и капли водки, словно роса, блестят…
Сел, однако ж, Алексей Степаныч, посидел. Заметил, как сыщик во время сдачи поднес карты к губам, почесал ими в усах и моментально передернул туза червей.
— А ты, молодец, когда карты сдаешь, к усам-то их не подноси! — без церемоний остановил его старик Молчалин и, обратившись к нам, прибавил: — Ах, господа, господа!
— Он… иногда… всегда… — вымолвил в свое оправдание Глумов и чуть не задохся от усилия.
— То-то «иногда-всегда»! за эти дела за шиворот, да в шею! При мне с Загорецким такой случай был* — помню!
Когда же, по ходу переговоров, действительно, оказалось, что у сыщика на руках десять без козырей, то Алексей Степаныч окончательно возмутился и потребовал пересдачи, на что сыщик, впрочем, очень любезно согласился, сказав:
— Чтобы для вас удовольствие сделать, я же готов хотя пьятнадцать раз зряду сдавать — и все то самое буде!
И точно: когда он сдал карты вновь, то у него оказалась игра до того уж особенная, что он сам не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть в восторге:
— От-то игра!
Далее Алексей Степаныч уж не протестовал, а только повздыхал еще с полчаса и удалился, сказав:
— Ах, братцы, братцы! какие вы образованные были!
С тех пор мы совсем утеряли из вида семейство Молчалиных и, взамен того, с каждым днем все больше и больше прилеплялись к сыщику, который льстил нам, уверяя, что в настоящее время, в видах политического равновесия, именно только такие люди и требуются, которые умели бы глазами хлопать и губами жевать.
— Именно ж одно это и нужно! — говорил он, — потому, зви́ше так уже сделано есть, что ежели чо́ловек необразован — он работа́ть обьязан, а ежели чо́ловек образован — он имеет гулять и кушать! Ина́че ж руволюция буде!
Вообще этот человек был для нас большим ресурсом. Он был не только единственным звеном, связывавшим нас с миром живых, но и порукой, что мы можем без страха глядеть в глаза будущему, до тех пор, покуда наша жизнь будет протекать у него на глазах.
— Поберегай, братец, нас! поберегай! — по временам напоминал ему Глумов.
— А як же! даже ж сегодня вопрос был: скоро ли руволюция на Литейной имеет быть? Да нет же, говору, мы же всякий вечер з’ними в табельку играем!
Так обнадеживал он нас и, в доказательство своей искренности, пускался в откровенности, то есть сквернословил насчет начальства и сознавался, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей.
— Это ж весьма натурально! — пояснял он, — бо всякий чо́ловек защищать себя имеет — о́т-то и гарцуе як може!
Всего замечательнее, что мы не только не знали имени и фамилии его, но и никакой надобности не видели узнавать. Глумов совершенно случайно прозвал его Кшепшицюльским, и, к удивлению, он сразу начал откликаться на этот зов. Даже познакомились мы с ним как-то необычно. Шел я однажды по двору нашего дома и услышал, как он расспрашивает у дворника: «скоро ли в 4-м нумере (это — моя квартира) руволюция буде». Сейчас же взял его я за шиворот и привел к себе:
— На, смотри!
С тех пор он и остался у нас, только спать уходил в квартал да по утрам играл на бильярде в ресторане Доминика, говоря, что это необходимо в видах внутренней политики.
Лгунище он был баснословный, хотя не забавный. Но так как мы находились уже в том градусе благонамеренности, когда настоящая умственная пища делается противною, то лганье представляло для нас как бы замену ее. В особенности запутанно выходила у него родословная. Нынче он выдавал себя за сына вельможного польского пана, у которого «в тым месте» были несметные маетности*; завтра оказывался незаконным сыном легкомысленной польской графини и дипломата, который будто бы написал сочинение «La vérité sur la Russie*, par un diplomate» («От-то он самый и есть!» — прибавлял Кшепшицюльский). Когда же Глумов, с свойственною ему откровенностью, возражал: «а я так просто думаю, что ты с… с…», то он и этого не отрицал, а только с большею против прежнего торопливостью переносил лганье на другие предметы. Хвастался, что служит в квартале только временно, покуда в сенате решается процесс его по имению; что хотя его и называют сыщиком, но, собственно говоря, должность его дипломатическая, и потому следовало бы называть его «дипломатом такого-то квартала»; уверял, что в 1863 году бегал «до лясу»*, но что, впрочем, всегда был на стороне правого дела, и что даже предки его постоянно держали на сеймах руку России («як же ина́че мо́же то быть!»). Иногда он задумывался и предлагал вопрос:
— А як вы, господа, думаете: бог е́?
— Тебе-то, скотина, какое дело?
— Все же ж! Я, например, полагаю, что зовсем яго ниц.
Но даже подобные выходки как-то уж не поражали нас. Конечно, инстинкт все еще подсказывал, что за такие речи следовало бы по-настоящему его поколотить (благо за это и ответственности не полагается), но внутреннего жара уж не было. Того «внутреннего жара», который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений.
Повторяю: мы совсем упустили из вида, что, по первоначальному плану, состояние «благонамеренности» было предположено для нас только временно, покуда предстояла надобность «годить». Мы уже не «годили», а просто-напросто «превратились». До такой степени «превратились», что думали только о том, на каком мы счету состоим в квартале. И когда однажды наш друг-сыщик объявил, что не дальше как в тот же день утром некто Иван Тимофеич (очевидно, влиятельное в квартале лицо) выразился об нас: я каждый день бога молю, чтоб и все прочие обыватели у меня такие же благонамеренные были! и что весьма легко может случиться, что мы будем приглашены в квартал на чашку чая, — то мы целый день выступали такою гордою поступью, как будто нам на смотру по целковому на водку дали.
И, действительно, очень скоро после этого мы имели случай на практике убедиться, что Кшепшицюльский не обманул нас. Шли мы однажды по улице, и вдруг навстречу сам Иван Тимофеич идет. Мы было, по врожденному инстинкту, хотели на другую сторону перебежать, но его благородие поманил нас пальцем, благосклонно приглашая не робеть.
— Вечерком… на чашку чая… прошу… в квартал! — сказал он, подавая нам по очереди те самые два пальца, которыми только что перед тем инспектировал в ближайшей помойной яме.
И, сказав это, изволил благополучно проследовать к следующей помойной яме.
Возвратясь домой, мы долго и тревожно беседовали об этой чашке чая. С одной стороны, приглашение делало нам честь, как выражение лестного к нам доверия; с другой стороны — оно налагало на нас и обязанности. Множество вопросов предстояло разрешить. В каком костюме идти: во фраке, в сюртуке или в халате? Что заставят нас делать: плясать русскую, петь «Вниз по матушке по Волге»*, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния*, или же просто поставят штоф водки и скажут: пейте, благонамеренные люди! Разумеется, наш сыщик оказался в этом случае драгоценной для нас находкою,
— Вудка буде непременно, — сказал он нам, — мо́же и не така́ гарна, как в тым месте, где моя родина есть, но все же буде. Петь вас, мо́же, и не заставят, но мысли, наверное, испытывать будут и для того философический разговор заведут. А после, мо́же, и танцовать прикажут, бо у Ивана Тимофеича дочка есть… о́т-то слична девица!
Наконец настал вечер, и мы отправились. Я помню, на мне были белые перчатки, но почему-то мне показалось, что на рауте в квартале нельзя быть иначе, как в перчатках мытых и непременно с дырой: я так и сделал. С своей стороны, Глумов хотя тоже решил быть во фраке, но своего фрака не надел, а поехал в частный ломбард и там, по знакомству, выпросил один из заложенных фраков, самый старенький.
— По этикету-то ихнему следовало бы в ворованном фраке ехать, — сказал он мне, — но так как мы с тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впоследствии, как окончательный шаг для увенчания здания*), то на первый раз не взыщут, что и в ломбардной одеже пришли!
Иван Тимофеич принял нас совершенно по-дружески и, прежде всего, был польщен тем, что мы, приветствуя его, назвали вашим благородием. Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь (впоследствии я узнал, что это были местные «червонные валеты»*, выпущенные из чижовки на случай танцев).
— Папаша вами очень доволен! — бойко приветствовала нас дочь хозяина и, обращаясь ко мне, прибавила: — Смотрите! я с вами первую кадриль хочу танцевать!
— Ежели, впрочем, не воспрепятствует пожар! — любезно оговорился хозяин.
По выполнении церемонии представления мы удалились в кабинет, где нам немедленно вручили по стакану чая, наполовину разбавленного кизляркой (в человеке, разносившем подносы с чаем, мы с удовольствием узнали Кшепшицюльского). Гостей было достаточно. Почетные: письмоводитель Прудентов* и брантмейстер Молодкин — сидели на диване, а младшие — на стульях. В числе младших гостей находился и старший городовой Дергунов с тесаком через плечо.
Оказалось, что Кшепшицюльский и тут не обманул нас. Едва мы успели усесться, как Прудентов и Молодкин (конечно, по поручению Ивана Тимофеича), в видах испытания нашего образа мыслей, завели философический разговор. Начали с вопроса о бессмертии души и очень ловко дали беседе такую форму, как будто она возымела начало еще до нашего прихода, а мы только случайно сделались ее участниками. Прудентов утверждал, что подлинно душа человеческая бессмертна, Молодкин же ему оппонировал, но, очевидно, только для формы, потому что доказательства представлял самые легкомысленные.
— Никакой я души не видал, — говорил он, — а чего не видал, того не знаю!
— А я хоть и не видал, но знаю, — упорствовал Прудентов, — не в том штука, чтобы видючи знать — это всякий может, — а в том, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать! Вы, господа, каких об этом предмете мнений придерживаетесь? — очень ловко обратился он к нам.
Момент был критический, и, признаюсь, я сробел. Я столько времени вращался исключительно в сфере съестных припасов, что самое понятие о душе сделалось совершенно для меня чуждым. Я начал мысленно перебирать: душа… бессмертие… что, бишь, такое было? — но, увы! ничего припомнить не мог, кроме одного: да, было что-то… где-то там… К счастию, Глумов кой-что еще помнил и потому поспешил ко мне на выручку.
— Для того, чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, — сказал он, — необходимо прежде всего обратиться к источникам. А именно: ежели имеется в виду статья закона или хотя начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертною, то, всеконечно, сообразно с сим надлежит и поступать; но ежели ни в законах, ни в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений.
Ответ был дипломатический. Ничего не разрешая по существу, Глумов очень хитро устранял расставленную ловушку и самих поимщиков ставил в конфузное положение. — Обратитесь к источникам! — говорил он им, — и буде найдете в них указания, то требуйте точного по оным выполнения! В противном же случае остерегитесь сами и не вдавайтесь в разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными!
Как бы то ни было, но находчивость Глумова всех привела в восхищение. Сами поимщики добродушно ей аплодировали, а Иван Тимофеич был до того доволен, что благосклонно потрепал Глумова по плечу и сказал:
— Ловко, брат!
— Ну-с, прекрасно-с! — продолжал дальше испытывать Прудентов, — а теперь я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету: какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезною* и с обстоятельствами настоящего времени сходственною?
— То есть классическую или реальную? — пояснил от себя Молодкин.
Я опять оторопел, но Глумов нашелся и тут.
— Откровенно признаюсь вам, господа, — сказал он, — что я даже не понимаю вашего вопроса. Никаких я двух систем образования не знаю, а знаю только одну. И эта одна система может быть выражена в следующих немногих словах: не обременяя юношей излишними знаниями, всемерно внушать им, что назначение обывателей в том состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять начальственные предписания! Ежели предписания сии будут классические, то и исполнение должно быть классическое, а если предписания будут реальные, то и исполнение должно быть реальное. Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных — я не признаю!
— Браво! браво! — посыпались со всех сторон поздравления. Квартальный хлопал в ладоши. Прудентов жал нам руки, а городовой пришел в такой восторг, что подбежал к Глумову и просил быть восприемником его новорожденного сына.
Таким образом, благодаря находчивости Глумова, мы вы шли из испытания победителями и посрамили самих поимщиков. Сейчас же поставили на стол штоф водки, и хозяин провозгласил наше здоровье, сказав:
— Теперича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев! какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых, в случае чего, положиться было бы можно? — я бы его высокородию, как перед богом на Страшном суде, ответил: вот они!
После того мы вновь перешли в гостиную, и раут пошел обычным чередом, как и в прочих кварталах. Червонным валетам дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, если по окончании раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы. Затем, по просьбе дам, брантмейстер сел за фортепьяно и пропел «Коль славен», а в заключение, предварительно раскачавшись всем корпусом, перешел в allegro и не своим голосом гаркнул:
— Прекрасный романс! — сказал Глумов, — века пройдут, а он не устареет!
— Хорош-то хорош, а по-моему, наше простое, русское ура — куда лучше! — отозвался хозяин, — уж так я эту музыку люблю, так люблю, что слаще ее, кажется, и на свете-то нет!
Наконец составились и танцы. Один из червонных валетов сел за фортепьяно и прелюдировал кадриль. Но в ту самую минуту, как я становился в пару с хозяйскою дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин сказал:
— Господа! милости просим на пожар!
И затем, обратившись к старшему городовому Дергунову, присовокупил:
— А господ червонных валетов честь честью свести в чижовку и запереть на замо́к!
Вообще эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим; кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое число крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом, но принимали участие в веселостях всех частей и кварталов. В особенности хорошо удался бал в 3-й Адмиралтейской части, потому что вся Сенная участвовала в нем своими произведениями*. Хотя же по временам нашему веселью и мешали по жары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало — танцуем!
Эта рассеянная жизнь имела для нас с Глумовым ту вы году, что мы значительно ободрились и побойчели. Покуда мы исключительно предавались удовольствиям, доставляемым истреблением съестных припасов, это производило в нас отяжеление и, в то же время, сообщало физиономиям нашим унылый и слегка осовелый вид, который мог подать повод к невыгодным Для нас толкованиям. А это положительно нам вредило и даже в значительной мере парализировало наши усилия в смысле благонамеренности.
В то время унылый вид играл в человеческой жизни очень важную роль: он означал недовольство существующими порядками и наклонность к потрясению основ. Правда, что прокуроров тогда еще не было, а следовательно, и потрясений не так много было в ходу*, но все-таки при частях уже существовали следственные пристава, которые тоже не без любознательности засматривались на людей, обладающих унылыми физиономиями. Поэтому телесное отяжеление, равно как и изжога, ежели не всегда служили достаточным поводом для диагностических постукиваний, то, во всяком случае, представляли очень достаточные данные для возбуждения сомнений и запросов весьма щекотливого свойства.
Этих сомнений и запросов я в течение всей моей жизни тщательно избегал. Я всегда предпочитал им открытые исследования, не потому, чтобы перспектива быть предметом начальственно-диагностических постукиваний особенно улыбалась мне, но потому, что я — враг всякой неизвестности и, вопреки известной пословице, нахожу, что добрая ссора все-таки предпочтительнее, нежели худой мир. Даже тогда, когда действительно на совести моей тяготеет преступление, когда порочная моя воля сама, так сказать, вопиет о воздействии, — даже и тогда меня не столько страшит кара закона, сколько вид напруживающегося при моем приближении прокурора. Хочется сказать ему: не суда боюсь, но взора твоего неласкового! не молнии правосудия приводят меня в отчаяние, а то, что ты не удостоиваешь меня своею откровенностью! Громи меня! призывай на мою голову мщение небес, но скажи, чем я тебя огорчил! Разреши тенета суспиции*, которыми ты опутал мое существование! разъясни мне самому, какою статьею уложения о наказаниях определяется мое официальное положение в той бесконечно развивающейся уголовной драме, которая, по манию твоему, обнимает все отрасли человеческой индустрии, от воровства-кражи до потрясения основ с прекращением платежей по текущему счету и утайкою вверенных на хранение бумаг!
Но ежели я таким образом думаю, когда чувствую себя действительно виноватым, то понятно, как должна была претить мне всякая запутанность теперь, когда я сознавал себя вполне чистым и перед богом, и перед людьми. К счастию, новые знакомства очень скоро вывели меня из той угрюмой сферы жранья, в которую я было совсем погрузился. Я понял, что истинная благонамеренность не в том одном состоит, чтобы в уединении упитывать свои телеса до желанного веса, но в том, чтобы подавать пример другим. Горизонт мой незаметно расширился, я воспрянул духом, спал с тела и не только не дичился общества, но искал его. Унылый вид, который придавал мне характер заговорщика, исчез совершенно. Вместе с Глумовым я проводил целые утра в делании визитов (иногда из Казанской части приходилось, по обстоятельствам, ехать на Охту*), вел фривольные разговоры с письмоводителями, городовыми и подчасками о таких предметах, о которых даже мыслить прежде решался, лишь предварительно удостоверившись, что никто не подслушивает у дверей, ухаживал за полицейскими дамами, и только скромность запрещает мне признаться, скольких из них довел я до грехопадения. Словом сказать, из области благонамеренности выжидающей я перешел в область благонамеренности воинствующей и внушил наконец такое к себе доверие, что мог сквернословить и кощунствовать вполне свободно, в твердой уверенности, что самый бдительный полицейский надзор ничего в этом не увидит, кроме свойственной благовоспитанному человеку фривольности.
Бессловесность, еще так недавно нас угнетавшая, разрешилась самым удовлетворительным образом. Мы оба сделались до крайности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и имели тот особенный пошиб, который напоминает атмосферу дома терпимости. Содержание их главнейшим образом составляли: во-первых, фривольности по части начальства и конституций и, во-вторых, женщины, но при этом не столько сами женщины, сколько их округлости и особые приметы.
Мы делали все, что делают молодые светские шалопаи, чувствующие себя в охоте: нанимали тройки, покупали конфеты и букеты, лгали, хвастались, катались на лихачах и декламировали эротические стихи. И все от нас были в восхищении, все говорили: да, теперь уж совсем ясно, что это — люди благонамеренные не токмо за страх, но и за совесть!
Наконец в одно прекрасное утро мы были удовольствованы, так сказать, по горло: сам Иван Тимофеич посетил нас в моей квартире.
Признаюсь, долгонько-таки заставил ждать почтенный сановник этого визита. Целых два месяца прошло после первого раута в квартале, а он, по-видимому, даже забыл и думать, что существуют на свете известные законы приличия. Все уж по нескольку раз перебывали у нас: и письмоводители частных приставов, и брантмейстеры, и помощники квартальных, и старшие городовые; все пили водку, восхищались икрой и балыком, спрашивали, нет ли Поль де Кокца в переводе почитать* и проч. — один Иван Тимофеич с какою-то необъяснимою загадочностью воздерживался от окончательного сближения. Не раз видали мы из окна, как он распоряжался во дворе дома насчет уборки нечистот, и даже нарочно производили шум, чтобы обратить на себя его внимание, но он ограничивался тем, что делал нам ручкой, и вновь погружался в созерцание нечистот. Это отчасти обижало нас, а отчасти заставляло пускаться в догадки: неужели наше прошлое до того уж отягчено преступлениями, что даже волны теперешней благонамеренности не могут обмыть его?
— А порядочно-таки накуролесили мы в жизни своей! — объяснял я Глумову мои сомненья.
— Да, брат, эти дела не так-то скоро забываются! — соглашался он со мной,
И вот стали мы разбирать свое прошлое — и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего только там не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и признательность сердца по случаю введения земских учреждений, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры, с оставлением ее лишь для тех, кто, по человеческой немощи, не может бесцензурности вместить. Одним словом, все опасности, все неблагонадежности и неблагонамеренности, все угрозы, все, что подрывает, потрясает, разрушает, — все тут было! И ничего такого, что созидает, укрепляет и утверждает, наполняя трепетною радостью сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей!
— Да ведь этак мы, хоть тресни, не обелимся! — в отчаянии восклицал я.
— Похоже на то! — как эхо, вторил мне Глумов.
— Послушай! кто же, однако ж, мог это знать! ведь в то время казалось, что это и есть то самое, что созидает, укрепляет и утверждает! И вдруг — какой, с божьею помощью, переворот!*
— Мало ли что казалось! надо было в даль смотреть!
— Но ведь тогда даже чины за это давали!
— И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствии за являть — все можно, да с оговорочкой, любезный друг, с оговорочкой! Умные-то люди как поступают? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сем присовокупляем, что ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся! Вот как настоящие умные люди изъясняются, те, которые и за сочувствие, и за несочувствие — всегда получать чины готовы!
И вот, в ту самую минуту, когда Глумов договаривал эти безнадежные слова, в передней как-то особенно звукнул звонок. Объятые сладким предчувствием, мы бросились к двери… О, радость! Иван Тимофеич сам своей персоной стоял перед нами!
— Иван Тимофеич… ваше благородие… вы?!
— Самолично. А что? заждались?.. ха-ха!
— Да, начинали уж, знаете… сомнения разные…
— Задумались… ха-ха! Ну, ничего! Я ведь, друзья, тоже не сразу… выглядываю наперед! Иногда хоть и замечаю, что человек исправляется, а коли в нем еще мало-мальски есть — ну, я и тово… попридержусь! Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли по времени уверюсь, что в человеке уж совсем ничего не осталось, — ну, и я навстречу иду. Будьте здоровы, друзья!
Он произнес последние слова с горячностью, очень редкою в лице, обязанном наблюдать за своевременною сколкой на улицах льда, и затем, пожав нам обоим руки, вошел в квартиру.
— Хорошенькая у вас квартирка… очень, очень даже удобненькая! — похвалил он, — вместе, что ли, живете?
— Нет, я в Рождественской части… — пробормотал Глумов таким голосом, как будто все сердце у него изболело оттого, что он лишен счастия жить под руководством Ивана Тимофеича.
— Ну, бог милостив! и вы со временем ко мне переедете! — обнадежил его Иван Тимофеич и, обратившись ко мне, весело прибавил: — А что, государь мой, водка-то у вас водится?
— Иван Тимофеич! вина? Есть лафит, есть херес… Господи!
— Нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью — больше ничего! Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался… Ну, да думал: пускай исправляются — над нами не каплет! Чистенько у вас тут, хорошо!
Он сел на диван и светлым взором оглядел комнату. Но вдруг лицо его омрачилось: где-то в дальнем углу он заприметил книгу…
— Это «Всеобщий календарь»!* — поспешил я разуверить его и тотчас же побежал, чтобы принести поличное.
— А… да? а я, признаться, книгу было заподозрел.
— Нет, Иван Тимофеич, мы уж давно… Давно уж у нас насчет этого…
— И прекрасно делаете. Книги — что в них! Был бы человек здоров да жил бы в свое удовольствие — чего лучше! Безграмотные-то и никогда книг не читают, а разве не живут?
— Да еще как живут-то! — подтвердил Глумов. — А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают!
— Ну, не все! Бывают и из простых, которые с умом читают! — благосклонно допустил Иван Тимофеич.
— И все-таки попадаются. Ежели не в качестве обвиняемых, так в качестве свидетелей. Помилуйте! разве сладко свидетелем-то быть?
— Какая сладость! Первое дело, за сто верст киселя есть, а второе, как еще свидетельствовать будешь! Иной раз так об себе засвидетельствуешь, что и домой потом не попадешь… ахти-хти! грехи наши, грехи!
Иван Тимофеич вздохнул, опрокинул в рот рюмку водки и сказал:
— Ну, будьте здоровы, друзья! Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял!
Мы в умилении стояли против него и ждали, что будет дальше.
— Хочется мне с вами по душе поговорить, давно хочется! — продолжал он. — Ну-тко, скажите мне — вы люди умные! Завелась нынче эта пакость везде… всем мало, всем хочется… Ну, чего? скажите на милость: чего?
Я было приложил уж руку к сердцу, чтоб отвечать, что всего довольно и ни в чем никакой надобности не ощущается: вот только посквернословить разве… Но, к счастию, Иван Тимофеич сделал знак рукой, что моя речь впереди, а пока мест он желает говорить один.
— Право, иной раз думаешь-думаешь: ну, чего? И то переберешь, и другое припомнишь — все у нас есть! Ну, вы — умные люди! сами теперь по себе знаете! Жили вы прежде… что говорить, нехорошо жили! буйно! Одно слово — мерзко жили! Ну, и вам, разумеется, не потакали, потому что кто же за нехорошую жизнь похвалит! А теперь вот исправились, живете смирно, мило, благородно, — спрошу вас, потревожил ли вас кто-нибудь? А? что? так ли я говорю?
— Как перед богом, так и…
— Хорошо. А начальство между тем беспокоится. Туда-сюда — везде мерзость. Даже тайные советники — и те нынче под сумнением состоят! Ни днем, ни ночью минуты покоя нет никогда! Сравните теперича, как прежде квартальный жил и как он нынче живет! Прежде только одна у нас и была болячка — пожары! да и те как-нибудь… А нынче!
— Да, трудновато-таки вам!
— Мне-то? Вы мне скажите: знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? ну? Так вот эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит!
— Тсс…
— На нас да на городовых. А на днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в третьем часу ночи один человек (и прежде он у меня на замечании был) — «вяжите, говорит, меня, я образ правленья переменить хочу!» Ну, натурально, сейчас ему, рабу божьему, руки к лопаткам, черкнули куда следует: так, мол, и так, злоумышленник проявился… Только съезжается на другой день целая комиссия, призвали его, спрашивают: как? почему? кто сообщники? — а он — как бы вы думали, что он, шельма, ответил? — «Да, говорит, действительно, я желаю переменить правленье… Рыбинско-Бологовской железной дороги!»
— Однако ж! насмешка какая!
— Да-с. Захотел посмеяться и посмеялся. В три часа ночи меня для него разбудили; да часа с два после этого я во все места отношения да рапорты писал. А после того, только что было сон заводить начал, опять разбудили: в доме терпимости демонстрация случилась! А потом извозчик нос себе отморозил — оттирали, а потом, смотрю, пора и с рапортом! Так вся ночка и прошла.
— И это прошло ему… безнаказанно?
— А что с ним сделаешь? Дал ему две плюхи, да после сам же на мировую должен был на полштоф подарить!
— Тсс…
— Так вот вы и судите! Ну да положим, это человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он доход казне приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стену лезут? ну чего надо? а?
— Тоже, должно быть, в роде опьянения что-нибудь.
— Опьянение опьянением, а есть и другое кой-что. Зависть. Видит он, что другие тихо да благородно живут, — вот его и берут завидки! Сам он благородно не может жить — ну, и смущает всех! А с нас, между прочим, спрашивают! Почему да как, да отчего своевременно распоряжения не было сделано? Вот хоть бы с вами — вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
— Иван Тимофеич! неужто же мы могли…
— И даже очень могли. Теперь, разумеется, дело прошлое — вижу я! даже очень хорошо вижу ваше твердое намерение! — а было-таки времечко, было! Ах, да и хитрые же вы, господа! право, хитрые!
Иван Тимофеич улыбнулся и погрозил нам пальцем.
— Наняли квартиру, сидят по углам, ни сами в гости не ходят, ни к себе не принимают — и думают, что так-таки никто их и не отгадает! Ах-ах-ах!
И он так мило покачал головой, что нам самим сделалось весело, какие мы, в самом деле, хитрые! В гости не ходим, к себе никого не принимаем, а между тем… поди-ка, попробуй зазеваться с этакими головорезами.
— А я все-таки вас перехитрил! — похвалился Иван Тимофеич, — и не то что каждый ваш шаг, а каждое слово, каждую мысль — все знал! И знаете ли вы, что если б еще немножко… еще бы вот чуточку… Шабаш!
Хотя Иван Тимофеич говорил в прошедшем времени, но сердце во мне так и упало. Вот оно, то ужасное квартальное всеведение, которое всю жизнь парализировало все мои действия! А я-то, ничего не подозревая, жил да поживал, сам в гости не ходил, к себе гостей не принимал — а чему подвергался! Немножко, чуточку — и шабаш! Представление об этой опасности до того взбудоражило меня, что даже сон наяву привиделся: идут, берут… пожалуйте!
— Да неужели мы… — воскликнул я с тоской.
— Было, было — нечего старого ворошить! И оправдываться не стоит.
— Да; но надеемся, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание и хотя до некоторой степени послужат искуплением тех заблуждений, в которые мы могли быть вовлечены отчасти по неразумию, а отчасти и вследствие дурных примеров? — вступился, с своей стороны, Глумов.
— Теперь — о прошлом и речи нет! все забыто! Пардон — общий (говоря это, Иван Тимофеич даже руки простер наподобие того как делывал когда-то в «Ernani» Грациани*, произнося знаменитое «perdono tutti!»[5])! Теперь вы все равно что вновь родились — вот какой на вас теперь взгляд! А впрочем, заболтался я с вами, друзья! Прощайте, и будьте без сумненья! Коли я сказал: пардон! значит, можете смело надеяться!
— Иван Тимофеич! куда же так скоро? а винца?
— Винца — это после, на свободе когда-нибудь! Вот от водки и сию минуту — не откажусь!
Он опять опрокинул в рот рюмку водки и пососал язык.
— Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить, — сказал он после минутного колебания, — интересное дельце, а для меня так и очень даже важное… да нет, лучше уж в другой раз!
— Да зачем же? Сделайте милость! прикажите!
— Вот видите ли, есть у меня тут…
Иван Тимофеич потоптался на месте, словно бы его что подмывало, и вдруг совершенно неожиданно покраснел.
— Нет, нет, нет, — заторопился он, — лучше уж в другой раз! А вы, друзья, между тем подумайте! чувства свои испытайте! решимость проверьте! Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, — ну, тогда…
Последние слова Иван Тимофеич сказал уже в передней, и мы не успели опомниться, как он сделал нам ручкой и скрылся за дверью.
Мы в недоумении смотрели друг на друга. Что такое еще ожидает нас? какое еще новое «удовольствие» от нас потребуется? Не дальше как минуту назад мы были веселы и беспечны — и вдруг какая-то новая загадка спустилась на наше существование и угрожала ему катастрофою…
III*
— А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит! — первый опомнился Глумов.
Признаюсь, и в моей голове блеснула та же мысль. Но мне так горько было думать, что потребуется «сие новое доказательство нашей благонадежности», что я с удовольствием остановился на другом предположении, которое тоже имело за себя шансы вероятности.
— А я так думаю, что он просто, как чадолюбивый отец, хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери, — сказал я.
— Гм… да… А ты этому будешь рад?
— Не скажу, чтобы особенно рад, но надо же и остепениться когда-нибудь. А ежели смотреть на брак с точки зрения самосохранения, то ведь, пожалуй, лучшей партии и желать не надо. Подумай! ведь все родство тут же, в своем квартале будет. Молодкин — кузен, Прудентов — дяденька, даже Дергунов, старший городовой, и тот внучатным братом доведется!
— Ну, так уж ты и прочь себя в женихи.
— А ты небось брезгаешь? Эх, Глумов, Глумов! много, брат, невест в полиции и помимо этой! Вот у подчаска тоже дочь подрастает: теперь-то ты отворачиваешься, да как бы после не довелось подчаска папенькой величать!
Но Глумов сохранил мрачное молчание на это предположение. Очевидно, идея о родстве с подчаском не особенно улыбалась ему.
— Ну, а ежели он места сыщиков предлагать будет? — возвратился он к своей первоначальной идее.
— Но почему же ты это думаешь?
— Я не думаю, а, во-первых, предусматривать никогда не лишнее, и, во-вторых, Кшепшицюльский на днях жаловался: непрочен, говорит, я!
— Воля твоя, а я в таком случае притворюсь больным! — сказал я довольно решительно.
— И это — не резон, потому что век больным быть нельзя. Не поверят, доктора освидетельствовать пришлют — хуже будет. Нет, я вот что думаю: за границу на время надо удрать. Выкупные-то свидетельства у тебя еще есть?*
— Да как тебе сказать? — на донышке!
— И у меня дно видно. Плохо, брат. Всю жизнь эстетиками занимались да цветы удовольствия срывали, а теперь, как стряслось черт знает что, — и нет ничего!
— Есть у меня, мой друг, недвижимость: называется Проплёванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, пустошь не пустошь… так, земля. А все-таки в случае чего побоку пустить можно!
— Пустяки, брат! Какому черту твою Проплёванную нужно?
— Нет, голубчик, и до сих пор находятся люди, которым нужно… Даже странно: кажется, зачем? ну кому надобно? — ан нет, выищется-таки кто-нибудь!
— Который тебе пятиалтынный даст. Слушай! говори ты мне решительно: ежели он нас поодиночке будет склонять — ты как ответишь?
Я дрогнул. Не то, чтобы я вдруг получил вкус к ремеслу сыщика, но испытание, которое неминуемо повлек бы за собой отказ, было так томительно, что я невольно терялся. Притом же страсть Глумова к предположениям казалась мне просто неуместною. Конечно, в жизни все следует предусматривать и на все рассчитывать, но есть вещи до того непредвидимые, что, как хочешь их предусматривай, хоть всю жизнь об них думай, они и тогда не утратят характера непредвидимости. Стало быть, об чем же тут толковать?
— Глумов! голубчик! не будем об этом говорить! — взмолился я.
— Ну, хорошо, не будем. А только я все-таки должен тебе сказать: призови на помощь всю изворотливость своего ума, скажи, что у тебя тетка умерла, что дела требуют твоего присутствия в Проплёванной, но… отклони! Нехорошо быть сыщиком, друг мой! В крайнем случае мы ведь и в самом деле можем уехать в твою Проплёванную и там ожидать, покуда об нас забудут. Только что мы там есть будем?
— Помилуй, душа моя! цыплята, куры — это при доме; в лесах — тетерева, в реках — рыбы! А молоко-то! а яйца! а летом грибы, ягоды! Намеднись нам рыжиков соленых подавали — ведь они оттуда!
— Ну, как-нибудь устроимся; лучше землю грызть, нежели… Помнишь, Кшепшицюльский намеднись рассказывал, как его за бильярдом в трактире потчевали? Так-то! Впрочем, утро вечера мудренее, а покуда посмотри-ка в «распределении занятий», где нам сегодня увеселяться предстоит?
Мы с новою страстью бросились в вихрь удовольствий, чтобы только забыть о предстоящем свидании с Иваном Тимофеичем. Но существование наше уже было подточено. Мысль, что вот-вот сейчас позовут и предложат что-то неслыханное, вследствие чего придется, пожалуй, закупориться в Проплёванную, — эта ужасная мысль следила за каждым моим шагом и заставляла мешать в кадрилях фигуры. Видя мою рассеянность, дамы томно смотрели на меня, думая, что я влюблен.
— Какой цвет волос вам больше нравится, мсьё, — блондинки или брюнетки? — слышал я беспрестанно вопрос.
Наконец грозная минута наступила. Кшепшицюльский, придя рано утром, объявил, что господин квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него касающемуся делу… и именно со мной.
— Об чем, не знаете? — полюбопытствовал я.
Но Кшепшицюльский понес в ответ сущую околесицу, так что я только тут понял, как неприятно иметь дело с людьми, о которых никогда нельзя сказать наверное, лгут они или нет. Он начал с того, что его начальник получил в наследство в Повенецком уезде пустошь, которую предполагает отдать в приданое за дочерью («гм… вместо одной, пожалуй, две Проплёванных будет!» — мелькнуло у меня в голове); потом перешел к тому, что сегодня в квартале с утра полы и образа чистили, а что вчера пани квартальная ездила к портнихе на Слоновую улицу и заказала для дочери «монто́». При этом пан Кшепшицюльский хитро улыбался и искоса на меня по глядывал.
— Отчего же Глумова не зовут? — спросил я.
— А як же ж можно двох!
— Нужно говорить «двех», а не «двох», пан Кшепшицюльский! — наставительно произнес Глумов и, обратись ко мне, пропел из «Руслана»:
— Ступай, брат, с миром, и бог да определит тебя к месту по желанию твоему!
Клянусь, я был за тысячу верст от того удивительного предложения, которое ожидало меня!
Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеич, в припадке сильной ажитации, ходил взад и вперед по комнате. Очевидно, он сам понимал, что испытание, которое он готовит для моей благонамеренности, переходит за пределы всего, что допускается уставом о пресечении и предупреждении преступлений. Вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий, на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка «ренского» вина.
— Ну, вот и слава богу! — воскликнул он, порывисто схватывая меня за обе руки, точно боялся, что я сейчас выскользну. — Балычка? сижка копченого? Милости просим! Ах, да белорыбицы-то, кажется, и забыли подать! Эй, кто там? Белорыбицу-то, белорыбицу-то велите скорее нести!
— Благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты… дело какое-нибудь имеете до меня?
— Да, дело, дело! — заторопился он, — да еще дело-то какое! Услуги, мой друг, прошу! такой услуги… что называется, по гроб жизни… вот какой услуги прошу!
Начало это несколько смутило меня. Очевидно, меня ожидало что-нибудь непредвиденное.
— Да, да, да, — продолжал он суетливо, — давно уж это дело у меня на душе, давно сбираюсь… Еще в то время, когда вы предосудительными делами занимались, еще тогда… Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю!
Он оглянул меня с головы до ног, как бы желая удостовериться, действительно ли я тот самый «подходящий человек», об котором он мечтал.
— Обещайте, что вы мою просьбу выполните! — молвил он, кончив осмотр и взглядывая мне в глаза.
— Иван Тимофеич! после всего, что произошло, позволительны ли с вашей стороны какие-либо сомнения?
— Да, да… довольно-таки вы поревновали… понимаю я вас! Ну, так вот что, мой друг! приступимте прямо к делу! Мне же и недосуг: в Эртелевом лед скалывают, так присмотреть нужно… сенатор, голубчик, там живет! нехорошо, как замечание сделает! Ну-с, так изволите видеть… Есть у меня тут приятель один… такой друг! такой друг!
Он запнулся и заискивающе взглянул на меня, точно ждал моей помощи.
— Ну-с, так приятель… что же этот приятель? — поощрил я его.
— Так вот, есть у меня приятель… словом сказать, Парамонов купец… И есть у него… Вы ка́к насчет фиктивного брака*?., одобряете? — вдруг выпалил он мне в упор.
— Помилуйте! даже очень одобряю, ежели… — сконфузился я.
— Вот именно так: ежели! Сам по себе этот фиктивный брак — поругание, но «ежели»… По обстоятельствам, мой друг, и закону премена бывает! как изволит выражаться наш господин частный пристав. Вы что? сказать что-нибудь хотите?
— Нет, я ничего… я тоже говорю: по обстоятельствам и закону премена бывает — это верно!
— Так вот я и говорю: есть у господина Парамонова штучка одна… и образованная! в пансионе училась…
Он опять запнулся и в смущении опустил глаза.
— Не желаете ли вы вступить с этой особой в фиктивный брак? — быстро спросил он меня таким тоном, словно бремя скатилось с его души.
К сожалению, я не могу сказать, что не понял его вопроса. Нет, я не только понял, но даже в висках у меня застучало. Но в то же время я ощущал, что на мне лежит какой-то гнет, который сковывает мои чувства, мешает им перейти в негодование и даже самым обидным образом подчиняет их инстинктам самосохранения.
Иван Тимофеич очень тонко подметил этот разлад чувств. С одной стороны, в висках стучит, с другой — сердце объемлет жажда выказать благонамеренность… Так что, когда я, вместо ответа, в свою очередь предложил вопрос:
— Но почему же именно я?
То он не только не увидел в этом повода для прекращения разговора, но еще с большею убедительностью приступил к дальнейшим переговорам.
— Слушай, друг! — сказал он ласково, ободряя меня, — ежели ты насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся! Онуфрий Петрович и теперь, и на будущее время не оставит!
Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь сообразить, отыскать что-нибудь — и не мог. Я беспомощно смотрел на моего истязателя и бормотал:
— Позвольте… что касается до брака… право, в этом отношении я даже не знаю, могу ли назвать себя вполне ответственным лицом…
Клянусь, будь на месте Ивана Тимофеича сам Шешковский — и тот бы тронулся моим видом. И тот сказал бы себе: вот человек, в котором благонамеренность уже достигла тех пределов, за которыми дальнейшие испытания становятся в высшей степени рискованными. И, сознавши это, отпустил бы меня с миром, предварительно обнадежив, что начальство очень хорошо понимает мои колебания и отнюдь не сочтет их за противодействие властям. Но у Ивана Тимофеича, по-видимому, совсем не было государственного смысла, а потому он счел возможным идти дальше.
— Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг, — успокоивал он меня. — Съездите в церковь (у портного Руча вам для этого случая «пару» из тонкого сукна закажут), пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистера Завитаева поздравление примете — и дело с концом. Вы — в одну сторону, она — в другую! Мило! благо родно!
Нарисовав мне эту картину, он, очевидно, ждал, что я сейчас же изъявлю согласие, но я молчал.
— А что касается до вознаграждения, которое вы для себя выговорите, — продолжал он соблазнять меня, — то половину его вы до, а другую — по совершении брака получите. А чтобы вас еще больше успокоить, то можно и так сделать: разрежьте бумажки пополам, одну половину с нумерами вы себе возьмете, другая половина с нумерами у Онуфрия Петровича останется… А по окончании церемонии обе половины и соединятся… у вас!
Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало меня. Я и благонамеренность желал сохранить, и в то же время говорил себе: ну нет, вокруг налоя меня не поведут… нет, не поведут! Отсюда — целый ряд галлюцинаций, обещающих сверхъестественное и чудесное избавление. То думалось: вот-вот Ивана Тимофеича апоплексический удар хватит — и вся эта история с фиктивным браком разлетится как дым. То представлялось: обрушивается потолок и повреждает Ивана Тимофеича, а меня оставляет невредимым — и опять все исчезает.
И вот именно сверхъестественное и выручило меня. В ту самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я всею силою облегченной груди крикнул:
— Иван Тимофеич! вот он!
Да, это был он, то есть избавитель, то есть «подходящий человек», по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин*.
Я с восхищением смотрел на него, хотя он значительно изменился*, и притом не в свой авантаж[6]. По-прежнему поступь его была тороплива, и в движениях сквозило легкомыслие, но изнурительные занятия, видимо, подействовали, и на лицо уже легли расплюевские тени*. Я не скажу, чтоб Балалайкин был немыт, или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые — как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
Самого Ивана Тимофеича словно свет озарил, когда вошел Балалайкин.
— Господин Балалайка! а я-то… а мы-то… а он — вот он он! — беспорядочно восклицал он, раскрывая широкие объятия, — господин Балалайка! ах ты, ах! закусить? рюмочку пропустить?
— Нет, mon cher, я на минуточку! спешу, мой ангел, спешу! — отнекивался Балалайкин. — Вот что: есть тут индивидуй один… взыскание на него у меня, так нужно бы подстеречь…
— С удовольствием! и даже с превеликим… сейчас! сию минуту! Ах ты, ах! Да, никак, ты помолодел! Повернись! сделай милость, дай на себя посмотреть!
— Не могу, душа моя, не могу! в конкурс спешу!* Вот записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай!
— Да нет же, стой! А мы только что об тебе говорили, то есть не говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостает? Ан ты… вот он он! Слушай же: ведь и у меня до тебя дело есть.
Балалайкин вынул из кармана хронометр, взглянул на циферблат и сказал:
— У меня есть свободного времени… да, именно три минуты я могу уделить. Конкурс открывается в три часа, теперь без пяти минут три, две минуты нужно на проезд… да, именно три минуты я имею впереди. Ну-с, так в чем же дело?
— Скажи: ты всякие поручения исполняешь?
— Всякие. Дальше.
— Жениться можешь?
— Это… зависит!
— Ну, конечно, не за свой счет, а по препоручению!
— Мо… могу!
— Так видишь ли: есть у меня приятель, а у него особа одна… вроде как подруга…
— Душенька то есть?
— Ну, как там по-твоему… И есть у него желание, чтобы эта особа в законе была… чтобы в метрических книгах и прочее… словом, все — чтобы как следует… А она чтобы между тем…
— С удовольствием, мой друг, с удовольствием!
— Ну-с, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает!
— Гм… Прежде нежели ответить на этот вопрос, я, с своей стороны, предлагаю другой: кто тот смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
— Ты прежде скажи…
— Нет, ты прежде скажи, а потом и я разговаривать буду. Потому что ежели это дело затеял, например, хозяин твоей мелочной лавочки, так напрасно мы будем и время по-пустому тратить. Я за сотенную марать себя не намерен!
Иван Тимофеич замялся. Очевидно, он имел в виду комиссионный процент и боялся, чтоб Балалайкин не обратился прямо к Парамонову, без посредства комиссионеров. Но после минутного размышления он, однако ж, решился.
— Ежели я Парамонова Онуфрия Петровича назову — слыхал?
— Намеднись даже в стуколку с ним вместе играл, — солгал Балалайкин, — Фалелеев Сидор Кондратьич, Бобков Герасим Фомич, Генералов Федор Кузьмич, Парамонов и я.
— Ну, как же по-твоему?
— А вот как. У нас на практике выработалось такое правило: ежели дело верное, то брать десять процентов с цены иска, а ежели дело рискованное — то по соглашению.
— Чудак ты! как же ты бабу ценить будешь?
— Сейчас. Сколько господин Парамонов на эту самую «подругу» денег в год тратит?
— Как сказать… Одевает-обувает… ну, экипаж, квартира… Хорошо содержит, прилично! Меньше как двадцатью тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ах, да и штучка-то хороша!
— А принимая во внимание, что купец Парамонов — меняло, а с таких господ, за уродливость, берут вдвое, то предположим, что упомянутый выше расход в данном случае возрастет до сорока тысяч.
— Предполагай, пожалуй!
— Теперь пойдем дальше. Имущества недвижимые, как тебе известно, оцениваются по десятилетней сложности до хода; имущества движимые, как, например: мебель, картины, произведения искусств, — подлежат оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
— Так-то так, да ведь тут…
— Позволь, об этом будет дальше. «Штучка», о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но притом снабженное такими признаками, на которые в законах прямых указаний не имеется. Поэтому в деле оценки подобного имущества необходимо прибегнуть к несколько иному методу, более соответствующему характеру самой движимости. Так, например, если допустим способ смешанный: то есть, с одной стороны, прибегнем к экспертизе, а с другой — не пренебрежем и принципом десятилетней сложности до хода, то, кажется, мы придем к результату довольно удовлетворительному. А именно: в смысле экспертизы, самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше движимости сорок тысяч рублей и тем самым, так сказать, определяет годовой доход с нее…
— Не с нее, а ее…
— С нее или ее — не будем спорить о словах. Приняв цифру сорок тысяч, как базис для дальнейших наших операций, и помножив ее на десять, мы тем самым определим и ценность движимости цифрою четыреста тысяч рублей. Теперь идем дальше. Эта сумма в четыреста тысяч рублей могла бы быть признана правильною, ежели бы дело ограничивалось одною описью, но, как известно, за описью необходимо следуют торги. Какая цена состоится на торгах — этого мы, конечно, определить не можем, но едва ли ошибемся, сказав, что она должна удвоиться. А затем цифра гонорара определяется уже сама собою. То есть: восемьдесят, а для круглого счета — сто тысяч рублей.
Я внимал ему, затаив дыхание; но когда он выговорил цифру сто тысяч, то, признаюсь, у меня даже коленки затряслись.
— Берите пятьдесят! — подсказал я ему, сам, впрочем, не понимая, почему мне пришла на ум именно эта сумма, а не другая.
Но он даже не удостоил меня взглядом.
— Я уже опоздал на целую минуту, — сказал он, смотря на часы, — затем, прощайте! И буде условия мои будут признаны необременительными, то прошу иметь в виду!
Несколько минут Иван Тимофеич стоял как опаленный. Что касается до меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо, за несообразностью речей Балалайкина, дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которою она едва ли когда-нибудь обладала.
— Иван Тимофеич! — воскликнул я, — сообразите! Ведь это дело — ведь это такое дело, что, право, дешевым образом обставить его нельзя!
Но он, по-видимому, не слыхал меня и бормотал:
— Диви бы за дело, а то… другой бы даже за удовольствие счел…
И вдруг, обратившись ко мне:
— Ну, а вы как… какого вознаграждения желали бы? — спросил он и с горькой усмешкой прибавил, — для вас, может быть, и двухсот тысяч мало будет?
Но тут-то именно я и показал себя.
— Выслушайте меня, прошу вас! — сказал я. — Вы давно уже видите и знаете мое сердце. Вам известно, интересан ли я и страдаю ли недостатком готовности служить на пользу общую. В деньгах я не особенно нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей; что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в двух словах: я готов! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он — бедный человек, Иван Тимофеич! и хотя говорит, что адвокатура дает ему не меньше двадцати пяти тысяч в год, но это он лжет! Помилуйте! разве можно вверять какие-нибудь серьезные интересы… Балалайкину? И даже самый конкурс, на который он сейчас ссылался, разве есть возможность верить в его существование? — Нет, и тысячу раз нет! Верьте, что, несмотря на свой шик, он с каждой минутой все больше и больше погружается в тот омут, на дне которого лежит Тарасовка*. И в доказательство…
Я взял со стола записку, которую оставил Балалайкин, и прочитал:
«По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона…»
— Понимаете ли вы теперь, какие у него дела? — продолжал я, — и как ему нужно, до зарезу нужно, чтоб на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде, например, того, который представляет затея купца Парамонова?
Иван Тимофеич молчал, но для меня и то было уже выигрышем, что он слушал меня. Его взор, задумчиво на меня устремленный, казалось, говорил: продолжай! Понятно, с какою радостью я последовал этому молчаливому приглашению.
— С другой стороны, — говорил я, — ведь не вам придется платить деньги! Конечно, Балалайкин заломил цену уже со всем несообразную, но я убежден, что в эту минуту он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувствованных слов — и вы увидите, что он сейчас же съедет на десять тысяч, а может быть, и на две! Наверное, он уж теперь позабыл, что сто тысяч слетели у него с языка. Почему он сказал сто тысяч, а не двести, не миллион? — не потому ли, что цифра сто значится в записке о взыскании с мещанина Эзельсона? Я, конечно, этого не утверждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра он принесет к вам записку о взыскании двух рублей и сообразно с этим уменьшит и требование свое до двух тысяч. Но если бы даже он и окончательно остановился, например, на десяти тысячах, то, право, это не много! Ведь поручение-то… ах, какое это поручение! И что вам, наконец? Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
Я говорил долго и убедительно, и Иван Тимофеич был тем более поражен справедливостью моих доводов, что никак не ожидал от меня такой смелой откровенности. Подобно всем сильным мира, он был окружен плотною стеной угодников и льстецов, которые редко позволяли слову истины достигнуть до ушей его.
— Вы правы! — сказал он, наконец, с какою-то особенною искренностью пожимая мне руку, — и хотя мы не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю! Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром!
Я летел домой, не чувствуя ног под собою, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все: и в каком я был ужасном положении, и как на помощь мне вдруг явилось нечто неисповедимое…
— Поверь, что это за благонамеренность нашу! — сказал я в заключение.
— Так-то так, да ты прежде подожди: возьмет ли еще Балалайкин десять-то тысяч?
— Помилуй, душа моя, как ему не взять! ведь он…
Я с жаром принялся доказывать, что нельзя Балалайке десяти тысяч не взять, что, в противном случае, он погибнуть должен, что десяти тысяч на полу не поднимешь и что с десятью тысячами, при настоящем падении курсов на ценные бумаги…* И вдруг в самом разгаре моих доказательств меня словно обожгло.
— Глумов! да ведь Балалайка женат и имеет восемь человек детей! — крикнул я не своим голосом.
IV*
Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина, и на другой же день, при содействии Кшепшицюльского, получили следующую справку:
«Балалайкин (имя и отчество неизвестны), адвокат. Проживает 2-й Адмиралтейской части, в доме бывшем Зондермана, на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала.* Пишет прошения, приносит кассационные и апелляционные жалобы и вообще составляет всякого рода бумаги, а в том числе и не указанные в законах. Как-то: поздравительные стихи для разносчиков афиш и клубных швейцаров, куплеты для театра Егарева*, азбуки и хрестоматии, а также любовные письма (со стихами и без стихов) для лиц, не кончивших курса в средних учебных заведениях. Кроме сего, отыскивает, по поручениям, женихов и невест, следит по газетам за объявлениями о пропавших собаках и принимает меры к отысканию потерянного, занимаетсяустройством предварительных обстановок, необходимых для удовлетворительного разрешения бракоразводных дел, и на сей конец содержит на жалованье от 4-х до 5-ти лжесвидетелей. В пропагандах, прокламациях и вообще ни в чем предосудительном не замечен. Женат и имеет восемь дочерей. Жена никаких постоянных средств к пропитанию себя с семейством (в том числе восьмидесятилетняя старушка-бабушка) не имеет, кроме белошвейного мастерства, доставляющего ничтожный доход. Живет это семейство в величайшей бедности в селе Кузьмине, близ Царского Села, получая от Балалайкина, в виде воспособления, не больше десяти рублей в месяц».
Можно себе представить, как поразила меня эта реляция!
— Воля твоя, — сказал я Глумову, — а я ни под каким видом на «штучке» купца Парамонова не женюсь. И, в крайнем случае, укажу на тебя, как на более достойного.
— Да погоди же голову-то терять, — возразил он мне спокойно, — ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат — в этом, конечно, сомневаться нельзя; но разве ты не чувствуешь, что тут сквозит какая-то тайна, которая, я уверен, в конце концов даст нам возможность выйти с честью из нашего положения.
— Но это — тайна Балалайкина, раскрытие которой даже вовсе не интересует меня. Для меня в этом деле ясно одно: Балалайкин женат!
— Не горячись, сделай милость. Во-первых, пользуясь стесненным положением жены Балалайкина, можно ее уговорить, за приличное вознаграждение, на формальный развод; во-вторых, ежели это не удастся, можно убедить Балалайку жениться и при живой жене. Одним словом, необходимо прежде всего твердо установить цель: во что бы ни стало женить Балалайку на «штучке» купца Парамонова — и затем мужественно идти к осуществлению этой цели.
Волей-неволей, но пришлось согласиться с Глумовым. Немедленно начертали мы план кампании и на другой же день приступили к его выполнению, то есть отправились в Кузьмино. Однако ж и тут полученные на первых порах сведения были такого рода, что никакого практического результата извлечь из них было невозможно. А именно, оказалось:
1) Что Балалайкина жена по уши влюблена в своего мужа и ни о каких предложениях (Глумов двадцать пять рублей давал) относительно устройства приличной «обстановки» в видах расторжения брака — слышать не хочет.
2) Что Балалайкин сохраняет свой брак в большой тайне. Никто в семье не знает, что он адвокат, получающий значительный доход от поздравительных стихов, сочиняемых клубным швейцарам. И жена, и старая бабушка убеждены, что он служит в артели посыльных.
3) Что Балалайкин наезжает в Кузьмино один раз в не делю, по субботам, всегда в полной парадной форме посыльного и непременно на лихаче. Тогда в семье бывает ликованье, потому что Балалайкин привозит дочерям пряников, жене — моченой груши, а старой бабушке — штоф померанцевой водки. Все семейные твердо уверены, что это — гостинцы ворованные.
— Он-то говорит, что купцы дают, — сказала нам старуха-бабушка, — да уж где, чай!
А дочка присовокупила:
— И то сказать, трудно в ихнем сословии без греха прожить! Цельный день по кухням да по лавкам шляются, то видят, другое видят — как тут себя уберечи!
Все это было далеко не поощрительно, однако Глумов и тут надежды не терял.
— И прекрасно, — сказал он, — пускай себе ломается, и без нее обойдемся! Теперь, по крайней мере, путаться не станем, а прямо будем бить на двоеженство!
Словом сказать, опасность заставила нас окончательно позабыть, что нам предстояло только «годить», и по уши по грузила нас в самую гущу благонамеренной действительности. Мы вполне искренно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить все те акты, с которыми сопрягается безопасное плаванье по житейскому морю.
Через несколько дней, часу в двенадцатом утра, мы отправились в Фонарный переулок, и так как дом Зондермана был нам знаком с юных лет, то отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли к двери, на которой была прибита дощечка с надписью: Balalaikine, avocat. Увы! в былое время тут жила Дарья Семеновна Кубарева (в просторечии Кубариха) с шестью молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей.
Дарья Семеновна была вдова учителя латинского языка, который, к несчастью, смешивал герундиум с супинумом* и за это был предан, по распоряжению начальства, суду. А так как он умер, не успев очистить себя от обвинений, то постигшая его невзгода косвенным образом отразилась и на его вдове: ей было отказано в пенсии. Оставшись без всяких средств к существованию, Дарья Семеновна понадеялась было, что ей удастся продать латинскую грамматику, которую издал ее муж и бесчисленные экземпляры которой, в ожидании судебного решения, украшали ее квартиру, но, увы! судьба и тут не оказалась к ней благосклонною. Решение суда не заставило себя долго ждать, но в нем было сказано: «Хотя учителя Кубарева за распространение в юношестве превратных понятий о супинах и герундиях, а равно и за потрясение основ латинской грамматики и следовало бы сослать на жительство в места не столь отдаленные, но так как он, состоя под судом, умре, то суждение о личности его прекратить, а сочиненную им латинскую грамматику сжечь в присутствии латинских учителей обеих столиц». Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась с добрыми людьми — и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц, но, разумеется, без древних языков.
Дарья Семеновна была женщина веселая и хлебосолка, а потому педагогическая часть в ее пансионе была несколько слаба. Учили больше хорошим манерам и светскому обращению. Каждый вечер до поздних петухов стоял в ее квартире, как говорится, дым коромыслом. Играл тапер на стареньких клавикордах; молодые люди танцевали, курили папиросы, угощались пивом, водкой, а изредка и шампанским. По временам случались и драки, но хозяйка обладала на этот счет таким тактом, что подравшиеся при первом намеке на будочника немедленно унимались и посылали за пивом. Только по субботам и накануне больших праздников дверь квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самых близких знакомых. В эти вечера в комнатах зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно говорила:
— Весельем людским живу… а бога помню!
Лет пятнадцать тому назад Дарья Семеновна умерла, от праздновав двадцатипятилетие своей педагогической деятельности, хотя и без древних языков. Скончалась старушка тихо, в большом кресле на колесах, с которого в последнее время не вставала; скончалась под звуки тапера, проводившие ее в иной мир. Я помню: мы беспечно танцевали, в одном углу хлопнула пробка, в другом — раздалась пощечина; смотрим, а ее уж и нет! Говорят, перед смертью она получила дар прозорливства и предсказала, что в квартире ее поселится Балалайкин.
Весьма естественно, что прежде, нежели позвонить, мы остановились перед этою дверью, подавленные целым роем воспоминаний.
— Тут… было? — первый прервал молчание Глумов.
— Да, мой друг… тут!
— Тапера, Ивана Иваныча, помнишь?
— Как живой и теперь стоит передо мной!
— Представь себе! ведь он отец семейства был… Я у него детей крестил, а Кессених кумой была, и, как сейчас помню, он нас в ту пору шмандкухеном* угощал.
— А Стрекозу помнишь?*
— Еще бы! первый мазурист на вечерах у Дарьи Семеновны был! здесь, в этой квартире, и воспитание получил! А теперь, поди-тко, тайный советник, в комиссиях заседает — рукой до него не достать!
— Вообрази: встречаю я его на днях на Невском, и как раз мне Кубариха на память пришла: помните? говорю. А он мне вдруг стихами:
И об Кубарихе ни полслова — вот он нынче как об себе полагает!
— Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь… Только вот мы с тобой…
Я машинально протянул руку и подавил пуговку электрического звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжащий звон, совсем не тот веселый, победный, светлый, который раздавался здесь когда-то. Один из лжесвидетелей, о которых упоминалось в справке, добытой из 2-й Адмиралтейской части, отпер нам дверь и сказал, что нам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами.
Мы вошли в приемную комнату, и сердца наши тоскливо сжались. Да, именно в этой угловой комнате, выходящей окнами и на Фонарный переулок и на Екатериновку, она и скончалась, добрая, незабвенная Кубариха! Вот тут, у этой стены, стояли старые, разбитые клавикорды; вдоль прочих стен расставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной материей; по углам помещались столики и établissements[7], за которыми лилось пиво; посредине — мы танцевали. Картины из прошлого, одна за другой, совершенно живые, так и метались перед моим умственным оком.
— Дарья Семеновна! тут ли вы? — воскликнул я, совсем забывшись под наплывом воспоминаний.
Увы! ни один звук не ответил на мой сердечный вопль. Просторная приемная комната, в которой мы находились, смотрела холодно и безучастно, и убранство ее отличалось строгою простотой, которая совсем не согласовалась с профессией устройства предварительных обстановок по бракоразводным делам. Признаюсь, приличность балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидал увидеть нечто вроде квартиры средней руки кокотки — и вдруг очутился в помещении скромного служителя Фемиды, понимающего, что, чем меньше будет в его квартире драк, тем тверже установится его репутация как серьезного адвоката. Посредине стоял дубовый стол, на котором лежали, для увеселения клиентов, избранные сочинения Белло́ в русском переводе; вдоль трех стен расставлены были стулья из цельного дуба с высокими резными спинками, а четвертая была занята громадным библиотечным шкафом, в котором, впрочем, не было иных книг, кроме «Полного собрания законов Российской империи». Очевидно, что Балалайкин импонировал этою комнатою, хотел поразить ею воображение клиента и в то же время намекнуть, что всякое оскорбление действием будет неуклонно преследуемо на точном основании тех самых законов, которые стоят вот в этом шкафу. Ничего лишнего, мишурного, напоминающего о прелюбодеянии и лжесвидетельстве, не бросалось в глаза, только в углу стоял довольно подержанный полурояль, от которого несколько отдавало Дарьей Семеновной. Рояль этот, как я узнал после, был подарен Балалайкину одним не состоятельным должником в благодарность засодействие к сокрытию имущества, и Балалайкин, в свободное от лжесвидетельств время, подбирал на нем музыку куплетов, сочиняемых им для театра Егарева. Тем не менее этот рояль так обрадовал меня, что я подбежал к нему, и если б не удержал меня Глумов, то, наверное, сыграл бы первую фигуру кадрили на мотив «чижик! чижик! где ты был?», которая в дни моей молодости так часто оглашала эти стены.
Глумов тоже, по-видимому, не ожидал подобной обстановки, но он не был подавлен ею, подобно мне, а скорее как бы не верил своим глазам. Чмокал губами, тянул носом воздух и вообще подыскивался. И наконец отыскал.
— Пахнет! — сказал он мне шепотом.
Я тоже инстинктивно потянул носом воздух.
— Дарья Семеновна… она! Она эти самые духи употребляла, когда поджидала «гостей»!
Я начал припоминать… и вдруг до такой степени вспомнил, что даже краска бросилась мне в лицо.
— Глумов! голубчик! эти духи… да ведь она жива! она здесь! — воскликнул я вне себя от восхищения. — Дарья Семеновна! вы?
И только тогда опомнился, когда Глумов, толкнув меня под локоть, указал глазами на двух клиентов, которые сидели в той же комнате, в ожидании Балалайкина.
По странной игре судьбы, клиенты эти наружным своим видом напоминали именно то самое прошлое, которое так тоскливо заставляло биться мое сердце. Один был человек уже пожилой и имел физиономию благородного отца из дома терпимости. Чувство собственного достоинства несомненно было господствующею чертою его лица, но в то же время представлялось столь же несомненным, что где-то, на этом самом лице, повешена подробная такса (видимая, впрочем, только мысленному оку), объясняющая цифру вознаграждения за каждое наносимое увечье, начиная от самого тяжкого и кончая легкою оплеухой. Мне показалось, что где-то, когда-то я видал этого человека, и, чем более я всматривался в него, тем больше росла во мне уверенность, что видел я его именно в этом самом доме.
Да, это он! — говорил я сам себе, — но кто он? Тот был тщедушный, мизерный, на лице его была написана загнанность, забитость, и фрак у него… ах, какой это был фрак! зеленый, с потертыми локтями, с светлыми пуговицами, очевидно, перешитый из вицмундира, оставшегося после умершего от геморроя титулярного советника! А этот — вон он какой! Сыт, одет, обут — чего еще нужно! И все-таки это — он, несомненно, он, несмотря на то, что смотрит как только сейчас отчеканенный медный пятак!
Другой клиент был совсем юноша, красный, как рак, без всякого признака капиллярной растительности на лице, от чего и казался как бы совершенно обнаженным. Он напомнил мне некоего Жорженьку (ныне статский советник и кавалер), который в былое время хотя и не участвовал в общих увеселениях, происходивших в этой зале, но всегда в определенный час появлялся из внутренних апартаментов и, запыхавшись, с застенчивою торопливостью перебегал через залу, причем воспитанницы кричали ему: Жорженька! Жорженька! хорошо выдержали экзамен?
Через четверть часа ожидания за дверью, ведущею в кабинет Балалайкина, послышался шум, и вслед за тем оттуда вышла, шурша платьем и грузно ступая ногами, старуха, очевидно, восточного происхождения. Осунувшееся лицо ее было до такой степени раскрашено, что издали производило иллюзию маски, чему очень много способствовали большой и крючковатый грузинский нос и два черных глаза, которые стекловидно высматривали из впадин. Эту женщину я тоже где-то и когда-то видел, да и она меня где-то и когда-то видела, но ни мне, ни ей, конечно, и на мысль не пришло разъяснять, при каких обстоятельствах произошло наше знакомство. Поддерживаемая Балалайкиным под руку (он называл ее при этом княгинею, но я мог дать руку на отсечение, что она — сваха от Вознесенского моста*), она медленно направилась к выходной двери, но, проходя мимо шкафа с книгами, остановилась, как бы пораженная его величием.
— Все читал? — спросила она Балалайкина, указывая костлявым пальцем на корешки переплетов.
— Княгиня! — воскликнул он, как бы удивленный, что ему может быть предложен такой вопрос.
— Ну, будь здоров!
Проводивши старуху, Балалайкин прежде всего обратился к нам. Он был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка ловко обрисовывала его формы и отлично оттеняла белизну белья; пробор на голове был сделан так тщательно, что можно было думать, что он причесывается у ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь от вчерашних повреждений, дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента, что бы он ни попросил; штаны сидели почти идеально; но что всего важнее: от каждой части его лица и даже тела разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала. Он напомнил нам, что знаком с нами по Ивану Тимофеичу, и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь отзавтракать с ним.
— Через четверть часа я к вашим услугам, messieurs, a теперь… вы позволите? — прибавил он, указывая на ожидавших клиентов.
— Ну-с, — начал он, подходя к юноше, — письмо наше возымело действие?
— Возымело, господин Балалайкин, только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное.
— Именно?
— Вот и ответ-с.
Балалайкин взял поданное письмо и довольно громко прочитал: «А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать»…
— Гм… да… Ответ, конечно, не совсем благоприятен, хотя, с другой стороны, сердце женщины… Что ж! будем новое письмо сочинять, молодой человек — вот и все!
— Со стихами бы, господин Балалайкин!
— Можно. Из Виктора Гюго, например:
Ладно будет?
— Хорошо-с; но ведь она по-французски не знает.
— Это ничего; вот и вы не знаете, да говорите же «хорошо». Неизвестность, знаете… она на воображение действует! У греков-язычников даже капище особенное было с надписью: «неизвестному богу»…* Потребность, значит, такая в человеке есть! А впрочем, я и по-русски могу:
Хорошо? приходите завтра — будет готово… Цена…
Балалайкин поднял правую руку и показал все пять пальцев.
— Рублей, — присовокупил он строго.
— Нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? — взмолился молодой человек, — ей-богу, мамаша всего десять рублей в месяц дает: тут и на папиросы, тут и на все-с!
— Нельзя, молодой человек! желаете иметь успех у женщин и жалеете пяти рублей… фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша дает мало денег — добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество! Итак, повторяю: завтра будет готово. До свидания… победитель!
Балалайкин, в знак окончания аудиенции, подал юноше два пальца, которые тот принял с благоговением.
— Ну-с, теперь ваша очередь! — обратился он к пожилому клиенту.
— Вот уж пять лет, как жена моя везде ищет удовлетворения, — начал благородный отец и вдруг остановился, как бы выжидая, не нанесет ли ему Балалайкин какого-нибудь оскорбления.
Балалайкин, однако ж, воздержался и только сквозь зубы процедил «гм»…
Но на меня этот голос подействовал потрясающим образом. Я уже не вспоминал больше, я вспомнил. Да, это — он! твердил я себе, он, тот самый, во фраке с умершего титулярного советника! Чтобы проверить мои чувства, я взглянул на Глумова и без труда убедился, что он взволнован не меньше моего.
— Он! — шепнул он, слегка толкнув меня локтем в бок.
— Жена моя содержит гласную кассу ссуд*, — продолжал между тем благородный отец, убедившись, что никто из присутствующих не намерен платить по таксе даже за самую легкую оплеуху, — я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Демидрона», служащей о́рганом политических и литературных мнений Егарева и Малафеева*. К сожалению, наша газета, не будучи изъята из ведомства общей цензуры, в то же время, по специальности, находится в ведении комитета ассенизации столичного города С.-Петербурга. Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений — два раза лишался рассудка; во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета — получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по вольному найму!
Он произнес эту вступительную речь с таким волнением, что под конец голос его пресекся. Грустно понурив голову, высматривал он одним глазком, не чешутся ли у кого из присутствующих руки, дабы немедленно предъявить иск о вознаграждении по таксе. Но мы хотя и сознавали, что теперь самое время для «нанесения», однако так были взволнованы рассказом о свойственных вольнонаемному редактору бедствиях, что отложили выполнение этого подвига до более благоприятного времени.
— Правда, что взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями, а именно: 1) имею бесплатный вход летом в Демидов сад, а на масленице и на святой пользуюсь правом хоть целый день проводить в балаганах Егарева и Малафеева; 2) в семи трактирах, в особенности рекомендуемых нашею газетой вниманию почтеннейшей публики, за несоблюдение в кухнях чистоты и неимение на посуде полуды, я по очереди имею право однажды в неделю (в каждом) воспользоваться двумя рюмками водки и порцией селянки; 3) ежедневно имею возможность даром ночевать в любом из съезжих домов и, наконец, 4) могу беспрепятственно присутствовать в любой из камер мировых судей при судебном разбирательстве. Но предоставляю вам самим, милостивые государи, судить, что значат все эти прерогативы в сравнении с исчисленными сейчас обязанностями?
Он опять поник головой, но все доселе высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать какими-либо напоминаниями о скорейшем приступе к делу.
— Жалованья я получаю двадцать пять рублей в месяц, — продолжал он после краткого отдыха. — Не спорю: жалованье хорошее! но ежели принять во внимание: 1) что, по воспитанию моему, я получил потребности обширные; 2) что съестные припасы с каждым днем делаются дороже и дороже, так что рюмка очищенной стоит ныне десять копеек, вместо прежних пяти, — то и выходит, что о бифштексах да об котлетках мне и в помышлении держать невозможно!
— Позвольте, однако! — не воздержался я, — ведь вы сами сейчас сказали, что имеете право на бесплатное получение ежедневно двух рюмок водки и порции селянки! Мне кажется, что в вашем звании…
— Вам кажется, господин? Но скажите по совести: может ли быть человек сыт и пьян, получая в день одну порцию селянки, составленной из веществ загадочных и трудноваримых, и две рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев?
В голосе его звучала такая горькая искренность, что я не вольно умолкнул.
— По моему воспитанию, мне не только двух рюмок и одной селянки, а двадцати рюмок и десяти селянок — и того не достаточно! Ах, молодой человек! молодой человек! как вы, однако, опрометчивы в ваших суждениях! — говорил между тем благородный отец, строго и наставительно покачивая головой в мою сторону, — и как это вы, милостивый государь, получивши такое образование…
— Возвратимтесь к рассказу, — прервал его Балалайкин, обязательно поспешая мне на выручку против дальнейших репримандов старца, у которого начала уже настолько явственно выступать на лице такса, что я без всяких затруднений прочитал:
«За словесное оскорбление укоризною в недостатке благовоспитанности, а равно и в неимении христианских правил… 20 коп.».
Но благородный отец унялся не сразу.
— К тому же, я сластолюбив, — продолжал он. — Я люблю мармалад, чернослив, изюм, и хотя входил в переговоры с купцом Елисеевым, дабы разрешено было мне бесплатно входить в его магазины и пробовать, но получил решительный отказ; купец же Смуров, вследствие подобных же переговоров, разрешил выдавать мне в день по одному поврежденному яблоку. Стало быть, и этого, по-вашему, милостивый государь, разумению, для меня достаточно? — вдруг обратился он ко мне.
Делать было нечего. Я вынул из кармана двугривенный (по таксе) и положил на стол, откуда он в одно мгновение и исчез в карман старца.
— Благодарю вас, господин. Маловато, но я не притеснителен… Итак, я сластолюбив и потому имею вкус к лакомствам вообще и к девочкам в особенности. Есть у них, знаете…
Старик поперхнулся, и все нутро его вдруг заколыхалось. Мы замерли в ожидании одного из тех пароксизмов восторга, которые иногда овладевают старичками под наитием сладостных представлений, но он ограничился тем, что чихнул. Очевидно, это была единственная форма деятельного отношения к красоте, которая, при его преклонных летах, осталась для него доступною.
— Словом сказать, никак нельзя остеречься, чтобы рубля или двух в неделю не пожертвовать собственно на предметы сластолюбия. Затем, так как жена удерживает у меня пятнадцать рублей в месяц за прокорм и квартиру (и притом даже в таком случае, если б я ни разу не обедал дома), то на так называемые издержки представительства остается никак не больше пяти рублей в месяц. Как вы полагаете, милостивый государь, может ли удовлетвориться этим благородный человек, особливо в виду установившегося обычая, в силу которого все вольнонаемные редакторы раз в месяц устраивают в трактире «Старый Пекин», обед, в ознаменование чудесного избавления от множества угрожавших им в течение месяца опасностей?
— Конечно, нет; но ведь супруга ваша, как содержательница гласной кассы ссуд, могла бы и не требовать с вас платы за содержание? — возразил Балалайкин.
— Что касается до того, куда жена моя употребляет свои средства, — об этом речь впереди. Теперь же скажу, что супружество, в том виде, в каком я оным пользуюсь, налагает на меня лишь очень нелегкие обязанности, а прав не дает. Но этого мало, милостивые государи! Не имея никакого влияния на направление редактируемой мною газеты, я тем не менее ощущаю на себе все невзгоды*, ее постигающие. Так, например, когда, по настоянию г. Малафеева, последовало в нашем издании изъяснение турецкой конституции* и за сие газета вынуждена была потерпеть ущерб, то и я был подвергнут вычету из жалованья в размере пятнадцати копеек в сутки. Можете судить сами, какое нравственное потрясение должна была произвести во мне эта катастрофа, не говоря уже о неоплатном долге в три рубля пятьдесят копеек, в который я с тех пор погряз и о возврате которого жена моя ежедневно настаивает…
Но едва произнес он эти слова, как Глумов, движимый великодушием, вынул из кармана три с полтиной и положил их на стол.
— Благодарю вас, достойный молодой человек! благодарю тем больше, что, имея право за эти деньги поступить со мною по таксе, вы великодушно не воспользовались этим правом! Но возвращаюсь к рассказу. Из всего вышеизложенного вы, конечно, изволили убедиться, милостивые государи, что положение редактора газеты по вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить в ком-либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, в видах воспособления, решаюсь, даже с опасностью жизни, прибегать к некоторым побочным средствам, которые помогают мне иметь приличную редакторскому званию одежду и удовлетворять издержкам представительства. Эти побочные средства — вот они.
Он хлопнул довольно грязной рукой по правой щеке, и — о, чудо! — такса, которую мы до сих пор видели лишь мысленными очами (только однажды я мельком усмотрел один параграф ее), вдруг засветилась, так что мы совершенно явственно прочитали:
За словесное оскорбление укоризною в недостатке благовоспитанности и неимении христианских правил 20 к. То же, с упоминовением о родителях 50» То же, с поднятием руки, но без нанесения 75» За щелчок по носу или мазок по губам 1 р. — Простая оплеуха 1» 50» Оплеуха, ежели при оной получается ощущение перстней 1» 75» За нанесение по лицу удара рукой с раскровенением или рассечением какой-либо части оного (носа, бровей, губ и проч.) 3» —» То же, сапогом 3» 50» За вымазание лица дегтем, салом, тестом и т. п. 4» —» То же, веществами, коих вывоз в дневное время воспрещается 5» —» За окормление припасами, производящими 6» —» За высечение розгами, наедине, до 20-ти ударов и менее 10» —» За каждый удар, сверх 20-ти, по 1» —» То же, при благородных свидетелях 20» —» За каждый удар, сверх 20-ти, по 2» —»» перелом ребра 30» —»» удар по голове с проломом оной 50» —»
Примечание 1-е. Оскорбления кнутом, кошками, поленом или подворотнею не допускаются вовсе.
Примечание 2-е. Равным образом воспрещаются: выколотие глаза, откушение носа, отсечение руки или ноги, отнятие головы и проч. За все таковые повреждения вознаграждение определяется по суду, по произнесении обвинительных и защитительных речей, после чего присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату и выносят обвиняемому оправдательный приговор.
— Кажется, такса не обременительная? — обратился он к нам, когда убедился, что мы имели время обдумать прочитанное.
— Не только не обременительная, — поспешил я успокоить его, — но даже, если можно так выразиться, соблазнительно умеренная. Помилуйте! выполнение по всей таксе стоит всего сто тридцать семь рублей двадцать копеек, а мало ли на свете богатых людей, которым ничего не стоит бросить такие деньги, лишь бы доставить себе удовольствие!
— И бывали такие особы! — сказал он с гордостью, и вслед за тем с горечью присовокупил: — Бывали-с… в то время, когда наш рубль еще пользовался доверием на заграничных рынках!
— Но, вероятно, и такса ваша в то время была соразмерно дешевле?
— В том-то и дело, что нет, милостивый государь! Увы! готовность получать оскорбления с каждым днем все больше и больше увеличивается, а предложение оскорблений, напротив того, в такой же пропорции уменьшается!
— Но, во всяком случае, если вы позволите, я…
И я немедленно укорил его в неимении христианских правил и положил на стол двугривенный.
— Что касается до меня, — присовокупил Глумов, соревнуя мне, — то я нахожу, что в вашей таксе всего поразительнее — это строгая постепенность вознаграждений. А потому, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, как бы я упомянул об них. Причем прилагаю полтинник.
Затем Балалайкин, с своей стороны, замахнулся (но без нанесения) и отсчитал три четвертака. И таким образом, меньше чем в минуту, без всяких беспокойств, добрый старик получил рубль сорок пять копеек серебром и вследствие этого совершенно воспрянул духом.
— Ну-с! смотрите-ка теперь вот эту штучку! — весело сказал он, очевидно, не желая оставаться у нас в долгу за причиненное одолжение.
Он щелкнул себя по левой щеке, и мы с новым изумлением увидели, что и на ней мгновенно начали выступать печатные строки, так что через минуту мы уже могли прочитать следующее курьезное объявление:
«Газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
Давно уже чувствуется в нашей публике потребность в обстоятельных сведениях о происходящих в здешней столице драках, а между тем о́ргана, который удовлетворял бы таковому справедливому во всех отношениях желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими размышлениями. Вознамерившись по полнить этот пробел, мы предприняли наше издание в надежде, что публика оценит наши труды и не пожалеет каких-нибудь трех рублей в год, за которые получит чтение достаточно разнообразное и притом чуждое всяких посягательств на потрясение чего бы то ни было. Мы не исчисляем здесь имен наших сотрудников, но объявляем с понятною гордостью, что большинство наших литературных деятелей обещало нам свое благосклонное содействие, а знаменитый г. Зет* даже обязался исключительно помещать у нас распутные труды свои. Равным образом, мы не задаемся никакими широкими или утопическими задачами, а будем преследовать одну цель: угобжение читателевой утробы. В этих видах газета наша доставит обильное и разнообразное чтение по нижеследующим отделам:
1) Сведения о драках в публичных местах, с подробным изложением всех перипетий от начала до окончательной раз вязки. На места драк будут на счет газеты командируемы талантливейшие из наших репортеров.
2) Литературно-лакейское обозрение всего происходящего в Демидовой саду и в балаганах Егарева и Малафеева. Отделом этим будет заведывать г. Зет.
3) Адресы наилучших кокоток, с краткими их биографиями и с изложением приличествующих сведений. Изложение сие мы, конечно, будем делать с соблюдением требуемой приличиями тайны, но так как контора редакции открыта для желающих ежедневно от 2-х до 4-х часов пополудни, то в ней все необходимые разъяснения могут быть даны за самое умеренное вознаграждение.
4) Прогулка по трактирным заведениям, с изложением цен на кушанья и напитки, указанием на особенно замечательные предметы гастрономии и увековечением имен расторопнейших половых и гарсонов. Само собой разумеется, что особенное внимание будет обращено на те трактиры, содержатели коих обяжутся взносить за сие в редакцию определенное вознаграждение, хотя бы в кухнях их и не было соблюдаемо надлежащей опрятности.
и 5) Разное. Анекдоты, острые слова, афоризмы, куплеты, ложные слухи, употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней и проч.
Сроками выхода мы себя не стесняем, но так как в драках недостатка не бывает, то читатели могут быть уверены, что газета наша будет появляться чаще, нежели нужно.
Редактор по найму: Иван Иванов Очищенный, бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии тапер».
Я не успел еще дочитать объявления до конца, как Глумов уже тискал благородного отца в своих объятиях.
— Иван Иваныч! да ведь это ты! ты! ты! ты! — восклицал он в неописанном восхищении.
V*
Итак, загадка разъяснилась: перед нами стоял бывший Кубарихин тапер, свидетель игр нашей молодости! Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописанное волнение, когда мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое alibi[9] в настоящем случае немыслимо.
— «Чижик, чижик! где ты был?» — помнишь? — допрашивал Глумов.
— Помню! — ответил он, тщетно усиливаясь сообщить твердость дрогнувшему голосу.
— А помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющих веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел! — припомнил и я с своей стороны.
— Помню!
— А помнишь ли…
Словом сказать, припомнили такую массу забавных и вполне культурных шуток, что у старика даже волосы дыбом встали.
— Тогда еще у меня таксы-то этой не было! — сказал он, но на этот раз так благодушно, что не укоризна слышалась в его голосе, а скорее благодарное воспоминание о шалостях, свойственных юношам, получившим образование в высших учебных заведениях.
— Иван Иваныч! как ты вырос! похорошел! — тормошил его Глумов.
— И как отлично одет! — присовокупил я, — точно сбираешься в первый раз показать свою дочь на бале у Кессених!
Но последние слова словно обожгли его. Он грустно взглянул на нас, и крупные слезы полились из его глаз, постепенно подмачивая объявление об издании газеты «Краса Демидрона».
— Друзья! не растравляйте старых, но не заживших еще ран! — обратился он к нам совершенно растроганный, — дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была украшением балов Марцинкевича*, — ее уже нет! И моей милой, беленькой Амалии, которая угощала вас, господин Глумов, шмандкухеном, — и ее уже нет! Всех, всех пережило это бедное, старое сердце… и не разбилось! О, это было хорошее, светлое, счастливое время, несмотря на то, что я тогда носил фрак, перешитый из вицмундира, оставшегося после титулярного советника Поприщина!*
— Но теперь… разве ты несчастлив?
— О, теперь!!! теперь — я только тень того веселого Ивана Иваныча, которого вы когда-то знавали в этой самой квартире! Хотя же, по наружности, я и имею вид благородного отца, но, в сущности, я — тапер более, нежели когда-либо!
— Но отчего же ты помолодел?
— Такова воля провидения, которое невидимо утучняет меня, дабы хотя отчасти вознаградить за претерпеваемые страдания. Ибо, спрашиваю я вас по совести, какое может быть страдание горше этого: жить в постоянном соприкосновении с гласною кассою ссуд и в то же время получать не более двадцати пяти рублей в месяц, уплачивая из них же около двадцати на свое иждивение?
— Послушай, Ваня! да неужели же беленькая, маленькая Мальхен до того переродилась, что сделалась содержательницей гласной кассы ссуд?
— Мальхен — никогда! Мальхен смотрит теперь с небеси — и ничего не видит! А содержательница гласной кассы ссуд — это Матрена Ивановна!
— Так ты, значит, женился в другой раз? Да расскажи же, братец, расскажи!
— Это тяжелая и скорбная история, которую я, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезное угощение. И если вы желаете назначить мне день и час в «Старом Пекине» или в гостинице «Москва», то я — готов!
— Но отчего ж не теперь? — прервал Балалайкин, вдруг проникшийся чувством великодушия, — по счастливой случайности, я сегодня совершенно свободен от хождения, а что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь «Пекин»!
И мы и Очищенный охотно согласились. Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом.
— Рекомендую! — пригласил нас Балалайкин, — вот эта икра презентована мне Вьюшиным за поздравление его с днем ангела, а этот балык прислан прямо из Кокана бывшим мятежным ханом Наср-Эддином за то, что я подыскал ему невесту. Хотите, я прочту вам его рескрипт?
— Ах, сделайте милость!
— Я всегда держу его в кармане как свидетельство, что все поручения исполняются мною без обмана. Вот этот рескрипт!
«Достопочтенному, могущественному и милостивому господину аблакату Балалайке, в Питембурхи.
Свет очей моих, господин аблакат Балалайка!
Докладываю вам, что присланную при письме девицу Людмилу мы в сохранности получили, и все, что, по описи, той девице принадлежит — все оное оказалось исправно. И пишете вы нам, что оная Людмила есть дочь киевского князя Светозара*, а в плакате значится: дочь фейерверкера. И для нас это все единственно, а так только к слову о сем упоминаем, что обманули вы нас. А, впрочем, с тех пор, как мы после поражения наших войск под Махрамом в верное подданство России перешли и под власть капитан-исправника Сидора Кондратьича подведены, в первый раз, по милости оной девицы Людмилы, восчувствовали, что и горесть не без утешения бывает. И за все то ваше одолжение и причиненную нам радость жалуем вам тартун (приношение): один глиняный кувшин воды и балык весом двадцать фунтов. Ах, отменна балык!
Засим, да спасет вас Аллах, а я того желаю.
Бывший мятежный, а ныне верный господина моего Сидора Кондратьича слуга Сеид-Махомед-Наср-Эддин, лже-хан».
— Зачем же он воды-то кувшин прислал? — полюбопытствовал я.
— А у них вода в редкость — вот он и вообразил, что и невесть как мне этим угодит. Хотите, я и кувшин покажу?
— Пожалуйста!
Принесли кувшин, осмотрели. Кувшин как кувшин, только сырой глиной воняет.
— Да, господа, немало-таки было у меня возни с этим ха ном! — сказал Балалайкин, — трех невест в течение двух месяцев ему переслал — и все мало! Теперь четвертую подыскиваю!
— Осмелюсь вам доложить, — предложил Очищенный, — есть у меня на примете девица одна, которая в отъезд согласна… ах, хороша девица!
— Прекрасно-с, будем иметь в виду. Однако, признаюсь вам, и без того отбою мне от этих невест нет. Каждое утро весь Фонарный переулок так и ломится в дверь. Даже молодые люди приходят — право! звонок за звонком.
— Странно, однако ж, что за все эти хлопоты он вас балыком да кувшином воды отблагодарил! — удивился Глумов.
— Que voulez-vous, mon cher![10] Эти ханы… нет в мире существ неблагодарнее их! Впрочем, он мне еще пару шакалов прислал, да черта ли в них! Позабавился несколько дней, поездил на них по Невскому, да и отдал Росту в зоологический сад*. Главное дело, завывают как-то — ну, и кучера искусали. И представьте себе, кроме бифштексов, ничего не едят, канальи! И непременно, чтоб из кухмистерской Завитаева — извольте-ка отсюда на Пески три раза в день посылать!
— Тсс…
— А вот эти кильки… это достопримечательность! Я их сам, собственными руками, прошлым летом ловил. Вы знаете, ведь я, было, в политике попался… как же! да! Ну, и надобно было за границу удирать. Нанял я, знаете, живым манером, чухонца: айда́, мина нуси, сколько, шельма белоглазая, возьмешь Балтийское море переплыть? Взял он с меня тысячу рублей денег да водки ведро, уложил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой — валяй по всем по трем! Только как к острову Готланду стали подъезжать — тогда выпустил. Тут-то я и ловил кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта история — одно недоразумение. Да, господа, испытал я в то время! Как ни хорошо за границей, а все-таки с милой родимой расставаться тяжело! Ехали мы, знаете, мимо Кронштадта — с одной стороны Кронштадт, с другой Свеаборг — а я лежу и думаю: вдруг выпалит? Ведь броненосцев пробивает — а мы… что такое мы?!
— Не выпалил?
— Нет, зазевались. Помилуйте! броненосцев пропускает, а наша лодка… представьте себе, ореховая скорлупа — вот какая у нас была лодка! И вдобавок поминутно открывается течь! А впрочем, я тогда воспользовался, поездил-таки по Европе! В Женеве был — часы купил, а потом проехал в Париж — такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел — пальчики оближете!
При упоминовении о карточках Очищенный сладострастно зачавкал губами.
— Мне бы… — промолвил он, собираясь чихнуть.
— Покажу-с! я вам, господа, всё покажу, все мои коллекции! Такие карточки есть, что даже постичь невозможно — parole d’honneur![11] Позвольте, что там еще такое? ба! кажется, cëмгa? Обращаю ваше внимание на нее, messieurs? Эту самую сёмгу Немирович-Данченко собственными руками изловил*! Мы с ним вместе в Соловках были, пиво-мед пили, по усам текло, в рот не попало — так вот он, на память связывающих нас уз, изловил и прислал! Теперь от нее только хвост остался; но удивительный! Немирович предиковинные анекдоты об этой сёмге рассказывает. Уморительная, говорит, рыба! и умна… совсем как человек! Сидишь этак на берегу моря, разложишь костер, вскипятишь в котелке воду, и кликнешь: иси! Ну, она видит, что ее-то именно и недостает, чтоб вышла уха — сейчас сама, живая, и приплывет! Клянусь! хотите, я вас с Немировичем познакомлю?
— Непременно! Хотим! хотим!
— На днях ваше желание будет выполнено. А вот эти фиги мне Эюб-паша презентовал… Теперь, впрочем, не следовало бы об этом говорить — война!* — ну, да ведь вы меня не выдадите! Да вы попробуйте-ка! аромат-то какой!
— Эюб-то за что́ же вам подарки делает?
— А я тут ему одно сведеньице в дипломатических сферах выведал… так, пустячки!
— Балалайкин! пощадите! ведь вы себя в измене отечеству обличаете! — воскликнули мы в ужасе.
— Ah, mais entendons-nous![12]Я, действительно, сведеньице для него выведал, но он через это самое сведеньице сраженье потерял — помните, в том ущелий, как бишь его?.. Нет, господа! я ведь в этих делах осторожен! А он мне между прочим презент! Однако я его и тогда предупреждал. Ну, куда ты, говорю, лезешь, скажи на милость! ведь если ты проиграешь сражение — тебя турки судить будут, а если выиграешь — образованная Европа судить будет! Подавай-ка лучше в отставку!
— Не послушался?
— Не послушался — и проиграл! А жаль Эюба, до слез жаль! Лихой малый и даже на турку совсем не похож! Я с ним вместе в баню ходил — совсем, как есть, человек! только тело голубое, совершенно как наши жандармы в прежней форме до преобразования!*
Балалайкин на минуту задумался, как бы захлебнувшись. Очевидно, лганье плыло на него с такой быстротой, что он не успевал справиться с массами беспрерывно вырабатывающегося материала.
— Да, господа, много-таки я в своей жизни перипетий испытал! — начал он вновь. — В Березов сослан был, пробовал картошку там акклиматизировать — не выросла! Но зато много и радостей изведал! Например, восход солнца на берегах Ледовитого океана — это что же такое! Представьте себе, в одно и то же время и восходит, и заходит — где это увидите? Оттого там никто и не спит. Зимой спят, а летом тюленей ловят!
— Желал бы я знать, тюленье мясцо — приятно оно на вкус? — полюбопытствовал Очищенный.
— Мылом отдает, а, впрочем, мы с Немировичем ели. Немирович, Латкин и я. Там, батюшка, летом семьдесят три градуса морозу бывает, а зимой — это что ж! Так тут и тюленине будешь рад. Я однажды там нос отморозил; высморкался — смотрю, ан нос в руке!
— Ах, черт побери!
— Да, батюшка. К счастью, я сейчас же нашелся: взял тепленького тюленьего маслица, помазал, приставил — и вот как видите!
Он предложил нам освидетельствовать свой нос: действительно, нельзя было даже заподозрить, чтоб тут когда-нибудь пустое место было.
— Всего я испытал! и на золотых приисках был; такие, я вам скажу, самородки находил, что за один мне разом пять лет каторги сбавили. Теперь он в горном институте, в музее, лежит.
— Гм… да? А скажите, пожалуйста, слыхивал я, что на приисках рабочие это самое золото очень искусно скрывают. Возьмет будто бы иной золотничок или два песочку и так спрячет, что никакими то есть средствами… Правда ли это?
— Не по золотничку, а фунтов по пяти разом прячут — вот я вам как скажу! Я сам… да что тут! вы думаете, состояние-то мы откуда? Обстановка эта и всё?..
— Неужто?
— Все оттуда! там всему начало положено, там-с! Отыскивая для мятежных ханов невест, не много наживешь! Черта с два — наживешь тут! Там всё, и связи мои все там начались! Я теперь у всех золотопромышленников по всем делам поверенным состою: женам шляпки покупаю, мужьям — прически. Сочтите, сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирские? а нельма? — это не в счет! Мне намеднись купец Трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал — хотите, покажу?
— Ах, сделайте ваше одолжение!
— И покажу, если, впрочем, в зоологический сад не отдал. У меня денег пропасть, на сто лет хватит. В прошлом году я в Ниццу ездил — смотрю, на горе у самого въезда замок Одиффре́ стоит. Спрашиваю: что сто́ит? — миллион двести тысяч! Делать нечего, вынул из кармана деньги и отсчитал!
— Ах, господи!
Очищенный не выдержал: встал с кресла и перекрестился.
— Видал я, господин Балалайкин! даже очень часто видал! — сказал он, — но, признаюсь…
— Я в Ницце двадцать лет жил, так все даже удивлялись. Оркестр у меня был, концерты по пятницам…
Балалайкин постепенно вошел в такой экстаз, что пена у него показалась у рта. Тяжело становилось.
— Скажите, Балалайкин, как вам приходится покойный Репетилов? — спросил я, чтобы как-нибудь разредить атмосферу лганья.
— Репетилов? мне? Помилуйте! да он меня от купели воспринимал! Но, кроме того, и еще чем-то приходится. Наш род очень древний! Мы — пронские — Прокопа Ляпунова помните? — ну, так мы все по женской линии от него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы — все!* А Чацкий Александр Андреич — тот на границе с скопинским уездом!
— А знаете ли, Балалайкин, что про вас, пронских, дурная слава идет?
— Это что лгуны-то мы, что ли? Да, нечего сказать, любят-таки мои соотечественники поврать! Представьте себе, на днях какой случай был. Приезжает ко мне один компатриот: знаешь ли, говорит, что твоя родительница опять к Илюшке Соколову в табор сбежала?[13] Натурально, сейчас же телеграмму в триста тридцать слов к Загорецкому: так и так, нельзя ли предотвратить? И что ж! ровно через год получаю ответ: помилуй, сердечный друг! твоя родительница вот уже третий год, как без ног в Пронске на постоялом дворе лежит! Нет, вы мне скажите, зачем он мне солгал? Взбудоражил, заставил горячку пороть? а?
Беседуя таким образом, мы и не заметили, как съели и выпили все, что находилось на подносах. Наконец Глумов первый опомнился.
— А ведь мы сели совсем не с тем, чтобы пронское вранье слушать, — сказал он. — Иван Иваныч! ты, кажется, нам историю своих превращений обещал?
— Я готов!
— Так вот что, Балалайкин! велите-ка вы нам подать тех сигар, которые вам гаванский губернатор за лжесвидетельство прислал, да ликерцу того, который вам подарил Эрбер за написание объявления о распродаже вин и ликеров! — без церемонии распорядился Глумов.
Мы перешли в кабинет Балалайкина, и хотя он умолял нас прежде всего просмотреть приобретенную им в Париже коллекцию фотографических картинок, но мы переломили себя и отложили это благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие «non plus ultra»[14] и имея перед собой рюмки с душистым ликёром des îles[15], мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Демидрона».
— Рассказывай-ка, Иван Иваныч, рассказывай, брат! — молвил Глумов, усаживаясь поудобнее в кресло и зажмуривая глаза.
Очищенный начал.
VI*
«Я — отпрыск старинного дворянского рода, и настоящая, коренная моя фамилия — Гадюк. Очищенными же мы стали зваться недавно, по одному особенному случаю, о котором я упомяну в своем месте.
Насчет происхождения моих предков существуют два сказания: одно, мало достоверное, принадлежит маститому историку из Москвы, другое, еще менее достоверное, сложилось здесь, в Петербурге.
Маститый московский историк* производит наш род из доисторического Новгорода. Был-де новгородский «благонамеренный человек» (а по другим источникам, «вор»), Добромысл Гадюк, который прежде других возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил на вече прочим новгородским обывателям. «С незапамятных времен, — сказал он, — варяги учат нас уму-разуму: жгут города и села, грабят имущества, мужей убивают, жен насилуют, но и за всем тем ни ума, ни разума у нас нет. Как вы, други милые, полагаете, отчего?» Но так как новгородцы, вместо ответа, только почесали в затылках, то Гадюк продолжал: «А я так знаю отчего. Оттого, други милые, что хоть и учат нас варяги уму-разуму, но методы правильной у них нет. Грабят — не чередом, убивают — не ко времени, насилуют — не по закону. Ну, и выходит, что мы ихней науки не понимаем, а они растолковать ее нам не могут или не хотят. Так ли я, братцы, говорю?» Дрогнули сердца новгородцев*, однако поняли вольные вечевые люди, что Гадюк говорит правду, и в один голос воскликнули: «Так!» — «Так вот что я надумал: пошлемте-ка мы к варягам ходоков и велим сказать: господа варяги! чем набегом-то нас разорять, разоряйте вплотную: грабьте имущества, жгите города, насилуйте жен, но только, чтоб делалось у нас все это на предбудущее время… по закону! Так ли я говорю?» Опять дрогнули сердца новгородцев, но так как гадюкова правда была всем видима, то и опять все единогласно воскликнули: «так!» Тогда выступил вперед старейшина Гостомысл и вопросил: «А почему ты, благонамеренный человек Гадюк, полагаешь, что быть ограбленным по закону лучше, нежели без закона?» На что Гадюк ответил кратко: «Как же возможно! по закону или без закона! по закону, всем ведомо — лучше!» И подивились новгородцы гадюковой мудрости и порешили: призвать варягов и предоставить им города жечь, имущества грабить, жен насиловать — по закону!
Сказано — сделано. Прибыли из-за моря три князя: Рюрик — в Новгород, Синеус — в Ладогу, Трувор — в Изборск. Приехали и легли с дороги спать. Только спят они и видят во сне все трое один и тот же ряд картин, прообразующих будущие судьбы их нового отечества. Сначала удельный период — князья жгут; потом татарский период — татары жгут; потом московский период — жгут, в реке топят и в синодики записывают*; потом самозванщина — жгут, кресты целуют, бороды друг у дружки по волоску выщипывают; потом лейб-кампанский период* — жгут, бьют кнутом, отрезывают языки, раздают мужиков и пьют венгерское; потом наказ наместникам «како в благопотребное время на законы наступать надлежит»; потом учреждение губернских правлений «како таковым благопотребным на закон наступаниям приличное в законах же оправдание находить», а, наконец, и появление прокуроров «како без надобности в сети уловлять». Вскочили три брата в смущении великом и не знают, как быть. Думают: а что, коли ежели из-за нас вся эта программа да выполнится? И стали они тосковать. Первый затосковал Синеус в Ладоге — и утопился в озере; второй затосковал Трувор в Изборске — и повесился на вожжах. Рюрик же, как имел ум свободный, сразу принять напрасную смерть не пожелал. Созвал он вече и обратился к нему с следующею речью: «Видел я, господа новгородцы, нановоселье у вас нехороший сон! Будто бы через меня по всей Руси губернские правления пошли, а потом и палаты государственных имуществ… И так меня этот сон расстроил, что уж и не знаю, как с собой благороднее порешить: утопиться или повеситься?» Но новгородцы, видя, что у князя ихнего ум свободный, молчали, а про себя думали: не ровен случай, и с петли сорвется, и из воды сух выйдет — как тут советовать! Гостомысл же произнес: гм! — и тут же испустил дух. Тогда выступил вперед благонамеренный человек Гадюк и за всех ответил: «А по-моему, ваше сиятельство, если вся эта программа и подлинно впоследствии выполнится, так и тут ни топиться, ни вешаться резону нет!» Задумался Рюрик; по нраву пришлись ему гадюковы слова; но, с другой стороны, думается: удельный период, московский период, татарский период… нехорошо! Как бы так устроить, чтобы всю вину на самих новгородцев свалить? «Помилуй, братец, — говорит, — ведь во всех учебниках будет записано: вот какие дела через Рюрика пошли! школяры во всех учебных заведениях будут долбить: обещался-де Рюрик по закону грабить, а вон что вышло!» — «А наплевать! пускай их долбят! — настаивал благонамеренный человек Гадюк, — вы, ваше сиятельство, только бразды покрепче держите, и будьте уверены, что через тысячу лет на этом самом месте…» Тогда Рюрик совсем уже повеселел: «Видел я и это во сне, — прервал он Гадюка, — даже художника Микешина видел*, но, по скромности, о сем умолчал. Так как же, господа новгородцы? По-вашему, стало быть, наплевать?» — «Наплевать!» — повторил Гадюк. И опять подивились новгородцы гадюковой мудрости и в один голос воскликнули: «Так! наплевать!» Рюрик же, натянув бразды, сказал: ин быть по-вашему! и начал действовать — по закону!»
— Так вот каков был мой первый достоверный предок! — заключил Очищенный, оглядывая нас торжествующим взглядом и на минуту прерывая рассказ, дабы удостовериться, какое впечатление произвела нанас его генеалогия.
Впечатление это было разнообразное. Балалайкин — поверил сразу и был так польщен, что у него в гостях находится человек столь несомненно древней высокопоставленности, что, в знак почтительной преданности, распорядился подать шампанского. Глумов, по обыкновению своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, скептически. Но я… я припоминал! Что-то такое было! — говорил я себе. Где-то в прошлом, на школьной скамье… было, именно было!
— Глумов! не помнишь ли? — обратился я к моему другу.
Не успел я произнести эти слова… и вдруг вспомнил! Да, это оно, оно самое! Помилуйте! ведь еще в школе меня и моих товарищей по классу сочинение заставляли писать на тему: «Вещий сон Рюрика»… о, господи!
— Глумов! да неужто же ты не помнишь? еще мы с тобой соперничали: ты утверждал, что вече происходило при солнечном восходе, а я — что при солнечном закате? А «крутые берега Волхова, медленно катившего мутные волны…» помнишь? А «золотой Рюриков шелом, на котором, играя, преломлялись лучи солнца»? Еще Аверкиев*, изображая смерть Гостомысла, написал: «слезы тихо струились по челу его…» — неужто не помнишь?
В виду столь ясных указаний Глумов мгновенно преобразился. Сладко нам было, отрадно. Под влиянием наплыва чувств мы оба вскочили с мест и поцеловались.
— Помню! все помню! И «шелом Рюрика», и «слезы, струившиеся по челу Гостомысла»… помню! помню! помню! — твердил Глумов в восхищении. — Только, брат, вот что: не из Марфы ли это Посадницы было?
— Помилуй, душа моя! именно из «Рюрикова вещего сна»! Мне впоследствии сам маститый историк всю эту проделку рассказывал… он по источникам ее проштудировал! Он, братец, даже с Оффенбахом списывался: нельзя ли, мол, на этот сюжет оперетку сочинить? И если бы смерть не пресекла дней его в самом разгаре подъятых трудов…
— А что ты думаешь! ведь сюжет для оперетки — хоть куда!
— Это, мой друг, такой сюжет! такой сюжет! Если б только растолковать Оффенбаху как следует! Представь себе, например, хор помпадуров, или хор капитан-исправников! или хор судебных следователей по особенно важным делам! Ведь это что такое!
— Отлично — что и говорить! Да, брат, изумительный был человек этот маститый историк: и науку и свистопляску — все понимал!* А историю русскую как знал — даже поверить трудно! Начнет, бывало, рассказывать, как Мстиславы с Ростиславами дрались, — ну, точно сам очевидцем был! И что́ в нем особенно дорого было: ни на чью сторону не норовил! Мне, говорит, все одно: Мстислав ли Ростислава, или Ростислав Мстислава побил, потому что для меня что́ историей заниматься, что́ бирюльки таскать — все единственно!
— Да ведь, в сущности, оно…
Словом сказать, мы бы, наверное, увлеклись воспоминаниями, если б Очищенный не напомнил, что ему предстоит еще многое рассказать. Исполнивши это, он продолжал:*
«Другое сказание насчет происхождения моих предков сложилось на лоне той сыскной исторической школы, которая хотя и имеет своим родоначальником Бартенева из Москвы, но развилась и настоящим образом возмужала здесь, в* Петербурге*. Сказание это гласит кратко: первый Гадюк был выходец из Орды, который, по распоряжению начальства, познал истинного бога, причем восприемниками были: генерал-майор Отчаянный и княжна Вертихвостова. Впрочем, мемуары последней уже предоставлены потомками ее в распоряжение «Русской старины» и, без сомнения, прольют свет на это замечательное происшествие.
Я не буду говорить о том, которое из этих двух сказаний более лестно для моего самолюбия: и то и другое не помешали мне сделаться вольнонаемным редактором «Красы Демидрона». Да и не затем я повел речь о предках, чтобы хвастаться перед вами, — у каждого из вас самих, наверное, сзади, по крайней мере, по Редеде сидит*, а только затем, чтобы наглядно показать, к каким полезным и в то же время неожиданным результатам могут приводить достоверные исследования о родопроисхождении Гадюков.
Затем, относительно позднейших моих предков, и Москва и Петербург во всем между собою согласны. Одним из них выщипывали бороды, другим — рвали ноздри, третьих — били кнутом нещадно. Некоторые, однако ж, уцелели и были жалованы деревнями, где, в свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и били нещадно кнутом. Словом сказать, в моем роде все шло обыкновенным генеалогическим порядком, как и у всех вообще Гадюков, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды»*. Но в первой половине прошлого столетия, в царствование Елисаветы, случилось нечто особенное. Прадед мой, штабс-капитан Прокофий Гадюк, будучи в пьяном виде, изменные речи говорил, а сын его, Артамон, не только о сем не умолчал, но, с представлением ясных отцовой измены доказательств, донес по начальству. Вследствие такового любезно-верного поступка, Прокофий, по наказании кнутом и урезании языка, был сослан в заточение в Березоз, Артамону же было предоставлено: упразднив прежнее прозвище «Гадюк», яко омраченное изменою, впредь именоваться Очищенным. Так вот откуда происходит фамилия Очищенных, а совсем не от водки одного с нею наименования.
Очищенные свили себе гнездо в Лебедянском уезде, интеллигенция которого исстари славилась гостеприимством и наклонностью к игре краплеными картами, чему в особенности содействовали: существование в городе Лебедяни ярмарки и близость Липецких минеральных вод. Натурально, и отец мой не мог противостоять общему настроению умов*. Фортуна благоприятствовала ему. Долгое время наш дом стоял на такой высоте, что даже в таких отдаленных уголках Тамбовской губернии, каковы уезды Елатомский и Шацкий, — и там гордились Очищенными. Тем не менее я должен сознаться, что в 1830 году* мой отец скончался, получив удар подсвечником в висок и прожив предварительно все свое состояние, за исключением тридцати душ, на долю которых и выпала обязанность лелеять мою молодость.
Мне было тогда двадцать лет, и я служил юнкером в Белобородовском гусарском полку…»
Очищенный поник головой и умолк. Мысль, что он в 1830 году остался сиротой, видимо, подавляла его. Слез, правда, не было видно, но в губах замечалось нервное подергивание, как у человека, которому инстинкт подсказывает, что в таких обстоятельствах только рюмка горькой английской может принести облегчение. И действительно, как только желание его было удовлетворено, так тотчас же почтенный старик успокоился и продолжал:*
«Воспитание я получил классическое, но без древних языков. В то время взгляд на классицизм был особенный: всякий, кто обнаруживал вкус к женскому полу и притом знал, что Венера инде называется Афродитою, тем самым уже приобретал право на наименование классика. Все же прочее, более серьезное, как-то: «о ternpora, о mores!», «sapienti sat», «caveant consules»[16] и т. д., которыми так часто ныне украшаются столбцы «Красы Демидрона», — все это я почерпал уже впоследствии из «Московских ведомостей».*
Вслед за отцом последовала в могилу и матушка. Существовать в полку было нечем, и я решился выйти в отставку и поселиться в деревне. Но тридцать душ, даже и в то время, представляли собой только обеспеченный хлеб и квас, а я был настолько избалован классическим воспитанием, что уж не мог управлять своими страстями. Не успел я прожить в именин и пяти лет, как началось* следствие, потом суд, а наконец, последовало и решение, в силу которого я отдан был под опеку и въезд в имение был мне воспрещен. Впрочем, это последнее распоряжение оказалось уж лишним, потому что во время этих передряг имение мое было продано с аукциона за долги.
Как сейчас помню: у меня оставалось в руках только пятьсот рублей ассигнациями. Я вспомнил об отце и поехал в Волхов на ярмарку затем, чтоб пустить мой капитал в оборот. Но, увы! долговременное нахождение под следствием и судом уже подточило мое существование! Мой ум не выказывал изобретательности, а робкое сердце парализировало проворство рук. Деньги мои исчезли, а сам я приведен был моими партнерами в такое состояние, что целых полгода должен был пролежать в городской больнице…
За что́?!
После этого я несколько лет существовал исключительно телесными повреждениями. Не скажу, чтоб я терпел нужду, — потребность повреждать ближнего существовала тогда в больших размерах, и за удовлетворение ее платили хорошие деньги — но постоянного, настоящего все-таки не было. Один только раз улыбнулась мне надежда на что-то оседлое — это когда я был определен на должность учителя танцевания в кадетский корпус, но и тут я должен был сделать подлог, то есть скрыть от начальства свою прошлую судимость. Разумеется, подлог обнаружился…
Вас, конечно, удивит это, господа. В настоящее время, когда разрешено множество вопросов первостепенной важности, вместе с ними решен и вопрос о нравственных качествах танцевальных учителей. Наша свободная печать с полною ясностью доказала, что никакая судимость не может препятствовать исполнению тех специальных обязанностей, которые возлагаются на танцмейстеров и таперов, и с тех пор эта истина вошла в общественное сознание. Но в то время смотрели на это строже, и от танцевальных учителей требовали такой же нравственной безупречности, какой ныне требуют только от содержателей кабаков.
Итак, подлог обнаружился, и я должен был оставить государственную службу навсегда. Не будь этого — кто знает, какая перспектива ожидала меня в будущем! Ломоносов был простой рыбак, а умер статским советником! Но так как судьба не допустила меня до высших должностей, то я решился сделаться тапером. В этом звании я узнал мою Мальхен, я узнал вас, господа, и это одно услаждает горечь моих воспоминаний. Вот в этом самом зале, на том самом месте, где ныне стоит рояль господина Балалайкина…»
— Иван Иваныч! голубчик! сыграй кадриль из «Чижика»! — не утерпел Глумов, — да, смотри, настоящим манером играй… по-тогдашнему!
— С удовольствием, — согласился добрый старик.
Он сел за фортепьяно и дрожащими руками извлек из клавишей забытый, но все еще дорогой мотив «Чижика». Играл он «по-тогдашнему», без претензий на таперную виртуозность, а так, как обыкновенно играют в благородных семейных домах, где собирается много веселой молодежи, то есть: откинувшись корпусом на спинку кресла и склонивши голову немножко набок. Он и «тогда» именно так играл, очевидно, желая показать «гостям», что хотя он тапер, но в то же время и благородный человек. Мы с Глумовым тоже вспомнили старину и немножко потанцевали.
Выполнивши это, он продолжал:
«С Мальхен я познакомился здесь, у Дарьи Семеновны. Она была скромная девушка, беленькая, но не очень красивая, и потому никто не хотел с нею танцевать. Но я видел, что ей очень хочется танцевать, и однажды, когда гости уж разошлись, подошел к ней и сказал: «Мальхен! будемте танцевать вместе!» И она ответила: «Я согласна».
Это было" самое счастливое время моей жизни, потому что у Мальхен оказалось накопленных сто рублей, да, кроме того, Дарья Семеновна подарила ей две серебряные ложки. Нашлись и другие добрые люди: некоторые из гостей — а в этом числе и вы, господин Глумов! — сложились и купили мне готовую пару платья. Мы не роскошествовали, но жили в таком согласии, что через месяц после свадьбы у нас родилась дочь.
Однако ж вскоре случилось событие, которое омрачило наше счастье: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, конечно, помните, господа, какое потрясающее действие произвела эта безвременная утрата на всех «гостей», но для меня она была вдвойне чувствительна. Я разом потерял и друга, и единственную доходную статью. Однако провидение и на этот раз помогло мне.
Во-первых, у Мальхен опять оказалось накопленных сто рублей; во-вторых, репутация моя как тапера установилась уже настолько прочно, что из всех домов Фонарного переулка посыпались на меня приглашения. И в то же время я был почтен от квартала секретным поручением по части внутренней политики.
То было время всеобщей экзальтации, и начальство квартала было сильно озабочено потрясением основ, происшедшим по случаю февральской революции*. Но где же было удобнее наблюдать за настроением умов, как не в танцклассах? И кто же мог быть в этом деле более компетентным судьей, как не тапер?
Я знаю, что ныне таперами пренебрегают, предпочитая им — в делах внутренней политики — лиц инородческого происхождения. Но, по моему мнению, это неправильно. Тапер, прежде всего, довольствуется малым вознаграждением (я, например, получал всего десять рублей в месяц и был предоволен; во-вторых, он не имеет чувства инородческой остервенелости и, в-третьих, он настолько робок, что лишь в крайнем случае решается на выдумку, и, стало быть, не вводит начальство в заблуждение. По крайней мере, я в течение пяти лет заявил лишь о двух пропагандах, да и то потому только, что письмоводитель квартального непременно этого требовал. Напротив того, инородец, получая почти фельдмаршальское содержание, старается показать, что он пользуется оным не даром, и, вследствие этого, ежеминутно угрожает начальству злоумышлениями.
По-моему — это неблагородно!
Повторяю: я не роскошествовал, но был доволен. Но на двенадцатом году моей счастливой супружеской жизни солнце моей жизни вновь омрачилось, и на этот раз — надолго. Сначала бежала Мальхен с шарманщиком, предварительно похитив все мои сбережения, а через год после этого умерла моя дочь. Все рухнуло разом: и привязанности, и надежда на дружескую опору в старости, и сладости любви! Я остался один на один с таперством! Правда, у меня еще оставалось утешение: квартал, по-прежнему, не переставал удостоивать меня своим доверием; но пять лет тому назад и внутренняя политика отошла от меня. Меня нашли недостаточно прозорливым, мало проворным и вообще не отвечающим требованиям времени, и мое место отдали инородцу Кшепшицюльскому…*»
— Кшепшицюльскому! но ведь это наш друг! наш карточный партнер! это, наконец, наш руководитель на стезе благонамеренности! — воскликнули мы с Глумовым в один голос.
— Да, это он, — ответил Очищенный, — и он всегда так поступает. Сначала предложит себя в руководители, потом обыграет по маленькой, и под конец — предаст! Ах, господа, господа! мало вас, должно быть, учили; не знаете вы, как осторожно следует в таких делах поступать!
— Чудак! да чего же нам остерегаться, коли у нас сердца чисты!
— И с чистым сердцем можно иногда неподлежательно возроптать! Доложу вам, однажды при мне в бане такой случай был. Мылся, между прочим, один молодой человек, а тут же, неподалеку, и господин квартальный парился. Ну, в бане, знаете, должностей-то этих не различишь, только молодой-то человек — горячей воды, что ли, недостало — и не воздержись! Так да и перетак; что́, мол, это за государство такое, в котором даже вымыться порядком нельзя! Словом сказать, такую пропаганду пустил, что небу стало жарко! И что же! только что он это самое слово вымолвил, смотрит, ан господин квартальный уж и мундиром оброс! В полном парате, как есть, при шпаге и шляпе: извольте, говорит, милостивый государь, повторить! Так ка́к бы вы думали! года с четыре после этого молодой-то человек по судам колотился, все чистоту свою доказывал.
— Фу-ты!
— Оттого-то я и говорю: не всякому знакомству радоваться надлежит. Особливо нынче. Прежде, когда внутренней политикой таперы заведовали, безопаснее было. Потому тапер — ему что! Ежели ему теперича бутылку пива поставить — он и забыл! А ежели и не забыл, так даже того лучше: сам по душе в разговор вступит. Правду, мол, вы, господин, говорите! и то у нас нехорошо, и другое неладно… словом сказать, скверно! да с начальством-то состязаться нам не приходится! Почему не приходится? — а потому, сударь, что начальство средства имеет, и ежели, например… Ну, словом сказать, тихо да смирно — смотришь, ан он и смягчился! Был заблуждающий, а выпил бутылку-другую — и сам в лоно истинных чувств поступил. И всем приятно: и ему приятно, и начальству, и мне, таперу, хорошо.
— Да ведь и мы, братец, его, Кшепшицюльского-то, который уж месяц поим-кормим, да и в табельку малую толику… Должен же он это понимать!
Но Очищенный только скептически покачал головой в ответ.
— Нет у него в сердце признательности, — сказал он, — нет, нет и нет! И самый лучший, относительно его, образ действий — это с лестницы его спустить.
— А за это, ты думаешь, похвалят?
— Ежели протекцию имеете — ничего. С протекцией, я вам доложу, в 1836 году, один молодой человек в женскую купальню вплыл — и тут сошло с рук! Только извиняться на другой день к дамам ездил.
Так мы и порешили: при первом удобном случае спустить Кшепшицюльского с лестницы и потом извиниться перед ним. Затем Очищенный продолжал:
«Быть может, я навсегда остался бы исключительно тапером, если б судьба не готовила мне новых испытаний. Объявили волю книгопечатанию.* Потребовались вольнонаемные редакторы, а между прочим и содержатель того увеселительного заведения, в котором я имел постоянные вечерние занятия, задумал основать о́рган для защиты интересов любострастия. Узнавши, что я получил классическое воспитание, он, натурально, обратился ко мне. И, к сожалению, я не только принял его предложение, но и связал себя контрактом.
Но этим мои злоключения не ограничились. Вскоре после того на меня обратила внимание Матрена Ивановна. Я знал ее очень давно — она в свое время была соперницей Дарьи Семеновны по педагогической части — знал за женщину почтенную, удалившуюся от дел с хорошим капиталом и с твердым намерением открыть гласную кассу ссуд. И вдруг, эта самая женщина начинает заговаривать… скажите, кто же своему благополучию не рад!
И вот сижу я однажды в «Эльдорадо», в сторонке, пью пиво, а между прочим и материал для предбудущего нумера газеты сбираю — смотрю, присаживается она ко мне. Так и так, говорит, гласную кассу ссуд открыть желаю — одобрите вы меня? — Коли капитал, говорю, имеете, так с богом! — Капитал, говорит, я имею, только вот у мировых придется разговор вести, а я, как женщина, ничего чередом рассказать не могу! — Так для этого вам, сударыня, необходимо мужчину иметь! — Да, говорит, мужчину!
Только всего промеж нас и было. Осмотрела она меня — кажется, довольна осталась; и я ее осмотрел: вижу, хоть и в летах особа, однако важных изъянов нет. Глаз у ней правый вытек — педагогический случай с одним «гостем» вышел — так ведь для меня не глаза нужны! Пришел я домой и думаю: не чаял, не гадал, а какой, можно сказать, оборот!
Обвенчались, приезжаем из церкви домой, и вдруг встречает нас… «молодой человек»! В халате, как был, одна щека выбрита, другая — в мыле; словом сказать, даже прибрать себя, подлец, не захотел!
С тех пор «молодой человек» неотлучно разделяет наше супружеское счастие. Он проводит время в праздности и обнаруживает склонность к галантерейным вещам. Покуда он сидит дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снисходит к закладчикам. Но по временам он пропадает недели на две и на три и непременно уносит при этом енотовую шубу. Тогда Матрена Ивановна выгоняет меня на розыски и не впускает в квартиру до тех пор, пока «молодого человека» не приведут из участка… конечно, без шубы.
Теперь я именно переживаю один из таких тяжелых моментов. Сегодня утром «молодой человек» скрылся и унес уж не одну, а две шубы. И я, вследствие этого, вижу себя на неопределенное время лишенным крова…
Такова правда моей жизни».
VII*
Глумов, который всегда действовал порывами, не воздержался и тут. Не успел Очищенный кончить повесть своей жизни, как он уже восклицал:
— Иван Иваныч! да поселись у нас! Тебе что́ нужно? Щей тарелку? — есть! водки рюмку? — найдется.
— А ежели, по обстоятельствам ваших дел, потребуются для вас лжесвидетели, то вы во всякое время найдете их здесь… и безвозмездно! — с своей стороны свеликодушничал Балалайкин.
— Господа! заключимте четверной союз! — в восторге отозвался и я, едва поспевая следить за общим потоком велико душных порывов.
Как ни крепился добрый старик, но, ввиду столь единодушного выражения симпатий, не удержался и заплакал. Мы взяли друг друга за руки и поклялись неизменно идти рука в руку, поддерживая и укрепляя друг друга на стезе благонамеренности. И клятва наша была столь искрения, что когда последнее слово ее было произнесено, то комната немедленно наполнилась запахом скотопригонного двора.
— Надобно тебе сказать, голубчик Иван Иваныч, — счел долгом объясниться Глумов за себя и за меня, — что нам твоя поддержка в особенности драгоценна. Либералы, братец, мы. Ведрышко на дворе — мы радуемся, дождичек на дворе — мы и в нем милость божию усматриваем. И всякий предмет непременно со всех сторон рассматриваем. И с одной стороны — хорошо, и с другой — превосходно, а ежели при этом принять во внимание, что язык без костей, то лучшего и желать нельзя! Радуемся, надеемся, торжествуем, славословим — и вся не долга. Даже прохожие удивляются: с чего, мол, люди сбесились? Вот, брат, какие грехи! Понял?
Однако Очищенный недоумевал.
— Позвольте вам доложить, — резонно рассудил он, — в чем же тут грех состоит? Радоваться — ведь это, кажется, не воспрещено? И ежели бы, например, в то время, когда я, будучи тапером, занимался внутренней политикой…
— То-то вот и есть, что в то время умеючи радовались: порадуются благородным манером — и перестанут! А ведь мы как радуемся! и день и ночь! и день и ночь! и дома и в гостях, и в трактирах, и словесно и печатно! только и слов: слава богу! дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь квартал!
— А главное, радость наша приняла столь несносный вид, что многие сочли ее за вмешательство, — в свою очередь, пояснил я.
— Понимаю. То самое, значит, что* еще покойный Фаддей Венедиктович выражал: ни одобрений, ни порицаний! Ешь, пей и веселись!*
— Вот оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились скоро. Увидели, что не выгорели наши радости, и, не долго думая, вступили на стезю благонамеренности. Начали гулять, в еду ударились, папироски стали набивать, а рассуждение оставили. Потихоньку да полегоньку — смотрим, польза вышла. В короткое время так себя усовершенствовали, что теперь только сидим да глазами хлопаем. Кажется, на что лучше! а? как ты об этом полагаешь?
— Чего еще требовать! Глазами хлопаете — уж это в самую, значит, центру попали!
— А оказывается, что этого мало, да и сами мы, признаться, уж видим, что мало. Хорошо-то оно хорошо, а загвоздочка все-таки есть. Дикости, видишь ты, в нас еще много; сидим дома, никого не видим, папироски набиваем: разве настоящие благонамеренные люди так делают? Нет, истинно благонамеренный человек глазами хлопает — это само по себе, а вместе с тем и некоторые деятельные черты проявляет… Вот мы подумали-подумали, да и решились одно предприятие к благополучному концу привести, чтобы не только словом и помышлением, но и самим делом заявить…
Глумов вдруг оборвал и, обратившись к Балалайкину, сразу огорошил его вопросом:
— Балалайкин! не лги, а отвечай прямо: ты женат? Балалайкин на минуту потерялся, так что даже солгать не
успел.
— Женат, — ответил он увядшим голосом и в то же время недоумевающе взглянул на Глумова.
— А как ты насчет двоеженства полагаешь? Балалайкин сейчас же опять расцвел.
— Вообще говоря — могу! — воскликнул он весело, но тут же, не теряя присутствия духа, присовокупил: — Но, в частности, это, разумеется, зависит…
— Давай же кончать. В два слова… тысячу рублей? Балалайкин встрепенулся.
— Голубчик! да ведь вы… по парамоновскому делу?
— Да.
— Помилуйте! мне Иван Тимофеич, без всякого разговора, уж три тысячи надавал!
— То была цена, а теперь — другая. В то время охотников мало было, а теперь ими хоть пруд пруди. И всё охотники холостые, беспрепятственные. Только нам непременно хочется, чтоб двоеженство было. На роман похожее.
Балалайкин раза три или четыре прошелся по комнате. Цифра застала его врасплох, и он, очевидно, боролся с самим собою и рассчитывал.
— Меньше двух тысяч — нельзя! — сказал он, наконец, решительно, — помилуйте, господа! тысяча рублей! разве это деньги?
— Да ты пойми, за какое дело тебе их дают! — убеждал его Глумов, — разве труды какие-нибудь от тебя потребуются! Съездишь до свадьбы раза два-три в гости — разве это труд? тебя же напоят-накормят, да еще две-три золотушки за визит дадут — это не в счет! Свадьба, что ли, тебя пугает? так ведь и тут — разве настоящая свадьба будет?*
— А потом-то… вы забываете?
— Что же «потом»?
— А суд?
— Чудак, братец, ты! сам адвокат, а суда боится! Но тут уж и я счел долгом вступиться.
— Балалайкин! — сказал я, — ничего не видя, вы уже заговариваете о суде! Извините меня, но это чисто адвокатская манера. Во-первых, дело может обойтись и без суда, а во-вторых, если б даже и возникло впоследствии какое-нибудь недоразумение, то можно собственно на этот случай выговорить… ну, например, пятьсот рублей.
— Пятьсот! Ни один лжесвидетель не пойдет показывать в суд меньше чем за двести пятьдесят рублей… Это вам я говорю! А, по обстоятельствам дела, их потребуется, по малой мере, два!
— Но ведь это же пятьсот рублей и есть?
— Позвольте… а что же мне… за труды?
— А тысяча рублей, которую вы получите немедленно по совершении обряда!
— Тысяча… тысяча! — а моральное беспокойство! а трата времени! а репутация человека, который за тысячу рублей… Тысяча, смешно, право! ведь мне свои собратья проходу за эту тысячу не дадут!
И Балалайкин опять в волнении зашагал взад и вперед по комнате, беспрестанно и не без горечи повторяя: тысяча! тысяча!
— Да накинь же ему пять сотенных! — шепнул я на ухо Глумову.
Но не успел он последовать моему совету, как дело приняло совершенно неожиданный оборот. На помощь нам явился Очищенный.
— Позвольте — мне! — скромно напомнил он нам об себе, — я за пятьсот…
Эта благотворная диверсия разом решила дело в нашу пользу; Балалайкин сейчас же сдался на капитуляцию, выговорив, впрочем, в свою пользу шестьсот рублей, которые противная сторона обязывалась выдать в том случае, ежели возникнет судебное разбирательство. Затем подали шампанского и условились, что мы с Глумовым будем участвовать в двоеженстве в качестве шаферов, а Очищенный в качестве посаженого отца. Причем последний без труда выпросил, чтоб ему было выдано десять рублей в виде личного вознаграждения и столько же за прокат платья.
Когда все эти подробности были окончательно регламентированы, Глумов предложил на обсуждение следующий вопрос:
— А теперь вот что, господа! Предположим, что предприятие наше будет благополучно доведено до конца… Балалайкин — получит условленную тысячу рублей, — мы — попируем у него на свадьбе и разъедемся по домам. Послужит ли все это, в глазах Ивана Тимофеича, достаточным доказательством, что прежнего либерализма не осталось в нас ни зерна?
Мнения разделились. Очищенный, на основании прежней таперской практики, утверждал, что никаких других доказательств не нужно; напротив того, Балалайкин, как адвокат, настаивал, что, по малой мере, необходимо совершить еще подлог. Что касается до меня, то хотя я и опасался, что одного двоеженства будет недостаточно, но, признаюсь, мысль о подлоге пугала меня.
— Собственно говоря, ведь двоеженство само по себе подлог, — скромно заметил я, — не будет ли, стало быть, уж чересчур однообразно — non bis in idem[17] — ежели мы, совершив один подлог, сейчас же приступим к совершению еще другого, и притом простейшего?
— Теоретически, вы приблизительно правы, — возразил мне Балалайкин, — двоеженство, действительно, есть не что иное, как особый вид подлога; однако ж наше законодательство отличает…
И вдруг меня словно осенило.
— Господа! да о чем же мы говорим! — воскликнул я, — жида! жида окрестить! — вот что нам надобно!
Эта мысль решительно всех привела в умиление, а у Очищенного даже слезы на глазах показались.
— Знаешь ли что! — сказал Глумов, с чувством пожимая мою руку, — эта мысль… зачтется она, брат, тебе!
И немного погодя присовокупил:
— Подлог, однако ж, дело нелишнее: как-никак, а без фальшивых векселей нам на нашей новой стезе не обойтись! Но жид… Это такая мысль! такая мысль! И знаете ли что: мы выберем жида белого, крупного, жирного; такого жида, у которого вместо требухи — всё ассигнации! только одни ассигнации!
— У меня даже сейчас один такой на примете есть! — заявил Очищенный, — и очень даже охотится.
— И мы подвигнем его на дела благотворительности, — продолжал фантазировать Глумов, — фуфайки, например, карпетки, носки…
— Но не забывай, мой друг, и интересов просвещения! — напомнил я.
— Еще бы! Это — на первом плане. Вот, говорят, в Сибири университет учреждают* — непременно надобно, чтоб он хоть одну кафедру на свой счет принял. Какую бы, например?
— Я полагал бы кафедру сравнительной митирогнозии* — для Сибири даже очень прилично! — предложил я.
— Чего лучше! Именно кафедру сравнительной митирогнозии — давно уж потребность-то эта чувствуется. Ну, и еще: чтобы экспедицию какую-нибудь ученую на свой счет снарядил… непременно, непременно! Сколько есть насекомых, гадов различных, которые только того и ждут, чтобы на них пролился свет науки! Помилуйте! нынче даже в вагонах на железных дорогах везде клопы развелись!
— Позвольте вам доложить, — вступился Очищенный, — есть у нас при редакции человек один, с малолетства сочинение «о Полярном клопе» пишет, а публиковать не осмеливается…
— Почему не осмеливается?
— Да наблюдения, говорит, недостаточно точны. Вот если бы ему по России с научною целью поездить, он бы, может, и иностранцев многих затмил.
— Отлично. А как ты полагаешь, приятелю твоему десяти тысяч на экспедицию достаточно будет?
— Помилуйте! да с этакими деньгами он даже к родственникам в Пермскую губернию съездит!
— Пускай едет. Для пользы науки нам чужих денег не жалко. Нет ли еще каких нужд? Проси!
— Осмелюсь… Вот вы изволили сейчас насчет этой науки выразиться… Митирогнозия, значит… Самая эта наука мне знакомая… Так нельзя ли кафедру-то мне предоставить!
— Будем иметь в виду.
Затем Очищенный предъявил еще несколько ходатайств и на все получил от Глумова благоприятный ответ. Наконец, наш ordre du jour[18] исчерпался, и Глумов, закрывая заседание, счел долгом произнести краткое резюме.
— Итак, господа, — сказал он, — все вопросы, подлежавшие нашему обсуждению, благополучно решены. Вот занятия, которые предстоят нам в ближайшем будущем. Во-первых, мы обязываемся женить Балалайкина, при живой жене, на «штучке» купца Парамонова (одобрение на всех скамьях). Во-вторых, мы имеем окрестить жида; в-третьих, как это ни прискорбно, но без подлога нам обойтись нельзя…
Он остановился на минуту и вдруг, как бы под наитием внезапного вдохновения, продолжал:
— Позвольте, господа! уж если подлог необходим, то, мне кажется, самое лучшее — это пустить тысяч на тридцать векселей от имени Матрены Ивановны в пользу нашего общего друга, Ивана Иваныча? Ведь это наш долг, господа! паша нравственная, так сказать, обязанность перед добрым товарищем и союзником… Согласны?
Вместо ответа последовал взрыв рукоплесканий. Очищенный кланялся и благодарил.
— Это даже и для Матрены Ивановны не без пользы будет! — говорил он со слезами на глазах, — потому заставит ее прийти в себя!
— Прекрасно. Стало быть, и еще один пункт решен. Объявляю заседание закрытым.
VIII*
Мы возвращались от Балалайкина уже втроем, и притом в самом радостном расположении духа. Мысль, что ежели подвиг благонамеренности еще не вполне нами совершен, то, во всяком случае, мы находимся на прямом и верном пути к нему, наполняла наши сердца восхищением. «Да, теперь уж нас с этой позиции не вышибешь!» — твердил я себе и улыбался такой широкой, сияющей улыбкой, что стоявший на углу Большой Мещанской будочник, завидев меня, наскоро прислонил алебарду к стене, достал из кармана тавлинку и предложил мне понюхать табачку.
Так шли мы от Фонарного переулка вплоть до Литейной, и на всем пути будочники делали алебардами «на кра-ул!», как бы приветствуя нас: «Здравствуйте, вступившие на истинный путь!» Придя на квартиру, мы сдали Очищенного с рук на руки дворнику и, приказав сводить его в баню, поспешили с радостными вестями к Ивану Тимофеичу.
Дежурный подчасок сказал нам, что Иван Тимофеич занят в «комиссии», которая в эту минуту заседала у него в кабинете. Но так как мы были люди свои, то не только были немедленно приняты, но даже получили приглашение участвовать в трудах.
Комиссия состояла из трех членов: Ивана Тимофеича (он же презус), письмоводителя Прудентова и брантмейстера Молодкина. Предмет ее занятий заключался в разработке нового устава «о благопристойном обывателей в своей жизни поведении», так как прежние по сему предмету «временные правила» оказывались преисполненными всякого рода неясностями и каламбурами, вследствие чего неблагопристойность возрастала не по дням, а по часам.
— Прекрасно сделали, что зашли; я и то уж думал за вами посылать, — приветствовал нас Иван Тимофеич, — вот комиссию на плечи взвалили, презусом назначили… Устав теперича писать нужно, да писатели-то мы, признаться, горевые!
— А можно полюбопытствовать, в чем состоит предмет занятий комиссии?
— Благопристойность вводить хотят. Это конечно… много нынче этого невежества завелось, в особенности на улицах… Одни направо, другие — налево, одни — идут, другие — неведомо зачем на месте стоят… Не сообразишь. Ну, и хотят это урегулировать…
— Чтобы, значит, ежели налево идти — так все бы налево шли, а ежели останавливаться, так всем чтобы разом? — выразил Глумов догадку.
— То, да не то. В сущности-то оно, конечно, так, да как ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой друг, прямо сказать — перед иностранцами нехорошо будет — обстановочку надо придумать. Кругленько эту мысль выразить. Чтобы и ослушник знал, что его по голове не погладят, да и принуждения чтобы заметно не было. Чтобы, значит, без приказов, а так, будто всякий сам от себя благопристойность соблюдает.
— Трудная эта задача. Любопытно, как-то вы справляетесь с нею?
— Да вот вчера «общие положения» набросали, а сегодня и «улицу» прикончили. Написали довольно, только, признаться, не очень-то нравится мне!
— Помилуйте, Иван Тимофеич, чего лучше! — обиделся Прудентов, который, по-видимому, был душою и воротилой в комиссии.
— Порядку, братец, нет. Мысли хорошие, да в разбивку они. Вот я давеча газету читал, так там все чередом сказано: с одной стороны нельзя не сознаться, с другой — надо признаться*, а в то же время не следует упускать из вида… вот это — хорошо!
Иван Тимофеич уныло покачал головой и задумался.
— Да, нет у нас этого… — продолжал он, — пера у нас вольного нет! Уж, кажется, на что знакомый предмет — всю жизнь благопристойностью занимался, а пришлось эту самую благопристойность на бумаге изобразить — шабаш!
— Да вы как к предмету-то приступили? исторический-то обзор, например, сделали? — полюбопытствовал Глумов.
— Какой такой исторический обзор?
— Как же! нельзя без этого. Сперва надобно исторический обзор, какие в древности насчет благопристойного поведения правила были, потом обзор современных иностранных по сему предмету законодательств, потом — свод мнений будочников и подчасков, потом — объяснительная записка, а наконец, уж и «правила» или устав.
— Так вот оно как?
— Непременно. Нынче уж эта мода прошла: присел, да и написал. Нет, нынче на всякую штуку оправдательный документ представь!
— То-то я вижу, как будто не тово… Неведомо будто, с чего мы вдруг эту материю затеяли…
— Позвольте вам доложить, — вступился Прудентов, — что в нашем случае ваша манера едва ли пригодна будет.
— Но почему же?
— Да возьмем хоша «Современные законодательства». Хорошо как они удобные, а коли ежели начальство стеснение в них встретит…
— Голубчик! так ведь об таких законодательствах можно и не упоминать! Просто: нет, мол, в такой-то стране благопристойности — и дело с концом.
— Нельзя-с; как бы потом не вышло чего: за справку-то ведь мы же отвечаем. Да и вообще скажу: вряд ли иностранная благопристойность для нас обязательным примером служить может. Россия, по обширности своей, и сама другим урок преподать может. И преподает-с.
— Ах, да разве я говорю об этом? Но ведь для вида… поймите вы меня: нужно же вид показать!
— А для вида — и совсем нехорошо выйдет. Помилуйте, какой тут может быть вид! На днях у нас обыватель один с теплых вод вернулся, так сказывал: так там чисто живут, так чисто, что плюнуть боишься: совестно! А у нас разве так возможно? У нас, сударь, доложу вам, на этот счет полный простор должен быть дан!
Возник спор, и я должен сказать правду, что Глумов вскоре вынужден был уступить. Прудентов, целым рядом неопровержимых фактов, доказал, что наша благопристойность так близко граничит с неблагопристойностью, что из этого созидается нечто совершенно своеобразное и нам одним свойственное. А кроме того: заграничная благопристойность имеет характер исключительно внешний (не сквернословь! не буйствуй! и т. п.), тогда как наша благопристойность состоит не столько в наружных проявлениях благоповедения, но в том главнейше, чтобы обыватель памятовал, что жизнь сия есть временная и что сам он — скудельный сосуд. Так, например, плевать у нас можно, а «иметь дерзкий вид» — нельзя; митирологией заниматься — можно, а касаться внутренней политики или рассуждать о происхождении миров — нельзя.*
— А ведь он, друзья, правду говорит! — обратился к нам Иван Тимофеич, — точно, что у нас благопристойность своя, особливая…
— А еще и на следующее могу указать, — продолжал победоносный Прудентов, — требуется теперича, чтобы мы, между прочим, и правила благопристойного поведения в собственных квартирах начертали — где, спрошу вас, в каких странах вы соответствующие по сему предмету указания найдете? А у нас — без этого нельзя.
— Правда! — торжественно подтвердил Иван Тимофеич.
— Правда! — откликнулись и мы.
— Иностранец — он наглый! — развивал свою мысль Прудентов, — он забрался к себе в квартиру и думает, что в неприступную крепость засел. А почему, позвольте спросить? — а потому, сударь, что начальство у них против нашего много к службе равнодушнее: само ни во что́ не входит и им повадку дает!
— Правда! — подтвердил Иван Тимофеич.
— Правда! — откликнулись мы.
— Уж так они там набалованы, так набалованы — совсем даже как оглашенные! — присовокупил Иван Тимофеич, — и к нам-то приедут — сколько времени, сколько труда нужно, чтоб их вразумить! Есть у меня в районе француз-перчаточник, только на днях я ему и говорю: «смотри, Альфонс Иваныч, я к тебе с визитом собираюсь!» — «В магазин?» — спрашивает. «Нет, говорю, не в магазин, а туда, в заднюю каморку к тебе хочу взглянуть, ка́к ты там, каково поживаешь, каково прижимаешь… републик и все такое»… Так он, можете себе представить, даже на меня глаза вытаращил: «не может это быть!» — говорит. Вот это какой закоснелый народ!
— И вы… да неужто же вы так и оставили это? — возмутились мы с Глумовым до глубины души.
— Что ж… я?! повертелся-повертелся — вздохнул и пошел в овошенную… там уж свою обязанность выполнил… Ах, друзья, друзья! наше ведь положение… очень даже щекотливое у нас насчет этих иностранцев положение! Разумеется, предостерег-таки я его: «Смотри, говорю, однако, Альфонс Иваныч, мурлыкай свою републик, только ежели, паче чаяния, со двора или с улицы услышу… оборони бог!»
— Что ж он?
— Смеется — что с ним поделаешь!
— Однако ж, какую власть взяли!
— Вольница — одно слово.
— Так вот по этому образцу и извольте судить, каких примеров нам следует ожидать, — вновь повел речь Прудентов, — теперича в нашем районе этого торгующего народа — на каждом шагу, так ежели всякий понятие это будет иметь да глаза таращить станет — как тут поступать? А с нас, между прочим, спрашивают!
— Чтобы нигде, ни-ни… упаси бог!
— Нам нужно, чтоб он, яко обыватель, во всякое время всю свою обстановку предоставил, а он вместо того: «Не может это быть!»
— Правда! — подтвердил Иван Тимофеич.
— Правда! — откликнулись мы.
Точно так же не выгорел и вопрос об исторической благопристойности, хотя Глумов и энергически отстаивал его.
— Позвольте вам доложить, — возразил Прудентов, — зачем нам история? Где, в каких историях мы полезных для себя указаний искать будем? Ежели теперича взять римскую или греческую историю, так у нас ключ от тогдашней благопристойности потерян, и подлинно ли была там благопристойность — ничего мы этого не знаем. Судя же по тому, что в учебниках об тогдашних временах повествуется, так все эти греки да римляне больше безначалием, нежели благопристойностью занимались.*
— А у нас этого нельзя! да-с, нельзя-с! — подтвердил Иван Тимофеич и при этом взглянул на нас так внушительно, что я, признаться, даже попенял на Глумова, зачем он эту материю шевельнул.
— Кто говорит, что можно! — оборонился Глумов, — но ежели древние греческие и римские образцы непригодны, так ведь у нас и своя история была.
— А насчет отечественных исторических образцов могу возразить следующее: большая часть имевшихся по сему предмету документов, в бывшие в разное время пожары, сгорела, а то, что осталось, содержит лишь указания краткие и недостаточные, как, например: одним — выщипывали бороды по волоску, другим ноздри рвали. Судите поэтому сами, какова у нас в древности благопристойность была!
— Голубчик! да ведь не всем же… Ведь мы с вами… происходим же мы от кого-нибудь! В России-то семьдесят миллионов жителей считается, и у всех были отцы… Уцелели же, стало быть, они!
— По снисхождению-с.
Словом сказать, и на исторической почве Прудентов оказался неуязвимым. И что всего досаднее: не только Иван Тимофеич явно склонился на сторону дельца-письмоводителя, но и Молодкин самодовольно и глупо хихикал, радуясь нашему поражению.
Оставалось последнее убежище: устные предания, народная мудрость, пословицы, поговорки. Но и тут Прудентов без труда восторжествовал.
— Насчет народной мудрости можно так сказать, — возразил он, — для черняди она полезна, а для высокопоставленных лиц едва ли руководством служить может. Устное-то предание у нас и доселе одно: сколько влезет! — так ведь это предание и без того куда следует, в качестве материала, занесено. Что же касается до поговорок, то иногда они и совсем в нашем деле не пригодны. Возьмем, для примера, хоть следующее. Народ говорит: по Сеньке — шапка, а по обстоятельствам дела выходит, что эту поговорку наоборот надо понимать.
— Почему же так?
— А потому что потому-с. Начальство — вот в чем причина! Сенек-то много-с, так коли ежели каждый для себя особливой шапки потребует… А у нас на этот счет так принято: для сокращения переписки всем чтобы одна мера была! Вот мы и пригоняем-с. И правильно это, доложу вам, потому что народ — он глуп-с.
— Да еще как глуп-то! — воскликнул Иван Тимофеич, — то есть так глуп, так глуп!
Напоминание о народной глупости внесло веселую илегкую струю в наш разговор. Сначала говорили на эту тему члены комиссии, а потом незаметно разразились и мы, и минут с десять все хором повторяли: ах, как глуп! ах, как глуп! Молодкин же, воспользовавшись сим случаем, рассказал несколько сцен из народного быта, право, ничуть не уступавших тем, которыми утешается публика в Александрийском театре.*
— А вы еще об народной мудрости изволите говорить! — укоризненно заключил Прудентов, обращаясь к Глумову.
— И все-таки извините меня, а я этого понять не могу! — не унимался Глумов, — как же это так? ни истории, ни современных законодательств, ни народных обычаев — так-таки ничего? Стало быть, что вам придет в голову, то вы и пишете?
— Прямо от себя-с. Имеем в виду одно обстоятельство: чтобы для начальства как возможно меньше беспокойства было — к тому и пригоняем.
Теория эта хотя и давно нам была знакома, но на этот раз она была высказана так безыскусственно, прямо и решительно, что мы на минуту умолкли, как бы под влиянием приятной неожиданности.
— Любопытно! — произнес, наконец, Глумов, первый стряхнув с себя гнет очарования.
— А коли любопытно, так не угодно ли с трудами нашими ознакомиться? — предложил Прудентов. — Нам даже очень приятно, что образованные люди прожектами нашими интересуются. Иван Тимофеич! дозволите?
Разумеется, Иван Тимофеич охотно согласился, и Прудентов прочел:
«Ст. 1-я. Всякий обыватель да памятует, что две главнейших цели пред ним к непременному достижению предстоят: в сей жизни — благопристойное во всех местах нахождения поведение, в будущей — вечное блаженство.
Ст. 2-я. Обе сии цели, составляя начало и конец одной и той же, от веков предустановленной и начальством одобренной, цепи, состоят, однако же, в заведовании двух совершенно отличных ведомств. А именно: первая ведается обыкновенными, от гражданского начальства учрежденными властями, вторая же подлежит рассмотрению религии.
Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предмет настоящего устава, по существу своему разделяется на внешнюю и внутреннюю. По месту же нахождения обывателя, на благопристойность, обнаруживаемую: а) на улицах и площадях; б) в публичных местах и в) в собственных обывателей квартирах.
Ст. 4-я. Внешняя благопристойность выражается в действиях и телодвижениях обывателя; внутренняя — создает себе храм в сердце его. А посему, наиболее приличными местами наблюдения за первою признаются: улицы, площади и публичные места; последнюю же всего удобнее наблюдать в собственных квартирах обывателей.
Ст. 5-я. Сии общие начала, взятые в нераздельной их совокупности, составляют краеугольный камень, на котором зиждется все последующее здание благопристойности. А равным образом и изречение: начальству да повинуются, ибо всуе приказания отдавать, ежели оные не исполнять».
— Это — общие начала, — сказал Прудентов, прерывая чтение и самодовольно поглядывая на нас, — имеете сделать какое-либо замечание?
Вместо ответа, мы взяли Прудентова за руку и долго и с чувством жали ее.
— Не только ничего не имеем, — сказал Глумов взволнованным голосом, — но даже… удивительно это, голубчик, как вы в нескольких штрихах все истинные потребности времени обрисовали! Именно, именно так: «собственные квартиры»! — вот где настоящая нить завязки романа гнездится! Само провидение вам, друг мой, внушило эту мысль!
— Итак, будем продолжать-с.
«Ст. 1-я. В отношении благопристойного поведения на улицах и площадях, город разделяется на три района. Первый обнимает собой набережную реки Невы от крайних пределов Английской набережной и оканчивая Литейным Двором; затем, идя по Литейной улице до конца оной, поворотить по Невскому проспекту до Большой Морской, а оттуда идти по Конногвардейскому бульвару и вновь вступить на Английскую набережную. Второй район составляют остальные части города по сю сторону Невы, за исключением Рождественской и Нарвской частей, а равно и Васильевский остров по 14-ю линию включительно. В третий район входят прочие местности, а также Сенная площадь.
Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всех сих районах требуется одинаковая. Что же касается до благопристойности внешней, то, дабы предоставить обывателям возможные по сему предмету облегчения, только в первом районе предписывается благопристойность безусловная; затем во втором районе допускается благопристойность меньшая против первого района; в третьем же районе разрешаются и прямые от внешней благопристойности уклонения.
Ст. 3-я. Все вообще площади, улицы и переулки предоставляются в распоряжение публики; а посему обывателям не возбраняется посещение их, как для прогулок, так и для прочих надобностей, кроме, впрочем, вводящих в соблазн.
Ст. 4-я. Всякий приходящий на улицу или площадь имеет право обращаться на оных свободно, не стесняя себя одною стороною или одним направлением, но переходя, по надобности, и на другую сторону, а равным образом заходя и в ближайшие переулки. Но без надобности, а тем паче с явным намерением затруднить надзор, соваться взад и вперед воспрещается.
Ст. 5-я. Однообразной формы одежды для пребывания на улицах и площадях не полагается. Всякий да будет одет, как сам пожелает и как состоянию его приличествует. Но само собой разумеется, что выражение «одежда» должно быть принимаемо в настоящем его значении, и что никакой игры слов по сему поводу не допускается.
Ст. 6-я. Разрешается, при встрече с знакомыми, остановившись или по желанию и продолжая совместно путь, вступать в приличный разговор. При сем под выражением «приличный разговор» следует разуметь: а) воспоминания о приятно проведенном времени; б) предположения о возможности такого же времяпровождения в ближайшем будущем; в) расспросы о здоровье начальствующих лиц, а равно родных и близких, не опороченных по суду; г) воспоминания о слышанном и виденном на экономических обедах*; д) анекдоты из жизни цензоров Красовского и Бирукова*; е) рассказы из народного быта и ж) вообще всякие легкие изречения, кои не могут подать повода для превратных толкований. Но «критика» безусловно возбраняется.
Ст. 7-я. Поговорив между собою, обыватели, ежели они при этом не сделали другого какого-либо противузаконногопроступка, могут разойтись, и не докончив начатой материи, за что никакому взысканию не подвергаются.
Ст. 8-я. Воровать, грабить и тем паче убивать не дозволяется вовсе. Лица, учинившие таковые поступки, немедленно отводятся в ближайшую будку, оттуда в подлежащий квартал, а затем и в часть.
Ст. 9-я. Тем не менее, ежели кто заметит со стороны проходящего явное покушение на его собственность или жизнь, то не должен о сем заявлять неистовым голосом, а обязывается, ухватив покушающегося за руку, держать крепко, дабы не вырвался.
Ст. 10-я. Ежели бы, паче чаяния, случилось, что потерпевшее лицо, не будучи в состоянии удержать обидчика, выпустит его, то таковой случай надлежит считать неосуществившимся от независящих обстоятельств.
Ст. 11-я. При встречах с знакомыми дамами, предоставляется, отдав учтивый поклон, расспрашивать о здоровье. Буде же встретится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь в молчании, не дозволяя себе никаких аллегорических телодвижений.
Ст. 12-я. Вообще, да ведомо будет всем и каждому, что особа женского пола есть существо слабое и снисхождения заслуживающее. Посему не тот достоин похвалы, кто оную с правого пути на погибельный совратит, а тот, кто и заблудшую в лоно целомудрия водворит.
Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокровенного, никаких правил, в какой силе оный содержать, не полагается. Тем не менее дабы не оставить желающих без надлежащего в сем случае наставления, предписывается будочникам, при проходе мимо них обывателей, делать соответствующие духу времени предостережения.
Ст. 14-я. Но ежели бы в выражении лица обывателя была замечена столь явная злоумышленность, что и сомневаться в оной нельзя, то таковый, без потери времени, приводится в съезжий дом для исследования.
Ст. 15-я. При найме извозчиков, ежели надобность сия возникнет в первом районе — следует безусловно воздерживаться от сквернословия; во втором районе — воздерживаться лишь по мере возможности; в третьем же районе — воздержание или невоздержание оставляется на волю каждого, с тем лишь ограничением, дабы сквернословие прилагалось не по произволу сквернословящего, но по заслугам сквернословимого.
Ст. 16-я. Лица дворянского происхождения да памятуют, что ношение бород им несвойственно, а право ношения усов присвоено лишь лицам военного звания. Равным образом, и о прическе сказать надлежит, что оная не должна быть ни слишком длинною, ни слишком короткою. Лучшая прическа — средняя.
Ст. 17-я. Петь и свистать (но не громогласно) не возбраняется, ибо сие означает удовольствие. Для начальства же ничто столь не приятно, как ежели подчиненные, без унылости и во всем расположась на волю оного, время проводят.
Ст. 18-я. Проходя мимо памятников, надлежит, замедлив шаги, изобразить на лице восторженность. Если же, по причине охлаждения лет или вследствие долговременной и тяжелой болезни, восторженность представляется трудно достижимою, то заменить оную простою задумчивостью. Как восторженность, так и задумчивость будут в сем случае служить доказательством твердого намерения обывателя уподобиться сим героям, дабы впредь проводить время так, как оные при жизни своей проводили, за что́ и удостоены от начальства монументов.
Ст. 19-я. Когда таковых вознамерившихся подражать монументам обывателей наберется достаточно, то всем им составляется подробный список, который и препровождается в особую монументную комиссию. Сия же последняя, при рассмотрении списков, руководится тою мыслию, что, чем более будет воздвигнуто монументов (хотя бы и средних размеров), тем охотнее всякий будет содержать в своем сердце ожидание столь отличной награды и в сем ожидании почерпать повод для добродетельной жизни.
Ст. 20-я. При входе в баню, воспрещается снимать с себя’ одежду прежде, нежели обыватель войдет в притвор.
Ст. 21-я. При встрече с лицами высшими предоставляется выражать вежливое изумление и несомненную готовность претерпеть; при встрече с равными — гостеприимство и желание оказать услугу; при встрече с низшими — снисходительность, но без послабления.
Ст. 22-я. Подавать нищим не возбраняется, но полезно при сем напоминать им, что только тот хлеб сладок, который добывается трудом.
Ст. 23-я. Ибо только то отечество процветает, которое, давая труду исход и направление, в то же время оплодотворяет его соответствующим капиталом, а в случае отсутствия такового — кредитом, с обязанностью взятое своевременно с надлежащими процентами уплатить. Что вполне подтверждается и собеседованиями, производимыми на экономических обедах.
Ст. 24-я. Равным образом и о монетной единице не лишне здесь упомянуть. Тщетно будем мы употреблять выражение «рубль», коль скоро он полтину стоит;* однако ежели начальство находит сие правильным, то желание его надлежит выполнить беспрекословно. Так точно и в прочих человеческих делах.
Ст. 25-я. Все, что в сих правилах не указано, яко невозбраняемое, тем самым уже ставится в разряд возбраненного. В случае же сомнения, лучше всего, не продолжая прогулки, возвратиться домой и там размыслить».
Голос Прудентова смолк.
— Все? — спросил Глумов.
— Покуда — все-с. А там пойдут правила о благопристойном поведении в банях и других публичных местах, и наконец, о благопристойности в собственных квартирах.
— Голубчик! Флегонт Васильич (так звали Прудентова)! позволь мне часика на два твой устав! Я тебе в «общие начала» — чуточку «злой и порочной воли» подпущу!* Нельзя без этого, друг мой! Голо́!
Предложение это было сделано так искренно и, притом, с таким горячим участием, что Прудентов не только не обиделся, но, вместо ответа, простер к Глумову обе руки, вооруженные проектом устава. И мы вдруг, совершенно незаметно, начали с этой минуты говорить друг другу «ты».
— Вот и прекрасно! — продолжал Глумов, — кстати, позволь уж и параграф об улицах просмотреть. Шероховатости местами попадаются; сейчас: «при входе в баню», и тут же следом: «при встрече с лицами высшими» — нехорошо, братец!
— Да, уж поправь! сделай милость, поправь! — присовокупил свою просьбу и Иван Тимофеич, — я ведь и сам… Вижу, что не тово… например: «равным образом, и о монетной единице»… а почему «равным образом», и точно ли «равным образом» — сказать не могу!
— Поправлю! все поправлю! А главное — «злой и порочной воли» подпустить надо! Непременно подпустить. Потому что без этого, понимаешь ты, ведь и в «квартиры» войти неловко! А коли «злая и порочная воля» есть, так везде тебе вход открыт!
Глумов сложил устав вчетверо и бережно положил его в карман. Потом, с свойственным ему любезно-вызывающим видом, взглянул на Ивана Тимофеича и продолжал:
— Иван Тимофеич! а ведь мы… нет, угадай, с чем мы к тебе пришли?
— Водки, что ли, велеть подать? — натурально прежде всего догадался Иван Тимофеич.
— Ан вот и не отгадал! Водка — само собой, а помнишь об парамоновской «штучке» ты нас просил? Ведь Балалайкин-то… со-гла-сил-ся!
— Ну, слава богу!
— И денег, знаешь ли, сколько выпросил?.. ты-ся-чу шестьсот! Совсем! и с будущим судебным разбирательством, ежели таковое возникнет!
— Слава богу! слава богу! вот это… ну, слава богу! Сссла-ва богу! — повторял Иван Тимофеич, захлебываясь и пожимая нам руки, — ну, надо теперь бежать, обрадовать старика надо! А к вечеру и вам весточку дам, что и как… дру-з-з-з-ья!
Мы повеселели окончательно, так что Глумов позволил даже себе пошутить с Молодкиным, обратившись к нему с вопросом:
— Ну, а ты, Афанасий Семеныч! что ты молчишь, при уныл? как будто благопристойность-то эта не совсем тебе по нутру?
На что́ Молодкин очень мило ответил:
— У меня своя часть — пожары-с! А благопристойности этой… признаюсь, я даже совсем не понимаю!
IX*
Придя домой, мы нашли Очищенного уже возвратившимся из бани. Он прохаживался в довольно близком расстоянии от шкапа, в котором хранился графин с водкой, но, к чести нашего друга, мы должны были сознаться, что в отсутствие наше ничего в квартире у нас не пропало.
— Вот, брат, могли ли мы думать, выходя сегодня утром, что все так прекрасно устроится! — сказал мне Глумов. — И с Балалайкиным покончили, и заблудшего друга обрели, а вдо бавок еще и на «Устав» наскочили! Ведь этак, пожалуй, и мы с тобой косвенным образом любезному отечеству в кошель на класть сподобимся!
Слова эти настроили нас на благодушный лад. А так как праздного времени у нас было пропасть, то мы решились посвятить его благопотребно-философическим размышлениям. Наше случайное привлечение к участию в работах комиссии по составлению «Устава благопристойности» представило для таких размышлений обильный и вполне подходящий матерьял. В самом деле, не предопределение ли это? Сто́ит только подпустить в «Устав» с воробьиную погадку «злой и порочной воли» (а это вполне теперь от нас зависит), и доступ в квартиры сделается свободным навсегда! Не то чтобы доступ этот не был свободен и прежде — нет, в этом отношении мы новаторами назваться не можем! — но прежде этот необходимый акт общественной безопасности производился как-то грубо, а потому казался неестественным. Охочий человек молча приходил в квартиру, молча же отмыкал помещения, и на вопрос: чего вы ищете? не мог даже ответить порядком, какая вещь из квартирной обстановки ему приглянулась. Разве такая форма ограждения домашнего очага может быть названа удовлетворительною? Напротив того, теперь, благодаря нашему просвещенному содействию, тот же охочий человек совершит то же самое, но при этом скажет: по слухам, в этой квартире скрывается злая и порочная воля — извольте представить ключи! Кто же позволит себе найти это требование ненатуральным?
— Да, господа, — сказал Глумов, — нередко и малые источники дают начало рекам, оплодотворяющим неизмеримые пространства. Так-то и мы. Пусть эта мысль сопутствует нам в трудах наших, и да даст она нам силу совершить предпринятое не к стыду, но к славе нашего отечества!
Разумеется, я ничего не имел возразить против такого напутствия, а Очищенный даже перекрестился при этом известии и произнес: дай бог счастливо! Вообще этот добрый и опытный старик был до крайности нам полезен при наших философических собеседованиях. Стоя на одной с нами благопотребно-философической высоте, он обладал тем преимуществом, что, благодаря многолетней таперской практике, имел в запасе множество приличествующих случаю фактов, которые поощряли нас к дальнейшей игре ума*.
— К стыду отечества совершить очень легко, — сказал он, — к славе же совершить, напротив того, столь затруднительно, что многие даже из сил выбиваются, и все-таки успеха не достигают. Когда я в Проломновской губернии жил, то был там один начальствующий — так он всегда все к стыду совершал. Даже посторонние дивились; спросят, бывало: зачем это вы, вашество, все к стыду да к стыду? А он: не могу, говорит: рад бы радостью к славе что-нибудь совершить, а выходит к стыду!
— Ах, черт возьми!
— И даже как, я вам доложу! перешел он после того в другое ведомство, думает: хоть там не выйдет ли чего к славе — и хоть ты что хошь!* Так в стыде и отошел в вечность!
— Однако!
— И когда, при отпевании, отец протопоп сказал: «Вот человек, который всю жизнь свою, всеусердно тщась нечто к славе любезнейшего отечества совершить, ничего, кроме действий, клонящихся к несомненному оного стыду, не совершил», то весь народ, все, кто тут были, все так и залились слезами!
— Еще бы! разумеется, жалко!
— И многие из предстоявших начальствующих лиц в то время на ус себе это намотали!
— Намотали-то намотали, да проку от этого мало вышло!
— Это уж само собой. А вот, что вы изволили насчет малых источников сказать, что они нередко начало большим рекам дают, так и это совершенная истина. Источнику, даже самому малому, очень нетрудно хорошей рекой сделаться, только одно условие требуется: понравиться нужно.*
— Отчего же ты сам…
— Удачи мне не было — вот почему. Это ведь, сударь, тоже как кому. Иной, кажется, и не слишком умен, а только взглянет на лицо начальничье, сейчас истинную потребность видит; другой же и долго глядит, а ничего различить не может. Я тоже однажды «понравиться» хотел, ан заместо того совсем для меня другой оборот вышел.
— Бедный ты, бедный!
— Да, сударь. Состоял я в то время под следствием, по делу о злоупотреблении помещичьей власти, и приехал в губернию хлопотать. Туда-сюда, только и говорит мне один человек: дело твое, говорит, даже очень хорошо направить можно, только постарайся ему понравиться. И научил он меня, знаете, на смех: съезди, говорит, к обедне, вынь за здравие просвирку и свези ему: страсть как он это любит! Так я и сделал. Приезжаю это к нему, прошу доложить, а сам просвирку в руке держу. Выходит. Взял мою просвирку, повертел в руках, разломил пополам, потом начетверо… И вдруг: так ты, говорит, боговдухновенную взятку мне хотел всучить… вон!!*
— Не понравился, значит?
— То-то, что я совет-то того человека не в надлежащей силе понял. Просвирки-то он действительно любил, да с начинкою.
— Стало быть, если б ты в ту пору истинную потребность угадал, так, может, и теперь бы течение имел, да выкупными свидетельствами поигрывал.
— Беспременно-с. «Понравиться» — в этом вся наша здешняя жизнь состоит*. Вот, например, с одним моим знакомым какой случай был. Начальник у него был вроде как омраченный. Все дела департаментские на цифры переложил, на всякий предмет свою особую форму ведомства преподал и строго-престрого следил, чтобы ни в одной, значит, графе ни одного пустого места не оставалось. Только однажды подали ему ведомость — он ее и так и этак, и сверху вниз и снизу вверх, и поперек — недостает четь копейки, да и шабаш! Взбунтовал весь департамент, ищут, шарят — нет четь копейки! А он, знакомый-то мой, знал. Пришел это прямо к начальнику пред лицо и говорит: вот она! И точно, стали это, по указанью его, проверять — тут как тут! Сейчас это его в баню сводили, на счет канцелярских остатков вымыли, одели, обули — и первым человеком сделали!
Пример этот навел нас на мысль, что, независимо от уменья «понравиться», в жизни русского человека играет немаловажную роль и волшебство.
— Загляните в любую книжку «Русской старины», «Русского архива» — что найдете вы там, кроме фактов самого поразительного волшебства? — выразил свое мнение Глумов.
— Да что, сударь, в «Русскую старину» заглядывать — и нынче этого волшебства даже очень достаточно, — подтвердил Очищенный*, — так довольно, что иногда человек даже не мыслит ни о чем — ан с ним переворот. На моей еще памяти случай-то этот был, что мылись два человека в бане: один — постарше, а другой — молодой. Только постарше-то который и спрашивает молодого: какие, по твоему мнению, молодой человек, необходимейшие законы, в настоящее время, к изданию потребны? Тот взял да и назвал. И что ж! на другой день за ним — курьер! Посадили раба божьего в тележку, привозят: «извольте, говорит, те самые законы написать, о которых вчера в известном вам месте суждение имели!» Ну, он сел и написал. Да как еще написал-то: в трех строках всю что ни на есть подноготную изобразил! А теперь у него, сударь, тысяча душ в Саратовской губернии, да дом у Харламова моста, да дочь свою он за камер-юнкера отдал… И все через то, что настоящую минуту изобрал, когда в баню идти! Как вы скажете: от себя ему эта мысль пришла или от предопределения?
— Вот кабы и нам… — начал было я, увлеченный перспективами волшебства, но Глумов не дал мне кончить.
— Не желай, — сказал он, — во-первых, только тот человек истинно счастлив, который умеет довольствоваться скромною участью, предоставленною ему провидением, а во-вторых, нелегко, мой друг, из золотарей вышедши, на высотах балансировать! Хорошо, как у тебя настолько характера есть, чтоб не возгордиться и не превознестись, но горе, ежели ты хотя на минуту позабудешь о своем недавнем золотарстве! Волшебство, которое тебя вознесло, — оно же и низвергнет тебя! Иван Иваныч, правду я говорю?*
— Правду, сударь, потому все в мире волшебство от начальства происходит. А начальство, доложу вам, это такой предмет: сегодня он даст, а завтра опять обратно возьмет. Получать-то приятно, а отдавать-то уж и горьконько. Поэтому я так думаю: тот только человек счастливым почесться может, который на пути своем совсем начальства избежать изловчится.
— Чудак! да как же ты его избегнешь, коли оно всегда тут, перед тобой?
— Коли совсем нельзя избегнуть, тогда, конечно, делать нечего: значит, на роду так написано. Но коли мало-мальски возможность есть — избегай! все силы-меры употреби, а избегай!
— Трудно, голубчик, вот что!
— И труда большого нет, ежели политику как следует вести. Придет, например, начальство в департамент — встань и поклонись; к докладу тебя потребует — явись; вопрос предложит — ответь, что нужно, а разговоров не затевай. Вышел из департамента — позабудь. Коли видишь, что начальник по улице встречу идет, — зайди в кондитерскую или на другую сторону перебеги. Коли столкнешься с начальством в жилом помещении — отвернись, скоси глаза…
— Однако, брат, это — наука!
— Вся наша жизнь есть наука, сударь, с тою лишь разницей, что обыкновенные, настоящие науки проникать учат, а жизнь, напротив того, устраняться от проникновения внушает. И только тогда, когда человек вот эту, жизненную-то, науку себе усвоит, только тогда он и может с некоторою уверенностью воскликнуть: да, быть может, и мне господь бог пошлет собственною смертью умереть!
Очищенный на мгновение потупился. Быть может, его осенила в эту минуту мысль, достаточноли он сам жизненную науку проник, чтобы с уверенностью надеяться на «собственную» смерть? Однако так как печальные мысли вообще не задерживались долго у него в голове, то немного погодя он встряхнулся и продолжал:
— Даже в любви к начальству — и тут от неумеренных выражений воздерживаться надлежит. Вот как жизненная-то наука нам приказывает!
— Пример, голубчик! пример!
— Расскажу я вам, сударь, повесть об одном статском советнике, который любовью своей двух начальников в гроб вколотил, а от третьего и сам, наконец, возмездие принял. Жил-был статский советник, и так он своего начальника возлюбил, что даже мнил его бессмертным. Куда, бывало, ни пойдет начальник — всюду статский советник на цыпочках за ним следует; куда, бывало, ни взглянет начальник — на всяком месте статский советник против него очутится: сидит, скрестивши на груди руки, и на него глядит. Ну, поначалу генералу эта преданность нравилась, однако с течением времени стал он мало-помалу задумываться: что́, мол, такое это значит? и нет ли тут покушения какого-нибудь? Потому что ведь с этими статскими советниками — беда! как раз приворотного зелья подсыплет — только и видели! И начал он его от этой любви отучать. Всячески отучал: и наградами обходил, и на цепь сажал, и даже под суд однажды отдал. Неймется, да и шабаш! Чем больше наказывают, тем шибче да шибче в статском советнике сердце разгорается. И вдруг, от этой ли причины или от чего другого, только начал начальник хиреть. Хирел-хирел, да и помер. Возроптал тогда статский советник, не токмо департамент, но и сторожевскую стонами огласил. «Когда-то еще, говорит, нам нового начальника дадут, а до тех пор кто с нами по всей строгости поступать будет!» Однако послал бог ему милость: не успел он глаза просушить, как уж назначили им нового начальника. Прибыл в департамент новый генерал и как был насчет статского советника предупрежден, то призвал его пред лицо свое и сказал: предместник мой дал тебе раны, аз же дам ти скорпионы.* Что же, однако, вы думаете! даже и этим статский советник не унялся. Скорпионы так скорпионы! сказал он в сердце своем и возлюбил нового начальника пуще, нежели прежнего. И доконал-таки его! Пришел однажды скорпионщик в департамент да на любовь статского советника такое вдруг встречу слово пустил, что тут же им и подавился. И опять возроптал статский советник; идет это за гробом и прямо народ бунтует. «Вот, говорит, велят на провидение надеяться, а где оно?» Увидели тогда, что дело-то выходит серьезное, и без потери времени прислали в тот департамент третьего начальника. Прибыл он к месту служения, свежий да светлый — весь словно новый медный пятак горит! Призвал это статского советника пред лицо свое и повел к нему такую речь: один мой предместник дал тебе раны, другой — скорпионы, аз же, дабы строптивый твой нрав навсегда упразднить, истолку тебя в ступе! И истолок-с.
— Браво! — как-то невольно сорвалось у нас. Но, разумеется, мы сейчас же поняли, что восклицание это неуместно и даже жестоко.
— Слушай, друг! — поспешил поправиться Глумов, — ведь это такой сюжет, что из него целый роман выкроить можно. Я и заглавие придумал: «Плоды подчиненного распутства, или Смерть двух начальников и вызванное оною мероприятие со стороны третьего». Написать да фельётонцем в «Красе Демидрона» и пустить… а? как ты думаешь, хозяева твои примут?
— Помилуйте! с удовольствием-с!
— А я так, напротив, полагаю, что сюжет этот не романом, а трагедией пахнет, — возразил я. — Помилуйте! с одной стороны такая сила беззаветной любви, а с другой — раны, скорпионы и, наконец, толкач! Ведь его чинами обходили, на цепь сажали, под суд отдали, а он все продолжал любить. Это ли не трагедия?
Завязался эстетический спор. Глумов, главнейшим образом, основывал свое мнение на том, что роман можно изо всего сделать, даже если и нет у автора данных для действительного содержания. Возьми четыре-пять главных действующих лиц (статский советник, два убиенные начальника, один начальник карающий и экзекутор, он же и казначей), прибавь к ним, в качестве второстепенных лиц, несколько канцелярских чиновников, курьеров и сторожей, для любовного элемента введи парочку просительниц, скомпонуй ряд любовных сцен (между статским советником и начальством, с одной стороны, и начальством и просительницами — с другой), присовокупи несколько упражнений в описательном роде, смочи все это психологическим анализом, поставь в вольный дух и жди, покуда не зарумянится. Напротив того, трагедия никаких околичностей не терпит, а прямо требует дела. Чтоб и начало, и середина, и конец — все чтобы налицо было, а не то чтобы так: где надоело, там и бросил.
— Ну, какую ты, например, трагедию из этого статского советника выжмешь? — пояснил он свою мысль, — любовь его — однообразная, почти беспричинная, следовательно, никаких данных ни для драматической экспозиции, ни для дальнейшей разработки не представляет; прекращается она — тоже как-то чересчур уж просто и нелепо: толкачом! Ведь из этого матерьяла, хоть тресни, больше одного акта не выкроишь!
— Но ведь вся наша жизнь, мой друг, такова! — постарался я возразить, — неужто ж, по-твоему, из всей нашей жизни ничего путного сделать нельзя?
— И жизнь у нас — одноактная. Экспозиции у нас и само по себе не существует, да к тому же и начальство в оба смотрит! Чуть что́ затеялось — сейчас распоряжение, и «занавес опускается».
— Глумов! да ты вспомни только! Идет человек по улице, и вдруг — фюить!* Ужели это не трагедия?
— Я и не говорю, что это не трагедия, да представлять-то нечего. Явление первое и последнее — и шабаш.
— Это так точно, — согласился с Глумовым и Очищенный, — хотя у нас трагедий и довольно бывает, но так как они, по большей части, скоропостижный характер имеют, оттого и на акты делить их затруднительно. А притом позвольте еще доложить: как мы, можно сказать, с малолетства промежду скоропостижных трагедиев ходим, то со временем та́к привыкаем к ним, что хоть и видим трагедию, а в мыслях думаем, что это просто «такая жизнь».
Замечание это вывело на сцену новую тему: «привычка к трагедиям». Какого рода влияние оказывает на жизнь «привычка к трагедиям»? Облегчает ли она жизненный процесс, или же, напротив того, сообщает ему новую трагическую окраску, и притом еще более горькую и удручающую? Я был на стороне последнего мнения, но Глумов и Очищенный, напротив, утверждали, что только тому и живется легко, кто до того принюхался к трагическим запахам, что ничего уж и различить не может.
— Да ведь это именно настоящая трагедия и есть! — горячился я, — подумайте! разве не ужасно видеть эти легионы людей, которые всю жизнь ходят «промежду трагедиев» — и даже не понимают этого1 Воля ваша, а это такая трагедия — и притом не в одном, а в бесчисленном множестве актов, — об которой даже помыслить без содрогания трудно!
— То-то, что по нашему месту не мыслить надобно, а почаще вспоминать, что выше лба уши не растут! — возразил Очищенный, — тогда и жизнь своим чередом пойдет, и даже сами не заметите, как время постепенно пролетит!
— Правильно! — поддержал его Глумов.
— Знал я, сударь, одного человека, так он, покуда не понимал — благоденствовал; а понял — удавился!
— Верно! А знаешь ли, Иван Иваныч, ведь ты — преумный! Только вот словно протух немного…
Очищенный приосанился.
— Или вот хоть бы про запой, — продолжал он, — вы думаете, отчего он бывает? Конечно, и тут неглижеровка ролю играет, однако ж который человек «не понимает» — тот не запьет.
— А вы когда-нибудь запивали, Иван Иваныч? — полюбопытствовал я.
— Было время — ужасти как тосковал! Ну, а теперь бог хранит. Постепенно я во всякоевремя выпить могу, но чтобы так: три недели не пить, а неделю чертить — этого нет! Живу я смирно, вникать не желаю; что и вижу, так стараюсь не видеть — оттого и скриплю. Помилуйте! при моих обстоятельствах, да ежели бы еще вникать — разве я был бы жив! А я себя так обшлифовал, что хоть на куски меня режь, мне и горюшка мало!
Это было высказано с такою беззаветною искренностью, что Глумов не выдержал и поцеловал старика в лоб.
— Ни гордости, ни притязательности во мне нет, а от кляуз да сутяжничества я и подавно убегаю, — продолжал Очищенный, очевидно, поощренный лаской Глумова. — Ежели оскорбление мне нанесут — от вознаграждения не откажусь, а в суд не пойду. Оттого все меня и любят. И у Дарьи Семеновны любили, и у Марцинкевича любили. Даже теперь: приду в квартал — сейчас дежурный помощник табаком потчует!
— Вот и нас тоже… — машинально произнес я.
— И вас тоже. Покуда вы вникали — никто вас не любил, а перестали вникать — все к вам с доверием! Вот хоть бы, например, устав о благопристойности…
— Гм… да, устав! — как-то загадочно пробормотал Глумов.
Я взглянул на моего друга и, к великому огорчению, заметил в нем большую перемену. Он, который еще так недавно принимал живое участие в наших благонамеренных прениях, в настоящую минуту казался утомленным, почти раздраженным. Мало того: он угрюмо ходил взад и вперед по комнате, что́, по моему наблюдению, означало, что его начинает мутить от разговоров. Но Очищенный ничего этого не замечал и продолжал:
— И вообще скажу: чем более мы стараемся проникать, тем больше получаем щелчков. Ум-то, знаете, у нас выспрь бежит, а оттуда ему — щелк да щелк! И резонно. Не чета нам люди бывают, да и те ежели по сторонам засматриваются, так в канаву попадают. По-моему, та́к: сыт, обут, одет — ну, и молчи. Коли ты ведешь себя благородно — и с тобой всякий благородно. Коли ты никого не трогаешь — и тебя никто не тронет; коли ты ко всем с удовольствием — и к тебе все с удовольствием. Полегоньку да потихоньку — ан жизнь-то и прошла! Так ли я, сударь, говорю?
— Пррравильно! — воскликнул Глумов, очевидно, уже ожесточаясь.
— Покойная Дарья Семеновна говаривала: жизнь наша здешняя подобна селянке, которую в Малоярославском трактире подают. Коли ешь ее с маху, ложка за ложкой, — ничего, словно как и еда; а коли начнешь ворошить да разглядывать — стошнит!
— Пррравильно! — вновь воскликнул Глумов и при этом остановился прямо против Очищенного, выпучил глаза и зубы стиснул. Однако Очищенный и тут не понял.
— Был у меня, доложу вам, знакомый действительный статский советник, который к Дарье Семеновне по утрам хаживал, так он мне рассказывал, почему он именно утром, а не вечером ходит. Утром, говорит, я встал, умылся…
— Воняет! шабаш! — вдруг крикнул Глумов, но на этот раз уже таким громовым голосом, что Очищенный инстинктивно вытянул вперед шею, как бы готовясь к принятию удара.
X*
К чести Глумова должно сказать, что он, по первому моему слову, не только протянул руку Очищенному, но даже извинился, что не может сейчас же уплатить, что следует по таксе о вознаграждении за оскорбление словом, потому что мелких денег нет.
— Все равно-с, после разом за все отдадите! — отозвался добродушный старик, которому, по-видимому, было даже приятнее получить сразу более или менее крупный куш, нежели в несколько приемов по двугривенному.
Таким образом, мир был заключен, и мы в самом приятном расположении духа сели за обед. Но что́ еще приятнее: несмотря на обильный завтрак у Балалайкина, Очищенный ел и пил совершенно так, как будто все происходившее утром было не более как приятный сон. Каждое кушанье он смаковал и по поводу каждого подавал драгоценные советы, перемешивая их с размышлениями и афоризмами из области высшей морали.
— Провизию надо покупать умеючи, — говорил он, — как во всяком деле вообще необходимо с твердыми познаниями приступать, так и тут. Знающий — выигрывает, а незнающий — проигрывает. Вот, например, ветчину, языки и вообще копченье надо в Мучном переулке приобретать; рыбу — на Мытном; живность, коли у кого времени достаточно есть, — на заставах у мужичков подстерегать. Многие у мужичков даже задаром отнимают, но я этого не одобряю.
— Не одобряешь?
— Нет, не одобряю, потому что такого закона нет. А на тот предмет, чтобы без ущерба для ближнего экономию всякий всвоей жизни наблюдал, — такой закон есть. А затем я вам и еще доложу: даже иностранное вино, ежели оно ворованное, очень недорого купить можно.
— Ах, голубчик! нельзя ли нам бутылочек с пяток на пробу предоставить?
— С удовольствием. Вино, позвольте вам сказать, и краденое покупать не грех, потому что оно от избытка. В котором доме избыток — служитель отложит, что́ против препорции, к сторонке и продаст. Многие даже мясо потаенное покупают…
— Неужто и мясо?
— Очень даже легко-с. Стоит только с поварами знакомство свесть — и мясо, и дичь, все будет. Вообще, коли кто с умом живет, тот и в Петербурге может на свои средства обернуться.
— Пример можешь представить?
— Могу-с. Знал я одного отставного ротмистра, который, от рожденья, самое среднее состояние имел, а между тем каждонедельно банкеты задавал и, между прочим, даже одного румынского полководца у себя за столом принимал. А отчего? — оттого, сударь, что с клубными поварами был знаком! В клубе-то по субботам обед, ну, остатки, то да се, ночью все это к ротмистру сволокут, а назавтра у него полководец пищу принимает.
— Да ты и клубского-то повара не знаешь ли?
— Помилуйте, даже очень близко. Вы только спросите, кого я не знаю… всех знаю! Мне каждый торговец, против обыкновенного покупателя, двадцать — тридцать процентов уступит — вот я вам как доложу! Пришел я сейчас в лавку, спросил фунт икры — мне фунт с четвертью отвешивают! спросил фунт миндалю — мне изюму четверку на придачу завертывают! В трактир пришел, спросил три рюмки водки — мне четвертую наливают. За три плачу, четвертая — в знак уважения!
— Послушай! да ведь это волшебство!
Но Очищенный не слышал восклицания. Представление о закусках, по-видимому, ожесточало его, потому что на губах у него показалась пена и глаза слегка помутились.
— Или, опять, приду я, примерно, к Доминику, — продолжал он, — народу пропасть, ходят, бродят, один вошел, другой вышел; служители тоже в разброде — кому тут за тобой уследить! Съешь три куска кулебяки, а говоришь: один!
— И всегда это тебе сходило с рук?
— Однажды только недоразумение вышло. Ну, с месяц после того не ходил, а потом поправился — и опять стал ходить!
— Слушай-ка! да ты не служил ли в Взаимном Кредите, что коммерческие-то операции так хорошо знаешь?*
— Служить не служил, а издали точно что присматривался. Только там, знаете, колесо большое, а у меня — маленькое. А кабы у меня побольше колесцо…*
Очищенный на минуту задумался, не то ропща на провидение, не то соображая, что́ бы вышло, если б ему выпало на долю большое колесо.*
— Помилуйте! — сказал он, наконец, — кругом, можно сказать, тетерева сидят — как тут пользы не получить! Вот хоть бы господин Юханцев…*
— Да, но ведь и по владимирке-то с бубновым тузом тоже не лестно понтировать!
— Зато он программу свою в совершенстве выполнил. А тузы, я вам доложу, все одинаковы. По мне, хоть все четыре разом наклей, да только удовольствие мне предоставь!*
Словом сказать, постепенно обмениваясь мыслями, мы очень приятно пообедали. После обеда вздумали было в табельку сыграть, но почтенный старик отказался наотрез.
— В молодости я тоже был охотник поиграть, — сказал он, — да однажды мне в Лебедяни ребро за игру переломили, так я с тех пор и дал обещание не прикасаться к этим проклятым картам. И что такое со мною в ту пору они сделали — так это даже рассказать словами нельзя! В больнице два месяца при смерти вылежал!
Отказ этот был, впрочем, очень кстати, потому что мы вспомнили, что нам предстоит еще поработать над уставом о благопристойности.*
Прежде всего, нам необходимо было уяснить себе цель, к которой должны клониться наши труды. Не имея под руками ни исторического обзора благопристойности, ни обозрения современных законодательств по этому предмету, ни даже свода мнений будочников, мы поняли, что нам остается один ресурс — это выдумать какую-нибудь «идею», которая остерегла бы нас от разбросанности и дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое единство. Устав, проектированный Прудентовым, довольно прозрачно указывал на существование такой «идеи». Он говорил: «внутреннюю же благопристойность всего удобнее наблюдать в собственных квартирах обывателей». Итак, под знаменем внутренней благопристойности вход в квартиры — вот цель,* к которой надлежало стремиться.
— Имея в виду эту цель, — формулировал общую мысль Глумов, — я прежде всего полагал бы: статью четвертую «Общих начал» изложить в несколько измененном виде, приблизительно так: «Внешняя благопристойность выражается в действиях и телодвижениях обывателя; внутренняя — созидает себе храм в сердце его, где, наряду с нею, свивает себе гнездо и внутренняя неблагопристойность, то есть злая и порочная человеческая воля. На сем основании наиболее приличными местами для наблюдения за первою признаются: улицы, площади и публичные места; последнюю же всего удобнее наблюдать в собственных квартирах обывателей, так как в них злая и порочная воля преимущественно находит себе убежище или в виде простого попустительства, или же, чаще всего, в виде прямого пособничества». Согласны?
— Согласны! — ответили мы в один голос.
— Ну, а теперь нужно ответить на вопрос: что́ такое вход в квартиру? Иван Иваныч! сказывай свое мнение!
— По-моему, вход в квартиру — это означает вступление в оную…
— А вступление в квартиру означает вход в оную? Ах, голова! голова! разве законы так пишут? Это, братец, не водевиль, где допускаются каламбуры, в роде: «начальник отделения — отдельная статья!» Это — устав! Ты ка́к? — обратился Глумов ко мне.
— По моему мнению, вход в квартиру есть такое действие, которое, будучи вызвано всегда присущею о нравственном положении обывателей благопопечительностью, требует необходимых, для достижения его, осмотров и исследований.
— И отмычек-с! — скромно присовокупил Очищенный.
— И отмычек — именно так! прекрасно! даже в университете с кафедры лучше не сказать. Одно бы я прибавил: «Сии последние (то есть отмычки) затем преимущественно потребны, дабы злую и порочную волю в последних ее убежищах без труда обретать». Позволите?
— Голубчик! да разве с нашей стороны бывало когда-нибудь препятствие?
— Итак, определение найдено. Теперь необходимо только таким образом этот вход обставить, чтобы никто ничего ненатурального в нем не мог найти. И знаете ли, об чем я мечтаю? нельзя ли нам, друзья, так наше дело устроить, чтобы обывателю даже приятно было? Чтобы он, так сказать, всем сердцем? чтобы для него это посещение…
Глумов затруднился; Очищенный подсказал:
— Все равно, что́ гость пришел…
— Вот-вот-вот! Да и гость-то чтоб дорогой, желанный. Жених.
— Но ежели действие происходит ночью? — рискнул я возразить.
— Так что ж что́ ночью! Проснется, докажет свою благопристойность — и опять уснет! Да еще как уснет-то! слаще прежнего в тысячу раз!
— Именно, сударь, так! — подтвердил и Очищенный, — меня, когда я под следствием по делу об убийстве Зона* прикосновенным был, не раз этак буживали. Встанешь, бывало, сейчас это водки, закуски на стол поставишь, покажешь свою совесть — и опять заснул! Однажды даже меня в острог после этого повели — я и там крепко-прекрепко заснул!
— Так ты и в остроге был?
— Вы меня только спросите, сударь, где я не бывал!
— Вот, видишь, как оно легко, коли внутренняя-то благопристойность у человека в исправности! А ежели в тебе этого нет — значит, ты сам виноват. Тут, брат, ежели и не придется тебе уснуть — на себя пеняй! Знаете ли, что́ я придумал, друзья? зачем нам квартиры наши на ключи запирать? Давайте-ка без ключей… мило, благородно!
— А на случай воров каќ?
— Гм… на случай воров! Ну, в таком разе мы вот что сделаем: чтобы у всякой квартиры два ключа было, один у жильца, а другой — в квартале!
Однако предложение это возбудило спор. Мы возражали оба, но в моих возражениях играло главную роль просто инстинктивное беспокойство, тогда как возражения Очищенного покоились на данных несомненно реального свойства.
— А ежели, позволю вас спросить, в квартире-то касса находится? — протестовал он.
— Так что ж что́ касса! Мы — божьи, и касса наша — божья!
— Ну, нет, с этим позвольте не согласиться! Мы — это так! Но касса!!
Признаться, и я, вспомнив об оставшихся у меня выкупных свидетельствах, струхнул.
— Мы — это так! — повторял я, — что́ такое мы? Но… касса!!
И, подобно Очищенному, я поднимал вверх указательный перст, с знак неопровержимости довода.
Спор завязался нешуточный; мы до того разгорячились, что подняли гвалт, а за гвалтом и не слыхали, как кто-то позвонил и вошел в переднюю. Каково же было наше восхищение, когда перед нами, словно из-под земли, выросли… Прудентов и Молодкин!
— О чем, друзья, диспут держите? — приветствовал нас Прудентов, подавая мне и Глумову руку. — А! и ты, старая карга, здесь? — продолжал он, благосклонно обращаясь к Очищенному.
— Знакомы? — обрадовался я.
— С ним-то! да он у нас завсегда в понятых ходит! Полтину в зубы — и марш! А ведь мы к вам, друзья, вечерок провести собрались! — добавил он, вновь пожимая нам руки.
— Флегонт Васильич! Афанасий Семеныч! голубчики! Чем потчевать! водки, что ли, подать?
— Водки своим чередом, а вот еще что́: Иван Тимофеич самолично к вам будет. Он теперь к Парамонову уехал, а оттуда — к вам. Насчет церемониалу свадебного условиться. Мы и за Балалайкиным пожарного послали, чтоб через час беспременно здесь был!
— Господи! а мы-то! ведь мы даже не изготовились!
— Ничего! Иван Тимофеич простит. Он — парень простой, простыня-человек. Рюмка водки, кусочек черного хлеба на закуску, а главное, чтоб превратных идей не было — вот и все!
— А мы только что было за устав принялись! Господи! да не нужно ли чего-нибудь? Вина? блюдо какое-нибудь особенное, чтобы по вкусу Ивану Тимофеичу? Говорите! приказывайте! Может быть, он рассказы из русского или из еврейского быта любит, так и за рассказчиком спосылать можно!
— Ничего не надо, не обременяйте себя, друзья! Коли есть что в доме — прикажите подать, мы не откажемся. А что касается до рассказчиков, так не трудитесь и посылать. Сегодня у нашего подчаска жена именинница, так по этому случаю к ним в квартиру все рассказчики на померанцевый настой слетелись.
XI*
Разумеется, несмотря на оговорки Прудентова, мы немедленно сделали все распоряжения, чтобы на славу отпраздновать посещение дорогих гостей. Затем мы сообщили Прудентову те соображения, вследствие которых мы нашли полезным ввести некоторые изменения в «Общие начала» устава о благопристойности, и встретили с его стороны полное одобрение нашей законодательной деятельности.
Этот дружеский обмен мыслей привел нас в самое приятное расположение духа, а дабы скрепить наш союз прочно и навсегда, Прудентов и Молодкин сообщили нам краткие биографические о себе сведения, чем, разумеется, и нас вызвали на взаимность.
— Я — вятчанин, — поведал нам Прудентов, — отец мой был первоначально протодиаконом, но впоследствии за совершенное преступление был лишен сана и приговорен к ссылке в отдаленные места Сибири. Пожелавши, однако, остаться на родине, он изъявил готовность принять должность ката*, в каковой и был губернским правлением утвержден. Я был в то время малолетним, но уже и тогда положил в сердце своем нигде не служить, кроме как по полиции. А потому образовавши свой ум и сердце лишь настолько, насколько это потребно для занятия должности паспортиста, — сродственник у меня в этой должности в Петербурге состоял, так от него я об ней слышал, — отправился, по достижении совершенного возраста, в Петербург. Здесь моя биография уже прекращается, и начинается формулярный о службе список. Пять лет, в ожидании места паспортиста, я прослужил писцом; после того, в течение восьми лет состоял паспортистом, а, наконец, двенадцать лет тому назад определен в квартал письмоводителем. Пятнадцать лет тому назад произведен в первый чин коллежского регистратора, а затем, будучи постепенно повышаем, ныне состою в чине титулярного советника.
— И ничего — живешь?
— Как видите, друзья! Живу и не ропщу, хотя, с другой стороны, не могу не сказать, что нынче против прежнего — куда сделалось труднее.
— Что́ так?
— Да почесть что одним засвидетельствованием рук и пробавляемся. Прежде, бывало, выйдешь на улицу — куда ни обернешься, везде источники видишь, а нынче у нас в ведении только сколка льду на улицах да бунты остались, прочее же все по разным ведомствам разбрелось. А я, между прочим, твердо в своем сердце положил: какова пора ни мера, а во всяком случае десять, тысяч накопить и на родину вернуться. Теперь судите сами: скоро ли по копейкам экую уйму денег сколотишь?
— А ты приналяг!
— То-то что…
Прудентов на минуту задумался, но потом вдруг зашевелил носом и стал к чему-то принюхиваться. А так как именно в этой самой комнате хранились последние мои выкупные свидетельства, то я не на шутку испугался и поспешил переменить разговор.
— Ну, а ты, Афанасий Семеныч? — обратился я к Молодкину.
— А я-с — во время пожара на дворе в корзинке найден был. И так как пожар произошел 2-го мая, в день Афанасия Великого, то покойный частный пристав, Семен Иваныч, и назвал меня, в честь святого — Афанасием, а в свою честь — Семенычем. Обо мне даже дело в консистории было: следует ли, значит, меня крестить? однако решили: не следует. Так что я доподлинно и не знаю, крещеный ли я.
— Ах, беда какая!
— И вообще, у меня жизнь необыкновенная. Именины, например, я праздную, а день рождения — нет.
— Так что, по правде-то, даже сказать не можешь, родился ты ли настоящим образом или. так как-нибудь? — пошутил Глумов.
— Действительно-с. Знаю только, что при пожарной команде в третьей Адмиралтейской части воспитание получил. Покойный Семен Иваныч велел это меня на пожарную трубу положить и сказал при этом: бог даст, брантмейстер выйдет! И вышел-с.
— А деньги копишь?
— Нет, мне не́зачем. Я на пожаре свет увидел, на пожаре же и жизнь кончу. Для кого мне копить!
— Чудак! да ты бы женился!
— И жениться не вижу надобности, да и вообще склонности ни к чему, кроме пожаров, не имею.
— Врешь, брат! Вы, друзья, его про барышню расспросите! — отозвался Прудентов.
— Было раз — это точно. Спас я однажды барышню, из огня вытащил, только, должно быть, не остерегся при этом. Прихожу это на другой день к ним в дом, приказываю доложить, что, мол, тот самый человек явился, — и что же-с! оне мне с прислугой десять рублей выслали. Тем мой роман и кончился.
Мы с участием выслушали этот рассказ и искренно пожалели о горькой судьбе Молодкина, который из-за пожаров поставлен в невозможность пользоваться семейными радостями, а следовательно, не может плодиться и множиться*.
— Ну, а вы, — обратился к нам Прудентов, — скажите же и о себе что-нибудь, друзья!
— Что — мы! Заблудшие — вот мы что́! — отвечал за нас обоих Глумов. — Дворяне… и при сем без выкупных свидетельств! Вот какова наша биография.
— Уж будто и совсем без выкупных свидетельств?
Прудентов, очевидно, шутил, но я вспомнил, как он, несколько минут тому назад, шевелил носом, и опять струхнул. К счастью, нас избавил от ответа Балалайкин, который в эту минуту как раз подошел к нам на выручку.
Он явился во фраке, в белом галстухе и — по какому-то инстинктивному заблуждению — в белых нитяных перчатках. Словом сказать, хоть сейчас бери в руки блюдо и ступай служить у Палкина. При этом от него так разило духами, что Глумов невольно воскликнул:
— И что́ это у тебя за гнусная привычка, Балалайкин, всякий раз в Екатерининском канале купаться, перед тем как в гости идти!
— Это? — Violettes de Parme[19] — вот какие это духи! — солгал Балалайкин и так неожиданно поднес обшлаг рукава к носу Очищенного, что тот три раза сряду чихнул.
Очевидно, Балалайкин разоделся на том основании, что рассчитывал, что его сейчас же припустят к двоеженству, — и потому когда узнал, что речь идет только о предварительных действиях, то немедленно снял нитяные перчатки и начал лгать.
— Помилуйте! — жаловался он, — ничего толком рассказать не умеют, заставляют надевать белые перчатки, скакать сломя голову… Да вы знаете ли, что я одной клиентке в консультации должен был отказать, чтоб не опоздать к вам… Кто мне за убытки заплатит?
— Ну, что́ еще! Сложимся по двугривенному с брата — вот и убытки твои! — утешал его Глумов.
— Нет-с, тут не двугривенным пахнет-с. Во-первых, я вообще меньше ста рублей за консультацию не беру, а во-вторых, эта клиентка… Это такая клиентка, я вам скажу, что ей самой сто рублей дать мало!
— Стало быть, из Фонарного переулка? — полюбопытствовал Молодкин.
— Там уж откуда бы ни была, а есть такая клиентка. А кроме того, у меня сегодня третейский суд… как я решу, та́к и будет!*
— Соломон!*
— Соломон не Соломон, а тысячу рублей за решение пожалуйте!
Очень возможно, что Балалайкин пролгал бы таким образом до утра, но Глумов, с свойственною ему откровенностью, прекратил его излияния в самом начале, крикнув:
— Балалайка! надоел!
В ожидании Ивана Тимофеича мы уселись за чай и принялись благопотребно сквернословить. Что́ лучше: снисходительность ли, но без послабления, или же строгость, сопряженная с невзиранием? — вот вопрос, который в то время волновал все умы и который, естественно, послужил темою и для нас. Прудентов был на стороне снисходительности и доказывал, что только та внутренняя политика преуспевает, которая умеет привлекать к себе сердца.*
— Я, друзья, и с заблуждающими, и с незаблуждающими на своем веку немало дела имел, — говорил он, — и могу сказать одно: каждый в своем роде. Заблуждающий хорош, ежели кто любит беседовать; незаблуждающий — ежели кто любит выпить или, например, на тройке в пикник проехаться!
— Ты говоришь: беседовать? То-то вот, по нынешнему времени, это не лишнее ли?
— Почему же-с? Ежели о предметах, достойных внимания, и притом знаючи наперед, что ничего из этого не выйдет, — отчего же не побеседовать? Беседа беседе тоже розь, друзья! Иная беседа такая бывает, что от нее никакого вреда, кроме как воняет. Какой же, значит, от этого вред? Купцы, например, даже превосходно в этом смысле разговаривают.
— Да ведь заблуждающего-то не прельстишь такой беседой!
— А ежели он отказывается, так и пригрозить ему можно. Вообще, эта система самая настоящая: сперва снизойти, а потом помаленьку меры принимать. Точно так же, доложу вам, и насчет издаваемых в разное время правил и руководств. Всегда надо так дело вести: чтобы спервоначалу к вольному обращению направлять, а потом постепенно от оного отступать…
. . . . . . . . . .
Наконец, в одиннадцать часов сильный звонок возвестил нам о появлении Ивана Тимофеича.
Он явился к нам весь сияющий, в мундире с коротенькими фалдочками, держа под мышками по бутылке горского, которые и поставил на стол, сказав:
— Это вот вам от невесты… друзья! А завтра в четыре часа просим хлеба откушать!
Затем вынул из кармана вязанный голубым бисером кошелек и подал его Балалайкину.
— А вот это жениху — тебе! Ты посмотри, бисер-то какой… голубенькой! Сама невеста вязала… бутончик! Ну, друзья! теперь я в вашем распоряжении! делайте со мной, что хотите!
По этому слову мы с криком «ура!» разом овладели туловищем дорогого гостя и начали его раскачивать.
Что́ происходило потом, я помню до крайности смутно. Помню, что я напился почти мгновенно, что Иван Тимофеич плясал, что Прудентов декламировал: «О ты! что́ в горести напрасно»*, а Молодкин показывал руками, как выкидывают на каланче шары во время пожаров.
Было совсем светло, когда дорогие гости собрались по домам. Но что́ всего замечательнее, Иван Тимофеич, которого в полночь я видел уже совсем готовым и который и после того ни на минуту не оставлял собеседования с графином, под утро начал постепенно трезветь, а к семи часам вытрезвился окончательно.
— А теперь пора и к рапорту! — сказал он, надевая на го лову трехуголку, и совершенно твердыми стопами проследовал вниз в сопровождении Прудентова и Молодкина.
XII*
На окраинах Петербурга, в Нарвской и Каретной частях, и теперь встречаются небольшие каменные дома-особнячки, возбуждающие в проезжем люде зависть своею уютностью и хозяйственным характером обстановки. Обыкновенно дома эти снабжены по улице небольшими палисадниками, обсаженными липами и акациями, а внутри — просторными дворами, где, помимо конюшен, амбаров и погребов, не в редкость найти и небольшое огороженное пространство, в котором насажено несколько кустов сирени и где-нибудь в углу ютится плетеная беседка, увитая бобовником, осыпанным красным цветом. Вид этих жилищ напоминает провинцию, а в особенности Замоскворечье, откуда, в большинстве случаев, и появились первоначальные заселители этих мест. Проезжему человеку сдается, что тут пожирается несметное количество пирогов с начинкой и другого серьезного харча, что в хлевах отпаиваются белоснежные поросята и откармливаются к ро́зговинам неподвижные от жира свиньи, что на дворе гуляют стада кур, а где-нибудь, в наполненной водой яме, полощутся утки. Всё в этих злачных местах поперек себя толще, и люди и животные. Хозяева — с трудом могут продышать скопившиеся внутри храпы; кучер — от сытости не отличает правую руку от левой; дворник — стоит с метлой у ворот и брюхо об косяк чешет, кухарка — то и дело робят родит, а лошади, раскормленные, словно доменные печи, как угорелые выскакивают из каретного сарая, с полною готовностью вонзить дышло в любую крепостную стену.
Именно в одном из таких особнячков обитала Фаинушка, «штучка» купца Парамонова. Солидно и приземисто выглядывал ее дом своими двумя этажами из-за ряда подстриженных лип и акаций, словно приглашая прохожего наесться и выспаться, но, в то же время, угрожая ему заливистым лаем двух псов, злобно скакавших на цепях по обеим сторонам каменных служб. Верхний этаж, о семи окнах на улицу, занимала сама хозяйка, в нижнем помещался странствующий полководец, Полкан Самсоныч Редедя, года полтора тому назад возвратившийся из земли зулусов, где он командовал войсками короля Сетивайо против англичан,* а теперь, в свободное от междоусобий время, служивший по найму метрдотелем у Фаинушки, которая с великими усилиями переманила его от купца Полякова.
Фаинушка происходила от благочестивого корня. Отец ее был церковным сторожем в селе Зяблицыне, Моршанского уезда, мать — пекла просвиры. Но зяблицынская церковь посещалась прихожанами не усердно. Самые сильные и зажиточные из прихожан открыто принадлежали к меняльной секте,* а оставшаяся верною мелюзга была настолько забита и угнетена бедностью, что даже в своих естественных перед менялами преимуществах находила мало утешения. Парамонов тоже был уроженцем этого села, и хотя давно перенес свою торговую деятельность в Петербург, но от времени до времени посещал родное место и числился главным ревнителем тамошнего «корабля»*. Благодаря связям, заведенным в Петербурге, а также преступному попустительству местных полицейских властей, меняльная пропаганда высоко держала свое знамя в Зяблицыне, так что была минута, когда главный ересиарх, Гузнов, не без нахальства утверждал, что скоро совсем прекращение роду человеческому будет, за исключением лиц, на заставах команду имеющих, которым он, страха ради иудейска,* предоставлял плодиться и множиться на законном основании. Приезды Онуфрия Парамонова в Зяблицыно имели совершенный вид торжеств. Он рассыпался над селом золотым дождем; в честь его назначались особенные радения, на которых Гузнов гремел и прорицал, а «голуби»* кружились и скакали, выкрикивая: «Накатил, сударь, накатил!» Жертвы меняльного фанатизма вербовались десятками, а становой пристав, получив мзду, ходил по улице и делал вид, что все обстоит благополучно.
В одну из таких поездок Онуфрий Петрович доглядел Фаинушку. Девушка она была шустрая и, несмотря на свои четырнадцать лет, представляла такие задатки в будущем, что старый голубь даже языком защелкал, когда хорошенько вгляделся в нее. И вот, когда старому сторожу и просвирне сделаны были, по ее поводу, предложения, они не устояли. Сразу же приняли большую печать* и затем объявили третью гильдию по городу Моршанску, где и поселились в купленном для них Парамоновым доме. А Фаинушку увез Парамонов в Петербург, обещав родителям научить ее по-французскому и потом выдать замуж за офицера корпуса путей сообщения, ныне, впрочем, не существующего.*
По-видимому, первоначальное намерение Онуфрия Петровича заключалось в том, чтобы сделать из Фаинушки меняльную богиню, которая председательствовала бы на радениях, а самому назваться ее сыном;[20] но когда он рассмотрел девочку ближе, то им овладел дух лакомства, и он решил поступить с нею иначе. Отдал в обучение к мадаме, содержавшей на Забалканском проспекте пансион для девиц, и когда Фаинушка выучилась говорить «бонжур» и танцевать па-де-шаль, купил на ее имя описанный выше дом и устроил ее в качестве «штучки».
Фаинушка была умна и потому взглянула на свое положение серьезно. Расцветши полным цветом, она не увлекалась ни офицерами, ни чиновниками, ни молодыми апраксинцами,* стадами сновавшими мимо ее окон, а пользовалась своею молодостью степенно и без оказательств. Не пренебрегая радостями любви, она удостоивала доверием не первого встречного вертопраха, но лишь такого мужчину, который основательностью суждений и добрым поведением вполне того заслуживал, хотя бы был и не первой молодости. И затем, с согласия Парамонова, помещала избранного в нижний этаж, в качестве метрдотеля, и всем служащим в доме выдавала в этот день по чарке водки. Старого «голубя» она не называла ни пакостником, ни менялой, а, напротив, снисходила к его калечеству, кормила лакомыми блюдами и всегда собственноручно подвязывала ему под голый подбородок салфетку, так как старик ел неопрятно и мог замарать свое полушелковое полукафтанье. С своей стороны, и Парамонов снисходил к ее женской слабости и не заявил ни малейшей претензии, когда она в первый раз завела себе метрдотеля. Сначала Онуфрий Петрович не решался давать ей помногу денег, опасаясь, что она даст стречка, но мало-помалу убедился в ее благонадежности и пролил на нее такие щедроты, что в настоящее время она уже самостоятельно объявляла первую гильдию. Впрочем, лично она торговли не производила, а имела на всякий случай на Калашниковской пристани кладовую, на которой красовалась вывеска с надписью: «Оптовая торговля первой гильдии купчихи Фаины Егоровой Стёгнушкиной». По временам Парамонов от имени ее производил более или менее значительную операцию и, разумеется, подносил ей хороший куш.
Поведение столь основательное несомненно заслуживало достойного увенчания. Достигнув двадцатипятилетнего возраста, Фаинушка пожелала прикрыться и начала мечтать о законном браке. Но и тут, как девица умная, поставила непременным условием, чтоб предполагаемый союз ни в каком случае не стеснил ни ее, ни старого голубя. Претендентов явилось множество, и с оружием, и без оного, но покамест она еще ни на ком окончательно не остановила своего внимания. Однажды, правда, она чуть было не увлеклась, и именно когда к ней привели на показ графа Ломпопо́, который отрекомендовал себя камергером Дона Карлоса,* состоящим, в ожидании торжества своего повелителя, на службе распорядителем танцев в Пале́-де-Кристаль (рюмка водки 5 к., бутылка пива 8 к.); но Ломпопо́ с первого же раза выказал алчность, попросив заплатить за него извозчику, так что Фаинушка заплатить заплатила, но от дальнейших переговоров отказалась. В сей крайности за устройство брака взялся Иван Тимофеич и, как мы видели, сыскал адвоката Балалайкина, который хотя и не вполне подходил к этой цели, но зато у него в гербе был изображен римский огурец,* обвитый лентой, на которой читался девиз рода Балалайкиных: Прасковья мне тетка, а правда мне мать.
Мы приехали с Глумовым как раз в четыре часа, хотя у подъезда уже стояла двухместная извозчичья карета, в которой, как объяснил нам извозчик, приехали посаженые отцы. Внутреннее расположение дома Фаинушки тоже напоминало Замоскворечье и провинцию. Деревянная, выкрашенная желтой краской лестница, с деревянными же перилами и с узеньким ковриком посредине, вела во второй этаж и заканчивалась небольшою площадкой, в глубине которой был устроен чулан, отдававший запахом вчерашнего съестного, а сбоку виднелась дверь в прихожую. И дверь была старинная, замоскворецкая: одностворчатая, массивная, обитая дешевой клеенкой и запиравшаяся старинным замком с подвижною ручкой. В прихожей пахло отчасти ягодами, которые здесь, по-видимому, недавно чистили для варенья, отчасти сапожным товаром, потому что обыкновенно тут пребывал старый Родивоныч, исправлявший должность комнатного лакея и в свободное время занимавшийся сапожным мастерством, о чем и свидетельствовала забытая на окне сапожная колодка. Встретил нас именно этот самый Родивоныч, седой, но еще бравый старик, в синем суконном сюртуке, в белом галстухе и с очками, в медной оправе, на носу.
— Невесту пропивать приехали? — весело спросил он нас, — а у нас тут зами́ночка вышла: молодец-то наш заартачился.
— Ка́к заартачился?
— Обнаковенно как женихи артачатся. Выложи, говорит, сначала деньги на стол, а потом и веди хоть в треисподнюю.
— Однако как это неприятно!
— Ничего, обойдется! Молодкин уж поехал… Деньгами двести рублей повез да платок шелковый на шею. Это уж сверхов, значит. Приедет! только вот разве что аблакаты они, так званием своим подорожиться захотят, еще рубликов сто запросят. А мы уж и посаженых отцов припасли. Пообедаем, а потом и окрутим…
Мы вошли в залу. Это была длинная и узкая комната, три окна которой выходили на улицу, а два — в сени на лестницу, по которой мы только что вошли. Посредине залы был накрыт старинный раздвижной стол с множеством колеблющихся ножек. Около стола, молча и бесшумно ступая ногами, хлопотали двое молодых менял, очевидно, прихваченных из лавки, с испитыми, бледными и безбородыми лицами. В стороне, у стола, обремененного всевозможными закусками, суетился мужчина в белом пикейном сюртуке с светлыми пуговицами. Это-то именно и был странствующий полководец. При нашем появлении он, проворно переваливаясь и ловко виляя круглым брюшком, направился к нам навстречу.
Это был мужчина лет пятидесяти, чрезвычайно подвижной и совершенно овальный. Точно весь он был составлен из разных овалов, связанных между собой ниткой, приводимой в движение скрытым механизмом. В средине находился основной овал — живот, и когда он начинал колыхаться, то и все прочие овалы и овалики приходили в движение. Выражение его лица было любезное и добродушное, так что с первого взгляда казалось, что на вас смотрит сычуг из колбасной Шписа, получивший способность улыбаться. Хотя же и ходили слухи, будто на поле брани он умел сообщать этому сычугу суровые и даже кровожадные тоны, но в настоящее время, благодаря двухлетнему глубокому миру, едва ли он не утратил эту способность навсегда. Губы его припухли и покрылись маслом, вследствие беспрерывного закусыванья, которое, впрочем, не только не умаляло его аппетита, а, напротив, как бы ожесточало. Глаза были небольшие, слегка подернутые влагой, что придавало им грустно-сантиментальный характер. Нос — мягкий, которому можно было двумя пальцами сообщить какую угодно форму; голос — звонкий, чрезвычайно удобный для произнесения сквернословии, необходимых для побуждения ямщиков при передвижениях к полям брани. Сюртучок на нем был снежной белизны, а на светло вычищенных пуговицах красовался геральдический знак страны зулусов: на золотом поле взвившийся на дыбы змей боа, и по бокам его: скорпион и тарантул. По толкованию Редеди, аллегория эта означала самого владыку зулусов (змей) и двух его главных министров: министра оздоровления корней (скорпион) и министра умиротворений посредством в отдаленные места водворений (тарантул).
— Рекомендуюсь! — приветствовал он нас, — Полкан Самсонов Редедя. Был некогда печенег, а ныне все под одной державой благоденствуем!
Это было высказано с такою неподдельной покорностью перед совершившимся фактом, что когда Глумов высказал догадку, что, кажется, древние печенеги обитали на низовьях Днепра и Дона, то Редедя только рукой махнул, как бы говоря: обитали!! мало ли кто обитал! Сегодня ты обитаешь, а завтра — где ты, человек!*
— Вот и балык, — сказал он вслух, — в первоначальном виде в низовьях Дона плавал, тоже, чай, думал: я-ста, да мы-ста! а теперь он у нас на столе-с, и мы им закусывать будем. Янтарь-с. Только у менял и можно встретиться с подобным сюжетом!
В гостиной между тем гости были уж в сборе, но отсутствие жениха, видимо, на всех производило тяжелое впечатление. На диване, перед круглым столом, сидела сама Фаинушка, в белом шелковом платье, в бриллиантах и с флердоранжем в великолепных черных волосах. Это была замечательно красивая женщина, прозрачно-смуглая (так что белое платье, в сущности, не шло к ней), высокая, с большими темными глазами, опушенными густыми и длинными ресницами, с алым румянцем на щеках и с алыми же и сочными губами, над которыми трепетал темноватый пушок. Сложена она была как богиня; бюст не представлял ни без толку наваленных груд, ни той удручающей скатертью дороги, кото рая благоприятна только для скорой езды на почтовых. Все было на своем месте, в препорцию и настолько приятно для глаз, что когда я мельком взглянул на себя в зеркало, то увидел, что губы мои сами собой сложились сердечком. По-видимому, она тоже заметила это «сердечко», и оно было ей не неприятно.
Возле нее, на том же диване, сидел бесполезный меняло, в длинном черном полушелковом сюртуке, отливавшем глянцем при всяком его движении, и, не отрывая, по-собачьи, глаз от собеседников, тоненьким голосом вел пустопорожнюю беседу. Лицо у него было отекшее, точно у младенца, страдающего водянкой в голове; глаза мутные, слезящиеся; на бороде, в виде запятых, торчали четыре белые волоска, по два с каждой стороны; над верхнею губой висел рыжеватый пух. В довершение всего, волосы на голове, желто-саврасого цвета, были заботливою рукой Фаинушки напомажены и зачесаны, через весь обнаженный череп, с уха на ухо.
По обеим сторонам стола, на креслах, сидели посаженые отцы, тайные советники Перекусихин 1-й и Перекусихин 2-й, уволенные от службы в воздаяние отличных заслуг. Оба были грустны. Один потому, что получил уфимскую землю и потом ее возвратил;* другой — потому, что не получил уфимской земли и потому ничего не мог возвратить. Сверх того, оба с утра ничего не ели, в ожидании меняльной кулебяки, и вследствие этого, когда разговор на минуту перемежался, из животов их слышалось тихое урчание. Вообще, это были люди очень несчастные, потому что газеты каждодневно называли их «хищниками», несмотря на то, что Перекусихин 1-й полностью возвратил похищенное, а Перекусихин 2-й даже совершенно ничего не получил. Так что и несомненная невинность Перекусихина 2-го не принималась во внимание, потому что всякий говорил: а кто их, Перекусихиных, разберет!
У них у одних Фаинушкины красы не заставляли складываться губы сердечком, так что, в этом смысле, они казались даже гораздо меняльнее самого Парамонова.
У стены, по обе стороны ломберного стола, сидели Иван Тимофеич и Прудентов, а у окна — Очищенный, приведший с собой из редакции «Краса Демидрона» нашего собственного корреспондента, совсем безумного малого, который сидел вытараща глаза и жевал фиалковый корень.
Отрекомендовал нас Иван Тимофеич.
— Сотрудники наши! — сказал он кратко, — были заблудшие, а теперь полезными гражданами сделались…
— Вот как! — приятно изумился Перекусихин 1-й.
— Ах, голуби, голуби! — вздохнул Парамонов.
— Где ж это вы заблудились? — любезно спросила Фаинушка и так приятно при этом улыбнулась, что Глумов стиснул зубы и всем существом (очень, впрочем, прилично) устремился вперед.
— Нельзя сказать, чтоб в хорошем месте, — объяснил Иван Тимофеич, — такую чепуху городили, что вспомнить совестно. А теперь — так поправились, как дай бог всякому!
Мы были еще в нерешимости, какие выразить чувства по поводу этой аттестации, как у ворот раздался стук экипажа, и через минуту в дверях показался Редедя и поманил пальцем Ивана Тимофеича.
Все смолкли, так что из залы явственно доносился до нас шепот. Еще минута, и Иван Тимофеич, в свою очередь, поманил меня и Глумова.
— Мерзавец-то не едет! — сообщил он нам вполголоса.
— Что́ же случилось?
— Да так вот, — объяснил Молодкин, — приехал я, а он сидит во фраке, в перчатках и в белом галстухе — хоть сейчас под венец! «Деньги!» Отдал я ему двести рублей, он пересчитал, положил в ящик, щелкнул замко́м: «остальные восемьсот!» Я туда-сюда — слышать не хочет! И галстух снял, а ежели, говорит, через полчаса остальные деньги не будут на столе, так и совсем разденусь, в баню уеду.
— Да ты бы, голубчик, ему пригрозил: по данной, мол, власти — в места не столь отдаленные! — предложил Глумов.
— Говорил-с. Не действует.
— Вот ведь сквернавец какой! — негодовал Иван Тимофеич. — А здесь между тем расход. Кушанья сколько наготовили, посаженым отцам по четвертной заплатили, за прокат платья для Очищенного отдали, отметчика из газеты подрядили, ему самому, невеже, карету, на невестин счет, наняли — и посейчас там у крыльца стоит…
И вдруг светлая мысль осенила его голову.
— Друзья, да что ж мы! — воскликнул он, простирая к нам руки, — да вы… ну что́ ж такое! Что на него, на невежу, смотреть! из вас кто-нибудь… раз-два-три… Господи благослови! Ягодка-то ведь какая… видели?
Я так и обомлел при этих словах, но, по счастию, Глумов не потерял присутствия духа.
— Не дело ты говоришь, Иван Тимофеич, — сказал он резонно, — во-первых, Балалайке уж двести рублей за́дано, а во-вторых, у нас вперед так условлено, чтоб непременно быть двоеженству. А я вот что́ сделаю: сейчас к нему сам поеду, и не я буду, если через двадцать минут на трензеле его сюда не приведу.
Глумов уехал вместе с Молодкиным, а я, в виде аманата, остался у Фаинушки. Разговор не вязался, хотя Иван Тимофеич и старался оживить его, объявив, что «так нынче ягода дешева, так дешева — кому и вредно, и те едят! а вот грибов совсем не видать!». Но только что было меняло начал в ответ: «грибки, да ежели в сметанке», как внутри у Перекусихина 2-го произошел такой переполох, что всем показалось, что в соседней комнате заводят орган. А невеста до того перепугалась, что инстинктивно поднялась с места, сказав:
— Ваши превосходительства! водочки! милости просим закусить, господа! не взыщите!
Это разом всех привело в нормальное настроение. Тайные советники забыли об уфимских землях и, плавно откидывая ногами, двинулись за хозяйкой; Иван Тимофеич бросился вперед расчищать гостям дорогу; Очищенный вытянул шею, как боевой конь, и щелкнул себя по галстуху; даже «наш собственный корреспондент» — и тот сделал движение языком, как будто собрался его пососать. В тылу, неслышно ступая ногами, шел злополучный меняло.
У закусочного стола нас встретил Редедя, но не сразу допустил до водки, а сначала сам посмаковал понемногу от каждого сорта (при этом он один глаз зажмуривал, а другим стрелял в пространство, точно провидел вдали бог весть какие перспективы) и, наконец, остановившись на зорной, сделал капельмейстерский жест руками:
— Можете смело!
То же самое проделал он и над закусками: всякого сорта пожевал, объясняя при каждом куске, в чем заключаются его достоинства и какие могут быть недостатки. Какая должна быть селедка, ежели она селедка, и какой должен быть балык, ежели он балык. А так как замечания свои он, сверх того, скрашивал рассказами из жизни достопримечательных русских людей, то закусывание получало разумно-исторический характер, и не прошло десяти минут, как уже мы отлично знали всю русскую историю осьмнадцатого столетия, а благодаря новым закусочным подкреплениям — надеялись узнать, что происходило и дальше.
— И где вы, Фаина Егоровна, такое сокровище отыскали? — спросил восхищенный Перекусихин 1-й, указывая на Редедю.
— Сам пришел, — очень мило нашлась невеста.
— Он у нас, вашество, Аника-воин*, долго на одном месте не усидит! — отозвался старый меняло, — из похода, да и опять в поход… Вот и теперь фараоны зовут…
— Скажите! и выгодно это? — обратился Перекусихин 2-й к Редеде.
— Как вам сказать… Намеднись, как ездил к зулусам, одних прогонов на сто тысяч верст, взад и вперед, получил. На осьмнадцать лошадей по три копейки на каждую — сочтите, сколько денег-то будет? На станциях между тем ямщики и прогонов не хотят получать, а только «ура» кричат… А потом еще суточные по положению, да подъемные, да к родственникам по дороге заехать…
— Одного военачальника я знал, так тот, кроме прогонов, еще на «милую» тысяч сто выпросил, — сказал свое слово Очищенный.
— И это бывает, — согласился Редедя.
— Тсс… А хорошая это сторона… Зулусия?
— Такая, вашество, сторона! такая сторона! Отдай все, да и мало!
— И все там есть? икра, например, балык, селедка… все как следует?
— Всего вдоволь. И все втуне, все равно как у нас богатства в недрах земли. И много, да приступиться не знаем. Так и они. Осетрины не едят, сардинок не едят, а вот змеи, скорпионы, летучие мыши — это у них первое лакомство!
— Ах-ах-ах!
Покуда шел этот разговор, Фаинушка отвела меня в сторону и вполголоса допрашивала:
— Это приятель ваш… вот который сейчас за Балалайкиным уехал?
— Да, приятель.
— Какой он смешной!
— Что́ так?
— Давеча я всего два слова сказала, а он уж и размок: глаза зажмурил, чуть не свалился… хоть бы людей постыдился!
Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками кусок балыка и отщипывая от него микроскопические кусочки своими ровными белыми зубами. Очевидно, что поступок Глумова не только не возмущал ее а, скорее, даже нравился; но с какой целью она завела этот разговор? Были ли слова ее фразой, случайно брошенной, чтоб занять гостя, или же они предвещали перемену в судьбе моего друга?
— А у нас сегодня Полкан Самсоныч к фараонам уезжает, — продолжала она, не глядя на меня.
— Сегодня?
— Да; отпразднуем свадьбу у Завитаева, а оттуда поедем на машину проводить.
— А жалко вам его?
— Мне-то? закусывает он слишком уж часто… Надоел.
— А вам нужно…
— Ничего мне не нужно, а вот скажите вашему приятелю, чтоб он за обедом подле меня сел. Я хочу ему на ушко одно слово…
Она подняла глаза и не договорила. Перекусихин 1-й отделился от закусывающих и, меланхолически склонив набок голову, обстреливал ее взорами.
Произошла немая сцена.
— Вот кабы мне полководцеву-то квартирку!.. — без слов ходатайствовал тайный советник.
— Отдана! — тоже без слов, но твердо и отчетливо ответила Фаинушка.
Тут только я понял, какое великое будущее открывается перед Глумовым.
XIII*
Боевая репутация Редеди была в значительной мере преувеличена. Товарищи его по дворянскому полку*, правда, утверждали, что он считал за собой несколько лихих стычек в Ташкенте, но при этом как-то никогда достаточно не разъяснялось, в географическом ли Ташкенте происходили эти стычки, или в трактире Ташкент, что́ за Нарвскою заставой. Начальство, однако ж, не особенно ценило подвиги Редеди и довольно медленно производило его в чины, так что сорока пяти лет от роду он имел только полковничий чин. Наскучив начальственным равнодушием, он переменил род деятельности и направился, в качестве обрусителя, в западный край. Тут он сразу ознаменовал себя тем, что произвел сильную рекогносцировку между жидами и, сбив их с позиций, возвратился восвояси, обремененный добычей. Но и этот подвиг не был оценен. Тогда он вышел в «чистую» и напечатал во всех газетах следующее объявление:
«Делает рекогносцировки, берет хитростью и приступом большие и малые укрепления, выигрывает большие и малые сражения, устраивает засады, преследует неприятеля по пятам, но, в случае надобности, и отступает. В особенности может быть полезен во время междоусобий. В мирное время может быть и редактором газеты. Трезвого поведения. Спросить Полкана Редедю, Забалканский проспект, дом № 4 — 105, на дворе, в палатке. Комиссионерам не приходить».
Втайне Редедя рассчитывал на Дона Карлоса, который в это время поддерживал спасительное междоусобие на севере Испании. Он даже завязал с графом Ломпопо́ (о нем зри выше) переговоры насчет суточных и прогонных денег; но Ломпопо́ заломил за комиссию пять рублей, а Редедя мог дать только три. Так это дело и не состоялось.
Зато в Африке Редеде посчастливилось: он получил несколько ангажементов сряду. Прежде всего, его пригласил эфиопский царь Амонасро́ (из «Аиды»)*, который возложил на него орден Аллигатора, и вслед за тем был взят в плен. Из Эфиопии Редедя проехал в страну зулусов, владыка которой, Сетивайо (ныне обучающийся в Лондоне парламентским порядкам),* повесил ему на шею яйцо строфокамила* и тоже был взят в плен. По пути Редедя не дремал и помогал экваториальным державцам в их взаимных пререканиях, причем аккуратно сдал их друг другу в плен и везде получил прогоны и суточные по расчету от Петербурга. А теперь к нему обратился за помощью Араби-паша,* который, по словам Редеди, был его однокашником по дворянскому полку.
Несмотря на то, что Редедя не выиграл ни одного настоящего сражения, слава его, как полководца, установилась очень прочно. Московские купцы были от него в восхищении, а глядя на них, постепенно воспламенялись и петербургские патриоты-концессионеры. В особенности пленял Редедя купеческие сердца тем, что задачу России на Востоке отождествлял с теми блестящими перспективами, которые, при ее осуществлении, должны открыться для плисов и миткалей первейших российских фирм.* Когда он развивал эту идею, рисуя при этом бесконечную цепь караванов, тянущихся от Иверских ворот до Мадраса, все мануфактур-советники* кричали «ура», он же, под шумок, истреблял такое количество снедей и питий, что этого одного было достаточно, чтоб навсегда закрепить за ним кличку витязя и богатыря. Целых два года он пил и закусывал отчасти на счет потребителей плисов и миткалей, отчасти на счет пассажиров российских железных дорог, так что, быть может, принял косвенное участие и в кукуевской катастрофе*, потому что нужные на ремонт насыпи деньги были употреблены на чествование Редеди. В эти два года он изнежил себя до того, что курил сигары не иначе как с золотыми концами, и при этом, вместо иностранных, давал им собственного изобретения названия, патриотические и военные. Например, одному сорту он дал кличку «Забалканские», в честь Забалканского проспекта, где он первоначально квартировал, другому — «Синоп», в честь гостиницы Синоп, в которой он однажды так успешно маневрировал, что ни одного стакана и ни одной тарелки не оставил неразбитыми.
В этот же период привольного житья наружность его приобрела ту овальность, которая так приятно поражала всех, посещавших Фаинушкину обитель. Но, нужно сказать правду, овальность эта более приличествовала метрдотелю, нежели полководцу, потому что последний, как там ни говори, все-таки должен быть готов во всякое время проливать кровь. Поэтому люди, даже искренно расположенные к Редеде, когда узнали о полученном им от Араби-паши приглашении, и те сомнительно покачивали головами, не ожидая в будущем ни побед, ни одолений.
— Разъелся, старик, ленив стал! — говорили они между собой, — посмотрите, вся грудь у него в складках, точно у старого раскормленного тирольского быка!
Некоторые даже пытались уговорить его от поездки, объясняя, что если англичане теперь его возьмут в плен, то уж не выпустят, а продадут с аукциона какому-нибудь выжиге, который станет его возить по ярмаркам, а там мальчишки будут его дразнить; но перспектива получения прогонных денег до Каира и обратно была так соблазнительна, что отяжелевший печенег остался глух ко всем убеждениям. К тому же и Фаинушка явно погрешила в этом случае, не только не отговаривая его от поездки, но, напротив, всемерно разжигая в нем жажду военных подвигов.
Отношения Фаинушки к странствующему полководцу были очень сбивчивы. Наравне с другими купеческими фирмами, она увлеклась его боевою репутацией и, как уже сказано было выше, не пожалела расходов, чтобы переманить его от Полякова к себе. Но, сошедшись с ним ближе, она скоро убедилась, что из всех прежних доблестей в нем осталась неприкосновенною только страсть к закусыванию. Было бы, однако ж, несправедливо думать, что Редедя сознательно обманул ее. Вероятнее всего, что, постепенно закусывая и изыскивая способы для легчайшего сбыта московских плисов и миткалей, он и сам утратил привычку критически относиться к своим собственным силам. Как бы то ни было, но он сразу до того вошел исключительно в роль метрдотеля, что Фаинушка даже несколько смутилась. Некоторое время она надеялась, что вопрос о выходе замуж за Балалайкина разбудит в нем инстинкт полководца, но, к удивлению, при этом известии он только языком щелкнул и спросил, на сколько персон следует готовить свадебный обед. Тогда она окончательно растерялась. Стала нюхать спирт и ходить к ворожеям. С ужасом видела она себя навсегда осужденною на безрадостную жизнь в обществе менял, и воображение ее все чаще и чаще начал смущать образ черноокого Ломпопо́… Не раз она решалась бросить все и бежать в Пале-де-Кристаль, но невидимая рука удерживала ее на стезе благоразумия. И не вотще. В самую критическую минуту к ней неожиданно явился на помощь Араби-паша, вызывавший Редедю на поле брани. В один присест она связала два кошелька: один для Балалайкина, другой, с надписью золотым бисером «от русских дам» — отдала Редеде для передачи знаменитому египетскому патриоту.
Но возвратимся к рассказу.
Балалайкина, наконец, привезли, и мы могли приступить к обеду. Жених и невеста, по обычаю, сели рядом, Глумов поместился подле невесты (он даже изумления не выказав, когда я ему сообщил о желании Фаинушки), я — подле жениха. Против нас сел злополучный меняло, имея по бокам посаженых отцов. Прочие гости разместились как попало, только Редедя отвел себе место на самом конце стола и почти не сидел, а стоял и, распростерши руки, командовал армией менял, прислуживавших за столом.
Балалайкин был одет щегольски и смотрел почти прилично. Даже Иван Тимофеич его похвалил, сказавши: ну вот, ты теперь себя оправдал! А невеста, прежде чем сесть за обед, повела его в будуар и показала шелковый голубой халат и расшитые золотом торжковские туфли, сказав: это — вам! Понятно, что после этого веселое выражение не сходило с лица Балалайкина.
Но даже в эти торжественные минуты Фаинушка не покинула своего «голубя». Как и всегда, она усадила его на место, завесила салфеткой и потрепала по щеке, шепнув на ухо (но так, что все слышали):
— Сиди тут, папаша, и не скучай без меня! а я на тебя, своего голубка, смотреть буду.
За обедом все гости оживились, и это было в особенности лестно для нас с Глумовым, потому что преимущественно мы были предметом общих разговоров и похвал. Иван Тимофеич соловьем разливался, рассказывая подробности нашего чудесного обращения на стезю благонамеренности.
— Вижу я, — повествовал он, — что на Литейной неладное что-то затевается; сидят молодые люди в квартире — ни сами никуда, ни к себе никого… какая есть тому причина? Однако ж, думаю: грех будет, ежели сразу молодых людей в отчаянность привести — подослал, знаете, дипломата нашего, говорю: смотри, ежели что́ — ты в ответе! И что же! не прошло двух недель, как слышу: помилуйте! да они хоть сейчас на какую угодно стезю готовы! Ну, я немножко подождал-таки, поиспытал, а потом вижу, что медлить нечего — и сам открылся: будьте знакомы, друзья!
— А теперь они нам в письменных делах по кварталу помогают, — подтвердил Прудентов.
— И мне по пожарной части, — отозвался Молодкин.
— А сколько тайных благодеяниев делают! — воскликнул от полноты сердца Очищенный, — одна рука дает, другая — не ведает.*
— Ах, голуби, голуби! — воскликнул старый меняло.
Поток похвал был на минуту прерван созерцанием громадной кулебяки, которая оказалась вполне соответствующею только что съеденной ухе. Но когда были проглочены последние куски, Иван Тимофеич вновь и еще с бо́льшим рвением возвратился к прерванному разговору.
— На днях это начали мы, по требованию, в квартале «Устав о благопристойном во всех отношениях поведении» сочинять, — сказал он, — бились, бились — ни взад, ни вперед! И вдруг… они! Сейчас же сообразили, вникли, промежду себя поговорили — откуда что́ взялось! Статья за статьей! Статья за статьей!
— Так вы и законодательными работами занимаетесь? — приветливо обратился ко мне Перекусихин 1-й.
— Я всем занимаюсь-с. И сочинить закон могу, и упразднить могу. Смотря по тому, что́ в сферах требуется.
— И представьте, вашество, какую они, в видах благопристойности, штуку придумали! — продолжал рекомендовать нас Иван Тимофеич, — чтобы при каждой квартире беспременно иметь два ключа, и один из них хранить в квартале!
При этом известии даже Перекусихины рты разинули, несмотря на то, что оба достаточно-таки понаторели в законодательных трудах.
— Чтоб, значит, во всякое время: пришел гость, что́ надобно взял и ушел! — пояснил Очищенный.
— Гм… это… Это, я вам доложу… Это все равно, что без мыла в душу влезть! — молвил Перекусихин 1-й.
— Позвольте, однако ж! — обеспокоился Перекусихин 2-й, — а ежели у кого… например, деньги?
Опять все разинули рты, ибо слово Перекусихина 2-го было веское и на всех нагнало тоску. Но тут уж Иван Тимофеич вступился.
— Ах, вашество! — сказал он с чувством, — что́ же такое деньги? Деньги — наживное дело! У вас есть деньги, а вот у меня или у них (он указал на Прудентова и Молодкина) и совсем их нет! Да и что́ за сласть в этих деньгах — только соблазн один!
— Однако!
— Нет, я вам доложу, — отозвался Перекусихин 1-й, — у нас, как я на службе состоял, один отставной фельдъегерь такой проект подал: чтобы весь город на отряды разделить. Что́ ни дом, то отряд, со старшим дворником во главе.* А, кроме того, еще летучие отряды… вроде как воспособление!
— Вот это бесподобно! — откликнулись со всех сторон.
— А я так иначе бы распорядился, — сказал Редедя, — двойные ключи, отряды — это все прекрасно; а я бы по пушечке против каждого дома поставил.* В случае чего: дворник! выполняй свою обязанность!
— Бесподобно! бесподобно!
— И на случай войны не без пользы, — согласился Перекусихин 1-й, — там, какова пора ни мера, а мы — готовы! Милости просим в гости, честные господа!
Словом сказать, в какие-нибудь полчаса выплыло наружу столько оздоровительных проектов,* что злополучный меняло слушал-слушал, да и пришел в умиление.
— Ах, голуби, голуби! — вздохнул он, — всё-то вы отягощаетесь! всё-то придумываете, как бы для нас лучше, да как бы удобнее… Легко ли дело из пушек палить, а вы и того не страшитесь, лишь бы польза была!
Но упоминовение о пушках и возможности войны не могло и на разговор не повлиять соответствующим образом. На сцену выступил вопрос о боевой готовности.
— А как вы полагаете, Полкан Самсоныч, — спросил Перекусихин 1-й, — ежели теперича немец или турок… готова ли была бы Россия дать отпор?
— То есть, ежели сейчас… сию минуту… пиши пропало! — отчеканил Редедя.
— Что́ уж это так… очень уж как будто решительно! — испугался Перекусихин 1-й.
— Да как вам сказать… Что боевая сила у нас в исправности — это верно; и оружие есть… средственное, но есть — допустим и это; и даже порох найдется, коли поискать… Но чего нет, так нет — это полководцев-с! нет, нет и нет!
— Уж будто…
— Несомненно-с. И не только у нас — нигде полководцев нет! И не будет-с.
— Однако же, если есть потребность в полководцах, то должны же отыскаться и средства для удовлетворения этой потребности?
— И средства есть. И предлагали-с.
Редедя, видимо, ожесточился и начал с такою быстротой посылать ножом в рот соус с тарелки, что тарелка скрежетала, а сталь ножа, сверкая, отражалась па стене в виде мелких зайчиков.
— И штука совсем простая, — продолжал Редедя, — учредите международную корпорацию странствующих полководцев — и дело в шляпе. Ограничьте число — человек пять-шесть, не больше, — но только, чтоб они всегда были готовы. Понадобился кому полководец — выбирай любого. А не выбрал, понадеялся на своего доморощенного — не прогневайся!
— Но кого же в эту корпорацию назначать будут? и кто будет назначать?
— Охотники найдутся-с. Уж ежели кто в себе эту силу чувствует, тот зевать не будет. Сам придет и сам себя объявит…
— Гм…
Проект был удивительно странный, а с первого взгляда даже глупый. Но когда стали обсуждать и рассматривать, то и он оказался не без пользы. Главное, что соблазняло — это легкость добывания полководцев. Понадобилось воевать: господин полководец Непобедимый! вот вам войско, а сухари «верный человек» поставит — извольте вести к победам! И поведет. Идея эта до того увлекла Перекусихина 2-го, что он сейчас же начал фантазировать и отыскивать для нее применения в других ведомствах. Оказалось, что точь-в-точь такие же корпорации было бы вполне удобно устроить по ведомствам: финансов, путей сообщения, почт и телеграфов и проч. С этим мнением согласился и Очищенный.
— Теперича ежели денег нет, если баланец у кого не в исправности, — рассуждал он, — сейчас опустил руку в мешок: господин финансист Грызунов!* извольте деньги сыскать!
Меняло же, с своей стороны, так разоткровенничался, что чуть было не обнаружил своей коммерческой тайны.
— Ах, голуби, голуби! — сказал он, — и как это вы говорите: денег нет — разве можно этому быть! Есть они, деньги, только ищут их не там, где они спрятаны!
Тогда начали рассуждать о том, где деньги спрятаны и как их оттуда достать. Надеялись, что Парамонов пойдет дальше по пути откровенности, но он уж спохватился и скорчил такую мину, как будто и знать не знает, чье мясо кошка съела. Тогда возложили упование на бога и перешли к изобретениям девятнадцатого века. Говорили про пароходы и паровозы, про телеграфы и телефоны, про стеарин, парафин, олеин и керосин и во всем видели руку провидения, явно России благодеющего.
— Давно ли я сам в Москву в дилижансе на четвертые сутки поспевал? — дивился Перекусихин 2-й, — а нынче сел, поехал и приехал!
А Очищенный к сему присовокупил:
— Прежде, вашество, письма-то на почте шпильками из конвертов вылущивали — какая это времени трата была! А нынче взял, над паром секундочку подержал — читай* да почитывай!
Опять подивились, но только что хотели рассмотреть, следует ли тут видеть руку провидения, явно России благодеющего, как Перекусихин 1-й дал разговору несколько иной оборот.
— А что́, в этой Зулусии… финансы есть? — обратился он к Редеде.
— Настоящих финансов нет, а в роде финансов — как не быть!
— И деньги, стало быть, чеканят?
— Чеканить не чеканят, а та́к делают. Ест, например, Сетивайо крокодила, маленькую косточку выплюнет — рубль серебра! побольше косточку — пять, десять рублей, а ежели кость этак вершков в десять выдастся — прямо сто рублей. А министры тем временем таким же порядком разменную монету делают. Иной раз как присядут, так в один день миллиончик и подарят.
— Что́ город, то норов, что́ деревня, то обычай. Вот ведь какую лёгость придумали!
— А внутренняя политика у них есть?
— И внутренней политики настоящей нет, а есть оздоровление корней*. Тут и полиция, и юстиция, и народное просвещение — всё! Возьмут этак «голубчика» где почувствительнее, да и не выпускают, покуда всех не оговорит.
— И это лёгость большая.
— А пути сообщения есть?
— Настоящих тоже нет. Но недавно устроено министерство кукуевских катастроф. Стало быть, теперь только строить дороги поспевай.
Слово за слово, и житье-бытье зулусов открылось перед нами как на ладони. И финансы, и полиция, и юстиция, и пути сообщения, и народное просвещение — все у них есть в изобилии, но только все не настоящее, а лучше, чем настоящее. Оставалось, стало быть, разрешить вопрос: каким же образом страна, столь благоустроенная и цветущая, и притом имея такого полководца, как Редедя, так легко поддалась горсти англичан? Но и на этот вопрос Редедя ответил вполне удовлетворительно.
— Оттого и поддалась, что команды нашей они не понимают, — объяснил он, — я им командую: вперед, ребята! — а они назад прут! Туда-сюда: стойте, подлецы! — а их уж и след простыл! Я-то кой-как в ту пору улепетнул, а Сетивайо так и остался на троне середь поля!
Пожалели. Выпили по бокалу за жениха и невесту, потом за посаженых отцов, потом за Парамонова и, наконец… за Сетивайо, так как, по словам Редеди, он мог бы быть полезным для России подспорьем. Хотели еще о чем-то поговорить, но отяжелели. Наконец разнесли фрукты, и обед кончился. Натурально, я сейчас же бросился к Глумову.
Из слов его я узнал, что он предположил завтра же переехать на квартиру Редеди. И что́ всего удивительнее — передавая мне о своем решении, он не только не смутился, но даже смотрел на меняс бо́льшим достоинством, нежели обыкновенно. Признаюсь, я не ожидал, что все произойдет так легко, без борьбы, и потому рискнул сказать ему, что во всяком мало-мальски уважающем себя романе человек, задумавший поступить на содержание к женщине, которая, вдобавок, и сама находится на содержании, все-таки сколько-нибудь да покобенится. Но и на это он возразил кратко, что, однажды решившись вступить на стезю благонамеренности, он уже не считает себя в праве кобениться, а идет прямо туда, куда никакие подозрения насчет чистоты его намерений за ним не последуют. И в заключение назвал меня маловером.
Покуда мы таким образом полемизировали, Фаинушка, счастливая и вся сияющая, выдерживала новую немую сцену со стороны Перекусихина 1-го.
— Так не будет квартиры? — спрашивал взорами тайный советник.
— Не будет! — взорами же отвечала Фаинушка.
— Но в таком случае надеюсь, что хотя квартирные деньги…
— И квартирных денег не будет!
— Однако! ха-ха-ха!
Он залился горьким смехом, а счастливый Глумов толкнул меня в бок и шепнул на ухо:
— Ты посмотри на нее, бабочка-то какая! А ты еще разговариваешь… чудак! Ишь ведь она… ах!
. . . . . . . . . .
Я не стану описывать дальнейшие перипетии торжества; скажу только, что все произошло в порядке, и ба́лик в кухмистерской Завитаева прошел так весело, что танцы кончились только к утру. Все квартальные дамы Литейной и Нарвской частей тут присутствовали, кавалерами же были, по преимуществу, «червонные валеты», которых набралось до двадцати пяти штук, потому что и пристав Нарвской части уступил на этот вечер свой «хор». Но больше и искреннее всех веселился Глумов, который совсем неожиданно получил дар танцевать мелкие танцы. Правда, он выполнял эту задачу не вполне правильно: то замедлял темп, то топтался на одном месте, то вдруг впадал в бешенство и как ураган мчалсяпо зале; но Фаинушку даже неправильности его приводили в восхищение. Она не сводила с него глаз и потом всем и каждому говорила: видали ли вы что-нибудь уморительнее и… милее? Так что когда я, удивленный и встревоженный этою внезапностью, потребовал у Глумова объяснения, то она не дала ему слова сказать, а молча подала мне с конфетки билетик, на котором я прочитал:
Удивительно, ка́к странны делаются люди, когда их вдруг охватит желание нравиться! — думалось мне, покуда Глумов выделывал ногами какие-то масонские знаки около печки. Никак он не мог оторваться от этой печки, словно невидимая сила приколдовала его к ней. Лицо его исказилось, брови сдвинулись, зубы скрипели. Казалось, он даже позабыл, где он и что́ с ним происходит, а помнил только, что у него в руках находится предмет, который предстоит истрепать… А Фаинушка не только не сердилась, но весело и добродушно хохотала, видя, что все ее усилия сорвать его с места остаются напрасными. Наконец послышался треск, посыпалась штукатурка, и Глумов понесся в пространство…
Мысль, что еще сегодня утром я имел друга, а к вечеру уже утратил его, терзала меня. Сколько лет мы были неразлучны! Вместе «пущали революцию», вместе ощутили сладкие волнения шкурного самосохранения и вместе же решили вступить на стезю благонамеренности. И вот теперь я один должен идти по стезе, кишащей гадюками.
Я не обманывал себя: предстоящий путь усеян опасностями, из коих многие даже прямо могут быть названы подлостями. Но есть подлости, согласные с обстоятельствами дела, и есть подлости, которые, кроме подлости, ничего в результате не дают. Сделать подлость с тем, чтобы при помощи ее превознестись — полезно; но сделать подлость для того, чтобы прослыть только подлецом — просто обидно. Но каким тонким чутьем нужно обладать, чтобы, совершая полезные подлости, не обременять себя совершением подлостей глупых и ненужных!
В сих стеснительных обстоятельствах в особенности важны помощь и присутствие друга. У друга во всех подобного рода вопросах имеется в запасе и совет, и слово утешения. Возьмите, например, такой случай: вы идете по улице и замечаете, что впереди предстоит встреча, которая может вас скомпрометировать. Вы колеблетесь, спрашиваете себя: следует ли перебежать на другую сторону или положиться на волю божию и принять идущий навстречу удар? Вот тут-то именно и приходит на помощь друг. Ежели возможность убежать еще не исчезла, он скажет: улепетывай скорее! Если же время ушло, он предостережет: не бегай, ибо тебя уж заметили, и, следовательно, бегство может только без пользы опакостить тебя! И, наконец, ежели и за всеми предосторожностями без опакощения обойтись нельзя — он утешит, сказав: ничего! в другой раз мы в подворотню шмыгнем!
Таковы друзья… конечно, ежели они не шпионы.
Не скрою, однако ж, что в моих сетованиях на Глумова скрывалась и некоторая доля зависти. Оба мы одновременно препоясались на один и тот же подвиг, и вот я стою еще в самом начале пути, а он не только дошел до конца, но даже получил квартиру с отоплением. Ему не предстоит ни жида окрестить, ни подложные векселя писать. Поступив на содержание к содержанке, он сразу так украсил свой обывательский формуляр, что упразднил все промежуточные подробности. Теперь он хоть Маратом сделайся — и тут Иван Тимофеич скажет: не может этого быть! А я должен весь процесс мучительного оподления проделать с начала и по порядку; я должен на всякий свой шаг представить доказательство и оправдательный документ, и все это для того, чтобы получить в результате даже не усыновление, а только снисходительно брошенное разрешение: живи!
Да, нехорошо, когда старые друзья оставляют; даже в том случае нехорошо, когда, по справке, оказывается, что друг-дезертир всегда был, в сущности, прохвостом. Ежели хороший друг оставляет — горько за будущее; если оставляет объяснившийся прохвост — обидно за прошедшее. Ну, как-таки пятнадцать — двадцать лет прожить и не заметить, что в двух шагах от тебя — воняет. И что, несмотря на эту вонь, ты и душевные чертоги свои, и душевное свое гноище — все открывал настежь — кому?.. прохвосту! Но, кроме того, как хотите, а и квартира с отоплением свою прелесть имеет. Перекусихин 1-й — тайный советник! — как ни хлопотал, а Фаинушка и внимания не обратила на его мольбы. А Глумов, в чине коллежского асессора, сразу все получил без слов, без просьб, без малейших усилий. А потом пойдут пироги, закуски, да еще меняло, пожалуй, в часть по банкирским операциям возьмет! И все это досталось не мне, добросовестному труженику литературы и публицистики (от 10 до 15 копеек за строку), а ему… «гуляке праздному»!*
. . . . . . . . . .
О Балалайкине между тем совсем забыли. Как только приехали к Завитаеву, Иван Тимофеич, при двух благородных свидетелях, отдал ему остальные деньги, а с него взял расписку: «Условленную за брак сумму сполна получил». Затем он словно в воду канул; впоследствии же, как ни добивались от него, куда он пропал, он городил в ответ какую-то неслыханную чепуху:
— Я-то? Я, mon cher, сел в шарабан и в Озерки* поехал. Только ехал-ехал — что́ за чудеса! — в Мустамяки* приехал! Делать нечего, выкупался в озере, съел порцию ухи, купил у начальника станции табакерку с музыкой — вон она, в прошлом году мне ее клиент преподнес — и назад! Приезжаю домой — глядь, апелляционный срок пропустил… Сейчас — в палату. «Что, говорят, испугался? Ну, уж бог с тобой, мы для тебя задним числом…»
Так что Иван Тимофеич слушал-слушал и, наконец, не вытерпел и крикнул:
— Экой ведь ты… ах ты, ах!
Наконец в шестом часу утра, когда солнце уж наводнило улицу теплом и лучами, мы всей гурьбой отправились на Николаевскую железную дорогу проводить нашего бесценного полководца. Экстренный поезд, заказанный Араби-пашой, был совсем готов, а на платформе Редедю ожидала свита, состоявшая* из двух египтян, Хлебодара и Виночерпия*, и одного арапа, которого, как мне показалось, я когда-то видал в художественном клубе* прислуживающим за столом. При нашем появлении, за неимением египетского народного гимна, присланные московскими миткалевыми фабрикантами певчие грянули: «Иде домув муй»*.
Редедя молодецким аллюром подкатил к свите и скомандовал:
— Налево круг-го́м!
Послышался звук холодного оружия; по направлению к вагонам раздались удаляющиеся шаги.
Когда все смолкло, Редедя обратился к нам и, видя, что братья Перекусихины плачут, взволнованным голосом произнес:
— Успокойтесь, старики. Съезжу в Каир, получу прогонные деньги, сдам Араби-пашу в плен — жаль однокашника, а делать нечего! — и возвращусь.
Сказавши это, он проследовал в вагон, а за ним разместились по вагонам и певчие.
Поезд помчался.
Мы долго стояли на опустевшей платформе и махали платками, желая египтянам победы и одоления.
— Вот увидите, — сказал пророческим голосом Глумов, — если Редедя предоставит нашим миткалям путь в Индию — не миновать ему монумента в Вознесенском посаде!*
— А быть может, и в Москве, в Ножо́вой линии*, — отозвался чей-то голос.
Тогда Очищенный не выдержал и торжественно, от лица редакции «Красы Демидрона», провозгласил:
— Sapienti sat![22]
. . . . . . . . . .
Когда я проснулся, на столе у меня лежал только что отпечатанный нумер «Красы Демидрона», в котором «наш собственный корреспондент» отдавал подробный отчет о вчерашнем празднестве. Привожу этот отчет дословно.
«Вчера на одной из невидных окраин нашей столицы произошло скромное, но знаменательное торжество. Одно из светил нашего юридического мира, беспроигрышный адвокат Балалайкин вступил в брак с сироткой — воспитанницей известного банкира Парамонова, Фаиной Егоровной Стёгнушкиной, которая, впрочем, уже несколько лет самостоятельно производит оптовую торговлю на Калашниковской пристани. Смотря на молодых, можно было только радоваться: оба одинаково согреты пламенем любви и оба одинаково молоды и могучи! И, вместе с тем, страшно было подумать, какой страстной драме предстояло, через несколько часов, разыграться среди стен дома Стёгнушкиной, который еще утром так целомудренно смотрелся в волны Обводного канала! И сладко, и жутко…
Всем известная приветливость и любезное обращение г. Балалайкина (кто изклиентов уходил от него без папиросы?) в значительной степени скрашивали его телесные недостатки; что́ же касается до невесты, то красотою своею она напоминала знойную дочь юга, испанку. Дайте ей в руки кастаньеты — и вот вам качуча! И зной и холод, и страстность и гордое разнодушие, и движение и покой — все здесь соединилось в одном гармоническом целом, и образовало нечто загадочное, отвратительно-пленительное… Из числа присутствующих в особенности выдавались два маститых сановника, из коих один, получив в Уфимской губернии землю, с благодарностью ее возвратил, другой же не возвратил, ибо не получил. Не менее видную роль играл и наш знаменитый странствующий витязь-богатырь, Полкан Самсонович Редедя, который прямо с праздника умчался в далекую страну фараонов, куда призывает его мятежный Араби-паша. Бал в кухмистерской Завитаева отличался простодушным увлечением. Танцевали как попало, ибо, благодаря изобильному угощению, большинство гостей сбросило с себя оковы светской условности и заменило их пленительною нестеснительностью. Однако ж и затем нестерпимых невежеств не произошло. Веселье кончилось в пять часов утра, но, весьма вероятно, оно продолжалось бы и до настоящей минуты, если б новобрачный не обнаружил знаков нетерпения (очень естественных в его положении), которые дали понять гостям, что молодым не до них. После сего все разъехались, а молодые отправились в свой дом, на пороге которогоих ожидал малютка-купидон и, наверное, взял с счастливцев установленную пошлину, прежде нежели допустил их забыться в объятиях Морфея.
Не можем умолчать при этом и еще об одном достопримечательном факте, вызванном тем же торжеством. Двое из самых вредных наших нигилистов, снисходя к просьбам новобрачных, согласились навсегда оставить скользкий путь либерализма и тут же, при всех, твердою стопой вступили на стезю благонамеренности.
Бог да поможет им соблюсти себя в чистоте!»
А еще через час я получил от Глумова депешу:
«Я в эмпиреях. С неделю повремени приходить».
XIV*
Оставшись в одиночестве, я разом почувствовал свою беспомощность. Зная себя, как человека слабохарактерного, я не без основания опасался сделаться игралищем страстей со стороны всякого встречного, которому вздумалось бы предъявить на меня права. Я мысленно уже видел устремленные на меня очи крамолы, я ощущал ее тлетворное дыхание, слышал ее льстивые речи, предвкушал свое грехопадение и не мог определить только одного: какой сорт крамолы скорее пристигнет меня. Странные, совершенно невероятные слухи ходили в то время по городу. Одни рассказывали, будто два старые крамольника, Зачинщиков и Запевалов, которые еще при Анне Леопольдовне способствовали вступлению Елисаветы Петровны на прародительский престол, ходят по квартирам и заставляют беззащитных обывателей петь, вместе с ними, трио из «Карла Смелого», которого они изменнически называют «Вильгельмом Теллем»*. Другие, напротив, утверждали, что по квартирам ходят не Зачинщиков и Запевалов, а Выжлятников и Борзятников, внучатные племянники Шешковского, которые самовольно вынырнули неизвестно откуда, и требуют от обывателей, кроме паспортов*, предъявления образа мыслей, и заставляют их петь «Звон победы раздавайся».*
Говорили об этом и на конках, и в мелочных лавочках, и в дворницких, словом — везде, где современная внутренняя политика почерпает свои вдохновения.* И странное дело! — хотя я, как человек, кончивший курс наук в высшем учебном заведении, не верил этим рассказам, но все-таки инстинктивно чего-то ждал. Думал: придут, заставят петь… сумею ли?
Вообще, нынче как-то совсем разучились жить покойно. Всякий (не исключая и несомненных гороховых шутов) пристраивает себя к внутренней политике и, смотря по количеству ожидаемых пирогов, объявляет себя или благонамеренным, или ненеблагонамеренным (особенный политический термин, народившийся в последнее время, нечто среднее между благовременною благонамеренностью и благонамеренностью неблаговременною). Разница тут самая пустая, а между тем люди подсиживают и калечат друг друга, утруждают начальство, а в жизнь вносят бестолковейшую из смут. И все из-за того, чтобы захватить в свою пользу безраздельную торговлю благонамеренностью распивочно и навынос.*
Коли хотите, в этом немало виновато и само начальство. Оно слишком серьезно отнеслось к этим пререканиям и, по-видимому, даже поверило, что на свете существует партия благонамеренных, отличная от партии ненеблагонамеренных. И, вместо того, чтобы сказать и той и другой:*
впуталось в их взаимные пререкания, поощряло, прижимало, соболезновало, предостерегало. А «партии», видя это косвенное признание их существования, ожесточались всё больше и больше, и теперь дело дошло до того, что угроза каторгой есть самое обыкновенное мерило, с помощью которого одна «партия» оценивает мнения и действия другой.
К сожалению, всего более страдают от этого междоусобия невинные обыватели. Будучи поставлены между враждебных партий, из которых каждая угрожает каторгой, и не понимая, что́ собственно в данном случае от них требуется, эти люди отрываются от своих обычных занятий и всецело посвящают себя отгадыванию нелепых загадок. Переживая процесс этого отгадывания, одни мечутся из угла в угол, а другие (в том числе Глумов и я) даже делаются участниками преступлений, в надежде, что общий уголовный кодекс защитит их от притязаний кодекса уголовно-политического. В самом деле, видеть на каждом шагу испытывающие и угрожающие лица, слышать вопросы, implicite[23] заключающие в себе обещание каторги, вращаться среди полемики, в основании которой положены обвинения в измене, пособничестве, укрывательстве и т. п., — право, это хоть кого может озадачить. А коль скоро произошло озадачение, то следом за ним непременно начинаются метания, перебегания, предательства, позор…
Все это я совершенно ясно сознавал теперь, в своем одиночестве.
Я никак не предполагал, чтоб дезертирство Глумова могло произвести такую пустоту в моем жизненном обиходе. А между тем, случайно или неслучайно, с его изчезновением все мои новые друзья словно сгинули. Три дня сряду я не слышал никаких слов, кроме краткого приглашения: кушать подано! Даже паспорта ни разу не спросили, что уже ясно свидетельствовало, что я нахожусь на самом дне реки забвения.
Ни Иван Тимофеич, ни Кшепшицюльский, ни Очищенный — никто не поинтересовался мною. Да, признаться, без пособия Глумова я вряд ли и сумел бы что-нибудь сказать им. Есть люди, с которыми можно беседовать только сообща, чтоб товарищ товарищу помогал. Один одно слово бросит, другой это слово на лету подхватит и другое подкинет — смотришь, ан разговор. Все равно как бумажки на полу: одна бумажка — просто только бумажка, а много бумажек — сор. Раза два я видел, как Молодкин проскакал на пожарной трубе мимо нашего дома и всякий раз заглядывал в мои окна и даже посылал мне воздушный поцелуй. Но как я ни заманивал его — однажды даже подстерег со штофом в одной руке и с рюмкой в другой — он только головой в ответ мотал. Так я и остался ни при чем.
Я чувствовал, что надо мной что-то висит: или трагедия, или шутовство. В сущности, впрочем, это одно и то же, потому что бывают такие жестокие шутовства, которые далеко оставляют за собой коллизии самые трагические. Помнится, Очищенный как-то обмолвился, сказав, что мы всю жизнь между трагедий ходим и только потому не замечаем этого, что трагедии наши чересчур уж коротенькие и внезапные. Очевидно, он не договорил. Трагедии у нас, действительно, одноактные (взвился занавес и тотчас же опустился над убиенными), но трагедия растянулась на такое бесчисленное множество актов, как нигде. И притом осложнилась шутовством. Не обращаем же мы на них внимания совсем не потому, чтоб внезапность упраздняла боль, а потому, что деваться от трагедий некуда, и, следовательно, хоть жалуйся, хоть нет — все равно терпеть надо.
Понятно, что, поджидая с часа на час вторжения в мою жизнь шутовской трагедии, я не мог не волноваться сомнениями самого неопрятного свойства. А что́, если она пристигнет меня врасплох? что́, если она прижмет меня к стене и скажет: выкладывай все, что́ у тебя есть! не виляй хвостом, не путайся в словах, не ссылайся, не оговаривайся, а отвечай прямо, точно, определенно!*
Как я поступлю в виду этих настояний? стану ли просить об отсрочке? Но ведь это именно и будет «виляние хвостом». Скажу ли прямо, что не могу примкнуть к суматохе, потому что считаю ее самою несостоятельною формою общежития? Но ведь суматоха никогда не признаёт себя таковою, а присвоивает себе наименование «порядка»… — Кто говорит вам о суматохе? — ответят мне, — ему о порядке напоминают, к защите порядка его призывают, а он «суматоху» приплел… хорош гусь!
Ах, этот шкурный вопрос! всякую минуту, на всяком месте он так и мелькает, так и вгрызается в жизнь!
Нет ничего капризнее недомыслия, когда оно взбудоражено и вдобавок чувствует, что в его распоряжении находится людское малодушие и людское искательство. Оно не уступит ни пяди, не задумается ни перед силой убеждений, ни перед логикой, а будет все напирать да напирать. Оно у всех предполагает ответ готовым (начертанным в сердцах) и потому требует его немедленно, сейчас: да или нет?
. . . . . . . . . .
Наконец выдалось утро, в продолжение которого предчувствия мои осуществились вполне.
Я сидел, углубившись в чтение календаря, как вдруг передо мной, словно из-под земли, вырос неизвестный мужчина (надо сказать, что с тех пор, как произошло мое вступление на путь благонамеренности, я держу двери своей квартиры открытыми, чтоб «гость» прямо мог войти в мой кабинет и убедиться в моей невинности).
— За календарь взялись? — приветствовал он меня, — отлично… ха-ха!*
Я взглянул. Мужчина стоял высокий, дородный и, по-видимому, веселый. Большая волосатая голова с плоским лицом, на котором природа резко, но без малейшего признака тщательности вырубила полагающиеся по штату выпуклости и углубления, плотно сидела на короткой шее, среди широких плеч. Весь он был сколочен прочно и могуче, словно всею фигурой говорил: мучить понапрасну не стану, а убить — могу. Ноги — как у носорога, руки — фельдъегерские, голос — валит как из пропасти. Но не было в этой фигуре кляузы, и это производило до известной степени примиряющее впечатление. Казалось, что если уж нельзя обойтись без «гостя», то лучше пусть будет этот, наглый, но не кляузный, нежели другой, который, пользуясь безнаказанностью, яко даром небес, в то же время вонзает в вас жало кляузы. Весьма вероятно, что это неуклюжее тело когда-то знавало лучшие времена. Сначала жил-был enfant de bonne maison,[24] потом жил-был лихой корнет, потом — блестящий вивёр*, потом — вивёр прогоревший, потом — ташкентец* или обруситель и, наконец, — благонамеренный крамольник.* И действительно, когда я всмотрелся в него попристальнее, в голове моей что-то мелькнуло, какой-то отрывок прошлого…
— На путь благонамеренности вступили?.. ха-ха! — продолжал он, без церемоний усаживаясь в кресло.
Но я все еще вглядывался и припоминал. Положительно, что-то было!
— Что глядите — он самый и есть… ха-ха!
— Выжлятников! да ведь вы находитесь под судом! — невольно вырвалось у меня.
Я вспомнил окончательно. Действительно, передо мной находился прогоревший вивёр*, которого я когда-то знал полициймейстером в Т.
— Эк, батюшка, хватились! Я после того еще два раза под судом был. Хотите, я вам, в кратких словах, весь свой формуляр расскажу? — Отчего ж! с удовольствием! В Ташкенте — был, обрусителем — был, под судом — был. Купца — бил, мещанина — бил, мужика — бил. Водку — пил. Ха-ха!
Каждую фразу он подчеркивал хохотом, в котором слышался цинизм, странным образом перемешанный с добродушием.
— Я, сударь, скептик, — продолжал он, — а может быть, и киник. В суды не верю и решений их не признаю.* Кабы я верил, меня бы давно уж засудили, а я, как видите, жив. Но к делу. Так вы на путь благонамеренности вступили… ха-ха!
— Но мне кажется, что я и прежде… — оговорился я.
— И прежде, и после, и теперь… не в том дело! Я и про себя не знаю, точно ли я благонамеренный или только так… А вы вот что́: не хотите ли «к нам» поступить?*
— А вы при какой крамоле состоите? при потрясательно-злонамеренной или при потрясательно-благонамеренной?
— Угадайте!
— Зачем угадывать? не имею надобности.
— Ежели я вам назову… ну, хоть «кружок любителей статистики»… ха-ха!
— Устав утвержден?
— Чудак вы!
— В таком случае, извините. Хоть я и люблю статистику, но не чувствую ни малейшей потребности прибегать к тайне, коль скоро могу явно…
— А явно — это особо! И явно, и тайно — милости просим всячески! А ну-ка, благослови господи… по рукам!
— Ей-богу, не могу.
— Да вы подумайте, что́ такое есть ваша жизнь? — ведь это кукуевская катастрофа — только и можно сказать про нее! Разве вы живете хоть одну минуту так, как бы вам хотелось? — никогда, ни минуты!* читать вы любите — вместо книг календарь перечитываете; общество любите — вместо людей с Кшепшицюльским компанию водите; писать любите — стараетесь не буквы, а каракули выводить! Словом сказать, постоянно по кукуевской насыпи едете. И все это только для того, чтоб в квартале об вас сказали: «Какой же это опасный человек! это самый обыкновенный шалопай!» Ну, сообразно ли это с чем-нибудь?
Разумеется, я и сам понимал, что ни с чем несообразно, но все-таки повторил: — не могу.
— На днях для этой цели вы двоеженство устроили, — продолжал он, — а в будущем, может быть, понадобится и подлог…
При этих словах у меня даже волосы на голове зашевелились.
— Да, и подлог, — повторил он, — потому что требования все повышаются и повышаются, а сообразно с этим должна повышаться и температура вашей готовности… Ну хорошо, допустим. Допустим, что вы выполнили свою программу до конца — разве это результат? Разве вам поверят? Разве не скажут: это в нем шкура заговорила, а настоящей искренности в его поступках все-таки нет.
Я продолжал упорствовать.
— Вот если бы вам поверили, что вы действительно… тово… это был бы результат! А ведь, в сущности, вы можете достигнуть этого результата, не делая никаких усилий. Ни разговоров с Кшепшицюльским от вас не потребуется, ни подлогов — ничего. Придите прямо, просто, откровенно: вот, мол, я! И все для вас сделается ясным. И вы всем поверите, и вам все поверят. Скажут: это человек искренний, настоящий; ему можно верить, потому что он не о спасении шкуры думает, а об ее украшении… ха-ха!*
— Но этого-то именно я и не хочу… украшений этих! — возмутился я.
— То-то вот вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, да еще претендуете, чтобы она вам даром досталась! А ведь, по-настоящему, надо ее заслужить!
— Послушайте! ведь кажется, что шкура и от природы даром полагается?
— Это смотря. Об этом еще диспут идет. Ноне так рассуждают: ты говоришь, что коль скоро ты ничего не сделал, так, стало быть, шкура — твоя? Ан это неправильно. Ничего-то не делать всякий может, а ты делать делай, да так, чтоб тебя похвалили!
— Как хотите, а это, в сущности, только кляузно, но не умно!
— И я говорю, что глупо, да ведь разве я это от себя выдумал? Мне наплевать — только и всего. Ну, да довольно об этом. Так вы об украшении шкуры не думаете? Бескорыстие, значит, в предмете имеете? Прекрасно. И бескорыстие — полезная штука. Потому что из-под бескорыстия-то, смотрите, какие иногда перспективы выскакивают!.. Так по рукам, что ли?
— Нет, нет и нет.
Тогда он стал убеждать меня вплотную. Говорил, что никакого особливого оказательства с моей стороны не потребуется, что все ограничивается одними научными наблюдениями по части основ и краеугольных камней, и только изредка проверкою паспортов… ха-ха! Что теперь время дачное, и поле для наблюдений самое удобное, потому что на дачах живут нараспашку и оставляют окна и двери балконов открытыми. Что, собственно говоря, тут нет даже подсиживания, а именно только статистика, которая, без сомнения, не останется без пользы и для будущего историка. И наконец, что мне, как исследователю признаков современности, не только полезно, но и необходимо освежить запас наблюдений новыми данными, взятыми из сфер, доселе мне недоступных.
Словом сказать, так меня заговорил, что я таки не выдержал и заинтересовался.
— Какую же вы статистику собираете? — спросил я, — через кого? ка́к?
— Статистика наша имеет в виду приведение в ясность современное настроение умов. Кто об чем думает, кто с кем и об чем говорит, чего желает. Вот.
— Чудесно. Стало быть, у вас для статистических разведок и доверенные люди есть?
— Производство разведок поручается опытным статистикам (непременное условие, чтоб не меньше двух раз под судом был… ха-ха!), которые устраивают их, согласуясь с обстоятельствами. Например, лето нынче стоит жаркое, и, следовательно, много купальщиков. Сейчас наш статистик — бултых в воду! — и начинает нырять.*
— Ах, боже! то-то я, купаючись, всякий раз вижу, что какой-то незнакомец около меня круги делает!
— Это он самый и есть. А вот и другой пример: приспело время для фруктов — сейчас наш статистик лоток на голову, и пошел статистику собирать.
— Но послушайте! ведь этак ваши «статистики» таких чудес насоберут, что житья от них никому не будет.
— А я про что́ ж говорю! я про то и говорю, что никому не будет житья!
— Но ведь это… междоусобие?
— И я говорю: междоусобие.
Я удивленно взглянул на него во все глаза.
— А вам-то что! — воскликнул он, разражаясь раскатистым хохотом.
— Как что! — заторопился я, — да ведь я… ведь вы… ведь у нас… есть отечество, родина… ведь мы должны… мы не имеем права смущать…
— Чудак! шкуру бережет, подлоги сбирается делать, а об отечестве плачется!
. . . . . . . . . .
Выжлятников пробыл у меня еще с час и все соблазнял. Рассказывал, как у них хорошо: все под нумерами, и все переодетые* — точь-в-точь как в водевиле «Актер, каких мало*». Руководители имеют в виду благо общества и потому действуют безвозмездно, исполнители же блага общества в виду не имеют и, взамен того, пользуются соответствующим вознаграждением.*
— И странное дело! — заключил он, — сколько бы раз ни был человек под судом, а к нам поступит — все судимости разом как рукой с него снимет!*
К чести своей, однако ж, я должен сказать, что устоял. Одно время чуть было у меня не сползло с языка нечто вроде обещания подумать и посмотреть, но на этот раз, слава богу, Выжлятников сам сплошал. Снялся с кресла и оставил меня, обещавши в непродолжительном времени зайти опять и возобновить разговор.
Но в этот день мне особенно посчастливилось: «гости» следовали один за другим. Не успел я проводить Выжлятникова, как появилась особа женского пола. Молоденькая, маленькая, не без приятностей, но как будто слегка растерянная. Вероятно, она не сама собой в крамолу попала, а сначала братцы или кузены воспламенились статистикой, а потом уж и ее воспламенили. Очевидно, она позабыла, зачем пришла, потому что села против меня и долго молча на меня смотрела. Мне показалось даже, что у нее на глазках навернулись слезки, оттого ли, что ей жалко меня стало, или оттого, что «ах, какая я несчастная!». Наконец я сам решился ей помочь в ее миссии.
— Вы от крамолы, что ли? — спросил я.
Тогда она вспомнила и произнесла:
— Ах, да… Голубчик! переходите к нам!
Это было сказано так мило, как будто она приглашала меня перейти из кабинета в гостиную. Очень даже возможно, что она именно так и смотрела на свою миссию, потому что, когда я высказал ей это предположение, она нимало не удивилась и сказала:
— Ну, так что́ ж! и перейдите!
Тогда я, взяв ее за ручки, сказал: «Ах, боже мой!» — и обещал…
Потом пришел преклонных лет старец и отрекомендовался: — ваш искренний доброжелатель. — Этот начал без обиняков:
— Нельзя так, сударь мой, нельзя-с!
— В чем же я, вашество, провинился?
— Во всем-с. Скверно у нас, гадко, ни на́ что не похоже — не спорю! Но так… нельзя-с!
Он волновался и беспокоился, хотя не мог сказать, об чем. По-видимому, что-то было для него ясно, только он не понимал, что́ именно. Оттого он и повторял так настойчиво: не-льзя-с! Еще родители его это слово повторяли, и так как для них, действительно, было все ясно, то он думал, что и ему, если он будет одно и то же слово долбить, когда-нибудь будет ясно. Но когда он увидел, что и он ничего не понимает, и я ничего не понимаю, то решился, как говорится, «положить мне в рот».
— Цели не вижу-с! — произнес он, — не вижу цели-с! Всеможно-с: и критиковать, и указывать, и предъявлять… но та́к… нельзя-с!*
— Ах, вашество!*
— Цели нет-с — это главное. Гадко у нас, мерзко-с — это знает всякий! Но надобно иметь в виду цель*, а ее-то я и не вижу-с!
— Вашество! да кто же нынче какие-нибудь цели имеет! Живут, как бог пошлет. Прошел день, прошла ночь, а потом опять день да ночь…
— Вы говорите: как бог пошлет? — прекрасно-с! — вот вам и цель-с! Благополучно прошел день, спокойно — и слава богу! И завтра будет день, и послезавтра будет день, а вы — живите! И за границей не лучше живут! Но там — довольны, а мы — недовольны!
Говоря это, старик волновался-волновался и наконец так закашлялся, что я инстинктивно бросился к нему и стал растирать ему грудь.
— Вот видите! — сказал он, успокоиваясь, — нача́ла-то в вас положены добрые! Вы и ближнему помочь готовы, и к старости уважение имеете… отчего же вы не во всем так? Ах, молодой человек, молодой человек! дайте мне слово, что вы исправитесь!
— Но что́ же я такое…
— Ничего «такого», а просто: та́к нельзя! — загвоздил он опять, — нельзя так, цели нет! И за границей живут, и у нас живут; там не ропщут, а у нас — ропщут! Почему там не ропщут? — потому что роптать не́ на что! почему у нас ропщут? — потому что нельзя не роптать! Постойте! кажется, я что́-то такое сказал?
— Ничего, вашество, все слава богу!
— Прекрасно. Обещайте же мне…
Но тут опять его пристиг пароксизм кашля. Взрывы следовали за взрывами, а в промежутках он говорил:
— Тридцать лет… кашляю… все вот так… В губернаторах двадцать лет кашлял… теперь в звании сенатора… десять лет кашляю… Что́, по-вашему, это значит? А то, мой друг, что я и еще тридцать лет прокашлять могу!*
— Дай-то бог! — отозвался я.*
— И даже мер особливых не принимаю, потому что — цель вижу! — уверенно продолжал он. — Вижу цель и знаю, что созидаемое мною здание — прочно!* А вы цели не видите и строите на песце!.. Нехорошо-с! нельзя-с!
Он встал и долго смотрел мне в глаза, отечески укоризненно покачивая головой.
— Утешь, мой друг, старика! — воскликнул он, простирая ко мне объятия.
Я не выдержал и устремился. Я не понимал, что́ именно обещаю, но обещал. Он же гладил меня по голове и говорил:
— Всегда я утверждал, что лаской можно из него сделать… все!
После всех пришел дальний родственник (в роде внучатного племянника) и объявил, что он все лето ходил с бабами в лес по ягоды и этим способом успел проследить два важные потрясения. За это он, сверх жалованья, получил сдельно 99 р. 3 к., да черники продал в Рамбове на 3 руб. 87 коп. Да, сверх того, общество поощрения художеств обещало устроить в его пользу подписку.
— Не хотите ли, дяденька, поступить?
Но на этот раз я рассердился.
XV*
Весь день я раздумывал, каким образом я выполню принятые обязательства, или, лучше сказать, каким способом уклонюсь от их выполнения. Еще недавно мы с Глумовым провели день в окрестностях Петербурга, встретили в лесу статистика, который под видом собирания грибов производил разведки. И та́к он мне показался нехорош из себя, что при одной мысли о возможности очутиться в роли купальщика или собирателя грибов меня тошнило. Но спрашивается: что́ же предстоит предпринять, ежели вопрос будет поставлен так: или собирай статистику, или навсегда оставайся в списке неблагонамеренных и езди по кукуевской насыпи?
Понятно, ка́к я обрадовался, когда на другой день утром пришел ко мне Глумов. Он был весел и весь сиял, хотя лицо его несколько побледнело и нос обострился. Очевидно, он прибежал с намерением рассказать мне эпопею своей любви, но я на первых же словах прервал его. Не нынче завтра Выжлятников мог дать мне второе предостережение,* а старик и девушка, наверное, уже сию минуту поджидают меня. Что же касается до племянника, то он, конечно, уж доставил куда следует статистический материал. Ка́к теперь быть?
— Бежать надо! — сразу решил Глумов.
— А ты?
— И я заодно. И Фаинушку с собой возьмем… бабочка-то какая! золото!
— Куда же мы побежим?
— А будем постепенно подвигаться вперед. Сначала по железной дороге поедем, потом на пароход пересядем, потом на тройке поедем или опять по железной дороге. Надоест ехать, остановимся. Провизии с собой возьмем, в деревню этнографическую экскурсию сделаем, молока, черного хлеба купим, станем песни, былины записывать; если найдем слепенького кобзаря — в Петербург напоказ привезем.
— Чудак! это прежде былины-то по деревням собирали, а нынче за такое дело руки к лопаткам и марш в холодную!
— А ежели всех постигает такая участь, так и мы от миру не прочь. Я уж Фаинушку спрашивал: пойдешь ты за мною в народ? — Хоть на край света! говорит. Для науки, любезный друг, и в холодной посидеть можно!
— Вот, Глумов, тебе об деле говорят, а ты всё шутки шутишь!
— Нимало не шучу. Говорю тебе: бежать надо — и бежим. Ждать здесь нечего. Спасать шкуру я согласен, но украшать или приспосабливать ее — слуга покорный! А я же кстати и весточку тебе такую принес, что как раз к нашему побегу подходит. Представь себе, ведь Онуфрий-то целых полмиллиона на университет отвалил.
— На сибирский?
— Нет, новый хочет взбодрить, в новых землях. В Самарканде или в Маргелане — еще не решили.
— А про кафедру митирогнозии для Очищенного не забыл?
— Помилуй, Онуфрий сам именно ее и имел в виду. При сношениях с инородцами нет, говорит, этой науки полезнее.
— То-то будет рад почтенный старичок!
— Мы, любезный друг, и об Редеде вспомнили. Так как, по нынешним обстоятельствам, потребности в политической экономки не предвидится, то он науку о распространении московских плисов и миткалей будет в новом университете читать.
— И бесподобно! Для Маргелана и этих двух наук за глаза довольно!
— Вот мы в ту сторону и направимся средним ходом. Сначала к тебе, в Проплёванную, заедем — может, дом-то еще не совсем изныл; потом в Моршу, к Фаинушкиным сродственникам махнем, оттуда — в Нижний-Домов, где Фаинушкина тетенька у богатого скопца в кухарках живет, а по дороге где-нибудь и жида окрестим. Уж Онуфрий об этом и переговоры какие-то втайне ведет. Надеется он, со временем, из жида менялу сделать.
— Но если мы уедем, кто же об университете хлопотать будет?
— А мы Балалайкину полную доверенность выдадим. Он, брат, что угодно выхлопочет!
— Глумов! так пошлем же поскорей за Очищенным!
— И за ним, и за Балалайкиным. Переговорим, что́ следует, а потом, все вместе — обедать к Фаинушке.
Через час Очищенный и Балалайкин были уже с нами. Почтенный старик, услыхав об ожидающей его на Востоке просветительной миссии, хотел было в виде образчика произнести несколько сногсшибательных выражений, но от слез ни слова не мог выговорить. Когда же успокоился, то просил об одном: чтобы предположенное по штату жалованье начать производить ему, не дожидаясь открытия университета, а теперь же, со дня объявления ему радости. Что же касается до Балалайкина, то и он очень серьезно отнесся к предстоящей обязанности, так что, когда Глумов предостерег его:
— Ты смотри, Балалайка! в одно ухо влезь, а в другое вылезь! — то он приосанился и уверенным тоном ответил:
— За меня, господа, не беспокойтесь! Я одно такое средство знаю, что самый «что́ называется» — и тот не решится его употребить! А я решусь.
Тогда мы убедились, что дело просвещения русского Востока находится в хороших руках, и уже совсем было собрались к Фаинушке, как Очищенный остановил нас.
— Уж коли на то пошло, — сказал он, — так и я свой секрет открою. Выдумал я штуку одну. Не то чтобы особливую, но пользительную. Как вы думаете, господа, ежели теперича по всей России обязательное страхование жизни ввести — выйдет из этого польза или нет?
Вопрос этот настолько озадачил нас, что мы смотрели на Очищенного, вытаращив глаза. Но Глумов уже что-то схватил на лету. Он один глаз зажмурил, а другим вглядывался: это всегда с ним бывало, когда он соображал или вычислял.
— По новейшим известиям, сколько имеется в России жителей? — продолжал Очищенный.
— По последнему календарю Суворина, в 1879 году числилось 98 516 398 душ, — ответил я.
— Значит, если обложить по рублю с души — будет 98 516 398 рублей. Хорошо. Это — доход. Теперича при ежегодном взносе по рублю с души, как вы думаете, какую, на случай смерти, премию можно назначить? Так, круглым числом?
Бросились к суворинскому календарю, стали искать, нет ли статьи о движении народонаселения, но таковой не оказалось. Тогда начали припоминать, что говорилось по этому поводу в старинных статистиках, и припомнили, что, кажется, средний человеческий возраст определялся тридцатью одним годом.
— Тридцать один рубль, — предложил Глумов.
— А я назначаю тридцать пять! — воскликнул Очищенный в порыве великодушия.
— Что́ ты! — набросились мы на него, — ты пойми, кто воспользуется твоим страхованием! ведь мужик воспользуется! ему и тридцати одного рубля за глаза довольно!
Но Очищенный убедительно просил удержать цифру 35, так как, ввиду народной политики,* эта надбавка может послужить хорошей рекомендацией.
— Теперича какое, по вашему мнению, ежегодно число смертей может быть? — продолжал он.
Опять бросились к календарю, и опять ничего не нашли. Но приблизительно вывели, что с 1870 года по 1879-й средний ежегодный прирост населения простирался до 1500 000 душ. Но сколько ежегодно было родившихся и сколько умерших? Это взялся определить уже сам Очищенный при пособии кокоревского глазомера.*
— Из 98 516 398 душ предположим наполовину баб, — сказал он, — получится круглым числом 49 миллионов баб. Из них наполовину откинем старых и малых — останется двадцать четыре с половиной миллиона способных к деторождению. Из этой половины откинем хоть тоже половину бесплодных и могущих вместить девство — останется с небольшим двенадцать миллионов. Каждая из этих плодущих баб пущай раз в три года родит — кажется, довольно? — получится четыре миллиона рождений. Выключите отсюда прирост в полтора миллиона — определится смертность в два с половиной миллиона душ. По тридцати пяти рублей на каждую умирающую душу — сколько это денег будет?
— Восемьдесят семь миллионов с половиной! — бойко ответили мы.
— А ежели вычесть этот расход из дохода (в 98 с половиной миллионов), сколько в пользу страхового общества останется прибыли?
— Один-над-цать мил-ли-о-нов!!
— Только и всего-с.
Очищенный торжественно умолк. На нас слова «страховое общество» тоже подействовали подавляющим образом. Никак мы этого не ожидали. Мы думали, что старик просто, от нечего делать, статистикой балуется, а он, поди-тко, какую штуку удрал!
— Это, братец, так хорошо, — первый опомнился Глумов, — что я предлагаю из прибылей жертвовать по рублю серебром в пользу новорожденных… в роде как на обзаведение!
— А я — половину акций оставляю за собой! — прибавил Балалайкин, но Очищенный так на него зарычал, что он сейчас же согласился на одну четверть.
— Позвольте, господа! — с своей стороны отозвался я, — все это отлично, но мы упустили из вида одно: недоимщиков. Известно, что русский крестьянин…
Я уже совсем было собрался прочитать лекцию освойствах русского крестьянина, но Очищенный на первых же словах прервал меня.
— А для нас тем и лучше-с, — сказал он просто.
— Как так?
— А вот как-с. Всякий, кто хоть раз не взнес своевременно рубля серебром, тем самым навсегда лишается права на страховую премию — это правило-с. Теперь возьмите: сколько найдется таких, которые много лет платят и вдруг потом перестают? — ведь прежние-то уплаты, стало быть, полностью в пользу общества пойдут! А во-вторых, и еще: предположим, что число недоимщиков возрастет до одной трети; стало быть, доход общества, приблизительно, уменьшится на тридцать три миллиона рублей. Но ведь одновременно с этим уменьшится и количество выдаваемых премий, да не на треть уменьшится, а наполовину и даже более. Почему наполовину? — а по той простой причине, что смертность между недоимщиками всегда бывает больше, нежели между исправными плательщиками. И таким образом, ежели это предположение осуществится, мы будем иметь дохода шестьдесят пять миллионов, а расхода на уплату одного миллиона трехсот тысяч премий потребуется сорок миллионов пятьсот тысяч. В остатке — четырнадцать миллионов.
— Браво, Иван Иваныч, браво! — воскликнули мы.
— Но скажи мне, голубчик, какими судьбами ты до такой изумительной комбинации дошел? — полюбопытствовал Глумов.
— Бог меня большими дарованиями не наградил, — ответил почтенный старик скромно, — но я и из маленьких стараюсь извлечь, что могу. Похаживаю между людьми, прислушиваюсь. Намеднись слышу, один умный господин предлагает проект: учредить страховое общество на случай крушения железнодорожных поездов. Чтоб с каждого, значит, пассажира необременительный, но обязательный сбор был, а потом, в случае крушения, чтобы премия — хорошо-с? Ну, слушал я, слушал — и вдруг мне блеснуло: а что, ежели эту самую мысль да в обширных размерах осуществить? И придумал.
— И как еще придумал! — похвалил Глумов, — и деточек не забыл! Добрый ты — вот что в тебе дорого! Теперича возьмем хоть такой случай: умирает какой-нибудь одномесячный пузырь… Прежде — как было? И гробик ему отец с матерью сделай, и попу за погребенье отдай — смотришь, пять-то рублей между рук ушли! Из каких доходов? где бедняку мужичку эти пять рублей достать? А на будущее время: умер пузырь — сейчас семейству тридцать пять рублей… вот вам! Тридцать рублей, как копеечка, чистого барыша! а в крестьянском быту на тридцать-то рублей корову купить можно! Шутка!
— И даже прекраснейшую-с, — подтвердил Очищенный.
Затем оставалось только приступить к развитию дальнейших способов осуществления выдумки Очищенного, но я, будучи в этот день настроен особенно придирчиво, счел нужным предложить собранию еще один, последний, вопрос.
— Прекрасно, — сказал я, — но меня смущает одно. Упомянули вы про народную политику. Допустим, что при ней вам легко будет исходатайствовать разрешение на осуществление предприятия, польза коего для народа несомненна. Но представьте себе такой случай: завтра народная политика выходит из употребления, а на ее место вступает политика не народная. Как в сем разе поступить? Не предвидите ли вы, что данное вам разрешение будет немедленно отменено? И в таком случае какую будут иметь ценность ваши акции или паи?
Но тут уже сам Глумов взял на себя разъяснить мне неосновательность моего возражения.
— Чудак! — сказал он, — да разве мы на акции-то любоваться будем? Сейчас мы их на биржу — небось разберут! А продавши, мы и к сторонке. Разве что для блезиру оставим штучек по пяти. Иван Иваныч! так ли я говорю?
— Точно так-с.
Таким образом все недоумения были устранены, и ничто уже не мешало нам приступить к дальнейшей разработке. Три главные вопроса представлялись: 1) что удобнее в подобном предприятии: компания ли на акциях или товарищество на вере? 2) сколько в том и другом случае следует выпустить акций или паев? и 3) какую номинальную цену назначить для тех или других?
Все три вопроса были решены единогласно. По первому вопросу отдано предпочтение компании на акциях, так как компании эти безыменные, да, сверх того, с акциями и на биржу пролезть легче, нежели с тяжеловесными товарищескими паями (сравни: легкую кавалерию и тяжелую). По второму вопросу найдено возможным выпустить миллион акций с купонами, на манер акций Новоторжской железной дороги (дожидайся!), причем на каждой акции написать: «выпуск первый», чтобы публика была обнадежена, что будет и второй выпуск и что, следовательно, предприятие затеяно солидное. По третьему вопросу хотя эгоистический инстинкт и нашептывал нам назначить цену акции возможно бо́льшую, но, к чести нашей, чувство благоволения к нуждающемуся человечеству одержало верх. Имея в виду, что акции не будут стоить нам ни копейки и что, в видах успешного сбыта их в публику, необходимо, чтоб они были доступны преимущественно для маленьких кошельков, мы остановились на двадцати пяти рублях, справедливо рассуждая, что и затем в раздел между учредителями поступят двадцать пять миллионов рублей.
Но металлических или ассигнационных?
По этому вопросу последовало разногласие. Балалайкин говорил прямо: металлические лучше, потому что с ними дело чище. Я говорил: хорошо, кабы металлические, но не худо, ежели и ассигнационные. Глумов и Очищенный стояли на стороне ассигнационного рубля, прося принять во внимание, что наша «большая» публика утратила даже представление о металлическом рубле.*
— До металлических ли нам! — говорил Глумов, — вот француз Бонту́ — тот металлическими украл…*
Но, произнеся слово «украл», он инстинктивно обернулся, точно хотел удостовериться, не посторонний ли кто-нибудь вошел и выразился так резко?
— Кто сказал «украл»? — спрашивал он, не веря, что он сам, собственным языком, произнес это слово. И, видя, чтоникого посторонних нет, пришел к заключению, что ему только померещилось.
Тем не менее эпизод этот случился весьма кстати, потому что сразу решил дело в пользу ассигнационного рубля.
Но когда дело дошло до раздела акций, мы постепенно до того ожесточились, что все вопросы опять всплыли наружу. Прежде всего Глумов настаивал, чтоб Фаинушка была признана учредительницей. Это значительно уменьшало долю каждого; но так как Глумов пригрозил перерывом сношений, то пришлось согласиться, с тем, однако ж, чтоб при первом выпуске негласно припечатать лишних сто тысяч акций, которые и отдать Фаинушке. Затем тот же Глумов возбудил вопрос об участии Парамонова, но тут уж без разговоров решили: напечатать еще сто тысяч запасных акций и передать их Парамонову по 25 рублей за каждую, а имеющиеся получиться через таковую продажу два миллиона пятьсот тысяч рублей обратить в запасный капитал. Когда, таким образом, основной акционерный капитал оказался нетронутым, мы поделили его между собой на четыре части, поровну каждому. Но тут как-то вдруг всем показалось мало. Все и всех начали укорять по очереди. Очищенного укоряли за то, что он бросает чужие деньги, назначая премию в количестве 35 рублей вместо 31-го, Глумова — за то, что он бросил четыре миллиона в пользу новорожденных; меня — за то, что я своим двоедушием способствовал устранению металлического рубля. Больше всех волновался Балалайкин, у которого даже глаза налились кровью.
— За что́ я страдаю? я-то за что страдаю? — кричал он до тех пор, покуда Глумов не схватил его в охапку и не вынес на лестницу.
Но, когда это было выполнено и между нами понемногу водворился мир, мы вдруг вспомнили, что без Балалайкина нам все-таки никак нельзя обойтись. Все мы уезжаем — кто же будет хлопотать об утверждении предприятия? Очевидно, что только один Балалайкин и может в таком деле получить успех. Но счастие и тут благоприятствовало нам, потому что в ту самую минуту, когда Глумов уже решался отправиться на розыски за Балалайкиным, последний обежал через двор и по черной лестнице опять очутился между нами.
— Я вам это дело так обделаю, — говорил он, совершенно забыв о случившемся, — я такую одну штуку знаю, что просто ни один, ну, самый «что называется», и тот не решится…а я решусь!
Таким образом все кончилось благополучно, и мы могли с облегченным сердцем отправиться обедать к Фаинушке. Два блестящих дела получили начало в этот достопамятный день: во-первых, основан заравшанско-ферганский университет и, во-вторых, русскому крестьянству оказано существенное воспособление. Все это прекрасно выразил Глумов, который, указывая на Очищенного, сказал:
— Вот вам, господа, и пример и поучение! Почтеннейший Иван Иваныч есть, так сказать, первообраз всех наших финансистов. Он не засматривается по сторонам, не хитрит, не играет статистикой, не знает извилистых путей, а говорит прямо: по рублику с души! Или, говоря другими словами: с голого по нитке — проворному рубашку! А дураку — шиш! Так ли я говорю?
XVI*
Мы выехали из Петербурга впятером: меняло, Фаинушка, Очищенный, Глумов и я. Сверх того, мы решились взять с собой благонадежного человека, который в пути должен был вести журнал всем нашим действиям, разговорам и помышлениям. Предосторожность эта казалась нам не лишнею, потому что, в случае если б нас застиг «гость», то журнал представлял для нас оправдательный документ: читай! Сначала мы думали воспользоваться для этой цели Кшепшнцюльским, но он оказался неграмотным, да, сверх того, очень уж счастливо играл в преферанс. Тогда, с одобрения Ивана Тимофеича, мы остановили свой выбор на «нашем собственном корреспонденте» и, как будет видно ниже, не ошиблись в этом предпочтении.
Маршрут наш лежал прямо на Моршу, где ожидали нас «сродственники» Фаинушки. Но на пути Глумов передумал и уговорил нас высадиться в Твери, с тем чтобы сделать на пароходе экскурсию по Волге до Рыбинска.
— Во-первых, Волга произведет в нас подъем чувств, — сказал он, — а во-вторых, задавшись просветительными целями, мы не должны забывать, что рано или поздно нам все-таки придется отсидеть свой срок в холодной, а быть может, и совершить прогулку с связанными назад руками. По моему мнению, с этим делом нужно покончить как можно скорее: отстрадать сколько следует и затем, заручившись свидетельством, что все просветительные обряды выполнены нами сполна, благополучно следовать дальше. Свидетельство это мы будем предъявлять на всех заставах, и так как из него будет явствовать, что мы свое получили, то мы хоть сто университетов открывай — никто нас не тронет. Стало быть, вся задача состоит в том, чтоб пострадать по возможности удобнее. И я имею все основания думать, что отбыть эту повинность в Тверской губернии выгоднее. Тверская губерния исстари славится своим либерализмом.* Этого одного достаточно, чтобы с упованием вступить под сень тамошнего института урядников. Господа! я предлагаю прокричать «ура»! за процветание и благоденствие Тверской губернии вообще и тверских урядников в особенности!
Речь эта, заключавшая в себе целую политическую программу, была принята нами очень сочувственно. Мы прокричали троекратное «ура», а на другой день, в шесть часов утра, уже устраивались в Твери на пароходе, который отчаливал в Рыбинск.
Не успели мы умыться и напиться чаю, как «наш собственный корреспондент» принес на общее одобрение тетрадку, на заглавном листе которой было изображено:
«Отъезд из Петербурга: Августа «» дня, в 3½ часа пополудни с почтовым поездом.
«Действия. По вступлении в вагон занимались усаживанием, после чего вынули коробок с провизией и почерпали в оном, покуда не стемнело. В надлежащих местах выходили на станции для обеда, чая и ужина. Ночью — спали.
«Разговоры происходили, по преимуществу, о пользе просвещения, а также о том, кто истинно счастливый человек. По сему последнему поводу Онуфрий Петрович Парамонов сообщил, что Перекусихин 1-й открылся ему в намерении принять малую печать. На что ему было ответствовано: с живейшим удовольствием могу вашему превосходительству радость сию предоставить. Но так как г. Перекусихин 1-й назначил за отчуждение цену десять тысяч рублей, а г. Парамонов, в виду преклонных его лет, предложил лишь пятьсот рублей, то дело до времени разошлось. Кроме того, к числу разговоров может быть отнесено и то, что г. Глумов, обращаясь к Фаине Егоровне Стёгнушкиной, назвал ее королевой. Но при сем оговорился, что выражение это употреблено им не в том смысле, чтобы он мечтал возвести Фаину Егоровну на румынский или сербский престол,* но в смысле владычицы его, Глумова, сердца. Каковым разъяснением все остались довольны, а в том числе и невидимо присутствовавший при разговоре штаб-офицер.*
«Помышлений в сей день никто не имел.
На другой день, в пять часов утра, прибытие в Тверь и пересадка на пароход».
Все признали эту редакцию вполне удовлетворительною и поспешили скрепить журнал своими подписями.
Погода, однако ж, не благоприятствовала нам. Небо кругом обложило свинцовыми облаками, из которых сеялся тонкий и совершенно осенний дождь. Словно сетью застилал он перед нашими глазами и даль, в которую Волга катила свои волны, и плоские берега реки, на которых, по местам, чернели сиротливые, точно оголенные избушки. Благодаря этому, подъем чувств, на который мы рассчитывали, не состоялся. Народу на палубе было не больше двадцати человек, да и те молчаливо ютились под тентом, раздирая руками вяленую воблу. Исключение составлял молодой дьякон с белесым лицом, белесыми волосами и белесыми же глазами, в выцветшем шалоновом подряснике. Он шагал взад и вперед по палубе, а по временам прислонялся к борту (преимущественно в нашем соседстве) и смотрел вдаль, пошевеливая намокшими плечами и как бы подсчитывая встречавшиеся на пути церкви. Но мне уж и тогда показалось, что он «собирает статистику». В каютах совсем никого не было. Повар, в куртке, до такой степени замазанной, что, казалось, ею вытирали пол, в бездействии стоял в дверях кухни, не ожидая ничего хорошего. Лакей, заспанный, с распухшим лицом, в запятнанном сюртуке, плевал направо и растирал левою ногой. Пароход был колесный, старой конструкции, пыхтел, громыхал, скрипел, видимо доживая свой век. В ушах отчетливо отдавалось мерное хлопанье колесных лопастей, сопровождаемое выкриками лоцмана, вымерявшего фарватер. «Четыре! пять! пять! четыре! три!» — словно сквозь сон, голосил он, поглядывая на капитана. Какую-то тоскливую грусть навевали и эти звуки, и весь этот плоский пейзаж.
Наконец, дождь загнал нас в каюту, но тут стало еще скучнее. Главное, не знали мы, что́ предпринять. Хотели спросить какой-нибудь еды, но вспомнили поварову куртку и забоялись. Предметов для разговора тоже не отыскивалось, а между тем разговаривать было необходимо, потому что, в противном случае, могли появиться «помышления». И тогда наш журнал будет испорчен навсегда. Попробовал было Глумов предложить вопрос: от каких причин происходит скука? — но тотчас же взял свой вопрос назад, как могущий дать повод к превратным толкованиям. С своей стороны, и я предложил вопрос: где обитает истинное счастье, в палатах или в хижинах? — но тоже поспешил взять его назад, потому что и здесь представлялся повод для превратных толкований. И хорошо мы сделали, потому что «наш собственный корреспондент» уже впился в нас глазами и, казалось, только и ждал, что́ будет дальше.
Тогда Глумов начал говорить о Корчеве. Новое (1-я пароходная станция) мы уж проехали, за ним следовала Корчева. Оказалось, что мы знали только одно: что Корчева есть Корчева. Но существуют ли в ней кожевенные и мыловаренные заводы — доподлинно никому не было известно. Правда, Очищенный сообщил, что однажды в редакции «КрасыДемидрона» была получена корреспонденция, удостоверявшая, что в Корчеве живет булочник, который каждый день печет свежие французские булки, но редакция напечатать эту корреспонденцию не решилась, опасаясь, нет ли тут какого-нибудь иносказания. Однако ж этого было достаточно, чтобы у всех разгорелись аппетиты и явилось желание остановиться в Корчеве. Напрасно убеждал я, что несравненно целесообразнее остановиться в Угличе, где делают знаменитую углицкую колбасу, — никто меня не слушал. Пароход сразу так опостылел, что все рады были всякому поводу, чтоб уйти от сырости и удручающих пароходных звуков в тишину и тепло.
— Что́ же такое! — говорил Глумов, — Корчева так Корчева! поживем денька два-три, осмотрим достопримечательности, а там, пожалуй, и в Углич махнем!
Корчева встретила нас недружелюбно. Было не больше пяти часов, когда пароход причалил к пристани; но, благодаря тучам, кругом обложившим небо, сумерки наступили раньше обыкновенного. Дождь усилился, почва размокла, берег был совершенно пустынен. И хотя до постоялого двора было недалеко, но так как ноги у нас скользили, то мы через великую силу, вымокшие и перепачканные, добрались до жилья. Тут только мы опомнились и не без удивления переглянулись друг с другом, словно спрашивая: где мы?
— Коего черта нас сюда занесло! — внезапно и как-то сердито поставил вопрос «наш собственный корреспондент».
Голос его звучал пророчески. Обыкновенно он держал себя молчаливо и даже робко, так что самые свойства его голоса были нам почти неизвестны. И вдруг оказалось, что у него гневный бас, осложненный перепоем.
Но никто не ответил на вопрос, и Глумов возвратил нас к чувству действительности, сказав:
— Господа! паспорта готовьте! чтобы по первому же слову, сейчас…
Постоялый двор был старинный, какие нынче можно встретить только в самых отдаленных захолустьях, куда уж совсем никому ни за чем ехать не нужно. Обширный и темный двор с бревенчатым накатом, прогнившим и улитым скотской мочой, темные сенцы с колеблющеюся лестницей и с самоваром, поставленным на самом пути и распространяющим кругом угар и смрад. Направо большая изба, в которой ютится семейство хозяина и пускается черный народ, прямо — две небольшие «чистые» горницы для постояльцев почище, с подслеповатыми и позеленевшими окнами, из которых виднелась площадь, а за нею Волга. Все тут было старинное, дореформенное, когда-то имевшее смысл и цель, но давным-давно запустевшее, покачнувшееся и пахнущее нежилым. Сами хозяева, по-видимому, смотрели на свой «дом» как на место для ночлегов и перенесли свою деятельность в небольшую пристройку, вмещавшую в себе лавочку, из которой продавался всякий бросовый товар на потребу крестьянскому люду.
Кое-как, однако ж, мы разместились и, разумеется, прежде всего потребовали самовар. Но — увы! — знаменитых булок, на которые мы возлагали столько надежд, не оказалось. Неделю тому назад булочника переманили в Калязин, и Корчева, дотоле на зависть всему Поволжью изготовлявшая булки и куличи, окончательно утратила всякое обаяние.
— Что же у вас есть? — спросил Глумов у хозяина.
— Собор-с.
— Гм… собор… Собор — это, братец… Из съестного, спрашиваю я, что́ есть?
— Яиц ежели поискать…
Хозяин, корчевской мещанин Разноцветов, говорил вяло и неохотно. Это был мужчина лет под шестьдесят, на вид еще здоровый и коренастый, но внутренно — угнетенный. Когда-то он знавал лучшие времена. Дом у него кишел проезжим людом, закромы были полны овсом и другим хлебным товаром; сверх того, он держал несколько троек лошадей. Не широко и прежде жилось в Корчеве, но все-таки что-то было, хоть хлебом пахло. В то время Разноцветов ходил в плисовых шароварах и в александрицкой рубахе навыпуск; он не торопясь отпускал и принимал, не метался, как угорелый, в погоне за грошом, а спокойно и с достоинством растил брюхо, подсчитывая гривну к гривне и запирая выручку в кованый сундук с гулким замком. И вдруг подкралось разоренье. Пришло оно так, что никому не верилось; все думали, что шутки шутят. Сначала свистнул на Волге пароход, а Разноцветов, стоя на берегу, глядел, как «Русалка» громыхает колесами, и приговаривал: поплавай, чертова кукла, поплавай! не много наплаваешь! А через год пришлось сократить ямщину наполовину, потому что седок повалил в Новое. Потом объявилась эмансипация; помещик на первых порах побаловался с выкупными свидетельствами, но через короткое время вдруг без остатка исчез; крестьянин обрадовался воле и разбрелся по дальним заработкам. Дома остались хворые, да старые, да малые. Базар опустел до того, что даже торговля суслом уже не представляла ничего соблазнительного. Пришлось ямщину нарушить совсем. Потом объявили волю вину,* и Разноцветов на минуту взыграл. Прежде всех открыл на постоялом дворе продажу вина распивочно и навынос, думал: теперь-то мужички загуляют! Мужички действительно загуляли, но так как в каждом деревенском углу объявился свой «тутошный» Разноцветов, который за водку брал и оглоблю, и подкову, и старые сапожные голенищи, то понятно, что процвели сельские самозванцы-Разноцветовы, а коренной оплошал. Потом начали проводить железные дороги: из Бологова пошла на Рыбинск, из Москвы — на Ярославль, а про Корчеву до того забыли, что и к промежуточным станциям этих дорог от нее езды не стало… И осталось у Разноцветова от прежнего привольного житья только пространное брюхо, которого нечем было наполнить.
— Спалить бы нашу Корчеву надо! — говорил негодующий Разноцветов, нервно шевеля плечами.
Но, вопреки его пророчествам, она и сейчас стоит целехонька, хотя, видимо, с каждым годом изнывает, приобретая все более и более опальный характер.
— Да вы бы, голубчик, велели курочку поймать! — попытался Глумов пронять Разноцветова лаской.
— Поймать курицу можно, только ведь в горсти́ ее не сваришь, — ответил хозяин угрюмо.
Однако ж дело кое-как устроилось. Поймали разом двух куриц, выпросили у протопопа кастрюлюи, вместо плиты, под навесом на кирпичиках сварили суп. Мало того: хозяин добыл где-то связку окаменелых баранок и крохотный засушенный лимон к чаю. Мы опасались, что вся Корчева сойдется смотреть, как имущие классы суп из курицы едят, и, чего доброго, произойдет еще революция; однако бог миловал. Поевши, все ободрились и почувствовали прилив любознательности.
— Хозяин! есть у вас достопримечательности какие-нибудь?
— Собор-с, — отвечал Разноцветов несколько ласковее, убедившись, что впереди его ожидает пожива. — Евангелие-с… крест напрестольный…
— А кроме собора… например, фабрики, заводы?..
— Нет, заведениев у нас и в старину не бывало, а теперь и подавно.
— Чем же вы занимаетесь?
— Так друг около дружки колотимся. И сами своих делов не разберем.
— Может быть, кружева плетете? или — ну, что́ бы еще? — ну, ковры, ленты, гильзы?..
— У нас, сударь, пуговицу пришить не́кому, а вы: «кружева»!
— Что́ же вы делаете?
— Пакенты платим. Для пакентов только и живем.
— Чудак! да ведь на патенты-то откуда-нибудь достать надо.
— Затем и колотимся. У кого овца заулишняя выскочит — овцу продаст; у другого наседка цыплят выведет — их на пароход сбудет. Получит рублишко — пакент купит.
— Ах, голуби, голуби! — жалостливо воскликнул меняло.
Это было до того необыкновенно — эти люди, живущие исключительно для покупки патентов — что Фаинушка слушала-слушала и расхохоталась: ах, как весело! Но тотчас же притихла, как только увидела, что Глумов бросил на неемолниеносный взгляд.
— Стало быть, осматривать у вас нечего?
— Собор-с, — повторил Разноцветов, а через секунду припомнил: — Вот еще старичок ста семи лет у нас проживает, так, может, на него посмотреть захотите…
Мы переглянулись, и на всех лицах прочли: булок нет, заведений нет, кружев не плетут, ковров не ткут — непременно на старичка взглянуть надо!
Между разговорами и не видали, как время прошло. Опять приволокли самовар, усадили с собой хозяина и стали вторично пить чай. За чаем завели разговор о том, каким бы образом поднять умственное и экономическое положение Корчевы.
— Вам бы каплунов подкармливать. Вон Ростов — далеко ли? — а ка́к через каплунов процвел! — предложил Глумов.
— Никак нам это невозможно, — ответил Разноцветов скромно.
— Почему же?
— Никогда наш каплун против ростовского не выйдет!
— Да отчего же, голубчик?
— Так уж… в Ростове «слово» такое знают — оттого и каплун тамошний в славе. А наш каплун — хошь ты его раскорми — все равно его никто есть не станет.
— Ах, господи!
— Вон в Кимре сапогом промышляют, — в свою очередь продолжал я, — и вы бы, на кимряков глядя…
— Тоже и насчет сапога. Местом это. Коли где ему природное место — он идет, а коли место для него не потрафило — хоть ты его тачай, хоть нет, все едино! От бога не положено, значит…
— Голубчик! да что́ же вы так уж обескураживаетесь… подбодрились бы, что ли!
— Немало бодриться пытали. И сами бодрились, и начальство бодрило. Был здесь помещик один — уж на что́ прокурат! — сахар вздумал делать… Свеклы насеял, завод выстроил. Ан, вместо свеклы-то у него выросла морковь.
— Что вы!!
— Верно докладываю. Такая, стало быть, здесь земля. Чего ждешь — она не родит, а чего не чаешь — обо́ру нет!
— Как же бы, однако, помочь вам?
— Ка́к помочь! была было помощь, да и та мимо проехала!
— Что́ же такое?
— В прошлом годе Вздошников* купец объявил: коли кто сицилиста ему предоставит — двадцать пять рублей тому человеку награды!* Ну, и наловили. В ту пору у нас всякий друг дружку ловил. Только он что́ же, мерзавец, изделал! Видит, что дело к расплате, — сейчас и на попятный: это, говорит, сицилисты ненастоящие! Так никто и не попользовался; только народу, человек, никак, с тридцать, попортили.
— А вы бы стребовали с Вздошникова-то?
— Кто с него стребует, с выжиги экого. Он нынче всем у нас орудует, и поли́цу, с исправником вместе, под нозе себе покорил.* Чуть кто супротивное слово скажет — сейчас: сицилист! Одним этим словом всех кругом окружил. Весь торг в свои руки забрал, не дает никому вздыху, да и шабаш!
— Чего же исправник-то смотрит?
— Нельзя, говорит, ничего не поделаешь… Потому человек на верной линии стоит… это Вздошников-то! Ах, кабы зна́то да ведано!
— И вы бы?
— А то как же… всякому свово́ жалко… Одно только слово, ан оно дороже сахарного завода сто́ит! Знай кричи, сицилист! — да денежки обирай! Сумели бы и мы.
Разноцветов отер пот с лица и озабоченно почесал живот.
— Вон брюхо какое вырастил… с чего бы, кажется? — сказал он уныло, — а оно, между прочим, есть просит!
— Так вы кушайте! — пошутила Фаинушка.
— То-то, что…
Он постепенно ожесточался. Взял со стола окаменелую баранку и сразу перегрыз ее пополам, точно топором рассек. И при этом показал сплошной ряд белых, крепких и ровных зубов.
— Зубы-то у вас какие! — удивилась Фаинушка.
— И зубы есть… и брюхо, и зубы… только на какой предмет?
Очищенный обиделся: ему показалось, что Разноцветов ропщет.
— Ах, Никифор Мосеич! как это вы так! Зубы от бога, а вы: на какой предмет!!
— Вот это самое я и говорю. Зубами грызть надо, а ежели зря ими щелкать — что́ толку! То же самое и насчет брюха: коли в ём корка сухая болтается — ни красы в ём, ни радости… та́к, мешок!
Разноцветов перекусил другую баранку и замолчал. Молчали и мы. Фаинушка закрыла глазки от утомления и жалась к Глумову; меняло жадно впился глазами в хозяина и, казалось, в расчете на постигшее его оголтение, обдумывал какую-то комбинацию.
— А по-моему, хозяинушко, начальство слабенько за вами присматривает, — вновь начал Очищенный, — кабы оно построже вас подтянуло, так и процветание давно бы явилось.
— И начальство у нас бывало всякое, — ответил Разноцветов, — иной начальник мерами кротости донимал, другой — строгостью. Было у нас разговору! Отчего у вас фабрик-заводов нет? отчего гостиный двор не выстроен? отчего пожарной трубы исправной нет? каланчи? мостовых? фонарей?.. Ах, варвары, мол, вы!
— Так неужто ж только на этом одном благие начинания и кончились?
— Кабы кончились! А то месяц дадут дыхнуть, и опять за свое: отчего фабрик-заводов нет? Отчего площадь немощеная стоит?.. Ах, растакие, мол, вы варвары!
Разноцветов перекусил третью баранку, опрокинул чашку, положил на дно крохотный огрызок сахара и грузно снялся со скамейки.
— Прощенья просим! За чай, за сахар! — поблагодарил он и хотел уже удалиться, как вдруг что-то вспомнил и совсем уже ожесточился.
— Да вы откелева сами-то будете? — спросил он строго.
— Из Петербурга, — ответил Глумов за всех.
— Проездом, значит?
— Нет, та́к… посмотреть захотелось… Сведения кой-какие собрать…
— Чего собирать-то?..
— Ну, вот, например, нравы… Промыслов, вы говорите, у вас нет, так, вероятно, есть нравы… Песни подблюдные, свадебные, хороводные, обычаи, сказки, предания… В иных местах вот браки «уво́дом» совершаются…
— Может, у вас об Мамелфе Тимофеевне какой-нибудь вариант есть, — пояснил я, — или вот нет ли слепенького певца…
Но Разноцветов серьезно рассматривал нас и неодобрительно качал головой.
— А пачпорты у вас есть?
«Вот оно… начинается!» — мелькнуло у меня в голове.
— Есть паспорты, — ответил Глумов.
Хозяин словно преобразился. Лицо у него сделалось суровое, голос резкий, сухой.
— То-то, — сказал он почти начальственно, — ноне с этим строго. Коли кто куда приехал, должен дело за собой объявить. А коли кто зря ездит — руки к лопаткам и в холодную!
Он ушел, а мы остались погруженные в раздумье. В самом деле, ведь мы и не подумали, что прежде всего нужно дело за собой объявить. Какое дело? Ежели объявить, что собираем статистику, — никто не поверит. Скажут: какая в Корчеве статистика? Корчева как Корчева. Фабрик-заводов нет, каланчи нет, мостовых нет, гостиного двора нет, а все остальное — обыкновенно, как в прочих местах. Да и компания слишком велика для статистики собралась. Зачем, например, попала сюда 1-й гильдии купчиха Стёгнушкина? к чему понадобился меняло?
Ежели объявить: путешествуем, только и всего — пожалуй, и еще несообразнее покажется. Спросят: для чего путешествуем? и так как мы никакого другого ответа дать не можем, кроме: путешествуем! — то и опять спросят: для чего путешествуем? И будут спрашивать дотоле, покуда мы сами не отдадим себя в руки правосудия.
Ежели сказать, что купец Парамонов, купно с купчихою Стёгнушкиной, затеяли коммерческое предприятие — опять никто не поверит. Какое может осуществиться в Корчеве предприятие? что́ в Корчеве родится? Морковь? — так и та потому только уродилась, что сеяли свеклу, а посеяли бы морковь — наверняка уродился бы хрен… Такая уж здесь сторона. Кружев не плетут, ковров не ткут, поярков не валяют, сапогов не тачают, кож не дубят, мыла не варят. В Корчеве только слезы льют да зубами щелкают. Ясно, что человеку промышленному, предприимчивому ездить сюда незачем.
Господи! хоть бы развязка поскорее! в «холодную» так в «холодную»! Сколько лет прожили, никогда в «холодной» не бывали — надо же когда-нибудь!
Положение было трагическое. К счастью, я вспомнил, что верстах в тридцати от Корчевы стоит усадьба Проплёванная, к которой я как будто имею некоторое касательство. Дремлет теперь Проплёванная, забытая, оброшенная, заглохшая, дремлет и не подозревает, что владелец ее в эту минуту сидит в Корчеве, былины собирает, подблюдные песни слушает…
— Да просто скажем, что Фаина Егоровна сторговала у меня Проплёванную! — предложил я.
Глумов подозрительно взглянул на меня. Очевидно, у него мелькнула в голове мысль, не задумал ли я, пользуясь сим случаем, сюрпризом спустить Фаинушке свою дедину и отчину? Фаинушка тоже изумилась, словно и у ней что-то закружилось в головке; а что́ касается до «нашего собственного корреспондента», то он прямо воскликнул:
— Вот так ловко!
Разумеется, я без труда оправдался, объяснив, что ни задатка, ни запродажной расписки — ничего не требую. Что, конечно, я готов продать Проплёванную всякому, кто заблагорассудит сделать из нее увеселительную резиденцию, но к насильству даже в этом случае прибегать не намерен. Выслушавши это, все успокоились и признали мой проект весьма целесообразным. Поэтому условились так: сначала мы скажем, что приехали для осмотра Проплёванной, а потом опять юркнем на пароход, как будто не сошлись в цене.
Но покуда мы толковали, снова пришел хозяин и на этот раз объявил, что нас без потери времени требуют в полицейское управление.
Разумеется, мы с радостью поспешили на приглашение.
XVII*
Дело обошлось очень мило и просто.
Ни исправника, ни помощника его в городе не было. Нас принял непременный член, ветхий старичок, по имени Пантелей Егорыч, и сейчас же предупредительно посадил.
— Ах, господа, господа!
Он качал головой и смотрел на нас — впрочем, не столько укоризненно, сколько жалеючи. Как будто говорил: какие большие выросли, а самых простых вещей не знаете! Мы сидели и ждали.
— Знаете, какие нынче времена, а что́ делаете! — произнес он, все больше и больше проникаясь состраданием.
Дело происходило в распорядительной камере. Посредине комнаты стоял стол, покрытый зеленым сукном; в углу — другой стол поменьше, за которым, над кипой бумаг, сидел секретарь, человек еще молодой, и тоже жалеючи глядел на нас. Из-за стеклянной перегородки виднелась другая, более обширная комната, уставленная покрытыми черной клеенкой столами, за которыми занималось с десяток молодых канцеляристов. Лампы коптели; воздух насыщен был острыми миазмами дешевого керосина.
— Михал Михалыч! посмотрите… там! — обратился Пантелей Егорыч к секретарю.
Секретарь направился к перегородке, приотворил дверь, заглянул в канцелярию и доложил, что никого за дверьми нет, все при деле. С своей стороны, Пантелей Егорыч приподнял сукно и заглянул, нет ли кого под столом.
— Ну зачем? — начал он, удостоверившись, что никого нет. — Ну, что́ такое Корчева? А между тем себя подвергаете, а нас подводите… ах, господа, господа!
Мы продолжали молчать. Не то чтобы мы не понимали, а оправдательных слов не могли отыскать.
— Знаете, какие нынче строгости* — и решаетесь! знаете, сколько везде гаду развелось — и рискуете! Вон Вздошников только и ждет… чай, и сию минуту из окна высматривает… ах, господа, господа!
— Но что же мы… — заикнулся было Глумов.
— Знаю, что ничего, — перебил Пантелей Егорыч, — и вы ничего, и я ничего, и все ничего… Об Вздошникове слыхали? ах, господа, господа!
— Да уж простите нас ради Христа! — решился я покончить все сразу.
— Что меня просите! Бог может простить или не простить, а я что! Ну, скажите на милость, зачем? С какою целью? почему? Какую такую сладость вы надеялись в нашей Корчеве найти?
— Но ведь, кажется, паспорты у нас в исправности? — опять вступился Глумов.
— И паспорты. Что такое паспорты? Паспорты всегда и у всех в исправности! Вот намеднись. Тоже по базару человек ходит. Есть паспорт? — есть! Смотрим: с иголочки! — Ну, с богом. А спустя неделю оказывается, что этого самого человека уж три года ищут. А он, между прочим, у нас по базару ходил, и мы его у себя, как и путного, прописали. Да.
— Но ведь из одиночного случая нельзя же заключать…
— И это я знаю. Да разве я заключаю? Я рад бы радостью, только вот… Вздошников! И Корчева тоже. Ну, что такое? зачем именно Корчева? Промыслов нет, торговли нет, произведений нет… разве что собор! Так и собор в Кимре лучше! Михал Михалыч! что это такое?
Михал Михалыч осклабился.
— Это так точно-с, — пошутил он, — даже рыба, и та во весь опор мимо Корчевы мчится. В Твери или в Кимре ее ловят, а у нас — не приспособились.
— Ничего у нас нет, а вы — рискуете! И себя подвергаете, и нас подводите!
— Может быть, господам отдохнуть захотелось? — вступился за нас секретарь.
— И отдохнуть… отчего бы на пароходе не отдохнуть? Плыли бы себе да плыли. Ну, в Калязине бы высадились — там мощи, монастырь. Или в Угличе — там домик Дмитрия-царевича… А Корчева… что такое? какая тому причина?
К великому моему ужасу, Глумов забыл об нашем уговоре насчет Проплёванной и вдруг брякнул:
— Да просто полюбопытствовать.
— А я об чем же говорю! Почему? как? Ежели есть причина — любопытствуйте! а коли нет причины… право, уж и не знаю! Ведь я это не от себя… мне что! По-моему, чем больше любопытствующих, тем лучше! Но времена нынче… и притом Вздошников!
— Да кто же наконец этот Вздошников? что это за сила такая? — полюбопытствовал я.
— Да так… Вздошников, — только и всего.
Он постепенно все больше и больше волновался и наконец начал ходить взад и вперед по комнате.
— Как мне теперича поступить? — произнес он, останавливаясь против меня.
— Право, Пантелей Егорыч, мы ничего…
— Знаю я, что ничего. До сих пор — ничего, а завтра может быть — чего! На этом нынче все и вертится. Ну, что такое? Плыли, плыли, и вдруг… Корчева!
Очевидно, что «Корчева» у него колом в горле застряла, и никак он не мог ее проглотить.
— Пантелей Егорыч! да ведь мы только на денек. Посмотрим достопримечательности, и опять в путь.
— Какие такие достопримечательности?
— Собор, например.
— Собор? ну, собор… положим. Это похвально.
— Еще сказывали нам, что в Корчеве ста семи лет старичок живет.
— Ну, и старичок… пожалуй! Старость уважать — это…
— Может быть, и еще что-нибудь найдется…
— Что вы! что вы! ничего у нас нет! — заговорил он быстро, словно боялся, чтоб и в самом деле чего не нашлось.
— У мещанина Презентова маховое колесо посмотреть можно… в роде как perpetuum mobile[25], — подсказал секретарь. — Сам выдумал.
— Нечего, нечего смотреть. Только время терять да праздность поощрять! — зачастил Пантелей Егорыч. — Так вот что, господа! встаньте вы завтра пораньше, сходите в собор, помолитесь, потом, пожалуй, старичка навестите, а там и с богом.
— Пантелей Егорыч! позвольте perpetuum mobile посмотреть!
— Вот вы какие! И охота вам, Михал Михалыч, смущать! Ах, господа, господа! И что такое вам вздумалось! В дождик, в сырость, в слякоть… какая причина? Вот если б господин исправник был в городе — тогда точно… Он имеет на этот предмет полномочия, а я…
Он имел доброе сердце и просвещенный ум, но был беден и дорожил жалованьем. Впоследствии мы узнали, что и у исправника, и у его помощника тоже были добрые сердца и просвещенные умы, но и они дорожили жалованьем. И все корчевские чиновники вообще. Добрые сердца говорили им: оставь! а жалованье подсказывало: как бы чего из этого не вышло!
— Пантелей Егорыч! деточки у вас есть? — спросил Глумов, вдруг проникаясь жалостью.
— То-то… шестьдочерей. Невесты.
— Так мы завтра… чем свет…
— Ах, что вы! я ведь не к тому… — вдруг застыдился он. — Отчего же не посмотреть — посмотрите!
— Нет, уж что же, ежели…
— Ах нет, я не в том смысле! У нас ведь традиции… мы помним!.. Да, было времечко, было! Собор, старичка… ну, пожалуй, perpetuum mobile… Только вот задерживаться лишнее время… Ведь паспорты у них в исправности, Михал Михалыч? как вы скажете… а?
— Вполне-с.
— Ну, что ж, и с богом. Вы не подумайте… Прежде у нас и в заводе не было паспорты спрашивать, да, признаться, и не у кого было — всё свои. Никто из чужих к нам не ездил… А нынче вот — ездят!
Представление о жалованье вновь смутило его. Он пытливо взглянул на нас и силился что-то угадать. Но ничего не угадал.
— Михал Михалыч? — вопросительно-тоскливо обратился он к секретарю.
— Думается, что ничего…
— Ну, так с богом! полюбопытствуйте! — сказал он решительно и, обратившись к Фаинушке, прибавил: — И вы, сударыня?
— И я-с.
— Вам-то бы… А впрочем, отчего же… нынче мода на это… Акушерки, стенографистки, телеграфистки… Дай бог счастливо, господа!
Он благосклонно пожал нам руки, вручил паспорты и отпустил нас.
На другой день, только что встали — смотрим, два письма: одно от Перекусихина 1-го к меняле, другое от Балалайкина к Глумову[26]. Перекусихин подавался. Он сознал, что первоначальные его претензии были чрезмерны, и соглашался убавить их наполовину. Балалайкин уведомлял, что по обоим порученным ему делам он подал прошения в интендантское управление. Мысль о заравшанском университете была всеми интендантами встречена сочувственно, а проект учреждения общества обязательного страхования жизни — даже с восторгом. Но Балалайкин должен был «пообещать». После слова «пообещать» он поставил целую строку точек и затем прибавил: грустно, а делать нечего!
— Вот ведь прохвост! — без церемоний выругался Глумов, скомкав письмо.
В самом деле, всем показалось удивительным, с какой стати Балалайкин с вопросом о заравшанском университете обратился в интендантское управление? Даже в корчевское полицейское управление — и то, казалось, было бы целесообразнее. Полицейское управление представило бы куда следует, оттуда бы тоже написали куда следует, а в дороге оно бы и разрешилось. Но такой комбинации, в которую бы, с пользой для просвещения, могло войти интендантское управление, даже придумать никто не мог.
Один Очищенный не разделял наших недоумений.
— А я так напротив думаю, — объяснил он. — По-моему, всякое дело, ежели его благополучно свершить желают, непременно следует с интендантского управления начинать. Ближе к цели.
— Чудак! да что же у интендантства общего, например, с университетом?
— Общего нет, а привышные люди в интендантстве служат — вот что. Зря за дело не возьмутся, а ежели возьмут, так сделают.
— Как же они подступятся к делу, коли оно даже не ихнего ведомства?
— Так и подступятся. Напишут. А ежели долго ответа не будет, опять напишут. Главное дело, разговор завести. А может быть, и интендантские науки какие-нибудь придумают — тогда и без переписки, промежду себя, дело оборудуют.
Стали рассуждать: могут ли существовать интендантские науки? — и должны были сознаться, что не только могут существовать, но и существуют.* Наука о печении солдатских сухарей — профессор Коган; наука о мясных и винных порциях — профессор Горвиц; наука о выдаче квитанций за непоставленный провиант — профессор Макшеев. Это только для начала, а ежели дальше перечислять, то, пожалуй, и в глазах зарябит. Десяти факультетов мало, и, что всего важнее, наверное, ни одна кафедра никогда вакантной не будет. Конечно, такой характер университета не вполне будет соответствовать мысли жертвователя, но для начала и это хорошо. Университет, да еще заравшанский… ведь это что? А за свою кафедру Очищенный не боялся. Без восточных языков в заравшанском краю обойтись ни под каким видом нельзя, а митирология — это ведь и есть самый коренной восточный язык.
Что же касается до обязательного страхования жизни, то хотя этот предмет никоим образом в пределы интендантского ведомства не входит, однако, подумавши, и об нем «написать» можно. Что бы, например, написать? да просто: «признавая необходимым, в видах успешнейшего продовольствия армий и флотов…» А потом оно уж само собой пойдет. И чтобы было вернее, непременно нужно написать не туда, куда следует, а куда-нибудь вбок. А оттуда опять вбок напишут. И все кругом зажужжат. Зажужжат почты и телеграфы, зажужжат финансы, пути сообщения, иностранные исповедания… Тогда уж и настоящему ведомству волей-неволей придется зажужжать. Смотришь, ан дело и в шляпе.
Поэтому мы решили: ожидать от Балалайкина дальнейших подвигов.
Что же касается до Перекусихина, то об нем мы совсем не имели суждения, предоставив его участь усмотрению моршанского меняльного корабля.
Был уж одиннадцатый час утра, когда мы вышли для осмотра Корчевы. И с первого же шага нас ожидал сюрприз: кроме нас, и еще путешественник в Корчеве сыскался. Щеголь в гороховом пальто*[27], в цилиндре — ходит по площади и тросточкой помахивает. Всматриваюсь: словно как на вчерашнего дьякона похож… он, он самый и есть!
— Глумов! смотри! вчерашний-то дьякон… вон он! — воскликнул я в испуге.
Но Глумов, вместо того чтоб ответить на мое восклицание, в свою очередь встревоженно крикнул:
— Смотри! смотри! вон туда! в тот угол!
Смотрю и не верю глазам: в углу площади — другой путешественник гуляет. И тоже в гороховом пальто и в цилиндре. Вот так штука!
Помелькали-помелькали и вдруг в наших глазах исчезли, словно сквозь землю провалились.
Инстинктивно мы остановились и начали искать глазами, нельзя ли спрятаться где-нибудь в коноплях. Но в Корчеве и коноплей нет. Стали припоминать вчерашний день, не наговорили ли чего лишнего. Оказалось, что в сущности ничего такого не было, однако ж…
— Однако, брат, ты завел-таки нас! — малодушно укорил я Глумова.
Но он уж и сам сознавал свою ошибку. Сконфуженно смотрел он на Фаинушку, как бы размышляя: за что я легкомысленно загубил такое молодое, прелестное существо? Но милая эта особа не только не выказывала ни малейшего уныния, но, напротив, с беззаветною бодростью глядела в глаза опасности.
— Положим, что мы ничего такого не сделали и не сказали, — продолжал я приставать, — но ведь этого недостаточно. По нынешним обстоятельствам, теплота чувств нужна, деятельная теплота, а мы ее-то и прозевали…
Тем не менее бодрость Фаинушки на всех подействовала восстановляющим образом, так что меня уж не слушали. Как-то разом все созвали себяневиноватыми, а известное дело, что ежели человек не виноват, то ты хоть его режь, хоть жги — он все-таки будет не виноват. Удивительно, как окрыляет это сознание, какую-тo смелость и гордость вливает. Даже меняло — и тот почувствовал себя до такой степени невиноватым, что тут же дал обещание, что ежели теперь благополучно пронесет, то он сполна отвалит Перекусихину просимый им куш.
Разумеется, Гдумов только того и ждал. По его инициативе мы взяли друг друга за руки и троекратно прокричали: рады стараться, ваше Пре-вос-хо-ди-тель-ство́о! Смотрим, ан и гороховое пальто тут же с нами руками сцепилось! И только что мы хотели ухватиться за него, как его уж и след простыл.
XVIII*
Собор оказался отличный: просторный, светлый. Мы осмотрели все в подробности, и стены, и иконостас, и ризницу. Все было в наилучшем виде. Прекраснейшее паникадило, массивное Евангелие, Изящной работы напрестольный крест — все одно к одному. И при этом везде оказался жертвователем купец Вздошников.
— А в будущем году господин Вздошников обещают колокол соорудить — тогда, пожалуй, и в Кимре нам позавидуют! — сообщил отец дьякон, показывавший нам достопримечательности собора. — А еще через годик и наружную штукатурку они же возобновят.
И тем не менее купец Вздошников не только Корчеву, но и весь Корчевской уезд у себя в плену держит. Одною рукою жертвует, а другою — в карманах у обывателей шарит, причем, конечно, и «баланец» соблюдает. Во всех кабаках у него часть, и ежели Разноцветов прогорел, то потому единственно, что не захотел покориться, тягаться вздумал. А то бы и он теперь у Вздошникова на побегушках бегал и, в воздаяние, щи бы с требушиной ел. Кроме того, Вздошников и виноградные вина делает: мадеру, портвейн, лафит, рейнвейн. И всё с золотыми ярлыками и с обтянутыми фольгой пробками. В Кашине эти вина делают на манер иностранных, а Вздошников делает уж на манер кашинских. Но и те и другие все равно что иностранные. Он же, Вздошников, рощами торгует и, с божьей помощью, довел сажень дров уж до пяти рублей.
— Место наше бедное, — сказал отец дьякон, — ежели все захотят кормиться, только друг у дружки без пользы куски отымать будут. Сыты не сделаются, а по-пустому рассорят. А ежели одному около всех кормиться — это можно!
Когда же мы уже раскланивались на крыльце, то прибавил:
— А вон и дом его каменный на бугорочке стоит — всей Корчеве красота. Сходите, полюбопытствуйте. У него и сейчас два путешественника закусывают.
Но мы поспешили к старичку, хотя, ввиду общения Вздошникова с гороховыми пальто, чувство самосохранения должно было бы подсказать нам, что сходить поклониться человеку, в доме которого, по-видимому, была штаб-квартира корчевской благонамеренности, — голова не отвалится.
Старичок, действительно, оказался древний: зубов нет, глаза вытекли, череп — совсем голый. Вместо всего — свидетельство корчевского полицейского управления, удостоверяющего, что предъявитель сего, мещанин Онисим Дадонов, имеет сто семь лет, или более, или менее. Сидел Дадонов в большом истрепанном кресле, подаренном ему покойным историком Погодиным, «в воспоминание приятно проведенных минут»; на нем была надета чистая белая рубашка, а на ногах лежало ситцевое стеганое одеяло; очевидно, что домашние были заранее предуведомлены об нашем посещении. Но в комнате было душно; ее и летом редко освежали, потому что старик боится заболеть и умереть. У старичка есть дочь, большуха, которая тоже неподвижно полулежит на лавке, под образами, и тоже не может сказать, когда она родилась, а помнит только, что в тот год, когда была «некрутчина». И у ней нет ни волос, ни зубов, но зрение она еще сохранила, хотя, впрочем, слабое, и вследствие этого часто глотает мух. За стариками прислуживает «молодуха», женщина лет шестидесяти пяти, которая еще бодрится, но жалуется, что ноги у нее мозжат. Молодуха приняла нас радушно и тотчас же показала свидетельство.
— Посмотрите на нашего старичка — вот и пакент у нас, не обманываем! Деньги за него каждый год платим — сорок копеечек!
И она указала на сорокакопеечную марку, которая была прилеплена к свидетельству, в знак того, что старик — казенный. Сверх того, она вынула из стола и показала нам засиженный мухами лист, на котором знаменитые посетители вписывали свои имена. Замечательнее всего были следующие* подписи: «Сумлеваюсь, штоп сей старик наказание шпицрутенами выдержал. Гр. Алексий Аракчев»*; и под нею: «фсем же сумлеваюсь генерал-майёр Бритый». Последним подписался академик Михаил Погодин (июль 1862 года), и с тех пор уже никто к старичку не заглядывал.
— Да ведь в шестьдесят втором году ему и девяноста лет не было — что же тут было любопытствовать? — усомнился я.
— А кто его, батюшка, знает, сколько ему лет! — возразила молодуха, — лет уж сорок все сто семь ему лет значится — уж и стареться-то он словно перестал!
Начали мы предлагать старичку вопросы, но оказалось, что он только одно помнит: сначала родился, а потом жил. Даже об Аракчееве утратил всякое представление, хотя, по словам большухи, последний пригрозил ему записать без выслуги в Апшеронский полк рядовым, ежели не прекратит тунеядства. И непременно выполнил бы свою угрозу, если б сам, в скором времени, не подпал опале.
Таков неумолимый закон судеб! Как часто человек, в пылу непредусмотрительной гордыни, сулит содрать шкуру со всего живущего — и вдруг — открывается трап, и он сам проваливается в преисподнюю… Из ликующего делается стенящим, — а те, которые вчера ожидали содрания кожи, внезапно расправляют крылья и начинают дразниться: что, взял? гриб съел! Ах, господа, господа! а что, ежели…
— Но вы-то сами что-нибудь помните? — обратился Глумов к молодухе.
— Как не помнить… пожар был! все в ту пору погорели… А после, через десять лет, только что обстроились, опять пожар!
— Ну, что пожары! насчет обычаев здешних не можете ли что сказать? Например, песни, пляски, хороводы, сказки, предания…
Молодуха задумалась. Очевидно, не поняла вопроса.
— Время как проводите? — пояснил я, — песни играете? хороводы водите? сказки сказываете?
— Строго ноне. Вот прежде точно что против дому на площади хороводы игрывали… А ноне ровно и не до сказок. Все одно что в гробу живем…
— Отчего же, вы полагаете, такая перемена случилась? оттого ли, что внутренняя политика изменила направление, или оттого, что петь не об чем стало?
Но старуха опять не поняла.
— Как бы вам это объяснить? Ну, например… что, бишь? ну, например, литература… Прежде, бывало, господа литераторы и песни играли, и хороводы водили, а нынче хрюканье все голоса заглушило…* отчего?
— Урядники ноне…* — несмело ответила молодуха, точно сама сомневалась, угадала ли.
— Вот и прекрасно. Корреспондент! запиши! Урядники. Ну, а еще что можете сказать? чем, например, живете? кормитесь помаленьку?
— Так кое-чем. Та́льки пряду; продам — хлеба куплю. Мыкаемся тоже. Старичок-то вон мяконького все просит…
— А как вы примечаете, когда изобильнее жилось, прежде или нынче?
— Как можно супроти прежнего! прежде-то мы…
— Щи мы, сударь, прежде ели! — крикнула из угла старуха, вращая потухающими глазами. И словно в исступлении повторила: — Щи ели! щи!
— Кашки бы… — сочувственно пискнул старичок, словно икнул.
— Но отчего же вдруг такое оскудение?
— Да как сказать… не вдруг оно… Сегодня худо, завтра хуже, а напоследок и еще того хуже…
— Ну, а урядники… не думаете ли вы, что они и в этом отношении…
— Должно быть, что они…
Но тут случилось нечто диковинное. Не успела молодуха порядком объясниться, как вдруг, словно гром, среди нас упала фраза:
— Урядники да урядники… Да говорите же прямо: оттого, мол, старички, худо живется, что правового порядка нет…ха-ха!
Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто из нас этой фразы не произносил. В то же время мы почувствовали какое-то дуновение, как у спиритов на сеансах. И вдруг мимо нас шмыгнуло гороховое пальто и сейчас же растаяло в воздухе.
— Это не настоящее пальто… это спектр его! — шепнул мне Глумов, — внутри оно у нас… в сердцах наших… Все равно, как жаждущему вода видится, так и нам… Все видели?
Оказалось, что мы видели, но из хозяев никто не видел и не слышал.
— Прежде-то в нашем месте и кур, и уток, и гусей водили, — продолжала молодуха. — Я-то уж не застала, а дедушка сказывал. А нынче и коршуну во всей Корчеве поживиться нечем!
— Щи ели! щ-ш-ши! — опять цыркнула старуха озлобленно.
— А когда щи-то ели — вы еще застали? — продолжал допрашивать Глумов молодуху.
— На кончике. Помню, что до двадцати лет едала, а потом…
Но в это время таинственный голос опять прозвучал:
— А по-вашему, стоит только правовой порядок завести — и щи явятся… Либералы… ха-ха!
Спектр горохового пальто выступил на секунду в воздухе и растаял.
Мы поспешили расплатиться и уйти. Машинально расспросили дорогу к изобретателю perpetuum mobile и машинально же дошли до его избы, стоявшей на краю города.
Мещанин Презентов встретил нас с какою-то тихою радостью: очевидно, он не был избалован судьбою. Это был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались к шее. Изба у него была достаточно просторная, но целая половина ее была занята большим маховым колесом, так что наше общество с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное, со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколочен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого была пустота. В этой-то пустоте и помещался механизм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, конечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполненных песком, которым предоставлялось взаимно друг друга уравновешивать. Сквозь одну из спиц колеса продета была палка, которая удерживала его в состоянии неподвижности.
— Слышали мы, что вы закон вечного движения к практике применили? — начал я.
— Не знаю, как доложить, — ответил он сконфуженно, — кажется, словно бы…
— Можно взглянуть?
— Помилуйте! за счастье…
Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказалось, что и спереди и сзади — колесо.
— Вертится? — спросил Глумов.
— Должно бы, кажется, вертеться… Капризится будто…
— Можно отнять запорку?
Презентов вынул палку — колесо не шелохнулось.
— Капризится! — повторил он, — надо и́мпет* дать.
Он обеими руками схватился за обод, несколько раз повернул его вверх и вниз и наконец с силой раскачал и пустил — колесо завертелось. Несколько оборотов оно сделало довольно быстро и плавно — слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них, — потом начало вертеться тише, тише; послышался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем остановилось.
— Зацепочка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснял изобретатель и опять напрягся и размахал колесо.
Но во второй раз повторилось то же самое.
— Скажите, сами вы до этого дошли? — спросил Глумов, стараясь сообщить своему голосу по возможности ободряющий тон.
— Охота у меня… Только вот настоящим образом дойти не умею…
— Трения, может быть, в расчет не приняли?
— И трение в расчете было… Что трение? Не от трения это, а так… Иной раз словно порадует, а потом вдруг… закапризничает, заупрямится — и шабаш! Кабы колесо из настоящего матерьялу было сделано, а то так, обрезки кое-какие… Недостатки наши…
— Кто-нибудь осматривал у вас колесо?
— Были-с.
— И что же?
Презентов стоял, понурив голову, и молчал.
Я инстинктивно оглянул горницу и сам опустил голову: так в ней было все неприютно, голо́, словно выморочно. В углу — одинокий образ, с воткнутой сзади, почти истлевшей от времени, вербой; голая лавка, голые стены, порожний стол. На окне стояла глиняная кружка с водой, и рядом лежал толстый сукрой черного хлеба. Может быть, это был завтрак, обед и ужин Презентова. Не замечалось ни одного из признаков, говорящих о хозяйственности, о приюте. Даже неопрятности, столь обыкновенной в мещанской избе, не было, а именно какая-то унылая заброшенность. И на общем фоне этой оголтелости и выморочности как-то необыкновенно сиротливо выступал этот человек, сам оголтелый и выморочный. Как он тут жил? Собственно говоря, раз колесо было налажено, ему и делать ничего не оставалось. Вероятно, он населял это пространство призраками своей фантазии или, угнетаемый мечтательной праздностью, проводил дни в бессильном созерцании заколдованного колеса, изнывая от жгучих стремлений к чему-то безмерному, необъятному, которое именно неясностью своих очертаний покоряло его себе.
— Вы бы к какому-нибудь делу попроще приспособились, — участливо посоветовал ему Глумов.
Презентов продолжал молчать.
— Допустим даже, что задача ваша достижима; но ведь это предприятие сложное, далекое… На пути к нему есть множество задач более доступных, разработка которых, и сама по себе полезная, могла бы, сверх того, и лично вам оказать поддержку…
— Мне что! вот колесо настоящим бы образом… — промолвил он тихо.
В этих словах звучала такая убежденность, что Фаинушке вдруг взгрустнулось.
— Хозяюшка у вас есть? — спросила она ласково.
— Один я. И женат не был. Матушка у меня, с год назад, померла, — с тех пор один и живу. И горницу прибрать некому, — прибавил он, конфузливо улыбаясь.
Признаюсь, я думал, что Фаинушка вынет из бумажника сторублевую и скажет: вот вам… на колесо! — однако милая дамочка с минуту погрустила, а вслед за тем опять оправилась. — А давно вы этим делом занимаетесь? — продолжал допрашивать Глумов.
— Да и не помню уж… Охота такая…
— Подумайте, однако ж. Сколько лет вы одну работу работаете, а где же результаты?
— Может, и дойду.
Дальнейший разговор был невозможен. Даже Глумов, от природы одаренный ненасытным любопытством, — и тот понял, что продолжать ворошить этого человека, в угоду вояжерской любознательности, неуместно и бессовестно. Как вдруг Очищенный, неведомо с чего, всполошился.
— А податей много сходит? — спросил он.
— Податей нынче не берут, а пакенты велят брать.
Он поспешно вынул из стола промысловое свидетельство (цена 2 р. 50 к.) и показал нам. Быть может, у него в голове мелькнуло, что мы собственно для того и пришли, чтоб удостовериться.
— Дорогонько! — молвил Очищенный, инстинктивно обводя взором комнату.
— Для чего же вам свидетельство? Ведь вы постоянным промыслом не занимаетесь? — удивился Глумов.
— Случается. Намеднись господину исправнику табакерку с музыкой чинил, а месяц назад помещику одному веялку привезли, так сбирать ездил. Набегает тоже работишка.
— Ну, а вообще живется как?
Начался заправский допрос. Какие песни, сказки; нет ли слепенького певца… Куда бы он привел нас — не знаю. Быть может, к вопросу о недостаточном вознаграждении труда или к вопросу о накоплении и распределении богатств,* а там, полегоньку да помаленьку, и прямо на край бездны. Но гороховое пальто и на этот раз не оставило нас.
— Да что же вы спрашиваете? разве можно жить в стране, в которой правового порядка нет? Личность — не обеспечена завтрашний день — неизвестен… Либералы… ха-ха! — произнесло оно отчетливо и звонко.
Опять почувствовали мы знакомое дуновение, и опять мимо нас промелькнула гороховая масса, увенчанная цилиндром; промелькнула и растаяла.
— Спектр! — воскликнул Глумов, — но спектр спасительный, господа! Он посылается нам для того, чтоб мы знали, что можно и что нельзя… Итак, возблагодарим…
. . . . . . . . . .
Хотя мы и обещали Пантелею Егорычу, при первой возможности, отправиться дальше, но пароход не приходил, и мы поневоле должны были остаться в Корчеве. По возвращении на постоялый двор мы узнали, что Разноцветов где-то купил, за недоимку, корову и расторговался говядиной. Часть туши он уступил нам и сварил отличные щи, остальное — продал на сторону. А на вырученные деньги накупил патентов.
Как бы то ни было, но мы наелись. А наевшись, возмечтали. Наступили сумерки — нужно было как-нибудь скоротать вечер. Попробовали было загадку загадать: что такое Корчева? — Но ответ был чересчур уж короткий: Корчева есть Корчева. Тогда Глумов предложил прочитать нам лекцию из истории, на что мы с радостью согласились. Настолько, насколько это было возможно в скромной обстановке постоялого двора, он коснулся призвания варягов, потом беспрепятственно облетел периоды: удельный, татарский, московский, петербургский, и приступил к современности. Но едва вымолвил он вступительные слова: «Современность, переживаемая нами, подобна камаринскому мужику, который…» — как вдруг некто неожиданно произнес: — Извольте повторить, что вы сказали!
Мы обернулись: в дверях стояло гороховое пальто.
Спектр это был или не спектр?
В одну секунду мы потушили свечу и, шмыгнув мимо непрошеного гостя, очутились на улице.
XIX*
Целую ночь мы бежали. Дождь преследовал нас, грязь забрасывала с ног до головы. Куда надеялись мы убежать? — на этот вопрос вряд ли кто-нибудь из нас дал бы ответ. Если б мы что-нибудь сознавали, то, разумеется, поняли бы, что как ни велик божий мир, но от спектров, его населяющих, все-таки спрятаться некуда. Жестокая и чисто животненная паника гнала нас вперед и вперед.
Я слышал, как Фаинушка всхлипывала от боли, силясь не отставать, как «наш собственный корреспондент» задыхался, неся в груди зачатки смертельного недуга, как меняло, дойдя до экстаза, восклицал: накатил, сударь, накатил! А дождь свирепел больше и больше, и небо все гуще и гуще заволакивалось тучами. Ни одного жилья мы не встретили, и как нас не съели волки — этого я понять не могу. Наверное, они кое-что слышали, об нас от урядников и опасались отнять у нас жизнь, потому что с нашим исчезновением могли затеряться корни и нити, которые имело в виду гороховое пальто. Как бы то ни было, но этим чисто охранительным соображениям мы были обязаны жизнью.
Наконец, однако ж, выбились из сил. По-видимому, был уж час пятый утра, потому что начинал брезжить свет, и на общем фоне серых сумерек стали понемногу выступать силуэты. Перед нами расстилался пруд, за которымтемнела какая-то масса.
Вглядываюсь, и не верю глазам — передо мною Проплёванная![28] Она, она, она. Вон и дорога, ведущая в усадьбу. По одну сторону большой пруд, обсаженный березами, по другую — старинный «плодовитый» сад. А вон и барский дом, серый, намокший, едва выделяется из сумерек, а за домом опять темная масса — это другой сад, при самом доме. Но где же «красный» двор? где флигеля, конюшни, скотная?
С самой «катастрофы»* я не был в Проплёванной. В то время я впопыхах приехал, впопыхах что-то кончил, чем-то распорядился и впопыхах же уехал. Старого Аверьяныча приставил хранить господское добро и получать «ренду» за сверхнадельную землю*. Эту «ренду», в количестве трехсот рублей, я получал до такой степени аккуратно, что даже дворник, носивший в квартал повестку для засвидетельствования, радостно говорил: ренду с вотчины получили! Получал я также, от времени до времени, доносы, обвинявшие Аверьянова в краже, хищении, грабеже и других уголовных преступлениях, но так как я на доносы не откликался, то постепенно все стихло. И я непременно забыл бы о существовании отчины и дедины, если б три сотенные бумажки ежегодно не напоминали мне, что где-то существует защищенное межевыми знаками «местоположение», которое признаёт меня своим владыкою.
Радость, которую во всех произвело открытие Проплёванной, была неописанная. Фаинушка разрыдалась; Глумов блаженно улыбался и говорил: ну вот! ну вот! Очищенный и меняло присели на пеньки, сняли с себя сапоги и радостно выливали из них воду. Даже «наш собственный корреспондент», который, кроме водки, вообще ни во что не верил, — и тот вспомнил о боге и перекрестился. Всем представилось, что наконец-то обретено злачное место, в котором тепло и уютно и где не настигнут ни подозрения, ни наветы.
— Урядники-то, полно, тут есть ли? — самонадеянно воскликнул Глумов, но тут же одумался и суеверно прибавил: — Сухо дерево, завтра пятница!
Я провел своих спутников к барскому крыльцу, а сам отправился разыскивать Аверьяныча. Но таково действие «власти земли»*, что, по мере того как я углублялся в подвластное мне пространство, я чувствовал, как внутри меня начинают разгораться хозяйские инстинкты. Я шел на поиски и озирался по сторонам. Пруд — цел, но не выловлены ли караси? Красный двор — вот он, но кругом его прежде была решетка — где она? Вот тут, в углу, стоял флигель, а теперь навалена куча мусора, по которому привольно разрослась крапива. Вот тут стояла кудрявенькая береза — тетенька Варвара Ивановна посадила, — а теперь торчит пень. Где конюшни? куда делся скотный двор? Лошади были! коровы были! овца! Вспомнились доносы, и хозяйское сердце заныло. Сам виноват! как-то само собой складывалось в уме. Надлежало тогда же сломя голову лететь в Проплёванную, выследить, уличить, а буде нужно, то и ходатайствовать по судам. Флигель-то — он, на худой конец, пятьдесят целковых стоил, а ежели на охотника… Но, с другой стороны, припоминалось и то, что Аверьяныч, от времени до времени, кроме «рейды», и еще какие-то деньги присылал. Какие? Помню, словно сквозь сон, что он сначала писал: «продали лошадь саврасую палочницу», потом: «продали мерина голубого»; потом: корову, другую корову… и, кажется, флигель? Помнится, что об скотной я даже сам что-то писал… кажется, Марье-вдове да Акулине-перевезенке, за верную службу, подарил? Обе они, помнится, на судьбу жаловались: служили мы папеньке-маменьке вашим, в слезах хлеб ели, а ноне слезы остались, а хлеба нет…
И все-таки, когда я уехал из Проплёванной, усадьба была цела. Это первоначальное впечатление вытеснило все последующие подробности. Красный двор был обсажен березками и обнесен решеткой; теперь березки стали большими березами, а решетки нет, и двор весь изъезжен. Точно так же оба сада были обнесены частоколом, а теперь и они слились с проезжей дорогой: всякий входи и въезжай куда хочешь. Яблони-то целы ли? вишни? Вон от оранжереи только труба торчит, да и у той половина кирпичей растаскана. Помню, громадная липа, старая-престарая, стояла направо от дома — сколько цвету с нее собиралось, и какие массы пчел жужжали в ее непросветной листве! — где она? А за липой старая березовая аллея шла. Как сейчас помню: у крайней березы, внизу, один бок был точно кровью залит, потому что весной из нее точили березовицу… где эта аллея? Правда, в этой стороне и теперь еще виднеются издали какие-то гиганты, но уже не сплошною массой, а в одиночку. И как-то сердито качают они вершинами, словно отбиваются от одолевающего их молодого древесного подседа…
Все эти воспоминания и представления беспорядочно мелькали в голове, замедляя мои поиски. Весьма вероятно, что вслед за сим же все разъяснится и сыщется, но хозяйские инстинкты так упорны, что я с трудом овладел собой. Где же скрывается, однако ж, Аверьяныч? Кругом было пусто и, кроме чириканья проснувшихся воробьев, ничего не было слышно. В полуверсте чернел поселок, над которым уже носился дым от затапливаемых печей, но я знал, что Аверьяныч не имел на селе родных, у которых мог бы приютиться. Наконец, я припомнил, что в саду была когда-то поставлена банька, и направился туда.
Сад зарос и заглох необыкновенно; не видно было ни клумб, ни дорожек. Только одна тропинка шла вглубь от ветхой калитки, которая еще держалась на одной петле, прислонившись к столбу, составлявшему часть исчезнувшей решетки. Когда-то в саду было посажено несколько разных сортов тополей; теперь эти тополи разостлали свои корни по всему саду и подошли к самому дому. Были тут прежде целые клумбы зимующих роз, были группы воздушного жасмина, жимолости, бузины, была большая продольная аллея из сиреней и несколько боковых аллей из акаций — теперь все это исчезло, порабощенное тополем. Только бесчисленная масса воробьев свободно ютилась в этой чаще, которая так переплелась и перепуталась, как будто хотела защитить себя от постороннего вторжения, Я знаю многих, на которых картина подобной заброшенности производит чарующее впечатление, но мнепри виде ее просто сделалось обидно. Как будто из всей этой густой, приземистой массы неслись мне навстречу слова: нечего тебе здесь делать! нечего! нечего!
Аверьяныч сидел на приступочке банного крыльца и жевал. Но, увидев постороннего человека, испугался и торопливо спрятал за пазуху ломоть черного хлеба. Он еще был жив, хотя до того состарелся, что лицо его как бы подернулось мхом. Услышавши шум, выглянули из дверей Марья-вдова и Акулина-перевезе́нка, которые, очевидно, жили тут же. У Марьи-вдовы была дочь Полька, карлица, робкая, косноязычная, с кошачьими зрачками и выпяченным брюшком, которая спокон веку находилась при доме «в девчонках», — и она на крыльцо выбежала. И несмотря на то, что ей было за пятьдесят, — все еще смотрела девчонкой.
— Полька! когда же ты замуж-то выйдешь? — пошутил я по-барски.
Только тогда все опомнились.
— Ах, да, никак, это барин!
И до того обрадовались, что прослезились и бросились «ручку» ловить. Как будто у этих людей накануне доеден был последний каравай хлеба, и, не спустись я к ним, словно с облаков, назавтра же им угрожала неминучая смерть.
— Живы? — продолжал я шутить.
— Что нам деется! Мы ноне — казенные. Ни в огне не горим, ни в воде не тонем, — пошутили и они в тон мне.
И, на секунду пригорюнившись, в один голос прибавили:
— Красавец вы наш!
Наконец отперли двери дома и отворили ставни. С первого же шага нас так и обдало опальными запахами. В зале половицы слегка колебались, штукатурка кусками валялась на полу, а на потолке виднелись бурые круги вследствие течи; посредине комнаты стоял круглый банкетный стол, на котором лежал старинный-старинный нумер «Московских ведомостей». В гостиной было совсем темно от тополей, которые хлестали в окна намокшими ветвями. В маменькиной спальной поселилось семейство хомяков, которые, по-видимому, не имели никакого представления о человеке и его свойствах, потому что нимало не смутились при нашем появлении и продолжали бегать друг за другом. Словом сказать, всюду, куда мы ни проникали, нас в одно мгновение пронзало сыростью, выморочностью, запустением.
Такою предстала передо мной колыбель, убаюкивавшая мою юность золотыми снами. Все здесь взывало к памяти прошлого. Не было в этом доме окна, из которого я несчетное число раз не вопрошал бы пространство, в смутном ожидании волшебства; не было в этом саду куста, который не подглядел бы потаенного процесса, совершавшегося в юноше, того творческого процесса, в котором, как солнечный луч в утренних сумерках, брезжится будущий «человек». Не было пяди земли, которая не таила бы слова обличения в недрах своих, которая не могла бы свидетельствовать…
И все это: и дом, и сад, и земля — стояло забытое, оброшенное, почти поруганное…
Чуть-чуть было я не разнежился; но общее положение после ночных приключений было таково, что подавляло всякий порыв чувствительности. Прежде всего нам требовалось сухое белье и платье, а потом — пища. Принесли связку ключей и, после непродолжительных поисков, добыли целую кучу белья и женских блуз. Но по части мужских одеяний ничего не нашлось, кроме четырех дворянских мундиров, в которых папенька и дедушка в свое время щеголяли на выборах. Мундиры были необыкновенно странные: с коротенькими талиями и длинными узенькими фалдами назади. Кое-где сукно было побито молью, а на одном мундире оказалось даже вывороченным; шитье потемнело и отдавало запахом меди. Делать, однако ж, было нечего, пришлось одеться в мундиры, но так как их было только четыре, то на менялу, в воздаяние отличных заслуг,* возложили блузу. Часа через два мы были уже обсушены и обогреты, а когда Марья-вдова накормила нас яичницей, то все ночные злоключения забылись, и мы почувствовали себя так хорошо, как будто всю жизнь провели в мундирах, готовые защищать свои дворянские права.
Между тем на селе приезд наш произвел впечатление. Первым толкнулся в усадьбу батюшка и стыдливо потупил глаза, увидев меня в папенькиных штанах с отложным гульфом. Но когда узнал, что Проплёванную торгует у меня купчиха Стёгнушкина, которая будет тут жить и служить молебны и всенощные, то ободрился и стал считать на пальцах: один двугривенный, да другой двугривенный, да четвертак… Потом прибежал деревенский староста и рассказал, что пришли на село в побывку два солдата; один говорит: скоро опять крепостное право будет; а другой говорит: и земля, и вода, и воздух — все будет казенное,* а казна уж от себя всем раздавать будет. Так которому солдату верить?
— Как это… «казенное»? — не понял я.
— Решительно, то есть, все… как есть! — пояснил староста.
Вопрос был мудреный; пахло превратными толкованиями. Ежели ответить, что оба солдата врут, — скажут, пожалуй, что я подрываю авторитет армии и флотов. Ежели склониться на сторону одного из двух вестовщиков, так неизвестно, который из них превратнее. Кажется, как будто первый солдат меньше превратен, нежели второй, а впрочем…
— Богу молиться нужно! — заметил я, наконец, взглянув на батюшку.
— И я им то же говорю, — отозвался батюшка, — не* надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие,* а к богу прибегайте!
Тогда староста широко перекрестился и спросил:
— А пачпорты есть?
И, в объяснение своего требования (все-таки я когда-то ему «заместо отца» был!), понес околесную, из которой можно было только разобрать: «почему что» да «спаси бог!». И в заключение: ноне строго!
— Вон уж Успленья на дворе, — сказал он, — а мы, благослови господи, сеять-то и не зачинали!
— Что так?
— Всё сицилистов ловим. Намеднись всем опчеством двое суток в лесу ночевали, искали его — ан он, каторжный, у всех на глазах убёг!
— Сицилист-то?!
— Он самый. Видим, что бежит… ах, батюшки! господа хрестьяне! вон он! лови, братцы, лови! Куда-те! так между пальцев, словно вьюн, уполз!
После старосты пришла девушка с села и возвестила, что посадские девки просят позволения хороводы перед домом играть и новую помещицу повеличать (весть о приезде Фаинушки для покупки Проплёванной с быстротою молнии проникла во все дворы).
Последним пришел местный кабатчик, под предлогом, не нужно ли чаю-сахару, но, в сущности, для того, чтоб прочитать у Фаинушки в глазах, не намеревается ли она завести в Проплёванной свой кабак.
Но у всех, даже у карлицы Польки, был на уме затаенный вопрос: каким образом мы, именующие себя «интеллигентами» и представителями «правящих классов», несвойственно прибежали пешком, вместо того чтоб торжественно въехать на двух-трех тройках с малиновым звоном?
Но, кроме того, мог возникнуть и другой вопрос, касавшийся лично меня, а именно: настоящий ли это барин приехал, не подложный ли, надевший только личину его?
Я и сам понимал важность и даже естественность этих вопросов и не без опасения ждал минуты, когда они настолько созреют, что ни батюшка, ни староста; ни кабатчик не будут уже в состоянии держать язык за зубами. Судьба поистине была несправедлива к нам. Ни присутствие менялы, ни участие в наших похождениях столь несомненно позорного человека, как Очищенный, — ничто не тронуло жестоковыйную ябеду, которой современная испуганность предоставила привилегию раздавать патенты на благонадежность и неблагонадежность. Мы не спорили против силы вещей; напротив, беспрекословно подчинились ей и начертали такую программу, в которой были и двоеженство и подлоги — кажется, на что лучше! И что ж, вместо того чтоб оказать нам сочувствие и поддержку, вместо того чтоб сказать: зачем совершать подлоги! можно и без подлогов на правильной стезе стоять! — нас на каждом шагу встречает целая масса внезапностей, которые поселяют в сердцах наших меланхолию и нерешительность…
Чего собственно добивалось от нас бессмысленное гороховое пальто, по милости которого мы так неожиданно очутились в Проплёванной? Ежели оно серьезно представляло собой принцип собирания статистики, то не могло же оно не понимать, что людям, которые посещают квартальные балы, играют в карты с квартальными дипломатами, сочиняют уставы о благопристойном поведении и основывают университеты с целью распространения митирогнозии, следует предоставить полный простор, а не следить за каждым их шагом и тем менее пугать. Что было предосудительно революционного в нашем вчерашнем собеседовании с старичком и с мещанином Презентовым? Какую особливую опасность представляло даже сделанное Глумовым (и неоконченное) сравнение современности с камаринским мужиком? Решительно, ни революционного, ни предосудительного, ничего в этих поступках не было. Но если б даже и представилось что-нибудь предосудительное и небезопасное, то не следовало ли бы взглянуть на эти поступки как на случайные уклонения, к которым новообращенный прибегает, чтобы сорвать сердце за утраченный стыд? Ведь надо же и ему какое-нибудь утешение оставить.
Нет, как хотите, а даже в сфере ябеды торжествующая современность заявляет себя не только несостоятельною, но просто глупою. Я знаю, что система, допускающая пользование услугами заведомых прохвостов, в качестве сдерживающей силы относительно людей убеждения, существует не со вчерашнего дня, но, по моему мнению, давность в подобном деле есть прецедент, по малой мере, неуместный. В сущности, это совсем не система, а злодейство. Из человека — положим, заблуждающегося, но в идейном смысле все-таки возвышающегося над общим уровнем — делают загадку, и угадывание этой загадки предоставляют прохвосту… ужели это не злодейство? Вы представьте только себе, как этот злополучный игнорант*, поводя носом в воздухе, приступает к человеческой душе и начинает в ней по складам разбирать: буки-аз — ба, веди-аз — ва… Что он поймет? В наилучшем случае он будет разевать рот и хлопать глазами. Но если у него есть стремление показать товар лицом и если, кроме того, у него окажется еще волчий аппетит, так ведь он не затруднится даже напоминанием, а просто-напросто, заручившись каким-нибудь хлестким словом, начнет с его помощью уловлять вселенную. Нет, как хотите, а это положительное злодейство.
Мир убеждений и мир шалопайства суть два совершенно различные мира, не имеющие ни одной точки соприкосновения. Это истина, непререкаемость которой должна быть для всех обязательною. Допустите в сфере убеждений самую густую окраску заблуждения, так ведь и тогда прежде всего надо уметь определить, в чем именно заключается заблуждение и почему непременно предполагается, что оно должно нанести ущерб сложившейся современности. Разве невежественный прохвост может возвыситьея до постижения столь сложных и трудных явлений? Нет, он только будет выкрикивать бессмысленное слово и под его защитою станет сваливать в одну кучу все разнообразие аспирации* человеческой мысли. Вообразите, как должно быть трудно выслушивать наблюдения этих людей, которые смешивают Прудона с Юханцевым и Гарибальди с Редедею!*
В старину ябеда как будто умнее была. Она задавалась вполне определенною и притом доступною ее пониманию целью, и только в ее пределах предъявляла свои требования. Все лишнее, не вмещавшееся в эти пределы, она отсекала, как бы говоря: у меня и настоящего дела довольно, а в остальном, буде это окажется нужным, пусть разбираются последующие ябеды! Это, быть может, концентрировало жестокость, но в то же время устраняло от нее характер шутовства и надругательства. Нынче, благодаря чрезмерному размножению шалопаев, до того все перепуталось, что трудно даже определить, что из беспрерывно нарастающей массы сплетен представляет реальность, а что, без дальних слов, следует бросить на съедение собакам. Благодаря этой путанице самые существенные и трудные задачи жизни делаются достоянием невежественнейших добровольцев, и затем недомыслие и даже явная бессмыслица являются главным обвинительным штандпунктом*, против которого даже возражать противно… Ясно, что это даже не обвинение, не преследование, а просто шутовство и надругательство.
Сознавать себя со всех сторон опутанным сетью шалопайства — разве это не горшая из обид? Видеть шалопайство вторгающимся во все жизненные отношения, нюхающим, чем пахнет в человеческой душе, читающим по складам в человеческом сердце, и чувствовать, что наболевшее слово негодования не только не жжет ничьих сердец, а, напротив, бессильно замирает на языке, — разве может существовать более тяжелое, более удручающее зрелище? Повторяю: ябеда существовала искони, в качестве подспорья, но она вращалась в известной сфере, ограничивалась данным кругом явлений и редко выходила за пределы своей специальности. Ныне она обмирщилась, расплылась, расползлась, утратила всякое представление о границах и мере и, что всего важнее, захватила в свои тиски обиход «среднего» человека и на нем, по преимуществу, сосредоточила силу своих развращающих экспериментов. Но, может быть, это-то именно и погубит ее.
— Как ты думаешь, погибнет ябеда? — обратился я к Глумову.
— Непременно, — ответил он, сразу отгадав мои мысли. — Во-первых, она слишком разбросалась и все свои задачи потопила в массе околичностей; во-вторых, она кровно обидела «среднего» человека, для которого вопрос о целости шкуры представляется существеннейшею задачей всей жизни.
— Вот мы, например…
— Ну да, мы; именно мы, «средние» люди. Сообрази, сколько мы испытали тревог в течение одного дня! Во-первых, во все лопатки бежали тридцать верст; во-вторых, нас могли съесть волки, мы в яму могли попасть, в болоте загрузнуть; в-третьих, не успели мы обсушиться, как опять этот омерзительный вопрос: пачпорты есть? А вот ужо погоди: свяжут нам руки назад и поведут на веревочке в Корчеву… И ради чего? что мы сделали?
— Прекрасно; но каким же образом средний человек успеет победить ябеду?
— А вот именно этим вопросом, который я сейчас сделал. Будет и в домах, и на улицах, и на распутиях, и шепотом, и вполголоса, и громко спрашивать: что мы сделали? Только и всего. Высшего разряда интеллигент не снизойдет до этого вопроса, мелкая сошка — не возвысится до него, а «средний» человек именно как раз ему в меру пришелся. Средний человек до болезненности чувствителен к тем благам, совокупность которых составляет жизненный комфорт. Не к еде одной, не к одному прилично сшитому платью, а к комфорту вообще, и в том числе к свободе мыслить и выражать свои мысли по-человечески. И вот, когда он замечает, что в его мысль залезает шалопай, когда он убеждается, что шалопай на каждом шагу ревизует его душу, дразнит его и отравляет его существование сплетнями, — он начинает метаться и закипать. Некоторое время он, конечно, сдерживает себя и виляет — вот как мы, например: шутка сказать, с Очищенным связались! — но потом разевает рот и кричит: за что? что я сделал!!
— А потом?
— Чудак! А потом, разумеется, и остальные средние люди разевают рты: и в самом деле, что же он сделал? И выходит немая сцена — вроде как в «Ревизоре», — для постановки которой приходится прибегать к содействию балетмейстера. Глумов помолчал с минуту и продолжал:
— Высокоинтеллигентного человека легко изолировать, потому что он относится к мелочам индифферентно. Его можно вырвать из рядов человеческих и скомкать, потому что средний человек не заступится за него,* а только будет стыдливо замыкать уши и жмурить глаза. Мелкая сошка — та сама руки протянет: вяжите, батюшки, мы люди привышные! А средний человек — тот галдеть будет. У него, куда он ни обернется — везде «свой брат», которому он будет жаловаться и руки показывать: смотрите, запястья-то как натерли! Это мне-то натерли! мне, дворянскому сыну, мне, правящему классу… руки натерли!
Произнося последние слова, Глумов вдруг ожесточился и даже погрозил пальцем в пространство. Очевидно, на него подействовал дворянский мундир, который был на его плечах.
Тогда и я, почувствовав на плечах мундир, в свою очередь рассердился.
— И кто же надругается над нами! — воскликнул я, — шваль отпетая надругается! отребье, не помнящее родства! Над нами, над дворянскими детьми! За что? Что мы сделали?
И оба вдруг, точно наступив друг другу на мозоли, вскочили, отворили окно и крикнули:
— За что? что мы сделали?
Смотрим, а на дороге, перед самой усадьбой, стоит мужчина.
Это был урядник; на голове — кепи, сбоку — шашка; усы — нафабрены. Он стоял и в задумчивости смотрел на березки, которыми был обсажен красный двор, словно рассчитывал, сколько тут может выйти сажен дров.
— А ты еще сомневался, есть ли в Проплёванной урядник! — шепотом укорял я Глумова.
— Смотри! смотри! не один, а целых два! — воскликнул он вместо ответа.
Действительно, из-за крапивы, росшей на месте старого флигеля, показался другой урядник, тоже в кепи и при шашке. Не успели они сделать друг другу под козырек, как с разных сторон к ним подошло еще десять урядников. Один из них поймал по дороге пригульного поросенка, другой — вынул из-под курицы только что снесенное яйцо; остальные не принесли ничего и были печальны.
Началось совещание («может быть, предположение о ненастоящем барине уже созрело и формулировалось», невольно мелькнуло у меня в голове). Сначала распределили наблюдательные пункты; потом стали обсуждать, с которой стороны ловчее повести атаку: со стороны леса или со стороны болота. Но ничего не вышло, потому что пригульный поросенок овладел всеми их мыслями. Тогда решили: представить по начальству о милостивом разрешении объявить Проплёванную в осадном положении, а в ожидании ответа изловить другого пригульного поросенка (буде возможно, с кашею), а равно и курицу, снесшую яйцо.
— Говорил я тебе! — сказал Глумов в испуге, — говорил, что не миновать нам веревочки!
XX*
Тоска овладела нами, та тупая, щемящая тоска, которая нападает на человека в предчувствии загадочной и ничем не мотивированной угрозы. Бывают времена, когда такого рода предчувствия захватывают целую массу людей и, словно злокачественный туман, стелются над местностью, превращая ее в Чурову долину.* В особенности памятно мне в этом смысле одно лето.* Сидишь, бывало, дома — чудятся шорохи, точно за дверью, в потемках, кто-то ручку замка нащупывает; выйдешь на улицу — чудится, точно из каждого окна кто-то пальцем грозит. Допустим, что все это только чудится и что на самом деле ничто необыкновенное не угрожает, но ведь и миражи могут измучить, ежели вплотную налягут.
Именно такого рода миражи обступили нас вслед за урядницким совещанием.
Сумерки уже наступили, и приближение ночи пугало нас. Очищенному и «нашему собственному корреспонденту», когда они бывали возбуждены, по ночам являлись черти; прочим хотя черти не являлись, но тоже казалось, что человека легче можно сцапать в спящем положении, нежели в бодрственном. Поэтому мы решились бодрствовать как можно дольше, и когда я предложил, чтоб скоротать время, устроить «литературный вечер», то все с радостью ухватились за эту мысль.
Прежде всего мы обратились к Очищенному. Это был своего рода Одиссей, которого жизнь представляла такое разнообразное сцепление реального с фантастическим, что можно было целый месяц прожить в захолустье, слушая его рассказы, и не переслушать всего. Почтенный старичок охотно согласился на нашу просьбу и действительно рассказал сказку столь несомненно фантастического характера, что я решился передать ее здесь дословно, ничего не прибавляя и не убавляя. Вот она.
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. Случилось это давно, еще в ту пору, когда промежду начальников такое правило было: стараться как можно больше вреда делать,* а уж из сего само собой, впоследствии, польза произойдет.
— Обывателя надо сначала скрутить, — говорили тогдашние генералы, — потом в бараний рог согнуть, а наконец, в отделку, ежовой рукавицей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж сам собой постепенно отдышится и процветет.
Правило это ретивый начальник без труда на носу у себя зарубил. Так что когда он, впоследствии, «вверенный край» в награду за понятливость получил, то у него уж и программа была припасена. Сначала он науки упразднит, потом город спалит и, наконец, население испугает. И всякий раз будет при этом слезы проливать и приговаривать: видит бог, что я сей вред для собственной ихней пользы делаю! Годик-другой таким образом попалит — смотришь, ан вверенный-то край и остепеняться помаленьку стал. Остепенялся да остепенялся — и вдруг каторга!
Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут и степенно блаженствуют. В будни работу работают, в праздники — за начальство богу молят. И оттого у них все как по маслу идет. Наук нет — а они хоть сейчас на экзамен готовы; вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает; товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он, ретивый начальник, только смотрит да радуется; бабам по платку дарит, мужикам — по красному кушаку. «Вот какова моя каторга! — говорит, — вот зачем я науки истреблял, людей калечил, города огнем палил! Теперь понимаете?»
— Как не понимать — понимаем.
В этой надежде приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена — сжег и пепел по ветру развеял. На третий год стал себя проверять — что за чудо! — надо бы, по-настоящему, вверенному краю уж процвести, а он даже остепеняться не начинал! Как ошеломил он с первого абцуга* обывателей, так с тех пор они распахня рот и ходят…
Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать: какая тому причина?
Думал-думал, и вдруг его словно свет озарил. «Рассуждение» — вот причина. Стал он припоминать разные случаи, и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до настоящего вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки не дошел. А не дошел потому, что этому препятствовало «рассуждение». Сколько раз с ним бывало: разбежится, размахнется, закричит: «разнесу!» — ан вдруг «рассуждение»: какой же ты, братец, осел! Ну, он и спасует. А кабы не было у него «рассуждения», он бы давно уж до каторги дело довел.
— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие.
И погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим посильную пользу вверенному краю принести.
На его счастье, жила в этом городе колдунья, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а между прочим умела и «рассуждение» отнимать. Побежал он к ней, кричит: отымай! Видит колдунья, что дело к спеху, живым манером сыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то из дырки свистнуло… шабаш! Остался наш парень без рассуждения…
Разумеется, очень рад. Стал есть — куска до рта донести не может, всё мимо. Хохочет.
Сейчас побежал в присутственное место. Стал посредине комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить — не понимает. Таращит глазами, губами шевелит — больше ничего. Однако так он одним своим нерассудительным видом всех испугал, что разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, расколол его и убежал.
Прибежал в поле. Видит — люди пашут, боронят, косят, гребут. Знает, сколь необходимо сих людей в рудники заточить, а каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги, но только что бросился к другому пахарю, чтоб борону разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный стог сена и убежал.
Воротился в город. Знает, что надобно его с четырех концов запалить, а каким манером — не понимает. Вынул по привычке из кармана коробочку спичек, чиркает, да не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а что за причина — не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает: где, батюшко, где? Наконец устал звонить, сбежал вниз, опять вынул коробку со спичками, зажег их все разом, и только было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда побежал домой и заперся на ключ.
Сидит неделю, сидит другую; вреда не делает, а только не понимает. И обыватели тоже не понимают. Тут-то бы им и отдышаться, покуда он без вреда запершись сидел, а они вместо того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тех пор все вред был, и все от него пользы с часу на час ждали; но только что было польза наклевываться стала, как вдруг все кругом стихло: ни вреда, ни пользы. И чего от этой тишины ждать — неизвестно. Ну, и оторопели. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут.
А у него между тем опять рассуждение прикапливаться стало. Однажды выглянул он в окошко и как будто понял.
— Кажется, я одним своим нерассудительным видом настоящий вред сделал! — воскликнул он и стал ждать: вот сейчас соберутся перед домом обыватели и будут каторги просить.
Но, сколько он ни ждал, никто не пришел. По-видимому, всё уже у него начеку: и поля заскорбли, и реки обмелели, и стада сибирская язва посекла, и письмена пропали, — еще одно усилие, и каторга готова! Только вопрос: с кем же он устроит ее, эту каторгу? Куда он ни посмотрит — везде пусто; только «мерзавцы», словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с ними с одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не ябедник праздный нужен, а коренной обыватель, работяга, смирный.
Рассердился. Вышел на улицу, стал в обывательские норы залезать и поодиночке народ оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление, вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но тут опять беда. Не успеет до крайней норы дойти — смотрит, ан прежние* опять в норы уползли…*
Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел-шел и пришел в большой город, в котором вышнее начальство резиденцию имело.
Смотрит — и не верит глазам своим! Давно ли в этом самом городе «мерзавцы» на всех перекрестках программы выкрикивали, а «людишки» в норах хоронились — и вдруг теперь все наоборот! Людишки, без задержки, по улицам ходят, а «мерзавцы» в норах попрятались!
Куда ни взглянет — везде благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Зайдет в трактир — никогда, сударь, так бойко не торговали! Заглянет в калашную — никогда столько калачей не пекли! Завернет в бакалейную лавку — икры, сударь, наготовиться не можем! сколько привезут, столько сейчас и расхватают!*
— Что за причина? — спрашивает он у знакомых и незнакомых, — какой такой настоящий вред вам учинен, от которого вы вдруг так ходко пошли?
— Не от вреда это, — отвечают ему, — а напротив. Новое начальство у нас нынче; оно все вреды упразднило. От этого так у нас и хорошо.
Отправился ретивый начальник по начальству. Видит: дом, где начальник живет, новой краской выкрашен; швейцар — новый, курьеры — новые. А наконец и сам начальник — с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний начальник сопел, новый — соловьем щелкает. Улыбается, руку жмет, садиться просит… Ангел!
Делать нечего, стал он докладывать. И что дальше докладывает, то гаже выходит. Так, мол, и так, сколько ни делал вреда, а пользы ни на грош из того не вышло. Не может отдышаться вверенный край, да и шабаш.
— Повторите! — не понял новый начальник.
— Так и так. Никаким манером до настоящего вреда дойти не могу!
— Что такое вы говорите?
Оба разом встали и смотрят друг на друга. И вдруг новый начальник вспомнил, что он сам сколько раз в этом смысле для своего предместника циркуляры изготовлял.
— Ах, так вы вот об чем! — расхохотался он. — Но ведь мы уж эту манеру оставили! Нынче мы вреда не делаем, а только пользу. Ибо невозможно в реку нечистоты валить и ожидать, что от сего вода в ней слаще будет. Зарубите это себе на носу.
Воротился ретивый начальник в вверенный край, и с тех пор у него на носу две зарубки. Одна (старая) гласит: «достигай пользы посредством вреда»; другая (новая): «ежели хочешь пользу отечеству сделать, то…» Остальное на носу не уместилось.
Но иногда он принимает одну зарубку за другую. Тогда выходит так: что ел, что кушал — все едино».
Сказочка Очищенного всем понравилась. В особенности всех утешило то, что участь вверенного края разрешилась, по возможности, благополучно. Одна Фаинушка, по наивности, предъявила некоторые сомнения. Сначала обеспокоилась тем: каким образом могло случиться, что ретивый начальник так долго не знал, что́ в главном городе новое начальство новые порядки завело? — на что Глумов резонно ответил: оттого и случилось, что дело происходило в некотором царстве, в некотором государстве, а где именно — угадай! Потом изъявила сожаление, зачем новое начальство старую зарубку на носу у ретивого начальника не только не уничтожило, а даже как будто в силе оставило? — на что́ Глумов тоже резонно объяснил: затем и оставило, что, может быть, понадобится.
— Не для того мы, мой друг, здесь собрались, чтоб критиковать, — прибавил он солидно, — а для того, чтобы время с пользою провести. Вот и я спервоначалу думал: какой, мол, оболтус этот ретивый начальник, ишь ведь что выдумал! — а теперь и сам вижу, что без того, чтоб городок-другой не спалить, ихнему брату нельзя. Управить ведь нужно, а как ты управишь, коль скоро у тебя в руках нет ни огня, ни меча? Так-то. Ну да ладно; чья теперь очередь рассказывать? Онуфрий Петрович! ты, кажется, жизнеописание свое хотел рассказать… начинай, друг!
Но злополучный меняло, вместо того чтоб приступить к рассказу, вынул из кармана замасленную бумагу, в роде ласочного счета, и предъявил ее нам, сказав:
— Вот моя жизнь!
Руб. К. Попам 100 — В нижний земский суд 100 — Прочим судиям 100 — В 1826 году, Иулия 30-го, при принятии
родителями печати, якобы в сонном виде
сие случилось, плачено всем вопче…. 5000 — Тогда же покупано для господина исправника: Икры бочонок 15 50 Балыков пара 16 65 Вина Марсалы 30 — Детям исправницким орехов 1 25 Попу Миките сантуринского 12 — Со 1818 по 1838 г. плачено: За нехождение по 100 р. ежегодно попу. 2000 — За «житие» в земский суд 7350 — В 1829 году за одоление победы над турками* дадено 750 — Дозде ассигнациями В 1838, по случаю переложения ассигнаций на серебро,* всем вопче. Господи благослови! 1000 р. серебром В 1839 г., Иануария 15-го, по случаю совершенных лет и принятия малой печати, якобы в сонном виде произошло 5000 — Приезжал чиновник из губернии для ревизии по оному же делу; дадено 7000 — Ему же часы с репетицией 350 — По сему же случаю начальнику губернии, на вдов и сирот 5000 — На украшение монастырей 5000 — В 1842 г. по случаю учреждения губернских правлений* 6000 — По сему же случаю исправнику тарантас покупан 300 — С 1838 по 1845 г. за продолжение жития по 1000 р. 7000 — За нехождение 3500 — В 1845 году в Петербург поехали, в Ряжске исправник хотел следствие о растрате вверенного имущества начать. Плачено 2000 — То же в Рязани 1500 — То же в Коломне 1500 — Бронницы ночью проехали 100 — В Москве хотели в Сибирь сослать 15000 — В Клину за освидетельствование 500 — В Твери то ж 1000 — В Торжке 750 — В Вышнем Волочке 1000 — В Валдае колокольчиков накупили 5 — В Крестцах ямщик задами провез 100 — В Новгороде губернатор на чашку чая звал 3000 — Приехали в Петербург 50000 — В 1846 году от министра генерал всех вопче тревожил* 45000 — Особливо тревожил 50000 — В 1847 году статский советник тревожил* 25000 — В 1849 году по случаю победы одоления над мятежными венграми* 15000 — На усиление средств 10000 — В 1853 году на армии и флоты* 75000 — В 1854 году на тот же предмет 50000 — В 1855 году по случаю окончания в знак радости* 50000 — С 1845 по 1856 г. оклад по 6 000 р. в год 66000 — В 1857 году, по случаю дороговизны припасов, оклад увеличен до 10 000 р. в год, причем на вопрос: «а кроме сего?» ответствовано: «посмотрим» — В 1858 году за «посмотрим» 10000 — В 1862 году но случаю реформы окончания* 10000 — В 1863 году призывал генерал и чаем потчевал.* Дадено на общеполезное устройство 25000 — В 1864 году оному же генералу на покупку имения взаймы дадено 40000 — В 1865 году, по*поводу разных случаев*
внезапностей 30000 — В сем же году немецкий прынец приезжал, чай у нас в доме кушал, взаймы дадено 6200 — Оный же прынец, отъезжая, вновь взаймы выпросил 6200 62 Адъютанту его 3000 — Прочим всем 3200 — В 1866 году по случаю свободы книгопечатания 50 — В 1867 году на предметы вопче 5000 — В 1870 году квартальному надзирателю на университеты 600 — В 1871 году ему же на распространение здравых понятий 1000 — В 1872 году ему же на памятник Пушкину* 15 В 1873 году призывал генерал. На усиление средств 16000 — В 1874 году на устройство асфальтовой
мостовой 7200 — В 1875 году на сады и увеселения 2000 — В 1876 году на издание лексикона 100 — В 1877 году в квартал на потреотизм* 95000 — В 1878 году на сей же предмет 87000 — В 1879 году призывал генерал. На усиление средств* 20000 — Немецкий прынец в свое место проезжал 12400 — В 1880 году на необходимости 25000 — С 1859 по 1880 г. включительно за «посмотрим» 120000 — С 1867 по 1880 год включительно оклада 140000 — Итого с 1818 по 1880 год включительно — Ассигнациями 15475 4 °Cеребром 1167465 77
— Вот это, брат, так жизнеописание! — в восторге воскликнул Глумов. — Выходит, что ты в течение 62 лет «за житие» всего-навсего уплатил серебром миллион сто семьдесят одну тысячу восемьсот восемьдесят семь рублей тридцать одну копейку. Ни копейки больше, ни копейки меньше — вся жизнь как на ладони! Ну, право, недорого обошлось!
— Живу-с, — скромно ответил Парамонов.
— Вот именно. В другом бы царстве с тебя миллионов бы пять слупили, да еще в клетке по ярмаркам показывать возили бы. А у нас начальники хлеб-соль с тобой водят. Право, дай бог всякому! Ну, а в промежутках что же ты делал?
Парамонов не понял сразу.
— Вот, например: дал ты в 1872 году на памятник Пушкину 15 копеек, а в следующем году «на усиление средств» 16 000 рублей. В промежутке-то что же было?
— Жил-с.
— Прекрасно. Живи и впредь. Корреспондент! очередь за тобой!
«Корреспондент» встал и скромно произнес:
— Рассказа у меня наготове нет; но, ежели угодно, я могу прочитать фельетон, написанный мной для «Красы Демидрона»…
— А это и еще лучше. Сообща выслушаем, а может быть, и посоветуем… Прекрасно. Читай, братец.
«Негодяй — властитель дум* современности. Породила его современная нравственная и умственная муть, воспитало, укрепило и окрылило — современное шкурное малодушие.
Я не хочу сказать этим, что он явился в мир только вчера, но утверждаю, что именно вчера он облекся в те ликующие одежды, которые дозволяют безошибочно указать на него в толпе: вот негодяй! И в древности, и в новейшие времена — всегда существовал негодяй (иначе откуда же мы получили бы представление о позоре?), но он прятался в темных извилинах человеконенавистнического ремесла и там пакостил, следуя в этом примеру своего прототипа, сатаны.
Что такое сатана? — это грандиознейший, презреннейший и ограниченнейший негодяй, который не может различить ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общего, ни частного и которому ясны только чисто личные и притом ближайшие интересы. Поэтому его называют врагом человеческого рода, пакостником, клеветником. И по той же причине место действия ему отводят под землей, в темном месте, в аду.
Подобно сему, во тьме же действовал доселе и наперсник сатаны, «негодяй». Об нем знали, но его не видели, его чувствовали, но не осязали.
Ныне — не так. Ныне негодяй сознал самого себя и на вопрос: что́ есть негодяй? — отвечает смело: негодяй — это я! Подобно отцу своему, сатане, он не чувствует даже потребности выяснить себе сущность негодяйской профессии, а прямо на глазах у всех совершает негодяйские поступки и во всеуслышание говорит негодяйские речи.
Смотрите, как твердо он ступает по негодяйской стезе и какими неизреченно бесстыжими глазами взирает на все живущее! Прислушайтесь, какою уверенностью звучит его голос, когда он говорит: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила в нем наглость; наглость, в свою очередь, застраховала его от возможности каких-либо потрясений. Взглянувши на него, вы не запутаетесь в определениях; вы скажете прямо: это негодяй! — и все для вас будет ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяснившегося, цельного. Он как-то сразу просиял из тьмы и сам о себе засвидетельствовал.
И проник всюду. Во все слои так называемого общества, во все профессии, во все места. Везде он является с открытым лицом, везде возвещает о себе: вы меня знаете? — я негодяй! Я — ярмо, призванное раздавить жизнь. Я — позор, призванный упразднить убеждение, честность, правду, самоотвержение. Я — распутство, поставившее себе задачей наполнить вселенную гноем измены, подкупа, вероломства, предательства.
Вы встретитесь с ним и в великосветском салоне, и на купеческом именинном пироге, и за скромною трапезой чиновника, и в театре, и в трактире, и на конке. И всюду он проповедует: нет выхода вне негодяйства! все будут негодяями, все! будут! будут! Ибо он ищет утопить в позоре не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее.
И все стихает при его появлении, все ждет, какой новый позор провещают его позорные уста. Он не довольствуется инсинуацией, как его негодяи предшественники, но прямо источает ложь, хулу и клевету. Прямо утверждает: негодяйство — вот единственная почва, на которой человек может стоять твердо, на которой он может делать не мечтательное, а действительное дело.
Спросите его, что он разумеет под действительным делом — он и на это даст ясный ответ. Действительное современное дело, скажет он, это измена и предательство; это прекращение жизни, это возврат к мраку времен. Возразите ему: но ведь человеческое общество не может питаться одной изменой, одним междоусобием; оно обязано сеять семена будущего… Он и на это ответит: будущее может занимать только опасных мечтателей; негодяй же довольствуется тем, что́ составляет насущную задачу дня!
Он скажет это так авторитетно и веско, что спор прервется сам собой…
Случалось ли вам, читатель, присутствовать при подобных спорах? Сначала вы слышите общий говор и шум, потом начинаете в этом шуме различать какую-то крикливую, резкую ноту; постепенно эта нота звучит громче и громче и, наконец, раздается одна. Спорящие стихли; комната наполняется шепотом, среди которого от времени до времени раздается тихий, словно вымученный смех…
Ах, этот смех! что в нем слышится? рабское ли поощрение, робкий ли протест или просто-напросто бессилие?
Что́ до меня, то мне в этом смехе чудится вопль. Нет под ногами почвы! некуда прислониться! нечем защититься! Перед глазами кишит толпа, в которой каждый чувствует себя одиноким, заподозренным, бессильным, неприкрытым, каждый видит себя предоставленным исключительно самому себе. Ни дело, ни подвиг — ничто не может защитить, потому что между делом и объектом его кинута целая пропасть. Да и то ли еще это дело, тот ли подвиг? нет ли тут ошибки, недоумения?
На днях я с ним встретился. С ним, с негодяем.
— Ужели вы искренно думаете, что можно воспитать общество в ненависти к жизни, к развитию, к движению? — спросил я его.
— Непременно, — ответил он. — Пора покончить с призраками, и покончить так, чтоб они уже никогда более не возвращались и не возмущали правильного течения жизни.
— Позвольте, однако ж! ведь то, что вы называете призраками, представляет собой существеннейшую потребность человеческой мысли?
— Мысли растленной, утратившей представление о границах — да. Для такой мысли призраки необходимы. Но такую мысль следует не поощрять, а остепенять, вводить в пределы.
— Но каким же образом вы введете ее в пределы, — да и в какие еще пределы! — коль скоро она, по самой своей сущности, чужда им?
— Гм… средства найдутся.
— Бараний рог? ежовые рукавицы?
— И они. Хотя надо сознаться, что эти средства не всегда бывают достаточны.
— Стало быть, подкуп? предательство? измена?
— Э-эх, государь мой! сколько вы страшных слов разом выпустили! А ведь ежели вместо них употребить выражение «обязательная, насущная потребность дня», то, право, будет и понятно, и совершенно достаточно.
— И вы уверены, что это синонимы?
— Совершенно.
Он подал мне руку и уже хотел идти своей дорогой, как вдруг я заметил у него на лице что-то странное. Всматриваюсь — следы человеческой пятерни.
— Что такое у вас на лице? — спросил я.
— Пятерня. Это от прошлого либерального паскудства осталось. Пройдет. И впредь не будет… ручаюсь!
И, подняв гордо голову, он проследовал дальше; я же, поджавши хвост, возвратился в дом свой.
Здесь я те же самые предположения об устранении призраков прочитал систематически изложенными в газетной передовой статье. Статья написана была бойко и авторитетно. С полною уверенностью она утверждала, что дело человеческой мысли проиграно навсегда и что отныне человек должен руководиться не «произвольными» требованиями разума и совести, которые увлекают его на путь погони за призрачными идеалами, но теми скромными охранительными инстинктами, которые удерживают его на почве здоровой действительности. Инстинкты эти говорят человеку о необходимости питания, передвижения, успокоения, и им, несомненно, должны быть предоставлены все средства удовлетворения и самая широкая свобода. В этой широкой свободе найдется место и для работы мысли, ибо никакое, самое простейшее требование человеческого организма не может обойтись без ее участия. Поэтому речь идет совсем не об том, чтоб погубить мысль, а лишь об том, как и куда ее применить. В сущности, свобода желательна, и пусть царствует она везде… за исключением области мечтательности…
Прочитавши это, я вспомнил, что еще не обедал. И так как в кармане у меня было всего два двугривенных, то для моей мыслительной способности действительно сейчас же нашлась работа: ухитриться так, чтоб из этих двух двугривенных вышел и обед, и чай, и хоть полколбасы на ужин. И когда я действительно ухитрился, то, ложась на ночь спать, почувствовал себя сыном отечества и гражданином».
Корреспондент.
Фельетон этот произвел очень разнообразное впечатление. Меняло совсем ничего не понял; Фаинушка поняла только то место, которое относилось до двух двугривенных («ах, бедненький!»). Очищенный, в качестве вольнонаемного редактора «Красы Демидрона», соображал: пройдет или не пройдет? Я — скорее склонен был похвалить, хотя казалось несколько странным, с чего вдруг вздумалось «нашему собственному корреспонденту» заговорить о «негодяе». Что же касается Глумова, то он положительно не одобрил.
— Все это, братец, лиризм, — сказал он, — а лиризмом ты никого, по нынешнему времени, не прошибешь. Читатель прочтет, пожалуй даже продекламирует, скажет: il y a lа̀ dedans un joli mouvement oratoire[29], — и опять за свое примется. Негодяй пребудет негодяем, предатель — предателем, трус — трусом. На твоем месте я совсем бы не так поступил: негодяя-то не касался бы (с него ведь и взять нечего), а вот на эту мякоть ударил бы, по милости которой «негодяй» процветает и которая весь свой протест выражает в том, что при появлении «негодяя» в подворотню прячется.
— Можно и это, — согласился «наш собственный корреспондент».
— Ну вот. Я знаю, что ты малый понятливый. Так вот ты следующий свой фельетон и начни так: «в прошлый, мол, раз я познакомил вас с «негодяем», а теперь, мол, позвольте познакомить вас с тою средой, в которой он, как рыба в воде, плавает». И чеши! чеши! Заснули, мол? очумели от страха? Да по головам-то тук-тук! А то что в самом деле! Ее, эту мякоть, честью просят: проснись! — а она только сопит в ответ!
— Можно-с, — вновь подтвердил корреспондент.
— И прекрасно сделаешь. А теперь давайте продолжать. За кем очередь?
Очередь оказалась за Фаинушкой. Но вместо того, чтобы рассказать что-нибудь, она вынула из кармана листочек и, зардевшись, подала его Глумову.
Глумов прочитал:
«В некоторой улице жила, при родителях, девушка Оленька, а напротив, в собственном доме, жил молодой человек Петр. Только увиделись они один раз на бульваре*, и начал Петр Оленьку звать: приходи, Оленька, после обеда в лес погулять. Сперва Оленька отказалась, а потом пошла. И когда, погулявши, воротилась домой, то увидела, что узнала многое, чего прежде, не бывши в лесу, не знала. Тогда она сказала: чтобы еще больше знать, я завтра опять в лес гулять приду. Приходи, Петенька, и ты. И таким манером они очень часто гуляли, а потом Петеньку в солдаты отдали».
Успех этой вещицы превзошел все ожидания. Все называли Фаинушку умницей и поздравляли литературу с новым свежим дарованием. А Глумов не выдержал и крикнул: ах, милая! Но, главным образом, всех восхитила мысль, что если бы все так писали, тогда цензорам нечего было бы делать, а следовательно, и цензуру можно бы упразднить. А упразднивши цензуру, можно бы и опять…
Дальнейшая очередь была за мной. Но только что я приступил к чтению «Исторической догадки»: Кто были родители камаринского мужика? — как послышался стук в наружную дверь. Сначала стучали легко, потом сильнее и сильнее, так что я, переполошенный, отворил окно, чтоб узнать, в чем дело. Но в ту самую минуту, как я оперся на подоконник, кто-то снаружи вцепился в мои руки и сжал их как в клещах. И в то же время, едва не сбив меня с ног, в окно вскочил мужчина в кепи и при шашке.
Это был урядник.
XXI*
Обаяние исконного тверского либерализма* сказалось и здесь. Во всех распоряжениях выразилось чувство меры и благожелательности. Долг был выполнен без послабления, но при сем предполагалось, что мы не осуждены и, следовательно, можем быть невинны. Нас обыскали, но когда ничего, кроме ношебного платья, не нашли, то на нас не кричали: врешь, подавай! — как будто бы мы могли, по произволению, тут же родить тюки с прокламациями. Нас не погнали в глухую ночь, но дали отдохнуть, собраться с духом, напиться чаю и даже дозволили совершить путину до Корчевы в дворянских мундирах, так как одежда, в которой мы прибежали в Проплёванную, еще не просохла как следует. Вообще бесполезных жестокостей допущено не было, а полезные были по возможности смягчены.
Но зато, как только златоперстая Аврора брызнула на крайнем востоке первыми снопами пламени, местный урядник уже выполнял свою обязанность.
Когда мы вышли из дома, на дворе стояла довольно густая толпа народа. Мне казалось, что все пристально в меня всматриваются, как бы стараясь угадать: наш барин или не наш? Очевидно, что способ прибытия моего в Проплёванную возымел свое действие, и вопрос: действительно ли прибежал настоящий помещик или какой-нибудь подменный? — играл очень большую роль в нашем приключении. Двойственное чувство овладело толпою: с одной стороны — радость, что через нашу поимку государство избавилось от угрожавшей ему опасности, с другой — свойственное русскому человеку чувство сострадания к «узнику», который почему-то всегда предполагается страдающим «занапрасно». Но рассчитывал ли кто-нибудь, что из всего этого может произойти «награда», — этого сказать не умею.
Нас ожидал другой урядник (я узнал в нем того, который накануне поймал пригульного поросенка) в путевой форме, и при нем двое сотских и шесть человек десятских. Этот конвой должен был сопровождать нас до Корчевы. У десятских в руках были веревки; но нам не связали рук (как это сделали бы, например, в Орловской или Курской губерниях), а только предупредили, что, в случае попытки к бегству хотя одного из нас, правила об употреблении шиворота* будут немедленно выполнены над всеми. Впрочем, я должен сказать правду, что, делая это предостережение, урядник был взволнован, а некоторые из десятских плакали. Пришел и батюшка и сказал несколько прочувствованных слов на тему: где корень зла? — а в заключение обратился ко мне с вопросом: богом вас заклинаю, господин пришлец! ответьте, вы — потомок отцов ваших или не вы? Но когда я, вместо ответа, хотел обратиться к народу с объяснением моей невинности, то сотские и десятские затрещали в трещотки и заглушили мой голос. Несмотря на это, многие сердобольные женщины подбегали к нам и подавали кто каленое яйцо, кто кусок ватрушки, кто пару печеных картофелин. И урядник, очевидно, только для проформы называл их сволочью и паскудами.
Наконец мы тронулись. Утро было светлое, солнечное и обещало жаркий день. Трава, улитая дождем, блестела под косыми лучами солнца матовым блеском, словно опушенная инеем. По дороге во множестве пестрели лужи.
— С богом! трогай! — дал сигнал конвоировавший урядник.
— Счастливо! — откликнулись ему из толпы.
В другой губернии, наверное, нашлись бы кандалы или, по крайней мере, конские путы, но в Тверской губернии, по-видимому, самое представление об этих орудиях истязания исчезло навсегда. В другой губернии нам непременно, от времени до времени, «накладывали» бы, а в Тверской губернии самой потребности в «накладывании» никто не ощущал. Вот какая это губерния. Долг, один только долг! без послаблений, но и без присовокуплений! — таков был девиз Тверской губернии еще в то время, когда Тверь боролась с коварной Москвой и Москва ее за это слопала.* Таким же остался он и теперь. А урядник к сему присовокуплял: ужо разберут! — что также свидетельствовало о легальности, ибо в других губерниях урядники говорят: ужо покажут, как Кузькину мать зовут!
Мы шли вольным аллюром и рассуждали, что лучше: благосклонная ли легальность без послаблений или благожелательный произвол, тоже без послаблений? И все как-то у нас выходило: все равно.
Но, в сущности, было далеко не все равно, и Глумов совершенно основательно заметил, что легальность без послаблений есть уже как бы заря правового порядка. И когда мы рассмотрели вопрос со всех сторон, то должны были согласиться с Глумовым. И это нас утешило.
Такова Тверская губерния. Искони она вопиет: наказывайте! жмите из нас масло! — но по закону! И ее наказывают.
Урядник тоже вступил с нами в собеседование и укреплял в нас веру в корчевское правосудие. Это был лихой малый, по происхождению дворянин, а по убеждениям принадлежал к либеральному лагерю. Он служил в урядниках в ожидании правового порядка и тяготился своим званием. И ежели сносил это иго без явного ропота, то потому только, что дома, по его словам, жрать было нечего, а он имел наклонность к еде. Поэтому, когда я ему дал пару каленых яиц из числа пожертвованных, он с чувством пожал мне руку и попросил кусок ватрушки.
— А насчет Корчевы вы не беспокойтесь, — сказал он, — у нас всё по закону. Коли есть закон — шабаш, коли нет закона — милости просим в кутузку.
— Стало быть, и коли есть закон, и коли нет его…
— Ну да, уж это во всяком случае. И, погодя немного, прибавил:
— Вот когда правовой порядок выйдет, тогда и урядником веселее служить будет. Сейчас это пришел, взял «его»… за что? что за причина? — Пожалуйте! там разберут!
— Да ведь и нынче, вы сами сейчас говорили, разберут?
— Разберут, да не так. Нынче — разберут, а тогда — решат. Нынче без прав пропишут, а тогда — по правам прописывать станут. Ни лишко́в, ни недостачи — ни-ни! В препорцию.
Нам предстояло пройти пешком с лишком тридцать верст. Большая часть пути шла песчаным грунтом, но, благодаря дождям, песок умялся, и ногам было довольно легко. Но по временам встречались низинки, на довольно большое пространство пересекавшие дорогу и переполненные водой, — тогда мы вынуждались снимать с себя обувь и босиком переходили с суши на сушь. Однако ж после двух часов ходьбы солнце порядком-таки стало припекать, и мы почувствовали невыразимую истому во всех членах. Поэтому мы не без удовольствия увидели в стороне деревушку, на краю которой стояла просторная изба.
Эта деревушка была мне знакома. Когда-то, еще в детстве, я кармливал тут лошадей, проезжая школьником на каникулы и с каникул. Деревушка отстояла от нашей усадьбы всего в двенадцати — тринадцати верстах, но тут жил мужик Кузьма, которого тогдашние помещики называли «министром» и с которым мои родители любили беседовать и советоваться. Поэтому привал здесь делался обязательно, несмотря на близость расстояния. Уже в то время Кузьме было лет пятьдесят; стало быть, теперь ему катило под сто. Когда я проезжал здесь в последний раз, он был еще жив, но уже мало распоряжался по хозяйству, а только хранил семейную казну и бродил около усадьбы, осматривая, нет ли где порухи. Отмена крепостного права застала его врасплох, и он не знал, радоваться ему или нет. Но так как на первых порах у помещиков еще водились деньги и они беспрестанно слонялись взад и вперед с жалобами, предложениями земельных обрезков и т. д., то и Кузьме кой-что перепадало в этой сутолоке за овес, за «тепло» и за съеденные яичницы. Это были дни радости. Но через год, через два маятное движение угомонилось и тракт запустел, а вместе с тем запустела и чистая горница в доме Кузьмы. Старик возроптал.
Впрочем, благосостояние Кузьмы стояло уже настолько прочно, что дом его и теперь глядел так же хозяйственно и солидно, как двадцать лет тому назад. Оказалось, что он еще жив и даже бродит с грехом пополам по избе; но плохо видит и никак не может затвердить слово «сицилисты», которое в деревне приобрело право гражданственности и повторялось в самых разнообразных смыслах. Оказалось также, что и о поимке нашей здесь уже знали от гонца, который ездил в Корчеву с известием о появлении в Проплёванной людей, ведущих себя «некако странно» (донесение для урядника редижировал батюшка). Поэтому, как только нас привели, вся деревня, от мала до велика, высыпала на улицу. И таково обаяние предполагаемого злоумышления (может быть, вследствие смешения этого понятия с представлением об начальстве), что при нашем появлении те, у которых были на головах шапки, инстинктивно сняли их. Разумеется, я прежде всего поспешил к Кузьме, надеясь, что буду иметь случай вспомнить прошлое и умилиться. Но старик принял меня сурово.
— На кого ты руку поднял? — неожиданно напустился он на меня, широко разевая рот, в котором уже не было ни одного зуба и который вследствие этого был скорее похож на зияющую темную впадину, чем на рот.
Он выкрикнул это так громко и авторитетно, что домочадцы, собравшиеся в избе, в испуге смотрели на меня и, крестясь, шептали: «Спаси господи! богородица успленья!» А внук Кузьмы, мужчина лет сорока, достававший для нас в шкапу чайную посуду, еще усилил впечатление, прибавив вполголоса:
— Не трожь, дедушка! барин-то ишь обменный!
— На кого ты руку поднял? — повторил старик. — Какие родители-то у тебя были, а ты… а-а-ах! Папынька! мамынька! хоть их-то бы ты постыдился… а-а-ах!
Наконец урядник положил конец этой сцене, сказав:
— Дедушка! не замай арестанта! Не ты в ответе будешь, коли он над собой что́ сделает!
Тем не менее выходка старика произвела свое действие; да и слово «арестант» было произнесено и должно было отозваться на нас очень горько. Покуда мы отдыхали, в избу то и дело входили «суседи». Взойдет, перекрестится на образа, поглядит на нас, послушает и уйдет. С улицы тоже до нас доходили смутные звуки, свидетельствовавшие, что «здоровый народный смысл» начинает закипать.* Урядник беспрестанно то входил в избу, то выходил на улицу, потому что и его начали обвинять в укрывательстве и называть потатчиком. Один благомысленный старичок прямо поставил вопрос: коли ежели они арестанты — почему же на них нет кандалов? Кузьма же хотя и перестал кричать, но продолжал зудеть себе под нос:
— Теперича что я должен с избой со своей сделать? Кто в ней теперича сидит? какие люди? на кого они руку подняли? Коли ежели по-настоящему, сжечь ее следует, эту самую избу — только и всего!
Но следом за тем совсем неожиданно прибавил:
— Чай-то свой, что ли, у вас? или наш будете пить? У нас чай хороший, ханский!
Одним словом, положение, постепенно осложняясь, сделалось под конец настолько грозным, что урядник наш оказался не на высоте своей задачи. И, когда настало время идти дальше, он растерянно предложил мне:
— Вашескородие! позвольте руки связать! как бы чего не случилось!
Разумеется, мы согласились с радостью.
Когда мы вышли на улицу и урядник, указывая на нас, связанных по рукам, спросил толпу: любо, ребята? — то толпа радостно загалдела: любо! любо! а какая-то молодая бабенка, забежавши вперед, сделала неприличие. Но больше всего торжествовали мальчишки. С свойственною этому возрасту жестокостью они скакали и кувыркались перед нами, безразлично называя нас то сицилистами, то изменниками, а меня лично — подменным барином. С версту провожали они нас своими неистовыми криками, пока наконец урядник не выхватил из толпы одного и не отстегал его прутом. И тут, стало быть, либеральное начальство явилось нашим защитником против народной немезиды*, им же, впрочем, по недоумению возбужденной.
Всю остальную дорогу мы шли уже с связанными руками, так как население, по мере приближения к городу, становилось гуще, и урядник, ввиду народного возбуждения, не смел уже допустить никаких послаблений. Везде на нас стекались смотреть; везде при нашем появлении кричали: сицилистов ведут! а в одной деревне даже хотели нас судить народным судом, то есть утопить в пруде…
Словом сказать, это была ликвидация интеллигенции в пользу здорового народного смысла,* ликвидация до такой степени явная и бесспорная, что даже сотские и те поняли, что еще один шаг в том же направлении — и нельзя будет разобрать, где кончается «измена» и где начинается здравый народный смысл.
В Корчеву мы пришли в исходе восьмого часа вечера, когда уже были зажжены огни. Нас прямо провели в полицейское управление, но так как это было 25-го августа, память апостола Тита и тезоименитство купца Вздошникова, у которого по этому случаю было угощение, то в управлении, как и в первый раз, оказался один только Пантелей Егорыч.
— Ах, господа, господа! — встретил он нас, — предупреждал я вас! предостерегал! просил!.. Что это… и руки связаны?.. вот вы до чего себя довели!
— Да прикажите же руки-то развязать! — взмолился наконец Глумов.
— Руки… уж и не знаю… как закон! Ах, в какое вы меня положение ставите! Такой нынче день… Исправник — у именинника, помощник — тоже… даже письмоводителя нет… Ушел и ключи от шкапов унес… И дело-то об вас у него в столе спрятано… Ах, господа, господа!
— Так пошлите за исправником — и делу конец! — настаивал Глумов.
— Вот то-то и есть… как это вы так легко обо всем говорите! Пошлите за исправником! А как вы полагаете: человек исправник или нет? Может он один вечерок в свое удовольствие провести?
— Ничего мы не полагаем, знаем только, что у нас руки связаны и что нужно, чтоб кто-нибудь распорядился их развязать.
— А кто виноват? кто в Корчеву без надобности приехал? Ехали бы в Калязин, ну, в Углич, в Рыбну, а то нашли куда! знаете, какие нынче времена, а едете!
Вероятно, этому либеральному разговору не было бы конца, если б конвоировавший нас урядник сам не отправился отыскивать исправника. Через полчаса перед нами стоял молодой малый, светский и либеральный, и в какие-нибудь десять минут все разъяснилось. Оказалось, что нас взяли без всякой надобности и что начальство было введено в заблуждение — только и всего. Поэтому, извинившись перед нами за «беспокойство» и пожурив урядника за то, что он связал нам руки, чего в Корчевском уезде никогда не бывало, исправник в заключение очень мило пошутил, сказав нам:
— Нынче мы, знаете, руководствуемся не столько законом, сколько заблуждениями…
Затем, звякнув шпорами и пожелав, чтобы бог благословил наши начинания, он отрядил десятского, который и проводил нас на постоялый двор.
Так как пароход должен был прийти только на следующий день, то мы и решились посвятить предстоящий вечер выполнению той части нашей программы, в которой говорится о составлении подложных векселей. Очищенный без труда написал задним числом на свое имя десять векселей, каждый в двадцать пять тысяч рублей, от имени временной с. — петербургской 2-й гильдии купчихи из дворян Матрены Ивановны Очищенной. Один из этих векселей почтенный старичок тут же пожертвовал на заравшанский университет.
Но в тот же вечер нас ожидало горестное известие. Балалайкин прислал телеграмму, которая гласила следующее:
«Пожертвованные на университет деньги растрачены. Похититель скрылся, приняты меры. Сто рублей отыскано».
В ответ на каковое известие мы, с своей стороны, телеграфировали:
«Поднимаем бокалы за процветание… да здравствует!»
На другой день, когда мы направлялись к пароходной пристани, ко мне подошел мещанин Презентов и сказал:
— Вашескородие! позвольте вам доложить… не посоветуете ли вы мне птицу начать?
— Какую птицу?
— Летать чтобы… В Кашине, сказывают, диакон заштатный уж сделал птицу…
— Летает?
— Так, на вершок от земли… прыгнет и опять сядет… А я надеюсь, что она у меня вполне полетит.
— Ах, голубчик! да разумеется! что же вы медлите! Делайте птиц, изобретайте ковры-самолеты… И вдруг, чего доброго, полетите!
XXII*
В Корчеве нам сказали, что в Кашине мы найдем именно такого жида, какого нам нужно. Сверх того, хотелось взглянуть и на те виноградники, которые дают материал для выделки знаменитых кашинских вин. А так как, судя по полученной от Балалайкина телеграмме, дело о заравшанском университете, очевидно, позамялось, и, следовательно, в Самарканд спешить было незачем, то мы и направили свой путь к Кашину.
На пароходе мы встретили компанию настолько многочисленную, что сама прислуга, по-видимому, была изумлена. В Корчеве скупили весь белый хлеб, всех цыплят и выпили все сусло, так что местные торговки в этот день запаслись лишним рублишком на покупку патентов. Единственный пароходный гарсон, с подвязанной щекой и распухлым лицом, без устали бегал сверху вниз и обратно, гремя графинами и рюмками. Из аршинной кухни, вход в которую был загорожен спиною повара, несло чем-то прокислым, не то ленивыми щами, не то застоявшимися помоями. Возвращалось восвояси целое стадо «сведущих людей». И те, которые успели сказать «веское слово», и те, которые пришли, понюхали и ушли.* В каюте первого класса шел шумный разговор, касавшийся преимущественно внутренней политики, и сведения, которые мы здесь получили, были самого прискорбного свойства. По отзывам пассажиров, реакция, на время понурившая голову, вновь ее подняла. В обществе царствовал мрак, уныние и междоусобие; так называемые «правящие классы» разделились на два враждебных лагеря. Партия, во главе которой стоял либеральный тайный советник Губошлепов, без боя сложила оружие — и вдруг словно сквозь землю провалилась; сам Губошлепов удалился в деревню и ныне крестит детей у урядника. Напротив того, партия статского советника Долбни торжествует на всех пунктах* и горит нетерпением сразиться, с тем, однако же, что она будет поражать, а противники будут лишь с раскаянием претерпевать поражение. А Долбня ходит по улицам, распевая песню об антихристе:
и открыто возвещает близкое прекращение рода человеческого. И полицейские чины, вместо того чтобы вести его за такие слова в кутузку, делают, при его проходе, под козырек. Но что для нас было всего больнее узнать: Иван Тимофеич был вынужден подать в отставку, потому что в проектированном (даже не опубликованном, а только проектированном!) им «Уставе о благопристойном во всех отношениях поведении» был усмотрен московскими охотнорядцами злонамеренный якобинский яд.* Не обошлось тут и без предательства, в котором роль главного действующего лица — увы! — играл Прудентов. Вознамерившись подкузьмить Ивана Тимофеича, с тем чтобы потом самому сесть на его место, он тайно послал в московский Охотный ряд корреспонденцию, в которой доказывал, что ядовитые свойства проектированного в квартале «Устава» происходят-де оттого, что во время его составления господин начальник квартала находился-де под влиянием вожаков революционной партии, свившей-де гнездо на Литейной.* А он, Прудентов, не раз-де указывал господину начальнику на таковые и даже предлагал-де ввести в «Устав» особливый параграф такого-де содержания: «Всякий, желающий иметь разговор или собеседование у себя на дому или в ином месте, обязывается накануне дать о сем знать в квартал, с приложением программы вопросов и ответов, и, по получении на сие разрешения, вызвав необходимое для разговора лицо, привести намерение свое в исполнение». Но введению этого параграфа воспротивились-де упомянутые выше революционные вожаки, с которыми по слабохарактерности согласился и начальник квартала…
И что же, однако! Иван-то Тимофеич пострадал, да и Прудентов не уцелел, потому что на него, в свою очередь, донес Кшепшицюльский, что он-де в родительскую субботу блинов не печет, а тем самым якобы тоже злонамеренный якобинский дух предъявляет. И теперь оба: и Иван Тимофеич и Прудентов, примирившись, живут где-то на огородах в Нарвской части и состоят в оппозиции. А Кшепшицюльский перешел в православие и служит приспешником в клубе Взволнованных Лоботрясов.*
Но что сталось с Молодкиным — этого никто сказать не мог. Счастливый Молодкин! ты так незаметен в своей пожарной специальности, что даже жало клеветы не в силах тебя уязвить! А мы-то волнуемся, спрашиваем себя: кто истинно счастливый человек? Да вот кто — Молодкин!
— Да, теперь в Петербурге — ой-ой! — прибавил сведущий человек, рассказавший нам эти подробности.
Но, повторяю, для нас лично этот рассказ имел и другое очень существенное значение: очевидно, что революционеры, которых, в данном случае, разумеет Прудентов, были…
Бывают такие случаи. Придешь совсем в постороннее место, встретишь совсем посторонних людей, ничего не ждешь, не подозреваешь, и вдруг в ушах раздаются какие-то звуки, напоминающие, что где-то варится какая-то каша, в расхлебании которой ты рано или поздно, но несомненно должен будешь принять участие…
— Главное, то обидно, — жаловался Глумов, — что все это негодяй Прудентов налгал. Предложи он в ту пору параграф о разговорах — да я бы обеими руками подписался под ним! Помилуйте! производить разговоры по программе, утвержденной кварталом, да, пожалуй, еще при депутате от квартала — ведь это уж такая «благопристойность», допустивши которую и «Уставов» писать нет надобности. Параграф первый и единственный — только и всего.
А в каюте между тем во всех углах раздавались жалобы, одни только жалобы.
— Разве такое общество, как наше, можно называть обществом! — жалуется «сведущий человек» из-под Красного Холма. — Ни духа предприимчивости, ни инициативы — ничего! Предлагал я, например, коротенькую линию от Красного Холма до Бежецка провести — не понимают, да и все тут! Первый вопрос: что возить будете? — ну, не глупость ли? Помилуйте, говорю, вы только железный путь нам выстройте, а уж там сами собой предметы объявятся… не понимают! Не понимают, что железные пути сами родят перевозочный материал! Я к Гинцбургу — не понимает! Наголо уж высчитываю: яйца, говорю, курятный товар, грибы, сушеная малина — это и теперь у всех на виду, а впоследствии постепенно явится и многое другое… Не понимает! Я — к Розенталю — в зуб толкнуть не смыслит! Я — туда-сюда — никому ни до чего дела нет! Вот и живи в таком обществе!
— Нынче уж и нас, адвокатов, в неблагонамеренности заподозрели,* — сообщает адвокат из-под Углича. — Мы шкуру с живого содрать готовы — кажется, чего уж! — а они кричат: неблагонамеренные!
— Нынче об нас, судьях, только и слов, что мы основы трясем, — соболезнует «несменяемый» из-под Пошехонья, — каждый день, с утра до вечера, только и делаешь, что прописываешь, только об одном и думаешь, как бы его, потрясателя-то, хорошенько присноровить, а по-ихнему выходит, что оттого у нас основы не держатся, что сами судьи их трясут… Это мы-то трясем!
— Черт знает на что похоже! — ропщет землевладелец из-под Мологи, — сыроварню хотел устроить — говорят: социалист!* Это я-то… социалист! В драгунах служил… представьте себе!
— Хоша бы эти самые основы — как их следует понимать? — объясняет свои сомнения рыбинский купчина-хлеботорговец. — Теперича ежели земля перестала хлеб родить — основа это или нет?.. Оттого ли она перестала родить, что леность засилие взяла, или оттого, что такой карахтер ей бог дал? Как? что? От кого в эфтим разе объяснения ожидать? А у нас, между прочим, задатки заданы, потому что мы ни леностев этих, ни карахтеров не знаем, а помним только, что родители наши производили, и мы производить должны. А нам говорят: погоди! земля не уродила! А как же задатки, позвольте спросить? основа это или нет? Или опять: система эта самая водяная… Погрузились, плывем — благослови господи! И вдруг: стой, воды нет!.. основа это или нет? А у нас, между прочим, кантрахт* с а́гличином. А ему вынь да положь. Как же, мол, я, Архип Албертыч, без воды в барке поеду? А он наших порядков не знает, ему на чем хошь поезжай… Я триста, четыреста тысяч в одно лето теряю — основа это или нет? Позвольте вас спросить: ежели вас сегодня по карману — раз, завтра — два, послезавтра — три, а впоследствии, может, и больше… и при сем говорят: основы… То в какой, например, силе оное понимать?
Купчина останавливается на минуту, чтоб передохнуть, и затем уже обращается лично ко мне:
— Позвольте вас, господин, спросить. Теперича вот эта самая рыба, которая сейчас в Волге плавает: ожидает она или не ожидает, что со временем к нам в уху попадет?
— Без сомнения, не ожидает, потому что рыба, которая раз в ухе побывала, в реку уж возвратиться не может. Следовательно, некому и сообщить прочим рыбам, к каким последствиям их ведет знакомство с человеком.
— А мы вот и знаем, что такое уха, и опять в уху лезем. Как это понимать?
— Приспособляться надо. А еще лучше, ежели будете жить так, как бы совсем не было ухи. Старайтесь об ней позабыть.
— Нельзя ее забыть. Еще дедушки наши об этой ухе твердили. Рыба-то, вишь, как в воде играет — а отчего? — от того самого, что она ухи для себя не предвидит! А мы… До игры ли мне теперича, коли у меня целый караван на мели стоит? И как это господь бог к твари — милосерд, а к человеку — немилостив? Твари этакую легость дал, а человеку в оном отказал? Неужто тварь больше заслужила?
— А со мной что случилось — потеха! — повествует «сведущий человек» из-под Костромы, — стоим мы с Иван Павлычем у Вольфа в ресторане и разговариваем. Об транзите, об рубле, о бюджете — словом сказать, обо всем. С иным соглашаемся, с другим — никак согласиться не можем. Смотрим, откуда ни возьмись — неизвестный мужчина! Стал около нас, руки назад заложил, точно век с нами знаком. «Вам что угодно?» — спрашивает его Иван Павлыч. — А вот, говорит, слушаю, об чем вы разговариваете. — И так это натурально, точно дело делает… «Поздно спохватились, — говорит Иван Павлыч, — мы уж обо всем переговорили». Хорошо. Выходим, знаете, из ресторана — и он за нами. Мы прямо — и он прямо, мы в сторону — и он в сторону. Дошли до околоточного — он к нему: вот они — указывает на нас — об формах правления разговаривают. В квартал. Квартального — нет, в наряд ушел. «Извольте подождать». Сидим час, сидим другой; писаря с папиросами мимо бегают, сторожа в передней махорку курят, со двора вонище несет; на полу — грязь, по дивану — клопы ползают. Сидим. Уж перед самым обедом слышим: в передней движение. Докладывают: полетических, вашескородие, привели. Входит квартальный. Имя, отчество, фамилия? чем занимаетесь? — Такие-то. Сведущие люди. Прибыли в столицу по вызову на предмет рассмотрения. Удивился. — Что за причина? — Не знаем. «Об формах правления в кофейной у Вольфа разговаривали!» — подскочил тут письмоводитель. «Ах, господа, господа!» Ну, отпустил и даже пошутил: да послужит сие вам уроком!
— Только и всего?
— Будет с нас.
— А вы бы жаловались…
— Жаловаться не жаловались, а объяснение — имели. Выходит, что существуют резоны. Конечно, говорят, эти добровольцы-шалыганы всем по горло надоели, но нельзя не принять во внимание, что они на правильной стезе стоят. Ну, мы махнули рукой, да и укатили из Питера!
— А по моему мнению, — ораторствует в другом углу «сведущий человек» из-под Романова, — все эти акцизы в одно бы место собрать да по душам в поровёнку и разложить. Там хоть пей, хоть не пей, хоть кури, хоть не кури, а свое — отдай!
— Как же это так… один пьет, другой — не пьет, а вдруг непьющий за пьющего плати!
— Зачем так! Коли кто пьет — тот особливо по вольной цене заплати. Водка-то, коли без акциза — чего она сто́ит? — грош сто́ит! А тут опять — конкуренция. В ту пору и заводчики и кабатчики — все друг дружку побивать будут. Ведь она почесть задаром пойдет, водка-то! выпил стакан, выпил два — в мошне-то и незаметно, убавилось или нет. А казне между тем легость. Ни надзоров, ни дивидендов, ни судов — ничего не нужно. Бери денежки, загребай!
— А недоимки?
— И против недоимок средство есть: почаще под рубашку заглядывать. Прежде, когда своевременно вспрыскивали — и недоимок не было; а нынче как пошли в ход нежничанья да филантропии — и недоимки явились.
— Так-то так…
Мне лично ужасно эти разговоры не нравились. Во-первых, думалось: вот люди, которые жалуются, что им дохнуть не дают, а между тем смотрите как разговаривают! Стало быть, одно из двух: или они врут, или все эти соглядатайства, сопряженные с путешествиями по кварталам, не достигают цели и никого не устрашают. Их пожурят, отпустят, а они опять за свое — разве можно назвать это результатом? А во-вторых, и опасеньице было: разговаривают да разговаривают, да вдруг и в самом деле о бюджетах заговорят! куда тогда деваться? На палубу уйти — и там о бюджетах разговаривают; со второй класс спустишься — там купцы третьей гильдии, за четвертной бутылью, антихриста поджидают; в третий класс толкнуться — там мужичье аграрные вопросы разрешает…*
К счастию, кто-то упомянул об «Анне Ивановне», и общественное внимание каюты разом шарахнулось в эту сторону. Довольно значительная группа сведущих людей лично знала Анну Ивановну; другие же группы хотя и не знали именно этой Анны Ивановны, но знали Клеопатру Ивановну, Дарью Ивановну, Наталью Ивановну и проч., которые представляли собой как бы бесчисленные оттиски одной и той же Анны Ивановны. Так что, например, Клеопатра Ивановна была углицкою Анной Ивановной, а Анна Ивановна была калязинскою Клеопатрой Ивановной и т. д. Все вообще Анны Ивановны — лихие, гостеприимные, словоохотливые, иногда некрасивые, но всегда подманчивые и задорливые. Все любят исключительно мужское общество, охотно берутся управить тройкой бешеных коней — причем надевают плисовую безрукавку и красную канаусовую рубаху — и не поморщась выпивают стакан шампанского на брудершафт. Одни из них — вдовы, другие хотя имеют мужей, но маленьких и почти всегда недоумков (чаще всего родители Анны Ивановны прельщаются их относительным матерьяльным довольством); изредка попадаются и девицы, но почти исключительно у матерей, которые сами были в свое время Аннами Ивановнами. Для немногих «сведущих людей», застрявших в своих захолустьях, для господ офицеров расквартированного в уезде полка и для судебных приставов — Анны Ивановны представляют сущий клад. И по пути, и без пути — всегда у Анны Ивановны двери настежь, всегда и тепло, и светло, и на столе закуска стоит. И муж тут же сидит, ночевать унимает. И прислуга на крыльцо встречать бежит — горничные в сарафанах, лакеи в поддевках — и изо всех сил суетится, чтоб угодить, потому что и прислуге приятно пожить весело, а у кого же весело пожить, как не у Анны Ивановны. Целый день у Анны Ивановны огонь под плитой разведен, целый день готовят, пекут, самовары греют, кофей разносят. А на какие средства она все это печет и варит — она и сама едва ли знает. Говорят, будто она в прошлом году леску продала, да что-то уж часто она этот самый лес продает. Говорят также, будто она кругом в долгу — пастуху задолжала! за пастушину два года не платит! — с ужасом восклицают соседние помещицы, которые, в ожидании сумы, на обухе рожь молотят, — но она не платит, не платит, и вдруг как-то обернется да всем и заплатит. Правда, что, кто ни приедет к ней, всегда что-нибудь привезет, да она и сама не скрывает этого. Прямо так и встречает: что привезли? волоките! И тут же все привезенное выпоит и выкормит. Словом сказать, живет Анна Ивановна в свое удовольствие, а как это у нее выходит, ей до того дела нет.
В большей части случаев Анна Ивановна, даже перейдя границу сорокалетнего возраста, все еще бодро держит в руках знамя уездной львицы, но иногда случается и так: покуда она гарцует в своем Сан-Суси, по соседству, в Монплезире,* вдруг объявляется другая Анна Ивановна. Столь же лихая и подманчивая, но молодая, деятельная, сгорающая нетерпением покорить себе все сердца. Тогда наступают для старой Анны Ивановны скорбные, полные жгучей боли дни. Начинается борьба. Старая Анна Ивановна скачет на тройке с своими кавалерами мимо Монплезира, новая Анна Ивановна, на своей тройке, с своими кавалерами, скачет мимо Сан-Суси. Горланят песни, гаркают, отбивают на скаку у бутылок горлышки. Старая Анна Ивановна курит папиросы десятками; новая Анна Ивановна — в один день выкурит целую сотню. Старая Анна Ивановна вылавливает в прудах и в речке всех карасей и обкармливает ими своих кавалеров; новая Анна Ивановна говорит майору Оглашенному: Оглашенный! когда же вы привезете стерлядей? и через три дня после карасиной вакханалии кормит своих кавалеров стерляжьей ухой. Старая Анна Ивановна пускает в ход выражения, от которых кавалерам делается тепло; новая Анна Ивановна загибает такие словечки, от которых даже небу становится жарко… Мало-помалу, однако ж, положение выясняется резче и резче. Первыми дезертируют из лагеря старой Анны Ивановны господа штаб- и обер-офицеры; затем сведущие люди, и дольше других ей остаются верными судебные пристава. Но наконец и они, прослышавши об утехах, ареною которых сделался Монплезир, вдруг пропадают. Анна Ивановна остается одна, глаз на глаз с маленьким человеком, которого она называет своим мужем…
Сан-Суси приходит в запустение. Лески, которые его окружали, сведены, пустоша́ — проданы. Прислуга, привыкшая к вечной суматохе, начинает роптать и требовать расчета; пастух — тоже не хочет больше ждать, а разносчик Фока, столько лет снабжавший Анну Ивановну в кредит селедками и мещерским сыром, угрожает ей мировым судьею и делает какие-то нелепые намеки. В усадьбу, когда-то наполненную шумом и гвалтом, потихоньку-потихоньку заползают окрестные кабатчики и люди духовного ведомства. «А Анна-то Ивановна, представьте… с батюшкиным братом!*», или: «ведь Анна-то Ивановна… с Разуваевым!» — весело гогочут в Монплезире, рассказывая похождения старой уездной сахарницы. Но какую му́ку переживает при этой метаморфозе маленький Анны Ивановнин муж — для изображения этого нужен целый особый этюд и такое особливое сочетание красок, которого я, к сожалению, не имею в своем распоряжении.
Как бы то ни было, но в нашей каюте разговор зашел на тему об Анне Ивановне. Сквернословили ходко, весело, шумно — все разом. Всякий старался щегольнуть, сообщить что-нибудь особенное, но ничего особенного не выходило, потому что у всех была одна и та же Анна Ивановна, с одними и теми же приметами. Все над нею слегка подсмеивались, но было очевидно, что всякий, приехавши в свое место, сейчас же сломя голову поскачет в Монплезир. И у всех, без изъятия, были припасены для Анны Ивановны петербургские подарки, начиная с шляпы и кончая страсбургским паштетом.
Наконец, однако ж, надоело и сквернословить; на несколько минут все примолкли, как будто поглупели. Доканчивали прерванные речи, досмеивались, повторяли избранные места. Сумерки между тем окончательно потемнели, и пароход приближался к Кимре, где по расписанию назначена на ночь стоянка. Зажгли единственную на всю каюту лампу, которая жалобно звенела матовым колпаком и пламя которой представлялось мутно светящеюся точкой среди облаков табачного дыма. Кто-то крикнул: господа! в винт! кто желает в винт, господа? и сейчас же набралось два стола. В каюте водворилась тишина. Играющие сосредоточились; оставшиеся вне игры — разместились по углам и вполголоса возобновили прерванную беседу об Анне Ивановне и ее свойствах. Некоторые спозаранку улеглись спать.
И мы намеревались последовать примеру последних, но покуда сбирались — случился казус. В Кимре ввалился в каюту новый пассажир, офицер (разумеется, отставной) и сразу стал называть Парамонова «тетенькой». Подсел и начал: «ах, тетенька! сто лет, сто зим! как деточки? что дяденька? неужто до сих пор грешите… ах, тетенька!» В сущности, эта кличка до такой степени метко воспроизводила Парамонова в перл создания, что мне показалось даже странным, как это я давно не угадал, что Парамонов — тетенька; но офицер все дело испортил тем, что, заметив успех своей клички, начал чересчур уж назойливо щеголять ею. С полчаса он не отходил от Парамонова и самым идиотским образом мучительствовал над ним, приплетая тут и Гоголя (офицер был «образованный»), и «стаметовые юпки», и классическое «Обмокни»* и т. д. Злосчастный меняло сначала улыбался, но потом оторопел и стал испуганно озираться. Мы с Глумовым сидели как на иголках и думали: вот будет штука, если из-за менялы придется выходить с офицером на смертный бой? Фаинушка жалась и, кажется, понимала, что офицер затеял эту историю единственно с целью блеснуть перед нею; «корреспондент» обдумывал фельетон под названием «Интеллигентные дикари», в которых ставил обществу «Самолет» вопрос: отвечает ли оно за спокойствие и безопасность едущих на его пароходах пассажиров? Один Очищенный нашелся. Он потребовал бутылку «ямайского» и начал потчевать. Ром вообще действует серьезно и быстро, а кашинский в особенности. В настоящем случае ром до того вонял клопом, что все пассажиры инстинктивно начали чесаться, а офицер, выпивая рюмку за рюмкой, в скором времени ощутил себя окруженным видениями. И в довершение всего, увидев в зеркале собственную фигуру, вообразил, что это неприятель, который вызывает его на единоборство, и обнажил саблю. Тогда уж и другие пассажиры сочли долгом вступиться; произошла краткая, но вразумительная суматоха, и через десять минут благодетельный сон уже смыкал вежды разбушевавшегося героя.
На другой день, высадившись ранним утром в Сергиевке, мы часов около семи были в Кашине.
XXIII*
Кашин — уездный город Тверской губернии; имеет, по календарю, до семи с половиной тысяч жителей и лежит на реке Кашинке, которая скромно катит среди города свои волны в зеленых берегах. Некогда Кашин был стольным городом и соперничал с Тверью, но ныне даже с Бежецком соперничать не дерзает. Некогда в реке Кашинке водились пискари, а ныне остались только лягушки и головастики. Что Кашин в свое время принадлежал к числу цветущих русских муниципий — об этом и доныне свидетельствует великое множество церквей, из которых некоторые считают не более трех-четырех домов в приходе, но и за всем тем могут существовать, благодаря прежде сделанным щедрым вкладам. Я сам хорошо помню, как в тридцатых и даже сороковых годах помещики не только Кашинского, но и смежных уездов ездили в Кашин веселиться и запасались там бакалеей и модным товаром. И помещики кашинские были веселые, и усадьбы у них веселые, и гости к ним приезжали веселые; но весело ли жилось в этих веселых местах рабам — об этом сказать не умею. У меня было в Кашинском уезде несколько кузин, и я, будучи ребенком, жадно слушал их рассказы о том, какая в Кашине бесподобная икра, какие беседки[30], витушки[31] и ка́к весело живут тамошние помещики, переезжая всем домом от одного к другому; днем едят, лакомятся вареньем и пастилою, играют в фанты, в жмурки, в сижу-посижу и танцуют кадрили и экосезы, а ночью гости, за недостатком отдельных комнат, спят вповалку. Мне казалось, что Кашин есть нечто вроде светлого помещичьего рая, и я горько роптал на провидение, уродившее меня не в Кашине, а в глухой калязинской Мещере, где помещики вповалку не спали, в сижу-посижу не играли, экосезов не танцевали, а жили угрюмо, снедаемые клопами и завистью к счастливым кашинцам[32].
В настоящее время Кашин представляет собой выморочный город, еще более унылый, нежели Корчева. Ибо Корчева и прежде не отличалась щеголеватостью — в ней только убоиной пахло, — а в Кашине пахло бакалеей, бонбоном и женскими атурами. Так что к нынешнему корчевскому запустению в современном Кашине присовокупляется еще паутина времен, которая, как известно, распространяет от себя острый запах затхлости, свойственной упраздненному зданию.
На постоялом дворе мы узнали, что жид, которого мы разыскиваем, живет в богатой княжеской усадьбе, верстах в десяти от города, и управляет приписанным к этой усадьбе имением. Или, в сущности, не управляет, а арендует его, сводит лес, донимает мужичков штрафами и понемногу распродает мебель, скот и движимость вообще. Окреститься он затеял в видах приобретения прав оседлости, а наставляет и утверждает его в вере изверженный за пьянство из сана древний дьякон, который, по старости, мух не ловит, но водку пить еще может.
Мы решили ехать туда на другой день, а в ожидании предприняли подробный осмотр кашинских достопримечательностей.
Разумеется, прежде всего нас заинтересовало кашинское виноделие. С давних пор оно составляло предмет миллионных оборотов, послужило основанием для миллионных состояний и питало помещичий патриотизм во всей восточной полосе Тверской губернии. Я помню время, когда вся калязинская Мещера самонадеянно восклицала: ничего нам от иностранцев не надо! каретники у нас — свои, столяры — свои, повара — свои, говядина, рыба, дичина, овощ — все свое! вина виноградного не было — и то теперь в Кашине научились делать! Только об науках своих Мещера не упоминала, потому что при крепостном праве и без наук хорошо жилось.
И пила Мещера рублевые (на ассигнации) кашинские хереса, пила и похваливала. Сначала с этих хересов тошнило, но потом привычка и патриотизм делали свое дело.
Ныне кашинское виноделие слегка пошатнулось, вероятно, впрочем, только временно. Во-первых, сошли со сцены коренные основатели и заправители этого дела, а во-вторых, явилась ему сильная конкуренция в Ярославле. Однако ж и доныне кашинскому вину доверяют больше, чем ярославскому, а кашинские рейнвейны, особливо ежели с золотыми ярлыками, и теперь служат украшением так называемых губернаторских обедов.
Оказалось, что никаких виноградников в Кашине нет, а виноделие производится в принадлежащих виноделам подвалах и погребах. Процесс выделки изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются, в определенной пропорции, астраханский чихирь и вода. Подходящую воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина: на мадеру — столько-то патоки, на малагу — дегтя, на рейнвейн — сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза — выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля); плюнет три раза — выйдет дреймадера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя). Точно так же малага: просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этом случайно плюнет высокопоставленное лицо, то выйдет Cabinet-Auslass,* то есть лучше не надо. Таковы кашинские вина[33].
Когда вино поспело, его разливают в бутылки, на которые наклеивают ярлыки и прежде всего поят им членов врачебной управы. И когда последние засвидетельствуют, что лучше ничего не пивали, тогда* вся заготовка сплавляется на нижегородскую ярмарку и оттуда нарасхват разбирается для всей России. Пьют исправники, пьют мировые судьи, пьют помещики, пьют купцы, и никто не знает, чье «сдабриванье» он пьет.
Разумеется, приказчики и нам любезно предложили пробу. Некоторые из нас выпили и не могли вместить, но «корреспондент» и Очищенный попросили по другой, сказавши: было бы мокро да в горле першило! И им не только не отказали в повторении, но отпустили по бутылке высших сортов на дорогу.
Соображения высшего экономического и политического порядка так и лезли в голову по этому поводу. Начались дебаты, в которых приняли живое участие и приказчики. Экономическая точка зрения была совершенно ясна. Во-первых, вытесняя с внутренних рынков дорогой иностранный товар и заменяя его однородным собственного производства (и притом не стоящим выеденного яйца), кашинские виноделы тем самым увеличивают производительную силу страны. Во-вторых, те же виноделы, давая приличный заработок нуждающимся в нем, тем самым распространяют в стране довольство и преподают средства для безбедного существования многим семьям, которые без этого подспорья были бы вынуждены прибегнуть к зазорным ремеслам. И в-третьих, наконец, устраняя из обращения иностранный продукт, виноделы сохраняют внутри государства целый ворох ассигнаций, которые, будучи водворены в их карманах, дадут возможность повернуть «торговый баланец» в пользу России.
Принимая во внимание все вышеизложенное, приказчики единогласно полагали: ввоз иностранных вин в Россию воспретить навсегда. О чем и послать телеграммы в московский Охотный ряд для повсеместного опубликования.
— Постойте! — остановил я их, — но как же вы с таможенным доходом устроитесь? Известно вам, что иностранное вино оплачивается золотыми пошлинами…
— А таможенный доход — это само по себе, — ответили они без затруднения. — Как это можно, чтобы таможенный доход не поступал… да это спаси бог! Таможенный доход, позвольте вам доложить, завсегда должен полностью поступить. Мы это даже оченно хорошо понимаем.
И тут же, в живых и наглядных образах, доказали свое понимание.
— Вот извольте, вашескородие, смотреть. В сем месте, скажем примерно, скрозь дыра — значит, и вода в ём не держится. А в сем месте — грунт; значит, и вода в ём завсегда есть. Так точно и в эфтом деле: в одном месте вода скрозь течет, а в другом — накапливается.
— Но ежели везде дыра?
— Ах, вашескородие! разве это возможно! Разумеется, я успокоился, и таким образом фискально-финансовое затруднение было без хлопот устранено.
Политическая точка зрения была еще яснее. Прежде всего кашинское виноделие развязывает руки русской дипломатии. Покуда его не существовало, на решения дипломатов могли оказывать давление такие вопросы: а что, ежели француз не даст нам лафитов, немец — рейнвейнов, испанец — хересов и мадер? Что будем мы пить? Чем гостей потчевать? А теперь эти вопросы падают сами собой: все у нас свое — и лафиты, и рейнвейны, и хереса. Да еще лучше, потому что «ихнее» вино — вредительное, а наше — пользительное. Съел лишнее, выпил ли — с «ихнего» вина голова болит, а с кашинского — только с души тянет. Дайте только ход кашинским винам, а там уж дело само собой на чистоту пойдет. Сгрубил немец, зазнался — не надо нам твоих рейнвейнов, жри сам! — а отвечай прямо: какая тому причина?
Но, главным образом, кашинскому виноделию предстоит содействовать разъяснению восточного вопроса. Что нынче в Средней Азии пьют? — всё иностранное вино, да всё дорогое. Перепьются да с нами же в драку лезут. А дайте-ка кашинским винам настоящий ход — да мы и в Афганистан, и в Белуджистан, и в Кабул проникнем, всех своими мадерами зальем!
— Потому что наше вино сурьезное, — в один голос говорили приказчики, — да и обойдется дешевле, потому что мы его на всяком месте сделать можем. Агличин, примерно, за свою бутылку рубль просит, а мы полтинник возьмем; он семь гривен, а мы — сорок копеечек. Мы, сударь, лучше у себя дома лишних десять копеечек накинем, нежели против агличина сплоховать! Сунься-ко он в ту пору с своей малагой — мы ему нос-то утрем! Задаром товар отдадим, а уж своих не сконфузим!
Затем тон собеседования, повышаясь все больше и больше, получил такую патриотическую окраску, в которой утопали и экономические, и политические соображения.
— Да мы, вашескородие, от себя целый полк снарядим! — в энтузиазме восклицал главный приказчик. — За сербов ли, за болгар ли — только шепни Максиму Липатычу: Максим, мол, Липатыч! сдействуй! — сейчас, в одну минуту… ребята, вперед!
— Уж и то, ничего не видя, сколько от Максим Липатыча здешнему городу благодеяниев вышло! — как эхо отозвался другой приказчик. — У Максима Исповедника кто новую колокольню взбодрил? К Федору Стратилату кто новый колокол пожертвовал? Звон-то один… А сколько паникадилов, свещей, лампад, ежели счесть!
— Кажное воскресенье у кажной церкви молодец с мешком медных денег стоит, нищую братию оделяет! — свидетельствовал третий приказчик.
— И что за причина, вашескородие! — удивлялись прочие приказчики, — все будто бы прочие народы и выдумки всякие выдумывать могут, и с своим делом управляться могут, — одни будто бы русские ни в тех, ни в cexl Да мы, вашескородие, коли ежели нас допустить — всех произойдем! Сейчас умереть, коли не произойдем!
Одним словом, ежели с кашинской мадеры, как в том сознались сами приказчики, с души тянет, зато кашинский подъем чувств оказался безусловно доброкачественным и достойным похвалы. Только вот зачем приказчики прибавили: коли ежели допустить? Кто же не допускает? Кажется, что у нас насчет рейнвейнов свободно…
— Послушай! ведь у нас насчет хересов и мадер свободно? — обратился я к Глумову, когда мы покончили осмотр виноделия, — как ты полагаешь?
— Разумеется, свободно.
— Почему же кашинские виноделы до сих пор не проникли ни в Афганистан, ни в Белуджистан, а всё какого-то «полного хода» своему вину ждут?
— Да потому, вероятно, что покуда еще около себя побираются. Дай срок, у своих из карманов повыберут, а потом и в Белуджистан с подводами потянутся.
В заключение Очищенный сообщил нам приятную весть. В редакции «Красы Демидрона» имеются достоверные сведения, что пример кашинских виноделов уже нашел подражателей. Не говоря об Ярославле, которого лафиты, подправленные черникой и сандалом, могут смело соперничать с фирмой Oldekopp Marillac — во многих мелких уездных городах (как, например, в Крапивне, Саранске, Лукоянове и проч.), где доселе производился только навоз, положено прочное основание виноделию, которое до известной степени уже и конкурирует с кашинским и ярославским. Примеру этих городов несомненно последуют: Шацк, Лаишев, два Ардатова, все Спасски и проч. — и тогда период «выбирания около себя» сократится сам собой. А когда выбирать около себя будет уж нечего, тогда волей-неволей придется нанимать подводы в Белуджистан. А раз белуджистанский рынок будет завоеван для кашинских хересов, тогда нашим виноделам останется только оправдать доверие начальства, а нам, всем остальным — высоко держать русское знамя.
— Легость большая будет, — заключил Очищенный, и мы охотно с ним согласились.
После виноделен мы хотели приступить к осмотру замечательных кашинских зданий и церквей, но вспомнили, что в Кашине существует окружной суд, и направились туда. К тому же и хозяин постоялого двора предупредил нас, что в это утро должно слушаться в суде замечательное политическое дело, развязки которого вся кашинская интеллигенция ожидала с нетерпением[34].
Как я уже сказал выше, в реке Кашинке издревле в изобилии водились пискари. Но недавно количество их стало постепенно убывать, и, как это всегда у нас водится, полиция прозевала это знаменательное явление. Хватились тогда, когда осталась лишь небольшая шайка, которая явно посмеивалась над всеми усилиями граждан водворить ее в уху. Бросились ловить — не тут-то было; пискари вильнули хвостом и у всех на виду исчезли. Трудно было, конечно, оправдать полицию, но, с другой стороны, трудно было и обвинить. Во всяком случае, поймали только одного хворого пискаря, которому врачи предписали лежать в тине, но и оттуда полиция достала его. Нарядили следствие; прокуроры и следователи два года сряду не выходили из реки Кашинки, разыскивая корни и нити, допрашивая лягушек и головастиков, и после неимоверных усилий пришли к такому результату: пойман хворый пискарь, а прочие неизвестно куда исчезли. В этом виде дело представлено было в суд, которому и предстояло воздать каждому по делам его. Скрывшиеся пискари должны были судиться заочно по обвинению в самовольном оставлении отечества, а пойманный хворый пискарь — по обвинению в знании о сем и недонесении подлежащим властям. Дело было громкое и обещало привлечь массу публики.
Мы пришли в суд в исходе одиннадцатого; но так как заседание должно было открыться не ранее часа, то никого еще не было, кроме сторожей и приказных низшего оклада. Суд помещается в каменном здании довольно внушительных размеров, но плохо ремонтируемом. Внутри пахнет унынием и упраздненностью, как и повсюду в Кашине. Швейцар — старый, заплесневелый, сидит в бумазейной куртке и не торопясь чистит булаву, а жена его в каморке готовит щи, запах которых сообщает строению жилой характер. По-видимому, старик одичал в бездействии, потому что он встретил нас сердито и процедил сквозь зубы: нелегкая спозаранку принесла! Но когда мы, сняв верхнее платье, дали ему по гривеннику за хранение, он на минуту просиял, гривенники спрятал за щеку, а нам указал на лавку: сидите!
— Много бывает у вас в суде делов, старинушка? — ласково вступил с ним в разговор Очищенный.
— Никаких у нас делов нет, — ответил старик сердито, — кто ни идет, ни едет — всё мимо. Прежде, когда помещики были — точно что приезжали тягаться; а нынче — шабаш.
— Что за причина такая?
— Прикончили, значит. Имущество продали, а сами на теплые воды уехали. А кои остались — те и без суда друг у дружки рвут.
— Да, строгие нынче времена! — вздохнул Очищенный и не без умиления подумал: вот кабы таким же манером и Матрена Ивановна: не доводя до суда, вынула бы денежки да и заплатила бы по векселям… мило, благородно!
— Дураков ноне много уродилось, — философствовал между тем швейцар, — вот умные-то и рвут у них. Потому ежели дурак в суд пойдет — какую он там правду сыщет? какая такая дурацкая правда бывает? Еще с него же все штрафы взыщут: нишкни, значит, коли ты дурак!
И, порешив таким образом с гражданскими делами, прибавил:
— У нас ноне и уголовщина — и та мимо суда прошла. Разве который уж вор с амбицией, так тот суда запросит, а прочиих всех воров у нас сами промежду себя решат. Прибьют, либо искалечат — поди жалуйся! Прокуроры-то наши глаза проглядели, у окошка ждамши, не приведут ли кого, — не ведут, да и шабаш! Самый наш суд бедный. Все равно как у попов приходы бывают; у одного тысяча душ в приходе, да всё купцы да богатеи, а у другого и ста душ нет, да и у тех на десять душ одна корова. У чего тут кормиться попу?
Словом сказать, старик шибко негодовал и даже себя считал несправедливо приниженным запустелостью суда, в дверях которого его без всякой надобности заставляют стоять в галунах, в перевязи и выделывать булавой артикулы при проходе членов и прокуроров, которые и сами-то идут в суд лишь оттого, что деваться им больше некуда.
— Набрали целое стадо приказных, — ворчал он без умолку, — а они только папироски курят, сорят да перья сосут. Или теперича паутина — сколько ее на потолках набралось! — а как ты ее оттоле достанешь? Ты ее растревожь — ан она клочьями повисла; одно место на потолке белое открылось, а прочее все точно сажей вымазано. Самый, то есть самый у нас бедный суд!
Но мне, лично, именно такой суд и казался идеальным: именно такой суд нужен. Чтобы никто в нем не судился, чтоб лестница была не метена, чтоб паутина застилала потолки, чтоб швейцар был небрит, а швейцарова жена чтобы щи варила. И чтобы за всем тем, всякий, при виде этого неметеного суда, понимал, что час воли божией — вот он. И прокуроры чтобы на всякий случай в окна смотрели, только на улицу бы не выбегали, когда кого-нибудь ведут на веревочке, не спрашивали бы: со взломом или без взлома? Меня не огорчило бы, если б даже судебный персонал оставался бы в прежнем составе и продолжал бы получать присвоенные по штатам оклады. Во-первых, покуда суд не упразднен, нельзя упразднить и служителей его («чем же мы виноваты, что у нас дел нет?»), а во-вторых, ведь надо же между кем-нибудь казенные доходы делить, так уж пусть лучше получают те, кои дела не делают, а от дела не бегают, нежели те, кои без пути, аки лев рыкаяй, рыщут, иский, кого поглотити.*
А исподволь, может быть, удалось бы и полного упразднения достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и не упраздняя, а постепенно прекращая замену упалых. Ведь это только с непривычки кажется, что без судов минуты нельзя прожить; я же, напротив того, позволяю себе думать, что ежели люди перестанут судиться, то это отнюдь не сделает их несчастными. Я знаю, что идея эта непрактическая и что надеяться на ее осуществление — все равно, что поджидать скорого приезда Улиты (по пословице: «Улита едет, когда-то будет»), но и за всем тем надеюсь. Но, разумеется, если б мне сказали: выбирай между прежним кашинским уездным судом и нынешним кашинским окружным судом, я не задумываясь крикнул бы последнему: vivat, crescat et floreat[35]. Помилуйте, уж одно то чего стоит, что в дверях нынешнего окружного суда стоит швейцар с булавой, тогда как в передней кашинского уездного суда вечно стучал сапожной колодкой солдат в изгребной рубахе и с поврежденной на ученьях скулой!..
Но этот день, как я уже сказал выше, составлял исключение в практике кашинского окружного суда.
Судились пискари, исконные кашинские обыватели, и притом в таком интересном преступлении, которое самою новизною озадачило всех кашинских консерваторов (кашинские виноделы и витушечники — консервативны по преимуществу, ибо знают, чье мясо кошка съела). С половины двенадцатого уже началось движение в окрестностях суда. Швейцар, весь вышитый, с желтой перевязью через плечо и с булавой в правой руке, стоял навытяжку у дверей, готовый выделать все требуемые практикой суда артикулы. Прежде всего повалила меньшая братия, которая при входе набожно крестилась, как бы отмаливаясь от тюрьмы и от сумы, а в начале первого начали собираться «чины». Первые пришли прокуроры. Увидевши нас, они остановились в швейцарской и стали вслух обсуждать вопрос: ежели вор в шкатулке сломает замо́к и унесет оттуда три копейки — это, несомненно, будет кража со взломом; но ежели он, вместо того чтоб ломать замо́к, всю шкатулку унесет — как следует это действие понимать?*[36]Но, ничего не решив, щелкнули языками и стали подниматься по лестнице вверх. Следом за прокурорами прибыли члены суда. Они солидно взбирались по лестнице и вели солидный разговор, неизменно начинавшийся словами: «В практике кашинского окружного суда установился прецедент…» Сначала один эти слова скажет, потом другой повторит, потом третий, а швейцар смотрит на них и не нарадуется. Вообще эти люди, по-видимому, отлично понимали, что двадцатого числа каждого месяца ничто не воспрепятствует им воспользоваться присвоенным от казны содержанием. Кашинка может выйти из берегов и потопить казначейство, огонь может истребить его, но ихние деньги ни в огне не сгорят, ни в воде не потонут. Напоследок по наружности суетливо, но, в сущности, виновато проскользнуло штук двадцать адвокатов, которые, увидев нас, ужасно обрадовались, предполагая, что вот, мол, тягаться пришли. Но радость их была кратковременна, и когда мы объяснили цель нашего прихода, то лица их выразили столь искреннюю печаль, что Глумов поспешил предложить им по папироске. Затем они всей ватагой ринулись наверх, как бы опасаясь потерять горячие следы, оставленные членами суда и прокурорами.
Нам эти бедняки показались заслуживающими полного снисхождения. Они имели хороший аппетит и некоторое время рассчитывали на удовлетворение оного, как вдруг, совсем неожиданно, в практике кашинского окружного суда установился прецедент: никаких дел не судить, а собираться лишь для чтения законов…
С половины первого начался прилив чистой публики. Прибыл исправник, изящный молодой человек, с пробором посреди головы; вынул щеточку с зеркальцем, посмотрелся и вошел на крыльцо в ожидании дам. К нему присоединилось с десяток офицеров квартирующего в уезде полка. Дамочки не замедлили. Первою подкатила щегольская линейка, в которой, словно на пикник, приехала из подгородного имения местная львица с целым выводком дамочек. За линейкой последовал целый ряд экипажей, подвозя новые и новые выводки. Слышался говор и смех; у всех дамочек оказывался в туалете какой-нибудь беспорядок; у одних что-то развязалось, у других — расстегнулось. Все хохотали и кричали: ах, как весело! Исправник, как первый (после прокурора) в городе кавалер, не успевал завязывать и застегивать. Господа офицеры оказывали содействие.
Поднялись наверх и мы.
Зала была совершенно полна. Дамочки, гражданского и военного ведомств вперемежку, сидели в первом ряду и весело переговаривались между собой на французском диалекте. Сзади их теснился цвет местных сведущих людей и земских деятелей, вперемежку с офицерами. В глубине — толпилась меньшая братия. Судебные пристава, блистая отчищенными наново цепями, в новеньких мундирчиках и красиво выгибая шеи, говорили дамочкам «бонжур» и подвигали им стулья. Многие из них состояли на счету женихов и умели танцевать мазурку. Подсудимый пискарь, еле живой, лежал в неглубокой тарелке на скамье подсудимых и тяжело дышал жабрами. Сзади его стояли два жандарма с саблями наголо́; рядом — расположилась защита, в составе двух адвокатов: Шестакова (испорченное от Chaix d’Estange) и Перьева (испорченное от Berryer).* Кафедру обвинения занял прокурор Громобой, который вошел в залу суда, мечтательно играя поясницей и склонивши головушку на праву сторонушку. В грациозно откинутой руке его блестел золотой пенсне; сочные губы (созданные для поцелуя) слегка вздрагивали; глаза (с поволокою) смотрели грустно. Он уныло окинул дамский цветник, как бы заранее испрашивая прощения за кровожадность, с которою он будет требовать смерти для подсудимого пискаря и общих оздоровительных мер для всего общества. При этом взгляде дамочки инстинктивно поправили платья, потому что Громобой занимал в кашинской судебной труппе амплуа premier amoureux[37], вроде как, например, Бертон или Вормс в Михайловском театре, в Петербурге. В числе свидетелей больше всех выдавалась старая лягушка (по вызову обвинительной власти), та самая, которая когда-то
но, вопреки свидетельству дедушки Крылова, не лопнула (лягушки удивительно как эластичны), а явилась в настоящем деле главной доносчицей. За нею виднелось несколько десятков мелких головастиков, большая часть которых была вызвана защитой, и, наконец, в особой лохани, широко разинув пасть, нервно плескалась щука, относительно которой Громобой был долгое время в нерешительности, вызвать ли ее в качестве свидетельницы или же посадить на скамью обвиняемых в качестве укрывательницы, так как бо́льшая часть оставивших отечество пискарей была ею заглотана. На столе вещественных доказательств лежали: во-первых, карась, долженствовавший быть на скамье подсудимых, но ошибкою зажаренный в сметане; во-вторых, точный фотографический снимок с струй, которые образовались в реке при поспешном бегстве пискарей. За решеткой присяжных заседателей не было никого, потому что процесс был политический, а у присяжных заседателей политического смысла не полагается.*
Ровно в час самый лихой из судебных приставов возгласил: суд идет! — и вслед за этим возгласом в залу выплыли: Иван Иваныч, Петр Иваныч и Семен Иваныч. Но так как они были в мундирах и при цепях, то назывались не Иванами Иванычами, а судьями. Впечатление, произведенное их появлением, было самое примиряющее. Всем показалось, что вместе с ними пришла и Прасковья Ивановна и что сейчас она скажет: милости просим закусить! А ежели закуски и не будет, то, во всяком случае, Иван Иваныч расскажет, какой с ним вчера казус был. Играл он в винт: так — он с Семен Иванычем, а так — Петр Иваныч с Ефрем Иванычем. Только назначает он три в пиках, а Семен Иваныч перебивает: в таком разе я назначаю три в червях! А у него, Иван Иваныча, ни одной червонки нет, а у Семен Иваныча нет ни одной пиковки. Видит он беду неминучую, назначает четыре в пиках, а Семен Иваныч опять перебивает: а я в таком разе четыре в червях! И остались без четырех…
Разумеется, Иван Иваныч ничего подобного не рассказал (он так глубоко затаил свое горе, что даже Семену Иванычу не мстил, хотя со вчерашнего дня от всей души его ненавидел), но общая уверенность в неизбежности этого рассказа была до того сильна, что, когда началось чтение обвинительного акта, все удивленно переглянулись между собой, как бы говоря: помилуйте! да это совсем не то!
Сущность обвинительного акта заключалась в следующем. Издревле река Кашинка славилась своими пискарями. Во все времена обыватели города ловили пискарей всеми дозволенными способами и готовили из них прекраснейшую уху, о чем еще в XIV столетии свидетельствовал кашинский летописец. Однажды установившись на прочном основании, дело это шло своим порядком, не порождая преувеличенных надежд, но не возбуждая ни в ком и тревожных опасений. Только в 1723 году река Кашинка едва не опустела, так как всех пискарей потребовали в Петербург ко двору, в видах обрусения реки Мьи (нынешняя Мойка). Но большинство тогдашних пискарей сказалось в «нетех», и года через два-три убыль без труда пополнилась. За исключением этого кратковременного случая, недостатка в пискарях никогда не замечалось, хотя в иной год попадались пискари крупнее, а в другой — мельче. Но с начала шестидесятых годов, вместе с наступлением эпохи реформ, начинаются между пискарями волнения. Вместо того чтоб быть благодарными за дарование свободы, они придумывают всевозможные уловки для избежания закидываемых сетей* и неводов и в то же время целыми массами эмигрируют из родной реки. Куда они эмигрировали — это и доселе составляет тайну, но самый факт эмиграции был уже тогда замечен некоторыми благомыслящими гражданами. Опасаясь, что вкусная и питательная уха, которою они привыкли подкреплять свои силы, в непродолжительном времени отойдет в область предания, они настойчиво указывали подлежащей власти на угрожающую опасность, но так как в то время все вообще правительство было заодно с пискарями, то понятно, что и местная полицейская власть не сочла себя вправе употребить энергические усилия, дабы пресечь зло в самом его зародыше. И вот зло развилось. В течение всего прошлого года не было поймано ни одного пискаря, а в нынешнем году, с вскрытием реки, повторилось то же явление. Тогда полицейская власть встревожилась и решилась вмешаться. Громогласно дав мятежникам три предостережения относительно непременной явки в уху, она закинула разом несколько неводов; но, протащив их по всему протяжению реки в пределах городской черты, ничего не изловила, кроме головастиков и лежащего в тарелке больного пискаря. В таком виде это дело поступило на распоряжение прокурорской власти, которая сочла необходимым подвергнуть его тщательному исследованию. Следствие, произведенное под личным наблюдением прокурора окружного суда, с участием всех прокуроров и судебных следователей кашинского округа, привело к следующим результатам: А. Относительно всех вообще пискарей. Несомненно, что с их стороны был в настоящем случае заговор и предумышленное сопротивление властям. Будучи по закону обязаны являться, по первому требованию, в уху, они не только не обратили должного внимания на сделанные им полицейскою властью предостережения, но прямо ослушались ее приглашений, несомненно действуя при этом по обдуманному наперед общему плану. Доказательств существования этого общего плана имеется в деле более нежели достаточно. Во-первых, пискари исчезли из реки именно в ту самую минуту, когда начальство изготовляло для поимки их сети и невода. Очевидно, они были предупреждены. И действительно, в деле имеются данные, доказывающие, что их предупредил о делаемых приготовлениях карась, живший у исправника в пруде, соединяющемся с рекою Кашинкой протоком. Сам карась чистосердечно сознался в этом преступлении, оправдываясь, будто бы он действовал в этом случае на основании какого-то циркуляра. Но по какому ведомству, когда и за каким № был издан этот циркуляр — указать не мог. К сожалению, этот карась был, по недоразумению, изжарен в сметане, в каковом виде и находится ныне на столе вещественных доказательств (секретарь подходит к столу, поднимает сковороду с загаженным мухами карасем и говорит: вот он!); но если б он был жив, то, несомненно, в видах смягчения собственной вины, пролил бы свет на это, впрочем, и без того уже ясное обстоятельство. Стало быть, пискари знали; а ежели знали, то должны были спокойно плавать и с доверием ожидать. Но они вместо того обдумали общий план, которым и воспользовались в решительную минуту. Во-вторых, самый процесс бегства свидетельствует об его предумышленности. Бегство совершилось с быстротой, совершенно не свойственной пискарям, что доказывается точным фотографическим снимком струй, оставленных бежавшими. Стоит взглянуть на этот снимок (секретарь берет его со стола и говорит: вот он!), чтоб убедиться, что такую путаницу перекрестных следов могут оставить только существа, достоверно знающие, что ожидает их впереди, и потому имеющие полное основание спешить. Говорят, будто бы пискари оттого так быстро прыснули в разные стороны, что испугались щуки, которая в это время заплыла в Кашинку из Волги; но спрошенная по сему предмету щука представила к следствию одобрительное свидетельство от полиции, из которого видно, что она неоднократно и прежде появлялась в реке Кашинке, и всегда с наилучшими намерениями. Но, кроме того, даже вызванные защитой головастики — и те свидетельствуют, что еще задолго до исчезновения пискарей у них уже были шумные сходки, на которых потрясались основы и произносились пропаганды и превратные толкования; а лягушка, видевшая в лугу вола, прямо показывает, что не только знает о сходках, но и сама не раз тайно, залегши в грязь, на них присутствовала и слышала собственными ушами, как однажды было решено: в уху не идти. Таким образом, исчезновение, с одной стороны, совершилось быстро, а с другой — медленно и обдуманно. Затем, хотя следствие и не разъяснило достоверным образом, куда девались мятежные пискари, оставили ли они отечество навсегда или до сих пор укрываются в волнах оного, но обстоятельство это для правосудия безразлично. Они не явились по вызову начальства, а это больше нежели оставление отечества. Б. Что же касается, в частности, до находящегося на скамье подсудимых больного пискаря, то хотя он и утверждает, что ничего не знал и не знает об этой истории, потому-де, что был болен и, по совету врачей, лежал в иле, но запирательству его едва ли можно дать веру, ибо вековой опыт доказывает, что больные злоумышленники очень часто бывают вреднее, нежели самые здоровые.
«А по сему и принимая во внимание все вышеизложенное, заключал обвинительный акт, предаются уголовному суду нижеследующие лица: А. Заочно — все вообще бежавшие из реки Кашинки пискари, по обвинению: 1) в недозволенном оставлении отечества, или в преступлении, оному равносильном; 2) в предумышленном сопротивлении подлежащей власти, выразившемся в неявке, по ее вызову, в уху, и 3) в составлении заговора с целью неисполнения законных требований начальства, хотя и без намерения ниспровергнуть оное. Каковые преступления предусмотрены 666 ст. всех томов св. зак. Росс. имп.* Б. Пискарь без имени и отчества, известный под названием Ивана Хворова — по обвинению в знании изложенных выше поступков и деяний и в недонесении об них подлежащей власти; причем хотя и не было с его стороны деятельного участия в заговоре, но сие произошло не от воли его, а от воспрепятствования хворостью, по предписанию врачей. Каковое преступление предусматривается уложением о наказаниях, карманным оного изданием».
XXIV*
Чтение обвинительного акта произвело смешанное впечатление. Все отдавали справедливость бдительности прокурорского надзора, но в то же время чувствовали невольное сострадание к бедному больному пискарю, который целых два года томился в тарелке (даже воду в ней не каждый день освежали), тогда как главные злоумышленники плавали на свободе, насмехаясь над всеми усилиями правосудия. В особенности же сожалел о подсудимом один из конвоировавших его жандармов, рядовой Тарара́, который тесно сблизился с ним во время двухлетних скитаний по следствиям и полюбил его как сына. Во всяком случае, всех несколько утешило, что пискаря будут судить не по большому Уложению, а по карманному. Только дамочки оставались легкомысленно-индифферентными к участи подсудимого и, сравнивая его мизерную, изнуренную фигурку с цветущими и пышущими здоровьем кашинскими сведущими людьми, отдавали предпочтение последним.
Затем, когда волнение мало-помалу улеглось, Иван Иваныч позвонил в колокольчик, и началось представление под названием:
Сцена представляет залу заседаний, свойственную кашинско-белозерско-устюженскому окружному суду. Действующие лица и обстановка поименованы и описаны выше.
Иван Иваныч. Подсудимый Иван Хворов! расскажите, что вам известно по настоящему делу?
Подсудимый (делает чрезмерные усилия, чтоб ответить, но ничем не может выразить свою готовность, кроме чуть заметного движения хвостом).
Иван Иваныч (не понимая). Я должен заметить вам, подсудимый, что чем больше вы будете упорствовать… (Петр Иваныч высовывается вперед.) Вы желаете предложить вопрос, Петр Иваныч? (К публике.)Господа! Петр Иваныч имеет предложить вопрос!
Петр Иваныч (говорит солидно, произнося слова внос). В практике кашинского окружного суда установился прецедент… (Умолкает и прислушивается, как будто эти слова сказал не он, а Семен Иваныч.)
Иван Иваныч. Подсудимый! вы слышали? (Пискарь молчит.)Повторяю вам, пискарь…
Жандарм Тарара (движимый жалостью). Иён болен. Дуже, вашескородие, нездоров.
Иван Иваныч (пошептавшись с Семеном и Петром Иванычами). Но ежели так… господин прокурор! не угодно ли вам будет дать по сему предмету заключение?
Прокурор (поспешно перелистывает карманное уложение, но ничего подходящего не находит). Мм… мм… я полагал бы… я полагаю, что, ввиду болезненного состояния подсудимого, можно ограничиться предложением ему кратких и несложных вопросов, на которые он мог бы отвечать необременительными телодвижениями. Нет сомнения, что господа защитники, которым должен быть понятен язык пискарей, не откажут суду в разъяснении этих телодвижений.
Адвокаты Шестаков и Перьев (увлекаясь легкомысленным желанием уязвить прокурора и в то же время запасаясь кассационным поводом). С своей стороны, мы думаем, что язык пискарей более известен обвинителю, нежели нам; ибо он целые два года жил в реке, разыскивая корни и нити по этому делу.
Иван Иваныч. Что же теперича делать?
Голос из публики. Самое лучшее — выпить и закусить. (Общий смех.)
Иван Иваныч (сердито ищет глазами, но в то же время машинально трет рукою под ложечкой). Предваряю, что я дальнейших нарушений порядка не потерплю. Ибо если б даже и чувствовалась потребность закусить, то в этом еще ничего нет предосудительного. И притом все в свое время. Господа судебные пристава! извольте смотреть в оба! (В публике новый взрыв смеха.)Нечего смеяться-с! стыдно-с! Повторяю свой прежний вопрос: что теперича делать? (Семен Иваныч выдвигается вперед.) Вы желаете сказать ваше мнение, Семен Иваныч? (К публике.)Господа! Семен Иваныч имеет сказать несколько слов!
Семен Иваныч (встает и бравирует, как будто хочет сказать, что он и не в таких переделках бывал). В практике кашинского окружного суда установился прецедент… (Краснеет и садится.)
Иван Иваныч (вспоминая о вчерашнем винте и желая уязвить Семена Иваныча). То-то… «прецедент»! Господин прокурор! прошу вас дать заключение!
Прокурор (судорожно хватается за карманное уложение, но в судебные прения неожиданно вмешивается жандарм Тарара).
Тарара. Позвольте, вашескородие, минэ за него говорить! Я усё панымаю!
Иван Иваныч. Вот и прекрасно. Стало быть, мы можем продолжать судебное следствие… Отвечайте, подсудимый! признаёте ли вы себя виновным?
Тарара. У чом, вашескородие?
Иван Иваныч (дразнится). У чом?! У усём!!
Тарара. Виноват, вашескородие.
Иван Иваныч. То-то. Подсудимый! Слышите?
Тарара. Точно так, вашескородие.
Иван Иваныч. Итак, подсудимый сознался. Теперича можно, стало быть, приступить к выслушиванию свидетельских показаний. Господин секретарь! все свидетели налицо?
Адвокат Шестаков. Я имею сделать заявление. Подсудимый никакого сознания не делал, а созналось за него совершенно постороннее делу лицо. Прошу занести об этом в протокол.
Иван Иваныч(качая головой). Ах-ах-ах! всегда-то вы так, господин Шестаков! Правосудие идет своим ходом, а вы препятствуете! Как же с этим нам быть? господин прокурор! ваше заключение?
Прокурор (перелистывает карманное уложение и делает вид, что нашел). Полагаю, что домогательство защиты следует оставить без последствий… на основании 1679 статьи.
Адвокат Перьев(язвительно). Статья, о которой говорит обвинитель, касается раскольников, не приемлющих священства, а к процессуальной стороне политических дел никакого отношения не имеет.
Иван Иваныч. Ах-ах-ах! Как же это, Федор Павлыч, вы так? спапашились… а? (Головастики смеются.) Вы чего смеетесь! ждите своей очереди! Федор Павлыч! за вами слово!
Прокурор(нимало не смущаясь и смотря на Перьева в упор). Это по одному изданию — действительно так; а по другому изданию та же 1679 статья…
Иван Иваныч. Так я и знал. А всё вы, господин Перьев! Правосудие идет своим ходом, а вы прерываете! Предупреждаю, что, ежели это повторится еще раз, я лишу вас слова. Я добр, но не потерплю, чтобы правосудие встречало препятствия на пути своем!
Адвокат Перьев. Позвольте, Иван Иваныч!
Иван Иваныч. Здесь не Иван Иваныч, а господин судья.
Перьев (не обращая внимания). Ах, Иван Иваныч!
Иван Иваныч (строго). Вы упорствуете, господин Перьев? Лишаю вас слова. Извольте немедленно оставить скамью защиты!
Петр Иваныч и Семен Иваныч (вместе). В практике кашинского окружного суда установился прецедент…
Иван Иваныч. Ну да, прецедент. Господин Шестаков! Вам одним вверяется защита интересов вашего клиента. А теперь будем выслушивать свидетелей.
Перьев поспешно обирает бумаги с конторки и с радостью удаляется в публику. В это время в двери, позади судей, показывается голова Прасковьи Ивановны. Судебный пристав поспешно перерезывает залу заседаний и, пошептавшись около дверей, вполголоса докладывает Ивану Ивановичу, что Прасковья Ивановна привезла четыре сорта пирожков.
Иван Иваныч(вставая). Заседание суда прерывается на двадцать минут! (К прокурору.) Федор Павлыч! милости просим! (К защитнику.) А вас не зову: вы правосудие тормозите! (Уходят.)
Зала оживает. Кавалеры мгновенно устремляются к дамочкам с коробками, наполненными конфектами; дамочки без всякой причины хохочут. Из совещательной камеры появляются три судебные пристава, неся по блюду с пирожками «от Прасковьи Ивановны», которые мгновенно расхватываются. Адвокат Шестаков вынимает ватрушку и ест. Свидетельница лягушка, завидевши даму с непомерно развитыми атурами, начинает надуваться с очевидным намерением «в дородстве с ней сравняться», но судебный пристав прикрикивает на нее: тсс… гадина! Некоторые из меньшей братии достают из карманов вяленую воблу и хотят есть, но судебный пристав кричит на них: «Господа! здесь вонять не дозволяется! кто хочет есть воблу, пусть идет на крыльцо: в свое время я дам звонок!»
Иван Иваныч (выходит из совещательной камеры, доканчивая слова молитвы)…и не лиши нас небесного твоего царствия…* Петр Иваныч! Семен Иваныч! садитесь, пожалуйста! Федор Павлыч! милости просим! Да! так на чем, бишь, мы остановились? на допросе свидетелей… Вот и прекрасно. Господа головастики! расскажите, что вам известно по этому делу? Не стесняйтесь! хотя вы вызваны защитой, но можете свидетельствовать и против подсудимого!
Адвокат Шестаков. Осмелюсь доложить суду, что свидетели, по закону, допрашиваются каждый отдельно…
Иван Иваныч. А вы опять тормозить правосудие! Я — слово, а он — два! я — два, а он — десять! а-а-ах! Вот погодите! будете ужо речь говорить, и я тоже… Слова вымолвить не дам!* (Грозит пальцем.)
Голос из публики. Ну, что уж, Иван Иваныч, не всяко лыко в строку!
Иван Иваныч. Кто там еще говорит? Кто позволяет себе? Господа судебные пристава! вы чего смотрите! (К исправнику.)Так вы, Михал Михалыч, народ распустили… Так набаловали! так распустили… смотреть скверно! (К головастикам.)Ну-с, господа головастики, что же вы стали! Отвечайте! (Незаметно просовывает под мундир руку и расстегивает у жилета несколько пуговиц. Вполголоса.)Вот теперь — хорошо.
Головастики(все разом; ребяческими голосами). Виноваты, вашескородие!
Тарара (вспомнив, как он час тому назад отвечал). У чом виноваты? — сказывайте!
Иван Иваныч. Заместитель подсудимого! вы не имеете права тормозить правосудие! (К головастикам.)Постойте! в чем же, однако, вы признаёте себя виновными, господа? Кажется, никто вас не обвиняет… Живете вы смирно, не уклоняетесь; ни вы никого не трогаете, ни вас никто не трогает… ладком да мирком — так ли я говорю? (В сторону.)Однако эти пироги… (Расстегивает потихоньку еще несколько пуговиц.)Ну-с, так рассказывайте: что вам по делу известно?
Головастики (хором). Знать не знаем, ведать не ведаем!
Иван Иваныч. Не знаете?.. ну, так я и знал! Потревожили вас только… А впрочем, это не я, а вот он… (Указывает на Шестакова.)Других перебивать любит, а сам… Много за вами блох, господин Шестаков! ах, как много! (К головастикам.)Вы свободны, господа! (Смотрит на прокурора.)Кажется, я могу… отпустить?
Прокурор. Со стороны обвинения препятствия не имеется.
Адвокат Шестаков. Но, может быть, впоследствии…
Иван Иваныч (авторитетно). Вы свободны, господа головастики! Суд увольняет вас — да! И никто его этого права лишить не может — да! Ни адвокаты, ни разадвокаты… никто! Где вы желаете быть водворенными? в пруде или в реке? Во внимание к вашему чистосердечию, суд дает вам право выбора… да!
Головастики. Нам бы, вашескородие, в пруде приятнее.
Иван Иваныч. Ежели приятнее в пруде — ступайте в пруд… Но ежели бы вам было приятнее возвратиться в реку — скажите! не стесняйтесь. (Головастики молчат.)Стало быть, в пруде лучше? Так я и знал. Господин судебный пристав! оберите их и водворите в пруде… Это суд распоряжение делает, а как об этом другие прочие думают — пускай при них и останется!
Судебный пристав (обирает головастиков в мешок и отдает сторожу, вполголоса). Вали их… в места не столь отдаленные!
Иван Иваныч. Свидетельница лягушка! расскажите, что вам известно по этому делу?
Лягушка (квакает толково и даже литературно; в патетических местах надувается, и тогда на спине у ней выступают рубиновые пятна). Я старая лягушка, опытная. Живу в здешней реке больше сорока лет и всю подноготную знаю. Прежде было у нас здесь очень хорошо, и жили мы не плоше кашинских помещиков. Всего было довольно, и главное — все задаром. Одной икры, бывало, пискари сколько наготовят — уж на что мы жадны были, а и то половины не приедали. Думали в ту пору, что и конца-краю нашим радостям не будет, да и не было бы, кабы мы сами себя кругом не обвиноватили. Откуда начали к нам модные идеи приходить — и сама ума не приложу, а только потихоньку да помаленьку — смотрим, ан между нами уж и изменники проявились. Дальше — хуже. Я уж и тогда на страже стояла, за сто лет вперед загадывала. Говорила я в ту пору нашим старикам: надо-де этих умников своим судом судить — а меня не послушали: «ничего-де, люди молодые, сами-де остепенятся, как в совершенный разум взойдут». После спохватились, да уж поздно было. Началось с того, что успели наши умники на свою сторону цаплю переманить. Усядутся, бывало, старики на бережку, начнут об своих делах квакать — глядь, а над ними цапля кружит. Кинется сверху, как стрела из лука, выхватит старичка, да и унесет в носу. Сначала мы думали, что это административную высылку означает, а потом узнали, что действительно это так и есть. Ну, и забоялись. А в реке в нашей, между прочим, уж и бунты начались. У нас ведь не только пискари, а и гольцы прежде водились — вот они-то и зачали первые. Первые не захотели в уху являться, первые из реки всем стадом ушли — это еще в самом начале реформ было, — а уж за ними и пискари тронулись. Пискарь — рыба робкая, вашескородие! убывала она не разом, а небольшими партиями; вот почему долгое время и невдомек было, что между ними бунт пошел. Однако постепенно начали примечать: нынче — один косячок уплыл, через неделю — другой, еще через неделю — третий. Икра-то прежде задаром была, потом, в начале реформ, ей цену сорок копеек поставили, а тут вдруг — два с полтиной фунт! А за икрою и прочее в том же мачтабе. Сделалось так, что хоть одним илом питайся, да и того, пожалуй, на всех не хватит. Видим: плохое наше дело, господа! Основы — потрясены, авторитеты — подорваны, власти — бездействуют, суды — содействуют…* смотреть скверно! Ну, и стали мы тогда квакать. Квакали, квакали и наконец доквакались. Внял господин исправник нашему кваканью и начал приготовлять невода…
Адвокат Шестаков (прерывает). А скажите, свидетельница, икра-то дешевле стала от вашего кваканья?
Лягушка (вся покрываясь рубиновыми пятнами, прерывисто). Икра-то… икра… нет, икра не дешевле стала… не дешевле, не дешевле! А все оттого, что вот вы… да вот они (хочет вцепиться в меньшую братию)… кабы вот вас, да вот их… (Задыхается и некоторое время только открывает рот. Дамы в восторге машут ей платками.)
Иван Иваныч (припоминая, что и в его жизни было что-то похожее, с участием). Успокойтесь, сударыня! Отдохните. Высказываемые вами чувства столь похвальны, что суд может и подождать.
Лягушка (после кратковременного отдыха). Только сижу я однажды вечером на страже и по привычке во всю глотку квакаю: разрушены! подорваны! потрясены! Вдруг слышу: в воде что-то плеснуло; оглядываюсь — щука. А она, вашескородие, давно на меня заглядывается, потому что хоть я и благонамеренная, но щуки, коли ежели до пищи дело коснется, этого не разбирают. Подплыла ко мне щука и говорит: прыгни, голубушка, в воду, я тебе что-то скажу! А я смотрю ей в глаза, словно околдованная, и все думаю: прыгну да прыгну! — как только бог спас! Однако одумалась: ладно, говорю, ты лучше в воде свои речи говори, а я тебя с берегу послушаю. Ну, она видит, что с меня взятки гладки, и говорит: «вот ты по доносчицкой части состоишь, целый день без ума квакаешь, а не видишь, что у тебя под носом делается — пискари-то ведь уж скоро остатние от вас уплывут». — Как так? говорю. — «Да так, говорит, я уж с неделю их поджидаю: как только подплывут к Волге — тут им всем от меня одно решение выйдет!» Сказала, хлопнула хвостом и уплыла. А я бочком да ползком — на дно реки! подползла вот к этому пискарю, который теперь судится, да в грязь и легла. Лежу час, лежу другой — слышу: собираются. Окружили этого самого Хворова и стали галдеть. И чего только я тут не наслушалась, вашескородие — даже сказать скверно. Все-то у нас гадко, все-то скверно, все-то переделать да разорить нужно. Реку чтоб поровну поделить, харч чтобы для всех вольный был, богатых или там бедных, как ноне — этого чтобы не было, а были бы только бедные; начальство чтоб упразднить, а прочим чтоб своевольничать: кто хочет — пущай по воле живет, а кто хочет — пущай в уху лезет… А один — risum teneatis, amici*[38] — даже такую штуку предложил: лягушек, говорит, беспременно из нашей реки чтобы выжить, потому что река эта завсегда была наша, дедушки наши в ней жили, и мы хотим жить…
Прокурор (прерывая). Не можете ли вы, свидетельница, сказать определительнее, какую роль играл на этой сходке подсудимый Хворов?
Лягушка (озлобленно). Он-то? да он, вашескородие, первый поджигатель и есть. Кабы не его наученье, да мы бы теперь… никаких бы у нас беспокойств не было! Самый это что ни на есть вредительный пискарь! Кто что ни скажет, хоша бы самую, что называется, безлепицу, а он подхватит, да еще против того вдвое! Это хоть у кого угодно справьтесь, у любого головастика спросите: знаешь Ивана Хворова? — всякий скажет, каков таков он пискарь есть! Прошипит это, что ему надо, свой яд выпустит, всех науськает, а сам в тину спрячется! Такой это… ну, такой, что если б теперича не поймали его, были ли бы мы в живых — уж я и не знаю! (Хочет рассказать анекдот из жизни Хворова, но Иван Иваныч, опасаясь, не вышло бы какой непристойности, прерывает.)
Иван Иваныч. Полагаю, что вопрос, предложенный господином прокурором, разъяснен достаточно. Продолжайте, свидетельница, ваш рассказ, не увлекаясь обстоятельствами, к делу не относящимися.
Лягушка. Только шумели они, шумели — слышу, еще кто-то пришел. А это карась. Спасайтесь, кричит, господа! сейчас вас ловить будут! мне исправникова кухарка сказала, что и невода уж готовы! Ну, только что он это успел выговорить — все пискари так и брызнули! И об Хворове позабыли… бегут! Я было за ними — куда тебе! Ну, да ладно, думаю, не далеко уйдете: щука-то — вот она! Потом уж я слышала…
Иван Иваныч. Садитесь, Лягушка. Это все, что суду нужно было от вас знать. Далее вы будете свидетельствовать уж по слуху, а в практике кашинского окружного суда установился прецедент: «не всякому слуху верь»… кажется, я так говорю, господа? (Семен Иваныч и Петр Иваныч утвердительно кивают головами.)Вы исполнили свой долг, лягушка, с чем вас и поздравляю. Затем, живите смирно, никого не трогайте, и вас никто не тронет; а ежели что заметите вредное — идите к нам: теперь вам эта дорога известна. А мы уж распорядимся, потому что это наша обязанность. Ежели что похвальное узнаем — мы поощрим; ежели непохвальное — по головке не погладим. Вот вам пискарь — сидит! а за что сидит? — за то, что делал непохвальное! Кабы он похвально себя держал — не за жандармами бы сидел, а, может быть, субсидии бы получал; а вздумал буянить да фордыбачить — не прогневайся, посиди! И все будут сидеть. (Голос из публики: правильно! Иван Иваныч ищет глазами.)А вот я этого грубияна, который меня прерывает, за ушко да на солнышко… Итак, повторяю: ежели что заметите — идите к нам, а сами не распоряжайтесь, потому что это в круг ваших обязанностей не входит. Нынче много таких модников развелось, которые думают: зачем я в суд пойду? — лучше сам распоряжусь. И оттого у нас в суде по целым месяцам заседаний не бывает — зачем же суд? Но вы так не делайте. Садитесь; еще раз поздравляю вас. Щука! Продолжайте рассказ Лягушки! какая была ваша роль в этом деле?
Щука(разевает пасть, чтобы лжесвидетельствовать, но при виде ее разинутой пасти подсудимым овладевает ужас. Он неистово плещется в тарелке и даже подпрыгивает, с видимым намерением перескочить через край. У щуки навертываются на глазах слезы от умиления, причем пасть ее инстинктивно то разевается, то захлопывается. Однако ж мало-помалу движения пискаря делаются менее и менее порывистыми; он уже не скачет, а только содрогается. Еще одно, два, три содрогания и…)
Тарара (вынимает подсудимого за хвост и показывает суду; голосом, в котором звучит торжественность). Уже вмер!!!
Иван Иваныч (взволнованный). Да послужит сие нам примером! Уклоняющиеся от правосудия да знают, а прочие пусть остаются без сомнения! Жаль пискаря, а нельзя не сказать: сам виноват! Кабы не заблуждался, может быть, и теперь был бы целехонек! И нас бы не обременил, и сам бы чем-нибудь полезным занялся. Ну, да впрочем, что об том говорить: умер — и дело с концом!* Господин прокурор! ваше заключение?
Прокурор (скороговоркой, наподобие, как причетники, в конце обедни: «Слава отцу… слава тебе!» произносят). Полагаю, за смерт… сужден… пр’кр’тить.
Иван Иваныч. Так я и знал. А о прочих, об отсутствующих… неужто продолжать?
Прокурор. О прочих надлежит постановить заочное решение.
Иван Иваныч. И это я знал. Семен Иваныч! Петр Иваныч! как вы полагаете? как следует заочно с бунтовщиками поступить?
Прокурор (встает, чтобы напомнить о существовании совещательной комнаты для постановления решений; но в эту минуту судебный следователь подает ему телеграмму. Читает). «От казанского прокурора кашинскому. В реке Казанке поймана шайка кашинских пискарей. По-видимому, бунтовщики. Подробности почтой».
Иван Иваныч. Однако порядком-таки отчесали! Сколько это отсюда верст?
Прокурор. Ввиду полученной телеграммы полагаю суждение о противозаконном оставлении отечества кашинскими пискарями приостановить.
Иван Иваныч (на все согласен). Что ж, приостановить так приостановить. Покуда были подсудимые, и мы суждение имели, а нет подсудимых — и нам суждение иметь не о ком. Коли некого судить, стало быть, и… (Просыпается.)Что, бишь, я говорю? (Смотрит на часы и приятно изумляется.) Четвертый час в исходе! время-то как пролетело! Семен Иваныч! Петр Иваныч! милости просим!
(Уходят. Зала медленно пустеет.)
Мы тоже поспешили домой. Суд произвел на нас самое отрадное впечатление, хотя трагическая смерть пискаря и примешивала некоторую горечь в наши светлые воспоминания. Главным образом, манера Ивана Иваныча понравилась. Вот человек: говорит строгие слова, а всем приятно. Даже адвокат Шестаков — и тот только вид делает, что боится, а в сущности очень хорошо понимает, что Иван Иваныч простит. Вот пискарь — тот действительно умер, но и он умер не от Ивана Иваныча, а оттого, что заблуждался. А не заблуждался бы — и теперь был бы целехонек.
Но то-то вот и есть, что все это утопия. Иван Иваныч говорит: не заблуждайся! Семен Иваныч скажет: не воруй! а Петр Иваныч: не прелюбодействуй! Кого тут слушать! Этак все-то начнут говорить — и конца-краю разговорам не будет! И вдруг выскочит из-за угла Держиморда* и крикнет: это еще что за пропаганды такие!
Во всяком благоустроенном обществе по штатам полагаются: воры, неисправные арендаторы, доносчики, издатели «Помой»,* прелюбодеи, кровосмесители, лицемеры, клеветники, грабители. А прочее всё — утопия.
Надо сказать правду, что с некоторого времени меня и Глумова начинали томить предчувствия. Наверное, отдадут нас под суд! — думалось нам, а невидимая сила так и толкала на самое дно погибели. Убеждение в неизбежности конца с присяжными заседателями с особенною ясностью представлялось теперь, когда мы своими глазами увидели, с какою неумытною строгостью относится правосудие даже к такому преступлению, как неявка в уху. Уж если Хворов должен был смертью искупить свои миниатюрные заблуждения, то что же предстоит нам за участие в подлоге, двоеженстве, в покушении основать заравшанский университет?
— Как ты думаешь, по совокупности будут судить? — обратился я к Глумову.
— Непременно.
— Так что ежели в разных местах преступления были сделаны, то судить будут в том месте, где было совершено последнее?
— Где прежде хватятся, там и будут.
— Вот кабы у Ивана Иваныча!
— Да, брат, у Ивана Иваныча — это…
— Чего лучше, кабы у Ивана Иваныча! — отозвался и Очищенный, вслушавшись в наш разговор. — Только ведь Матрена Ивановна — она по месту жительства…
Словом сказать, чтоб быть подсудными Ивану Иванычу, нам нужно было теперь же какую-нибудь такую подлость сделать, чтоб сейчас же нас в острог взяли и следствие начали. А потом уж к этому следствию и прочие вины будут постепенно присовокуплять.
В раздумье вступили мы под сень постоялого двора, но тут нас ожидала радость. На мое имя было получено письмо. Вскрываю и не верю глазам своим… от клуба Взволнованных Лоботрясов!* Осведомившись о наших усилиях вступить на стезю благонамеренности, клуб, по собственному почину, записал нас всех шестерых в число своих членов, с обложением соответственною данью на увеселение (описка, вместо «усиление») средств. А именно: купец Парамонов обязывается ежегодно вносить по 25 тысяч, купчиха Стёгнушкина — по 10 тысяч, а все прочие — по десяти рублей. Причем давалось нам знать: а) что все содеянные нами доселе преступления прощаются нам навсегда; б) что взносы могут быть производимы и фальшивыми кредитками, так как лоботрясы, имея прочные связи во всех слоях общества, берутся сбывать их за настоящие.
— Глумов! — воскликнул я в восторге, — смотри! Лоботрясы простили нас! А мы-то унывали… маловеры!
XXV*
Ночью Глумову было сонное видение: стоит будто бы перед ним Стыд. К счастию, в самый момент его появления Глумов перевернулся на другой бок, так что не успел даже рассмотреть, каков он из себя. Помнит только, что приходил Стыд, — и больше ничего. Сообщив мне об этом утром, он задумался.
— Да, братец, ежели он повадится… — начал он, но, не докончив фразы, махнул рукой и стал торопиться в дальнейший путь.
Княжеская усадьба, которую арендовал искомый еврей, отстояла от города верстах в сорока на север, по направлению к Бежецку. Не доезжая верст десять, начались княжеские владения, о чем свидетельствовали поставленные по обеим сторонам дороги столбы, украшенные стертыми княжескими гербами. Затем верст семь подряд тянулось обнаженное пространство, покрытое мхом и усеянное пнями, из которых ближайшие к дороге уже почернели и начали загнивать. Лет пятнадцать тому назад здесь рос отличнейший сосновый лес, но еврей-арендатор начисто его вырубил, а со временем надеялся выкорчевать и пни, с тем чтобы, кроме мхов, ничего уж тут не осталось. Версты за три пошли поля, и впереди показалось большое село, а по сторонам несколько мелких деревень. За селом темнела господская усадьба.
В свое время здесь была полная чаша. Мужики в имении жили исправные, не вымученные ни непосильною барщиной, ни чрезмерными данями. Помещичье хозяйство также цвело, потому что владелец был человек толковый, понимавший, что во всяком деле должен быть общий план, умевший начертать себе этот план, а затем и проследить за его выполнением. Тем не менее новшеств никаких никогда в имении не вводилось, и на всем лежала печать самой строгой старозаветности. По-старинному поля делились на три части; травосеяния не существовало, леса береглись пуще глазу. Владелец не был жаден и довольствовался тем — впрочем, довольно значительным — доходом, который, благодаря уменью пользоваться крепостною силою, сам плыл к нему в руки.
Князь Спиридон Юрьевич Рукосуй-Пошехонский был потомок очень древнего рода и помнил это очень твердо. Он знал, что родичи его были вождями тех пошехонцев, которые начали свое историческое существование с того, что в трех соснах заблудились, а потом рукавиц искали, а рукавицы у них за поясом были. Многие из его предков целовали кресты, многим были урезаны языки; немало было и таких, которых заточали в Пелым, Березов и другие более или менее отдаленные места. Вообще это был род строптивый, не умевший угадать благоприятного исторического момента и потому в особенности много пострадавший во время петербургского периода русской истории.* В XVIII столетии Рукосуи совсем исчезли из Пошехонья, уступив место более счастливым лейб-кампанцам, брадобреям и истопникам,* и только одному из них удалось сохранить за собой теплый угол, но и то не в Пошехонье, где процвело древо князей Рукосуев, а в Кашинском наместничестве. Здесь князья Рукосуи окончательно угомонились; оставили всякие притязания на дворскую деятельность и служебное значение и всецело предались сельскому строительству.
Нынешний владелец усадьбы, князь Спиридон Юрьевич, в свое время представлял тип патриарха-помещика, который ревниво следил за каждым крестьянским двором, входил в мельчайшие подробности мужицкого хозяйства, любя наказывал и любя поощрял и во всех случаях стоял за своих крестьян горой, настойчиво защищая их против притязаний и наездов местных властей. Крестьянин представлял для него, так сказать, излюбленное занятие, которое не давало заглохнуть его мысли и в то же время определяло его личное значение на лестнице общественной иерархии. Или, говоря другими словами, князь считал себя ответственным не только перед крестьянином, но и за крестьянина. Поэтому он не позволял себе ни одного из тех общедоступных бесчеловечий, которыми до краев было преисполнено крепостное право, и любил, чтоб на крестьян его указывали как на образцовых, а на его личное управление как на пример разумной попечительности, «впрочем, без послаблений». Но в то же время он требовал, чтоб и мужички ценили его заботы, и не терпел ничего выдающегося. «Выскочек» и «похвальбишек» он, без потери времени, сдавал в рекруты, но квитанции не оттягивал в свою пользу, а жаловал в те семьи, положение которых требовало, по его мнению, поддержки. Даже выдающейся зажиточности он не допускал, а вел всех ровно, как бы постоянно держа в руках весы, на которых попеременно взвешивались все мужички, с целью уравнения излишков и недостатков. И затем, когда убеждался, что у всех мужичков имеется полный штат живого и мертвого инвентаря, когда видел, что каждый мужичок выезжает на барщину в чистой, незаплатанной рубахе, то радовался. И радовался всего больше тому, что этот результат достигнут не строгостью, а мерами его личного попечительного вмешательства.
Выходя из идеи попечительства, князь не любил и отхожих промыслов, называя их баловством. Паспорты выдавались в его имении с чрезвычайными затруднениями, причем спрашивалось, куда, зачем и по какой причине понадобилась отлучка, а по возвращении требовался подробный отчет, сколько отпущенный приобрел, ходя «по воле», сколько прожил и сколько принес домой. Князь был убежден, что крестьянин рожден для земли, и проводил эту мысль с некоторою назойливостью. С такою же ревнивою заботливостью наблюдал он и за нравственностью крестьян, и за исполнением ими религиозных обязанностей. Ссор не терпел, неповиновения не только себе и поставленным от него начальникам, но и внутри самих семей — не допускал. Любострастней не занимался, хотя овдовел в молодых летах, и только экономка Марфуша, преданнейшее и безответнейшее существо, свидетельствовала о его барской и человеческой слабости. Но ни школы, ни больницы в княжеском имении не существовало. Вместо школы князь всех деревенских мальчиков и девочек обучал церковному хоровому пению, и, сверх того, его дочь позволяла себе иметь двух-трех учеников из мальчиков, которые случайно понравились ей своею шустростью. Этих учеников обыкновенно определяли впоследствии в дворовые и с этою целью обучали в Москве полезным мастерствам. Что же касается до больницы, то она заменялась тем, что добрая княжна лично ходила по избам, где оказывались больные, и подавала им помощь по лечебнику Енгалычева. И так как это были люди простые, да и болезни у них были простые, то дело лечения шло успешно.
Любили ли князя мужички — неизвестно; но так как недовольства никто никогда не заявлял, то этого было достаточно. Несколько чинно и как будто скучновато смотрела сельская улица, однако ж князь не препятствовал крестьянской веселости и даже по праздникам лично ходил на село смотреть, как девки хороводы водят. Но очевидно было, что сердце его все-таки преимущественно радовалось не хороводам, а тому, что везде пахнет печеным хлебом, а иногда и убоиной. Поэтому экономическое положение крестьян представлялось блестящим (не было нуждающихся уже по тому одному, что не представлялось физической возможности стать в положение нуждающегося), а веселость крестьянская являлась в умалении. Поэтому же, быть может, соседние крестьяне, не столь взысканные помещичьей попечительностью, называли крестьян села Благовещенского (имение князя) «идолами», и благовещенцы нельзя сказать, чтоб охотно откликались на это прозвище.
В момент, когда грянули первые отдаленные раскаты эмансипации, князю было уже под пятьдесят. Детей у него было двое. Дочь Варвара, лет двадцати пяти, которую он как-то забыл выдать замуж, и сын, Юрий, года на два моложе сестры, служивший в Петербурге в кавалерии. Дочь была очень скромная девушка, которая страстно любила отца и была необычайно добра к крестьянкам и дворовым девушкам. Она тоже понимала, что предки ее целовали кресты, и потому старалась поступать так, как, по свидетельству ее любимца, Вальтера Скотта, поступали на дальнем западе владетельницы замков: помогала, лечила, кормила бульоном, воспринимала от купели новорожденных, дарила детям рубашонки и т. п. Сын был покуда только офицер, а что из него выработается впоследствии, когда он наделает долгов, — этого еще никто угадать не мог.
Еще одна особенность: местные дворяне не любили князя. Он жил изолированною, занятою жизнью, не ездил в гости, не украшал своим присутствием уездных сборищ и пикников, да и сам не делал приемов, хотя имел хороший доход и держал отличного повара. В отместку за такое «неякшание» его постоянно выбирали попечителем хлебных магазинов*, несмотря на то, что он лично никогда не ездил на дворянские выборы. И ему стоило больших хлопот и расходов, чтоб избавиться от навязанной должности.
В 1862 году князь рассердился*, хотя крестьяне ничем его не прогневили. Реформа подействовала на него так оглушительно, что, казалось, мозги его внезапно перевернулись вверх дном. Он перестал понимать самые простые вещи. Когда он услышал, как все село разом заорало (нельзя было не орать: и батюшка, и становой приглашали), то почувствовал, что внутри у него что-то словно оборвалось. Однако ж он не стал дразниться и приставать, как большинство его соседей, а сразу счел все прошлое поконченным. Чтоб не устанавливать никаких отношений к крестьянам и не входить с ними ни в какие соглашения, он выписал из Кашина двух стрикулистов и передал им в руки уставное дело, а сам сейчас же нарушил барскую запашку, запродал три четверти живого инвентаря, заколотил большинство служб и распустил дворовых, кроме тех, которые не шли сами, или тех, без которых на первых порах нельзя было обойтись. И в заключение во все места послал заявления, что отныне существование его, ввиду возбуждения крестьян, представляется небезопасным.
Некоторое время он продолжал, однако ж, жить в усадьбе. Приезжал к нему из Петербурга двадцатидвухлетний поручик-сын и пробовал утешить старика, обнадеживая, что граф Иван Александрович надеется все повернуть на старую колею, но князь выслушал, на минуту просиял улыбкой и не поверил. Главное, он потерял веру в дворянство, которое, по его мнению, вело себя самым легкомысленным образом: сначала фрондировало, потом смирилось и, наконец, теперь судится с хамами у мировых посредников… эмиссаров Пугачева! Убеждения свои относительно роли, которую дворянство обязано играть в государстве, он успел привить и дочери, и, раз что «занятие» мужичком устранилось, разговоры о необходимости дворянского возрождения сделались единственным материалом, с помощью которого наполнялся обнаружившийся бесконечный досуг. Пробовали они приобщить к этим собеседованиям и молодого поручика, но последний охотнее рассуждал о кобыле и ее свойствах, и потому, как только расчувствовавшийся отец отсчитал ему, сверх положения, хороший куш, он счел себя вполне удовлетворенным и укатил в Петербург. Старый князь остался один на один с княжною и с экономкой Марфушей, которая, впрочем, исключительно занималась тем, что гнала из усадьбы приходивших с жалобами мужиков.
А стрикулисты между тем делали свое дело без послабления. Отрезывали леса и луга, а из остального устраивали крестьянские наделы (вроде как западни), имея при этом в расчете, чтоб мало-мальски легкомысленная крестьянская курица непременно по нескольку раз в день была уличаема в безвозмездном пользовании господскими угодьями, а следовательно, и в потрясении основ.
Когда все было покончено — следует заметить, что для введения уставной грамоты все-таки потребовалась команда, — началась борьба. Ее вели те же стрикулисты, но вели назойливо и неумело, так что гвалт от ежедневных перекоров, несмотря на все предосторожности, не мог не доноситься и до княжеской усадьбы. Князь сердился больше и больше, и в то же время все сильнее и сильнее укоренялось в нем убеждение о личной его небезопасности в соседстве «неблагодарных». Он тревожно прислушивался к каждому шороху, держал наготове заряженный револьвер, не тушил по ночам огней, худо ел, худо спал. Наконец в нем созрела странная мысль: отдать имение в аренду еврею и поселиться в городе. Ему почему-то казалось, что еврей лучше, нежели все возможные стрикулисты, сумеет отмстить за него; что он ловчее вызудит запутавшийся мужицкий пятак, чище высосет мужицкий сок и вообще успешнее разорит то мужицкое благосостояние, которое сам же он, князь Рукосуй, в течение столь многих лет неустанно созидал. Правда, что в то время еще не народилось ни Колупаевых, ни Разуваевых,* и князь не знал, что для извлечения мужицких соков не нужно особенно злостных ухищрений, а следует только утром разостлать тенета и уйти к своему делу, а вечером эти тенета опять собрать и все запутавшееся в них, связав в узел, бросить в амбар для хранения вместе с прочими такими же узлами.
Одним словом, ничем не мотивированное ожесточение князя против крестьян приняло с течением времени размеры какого-то бесконечного горячечного бреда, который одинаково был мучителен и для бредившего, и для тех, которые составляли предмет бреда.
Еврей сыскался. Один из разжившихся железнодорожников, статский советник Вооз Давыдыч Ошмянский, рекомендовал молодому князю своего собственного брата, Лазаря, который давно уже жаждал найти самостоятельный гешефт. Наружность Лазарь имел очень приличную. Это был еврей уже культивированный, понявший, что по нынешнему времени прежде всего необходимо освободиться от еврейского облика. Явился он в Благовещенское в щегольской гороховой жакетке, в цветном галстухе, с золотым пенсне на носу, выстриженный à la mal content[39], без малейшего признака пейсов. Он скромно рекомендовал себя русским Моисеева закона и говорил по-русски осторожно, почти правильно, хотя не мог сладить с буквою р, и, сверх того, вместо «что» произносил «ишто», вместо «откуда» — «ишкуда», вместо «в село» — «уфсело» и вместо «сделать» — «изделать». Сверх того, когда унывал, то приседал, а когда торжествовал, то начинал махать руками. Человек он был молодой, крупитчатый, с пунцовыми губами, пухлыми руками, с глазами выпяченными как у рака и с некоторою наклонностью к округлению брюшной полости. Но всего больше в нем понравилось князю, что когда он говорил о мужичке, то в углах его рта набивалась слюна, которую он очень аппетитно присасывал.
Не откладывая дела в дальний ящик, князь заключил с Ошмянским безобразнейший и исполненный недомолвок контракт и затем уехал из Благовещенского. Но для столиц он чересчур одичал, а Кашин — ненавидел, считая его прикосновенным к постигшей его катастрофе. Поэтому поселился в Бежецке. Там он выстроил дом, развел при нем сад и жил с дочерью, окруженный вымирающими стариками, да и сам постепенно дряхлея и впадая в ребячество. Посторонних людей он боялся и окончательно сделался отшельником. Утром запирался в кабинете и писал сочинение о необходимости учреждения «Общества Странствующих Дворян», на обязанность которого он возлагал хождение в народ с целью распространения здравых понятий о значении и роли дворянства в государстве. Около двух часов пополудни выходил к обеду во фраке и белом галстухе и ел изысканые блюда с изысканными названиями, вроде: «bombes de pommes de terre à la Sardanapal», «Purée de carrottes à la Jean le Terrible», «Oeufs sur le plat orné de soukharis à la Suwaroff»[40] и т. д. По вечерам занимался с дочерью столоверчением и вызыванием духов. Но и духов вызывал все таких, которые были прикосновенны к реформе: графов Ланского и Ростовцева, тайных советников: Левшина, Милютина, Соловьева и т. п. Он старался их убедить и усовестить, но успевал в этом только отчасти. Ланской и Ростовцев действительно как будто сознавались, что поторопились, Левшин не сознавался, но говорил: чем же я виноват? но Милютин и Соловьев являлись на зов неохотно и, явившись, ограничивались тем, что называли князя старым колпаком.*
Такой образ жизни представлялся столь странным, что бежецкие власти встревожились. В самом деле, человеку следовало бы жить или в столице, или в Кашине, а он живет в Бежецке, живет запершись, ни с кем не видится, даже в церковь не ходит; днем пишет какие-то записки, а по вечерам производит таинственные действия. Даже запоем не пьет, что все-таки было бы смягчающим обстоятельством. Разумеется, явилось желание внести свет в это загадочное существование, узнать, насколько оно согласуется с существующими на сей предмет предписаниями. Исполнение этой задачи принял на себя местный околоточный Терпенкин, который тут же схвастнул, что хотя он и значится по метрикам рожденным от притыкинского станционного смотрителя[41], но, в сущности, в это время названый отец его ездил за почтальона в Калязин, а мать оставалась дома одна, как вдруг в Притыкино прибыл князь проездом в имение…
В одно прекрасное утро в княжеский дом явился молодой человек лет тридцати, отрекомендовался местным околоточным надзирателем и, врасплох поцеловав у князя ручку, сразу стал называть его «папенькой». Князь изумился.
— Что такое вы говорите? — спросил он строго.
— А как же, папенька-с… Изволите помнить, в сорок третьем году в Притыкине… Так это я-с! — отозвался Терпенкин с невозмутимою душевною ясностью.
Князь покраснел и промолчал. Он вспомнил, что в Притыкине действительно что-то было, но никак не мог представить себе, чтоб из этого мог выйти околоточный надзиратель. Княжна, случайно присутствовавшая при этой сцене, тоже покраснела («однако ж maman была еще в это время жива!» — мелькнуло у нее в голове) и после того дня два дулась на отца. Но потом не только простила, но даже стала относиться к нему нежнее («вот у меня папа́-то какой!»).
Терпенкин, однако ж, добился своего. Начал ходить к князю с поздравлением по воскресеньям и праздникам, и хотя в большинстве случаев не допускался дальше передней, куда ему высылалась рюмка водки и кусок пирога, но все-таки успел подобрать с полу черновую бумагу, в которой кратко были изложены права и обязанности членов Общества Странствующих Дворян.
Находку эту бежецкие власти поспешили представить по начальству; но, вместо ожидаемого поощрения, получили от последнего вразумление, из которого явствовало, что если бы все жители Тверской губернии, подобно князю Рукосую-Пошехонскому, занимались составлением проектов о странствующих дворянах, то губерния сия давно была бы благополучна.
С тех пор князя оставили в покое…
А имение его между тем с каждым годом все больше и больше приходило в упадок. Еврей не дремал: рубил леса́, продавал движимость, даже всех крупных карасей в пруде выловил. Только внешний облик усадьбы оставался неприкосновенным, то есть парк, барский дом, теплицы и оранжереи, потому что князь требовал, чтобы в феврале у него непременно был на столе свой свежий огурец (salade de concombres à Roukossouy)[42]. Даже молодой князь ни разу не посетил усадьбы, хотя неоднократно грозился «обревизовать жида». Но Ошмянский всегда своевременно узнавал об этих угрозах и, для предупреждения опасности, отправлялся самолично в Петербург. Там он очень ловко пользовался денежными затруднениями молодого человека и за ничтожные суммы получал от него разрешения на продажу лесов. Разрешения эти сами по себе не имели законной силы, но Лазарь знал, что если старый князь и узнает об них, то «повести дела» не захочет. Сверх того, он охотно давал молодому человеку и взаймы, так что в конце концов у него оказалась порядочная груда векселей, которые и писались и переписывались из года в год. На последних по времени уже красовалась подпись: генерал-майор князь Рукосуй-Пошехонский. Очевидно, молодой человек (ему было в описываемую эпоху с небольшим сорок лет) преуспел.
Но выжимать сок из крестьян Ошмянскому удалось только в течение первых двух лет, потому что после этого на селе пришли в совершенный разум свои собственные евреи, в лице Астафьича, Финагеича и Прохорыча, которые тем легче отбили у наглого пришельца сосательную практику, что умели действовать и калякать с мужичком по душе и по-бо́жецки.
Когда мы приехали в Благовещенское, в нем не осталось уже и следов прежней зажиточности. Избы стояли почерневшие, покривившиеся, с полуразрушенными дворами, разоренными крышами и другими изъянами. Вдали, на пригорке, виднелось крестьянское стадо, малорослое и малочисленное. По пустынной улице без пути ходили одинокие петухи и тщетно сзывали кур. Только пять-шесть исправных домов блестели на солнце новыми тесовыми крышами; очевидно, они принадлежали упомянутым выше Финагеичу и Прохорычу и еще кое-кому из сельских властей. В селе было три кабака: один при въезде, другой — при выезде, третий — в центре, на базарной площади. Ни направо, ни налево сельчанину нельзя было выйти, да и посередке усидеть трудно: везде и распивочно и навынос — как хочешь.
В одном из этих кабаков (центральном), при котором было так называемое «чистое» отделение, остановились и мы.
XXVI*
Оставивши товарищей на селе, мы с Глумовым направились в усадьбу. Арендатор стоял на крыльце княжеского дома (он занимал нижний этаж) и толково объяснял мужичку, почему именно ему выгоднее быть слопанным им, евреем, нежели Астафьичем, который тоже разевал на мужичка пасть. Мужичок чесался и повторял: «что́ говорить! известно, выгоднее!» — но в самой его манере чесаться было видно, что он так только, из вежливости, «подражал» еврею, а в сущности замышлял измену. А Ошмянский, проникая его мысль, говорил: «вашему брату тоже пальца в рот не клади…»
Узнав о цели нашего приезда, Ошмянский сначала не понял и присел. Но когда мы объяснили ему, что мы странствующие дворяне, предпринявшие подвиг самосохранения, и с этою целью предлагающие свои услуги всем евреям, желающим обратиться на истинный путь, и когда Глумов как бы невзначай махнул у него под носом синей ассигнацией,* то он выпрямился и радостно замахал руками. Ассигнация же в это время исчезла без остатка.
Оказалось, что со стороны Ошмянского была предпринята целая комбинация. Объектом ее был, впрочем, не он лично, а один его бедный родственник, Мошка, которого он из сострадания приютил у себя. Вообще предприятие было очень запутанное, и впоследствии одна газета совершенно справедливо выразилась об нем так: вот горький, но вполне естественный плод ложного положения евреев во внутренних губерниях России!
Дело в том, что Лазарь, как некрещеный еврей, не имел права самостоятельно жить в Кашинском уезде,* и ежели его до сих пор не тревожили, то единственно только по упущению. Но бессрочно надеяться на упущения невозможно, тем более что Астафьич, Финагеич и Прохорыч успели кой-что пронюхать и вследствие этого начали похваляться и угрожать. Ошмянский заметался и призвал на помощь всю остроту ума; но как он ни приседал, какие ни придумывал извороты, перспектива в будущем представлялась одна: обязательное выселение по первому извещению любого из Финагеичей. Правда, что он уж был сыт по горло и даже сам нередко мечтал пуститься в более широкое плавание, но оставалась еще одна какая-то невырубленная пустошо́нка, и он чувствовал смертельную тоску при одной мысли, что она выскользнет у него из рук. Поехал он в Кашин к стрикулистам, и там ему дали совет. Оказывалось, что если у него найдется родственник, который согласится перейти в христианство, то сто́ит только обделать это дело, и Лазарь получит право жить у этого родственника в гостях бессрочно и невозбранно. Натурально, Ошмянский вспомнил об Мошке и, не откладывая дела в дальний ящик, решился при помощи Мошки устроить кощунственный гешефт.
Мошка согласился с радостью, но выговорил, чтобы сверх похлебки из фасоли, которою он в качестве бедного родственника исключительно питался, ему давали ежедневно еще по две головки чесноку. Мало того, он до такой степени распалился ревностью, что стал приставать к рабочим, чтоб они при встрече с ним показывали свиное ухо, что последние охотно и исполняли.
Для того чтоб Мошкин энтузиазм не простыл, Ошмянский нанял в Кашине старого, изверженного из сана за пьянство, дьякона, Мину Праздникова. Дьякон взял с него недорого: два с полтиной за всю выучку и, сверх того, по полуштофу пенного в день, ибо, по преклонности лет, более вместить уж не мог. Но так как он, от старости и вина, до того обезумел, что и сам все перезабыл, то приступил к делу чрезвычайно странно. Во-первых, для начала заставил Мошку съесть углицкую колбасу и, во-вторых, сказал: а теперь кричи «ура!». Мошка колбасу съел и попросил еще; потом крикнул «ура» раз, другой — и это ему тоже понравилось. Вследствие этого, будучи, по случаю предстоящей перемены в судьбе, уволен от занятий в конторе, он по целым дням слонялся с изверженным дьяконом по парку, рвал зубами колбасу и кричал «ура»,
Когда Мошка совсем освоился с колбасой, тогда изверженный дьякон, который полюбил его, как родного сына, сказал:
— Мошка! видел я давеча, что Лазарь пятиалтынный на столе в зале оставил. Поди и унеси его, а унесши, сбегай к Финагеичу и купи косушку пенного. Хочу тебя к сивухе приучить.
Так Мошка и сделал. Половину косушки Мина Праздников выпил сам, а другую половину почти насильно вылил Мошке в горло. И когда поздно вечером они возвращались из парка домой и Мошка совсем без пути орал, то Мина, усмотрев в лице Ошмянского укоризненное выражение, объяснил:
— Это ничего. Это от избытка чувств!
Через месяц, когда Ошмянский осведомился у Праздникова, каковы успехи делает его ученик, изверженный дьякон, предварительно хлопнув Мошку ладонью по лбу, кратко, но вразумительно ответил:
— Башка!
Разумеется, Ошмянский прежде всего обратился с просьбой о восприемничестве к князю и к княжне. Но князь был в это время до того погружен в пререкания с духом тайного советника Соловьева по делу о несвоевременности крестьянской реформы, что вряд ли даже понял, о чем Лазарь его просит. Что же касается до княжны, то она сначала согласилась и даже приступила к кройке и шитью ризок, но когда узнала, что Мошка большой, то покраснела и отказалась наотрез. Лазарь очутился в большом затруднении вследствие этой неудачи и уже подумывал, не пригласить ли в кумовья Прохорыча, а в кумы — Финагеичеву жену. Этим смелым шагом он рассчитывал достигнуть примирения с обоими сельскими магнатами, а впоследствии даже заключить с ними союз с тем, чтоб соединенными силами ударить на Астафьича и утопить последнего в ложке воды.
В таком положении находилось дело, когда мы приехали в Благовещенское. Мина Праздников уже целых шесть недель проживал в усадьбе и все говорил, что Мошка еще не готов. Лазарь начинал тяготиться этими проволочками. Правда, старик не требовал увеличения гонорара, но он съедал харча, по малой мере, на двадцать копеек в сутки, да, сверх того, ежедневно выпивал условленный полштоф, а это тоже денег стоило. Да и Мошка набаловался при нем: стал поворовывать, пить, буянить и вообще вести себя подобно охотникам-рекрутам, покуда не крикнут им: лоб! «Ах, кабы поскорее сбыть с рук это дело, — рассуждал сам с собою Лазарь, — а там уж я Мошку подтяну! Я ему, подлецу, всякую головку чесноку припомню! Я на нем вымещу, я его…» Но вдруг в голове его промелькнула изумительная мысль: «А что, ежели Мошка возьмет да скажет: довольно вы у меня, Лазарь Давыдыч, в гостях пожили! хочу я теперича, чтоб вы уехали обратно в Ошмяны?!» При этом предположении Лазарь не только присел, но и глаза зажмурил. «Ишто́ я тогда с ним изделать буду!» — затосковал он, рассчитывая по пальцам, сколько Мошка, со дня рождения, одного хлеба у него съел, не говоря уже о фасоли и чесноке.
Вообще у Ошманского было много забот, которые отравляли его существование. И прежде всего, громадное семейство. Жена его, Рахиль, почему-то Францовна (он звал ее: Рахэль), народила ему целую охапку детей. Каждому предстояло приготовить гешефт, а для гешефта деньги. Деньги, разумеется, найдутся — он это знал… но вдруг их у него отнимут! Не взломом, не разбоем — боже упаси! — а просто скажут: нажил деньги, а теперь отдавай!.. «ай вай, ишто́ тогда из нами будет!» Что́ будет с Эвелем, с Рувимом, с Борухом, с Зельманом, с Лейбою, с Ицеком, с Сарой, с Агарью, с Ребеккой и, наконец, с маленькой Эсфирью, которую, за ее роскошные рыжие кудри, называли Уриевой женой?* Конечно, он бо́льшую часть капитала припрятал, но ведь бывает и так, что спрятать спрячешь, а потом не знаешь, как и достать. Спрятал он их, например, уф в банк, а сам, по манию генерал-майора Отчаянного, очутился уф в Америке… доставай оттуда! переписывайся! доказывай!
Эта мысль ужасно его мучила. Даже ночью он видел перед собой беду как живую, вскакивал с постели, обливался холодным потом и проклинал… Припоминал он, как полководцы*, приезжавшие к его брату, финансовому тузу, занимать деньги, говаривали: «А что́ бы вам, Вооз Давыдыч… право! махнитека… а?» И Вооз Давыдыч не обрывал их, а только скромно возражал, что «покуда» еще не предвидится надобности… Покуда! стало быть, когда-нибудь надобность все-таки может прийти? Припоминал он также, как однажды один из полководцев, в первый раз увидев его у брата, сказал: «А тебя, пархатый, хочешь, сейчас к Татьяне Борисовне свезу?» Припоминал он все это и проклинал, проклинал без конца. И чем больше проклинал, тем жаднее набрасывался на гешефты, сосал, грыз, рвал…
Заветнейшею его мечтою было заполучить железную дорожку. Сначала… хоть узкоколейную. Вот кашинские патриоты давно уж ропщут, что размаху им не дают — на что бы лучше! А не то можно и из Углича линийку провести. Капитал у Лазаря есть; не громадный, правда, но ведь не в капитале сила, а в том, чтоб иметь под рукою запас дураков. А в этом отношении Вооз поможет. Денег не даст, но пути укажет и дураков подыщет… А что, если он проект-то выведает, да сам для себя дорожку и отхлопочет? И останется он, Лазарь, в дураках… Ах, брат! брат! неужто ты это сделаешь? неужто ты еще не сыт?
А железнодорожное дело он знает: еще подростком он служил сряду несколько лет на одной дороге, сперва на побегушках, потом в писарях, а наконец и десятником. В то время строителем дороги был молодой инженер, который его все палкой по голове бил, — вот его он и сделает главноуправляющим своими дорогами. От него он «науку» узнал, ума набрался, а теперь может и сам что угодно выстроить. И рабочих он дешево наймет, а коли дорожиться будут, то обсчитает… нет, пускай уж лучше дешево наймет! А впрочем, обсчитать, пожалуй, выгоднее. Не по одиночке, а непременно разом всех. По одиночке — пожалуй, заплатить присудят, а когда все разом будут расчета требовать, то выйдет бунт, а там как раз и неповиновение властям…
«А игде же у нас гаспадин исправник тут?»
И вот он выстроил одну дорожку, выстроил другую и окончательно основался в Петербурге. Купил в Большой Морской дом, прямо против дома Вооза; оба по две француженки содержат, оба на приюты жертвуют. И ездят друг к другу: я — к нему, он — ко мне. Летом он посещает Эмс, чтобы легче экспекторировать*, в сентябре едет купаться в Трувиль, потом в Париж, в Ниццу… И везде ему скучно. Везде его преследует представление о какой-то фантастический еде, которая ему приличествует и которую он не может назвать, о какой-то женщине с диковинным секретом, за который он дорого бы заплатил, но который еще сама природа покуда не догадалась создать… А инженер между тем дороги ему строит. Заглянет он, между делом, в Петербург и обревизует счеты. Потом задаст полководцам тонкий обедец, а после обеда в зубах ковыряет. И опять в Ниццу, в Париж… И вдруг опять… эта ужасная мысль! Едят у него полководцы, чествуют гостеприимного хозяина, хвалят вино, сигары; но вот один из них отделяется и дружески хлопает его по коленке: «А что́ бы вам, Лазарь Давыдыч, тово… махни-ка, брат… а?» Лазарь бледнеет от злобы, но и в мечтах не может отыскать приличный ответ. Такой ответ, чтоб был храбрый. И убеждается, что даже наверху благополучия ему нет другого выхода, кроме как проклинать…
О восстановлении иудейского царства он не мечтал: слишком он был для этого реалист. Не мог даже вообразить себе, что он будет там делать. Ведь Иерусалима, наверное, не отдадут, разве вот Сихем — так уж лучше в Кашинском уезде у Мошки в гостях жить. Конечно, и в Сихем можно мамзель Жюдик выписать… Никогда он Жюдик не видал, но, будучи сладострастен, распалялся на веру. Давно уж он понимал, что Рахэль ему не пара. А притом слишком уж часто родит. Поэтому в мечтах о предстоящей привольной жизни в Петербурге он постоянно отделял в предполагаемом собственном доме особый апартамент для себя. Рахэль, с детьми, гувернантками и гувернерами, он поместит в бельэтаже; подыщет троих действительных статских советников, которые будут составлять ей партию в винт, а сам поселится в rez de chaussée[43] и будет принимать Жюдик. Лопочет Жюдик, как оглашенная, по-французски, а он с полководцами сидит и хохочет. А чему хохочет — не знает.
По временам перед ним восставало его далекое детство. Ах, что такое там было… ффа!! Родился он в Ошмянах, в полуразвалившейся хижине, выходившей своими четырьмя окнами в улицу, наполненную навозом. Отец его был честный старый еврей, ремеслом лудильщик, и буквально помирал с голоду, потому что лудильщиков в городе расплодилось множество, а лудить было нечего. Но старик бодрился. Он не изменял завету предков, не снимал с головы ермолки, ни длиннополого заношенною ламбсердака с плеч, не обрезывал пейсов и по целым вечерам, обливаясь слезами, пел псалмы, возвещавшие и славу Иерусалима, и его падение. Он был один из тех бедных, восторженных евреев, которые, среди зловония и нечистот уездного городка, умеют устроить для себя мучительно-возвышенный мираж, который в одно и то же время и изнуряет, и дает силу жить. Лазарь и теперь еще как живого представлял себе этого сухого старика, который до самой смерти не переставал стучать паяльником, добывая кусок для одолевавшей его семьи.
Но к воспоминаниям об отце он относился как-то загадочно, как будто говорил: а кто же ему велел зевать! И Вооз был в отрочестве лудильщиком, и он, Лазарь, тоже. И теперь еще есть у него в Ошмянах два родных брата в лудильщиках, и он собирается послать им пятьдесят целковых, да все забывает. Но Вооз рано прозрел, а за Воозом через несколько лет прозрел и Лазарь. Вооз сразу пошел ходко; выхолился, вычистился, выказал недюжинные способности, завел прическу à la Capoul* и понравился банкирше. А там подошел хороший гешефт, он нырнул… и вынырнул; потом опять вынырнул и опять. Теперь живет чуть не в десяти дворцах — во всех мало-мальски стоящих европейских городах по одному, — завел льстецов и непусто уж не плюнет — извините! Лазарь же хоть и не столь преуспел, а все-таки сумел уничтожить тот особливый наружный облик, который запирает еврею вход в жизнь. Он ходит в жакетке, причесывается à la mal content, a захочет, так отпустит волосы и пробор посредине головы изваяет. Вообще он пожаловаться на судьбу не может. Хоть и далеко ему до брата, но…
Покуда таким образом перед умственными нашими взорами развертывалась жизнь Ошмянского, он пригласил нас в дом. Но повел нас не в нижний этаж, где ютилось его семейство и откуда неслись раздирающие крики малолетних евреев, а наверх, в комнаты, выговоренные князем для себя, на случай приезда. Мы вошли в обширное, вполне барское помещение, в котором, впрочем, сохранилось уж очень мало мебели. Высокие парадные комнаты выходили окнами на солнечную сторону; воздух был сухой, чистый, легкий, несмотря на то, что уж много лет никто тут не жил. Лазарь выводил нас везде и не переставая жаловался.
— Одних дров сажен сто на отопление этих сараев в год выходит, — говорил он, — да сколько на оранжереи да на теплицы! И все это я должен своими дровами отоплять! Доказывал я молодому князю, что гораздо было бы выгоднее верхний этаж снять, и даже деньги хорошие предлагал, а он старика боится. Думает, что здесь умереть захочет, да где уж! А тут одного кирпича сколько — подумайте! Да и нижний этаж облегчился бы, а чтобы в нем жить было веселее, я бы и парк вырубил — вон хоть до тех пор (он показал пальцем что-то далеко). Подумайте, какие деревья — дубы, лиственницы, кедры есть! — сколько тут добра! И все пропадает задаром. А в особенности оранжереи — вот они у меня где сидят! Садовники народ балованный, а им жалованье плати. Кто плати? — все я. А уничтожьте эти ненужные затеи — сколько одного кирпича! Старик ничего этого во внимание не берет, а я отдувайся!
Пожаловавшись, рассказал нам изложенные выше подробности о старом князе и выразил надежду, что с его смертью легче будет с наследником дело иметь. Любит он, Лазарь, нынешнюю молодежь — такая она бодрая, дельная! Никаких сантиментов: деньги на стол — и весь разговор тут.
— А у старика, я знаю, есть капитал, — прибавил он, — только он бо́льшую часть дочери отдаст, а та — в монастырь… Вот тоже я вам скажу (он тоскливо замотал головой)! Ежели бы я был правительство, я бы…
— Но так как вы правительством никогда не будете… — строго прервал его Глумов, но не кончил, потому что Лазарь при первых же звуках его голоса до того присел, что мы с минуту думали, что он совсем растаял в воздухе. Однако ж через минуту он опять осуществился. — А имение перейдет к сыну, — продолжал он, — вот тогда…
И в знак восторга замахал руками, как дореформенный телеграф.*
Между тем сквозь открытые окна, снизу из стряпущей, до нас доносились съестные запахи. Пахло жареным луком, кочерыжками и чем-то вроде мытого белья. Последний запах издавал жареный гусь, которому, по преклонности лет и недугам, оставалось жить всего двадцать четыре часа и которого Ошмянский, скрепя сердце, приказал зарезать. Поэтому-то, быть может, так и ревели внизу маленькие евреи, не подозревая, что Лазарь решил в уме своем наградить гусем не всех, но лишь достойнейших. Одну минуту мы думали, что радушный хозяин и нас пригласит хлеба-соли отведать, да он и сам уже начал:
— А может быть, вы изделаете мне удовольствие…
Но сейчас же испугался и, чтоб окончательно не возвращаться к этому предмету, убежал на балкон, где некоторое время обмахивался платком, чтоб прийти в себя. Наконец он кликнул работника, чтоб разыскал Мошку и Праздникова, и позеленел от злости, узнав, что оба еще накануне с вечера отправились за двадцать верст на мельницу рыбу ловить и возвратятся не раньше завтрашнего утра.
Приходилось ждать на селе. Впрочем, для нас это было даже приятно. Ни дел, ни занятий впереди не предстояло; разве вот под суд отдадут, так для этого мы всегда куда следует вовремя поспеем. А между тем наступали светлые, сухие дни, какими иногда сентябрь награждает наш север. Хотя днем солнце еще порядком грело, но в тени уже чувствовалась свежесть наступающей осени. Воздух был необыкновенно прозрачен, гулок и весь напоен ароматами созревающих овощей и душистых огородных трав. В подросшей за лето траве еще стрекотали кузнечики, а около кустов и деревьев дрожали нити паутины — верные признаки предстоящего продолжительного вёдра. Листья еще крепко держатся на ветках деревьев и только чуть-чуть начинают буреть; георгины, штокрозы, резеда, душистый горошек — все это слегка побледнело под влиянием утренников, но еще в полном цвету; и везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки. Кругом — простор, тишина, грудь не надышится. Каждая птица в небе видна, каждый удар цепа на гумне слышен; белая церковь на пригорке так и искрится; вода в пруде — как хрусталь. Чудно, чудно, чудно. А в Петербурге, быть может, в это самое время в воздухе порхает уж изморозь, и улицы наполнились тою подлою слизью, которая в одну минуту превращает пешехода в чушку. Чиновники уж переехали с дач; во всяком окне виднеется по бабе, перетирающей на зиму стекла; начинают подтапливать печи, готовить зимние рамы. Статский советник Дыба уж закашлял и будет всю зиму закатывать, а сосед его, статский советник Удав,* всю зиму будет удивляться, как это Дыбу не разорвет, а сам в то же время станет благим матом кричать: ах, батюшки, геморрой!!
Убедившись, что мы не заявляем ни малейших претензий на жареного гуся, Ошмянский повеселел и с удовольствием согласился сопровождать нас по парку. Парк был большой и роскошный, именно такой, какие иногда во сне снятся и о которых наяву говорят: вот бы где жить и не умирать! Нельзя сказать, чтоб Ошмянский содержал его исправно, но так как главную его красу составляли мощные деревья, то под сению их растительность на дорожках и без чистки пробивалась туго. Беседка была всего одна, на берегу большого пруда, но без портиков и без надписей. Ни насыпных холмов, ни искусственных провалов, ни мостиков, ни мостов, ни статуй с отбитыми носами и руками не было. Вообще замечалось полное отсутствие затейливости и сантиментальности; только на одной старой дуплястой березе были вырезаны французские буквы: D. S. По свидетельству Ошмянского, эти инициалы были вырезаны княжною и означали: Дементий Саво́ськин — имя и фамилия землемера, приезжавшего в Благовещенское для поверки меж. Савоськин имел черные кудри, которые очень холил, хотя начальство не раз сажало его за них на гауптвахту и стригло под гребенку. Княжна видела землемера только издали и никогда не молвила с ним ни слова, но кудри его произвели на нее впечатление. Впрочем, весь сердечный переполох, произведенный Савоськиным, выразился единственно в том, что княжна очень осторожно узнала имя и фамилию землемера и нежнее, нежели обыкновенно, поцеловала в этот день старика отца. Затем ушла в дальнюю аллею, вырезала на березе заветные буквы и взгрустнула…
Весь остальной день мы занимались статистикой. Ходили по крестьянским дворам, считали скот и домашнюю птицу, приводили в известность способы питания, промыслы, нравы, обычаи, но больше всего старались разузнать, можно ли рассчитывать на политическую благонадежность обывателей и на готовность их отстаивать основы. В результате изысканий оказалось следующее:
Жителей в селе Благовещенском 546 душ мужеского пола, из коих половина в отходе. Женщин никто не считал, и количество их определяется словом: достаточно.
Дворов — 123. Жители — телосложения крестьянского, без надежды на утучнение. Домов, имеющих вид жилищ и снабженных исправными дворами, семь; прочие крестьянские избы обветшали; дворы раскрыты, ворота поломаны, плетни растасканы. Вероисповедания — обыкновенного.
Скотоводство и птицеводство. Лошадей в селе 57; из них 23 принадлежат местным Финагеичам, а 34 приходятся на остальные 116 дворов. Коров 124, из коих 26 принадлежат Финагеичам. Кур и петухов 205 штук.*
Промыслы. Половина населения уходит в Москву и в приволжские города, где промышляет по трактирной части и уплачивает за все село казенные сборы. Воров в селе считают двадцать четыре человека.
Торгуют крестьяне гвоздями, вытаскиваемыми из стен собственных изб, досками, выламываемыми из собственных клетей и ворот, сошниками собственных сох, а равно находимыми на дороге подковами. Все сии товары сбываются ими местным Финагеичам в обмен на водку.
Питание. Жители к питанию склонны. Любят говядину, свинину, баранину, кашу с маслом и пироги. Но способов для питания не имеют. А потому довольствуются хлебом и заменяющими оный суррогатами. Нужно, впрочем, сказать, что и Финагеичи, обладающие достаточными средствами, налегают преимущественно на суровую и малопитательную еду, лишь бы живот наедался. Самоваров на селе 8.*
Нравов и обычаев не имеется, так как таковые, еще при крепостном праве, уничтожены, а после того, за объявлением воли вину, не успели народиться. К числу нравов и обычаев, признаки которых уже до известной степени обозначились, следует отнести: во-первых, стремление к увеличению государственного дохода посредством посещения кабаков и, во-вторых, правило, на основании которого обыватель, взявший весной у Финагеича полпуда муки, осенью возвращает пуд и сверх того, на гулянках, убирает ему полдесятины луга.
Политическая благонадежность обывателей безусловно хороша, чему много способствует неимение в селе школы. О формах правления не слышно, об революциях известно только одно: что когда вводили уставную грамоту, то пятого человека наказывали на теле*. Основы защищать — готовы.
Статистика вышла коротенькая, скудная цифровыми данными и, может быть, даже неверная, так что, по совести говоря, каждый из нас мог бы написать ее, сидя где-нибудь в Разъезжей и не бывши в Благовещенском. Да так, вероятно, и пишется большинство статистик, а публицисты делают из них неверные выводы и пишут неверные передовые статьи. Вот почему цензурное ведомство и предостерегает: об одном не пиши, об другом помолчи, а об третьем совсем позабудь. Потому что писать надобно так, чтобы верно было.
Тем не менее когда прочитал нашу статистику Прохорыч (у которого мы остановились), то он остался так доволен, что воскликнул: «Верно! именно так! именно нужно нашему брату почаще под рубашку заглядывать!*» Но из чего этот новоявленный публицист вывел такое заключение, сказать не умею.*
В трудах наших по статистическим изысканиям оказывал существенную помощь и Ошмянский, о чем и считаю долгом здесь засвидетельствовать, принося почтеннейшему Лазарю Давыдовичу, от лица своего и своих товарищей, искреннейшую признательность за его просвещенное и притом безвозмездное содействие.
Ночью опять являлся во сне Глумову Стыд. «И даже сказал что-то, но вот хоть убей — не упомню!» — рассказывал мне Глумов. Да и со мной что-то было: моментально я почувствовал, что меня вдруг как бы обожгло. Очевидно, это было предостережение.
— Надо, братец, спешить! — торопил меня Глумов.
Куда спешить? — мы и сами, признаться, не отдавали себе отчета. Предприняв подвиг самосохранения и не имея при этом иного руководителя, кроме испуга, мы очень скоро очутились в таком водовороте шкурных демонстраций, что и сами перестали понимать, где мы находимся. Мы инстинктивно говорили себе только одно: спасаться надо! спешить! И без оглядки куда-то погружались и всё никак не могли нащупать дна… А между тем дно было уже почти под ногами, сплошь вымощенное статьями уголовного кодекса…
Проснулись мы очень рано. Пастух гнал по улице стадо; бабы, растрепанные, заспанные, бежали, с прутьями в руках, за коровами, которые останавливались везде, где замечались признаки какой-нибудь растительности. Пыль густым облаком стояла над селом, переливаясь радугой под лучами только что вспыхнувшего востока. Мы направились в парк: Ошмянский, очевидно, еще спал, но у пруда уже мелькали человеческие фигуры. К величайшему нашему удивлению, это оказались Праздников и Мошка. Оба, засучив штаны, бродили по краям пруда и ловили бреднем мелких карасиков.
Праздников — высокий, коренастый мужчина, с громадной головой, на которой только на нижней части затылка уцелели седые волосы. Прожил он на свете восемьдесят годов, но на вид ему можно было дать не больше шестидесяти, несмотря на безмерное питие. Выражение его лица было почти безумное, чему, впрочем, много содействовали незрячие глаза, из которых на одном уже совсем наспел катаракт, а на другом назрел только вполовину. Говорил он низким басом, но с неприятными переливами, которые обыкновенно являются следствием продолжительных запоев. Щеки имел красные, нос жирный, разрисованный под мрамор, руки исполинские, покрытые волосами и синими узлами жил. Одет был в длиннополый подрясник, на манер причетнического, несмотря на то, что ношение этой одежды было ему, как изверженному, воспрещено.
Мошка представлял совершеннейший контраст Праздникову. Это был совсем мизерный человечек, крохотный, худенький, узкоплечий, с колючими глазками и бледным, старчески измятым личиком. Видом своим он напоминал припущенного к выводку цыпленка, которого наседка-мачеха исклевала насквозь. И голос у него был отчасти детский, отчасти птичий. При первом же взгляде на него являлось убеждение, что он голоден, но что, как его ни корми, никакая пища не пойдет ему впрок. Праздников уверял, что у него внутри гнездо.
— Где у прочих желудок, а у него гнездо, — говорил он, — вот оно распространения пище и не дает.
И действительно, даже в эту самую минуту жестокость, с которою он выдирал запутавшуюся в ячейках бредня рыбешку, была поразительна. Он дергал рыбу, мял ее, вызорачивал ей жабры, и ежели не ел тут же живьем, то потому, что спешил как можно больше изловить, опасаясь, как бы не застигнул Лазарь и не отнял.
Увидевши нас, Мошка весь затрепыхался и чуть было не утонул.
— Рыбу ловите? — спросил я, чтоб вступить в разговор.
— Да, вот будущего выкреста кормить буду, — ответил Праздников, — я-то, признаться, не ем. Аппетита не имею — давно уж он у меня пропал. А у него гнездо внутри, так словно в прорву… Наловим малую толику, а потом уйдем в лес и испечем.
Мы легко объяснились насчет цели нашего приезда в Благовещеское, но когда узнали, как странно поступал в этом деле Праздников, то так и ахнули.
— Знаете ли, чему вы за это подвергаетесь? — с азартом накинулся я на него. — Что вы такое наделали? разве таковы правила, на основании которых в данном случае надлежит поступать?
Но Праздников, по-видимому, даже не понимал, в чем дело.
— Каки таки правила, — удивлялся он, — кабы он был человек, а то… жид! да и жид-то какой… клоп! Мошка! раздевайся!
Сначала Мошка было заметался; но фатум, очевидно, уже тяготел над ним, и он разделся…
— Вот ведь он какой! — воскликнул Праздников, ткнув в него пальцем, — а вы о каких-то правилах толкуете… правила!
С этими словами он раздвинул правую пятерню и, ущемив Мошку за ребра между первым и указательным перстами, поднял его на воздух.
Это было движение фатальное. Оттого ли, что старческая рука ослабла, или оттого, что Мошка непокойно держал себя «между перстов», как бы то ни было, но тело его моментально выскользнуло из дьяконской пятерни и громко шлепнулось в воду. Не успели мы опомниться, как злосчастный Мошка испустил раздирающий крик, затем сделал два-три судорожных движения в воде… и смолк.
Это была уже уголовщина.
Я взглянул на Глумова и встретил и его устремленные на меня глаза. Мы поняли друг друга. Молча пошли мы от пруда, но не к дому, а дальше. А Праздников все что-то бормотал, по-видимому, даже не подозревая страшной истины. Дойдя до конца парка, мы очутились на поле. Увы! в этот момент мы позабыли даже о том, что оставляем позади четверых верных товарищей…
Перед нами лежали три сказочные дороги: прямо, направо и налево…
XXVII*
Замечательно, что раз человек вступил на стезю благонамеренности, он становится деятелен, как бес. Бежит во все лопатки вперед, и уже никакие ухищрения либерализма, как бы они ни были коварны, не остановят его. Подставьте ему ножку — он перескочит; устройте на пути забор — перелезет; киньте поперек реку — переплывет; воздвигните крепостную стену — прошибет лбом.
Около полдён мы были уже в Бежецке…
Нас самих это изумило. Вот уже третий город Тверской губернии, в который бросает нас судьба. Зачем? Не хочет ли она дать нам почувствовать, что мы посланы в мир для того, чтоб издать статистическое описание городов Тверской губернии? Ведь существует же мнение, что всякий человек с тем родится, чтоб какую-нибудь задачу выполнить. Один — для того, чтоб опустошить огнем и мечом, другой — для того, чтоб* опустошенное восстановить*, третий, наконец, для того, чтоб написать статистическое описание города Череповца. Я лично знал человека, который с отличием окончил курс наук, и потом двадцать лучших лет жизни слонялся по архивам, преодолевал всякие препятствия, выслушивал от архивариусов колкости — и, в конце концов, издал сочинение под названием «Род купцов Голубятниковых». И в тот самый день, когда был выдан из цензурного комитета билет на выпуск книги, умер. Или, говоря другими словами, все земное совершил.
Как бы то ни было, но я решительно уклонился от осмотра бежецких достопримечательностей и убедил Глумова прямо отправиться на станцию железной дороги, с тем чтобы с первым же поездом уехать в Петербург. Однако ж и на этот раз случилось обстоятельство, которое удержало нас в прежней фантастической обстановке.
В станционном зале мы нашли многочисленную компанию, которая ела, пила и вела шумную беседу. По объяснению буфетчика, компанию составляли представители весьёгонской интеллигенции, которые устроили кому-то проводы. Не успели мы проглотить по рюмке водки, как начались тосты. Застучали стулья, пирующие встали, и один из них звонко и торжественно провозгласил:
— За здоровье нашего русского Гарибальди!
Мы невольно обернулись и — можете себе представить наш испуг! — в самом челе стола, в роли виновника торжества, увидели… Редедю!
Трудности египетского похода нимало не изменили его[44]. По-прежнему лицо его было похоже на улыбающийся фаршированный сычуг; по-прежнему отливала глянцем на солнышке его лысина и весело колыхался овальный живот; по-прежнему губы припухли от беспрерывного закусывания, а глаза подергивались мечтательностью при первом намеке об еде. Словом сказать, по-прежнему все в нем было так устроено, чтоб никому в целом мире не могло прийти в голову, что этот человек многие царства разорил, а прочие совсем погубил…
Разумеется, мы сейчас же присоединились к сонму чествователей.
В два слова Редедя рассказал нам свои похождения. Дело Араби-паши не выгорело. Это ему Редедя на первом же смотру предсказал. — Представьте себе, вывели на смотр войско, а оно три дня не евши; мундирчики — в лохмотьях, подметки — из картонной бумаги, ружья — кремневые, да и кремней-то нет, а вместо них чурки, выкрашенные под кремень. «Поверишь ли, — говорит Араби, — все было: и сухари, и мундиры, и ружья — и всё интендантские чиновники разворовали!» — Да позволь, говорю, мне хоть одного, для примера, повесить! — «Нельзя, говорит, закона нет!» — Это в военное-то время… закон!! Впрочем, и это бы еще ничего, а вот что уж совсем худо: выправки в войске нет. Им командуют: ребята, вперед! — а они: у нас, ваше благородие, сапог нет! — Ну, натурально, стали отступать. Отступали-отступали, наконец смотрю: где войско? — нет никого! — Насилу удрал. — А теперь Редедя возвращается из поездки по Весьёгонскому уезду, куда был приглашен местной интеллигенцией для чествования, в качестве русского Гарибальди.*
— Да здравствует русский Гарибальди! — крикнули в один голос весьёгонские интеллигенты.
Они имели вид восторженный. Будучи от природы сжигаемы внутренним пламенем и не находя поводов для его питания в пределах Весьёгонского уезда, они невольно переносили свои восторги на предприятия отдаленные, почти сказочные, и с помощью воображения успевали обмануть себя. Даже теперь, в виду несомненного поражения Редеди, они не лишали его доверия и продолжали уповать, что когда-нибудь он их разутешит. И вот, обездоленные всевозможными бреднями и антибреднями, они не задумываются на последние гроши выписать Редедю, чтобы хотя по поводу египетских дел излить ту полноту чувства, которая не нашла себе удовлетворения ни в вопросе о заготовлении белья для земских больниц, ни в вопросе об установлении на мостах и переправах однообразных и необременительных такс…
Они не производят ни плисов, ни миткалей; поэтому открытие пути в Индию отнюдь не может непосредственно их интересовать. Но они испытывают адскую скуку, и вследствие этого Редедя, который всю жизнь тормошился и никогда не унывал, вызывает в них восторг. Стало быть, не все еще затянуло болото; стало быть, есть еще возможность о чем-то думать, на что-то тратить силы, помимо распределения пунктов для содержания земских лошадей… И вот они жадно вглядываются в это смутное «нечто» и вопиют: да здравствует наш русский Гарибальди!
— Прогоны-то получил ли? — озаботился за Редедю Глумов.
— Прогоны мне Араби-паша в оба конца вперед уплатил, равно как и полугодовое жалованье не в зачет, — ответил Редедя, — ну, а порционы, должно быть, придется на том свете угольками получить.
— Ах, Полкан Самсоныч, Полкан Самсоныч! когда-то угомонишься ты!
Оказалось, что он угомонится лишь тогда, когда покорит под нозе торгаша-англичанина*, который у него «вот где сидит».
— Да на какой тебе его ляд?.. — начал было Глумов, но весьёгонцы так на него окрысились, что он счел более благоразумным умолкнуть.
Из последующего разговора выяснилось, что Редедя ненавидел англичанина, во-первых, за то, что он торгаш и возвышенных чувств не имеет, а во-вторых, за то, что он препятствует сбыту московских плисов и миткалей и тем замедляет разрешение восточного вопроса. Но существовало, сверх того, обстоятельство, затрогивавшее Редедю лично. Еще будучи кадетом, он купил однажды перочинный ножичек, на лезвии которого было выштамповано «аглицкой», а через два дня этот ножичек сломался — «вот вам доказательство!». А после того он стал покупать завьяловские ножички, и они не ломаются — «вот вам другое доказательство!». С тех пор и стало в нем накапливаться: то платок «аглицкой» полиняет, то сукно «аглицкое» окажется с пятнами. И теперь у него такой проект: пробраться с горстью храбрецов в Индию и уговорить тамошних вассальных державцев свергнуть постыдное английское иго. С этою целью он спешит теперь в Кашин, где у него назначено совещание с местными виноделами, а из Кашина проедет в Москву, где уж все на мази. В Москве купит географию Смирнова и по первопутке, через Саратов, Кандагар и Кашемир, укатит прямо в то самое место, где раки зимуют.
— Места-то какие: Кашемир, Гюллистан! — восклицает он, играя животом, — женщины-то какие! «Груди твои, как два белых козленка! лоно твое…»* ффу!
Одним словом, так всех растревожил, что разгоряченные весьёгонцы хором грянули: вот мчится тройка удалая!* — а Глумов поцеловал виновника торжества в лысину и взволнованным голосом произнес:
— Пошли тебе бог! Признаться сказать, не чаял я, чтобы развязка была так близка, ну, а теперь вижу…
Разговорились, конечно, и об Египте. Любопытнейшая страна. Каждый год в ней происходит разлитие Нила, и когда вода спадет, то образуется почва, в которую стоит только зерно бросить, а потом только знай поспевай собирать. Собственно египтяне представляют собою аристократию и исповедуют магометанство, а чернядь — феллахи, которые исповедуют все, что велят. В древности страной правили фараоны, а теперь правят хедивы, которые платят дань султану турецкому, но постоянно с ним пикируются. При фараонах воздвигнуты были пирамиды и обелиски, при хедивах ничего не воздвигнуто. Один из фараонов погиб в Красном море, преследуя евреев,* и Редедя лично то место осматривал. Старожилы рассказывают, что в старину здесь, полевее, брод был, а фараон ошибся, взял вправо, да так с колесницей и ухнул. Но главное украшение и надежду Египта составляют крокодилы. Способнейших из них назначает хедив губернаторами в дальние провинции: Дарфур, Судан и т. д. А так как крокодилы в Египте плодятся беспрепятственно, то и недостатка в кандидатах на губернаторские места никогда не бывает, чему многие иностранные государства завидуют.
— Ну, а еда в Египте какова? — полюбопытствовал Глумов.
— Еда — средственная. Феллахи — те ящерицами питаются; а градоначальники и военачальники хоть и сладко жрут, но всё пальцами. И непременно поджавши ноги.
— Тсс…
— Зато по женской части — малина! Не успеешь, бывало, мигнуть ординарцу, как бы, братец, баядерочку промыслить — глядь, а уж она, бестия, тут как тут! Тело смуглое, точно постным маслом вымазанное, груди — как голенища, а в руках — бубен! «Эй, жги, говори!»* — ни дать ни взять как в Москве, в Грузинах.*
Из закусок в Египте только сардинки и можно есть. Сельди — с запашком, а икры да балыка ни за какие деньги достать нельзя. Финансов там и в заводе нет; рублей не видать, а водятся полтинники, да и те смахивают на четвертаки. Так что приходится занимать солдат усиленным моционом, чтобы они забыли об жалованье. Торговля ведется исключительно сфинксами и мумиями, а много ли ими наторгуешь? Судов — нет, а вместо них правило: сколько заслужил, столько и получи! Равным образом нет ни наук, ни литературы, а следовательно, нет и превратных толкований. Упований у египтян тоже нет, кроме одного: когда русские выгонят торгашей-англичан из Индии, тогда и они поправятся. А почему и в каком смысле «поправятся» — неизвестно. Известно только, что каждый раз, как он, Редедя, развивал свои предположения относительно Индии, то даже крокодилы — и те плакали.
Много и кроме этого любопытного рассказал Редедя про Египет, но иногда почему-то сдавалось, что он словно не об Египте, а об Весьёгонском уезде разговаривает. Например: и весьёгонцам хочется Индию под нозе покорить, и египтянам — тоже, а зачем — ни те, ни другие не знают. Или: и в Египте насчет недоимок строго, и в Весьёгонском уезде строго, а денег ни тут, ни там — нет.
Чем-то фантастическим отдавало от этих рассказов, а мы все-таки слушали и наматывали себе на ус. Что такое Редедя? откуда он вышел? в силу чего мечется? действительно ли он додумался до какой-то задачи, или же задача свалилась к нему зря? а может быть, и не задача совсем, а просто, как говорится, восца́. Или, может быть, сказок он в детстве начитался, как Иванушко-дурачок жар-птицу добывал, на саночках-самокаточках ездил, на ковре-самолете летал. Ну, и пошел по следам. Глумов даже не утерпел, чтоб не формулировать этих догадок.
— Слушаю я тебя, голубчик, — сказал он, — да только диву даюсь. Так ты говоришь, так говоришь, что другому, кажется, и слов-то таких ни в жизнь не подобрать… Точно ты из тьмы кромешной выбежал, и вдруг тебя ослепило… И с тех пор ты ни устоять, ни усидеть не можешь…
— И не усижу, — твердо ответил Редедя, — покуда хоть один торгаш-англичанин остается в Индии — не усижу!
А весьёгонцы слушали эти речи и плескали руками. И кричали: браво, русский Гарибальди! живио! уррааа! А один, помоложе, даже запел: allons, enfants de la patrie…*[45]
Плескали руками и мы с Глумовым, во-первых, потому, что попробуй-ка в сем разе не поплескать — как раз в изменники попадешь, а во-вторых, и потому, что, в сущности, это была своего рода беллетристика, а до беллетристики все мы, грешным делом, падки. И Глумов очень чутко выразил общее настроение, сказав:
— Шествуй, брат! такая уж, видно, у тебя планида… Но географию Смирнова все-таки купи, потому что в противном случае, подобно древнему фараону, заедешь вправо, и тогда поминай как звали!
Разговор этот, вместе с возгласами и перерывами, длился не более часа, а все, что можно было сказать, было уже исчерпано. Водворилось молчание. Сначала один зевнул, потом — все зазевали. Однако ж сейчас же сконфузились. Чтобы поправиться, опять провозгласили тост: за здоровье русского Гарибальди! — и стали целоваться. Но и это заняло не больше десяти минут. Тогда кому-то пришла на ум счастливая мысль: потребовать чаю, — и все помыслы мгновенно перенеслись к Китаю.
— Вот бы нам куда! — молвил один из весьёгонцев.
— Уж мы одной ногой — там-с! а со временем и другой ногой будем-с! — обнадежил Редедя и при этом сообщил, что китайцы производят торговлю чаем, фарфором и тушью, а питаются птичьими гнездами.
Опять водворилось молчание. Вдруг один из весьёгонцев начал ожесточенно чесать себе поясницу, и на лице его так ясно выступила мысль о персидском порошке, что я невольно подумал: вот-вот сейчас пойдет речь о Персии. Однако ж он только покраснел и промолчал: должно быть, посовестился, а может быть, и чесаться больше уж не требовалось.
Пользуясь этою передышкой, я сел на дальнюю лавку и задремал. Сначала видел во сне «долину Кашемира», потом — «розу Гюллистана», потом — «груди твои, как два белых козленка», потом — приехал будто бы я в Весьёгонск и не знаю, куда оттуда бежать, в Устюжну или в Череповец… И вдруг меня кольнуло. Открываю глаза, смотрю… Стыд!! Не бичующий и даже не укоряющий, а только как бы недоумевающий. Но одного этого «недоумения» было достаточно, чтоб мне сделалось невыносимо жутко.
Целая масса вопросов вдруг закружилась в моей голове. Как будто я только сейчас проснулся после долгого сна, наполненного безобразнейшими сновидениями. Сновидения эти стояли передо мной как живые, со всеми живыми подробностями, почти доступными осязанию; и так как они воплощали собой вчерашний день, то я не только отказаться от них, но и усомниться в их подлинности не мог. Но и за всем тем я не понимал. Я отдавал себе вполне ясный отчет в фактической стороне этих сновидений: в какой форме они зародились, как потом перешли через целую свиту лиц, городов, местностей (Иван Тимофеич, Балалайкин, Очищенный, Корчева, Самарканд и т. д.), но какую связь имели эти изменения форм с моим внутренним существом, с моим сознанием — этого я никак проследить не мог. Очевидно, я жил под влиянием какого-то страшного нравственного угнетения, которое низводит человека на степень автомата. Я помнил, что познакомился с Парамоновым, с Прудентовым, с Редедей, что был в Корчеве, в Кашине, но в силу чего я сделал эти знакомства и совершил эти путешествия — я не мог понять. Очевидно, что даже теперь, в эту минуту, я был угнетен. И чувствовал, что у меня замирает сердце, что все мое существо переполнено смутной тревогой и что глаза мои почти инстинктивно избегают встречи с посторонним взором…
Так подействовала на меня встреча с Стыдом.
— За здоровье русского Гарибальди! живио! уррааа! — опять и опять грянуло в моих ушах.
Стулья на этот раз усиленно застучали. В зале произошло общее движение. Дорожный телеграф дал знать, что поезд выехал с соседней станции и через двадцать минут будет в Бежецке. В то же время в залу ворвалась кучка новых пассажиров. Поднялась обычная дорожная суета. Спешили брать билеты, закусывали, выпивали. Стыд — скрылся. Мы с Глумовым простились с Редедей и выбежали на платформу. Как вдруг мой слух поразил разговор.
— На самом, значит, мелком месте, — рассказывала одна чуйка другой, — только рыло и окунули, даже затылка не замочили!..
— Подох?
— Тут же и пузыри стал пущать. Дьякон-то, вишь, слепой: стоит да бормочет, а их и след простыл!
— Сколь много ноне этой пакости завелось! Беспременно это дело разъяснить надо!
— Товарищей ихних и теперь за караул взяли. Четверо. И баба с ними увязалась. Сегодня же всех в Кашин отправили. А за теми, за двоими, во все концы гонцов разослали…
Мы с Глумовым стояли друг против друга и безмолвно прислушивались.
— Начинается! — наконец произнес я.
— И какая, братец, это с моей стороны была гадость! — ответил он, — даже об Фаинушке позабыл… убежал!
— Послушай… а ведь нам в Кашин ехать надо! — предложил я.
— И непременно вместе с Редедею, — прибавил Глумов. — И его будут искать, и Балалайкина, и Прудентова… всех!
— Ты думаешь, стало быть, что теперь всё… все дела наши должны обнаружиться?
— Непременно все. И я уверен, что и Иван Тимофеев, и Прудентов, и Балалайкин — все непременно соберутся в Кашине. Вот увидишь. Что такое сама*по себе смерть жида? Это один из эпизодов известных веяний* — и больше ничего. Не этот факт важен, а то, что времена назрели. Остается пропеть заключительный куплет и раскланяться.
Я слушал глумовские предсказания и сопоставлял их с недавним появлением Стыда. И чем более я думал над этим, тем больше находил связи, тем больше убеждался, что времена действительно созрели.
В два слова мы объяснили Редеде о тяжком подозрении, которого безвинно мы сделались жертвою. Но он выслушал нас с обычным своим легкомыслием и, по-видимому, даже не разобрал, в чем дело.
— Жида утопили! — воскликнул он, — и испугались! да я их массами… массами… плотину из них в Западной Двине…
Тройка, долженствовавшая увезти его в Кашин на совещание с виноделами, уже с час ожидала у подъезда. Еще раз провозгласили тост — последний! — и через десять минут мы уже были за стенами Бежецка.*
XXVIII*
Но здесь я обращаюсь* к снисходительности читателя.
Я должен кончить с этой историей, хоть скомкать ее, но кончить. Я сам не рассчитывал, что слово «конец» напишется так скоро, и предполагал провести моих героев через все мытарства, составляющие естественную обстановку карьеры самосохранения. Не знаю, сладил ли бы я с этой сложной задачей; но знаю, что должен отказаться от нее и на скорую руку свести концы с концами.
Во все продолжение моей литературной деятельности я представлял собою утопающего, который хватается за соломинку. Покуда соломинки были, я кое-как держался; но как скоро нет и соломинок — ясное дело, что приходится утонуть.
Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но ежели бы он напомнил мне об ответственности писателя перед читающею публикой, то я отвечу ему, что ответственность эта взаимная. По крайней мере, я совершенно искренно убежден, что в бо́льшем или ме́ньшем понижении литературного уровня читатель играет очень существенную роль.
Мысль о солидарности между литературой и читающей публикой не пользуется у нас кредитом. Как-то чересчур охотно предоставляют у нас писателю играть роль вьючного животного, обязанного нести бремя всевозможных ответственностей. Но сдается, что недалеко время, когда для читателя само собой выяснится, что добрая половина этого бремени должна пасть и на него.
Впрочем, это материя пространная, и речи об ней должны быть пространные…
Вкратце наши дальнейшие похождения заключались в следующем:
Приехавши в Кашин, мы немедленно отъявились к Ивану Иванычу. Но последний, похвалив нас за то, что мы не обегаем кашинского суда, объявил, что нас уже ищут. И не по одному только делу об утоплении жида, но и по всем вообще содеянным нами в разное время и в разных местах преступлениям. Ищут также и Редедю, который обвиняется в сношениях с египетскими агитаторами и в распространении вредных мечтаний в среде московских ситцевых фабрикантов. Для опознания наших личностей в Кашин привезен под караулом один из вреднейших злоумышленников (не Иван ли Тимофеич? — мелькнуло у меня в голове), который уже имел очной свод с пойманными в селе Благовещенском четырьмя сообщниками нашими, и последние во всем чистосердечно признались. Затем остается сделать такой же очной свод с нами, и нас завтра же увезут, за караулом, на судбище в Петербург.
И так как у Ивана Иваныча, в минуту нашего посещения, собралась партия в винт и между винтящими оказался и прокурор, то нас, не откладывая дела в долгий ящик, отправили в острог. Там мы нашли, кроме товарищей по путешествию, еще Ивана Тимофеича, который, как увидел нас, сейчас же воскликнул: «Они самые и есть!» Очной свод был кончен.
В Петербурге нас судили. Прокурор произнес блестящую речь, из которой я приведу лишь то, что касалось меня и Глумова. Мы оба обвинялись в одних и тех же преступлениях, а именно: 1) в тайном сочувствии к превратным толкованиям, выразившемся в тех уловках, которые мы употребляли, дабы сочувствие это ни в чем не проявилось; 2) в сочувствии к мечтательным предприятиям вольнонаемного полководца Редеди; 3) в том, что мы поступками своими вовлекли в соблазн полицейских чинов Литейной части, последствием какового соблазна было со стороны последних бездействие власти; 4) в покушении основать в Самарканде университет и в подговоре к тому же купца Парамонова; 5) в том, что мы, зная силу законов, до нерасторжимости браков относящихся, содействовали совершению брака адвоката Балалайкина, при живой жене, с купчихой Фаиной Стёгнушкиной; 6) в том, что мы, не участвуя лично в написании подложных векселей от имени содержательницы кассы ссуд Матрены Очищенной, не воспрепятствовали таковому писанию, хотя имели полную к тому возможность; 7) в том, что, будучи на постоялом дворе в Корчеве, занимались сомнительными разговорами и, между прочим, подстрекали мещанина Разноцветова к возмущению против купца Вздошникова; 8) в принятии от купца Парамонова счета, под названием «Жизнеописание», и в несвоевременном его опубликовании, и 9) во всем остальном.
К нашему счастью, обвинитель слишком увлекся щегольскою стороной своей задачи и потому был чересчур уж блестящ. Он в особенности настаивал на девятом пункте обвинения; а так как этот пункт требовал абсолютной свободы красноречия, то, мало-помалу, обвинитель действительно освободил себя от всех уз, кроме мундира. Фактическая сторона не только отодвинулась на задний план, но совсем исчезла. Образовалась картина, в которой, сверх грома и молнии, было еще и землетрясение. А так как над землетрясением человеческий суд не властен, то вышло пустое дело.
Мы защищались сами и, могу сказать с гордостью, вели это дело очень ловко. Прокурорскому землетрясению мы противопоставили чистосердечный и трогательный рассказ о нашем обращении на путь самосохранения. Мы не отрицали, что грешки за нами водились. Мы даже прямо сознались, что, будучи воспитаны в казенных учебных заведениях, мы охотно поддавались обольщениям разума, но в то же время самым убедительным образом доказали, что обольщения эти были своевременно нами поняты и вполне искуплены последующим нашим поведением. Так что действия, которые составляют, так сказать, ядро обвинения, не только не обвиняют нас, а, напротив, оправдывают и обеляют. Не для сокрытия вредного образа мыслей предприняли мы знакомство с Кшепшицюльским, Прудентовым, Очищенным и проч., а для того, чтобы засвидетельствовать перед целым миром о нашей зрелости и готовности. Мы не хитрили и не расставляли ловушек полицейским чинам, и объятия, которые мы раскрывали им, не были лжеобъятиями. Но ежели и за всем тем в действиях наших усматривается что-либо сомнительное, то это произошло единственно от неопытности и от недостатка руководящих указаний.
— Подобно утлому челну, — говорил прерывистым от волнения голосом Глумов, — носились мы, без кормила и весла, по волнам, и только звезды небесные взирали на нас с высоты. Невинность, сказал где-то бессмертный Шекспир, подобна пустой бутылке,* которую можно наполнить каким угодно содержанием. Вот эту-то пустую бутылку и представляли мы собой, ибо хотя первоначальная невинность и была нами утрачена, но обращение наше на путь возрождения подарило нас второю невинностью, еще более прочною, нежели первая. Но напрасно протягивали мы нашу пустую бутылку для наполнения — мы вынуждены были наполнять ее сами, под личною ответственностью, чем придется. Мы раскрывали объятия, а нам устраивали западни; мы устремлялись в лоно, а попадали… в гущу! Можно ли вообразить себе зрелище более потрясающее! Вы видели здесь Кшепшицюльского, господа судьи! видели только в течение нескольких минут, покуда он давал показание… А мы не только видели его, но и играли с ним целые месяцы в карты… единственно для того, чтобы доказать нашу зрелость! И он сдавал игры, при которых объявлявший игру в самом счастливом случае оставался без двух… Вот элементы, которые испытывали нас и на глазах которых совершалось наше возрождение… Но и за всем тем решимость наша не только не поколебалась, но росла с каждым днем больше и больше…
Я же, с своей стороны, присовокупил, что хотя обвинение и ставит нам в преступление подстрекательство купца Парамонова к основанию заравшанского университета, но из обстоятельств дела ясно усматривается, что Парамонов решился на этот поступок совсем не вследствие нашего подговора, а потому, что менялы вообще, по природе своей, горазды основывать университеты.
Таким образом, политическая часть процесса была очищена. Что же касается до части общеуголовной, то нам ничего не стоило доказать, что со стороны Балалайкина не только не существовало самого факта двоеженства, но даже не было и приготовлений к этому, так как ни покупка для Балалайкина халата, ни приглашение братьев Перекусихиных, ни ужин в кухмистерской Завитаева ни в каком смысле преступлениями названы быть не могут. Равным образом не было и участия в составлении подложных векселей, так как не существовало самого факта написания, а было только упражнение в таковом, причем бумага со столбиками была употреблена не с намерением, а по неимению в городе Корчеве другой. Затем о случае смерти жида Мошки мы даже распространяться не стали. Был жид — и нет его. А где теперь витает душа его, и даже бессмертна ли она — нам неизвестно.
Словом сказать, мы вышли из суда обеленными, при общем сочувствии собравшейся публики. Мужчины поздравляли нас, дамы плакали и махали платками. Вместе с нами признаны были невинными и прочие наши товарищи, исключая, впрочем, Редеди и «корреспондента». Первый, за распространение вредных мечтаний в среде ситцевых фабрикантов, был присужден к заключению в смирительный дом; последний, за написание в Проплёванной фельетона о «негодяе» — к пожизненному трепету.
Но настоящий успех ждал нас впереди. На другой день нас посетил известный меценат и мануфактур-советник Кубышкин и сделал нам самые лестные предложения. Заметив в нас наклонность к здравомыслию и желая воспользоваться этой способностью в видах распространения собственной фабрики ситцев и миткалей, он задумал основать собственный кубышкинский литературно-политический орган, который проводил бы его кубышкинские идеи. Сущности этих идей он нам не раскрыл, но показал образчик ситцев (тут были и «веселенькие» для молодых, и «сурьезные» для старух) и при этом так характеристично погладил бороду и щелкнул языком, что мы и без объяснений поняли. Газета предполагалась ежедневная и должна была появляться часом раньше, нежели прочие газеты. Гонорар нам будет назначен «глядя по делу», причем, конечно, он нас «не обидит». Но, сверх гонорара, нам предоставлялось по воскресеньям иметь у Кубышкина обеденный стол, «наравне с генералами». Писать и редактировать статьи мы вольны по своему усмотрению, Кубышкин же будет только направлять и вдохновлять нас. Вспомнили и об Редеде, которому предоставлялось присылать из смирительного дома статьи по восточному отделу. Что́ же касается до отдела «Наш петербургский high life»[46], то ведение его возлагалось на Очищенного. С этою целью ему купили в Апраксиной хорошую фрачную пару и несколько пар белых нитяных перчаток и наняли от Бореля татарина, который в несколько уроков выучил его, как держать в руках поднос. Одному «корреспонденту» не нашлось места в газете, но тут уж ничего нельзя было поделать, потому что «корреспондент» морозовские ситцы предпочитал кубышинским и ни он, ни Кубышкин не соглашались ни пяди уступить из своих убеждений.
Разумеется, мы с радостью приняли все эти условия и сейчас же придумали для газеты название «Словесное Удобрение».
Через месяц вышел в свет первый нумер «Удобрения», и так как газета появлялась ежедневно часом раньше других, то, натурально, все кухарки, идучи на рынок, запасались ею.
Статьи о том, что всякое время имеет свою особую задачу и что задача эта должна быть выполнена, хотя бы сущность ее и противоречила требованиям строгой нравственности, — это мы писали. Статьи о том, что, с одной стороны, всего у нас довольно, а с другой — ничего у нас нет, — тоже мы писали. Статьи о том, что все иностранные ситцы и миткали следует безусловно к ввозу запретить, а наши ситцы и миткали, нагрузив на подводы, везти куда глаза глядят, — тоже мы. Статьи о том, что мыслить не воспрещается, но ка́к мыслить? — мы. Странным образом заботы о благоустройстве и благочинии переплетались у нас с заботами о ситцах и миткалях, так что успех или неуспех последних являлся как бы указателем того или другого уровня благочиния. Скажу более: так как ситцы представляли кульминационный пункт, под сению которого ютились все надежды и упования «Удобрения», то по временам мы не прочь были даже допустить вмешательство потрясательных элементов, лишь бы пристроить ситцы. И именно ситцы кубышкинские. Идя по этому пути и постепенно разъяряясь, мы дошли наконец до какого-то прорицающего пафоса. Не довольствуясь изгнанием с внутренних рынков иностранных ситцев, мы требовали такой же проскрипции* для ситцев Морозова, потом — Цинделя, и наконец — всех, кроме кубышкинских. Только Кубышкин, только он один мог с пользой для себя (по ошибке мы писали: «для государства») одеть в ситцевые рубахи как русских подданных, так и персиян, бухарцев, хивинцев, индейцев и прочих иноверцев. А также единоверных нам болгар и сербов.
Этой ситцевой пропаганде сильно помогал Редедя. Каждое утро его под конвоем приводили из смирительного дома в редакцию; тут он на карте вымеривал циркулем кратчайший путь из Москвы в Индию, и выходило ужасно близко. Затем он садился и писал статьи, в которых сыпучим пескам противопоставлял смеющиеся оазисы, а временному недостатку воды — ее благовременное изобилие, и притом отменного качества. Пользуясь сим случаем, он называл верблюдов «кораблями пустыни» и советовал всегда иметь в резерве несколько лишних верблюдов, так как в пустыне они представляют подспорье («известно, что верблюды…» и т. д.), благодаря которому устраняется недостаток в воде. Хороши также для этой цели кокосовые орехи, покуда они не дозрели и изобилуют молоком.
Что касается Очищенного, то хроника его имела двойственный характер. В мясоед он писал, что никогда наш high life не был так оживлен и что на днях была свадьба графа Федорова с княжной Григорьевой и потом бал у молодых. Лестница была устлана роскошными восточными коврами и убрана тропическими растениями, под сению которых, на каждой ступеньке, было поставлено по лакею, в костюмах времен Людовика XV. Одни парики на лакеях, по удостоверению обворожительной хозяйки, стоили по пятидесяти рублей за штуку, а что стоили башмаки и чулки — еще не подано счетов. С наступлением поста Очищенный восклицал: «А теперь, mesdames, надо приниматься за грибки!» — и рассказывал, с каким самоотвержением очаровательная княжна Зизи Прокофьева кушает маринованные рыжички, а почтенные родители смотрят на нее и приговаривают: мы должны сие кушанье любить, ибо оно напоминает нам, что мы в сей жизни путники…
Результаты этих усилий превзошли все ожидания. Сначала газету покупали только кухарки, но потом стали покупать лакеи, дворники и, наконец, кабатчики. Кабатчик Разуваев говорил прямо, что если б ему удалось отыскать здравомыслящих людей, которые с таким же самоотвержением ежедневно доказывали бы, что колупаевские и вздошниковские водки следует упразднить, а его, разуваевские, водки сделать для всех благомыслящих людей обязательными, то он, «кажется, тыщ бы не пожалел». Но хотя нам были сделаны в этом смысле лестные предложения, однако мы устояли и пребыли верными Кубышкину.
Дальше — больше. «Удобрение» мало-помалу проникло и в мир бюрократии. Сначала нас читали только канцелярские чиновники, потом стали читать столоначальники, а наконец, и начальники отделения. И тут мы получили лестные предложения от департамента Раздач и Дивидендов, которому мы позволяли себе делать от времени до времени довольно едкие реприманды; однако ж и на этот раз мы устояли и пребыли верными Кубышкину.
Наконец наступил вожделенный день: «Удобрение» попало в изящные ручки графини Федоровой, рожденной княжны Григорьевой! Последовали настоятельнейшие предложения. Сам граф Федоров приезжал к нам для переговоров. Но мы остались верными Кубышкину.
Ибо Кубышкин был знамя!
И многие за это знамя держались!
А он (т. е. Кубышкин) только пыхтел и радовался, глядя на нас. Передовых статей он лично не читал — скучно! — но приказывал докладывать, и на докладе всякий раз сбоку писал: «верно». Но статьи Очищенного он читал сам от первой строки до последней, и когда был особенно доволен, то в первый же воскресный день, перед закуской, собственноручно подносил своему фавориту рюмку сладкой водки, говоря:
— Это тебе… в знак!
Гонорара определенного он нам не назначил, но от времени до времени «отваливал», причем всякий раз говорил: «напоминать мне незачем, я сам вашу нужду знаю». В общем результате, мы были сыты. И чем больше мы были сыты, тем больше ярились.
Наконец до того разъярились, что стали выбегать на улицу и суконными языками, облитыми змеиным ядом, изрыгали хулу и клевету. Проклинали человеческий разум и указывали на него, как на корень гнетущих нас зол; предвещали всевозможные бедствия, поселяли в сердцах тревогу, сеяли ненависть, раздор и междоусобие и проповедовали всеобщее упразднение. И в заключение — роптали, что нам не внимают.
И за всем тем, воротившись домой, пили, ели, спали и вообще производили все отправления, какие человеческому естеству свойственны.
XXIX*
Заключение
В разгаре этой лихорадочной деятельности мы совсем забыли о Стыде.
Но он об нас не забыл.
Я помню, что накануне вечером мы общими силами написали громовую статью, в которой доказывали, что общество находится на краю бездны. Дело совсем не в поимке так называемых упразднителей общества, — гремели мы, — которые как ни опасны, но представляют, в сущности, лишь слепое орудие в руках ловких людей, а в том, чтобы самую мысль, мысль, мысль человеческую окончательно упразднить. Покуда это не сделано — ничего не сделано; ибо в ней, в ней, в ней, в этой развращающей мысли, в ее подстрекательствах заключается источник всех угроз. И ежели не будет принято в этом смысле энергических мер, и притом в самом неотложном времени, то последствия этой нерешительности прежде всего отразятся на нашей промышленности. Фабрика Кубышкина первая вынуждена будет наполовину сократить производство своих ситцев и миткалей… Спрашивается: что станется с массой рабочих, которую это сокращение производства оставит без заработков? и на кого ляжет ответственность за ту неурядицу, которая может при этом произойти?
Стыд начался с того, что на другой день утром, читая «Удобрение», мы не поверили глазам своим. Мысль, что эту статью мы сами выдумали и сами изложили, была до такой степени далека от нас, что, прочитав ее, мы в один голос воскликнули: однако! какие нынче статьи пишут! И почувствовали при этом такое колючее чувство, как будто нас кровно обидели.
Одним словом, мы позабыли…
Но припоминать все-таки пришлось, и мы припомнили. Работа припоминания началась совершенно случайно. Пришел Очищенный и принес фельетон, в котором рассказывал, что на днях баронесса Марья Карловна каталась на тройке по островам в сопровождении графа Сергея Федорыча. Каждую неделю ходил к нам Очищенный с урочным фельетоном и всегда встречал у нас радушный прием; но на этот раз нам показалось странным: каким образом попал к нам этот злокачественный старик? И мы начали вглядываться в него. Вглядывались, вглядывались, и вдруг что-то в глазах наших осветилось… Сначала один пункт, потом дальше, дальше — разом целый пожар! Все сновидения, вся явь — все разом вспыхнуло.
— «Удобрение»-то — ведь это наших рук дело!.. — растерянно произнес Глумов.
— И эта статья, которую мы сейчас читали… тоже наших рук дело! — как эхо, отозвался я.
Нас охватил испуг. Какое-то тупое чувство безвыходности, почти доходившее до остолбенения. По-видимому, мы только собирались с мыслями и даже не задавали себе вопроса: что ж дальше? Мы не гнали из квартиры Очищенного, и когда он настаивал, чтоб его статью отправили в типографию, то безмолвно смотрели ему в глаза. Наконец пришел из типографии метранпаж и стал понуждать нас, но, не получив удовлетворения, должен был уйти восвояси.
Кое-как, однако ж, газетное дело уладилось. В трактире «Ерши» нашли на наше место двух публицистов, привели к Кубышкину и засадили за работу. Через два часа передовая статья была уж готова. В ней доказывалось, что ежели для пьющих важно определить, с какой именно рюмки они приходят в опьянение, то тем паче необходима подобная определительность в разных отраслях административной деятельности. Ибо везде человек встречается с этою роковою рюмкой, но только тот называется мудрым, который умеет предугадать ее и воздержаться.
Это было не в бровь, а прямо в глаз, но Кубышкин понял это только тогда, когда читатели потребовали от него объяснений. Тогда, делать нечего, пришлось этих публицистов рассчитать и посылать за другими в гостиницу «Москва».
Нашли и там пару. Эти поправили дело, написав от редакции объяснение, в котором удостоверили, что все сказанное в предыдущем нумере об рюмках есть плод недоразумения и что новая редакция «Удобрения» (меня и Глумова Кубышкин уже уволил) примет притчу о роковой рюмке лишь для собственного поучения. Затем следовала большая передовая статья, в которой развивалась мысль, что по случаю предстоящих праздников пасхи предстоит усиленный спрос на яйца, что несомненно сообщит народной промышленности новый толчок. А ежели к этому прибавить куличи и пасхи, то вот вам, в каких-нибудь два-три дня, целый лишний миллион, пущенный в народное обращение!
А мы между тем всё еще сбирались с мыслями. Мы даже не говорили друг с другом, словно боялись, что объяснение ускорит какой-то момент, который мы чувствовали потребность отдалить. И тут мы лавировали и лукавили, и тут надеялись, что Стыд пройдет как-нибудь сам собою, измором…
Но вдруг мы почувствовали тоску. Не ту тоску праздности, которую ощущает человек, не знающий, как убить одолевающий его досуг, и не ту бессознательно пьяную прострацию сил, которая приводит человека к петле, к проруби, к дулу пистолета. Нет, это была тоска вполне сознательная, трезвая, которая и разрешения требовала сознательного, а не случайного. Боль, которую она приносила за собой, была тем мучительнее, что каждый ее укол воспринимался не только в той силе, которая ей присуща, но и в той, утроенной, удесятеренной, которую ей придавал доведенный до болезненной чуткости организм. Это была не казнь, а те предшествующие ей четверть часа, в продолжение которых читается приговор, а осужденный окостенелыми глазами смотрит на ожидающую его плаху.
Одним словом, это была тоска проснувшегося Стыда…
Мы не спрашивали себя, что такое Стыд, а только чувствовали присутствие его. И в нас самих, и в обстановке, которою мы были окружены, и на улице — везде. Стыд написан был на лицах наших, так что прохожие в изумлении вглядывались в нас…
. . . . . . . . . .
Что было дальше? к какому мы пришли выходу? — пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность… и уклоняюсь от ответа.
Из других редакций
<Отрывок черновой редакции неопубликованной главы>*
X[47]
Было уже около полудня, когда мы проснулись мрачные и вдобавок одержимые нестерпимой головной болью. Долгое время ходили мы рядом взад и вперед по комнатам, не говоря ни слова, опустивши глаза в землю, словно совестясь друг друга. Заключительное пьянство вчерашнего вечера как будто накинуло покров на все прошлое. Припоминалось что-то, но неясно, в виде обрывков. Вынырнет вдруг — и опять сейчас же утонет. Или вдруг мучительно загорится, словно весь мозг насквозь прожжет, и опять затихнет. «Что такое было? что теперь происходит?» — вот единственная мысль, которая с некоторою ясностью выделялась из этого хаоса.
Должно быть, однако ж, усиливаясь разрешить этот вопрос, я кой-что припомнил-таки, потому что вдруг из груди моей вырвалось восклицание:
— Чем же это кончится?
Глумов посмотрел на меня исподлобья и, ни слова не ответив, продолжал шагать.
— Неужто надо идти еще дальше, чтобы установить в квартале свою репутацию? — настаивал я, — вспомни, что вчера говорил Очищенный! Эти анекдоты, эта мораль… ведь стены квартиры нашей, я думаю, провоняли от этих разговоров! Глумов! Да отзовись же! Не молчи!
— Продолжай, любезный, я слушаю.
— Помнишь, как он говорил: «сыт, одет, обут — и молчи»? Помнишь?
— Помню.
— И еще, как он рассказывал про свои подвиги у Доминика: «Съешь три куска кулебяки, а при расчете говоришь один»?
— Помню и это.
— Ведь от этих анекдотов смрад по земле идет!
— А ты думал, что, «установляя репутацию», райские духи нюхаючи ходят?
— Как же, однако, с этим быть? Что делать?
— Прежде всего отказаться от бесполезного нытья, а потом — опохмелиться, потому что голова смерть трещит.
Глумов подошел к буфетному шкапику, и через несколько мгновений я уже слышал, как он считал: рюмка, две рюмки, три рюмки. Разумеется, и я последовал его примеру, так что не прошло и четверти часа, а мы беседовали уж совсем молодцами.
— Может быть, мы поступили несколько легкомысленно, решившись вступить на стезю квартальной благонамеренности, — говорил Глумов, — но вернуться назад, не сделавши еще и половины пути, по-моему, не расчет. До сих пор мы только одно выполнили: восприняли звериный образ, но это далеко не исчерпывает всего содержания задачи. Теперь наступает главное и самое интересное: применение звериного образа к звериным поступкам. Вспомни программу, которую мы сами для себя начертали, — и смирись.
— Но разве нельзя уйти, не доведя этой программы до конца?
— Нельзя. По крайней мере, я не уйду, да и тебя не пущу. Помилуй, ведь это все равно, что десять лет школьные тетрадки зубрить, да вдруг перед самым выпускным экзаменом бежать! Нельзя это. Я хочу по всем предметам пять с крестом получить: и двоеженство устрою, и подлог совершу, и жида окрещу. И тогда уверенными стопами пойду в квартал и скажу: господа будочники! Надеюсь, что теперь даже прозорливейший из вас никаких политических неблагонадежностей за мной не увидит!
— Ну, не хвались! Нынче, брат, требованья-то куда дальше против прежнего ушли! Вот кабы кассу обокрасть — ну, тогда точно…
— Да, кассу, это, разумеется, был бы настоящий сюпрем*. Но ведь и то сказать, не всякому это предоставлено, ибо не всякий в близком расстоянии от кассы находится.
Затем мы выпили еще по рюмке и окончательно разгулялись. Вспомнили, что к четырем часам нам нужно ехать на смотринный обед к Парамоновской «штучке», и в ожидании вожделенного часа пошли промяться на Невский.
По обыкновению, проходя мимо монументов, умилялись.
— Я думаю, — сказал Глумов, — великая монархиня* взирает на нас с горних высот и говорит: как при мне места сии изобиловали людьми благомыслящими, так и ныне таковыми изобилуют, и впредь изобиловать будут!
Потом поравнялись с собором и, увидев, что тайный советник Стрекоза остановился и снял шляпу, сняли и мы свои. Затем, подойдя к Доминику, почувствовали голод, взяли по три куска кулебяки и, вспомнив завет Очищенного, при расчете сказали, что съели только по два куска.
— Послушай, да ведь это воровство! — сказал я Глумову, когда мы возвращались домой.
— Не знаю, как тебе сказать, друг мой, — ответил он мне, — но, во всяком случае, могу утверждать наверное, что деяние, которое мы совершили, не принадлежит к числу таких, кои заключают в себе потрясательный характер.
— Помилуй! Как же не потрясательный, коли мы прямо воруем! Ведь это значит, что мы, так сказать, самым делом потрясаем принцип собственности.
— Потрясаем, это так. Но, во-первых, мы потрясли его только на пять копеек, а во-вторых…
— Позволь! Ведь, в сущности, все равно, что на пять копеек, что на миллион… все-таки воровство. Вот Юханцев, например… Надеюсь, что это потрясение?
— Нет, не потрясение, потому что он потряс потихоньку. Пускай все потрясают — это уж дух века такой, — пусть потрясают ящики земские, ящики казенные, ящики компанейские, но пусть делают это потихоньку, памятуя, что потрясение, яко принцип, возбраняется!
— Но ведь Юханцев…
— Он свое получит. Вероятно, уедет в места более или менее отдаленные… Теперь представь себе такой случай. Предположи, что он делом ничего не потряс, не похитил ни на пять копеек, ни на миллион, а взамен того пришел и сказал громко: я не хочу вашего миллиона, но утверждаю, что не менее вас имею право на него, имею, имею, имею! Ведь дело-то, пожалуй, не местами более или менее отдаленными для него разыгралось бы, а чем-нибудь поважнее. Вот эго-то я и разумею под именем деяний, имеющих потрясательный характер. Понимаешь?
— Клянусь, не понимаю.
— Чудак! Как же ты не понимаешь, что ни мы, утаившие у Доминика пятак, ни Юханцев, утаивший миллион, — мы совсем ничего не потрясли, а просто украли, и больше ничего. Допустим, однако ж, даже, что ты прав, что элемент потрясения отчасти входит и в эти деяния, но какого же рода это потрясение? Это потрясение частное, единичное и, в конце концов, даже безобидное. Ты потряс Доминика, Доминик потрясет прочих потребителей, потребители, в свою очередь, тоже потрясут каждый по мере сил своих… Посмотришь — ан все в расчете! Понимаешь теперь?
— Кто же нибудь, однако ж, останется на бобах?
— Само собой. Но этот, который останется на бобах, зане ему потрясать ничего не дано, этот, любезный друг, не скажет. Земля, огонь, воздух, вода — многое значат на жизненном пире, да голоса не имеют. Так-то, голубчик.
В эту минуту мы поравнялись со Старо-Палкиным трактиром и как раз наткнулись на Очищенного, который опрометью сбегал с крыльца.
— Куда? Что так спешно?
Но он торопливо махнул рукой и почти что на бегу уж объяснил, что его некто обыграл на два рубля в биллиард, так он отпросился на минутку…
— И не воротишься?
— Помилуйте! У меня и в кармане всего полтинник!
С этими словами он приударил еще шибче, так что через минуту мы уже смутно видели, как вдали мелькали его ноги.
— Вот тебе и пример в подтверждение, — сказал Глумов, — неизвестный биллиардным кием потряс Очищенного на два рубля а Очищенный в эту минуту на ту же сумму потрясает его быстрыми ногами! И в конце концов — оба в расчете.
Странное дело! Я очень хорошо сознавал, что слова Глумова представляют сплошной и совершенно наглый парадокс, и в то же время чувствовал, что обличить этот парадокс нет возможности. Выходило что-то совершенно чудовищное: приготовление к преступлению наказуемее, нежели совершение преступления, то есть преступнее слова, слово преступнее действия. Что-то совершенно противоположное обычному юридическому порядку. А между тем это так, это встречается на каждом шагу. Везде две меры, двое весов. И так это сбилось, перепуталось, что надо только удивляться прозорливости и наметке тех, которые сразу угадывают, куда следует одну меру применить, а куда — другую.
— Не воровать в наше время нельзя, — разглагольствовал между тем Глумов, — потому что не воровать — это значит не идти рядом с веком. Но надобно воровать по моде, «как принято», — в этом и секрет весь. Юханцев поступил несколько грубо: он «вынул» из ящика — вот за это и состоит под судом. Но если б он, например, взял на себя реализацию облигаций или закладных листов и при этом положил в карман «провизию» даже, может быть, вдвое большую, то никто бы этого ему и в укор не поставил. Вот как надобно воровать. Чтоб и в заседание суда не попасть, и миллионы за собой навсегда закрепить, и финансистом прослыть. Вот и мы с тобой тоже в некотором роде «провизию» получили, в форме лишнего куска кулебяки. Мы не «вынули» этого куска, не спрятали его, а просто воспользовались обстоятельствами. Народу много набралось, приказчик засовался, гарсоны временно отлучились — вот мы, не будь дураки, и воспользовались. Это даже не воровство, а очень сложная комбинация. Другой разиня век свой ест два пирога, а платит за три, а мы с тобой в одну минуту изловчились наоборот! Правильно ли мы поступили? — Правильно! Потому что за что же бы Доминик с разини за лишний пирог получал, если бы при этом не принимались в расчет люди, действующие в духе времени? А если бы, наконец, нас и поймали, то и тут есть оправдание: забыли — и дело с концом! Неужто нам жаль пятаки!
Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен*
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. А случилось это очень давно, в ту пору, когда промежду начальства два главных правила в руководство приняты были. Первое правило: чем больше начальник вреда делает, тем больше отечеству пользы принесет. Науки упразднит — польза;* город спалит — польза; население испугает — еще того больше пользы.* Предполагалось, что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит,* так пускай оно сначала, через вред, остепенится, от бунтов отвыкнет, а потом отдышится и настоящим манером процветет. А второе правило: как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что обыватели своим делом заняты, а мерзавцы — люди досужие и ко вреду способные.
Все это ретивый начальник на носу у себя зарубил, и так как ретивость его всем была ведома, то вскорости дали ему в управление вверенный край. Хорошо. Помчался он туда и уже дорогой все сны наяву видит. Как он сначала один город спалит, потом за другой примется, камня на камне в них не оставит — все затем, чтоб как можно больше вверенному краю пользы принести. И всякий раз при этом будет слезы лить и приговаривать: видит бог, как мне тяжко!* Годик, другой таким манером попалит — смотришь, ан вверенный-то край и взаправду помаленьку остепеняться стал. Остепенялся да остепенялся — и вдруг каторга! Да не такая, как в Сибири, каторга, а веселая, ликующая, где люди добровольно под сению изданных на сей предмет узаконений блаженствуют. В будни работу работают, в праздник песни поют и за начальников бога молят. Наук нет — а обыватели все до одного хоть час на экзамен готовы; вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает; товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он только смотрит да радуется; бабам по платку дарит, мужикам — по красному кушаку. «Вот какова моя каторга! — говорит он ликующим обывателям, — вот зачем я города огнем палил, народ пугал, науки истреблял. Теперь понимаете?»
— Как не понимать — понимаем.
Приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие — прекратил, народное здравие — уничтожил, науки — сжег и пепел по ветру развеял. Только на третий год стал он себя поверять: надо бы, по-настоящему, вверенному краю уж процвести, а он словно и остепеняться еще не начинал…
Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать: какая тому причина?
Думал-думал, и вдруг его словно свет озарил. «Рассуждение» — вот причина! Начал он припоминать разные случаи, и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до настоящего вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки дойти не мог. А не мог потому, что этому препятствовало «рассуждение». Сколько раз бывало: разбежится он, размахнется, закричит «разнесу!» — ан вдруг «рассуждение»: какой же ты, братец, осел! Он и спасует. А кабы не было у него «рассуждения», он бы…
— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие, — посмотрел бы я, как бы вы у меня…
И погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим пользу вверенному краю принести.
На его счастье, жила в том городе волшебница, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а между прочим умела и «рассуждение» отнимать. Побежал он к ней: отымай! Та видит, что дело к спеху, живым манером отыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то оттуда свистнуло — и шабаш! Остался наш парень без рассуждения.
Разумеется, очень рад. Хохочет.
Прежде всего побежал в присутственное место. Встал посреди комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить — не понимает. Таращит глаза, шевелит губами — больше ничего. Однако ж так он этим одним всех испугал, что от одного его вида нерассудительного разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, разбил его и сам убежал.
Прибежал в поле. Видит — люди пашут, боронят, косят, сено гребут. Знает, что необходимо сих людей в рудники заточить, а за что и каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги, но только что бросился к другому, чтоб борону у него разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный стог сена и убежал.
Воротился в город. Знает, что надобно его с четырех концов запалить, а почему и каким манером — не понимает. Вынул из кармана коробку спичек, чиркает, да только все не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а для чего — не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает: где, батюшко, где? Наконец устал звонить, сбежал вниз, вынул коробку со спичками, зажег их все разом, и только что было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда, делать нечего, побежал домой и заперся на ключ.
Сидит день, сидит другой. За это время опять у него «рассуждение» прикапливаться стало, да только вместо того, чтоб крадучись да с ласкою к нему подойти, а оно все старую песню поет: какой же ты, братец, осел! Ну, он и осердится. Отыщет в голове дырку (благо узнал, где она спрятана), приподнимет клапанчик, оттуда свистнет — опять он без рассуждения сидит.
Казалось, тут-то бы и отдышаться обывателям, а они вместо того испугались. Не поняли, значит. До тех пор все вред с рассуждением был, и все от него пользы с часу на час ждали. И только что польза наклевываться стала, как пошел вред без рассуждения, а чего от него ждать — неизвестно. Вот и забоялись все. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут.
А он хоть и лишился рассуждения, однако понял, что один его нерассудительный вид отлично свою ролю сыграл. Уж и то важно, что обыватели в норы попрятались: стало быть, остепеняться хотят. Да и прочие все дела под стать сложились: поля заскорбли, реки обмелели, на стада сибирская язва напала. Все, значит, именно так подстроилось, чтоб обывателя в чувство привести… Самый бы теперь раз к устройству каторги приступить. Только с кем? Обыватели попрятались, одни ябедники да мерзавцы, словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с одними мерзавцами и каторгу устроить нельзя. И для каторги не ябедник праздный нужен, а обыватель коренной, работящий, смирный.
Стал он в обывательские норы залезать и поодиночке их оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление; вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но не успеет до крайней норы дойти — смотрит, ан прежние опять в норы уползли… Нет, стало быть, до настоящего вреда он еще не дошел!
Тогда он собрал «мерзавцев» и сказал им:
— Пишите, мерзавцы, доносы!
Обрадовались мерзавцы. Кому горе, а им радость. Кружатся, суетятся, играют, с утра до вечера у них пир горой. Пишут доносы, вредные проекты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении… И все это, полуграмотное и вонючее, в кабинет к ретивому начальнику ползет. А он читает и ничего не понимает. «Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать» — но почему? «Необходимо обывателей от излишней пищи воздерживать» — но на какой предмет? «Необходимо Америку снова закрыть» — но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался он по горло, а ни одной резолюции положить не мог.
Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще того больше горе, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!
Снова он собрал «мерзавцев» и говорит им:
— Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?
И ответили ему «мерзавцы» единогласно:
— Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холеи в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится.
Выслушал он эти мерзавцевы речи, и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят, — делать нечего, согласился.
— Ладно, — говорит, — принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтоб вверенный край от него процвел, — это еще бабушка надвое сказала!
Распорядился мерзавцевы речи на досках написать и всеобщему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой; видит: рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло рвут, а вверенный край никак-таки процвести не может! Мало того: обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли — голосу не подают…
Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел, шел и наконец пришел в большой город, в котором главное начальство резиденцию имело. Смотрит — и глазам не верит! Давно ли в этом самом городе «мерзавцы» на всех перекрестках программы выкрикивали, а «людишки» в норах хоронились — и вдруг теперь все наоборот сделалось! Людишки свободно по улицам ходят, а «мерзавцы» спрятались… Что за причина такая?
Начал он присматриваться и прислушиваться. Зайдет в трактир — никогда так бойко не торговали! Пойдет в калашную — никогда столько калачей не пекли! Заглянет в бакалейную лавку — верите ли, икры наготовиться не можем! Сколько привезут, столько сейчас и расхватают.
— Да отчего же? — спрашивает, — какой такой настоящий вред вам был нанесен, от которого вы так ходко пошли?
— Не от вреда это, — отвечают ему, — а напротив, оттого, что новое начальство все старые вреды отменило!
Не верит. Отправился по начальству. Видит, дом, где начальник живет, новой краской выкрашен. Швейцар — новый, курьеры — новые. А наконец, и сам начальник — с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний хоть и угрюмо смотрел, а ничего не видел, этот — улыбается, а все видит.
Начал ретивый начальник докладывать. Так и так; сколько ни делал вреда, чтобы пользу принести, а вверенный край и о сю пору отдышаться не может.
— Повторите! — не понял новый начальник.
— Так и так, никаким манером до настоящего вреда дойти не могу!
— Что такое вы говорите?
Оба разом встали и смотрят друг на друга.
Комментарии
Вводная статья и комментарии — А. А. Жук
Подготовка текста и текстологические примечания К И. Соколовой
ВЕ — «Вестник Европы».
Изд. 1883 — «Современная идиллия», Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Изд. книгопродавца Н. П. Карбасникова. СПб., 1883.
Изд. 1933–1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в двадцати томах. М., ГИХЛ, 1933–1941.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.
ЛН — «Литературное наследство».
М. Вед. — «Московские ведомости».
H В — «Новое время».
03 — «Отечественные записки».
РМ — «Русский мир».
PC — «Русская старина».
«Салтыков в воспоминаниях…» — Сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., Гослитиздат, 1957.
С — «Современник».
Современная идиллия*
Сатирический роман «Современная идиллия» — одна из вершин художественного творчества Салтыкова — вырос из рассказа под тем же названием, который писатель «вынужден был», по его словам, написать в «два вечера» — для заполнения бреши, сделанной цензурой в февральской книжке «Отеч. зап.» за 1877 г. Созданный «под впечатлением <…> этого переполоха», то есть запрещения рассказа «Чужую беду — руками разведу» (см. т. 12 наст. изд.), рассказ «Современная идиллия» заключал «мысль, что для презренного нынешнего времени другой литературы и не требуется» (как с гневным сарказмом писал Салтыков П. В. Анненкову 2 марта 1877 г.)[48]. Под «другой литературой» подразумевалась литература высокоидейная, откликающаяся на важнейшие события современности. Вновь написанный рассказ (в отличие от запрещенного, касавшегося судеб революционной интеллигенции 70-х годов) был посвящен изображению «утробных» похождений, которым предаются «годящие» интеллигенты (Рассказчик и Глумов), пытаясь таким образом избежать подозрения в неблагонадежности.
Выполняя сразу же возникшее намерение создать «несколько таких рассказов», в мартовском и апрельском номерах журнала за 1877 г. и тех же номерах за 1878 г. Салтыков продолжил историю героев. Первоначальная наметка подверглась при этом серьезному углублению: гарантией политической благонадежности служит не мирная обывательщина, но агрессивный аморализм. В повествование вплетается, сближая его с циклом «Господа ташкентцы», «Дневником провинциала в Петербурге», рассказом «Дети Москвы», тема хищнической уголовщины, спекулятивного ажиотажа. Судьба героев приобретает большую значительность; вначале им кажется, что «годить» и «жить» — понятия вовсе друг с другом ненесовместимые» (см. стр. 319); в продолжении раскрываются «все мытарства, составляющие естественную обстановку карьеры самосохранения». Вновь написанные части складываются в единый сюжет. Первый рассказ оказывается лишь интродукцией к углубившейся главной теме. Замысел развертывается в сатирический роман.
Исторические обстоятельства 1879–1881 гг.: подъем революционного движения, оживление и усложнение общественно-политической жизни страны — отодвинули осуществление замысла писателя. Работа возобновляется только в 1882 г., когда контрнаступление реакции по всему общественному фронту делает тему «Современной идиллии» необычайно актуальной. 8 июня 1882 г. Салтыков информирует Н. А. Белоголового: «Теперь надо писать о светопреставлении. Вы спрашиваете, что я готовлю дальше? Да вот хотелось бы «Современную идиллию» кончить <…> в этом занятии и проведу осень».
Салтыков собирался «Современной идиллией» привести «цензуру в изумление», иронически подразумевая невинный в цензурном отношении характер предполагаемого цикла (см. цитированное письмо к Анненкову). Он привел ее в ярость. Роман занял в его творчестве одно из первых мест по обилию и серьезности вызванных им цензурных преследований. Второе предостережение «Отеч. зап.», объявленное 18 января 1883 г., было мотивировано, в частности, содержанием «Злополучного пискаря, или Драмы в Кашинском окружном суде» (главы XXIII–XXIV)[49].
В этих обстоятельствах завершение романа, судя по письмам Салтыкова и авторским признаниям в рукописи XXVIII главы (см. стр. 374), было вынужденно свернуто. Одно время он вообще сомневался в том, что удастся опубликовать последние главы: «Современная идиллия», вероятно, не будет кончена, по крайней мере, в «Отеч. зап.» (А. Л. Боровиковскому, 31 января 1883 г.); «Ввиду второго предостережения и так мотивированного, я отложил продолжение «Современной идиллии» (ему же, 15 февраля 1883 г.). 2 апреля 1883 г. Салтыков обратился за советом к издателю «Отеч. зап.» А. А. Краевскому: «Прошу Вас прочитать в корректуре окончание «Современной идиллии». Хотя мне хотелось бы не оставлять этой вещи без конца, однако, ежели Вы почему-либо усомнитесь, то можно будет статью отложить <…>». Окончание в печати появилось, но автор считал, что «Современную идиллию» он «кой-как скомкал» (см. письма к Г. З. Елисееву и к А. Л. Боровиковскому от 4 мая 1883 г.).
Происхождение названия романа, возможно, связано с повестью В. Авенариуса «Современная идиллия» (03, 1865, №№ 6–7), воспевавшей как раз «телесные упражнения» (вошла в его книгу «Бродящие силы» и вызвала резкую рецензию Салтыкова — см. т. 9, стр. 237–242). В салтыковском романе это название наполнилось глубокой трагической иронией.
Замысел «Современной идиллии» определился, таким образом, не сразу. Тем не менее это произведение, неожиданно начатое, писавшееся по частям и со значительными перерывами, а в заключительной своей части «скомканное», оказалось органичным и цельным.
«Современная идиллия» — не обычный салтыковский «цикл», тем более не «сборник», а сатирический роман, и автор настаивал на этом. Он писал А. Н. Пыпину (1 ноября 1883 г.) по поводу отклика «Вестника Европы» на отдельное издание произведения: «Современная идиллия» названа «Сборником», но почему — совершенно не понимаю <…> Ежели стать на точку зрения «Вест. Евр.», то и «Записки Пиквикского клуба», и «Дон Кихота», и «Мертвые души» придется назвать сборниками». Мнение о том, что его произведение — «настоящий роман», писатель высказал также в беседе с Л. Ф. Пантелеевым[50].
Характеризуя «Современную идиллию», следует учитывать своеобразный взгляд Салтыкова на жанр романа в современной ему литературе[51]. Он стремился воплотить здесь художественно те возможности жанра, о которых писал как литературный критик.
На протяжении 70-х годов Салтыков неоднократно заявляет об исчерпанности такого романа, который растет на «почве семейственности», разрешает интимно-психологическую, обычно — любовную, коллизию и представляет человека преимущественно в его «личном» определении. В «Современной идиллии» эта критика продолжена художественно-сатирическими средствами: в тексте пародированы образцы «романов», которые «можно изо всего сделать, даже если и нет у автора данных для действительного содержания» («Плоды подчиненного распутства…», «Оленька, или Вся женская жизнь в нескольких часах»), в сюжете комически снижены традиционные «романические» ситуации и образы («любовная» история Глумова, «украсившего свой обывательский формуляр» поступлением «на содержание к содержанке» Фаинушке; фигура княжны Рукосуй-Пошехонской, юмористически отразившая некоторые черты героинь классического русского и западноевропейского романа).
Салтыков предсказывал неизбежное расширение рамок романа, изменение всей его архитектоники, смену героев и конфликтов в связи с резкими переменами в современном мире и человеке. «Роман современного человека», животрепещущее содержание которого составляет, в частности, «борьба за существование», «зарождается где-то в пространстве и там кончается». Он «разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается <…> почти непредвиденным образом». «Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью», — насущная задача современного художника (т. 10, стр. 33–34). Эти мысли, высказанные еще в 1869 году, хотя и относятся к жанру романа в целом, а не только к его сатирической разновидности, звучат тем не менее как прямое теоретическое предварение «Современной идиллии».
Но Салтыков не только требовал преобразования жанра романа, он опирался на определенные жанровые традиции. Его издавна привлекала эпическая форма, сочетающая авантюрное и социально-психологическое начала с сюжетом-путешествием, представленная знаменитыми книгами Сервантеса, Гоголя, Диккенса.
В одной из рецензий 1871 г. Салтыков подчеркнул особую актуальность для современной литературы «задачи», которую ставил Гоголь: «провести своего героя через все общественные слои» (т. 9, стр. 440). Первый опыт реализации такого замысла дан в «Дневнике провинциала в Петербурге».
В «Современной идиллии» он продолжает разработку формы большого сатирического повествования, вызревавшей в его творчестве на протяжении целого десятилетия.
Избранная структура романа-обозрения позволила представить «срез» многих пластов действительности, охватывая этот разнородный материал единой точкой зрения. Несовпадение героев-обозревателей, Рассказчика и Глумова, с ситуациями, в которые они последовательно попадают, послужило, в то же время, исходным моментом для богатой комической разработки и характера и обстоятельств.
В сюжете и образах «Современной идиллии» нашла отражение вся противоречивость социально-экономического уклада пореформенной России, где, по замечанию Ф. Энгельса, «современная крупная промышленность» была «привита к первобытной крестьянской общине и одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации»[52]. Взгляду «героев», гонимых свирепостью «внутренней политики», открываются, в едином сюжетном движении, сжигаемый лихорадкой буржуазных афер «деловой Петербург», «выморочный» уездный городишко Корчева, село Благовещенское, разграбленное местными кулаками «Финагеичами» и пришлым арендатором Ошмянским; они встречают неизжитые черты крепостной психологии (эпизоды в деревне Проплёванной), тщательно сохраняемые дореформенные обычаи (история князя Рукосуй-Пошехонского); они сталкиваются с исчерпывающей, итоговой у Салтыкова, галереей типов русского буржуа: от патриархального «купчины» Парамонова до «мецената» Кубышкина, создателя своей собственной прессы.
В жанре общественного романа, в частности, и сатирического романа, как он представлен Салтыковым, судьба человека всецело определяется историческими обстоятельствами, фактами современной политической жизни. Именно они составляют здесь ту необходимую, по мысли писателя, «не случайную» «обстановку, которая <…> влияет на <…> характер» героя и «вызывает с его стороны такие, а не иные действия» (т. 9, стр. 441–442). «Время» в романе такого типа является определяющим началом.
Салтыков работает над «Современной идиллией» в период, когда в России подготавливается, назревает и обрывается, не разрешившись революцией, вторая после 60-х годов революционная ситуация. Это время нового подъема крестьянского протеста в разоренной пореформенной деревне, время «отчаянной схватки с правительством горсти героев» «Народной воли» (В. И. Ленин)[53] время оживления либерально-оппозиционного движения, выступавшего с лозунгами «законности», «правопорядка», «свободных учреждений»[54].
Выход из кризиса правительство искало то на путях суровых «чрезвычайных мероприятий», то «вынуждено было» идти «на уступки»[55]. Но исторических условий, которые смогли бы обеспечить успех революционного натиска, все же в стране не существовало. Устранение Александра II (1 марта 1881 г.) не дало благоприятных для революционеров последствий, истощив их собственные силы. «Волна революционного прибоя была отбита[56]. 29 апреля 1881 г. публикуется манифест Александра III «об укреплении самодержавия». Министры либеральной ориентации во главе с М. Т. Лорис-Меликовым устраняются из правительства; «диктатуру сердца» сменяет демагогическая «народная политика» Н. П. Игнатьева, в мае 1882 г. уступившего место печально знаменитому Д. А. Толстому, который «был создан для того, чтобы служить орудием реакции»[57]. Вместе с К. П. Победоносцевым Д. А. Толстой открыто объявляет реформы 60-х годов «преступною ошибкой»[58].
Навстречу правительственной реакции шла волна реакции общественной, вызванная «массовым политическим развращением населения <…> самодержавием»[59], страхом дворянско-буржуазных сил перед перспективой революции и разочарованием широких кругов интеллигенции в революционном народничестве. «Мания доносов распространяется во всех слоях общества»[60]; в высших сферах возникает тайная организация для искоренения «крамолы» — «Священная дружина» со своей сетью шпионов и провокаторов. Зенита влияния достигает M. H. Катков. Либеральная пресса («Голос», «Русская правда») смиренно просит «о помиловании»[61].
Идейный кризис, практика политических провокаций, с одной стороны, расцвет в пореформенные годы буржуазного преуспеяния и хищничества, с другой, повлекли за собой невиданный ранее рост преступности.
«Современная идиллия» содержит множество намеков на текущую историю России 1877–1883 гг. Прием раскрытия «политики в быте» (М Горький), может быть, нигде у Салтыкова не явлен столь ярко.
Преодолевая искусством эзоповского иносказания цензурные запреты, Салтыков сумел откликнуться на перемены и колебания правительственного курса (игра интриг и перемещений в «квартале»); сатирически отразить злободневные официальные документы, вроде «Инструкции полицейским урядникам», и действия администрации («оздоровительные проекты» в XIII гл.). Ему удалось запечатлеть политические процессы над революционерами («Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде»), сыскную самодеятельность «Священной дружины» («Клуб Взволнованных Лоботрясов» и его добровольные агенты). Охранительная пресса узнавала себя в гротескном облике газет «Краса Демидрона» и «Словесное Удобрение»; факты биографий реакционных генералов (М. Г. Черняева, Р. А. Фадеева, И. В. Гурко) насытили колоритными подробностями образ странствующего полководца Редеди.
Но при всем богатстве конкретного политического подтекста «Современная идиллия» не является столь непосредственным откликом на ход событий, как возникшие во время работы над нею «Письма к тетеньке» (см. т. 14 наст, изд.), хронологически и по материалу очень близкие к основным ее главам (XII–XXIX). Создание панорамы общественных сил и событий не было на сей раз целью писателя.
Главную особенность своего сатирического романа сам Салтыков усматривал в единстве идеи, которую герои воплощают всей своей судьбой. «Это вещь совершенно связная, проникнутая с начала до конца одной мыслию, которую проводят одни и те же «герои». Герои эти, под влиянием шкурного сохранения, пришли к убеждению, что только уголовная неблагонадежность может прикрыть и защитить человека от неблагонадежности политической, и согласно с этим поступают, то есть заводят подлые связи и совершают пошлые дела» (письмо к А. Н. Пыпину от 1 ноября 1883 г.). Глубокой «мыслью» романа является драма обмеления человеческой личности, угасания идей, оскудения жизни под игом реакции.
Сумрачный образ времени — в конечном счете — создается крупными штрихами, характеризующими действия власти и поведение общества в их основных приметах и проявлениях. Кроме того, сквозь черты современности всюду просвечивает история. В романе много исторических ассоциаций, параллелей, реминисценций, возникающих по разным поводам (прогулки героев по столице с ее памятными местами, генеалогия рода Гадюков-Очищенных, биография князя Рукосуй-Пошехонского, «счет» купца Парамонова). Можно сказать, что в «Современной идиллии» в сжатом виде воспроизведен взгляд Салтыкова на историю российской государственности, сложившийся у него еще с конца 60-х годов[62], — с характерным выбором эпох и фактов, демонстрирующих произвол и развращающую силу самодержавия, политическую беспринципность дворянского общества, забитость социальных низов.
В гротескных персонажах «Сказки о ретивом начальнике», в собирательных образах «исправников», «урядников», «гороховых пальто» и т. д., Салтыков раскрывает природу деспотической власти, которая превращает существование каждого «невинного обывателя» в «шутовскую трагедию» и «катастрофу». Особенно значительны здесь проходящие через основные главы текста сквозные образы вездесущего «горохового пальто», «невидимого» штаб-офицера. Они почти «нематериальны»: буквально растворяясь в воздухе и снова возникая из него, но всегда вовремя оказываясь на страже «основ», именно они символизируют в романе атмосферу политического сыска и доносительства реакционной эпохи.
Но герои обуздания — не главные лица в этом произведении Салтыкова, в отличие от «Помпадуров и помпадурш» и «Господ ташкентцев». Не «субъект», а «объект» реакции — общество находится здесь в фокусе изображения.
В «Современной идиллии» Глумов и Рассказчик — более «герои», чем в других произведениях Салтыкова («В среде умеренности и аккуратности», «Недоконченные беседы»), где им принадлежит скорее функциональная роль проводников определенного взгляда на вещи. Писатель связал с этими образами моральные проблемы, очень злободневные и общественно значительные. Они заключают, кроме того, заряд несомненной полемики с идейно-этическими построениями реакционной публицистики и философии.
Оба героя в сочетании воплощают самый широкий, массовый тип российского интеллигента — «среднего культурного человека», с характерной либеральной складкой («восторги по поводу упразднения крепостного права», «светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов» и т. д.). Они непричастны к политическому радикализму, но имеют потребность «свободно мыслить и выражать свои мысли по-человечески» и потому находятся в постоянном конфликте с властями, осуществляющими политический контроль. Автор одного из наиболее проницательных откликов на журнальную публикацию «Современной идиллии» — Г. Градовский отметил, что в романе «сатирически воспроизведено, как нынешние условия нашей жизни <…> отражаются на среднем русском человеке, на большинстве русского общества и народа»[63].
В сложное идейное целое, каким являются центральные образы романа, входит неотъемлемой частью разоблачение «измен и шатаний либерализма» (В. И. Ленин)[64]. Но было бы ошибкой отыскивать в сюжетной судьбе героев простое отражение истории политической капитуляции «либеральной партии» после 1 марта 1881 г. «Либерализм» в данном случае следует понимать скорее как «нормальную окраску убеждений» средней русской интеллигенции (по выражению Салтыкова). Ирония, сарказм писателя вызваны эфемерностью этого «свободолюбия» — чисто теоретического и ничем не подтверждаемого реально.
«Средний человек» — одна из основных типологических категорий салтыковской сатиры, наиболее точное определение ее объекта в 80-е годы[65]. «Средний человек» — посредствующее звено между носителем революционной мысли («высокоинтеллигентным человеком» в эзоповском словаре «Современной идиллии») и не пробужденной еще «мелкой сошкой» — массами. Перед фактом политической неразбуженности народных масс выход революционера из гибельной изоляции и приближение социальных перемен Салтыков, в известной мере, связывает с гражданской активизацией «среднего интеллигента». И обратно: по мысли писателя, исторический застой, торжество реакции («суматохи», «ябеды», как обозначено в романе) усугубляются и затягиваются, когда идейно деморализованный («заснувший», «очумевший») средний культурный слой не в состоянии быть для передового деятеля «тою материальною и нравственною поддержкою, которую дает общество и перед которою невольно задумывается самая нахальная беззастенчивость» (см. т. 9, стр. 162).
Глубокую тревогу Салтыкова вызывало то обстоятельство, что под флагом борьбы с политической «крамолой» карательная практика правительства направлялась на гораздо более широкий объект: «Уж не об динамите и цареубийстве идет речь, а о простом человеческом образе мыслей», — писал он Г. З. Елисееву 20 января 1883 г. «Усиленные меры» «наводили ужас» на общество в целом[66]. Реакционная «ябеда», утверждается в романе, «захватила в свои тиски <…> «среднего» человека и на нем <…> сосредоточила силу своих развращающих экспериментов».
Рассказчик и Глумов проходят все стадии убывающего свободомыслия, переживают «процесс мучительного оподления», чтобы в финале возмутиться и ощутить «тоску проснувшегося Стыда».
Первый этап их «отрицательной эволюции» — полное погружение в растительное существование. Философию пассивного пережидания трудного исторического момента Салтыков обозначил понятием «годить» («погодить»). Незадолго до начала работы над «Современной идиллией» он беседовал с Ф. M Достоевским «о трудности определить явление, назвать его настоящим словом»[67]. Такое «настоящее слово» для общественного тонуса реакционной эпохи было найдено им и сразу оценено современной критикой: «Глумов и Рассказчик возводят в принцип очень обыкновенную способность годить», но, «когда, например, мы «годим», то нам кажется, что это совершается вполне прилично и далеко не так глупо, не так смешно, как у щедринских героев»[68]. Салтыков блистательно реализовал в комическом действии сложившуюся у него еще с 60-х годов систему устойчивых значащих деталей, которые характеризуют быт людей, свободных от умственных интересов.
В романе часто встречаются упоминания первоклассных и второсортных петербургских «рестораций» («Борель», «Доминик», «Палкин», «кухмистерская Завитаева», «Малоярославский трактир» и т. д.), известных столичных колбасных, булочных, фруктовых лавок, винных «заведений» («Шпис», «Людекенс», «булочная Филиппова», «Милютины лавки», «Елисеев», «Эрбер», и пр.), увеселительных мест («балы Марцинкевича», «танцклассы Кессених», «Пале-де-Кристаль», «Демидрон» и т. п.)[69]. У Салтыкова все подобные упоминания, давая «топонимику» благонамеренности, были сатирически экспрессивны, психологически выразительны: за ними вставала не только живописная картина города, но определенный образ жизни, моральный портрет завсегдатая подобных заведений, хорошо известный современнику.
Вскрывая печальную логику неизбежного перехода «благонамернности выжидающей» в «благонамеренность воинствующую», писатель заставляет своих героев на следующем этапе их приспособленческой карьеры вступить в общение с полицией и взяться за организацию уголовных преступлений. Мотив преступности, уголовщины проходит через все произведение, персонажи, с которыми сближаются герои: аферист Балалайкин, «злокачественный старик» Очищенный, содержанка Фаинушка, Выжлятников — дают представление о разных формах аморальности. Проблема аморализма ставится в романе широко, истолковываясь как «стихия общественной жизни» (И. А. Гончаров), каждый герой подвергнут своеобразной «этической пробе».
Привлекая внимание Салтыкова давно, в полную силу эта мысль зазвучала именно в «Современной идиллии»: уголовщина и контрреволюционная политика, «благонамеренность» и «воровство» объединены в романе как безусловно родственные общественные явления.
Реакционная пропаганда хотела найти корни социальной преступности в революционной идеологии. Стремясь дискредитировать своих идейных противников, охранители тенденциозно интерпретировали социалистическое учение о собственности, приписывая революционной среде грабительство в качестве «идейного принципа»; самих революционеров выдавали скорее за уголовных, чем за политических преступников[70]. «Московские ведомости» настойчиво внедряли в сознание обывателя, что народники — «чистые воры»[71] и «сама их цель составляет, сколько там ее ни маскируй красивыми словами <…> возведенное в принцип грабительство»[72]. Революционная нелегальная пресса была вынуждена выступать с опровержением инсинуаций[73].
В романе Салтыкова именно «стезя благонамеренности» приводит Рассказчика и Глумова в компанию подонков общества и на скамью подсудимых. Салтыков опроверг реакционную клевету, которая намеренно «смешивала Прудона с Юханцевым». В черновой редакции главы X, не вошедшей в окончательный текст, этот тезис сформулирован с наибольшей публицистической четкостью (см. стр. 287–291 и прим.). Но, изъяв эти страницы, писатель сумел всей историей своих героев выразить мысль о том, что «общий уголовный кодекс защитит от притязаний кодекса уголовно-политического». Этот аспект романа естественно вызвал недовольство реакционной газеты «Гражданин», призвавшей «восстать» против «нравственной стороны» книги, в которой «квинтэссенция разврата» и «все обхватывающая грязь» прямо объяснялись разгулом реакции: «точно <…> торжествующая над падшим врагом песня!»[74]
В стремлении любой ценой добиться «снисходительно брошенного разрешения: «живи!», герои Салтыкова смешны, ничтожны, презренны, в описании их «подвигов» писатель открыто саркастичен. Но в «диалектике чувств» Рассказчика и Глумова приступы панического страха и благонамеренного рвения периодически перемежаются вспышками стихийного возмущения. Благодаря этому в важнейшие поворотные моменты сюжета их образы освещаются иным светом: происходит углубление предмета сатирико-психологического исследования, черты трусливых либералов растворяются в облике затравленного человека. История героев становится стержнем, вокруг которого писатель группирует проблемы, раскрывающие драматические судьбы честной мысли.
Трагическая беззащитность, «неприкаянность» интеллигенции в 80-е годы становится общей темой демократической литературы[75]. Салтыков благодаря свойственной ему «силе анализа, с которой он умел разбираться в разных общественных течениях» (А. И. Эртель[76]) проникает в глубь — в важнейшие коллизии эпохи.
Исключительную принципиальную важность имеет в романе, как сказано, сопоставление человека «высокоинтеллигентного», человека «среднего» и «мелкой сошки». Салтыков приоткрывает здесь идейную драму поколения 80-х годов.
Пассивная позиция «заснувшей» массы образованного общества обличена всей историей духовных блужданий героев романа. Но признанная единственно благородной «высокоинтеллигентная» — революционная позиция, революционное «дело», в его имеющихся на сегодня исторических формах вызывает сомнение в своей результативности, плодотворности: «да и то ли еще это дело, тот ли подвиг? нет ли тут ошибки, недоумения?» Глубокое сочувствие к революционной самоотверженности под покровом фантастики пронизывает «представление» «Злополучный пискарь». Как раз на тех страницах романа, где берутся под защиту носители революционной мысли, отданные полицейским преследованиям и обывательской травле, в наибольшей мере открывается личность Салтыкова — с его высокой этикой, суровостью нравственных требований, обращенных к себе: в 80-е годы он все чаще упрекал себя за то, что «не шел прямо и не самоотвергался». «Могучий лиризм» этих глав «Современной идиллии» уловила еще прижизненная критика[77].
Но, восхищаясь героической цельностью облика революционера, писатель не видел смысла в террористических актах, которые, не изменяя порядка вещей, тяжко отражались на положении общества и литературы. Отсюда — сдержанно-иронические суждения о «крамоле потрясательно-злонамеренной» в тексте романа.
Кроме того, — и это главное, — Салтыков исполнен глубоко драматического сознания, что между революционным «делом» и «объектом его» — народом «кинута целая пропасть» темноты крестьянства, обманутого и натравленного властью на «народных заступников». В романе тревожно звучит мотив «ловли сицилистов». Ошибочно принятые за революционеров-социалистов, попадают под удар «народной Немезиды» Глумов и Рассказчик. Эти горькие страницы запечатлели «великую трагедию истории русской радикальной интеллигенции»: «ее лучшие представители, не задумываясь, приносили себя в жертву <…> освобождению» народа, «а он оставался глух к их призывам и иногда готов был побивать их камнями…»[78].
И еще одного болезненного признака, наступившего «кризиса идей» коснулся Салтыков в «Современной идиллии». По ходу повествования неоднократно возникает в разных вариациях тема «упразднения мысли»: «дело человеческой мысли проиграно навсегда <…> человек должен руководиться не «произвольными» требованиями разума и совести, которые увлекают его на путь погони за призрачными идеалами, но теми скромными охранительными инстинктами, которые удерживают его на почве здоровой действительности». Речь идет здесь о той широкой ревизии гуманистических и социалистических заветов «сороковых годов», которой был ознаменован рубеж 70-80-х годов.
В понятие «призрачных идеалов» здесь вкладывается не то значение, характерное для салтыковского строя мысли («призраки» — пережившие себя неразумные жизненные основания, утратившие внутренний смысл постулаты), в котором оно встречается в его творчестве с 60-х годов[79]. Здесь воспроизведено осмысление этого понятия охранительной публицистикой, которая именовала «призраками» революционные, социалистические идеалы. В начале 1882 г., например, быстро разошлась книга H. H. Страхова (за сочинениями которого Салтыков, судя по его письмам, следил) «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» (СПб., 1882), где развитие русской мысли с 40-х годов, шедшее в русле революционной критики действительности, объявлялось бесплодным, ведущим к тупику: «наша мысль витает в призрачном мире», «наша злоба и любовь устремлены на призраки» (стр. 7–8). Страхов доказывал, что передовые стремления «удовлетворены быть не могут» («люди предаются самодовольным мечтам о неслыханном еще совершенстве и обновлении человечества» — стр. 8–9), и приходил к выводу, что «факты» «противоречат теории прогресса» (стр. 201).
Салтыков, в последний период своего творчества ощущавший себя «все больше и больше <…> человеком сороковых годов» (см. письмо к П. В.Анненкову от 10 декабря 1879 г.), не мог не выступить против тенденции, закрывавшей идейную перспективу освободительной мысли.
Роман завершается явлением Стыда. Стыд, совесть — образ сложного содержания, вызревающий у Салтыкова в конце 70-х годов («Дворянские мелодии», «Чужой толк», «Господа Головлевы»). 25 ноября 1876 г. он писал П. В. Анненкову, что «современному русскому человеку» «несколько стыдно» жить, но «большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема <…> и я стараюсь, по возможности, трогать ее».
В трактовке Салтыкова понятие стыда лишено примиряющего — «прощающего» смысла. Наоборот: стыд воплощает идею нравственного возмездия, которое зло несет в себе самом. Как точно заметил об этом критик-современник, «попранная жизнью правда является в сатире мстительною и карающею»[80].
Образ Стыда вмещает прежде всего просветительское, гражданское начало и связывается с пробуждением сознания и чувства ответственности человека за свое общественное поведение. В то же время этот образ запечатлел стремление писателя «среди неистовств белой анархии» отыскать как бы в самой человеческой природе преграду торжеству «негодяйства». 1876–1884 гг. в творчестве Салтыкова характеризуются настойчивой апелляцией к внутренней силе и возможностям личности. Не снимая значения социальных обстоятельств, писатель в то же время призывает современников «искать опору в самих себе» против развращающей власти «порядка вещей». Он упорно разрабатывает мотив коренного перелома в человеческой судьбе, который озаряет низменное существование внезапным, часто трагическим, прозрением, поднимая со дна «одичалой», или спящей, души остатки человечности («Больное место», «Господа Головлевы»). «Современная идиллия», главные герои которой нерасторжимо сочетают конкретно-социальное и общечеловеческое, концентрировала эту идею. Ее финал доказывал, что человек не может быть обращен в «идеально-благонамеренную скотину». И хотя Салтыков не преувеличивал значения общественного действия Стыда, он все же видел в нем силу естественного сопротивления жизни мертвящему началу реакции.
«Современная идиллия» синтезировала основные стилевые направления, определившиеся в салтыковской сатире 70-х годов: художественное преувеличение как метод раскрытия сущности общественно-политических институтов и природы социальных типов, оригинальный сатирический психологизм.
Роман отличает яркая фабульность, главы утрачивают условную самостоятельность, свойственную обычно «циклам» Салтыкова. Стройностью и законченностью сюжета книги он сам дорожил (см. цитированное письмо к А. Н. Пыпину).
«Современная идиллия» сочетает разнообразные способы построения образа (сатирико-психологические «аналитические» этюды, тонко использованный прием литературных реминисценций, лаконичные и яркие собирательные характеристики).
Это произведение вобрало едва ли не все «малые формы» салтыковской сатиры: «Сказка о ретивом начальнике», фельетон «Властитель дум», драматическая сцена «Злополучный пискарь», многочисленные рассказы (повествования Очищенного и Редеди), счет-жизнеописание купца Парамонова, «Устав о благопристойности», газетный репортаж, проспект, объявление. Сочетание этих жанровых миниатюр с сюжетом позволило разносторонне обличить несостоятельный общественный порядок; в то же время оказались выведены из-под цензурного удара наиболее идейно ответственные места текста (фельетон о Негодяе, «Сказка», «Драма»), представленные как «вставные» эпизоды, «ничего общего с сущностью статьи не имеющие»[81].
Роман вообще сверкает мастерством эзоповского письма. Здесь представлены едва ли не все выработанные писателем эзоповские приемы: хронологические смещения, как бы относящие действие к временам минувшим; разоблачение отечественных безобразий под видом рассказа о Зулусии и Египте, остроумная игра административным рангом сатирических героев, которые служат квартальными, но рассуждают, как министры; прием «идеологически чуждых сатирику псевдонимов»[82], под которыми идут самые смелые обличения режима; виртуозное применение постоянных «сигналов» в разговоре с читателем — излюбленных цитат, собственных имен, официальных формул, характеризующих деспотический произвол власти и проявления «благонамеренности».
Заслуживает быть отмеченной еще одна специфическая черта «Современной идиллии»: это «петербургский» роман, запечатлевший облик столицы, с ее имперским масштабом и парадным великолепием, памятниками отечественной истории и культуры, ощущением пульса общегосударственного бытия и с приметами трагического личного одиночества человека среди уличной жизни большого города. Социальная топография Петербурга служит в романе ярким характеризующим средством. Но, кроме этого, частная «история» двух партикулярных лиц, непрерывно проецируясь на большой фон, от него получает как бы дополнительную значительность.
Новая вещь Салтыкова имела огромный читательский успех, отмеченный большинством рецензентов. Отражением его можно считать самое количество отзывов на журнальную публикацию романа: в столичной и провинциальной печати их появилось около семидесяти[83]. Успех «Современной идиллии» тенденциозно пытались оспорить только «Московские ведомости»: «г. Щедрин» перестал быть «героем» «петербургской публики, чаруемой им ежемесячно <…> сатирами своими и идиллиями»[84]. Но, словно подтверждая горькую справедливость заключения Салтыкова, что современная публика лишена чувства ответственности за положение литературы (гл. XXVIII), в обстановке усиливающейся реакции русская критика откликнулась на отдельное издание романа лишь одной развернутой рецензией К. К. Арсеньева[85], вызвавшей возражение автора (см. выше): Салтыков не согласился с жанровым определением произведения («сборник»), оспорил характеристики его художественного строя («фельетонность» и «водевильность»).
Первые главы романа встретили единодушное одобрение: их отнесли «к лучшим опытам сатирического дарования» писателя[86]; была подчеркнута «необыкновенная едкость» сатиры[87], которая «касается коренных условий общественной, литературной и политической жизни» страны[88]. По мере развертывания замысла возникла резкая поляризация мнений. Реакционная пресса («Новое время», «Минута», «Гражданин», «Киевлянин») встречала каждую новую часть романа в штыки. Общественное действие сатиры пытались нейтрализовать фальшивыми обвинениями в художественной и нравственной несостоятельности ее («газетно-фельетонные упражнения», «резвые пошлости» для потехи «улицы»)[89], упреками в односторонности «безотрадного» взгляда на жизнь, в неумении отражать «современность»[90]. Критики же либерально-демократической печати восприняли «Современную идиллию» каккрупнейшее литературно-общественное событие: среди «черных дней» «ум и чувство читателя отдыхают над «Современной идиллией», которая будит «мужественные и честные гражданские чувства» и свидетельствует, что «не вовсе оскудела наша литература» — читаем в журнале «Дело»[91]; по утверждению другого рецензента, Салтыков здесь «словно говорит не от одного своего лица, но от лица всех лучших людей русского общества», поэтому «ни один писатель не читается так жадно»[92]. Следует признать, что текущая критика в общем справлялась с задачей истолкования нового произведения («Голос», «Эхо», «Сын отечества», «Одесский вестник» и другие издания посвятили ему целые серии статей), хотя, конечно, не охватывала всей идейной полноты романа и, оставаясь в целом на либеральных позициях, иногда пыталась смягчить непримиримую резкость салтыковского отрицания (этим в особенности грешат многочисленные статьи Арс. Введенского, собранные впоследствии в его книге «Литературные характеристики», СПб., 1903).
Отзывы на «Современную идиллию» позволяют проследить рост значения Салтыкова в глазах критики: если по поводу первых глав по инерции повторились старые упреки в идейной «неясности» и «легкости» салтыковской сатиры, то в 1882 г. к большинству рецензентов, даже недоброжелательных, уже пришло ощущение ее литературного масштаба. Делаются обычными сравнения Салтыкова с величайшими сатириками русской и мировой литературы: Ювеналом, Свифтом, Рабле[93], становится ясно, что он «достойно занял место Гоголя»[94]. Возникают попытки постичь художественную природу салтыковской сатиры: был понят ее неподражаемый стиль[95], замечена глубокая трагическая подкладка: «горький смех»[96], «трагические глаголы, что «жгут сердца людей»[97]. Но вполне принять смелость и глубину сатирического творчества Салтыкова оказалось не под силу рядовой газетно-журнальной критике, так и не расставшейся с упреками в излишествах «преувеличения» и «шаржировки».
Это смогли сделать корифеи русской литературы, оставившие глубокие и тонкие оценки «Современной идиллии». Неотразимую силу первых глав романа (публикации 1877–1878 гг.) лаконично охарактеризовал И. А. Гончаров: «читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь «современной идиллией»[98]. Продолжение вызвало восхищение И. С. Тургенева: «Такого полета сумасшедше-юмористической фантазии я даже у него не часто встречал» (П. В. Анненкову 25 сентября 1882 г.); «с <…> наслаждением прочел я <…> Вашу «Современную идиллию» <…> Сила Вашего таланта дошла теперь до «резвости»…», «прирожденная Вам vis comica никогда не проявлялась с большим блеском» (М. Е. Салтыкову 24 сентября 1882 г., 31 октября 1882 г.)[99]. По глубокому замечанию П. В. Анненкова, новые главы «Современной идиллии» «открывают бесконечные галереи для мысли <…> Что за размах у человека!»[100].
По воспоминаниям Г. А. Русанова, очень ценил роман Л. Н. Толстой, он особенно выделил «суд над пискарями», цитировал на память и считал «прелестным» изображение «взволнованных лоботрясов» и нашел слова высокой похвалы для салтыковского стиля: «Хорошо он пишет <…> икакой оригинальный слог выработался у него», «великолепный, чисто народный, меткий слог»[101].
«Современная идиллия» публиковалась в журнале «Отечественные записки» в 1877, 1878 и 1882–1883 гг.
Первый рассказ, напечатанный под заглавием «Современная идиллия» в февральской книжке «Отечественных записок» за 1877 г., имел первоначально самостоятельное значение (см. выше стр. 300). В мартовской и апрельской книжках журнала появилось продолжение «Современной идиллии» под номерами II и III. Таким образом, со второго рассказа была введена нумерация, что свидетельствовало об оформлении замысла крупного произведения, состоящего из целого ряда глав.
Возобновление публикации «Современной идиллии» через год, в февральской книжке «Отечественных записок» за 1878 год, ознаменовалось серьезным цензурным инцидентом, о котором Салтыков писал А. М. Жемчужникову 28 марта: «статью мою цензура из книги вырезала». Цензор Лебедев усмотрел в ней глумление «над происхождением нашего государства от основания его до настоящего времени»[102]. Поэтому в следующей, мартовской книжке «Отечественных записок» указан только номер IV, а вместо текста — три ряда точек; глава же V журнальной редакции, напечатанная в этой книжке, начиналась с объяснения и краткого пересказа запрещенного текста. Кроме того, в примечании автор напомнил читателям содержание очерков, опубликованных в 1877 г. (см. стр. 336).
Журнальная публикация «Современной идиллии» в 1878 г. оборвалась на главе IX. Судя по примечанию в черновой рукописи незаконченной и неопубликованной главы X (см. раздел «Из других редакций» и прим. к нему стр. 377–378), Салтыков намеревался продолжить «Современную идиллию» в 1879 г., однако печатание ее возобновилось лишь в сентябре 1882 г. главой XII. По мнению Б. М. Эйхенбаума, за время перерыва в публикации Щедрин, по-видимому, «пересмотрел напечатанное раньше и разделил очерки II и III на два, так что вместо девяти очерков получилось одиннадцать» (Изд. 1933–1941, т. XV, стр. 589).
После завершения журнальной публикации (ОЗ, 1883, № 5) в том же 1883 г. появилось отдельное издание «Современной идиллии», единственное при жизни Салтыкова («Современная идиллия», Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Изд. книгопродавца Н. П. Карбасникова. СПб., 1883), Для отдельного издания журнальный текст был доработан.
Таким образом, с гл. XII нумерация глав в журнальной публикации и в отдельном издании совпадает. В Изд. 1883 Салтыкову удалось напечатать главу IV, ставшую теперь VI, вырезанную цензурой из «Отечественных записок».
Кроме того, текст журнальной публикации подвергся при подготовке отдельного издания довольно значительной стилистической правке: главы I-Х были сокращены, главы XXVI–XXVIII — расширены, частично за счет введения рукописных вариантов.
«Современная идиллия» вошла в состав седьмого тома Сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) — СПб., 1889, изд. автора, вышедшего из печати между 9 и 15 ноября 1889 г. В этом издании текст романа не претерпел сколько-нибудь существенных изменений.
Рукописи «Современной идиллии» дошли до нас далеко не полностью: сохранились, главным образом, черновые редакции, частично — наборные рукописи «Отечественных записок» (все — в ИРЛИ)[103] Рукописи содержат многочисленные разночтения, варианты, отрывки, не вошедшие в печатный текст.
В основу настоящего издания «Современной идиллии» положен текст Изд. 1883, сверенный со всеми печатными и рукописными источниками, указанными выше (изучение их впервые было осуществлено К. Халабаевым и Б. Эйхенбаумом при подготовке Изд. 1933–1941). Наиболее существенные варианты и разночтения, имеющиеся в тексте рукописи и журнальной публикации, приводятся в текстологических разделах примечаний. В разделе «Из других редакций» помещена незаконченная рукописная редакция главы X, не вошедшей в печатный текст, и четвертая редакция «Сказки о ретивом начальнике» из главы XX.
I*
Впервые — ОЗ, 1877, № 2 (вып. в свет 28 февраля), стр. 513–530, под заглавием «Современная идиллия», без нумерации, с датой под текстом «21 февраля 1877 г.»
Сохранились: 1)отрывок черновой рукописи со слов: «ранние обедни справлять» (стр. 10, строка 1 сн.), кончая словами: «Давно мы так не хохотали» (стр. 21, строка 4 сн.) и 2) наборная рукопись «Отечественных записок» рукой Е. А. Салтыковой, с правкой автора.
При подготовке Изд. 1883 рассказ получил порядковый номер I, текст его был сокращен, в частности, снято окончание, завершавшее в журнальной публикации рассказ как самостоятельное произведение:
Стр. 22. После абзаца: «На другой день я проснулся…» —
С тех пор прошло много лет, и мы всё «годим». Все дни мы проводим неразлучно с Глумовым, ни йоту не отступая от условленной программы и разнообразя ее только тем, что одна неделя проводится у меня на квартире, а другая — на квартире у Глумова.
В течение всего этого времени мы ни разу не почувствовали себя больными и, постепенно разъедаясь, дошли, наконец, до того, что сделались поперек себя толще. Но и это не отягощает нас, а как будто даже радует. Толщина не произвела в нас одышки, а только придала сановитости. Щеки у нас румяные, мяса белые и крепкие, как кипень, зубы все целы, а глаза смотрят так ясно, что не один директор департамента вчуже завидует нам.
Я не скажу даже, чтоб нам было скучно. Жизнь самая однообразная представляет возможность для бесчисленного множества таких спутанных комбинаций, которых, с первого взгляда, даже угадать нельзя. Что может быть проще первых десяти числ, а между тем какую путаницу можно при помощи их произвести! Так-то и жизнь. Нужно исключительно предаться процессу существования, чтобы понять это. Предайтесь ему, раздробите жизнь на мелкие кусочки, и вы увидите, сколько маленьких и очень затейливых фигурок можно из этих кусочков составлять.
Мы именно так и поступаем. Имея в запасе целый мешочек таких кусочков, мы каждый день вынимаем из него столько, сколько нужно, и складываем из кусочков самые разнообразные, а порою даже совсем неожиданные фигуры. Уверяю вас, что никогда не случалось, чтобы одна фигура точь-в-точь была похожа на другую.
Мы каждый день колесим по Петербургу, но переулков, в которых мы еще не были, право, осталось еще на многие годы ежедневного гулянья. Мы каждый день играем в сибирку, но таких комбинаций игр, которые еще никогда не приходили, но могут прийти — тоже осталось на многие годы.
Как бы то ни было, но «ходить» и «жить» — понятия вовсе друг с другом ненесовместимые. Это до такой степени верно, что я только на днях почувствовал первый позыв прихоти, но притом прихоти самой скромной и законной. Мне захотелось описать один из дней того жизненного периода, в продолжение которого нам суждено «годить». Я сообщил об этом намерении Глумову, и тот одобрил мой план.
— Теперь, — сказал он, — когда твои мысли и чувства достаточно устоялись, нет резона и прихоти не исполнить. Пиши.
Я написал то самое, с чем читатель сейчас познакомился, и прочитал мой рассказ Глумову. И его он одобрил.
— Ничего, мой друг, — сказал он, — чистенько. Мыслей маловато, на диалоги немножко смахивает, да по теперешнему суетливому времени другой литературы и не требуется.
Мало того: я понес мой труд к Алексею Степанычу — и он тоже похвалил.
— Прекрасно, голубчик, даже очень хорошо, — поощрил он меня. — То-то ведь в вас и дорого, что легкий этот дух в вас есть!
А коли есть «легкий дух» — значит, прочая вся приложится.
Тема «существовательства», основная в этой главе, связывает ее с очерком «День прошел — и слава богу!» из цикла «В среде умеренности и аккуратности».
Глава, по-видимому, содержит полемический подтекст: почти одновременно та же тема была затронута в охранительной литературе. На протяжении 1875–1876 гг. «Русский вестник» печатал сенсационные «разоблачительные» рассказы ренегата революционного движения А. А. Дьякова-Незлобина «Кружок (Из записок социал-демократа)», «В народ!». В последнем рассказе «единственным принципом» героя-«революционера» объявлено «убеждение <…> в том, что человеку просвещенному необходимо есть, спать и вообще совершать физиологические процессы беспрепятственно» (PB, 1876, № 9, стр. 170). Вполне возможно, что Салтыков, следивший за обращением Незлобина в благонамеренность (см. письмо к M. M. Ковалевскому от 28 сентября 1880 г.), сатирически откликнулся на его «разоблачения» и здесь.
В главе обнаруживается сложное соотношение с «Дневником писателя» Ф. М. Достоевского. Оба писателя, хотя и стоявшие на разных общественных позициях, дали сходные характеристики современному «культурному человеку». «Припомните, сколько цинизма увидали мы в эти последние двадцать лет, — писал Достоевский в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, — какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша» (Полн. собр. худож. произв., т. 12, стр. 57). В октябре Достоевский вернулся к этой теме, отметив две «почти трагические черты нашего русского интеллигентного человека»: «его податливость, его готовность на соглашение» и «непонимание такой первейшей вещи, как чувство собственного достоинства» (т. 12, стр. 278–279).
Но рядом с этим обнаруживались значительные несогласия. Февральский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. содержит размышления «относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей <…>, так чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином», в «дисциплине» и «работе самому над собой», в «самообладании и самоодолении» (Полн. собр. худож. произв., т. 12, стр. 63–65, 47, глава «Русское решение вопроса»).
В параллельно появившейся «Современной идиллии» идея «самообуздания» и «дисциплины» развита сатирически (см. особенно рассуждения Глумова о «славянской распущенности» и «настоящей культурной выдержке»). В мартовском выпуске «Дневника» Достоевский откликнулся на первую главу «Современной идиллии»: «в России и от русских-то не осталось ни одного непроплеванного места (словечко Щедрина)»[104]. Отдавая должное сатирической меткости Салтыкова, Достоевский далее давал понять, что виновными в таком положении считает именно «прогрессистов-отрицателей», общественных и литературных.
Глава встретила единодушное одобрение критики, отметившей точность отражения в ней текущего общественного момента: новое произведение «ловко освещает своим юмором многое, что тяготит, унижает и оскорбляет современного русского человека» («СПб. ведомости», 1877, 19 марта, № 78). «Только у Щедрина есть способность, не выходя из пределов допустимой манеры, говорить такие горькие истины и заставлять всех понимать себя» («Наш век», 1877, 8 марта, № 8). Наибольшее впечатление на критику произвело словечко «годить». Оно было с сочувствием подхвачено в обществе — сохранились воспоминания о чтении Салтыковым «Современной идиллии» на вечере в пользу Литературного фонда 9 марта 1879 г.: «Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворенной улыбкой. Все понимали, что значит это… «надо погодить»[105]. Это понятие вошло в словарь русских революционеров: «Мы думаем, что «годить» нам нечего: довольно уже «годили»!»[106]
«Спите! Бог не спит за вас!» Жуковский. — Из стихотворения «Деревенский сторож в полночь» (перевод идиллии И.-П. Гебеля), 1816.
…Алексей Степаныч Молчалин… — В 1874–1876 гг. этот персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума», будучи художественно переосмыслен Салтыковым, стал главным героем его сатирического цикла «Господа Молчалины». См. т. 12 наст. изд.
…полетел к Глумову. — Глумов — постоянный персонаж сатиры Салтыкова в 70-е годы («Помпадуры и помпадурши», «В среде умеренности и аккуратности», «Дворянские мелодии», «Дети Москвы», «Недоконченные беседы»). См. т. 8, стр. 524; т. 12, стр. 659, а также кн. 2 наст. тома.
Вакант — пробел в существовании (от лат. vacare — пустовать).
…Валяй по всем по трем! — Неточная цитата из популярной песни «Тройка» («Вот мчится тройка удалая…») на текст отрывка из стих. Ф. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825). См. т. 6, стр. 662.
…Овсянников подвергся каре закона… — за поджог арендованной им мельницы (с целью получения страховой премии) был сослан в Сибирь. См. т. 11, стр. 378.
Красавица! подожди! // Белы руки подожми! — строки из русской народной песни «По улице мостовой».
…великолепного князя Тавриды! — Слегка измененная строка из стихотворения Г. Р. Державина «Водопад», относящаяся к Потемкину.
…Несколькими десятками анекдотов в «Русской старине» — В соответствии с общей установкой «Русской старины» на занимательность многие публиковавшиеся там материалы о Потемкине включали «рассказы о его причудливых выходках» (Князь Г. А. Потемкин-Таврический. Биографический очерк. — PC, 1875, кн. 10, стр. 254. См. также: «Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов разных лиц П. Ф. Карабановым». — PC, 1872, кн. 3, стр. 463–467; «Исторические рассказы и анекдоты… сообщ. А. Белаго». — PC, 1873, кн. 2, стр. 262–263).
«Коль славен» — «Коль славен наш господь в Сионе…», христианский гимн. См. т. 11 наст. изд., стр. 566.
…Где стол был яств <…> Глядит на всех… — Неточная цитата из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).
Вихрь полуночный летит богатырь! // Тень от чела с посвиста — пыль! — из оды Г. Р. Державина «На взятие Варшавы» (1794).
…Орловы, Потемкин… Румянцев! Суворов! <…> потом Дмитриев-Мамонов и наконец Зубов… — Иронический смысл этого перечисления в том, что среди громких имен государственных деятелей и выдающихся полководцев времен Екатерины II упоминаются бесцветные фавориты императрицы. Салтыков осмеивает труды современных ему историографов, разыскательное усердие которых было обращено в равной степени на тех и других.
Пески — окраина Петербурга. См. т. 12, стр. 641.
…мне Тряпичкин сказывал. Он <…>фёльетоны-то бросил, за исторические исследования принялся! Уваровскую премию надеется получить! — Один из многих у Салтыкова иронических выпадов по адресу легковесной журнальной «историографии» 70-х годов: Тряпичкин (внесценический персонаж комедии Гоголя «Ревизор») в салтыковской сатире — нарицательное имя беспринципного газетчика (см., например, очерк «Тряпичкины-очевидцы», т. 12 наст. изд.). Уваровские премии были учреждены при Академии наук в 1857 г. в честь министра просвещения николаевской эпохи гр. С. С. Уварова его сыном.
Пошли по Лиговке <…> в этом самом доме собрания библиографов бывают… — Салтыков неизменно разделял то ироническое отношение к «библиографическому направлению» в литературной критике и историографии, которое возникло еще в кругу «Современника» 50-60-х годов, когда Чернышевский и Добролюбов высмеивали «библиографов» за схоластический академизм и крохоборческую мелочность. См. также т. 14 наст. изд., стр. 653–654.
Лития — краткое богослужение в православной церкви.
…полный и достоверный список сочинений Григория Данилевского. — Исторический романист Г. П. Данилевский, печатавшийся под псевдонимом А. Скавронский, еще в 60-е годы публиковал просьбы не путать его сочинений с произведениями другого автора, имевшего тот же псевдоним. Салтыков не раз высмеивал эти тщеславные заботы. См. т. 5 наст. изд., статью «Литературная подпись». Соч. А. Скавронского».
«Богоподобная царевна…» — Цитата из оды Г. Р. Державина «Фелица» (1782).
А вот и сам он тут! — Пьедестал памятника Екатерине II, сооруженного на Александрийской площади по проекту М. О. Микешина (1873), окружен бронзовыми изображениями выдающихся деятелей той эпохи, в числе которых — Державин.
…храм Момусу — театр «Буфф», помещавшийся на углу Толмазова переулка и Александрийской площади (Момус — бог насмешки и порицания в греческой мифологии).
…от бывшего помещения конторы Баймакова… — См. т. 12 наст, изд., стр. 712.
…у милютиных лавок <…> потянуло туда, в задние низенькие комнаты… — В «милютином ряду» на Невском проспекте у Казанского моста располагались «фруктовые лавки с распивочной продажей крепких напитков и комнатами для закусок» (Вл. Mихневич. Петербург весь на ладони, стр. 487).
…памятники Барклаю де Толли и Кутузову — установлены в 1837 году на площади перед Казанским собором по проекту Б. И. Орловского.
…пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре… — Дальше приводятся слова из речи «Об «Уложении» и последующем его развитии», произнесенной 10 июня 1839 г. на торжественном акте в Московском университете проф. Ф. Л. Морошкиным и тогда же изданной (М., 1839). Речь была панегириком суровому законодательству, полагавшему «строгость» основной формой обращения с «обывателями».
…здание сената, в котором некогда говорил правду Яков Долгорукий… — Хрестоматийный пример гражданской доблести сенатора петровских времен кн. Я. Ф. Долгорукова.
…«без тоски, без думы роковой…» — Из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata» (1845).
…«нас возвышающими обманами»… — Измененная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).
II*
III*
Впервые — ОЗ, 1877, № 3 (вып. в свет 24 марта), стр. 269–296, с нумерацией «II» и примечанием: «См. предыдущий № «Отеч. зап.».
Сохранилась наборная рукопись «Отечественных записок».
При подготовке Изд. 1883 текст подвергся незначительной правке. В частности, было снято подстрочное примечание к словам «всех частей и кварталов» (стр. 29, строка 7 сн.):
Благосклонного читателя просят иметь в виду, что все здесь описанное происходило до переименования частей в участки, а кварталов в околотки.
Главы II–III содержат ряд ярких сатирических картин общественных нравов предвоенной зимы 1877 года. «В зиму 1876/77 года, — свидетельствует один из современников, — несмотря на все надвигавшуюся войну, Петербург не переставал веселиться <…>. Не помню зимы более оживленной <…> Фельетоны левых газет, разумеется, не переставали твердить, что <…> мрачное томление сердец отзывается на холодный мрак общественной жизни <…>. А между тем веселье охватило вовсе не один только парадный Петербург. И в среднем кругу стояла та же сумятица <…>, и отсутствие «общественной» жизни <…> не мешало жителям столицы находить некоторую прелесть и в жизни не общественной» (К. Головин. Мои воспоминания, т. I. СПб., 1908, стр. 329–330). Салтыков обнажил драматическую подкладку этого обывательского веселонравия. Наметка основной сюжетной ситуации II и III глав: якшание в «профилактических» целях с низшими чинами полицейского аппарата — дана еще в его публицистике («Наши бури и непогоды», т. 9 наст. изд.).
С материалом настоящих глав связано продолжение полемического пересечения мысли Салтыкова и Достоевского. В «Плане обличительной повести из современной жизни» («Дневник писателя», 1877, май — июнь) Достоевский развернул критику той части современной молодежи, которая восприняла у «недовольных скептических отцов» революционно-социалистические идеалы («неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического») и критическое отношение к действительности («скептический бессильный смех»). Этому герою современности — «прогрессисту-отрицателю» — Достоевский и пророчил «финал <…> самый натуральный и современный, например, его <…> нанимают в фиктивный брак, за сто руб., причем после венца он в одну сторону, а она в другую, к своему лабазнику: «и мило и благородно», как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же случае» (Полн. собр. худож. произв., т. 12, стр. 135–136, 140).
Глава II журнальной публикации вызвала неблагоприятное заключение цензора H. E. Лебедева: «Сатирический очерк <…> посвящен осмеянию современного положения общества, дошедшего, вследствие всевозможных запрещений, до того скотского положения, что людям интеллигенции осталось одно занятие — пить, есть, отречься от всякой умственной, духовной пищи, в проявлениях которой стараются видеть революционный элемент. Безнадежность такого положения заставляет людей, некогда порядочных <…> искать общества квартальных надзирателей и политических сыщиков <…>; описанию характеристики и тех и других, со свойственным автору сарказмом, и посвящен настоящий очерк, сквозь который весьма явственно сквозит полное недовольство существующими у нас порядками и протест против чрезмерного гнета со стороны правительства на мыслящее население»[107]. 20 марта 1877 г. начальник Главного управления по делам печати В. В. Григорьев запросил по этому поводу СПб. цензурный комитет. Председатель комитета А. Г. Петров 31 марта ответил, что «отыскивая в этом фантастическом художественном рассказе тенденциозные намеки и сопоставления, оказалось бы необходимым основываться на догадках и произвольном толковании, что не соответствовало бы статьям <…> цензурного устава». Учитывая также, что «в настоящем сатирическом очерке выведены представители самых низших слоев общества и администрации, отличающиеся почти идиотизмом и тупоумным отношением к общественным вопросам», он «полагал <…> возможным допустить его в печать» (ЛН, № 13–14, М., 1934, стр. 148).
Сохранилось письмо Салтыкова к В. В. Григорьеву от 23 марта 1877 г., в котором он, пытаясь спасти мартовский номер «Отечественных записок» от ареста, осведомлялся: «не признается ли возможным выпустить книжку с исключением из нее тех статей, которые будут цензурным комитетом указаны <…> Я, конечно, желал бы, чтобы моя «Современная идиллия» была пощажена, но ежели признано будет необходимым пожертвовать ею, то я исполню это беспрекословно» (В. Боград. Журнал «Отечественные записки». 1868–1884. М., «Книга», 1971, стр. 463–464).
Отзывы критики на появившееся продолжение «Современной идиллии» были неоднородны: «Сын отечества» (1877, 21 апреля, № 89), «Литературная летопись» «СПб. ведомостей» высоко оценивали продолжение «прекрасного юмористического очерка Н. Щедрина», «где не пропадает ни один из ресурсов его таланта и он решительно овладевает симпатиями читателя» (1877, 16 апреля, № 104). «Русским миром», напротив того, было высказано мнение, что «идея «идиллии», очевидно, уже исчерпана и автор придумывает новые вариации с целью — лишь бы чем-нибудь посмешить читателя», хотя «подробности» (в том числе «чай» в квартале») «схвачены талантливо» (РМ, 1877, 24 апреля, № 108).
…не ходили в заседания педагогического общества… — Педагогическое общество, основанное в Петербурге в 1863 г. «с целью содействия отечественной педагогии», устраивало чтения и беседы, конкурсы на сочинение лучших учебных руководств; посещение его собраний, происходивших по субботам раз в две недели, входило в норму либерального поведения. Было закрыто с 1879 г. по ходатайству тогдашнего министра просвещения гр. Д. А. Толстого.
…не сочувствовали ни славянам, ни туркам <…> позабыли о существовании Мак-Магона. — События, предшествовавшие русско-турецкой войне, и борьба бонапартистского маршала Мак-Магона (в это время президента Французской республики) с буржуазными радикалами привлекали в начале 1877 г. наибольшее внимание русского общества и прессы.
…с сыщиком из соседнего квартала… — Квартал — единица административного деления города, упраздненная в 1862 г. полицейской реформой и замененная околотком. Подобные хронологические сдвиги, нередкие у Салтыкова, — ироническая отговорка, средство цензурной маскировки (см. на стр. 323 подстрочное примечание, снятое Салтыковым в отдельном издании).
…с Загорецким такой случай был… — См. в цикле «В среде умеренности и аккуратности», т. 12, стр. 35.
Маетности — имения (польск. majętnosci).
«La verité sur la Russie» — название брошюры историка и публициста эмигранта кн. П. В. Долгорукова, изданной в 1861 г. в Париже. Обличение политического режима царской России соединено в ней с сенсационными преувеличениями.
…в 1863 году бегал «до лясу»… — Скрывался в лесах, будучи участником польского восстания 1863 г.
«Вниз по матушке по Волге…» — русская народная (бурлацкая) песня.
Управа благочиния — полицейская управа, возникла при Екатерине II, впоследствии неоднократно преобразовывалась, к 1877 г., после судебно-полицейской реформы, упразднена. «Устав благочиния» действительно вменял полиции руководство «нравственными началами» в частной жизни людей. У Салтыкова управа благочиния — обобщенный символ административной слежки за свободной мыслью.
…окончательный шаг для увенчания здания… — Пародийное употребление ходовой формулы либеральной публицистики («увенчать совсем почти воздвигнутое здание»), обозначавшей завершение реформ 60-х годов конституцией.
…местные «червонные валеты»… — то есть мошенники. См. т. 12 наст. изд., стр. 707–708.
Письмоводитель Прудентов… — Одно из значений латинского слова «prudens», от которого образована фамилия письмоводителя — Сведущий, намекает на осведомительно-полицейскую функцию его занятий.
…какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезною <…>классическую или реальную? — Предпочтение «реальной системы» прочно ассоциировалось с неблагонадежными убеждениями. См. т. 10, стр. 702.
Вот в воинственном азарте… — Строки из популярного в эпоху Крымской войны романса («На нынешнюю войну», 1854, слова В. П. Алферьева) иронически характеризуют «чад ложнопатриотического увлечения» (А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 2. М., 1966, стр. 58, 78).
…вся Сенная участвовала в нем своими произведениями. — Подразумеваются поборы, взимаемые полицией с купцов на центральной базарной площади Петербурга.
…прокуроров тогда еще не было, а следовательно, и потрясений не так много было в ходу… — В многочисленных политических процессах 1870-х годов «приемы оценки данных для привлечения разных лиц в качестве обвиняемых <…> не отличались обдуманностью», — заключал А. Ф. Кони, отмечая «легкость, с которой возбуждались дознания и принимались меры против обвиняемых» (А. Ф. Кони, Собр. соч., т. 2. М., 1966, стр. 340, 335). Судебными уставами 20 ноября 1864 г. прокуратура была реорганизована и ее права существенно расширены. См.: Б. Виленский. Судебная реформа и контрреформа в России, Саратов, 1969, стр. 74.
Суспиции — подозрения, сомнения (лат. suspitio).
Из Казанской части… на Охту. — Казанская часть — один из центральных районов тогдашнего Петербурга, Охта — окраина.
…Поль-де-Кокца в переводе почитать… — См. прим. в т. 8 наст. изд., стр. 487.
…в то время казалось, что это <…> созидает, укрепляет и утверждает! И вдруг — какой <…> переворот! — Салтыков проницательно улавливал предвестия поворота к реакционным «контрреформам», происшедшего позднее во второй половине 80-х годов, когда «прямое, огульное порицание всего, что было совершено в прошлое царствование», включая отмену крепостного права, высказывалось открыто («Дневник Д. А. Милютина», т. IV, М., 1950, стр. 35). В рецензии на Изд. 1883 К. К. Арсеньев отметил: «Трудно поверить, что первая половина лежащей перед нами книги написана в 1877 или 1878 г. <…> «Современная идиллия» не только не является теперь анахронизмом, но, напротив, поражает своею благовременностью» (ВЕ,.1883, № 11, стр. 429).
Это «Всеобщий календарь»! — «дешевая настольная справочная книга» на каждый год, как рекомендовал ее издатель Герман Гоппе (см. «Всеобщий календарь на 1878 г.» СПб., 1877).
…как делывал когда-то в «Ernani» Грациани… — В опере Д. Верди «Эрнани» (1844) на сюжет одноименной драмы В. Гюго итальянский певец Ф. Грациани, дебютировавший в Петербурге в 1861 г., исполнял роль короля, который в последнем акте прощает заговорщиков.
Выкупные-то свидетельства <…> есть? — Ценные бумаги, по которым помещики получали платежи после реформы 19 февраля 1861 г. См. т. 12, стр. 710.
…насчет фиктивного брака?.. — Передовая интеллигенция 60-х годов утвердила взгляд на фиктивный брак как на средство освобождения женщины от семейного гнета.
…адвокат Балалайкин <…> значительно изменился… — Впервые этот герой появился в цикле «В среде умеренности и аккуратности» (см. о нем т. 12, стр. 645), позже упоминается в «Недоконченных беседах».
…расплюевские тени. — Образовано от имени Расплюева, героя комедий А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854) и «Смерть Тарелкина» (1869), мелкого и неудачливого шулера.
…в конкурс спешу! — Конкурс — рассмотрение дел несостоятельного должника с целью удовлетворения его заимодавцев.
Тарасовка — долговое отделение петербургской тюрьмы.
…при настоящем падении курсов на ценные бумаги… — В начале 1877 г. отмечалось ухудшение положения дел на бирже, падение вексельного курса в связи с обострением внешнеполитических отношений России накануне войны с Турцией.
IV*
V*
Впервые — ОЗ, 1877, № 4 (вып. в свет 26 апреля), стр. 627–650, с нумерацией «III».
Рукописи и корректуры не сохранились.
При подготовке Изд. 1883 текст подвергся сокращению (в первой его части, составившей гл. IV отд. изд.) и стилистической правке.
Главы IV–V включают в орбиту действия две существенные силы пореформенного общества, на которые возлагал немалые политические надежды русский либерализм: адвокатуру и печать. Салтыков устанавливает их буржуазный характер, неизбежное соприкосновение с миром хищничества и растления.
Сатирический персонаж, олицетворяющий буржуазную адвокатуру (Балалайкин), впервые появляется в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины», гл. III); в «Современной идиллии» он становится одним из главных героев, активных участников действия романа.
Образ «редактора по вольному найму» — Очищенного некоторыми деталями восходит к очерку «Ташкентцы-цивилизаторы» (см. т. 10 наст. изд.): знаменитую таксу предваряет выраженная там мысль об изобретении «средства», которое выгоняло бы наружу «метафизические пятна на совести» и заставляло их гореть «на щеках».
Глава III журнальной публикации вызвала инсинуацию против Салтыкова со стороны реакционно-националистической газеты «Русский мир»: рецензент намекал, будто автор «Современной идиллии» зависим здесь от напечатанного в «Отечественных записках» романа Э. Гонкура «Жертва филантропии», так как оба произведения сближает «впечатление разврата и уголовщины» (1877, 1 мая, № 115).
Все опубликованные в 1877 г. главы «Современной идиллии» были высоко оценены в годовом литературном обзоре «Новороссийского телеграфа» (1878, 6 января, № 868): «блестящий материал», «злая и едкая сатира».
…Проживает <…> на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала. — Фонарный переулок был средоточием публичных домов. Екатерининский канал славился нечистотой и зловонием.
…для театра Егарева. — См. прим. к стр. 56.
…смешивал герундиум с супинумом… — латинские глагольные формы.
шмандкухен — пирожное.
…Стрекозу помнишь? — Во многих произведениях Салтыкова, от «Губернских очерков» до «Писем к тетеньке», появляется персонаж, наделенный этим именем. См. т. 12, стр. 693.
Вельможу должны украшать //Ум здравый, сердце просвещенно… — неточная цитата из оды Г. Р. Державина «Вельможа» (1794).
…сваха от Вознесенского моста… — сводня.
…капище <…> с надписью: «неизвестному богу». — Апостол Павел, приближаясь к Афинам, увидел жертвенник, посвященный «неведомому богу» (Деяния апостолов, XVII, 23).
…кудри девы-чародейки… — Из стихотворения В. Бенедиктова «Кудри» (1836).
…гласная касса ссуд — частное учреждение, занимавшееся выдачей мелких ссуд под имущественные залоги.
…при газете «Краса Демидрона», служащей органом политических и литературных мнений Егарева и Малафеева. — «Краса Демидрона» — один из многих у Салтыкова сатирических псевдонимов беспринципной «приспособленческой» прессы; ближайшим прототипом является «Новое время» А. С. Суворина (см. т. 12 наст. изд., стр. 648). Примечательно, что содержатель «общедоступного увеселительно-порнографического заведения» Демидов сад («Демидрон» — см. Вл. Mихневич. Наши знакомые, стр. 79) действительно имел какие-то литературные связи: «у двери входа он сидит на скамейке, окруженный свитою своих людей, и между этими своими людьми вы увидите французскую кокотку, увидите русского литератора, увидите петербургского журналиста» (М. К. Из Петербурга. — «Варшавский дневник», 1880, 3 июля, № 140).
Не имея никакого влияния на направление редактируемой мною газеты, я <…> ощущаю на себе все невзгоды… — Роль Очищенного соответствует отчасти положению в «Новом времени» его редактора М. П. Федорова, который даже сиживал в тюрьме по обвинению в печатной клевете, содержавшейся в статьях Буренина (см. «M. M. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПб., 1912, стр. 408).
…изъяснение турецкой конституции… — 23 декабря 1876 г., во время происходившей в Константинополе конференции по урегулированию балканского кризиса, турецкое правительство в поисках выхода из внешнеполитических затруднений объявило о введении конституции. Эпоха «конституционализма» оказалась очень краткой: первый состав парламента был сразу же распущен и переизбран, инициатора преобразования визиря Мидхат-пашу отрешили от дел и арестовали еще до открытия парламентской сессии, второй парламент также был быстро разогнан. Эти события легко ассоциировались с российскими политическими условиями.
…знаменитый г. Зет… — Зет — криптоним «Z» фельетониста «Нового времени» В. П. Буренина. Им подписаны, в частности, и развязно-издевательские отзывы на произведения Салтыкова (в том числе и на первые главы «Современной идиллии»).
…балов Марцинкевича… — «Давно сошедший в царство теней, основатель едва ли не первого в столице танцкласса с «этими дамами», со скандалами и дебошами, «Марцинкевич» стал ныне нарицательной кличкой непозволительных этого сорта заведений» (Вл. Михневич. Наши знакомые, стр. 142). Упоминается у Салтыкова в ряде произведений.
…из вицмундира, оставшегося после титулярного советника Поприщина! — Упомянут герой повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).
…Людмила есть дочь <…> Светозара… — Генеалогию «невесты» Балалайкин почерпнул из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
…отдал Росту в зоологический сад. — «Зоологический сад есть частная спекуляция одного немца, некоего г. Роста, который умеет вести дела как нельзя проще и выгоднее <…> от дешевизны этой, поставленной принципом, <…> звери мрут как мухи» (М. К. Из Петербурга. — «Варшавский дневник», 1880, 3 июля, № 140).
…семгу Немирович-Данченко <…> изловил! — Беллетрист Вас. Ив. Немирович-Данченко не случайно упомянут Салтыковым рядом с Балалайкиным: автор многочисленных путевых очерков («Соловки», «У океана» и др.), он имел у современников репутацию писателя, сочинения которого «легко читаются, <…> но возбуждают сомнение со стороны достоверности» (Вл. Mихневич. Наши знакомые, стр. 156). См. также т. 12 наст. изд., стр. 675.
…Эюб-паша презентовал <…> не следовало бы об этом говорить — война! — Речь идет о русско-турецкой войне, начавшейся в апреле 1877 г. …сраженье потерял <…> в том ущелии… — Упомянуто упорное многодневное сражение при Алексинаце в августе 1876 г., когда сербские войска временно оттеснили турецкие части под командованием Эюб-хана и Али Саиба в долину Моравы.
…наши жандармы <…> до преобразования! — Преобразование жандармских органов империи, в частности, отмена пресловутых «голубых мундиров», было определено законом 9 сентября 1867 г. в общем составе реформ 60-х годов.
Мы — пронские — Прокопа Ляпунова помните? <…> по женской линии от него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы — все! — Эти исторические и литературные ассоциации, относящиеся отчасти также к героям циклов «Дневник провинциала в Петербурге» и «В среде умеренности и аккуратности» (тт. 10 и 12 наст. изд.), здесь характеризуют политическую беспринципность и хищнический аферизм дворянской массы, символизированной именем рязанского воеводы Прокопия Ляпунова.
VI*
Впервые — Изд. 1883, стр. 99-114.
Глава была отпечатана для ОЗ, 1878, № 2, стр. 611–630, с нумерацией «IV», но вырезана из журнала по требованию цензуры.
В следующей книжке журнала — ОЗ, 1878, № 3 — был указан номер пропущенной главы — «IV», под ним проставлены три ряда точек и сделано подстрочное примечание, напоминавшее читателям о содержании напечатанных год назад глав:
Первые три главы напечатаны в «Отечественных записках» прошлого года (№№ 2, 3 и 4). Считаю нелишним напомнить читателям немногосложную фабулу этих глав. Герои рассказа — люди умеренно-либерального направления, о которых идет слух, будто они, сидя в квартирах, «распускают превратные идеи». Подозрение это еще более находит себе пищи в том обстоятельстве, что эти люди ведут уединенную жизнь и ни с кем не видятся: значит, недаром. Зная по опыту, с какою легкостью пустые слухи превращаются в мероприятия, наши герои, с целью смыть с себя «пятно», предпринимают целый ряд вполне благонамеренных действий. Прекращают рассуждение, предаются исключительно еде, питью и телесным упражнениям, вступают в дружеские сношения с сыщиком из инородцев Кшепшицюльским и через него получают доступ в квартал в качестве «дорогих гостей». В квартале они до такой степени всех пленяют рассудительностью и благонамеренным либерализмом суждений, что начальник квартала, желая явить знак особенного доверия, предлагает одному из них (ведущему рассказ от своего лица) жениться за приличное вознаграждение на «штучке» купца Парамонова, занимающегося банкирским делом в меняльном ряду. Однако рассказчик уклоняется и указывает на адвоката Балалайкина, как на человека, по этой части вполне компетентного. Но тут представляется важное препятствие: Балалайкин уже женат, хотя и скрывает это. Вследствие этого возникает такой план: или расторгнуть брак Балалайкина, или же подвинуть последнего на двоеженство. В этих видах герои рассказа приходят на квартиру Балалайкина, причем не без волнения припоминают, что в этом самом помещении некогда находился пансион для девиц вдовы учителя латинского языка Кубаревой. Воскресает далекое прошлое; трогательные воспоминания приходят одно за другим и еще более оживляются тем, что в числе ожидающих Балалайкина клиентов наши герои узнают некоего Ивана Иваныча Очищенного, бывшего когда-то тапером в пансионе Кубаревой, а ныне женатого на содержательнице гласной кассы ссуд и, сверх того, состоящего вольнонаемным редактором газеты «Краса Демидрона». На радостях Балалайкин устраивает роскошный завтрак, по окончании которого Очищенный рассказывает историю своей жизни.
Автор
Рассказ Очищенного, составлявший содержание вырезанной «IV» (VI) главы, был кратко пересказан в начале главы «V» (VII). См. ниже стр. 335.
Сохранилась черновая рукопись главы «IV». Текст ее — от начала до слов: «какой ныне требуют только от содержателей кабаков» (стр. 76, строка 22сн.). Приводим варианты рукописного текста.
Стр. 73. Вместо абзаца: «Словом сказать <…> он продолжал:» —
Словом сказать, мы увлеклись. Вспомнили, как маститый историк молодых людей поощрял. Чуть, бывало, заметит, что молодой человек способен во сне Мстиславов видеть — сейчас его приголубит, накормит, а иногда даже и старый сюртук подарит. И непременно при этом скажет: носи на здоровье, а когда износишь — подари бедному!
— Да, человек он был! Таких нынче по министерству народного просвещения не водится! — заключил Глумов и, обращаясь к Очищенному, прибавил: — А ну-ка, Иван Иваныч, продолжай!
Стр. 74, строка 4 сн. После слов: «не мог противостоять общему настроению умов» —
И вместе с прочими начал искать в крапленых картах средств для поддержания фамильного блеска.
Стр. 75, строка 2 св. Вместо слов: «Тем не менее я должен сознаться, что в 1830 году» —
Широкое гостеприимство, беспримерная щедрость и рыцарское великодушие — таковы были качества, которыми покойный отец мой привлекал к себе все сердца. Несмотря на изумительное проворство рук, он никогда не пользовался этим преимуществом в отношении к своим землякам: некоторым из них он даже проигрывал небольшие суммы. Но зато относительно пензенцев и саратовцев — был беспощаден. Я даже помню момент, когда в Липецке его не называли иначе, как грозою саратовских простофиль…
Но начиная с 1827 года все изменилось. Незаметно подкралась старость, и отец как-то вдруг ослаб. К сожалению, однако ж, самонадеянность не оставила его, и в 1830 году он, по обыкновению, предпринял путешествие на Макарьевскую ярмарку. Останься он у себя, в Лебедяни, — там, конечно, ему простили бы многое, в память прежних его заслуг; но у Макария — не простили. В сентябре того же года я был извещен, что
Стр. 75, строка 15 св. Вместо слов: «И действительно… старик успокоился и продолжал» —
Но главным образом утешил его все-таки Глумов, рассказавши притчу о некотором действительном статском советнике, который возроптал.
«— Был, братец мой, — сказал он, — один действительный статский советник, и потерял он своего начальника, тайного советника. Повернулась в действительном статском советнике вся его преданная требуха, разорвал он на себе вицмундир и сказал, безумен в сердце своем: ежели тайные советники умирают, то с нами, действительными статскими советниками, как поступлено будет? И вот спустя некоторое время прислали к ним в департамент генерал-майора. Собрал генерал-майор всех департаментских действительных статских советников и сказал им: тайный советник дал вам раны, аз вам дам скорпионы — идите, пишите и ждите. Только не прошло двух лет, умер и генерал-майор, а действительный статский советник меж тем успел уже привязаться к нему. Опять возмутился действительный статский советник духом, опять разорвал вицмундир и сказал в сердце своем: ежели генерал-майоры умирают, то как же с нами, действительными статскими советниками, поступлено будет? И прислали к ним в департамент другого тайного советника, и собрал он всех действительных статских советников и сказал им: генерал-майор дал вам скорпионы, аз же истолку вас в ступе. И истолок. И только тогда, когда действительный статский советник ощутил на себе действие ударов песта, только тогда он понял, что хотя любить начальников и достохвально, но роптать по поводу перемещения их все-таки не допускается». Это, брат, не анекдот, а истинное происшествие.
— Так вот, мой друг, как пострадал человек за то, что позволил себе возроптать, и притом по самому благонамеренному поводу, — заключил Глумов, — а потому выпей еще рюмку водки и рассказывай дальше!
Очищенный последовал этому совету и продолжал уже гораздо спокойнее.
Стр. 75, строки 15–19 сн. Вместо слов: «Но тридцать душ <…> Не успел я прожить в имении и пяти лет, как началось…» —
В то время тридцать мужиков значило тридцать хребтов, и при хорошем управлении даже удивительно, сколько можно было из них извлечь. Я и извлекал, и мог бы прожить спокойно, ежели бы не увлекла меня моя молодость. С отроческих лет я чувствовал стремление к женскому полу и, очутившись сам себе полновластным господином, разумеется, предался этой страсти со всем пылом юной души. В этом смысле я, впрочем, не делал ничего нового, а только шел по стопам предков, но увы! Обаяние фамилии Очищенных уже исчезло, и после десяти лет самого счастливого существования, в продолжение которых я, так сказать, инстинктивно приготовлял себя к должности редактора «Красы Демидрона», на меня последовал донос. Началось
В рассказе Очищенного о «правде» своей жизни Салтыков обращается к историческому материалу, неоднократно уже затрагивавшемуся в его сатире, и прежде всего в «Истории одного города». Салтыков сосредоточивает внимание на сатирической «историографии» российского самодержавия, доказывая читателю, что тип монархической власти неизменен при всех метаморфозах «образа правления». Это вскрывается остроумной «периодизацией» российской истории («удельный период», «московский период», «лейб-кампанский период»), в основу которой положен «принцип» смены носителей произвола и «эволюции» репрессивных форм абсолютистского режима.
Так же, как в «Истории одного города», здесь осмеяны одновременно «политические и идеологические концепции» историков «государственной» или «юридической» школы, в трудах которых «монархическое государство прославляется как решающая устроительная действующая сила в истории»;[108] ближайшей мишенью избран близкий к «государственникам» М. П. Погодин.
Сатирическую критику самодержавия дополняет также развернутая в историческом плане параллельная характеристика главной опоры престола — российского дворянства, отразившего в себе все пороки верховной власти. Родословной и биографией Очищенного Салтыков иронизирует над генеалогическими претензиями русской аристократии (многие поздние представители ее влачили жалкое существование в эпоху «чумазого торжества»), показывая, что и так называемого «славного прошлого» она не имела.
Цензурное донесение H. E. Лебедева, по которому глава «IV» была вырезана, обнаружило в ней, кроме «возмутительно-дерзкого глумления над происхождением нашего государства», также «множество отдельных предосудительных мест, бросающих неблагоприятный свет на правительство за его неуместную подозрительность, за приставление во все публичные места шпионов, которые, не находя преступлений, измышляют их сами»[109].
Маститый московский историк… — M П. Погодин, сторонник варяжской теории происхождения русского государства.
Дрогнули сердца новгородцев… — Здесь и далее сатирические парафразы «Истории государства Российского» H. M Карамзина.
…в синодики записывают… — Синодик — особая поминальная книжка, куда вносились имена для поминовения на панихидах. Имеется в виду факт, отмеченный Салтыковым в журнальном тексте гл. V «Недоконченных бесед»: Иоанн Грозный записал в синодик «убиенных и потопленных» им под рубрикою «имена же их ты, господи, веси!».
…лейб-кампанский период… — Леб-кампанцы — солдаты и офицеры одной из рот Преображенского полка, содействовавшие восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны.
…даже художника Микешина видел… — По проекту скульптора М. О. Микешина в Новгороде был воздвигнут памятник в ознаменование «тысячелетия России», которое было официально отпраздновано в 1862 г. Передовая интеллигенция скептически встретила эти торжества, призванные подогреть преданность «престолу и отечеству». См. фельетон Г. З. Елисеева «862-1862, или Тысячелетие России» (С, 1862, № 1; «Свисток», № 8, стр. 13–42).
Еще Аверкиев <…> написал <…> не из Марфы ли Посадницы было? — Салтыков не раз иронически откликался на опыты исторической беллетристики в духе «официальной народности» — от повести H. M. Карамзина «Марфа-Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) до многочисленных прозаических и драматургических сочинений Д. В. Аверкиева (1860-70-е гг.). См. т. 8, стр. 580.
…и науку, и свистопляску — все понимал! — Погодин публично объявил деятелен «Современника» и «Свистка» «рыцарями свистопляски», враждебной «серьезным интересам» «науки» (С, 1860, № 3, стр. 257–292). Ответ Погодину был дан Добролюбовым в сатире «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» (С, 1860, № 3; «Свисток», № 4, стр. 1-24).
…на лоне той сыскной исторической школы, которая <…> имеет своим родоначальником Бартенева из Москвы, но <…> возмужала здесь, в Петербурге. — Речь идет о двух исторических журналах: московском — «Русский архив» (основан в 1863 г. П. И. Бартеневым) и петербургском — «Русская старина» (с 1870 г. издавался М. И. Семевским), содержание которых характерно именно оттенком «частного сыска» в интимной жизни исторических лиц. Об отношении Салтыкова к этим изданиям см. т. 8 наст. изд., стр. 492; т. 10, стр. 679.
…сзади <…> по Редеде сидит… — Указание на древность и славу рода. См. прим. на стр. 350.
…«от хладных финских скал до пламенной Колхиды» — слегка измененная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).
«...о tempora, о mores!» «sapienti sat», «caveant consules» <…> почерпал <…> из «Московских ведомостей». — Приведены латинские изречения, ставшие крылатыми словами, широко употребительные в публицистике Каткова. Здесь объединены именно тем смыслом, который они получали в контексте катковских передовиц. Первая цитата («О времена, о нравы» — из «Первой речи против Катилины» Марка Туллия Цицерона) обычно характеризовала «извращение понятий», свойственное, как доказывали «Московские ведомости», русским революционерам, вторая («мудрому достаточно») призывала власти делать практические выводы из опубликованного материала; с помощью третьей («пусть консулы будут бдительны») Катков побуждал недостаточно активных, с его точки зрения, должностных лиц к неупустительному исполнению обязанностей в отношении «крамольников».
…начальство <…> было сильно озабочено потрясением основ, происшедшим по случаю февральской революции. — Имеются в виду революционные события во Франции в феврале 1848 г. О горячем отклике па эти события русской передовой молодежи 40-х годов Салтыков вспоминает в гл. IV цикла «За рубежом».
…мое место отдали инородцу Кшепшицюльскому… — Как установлено современным историком, в обстоятельствах политического кризиса конца 70-х годов самодержавие искало «опоры на такие охранительные элементы, которые в недавнем прошлом <…> боролись с ним с оружием в руках, как польская шляхта». Особое совещание 27 апреля 1879 г., призванное «изыскать действительные практические меры» для борьбы с крамолой, сделало соответствующее представление императору. Оно мотивировалось тем, что «революционная агитация не находит удобной для себя почвы в населении, принадлежащем католическому исповеданию и польскому племени» (см.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. М., 1964, стр. 103, 106).
Стр. 79. Объявили волю книгопечатанию. — Закон о печати 6 апреля 1865 г. заменил предварительную цензуру карательной. См. подробнее: т. 5, стр. 596–598.
VII*
VIII*
Впервые — ОЗ, 1878, № 3 (вып. в свет 24 марта), стр. 226–246, под номером V и VI.
Сохранился отрывок наборной рукописи главы VIII (VI) со слов: «Теория эта, хотя…» (стр. 92, строка 3 св.) — кончая словами: «…как для прогулок, так для прочих надобностей, кроме, впрочем, естественной» (стр. 93, строки 2–3 сн.).
В связи с тем, что предыдущая глава журнальной публикации была вырезана из «Отечественных записок» (см. прим. к гл. VI, стр. 330), публикация начиналась в ОЗ так:
Очищенный кончил.
Я охотно поделился бы с читателями рассказом почтенного старика, но не могу, ибо содержание этого рассказа, если оно будет опубликовано, может потрясти краеугольные камни. Так, по крайней мере, удостоверяют компетентные люди, а я не верить им — не могу. Время нынче такое стоит, что, к чему ни прикоснись, непременно что-нибудь да потрясешь. Даже смеяться считается небезопасным, потому что и смех хоть и не потрясает, но все-таки причиняет неловкость. Стало быть, надо ждать до тех пор, пока сами стоящие на страже потрясений убедятся, что потрясать нечего. Но тогда, конечно, и в настоящем рассказе не будет никакой надобности.
Тем не менее, в видах уразумения последующего, я считаю возможным сообщить вкратце следующие главные пункты рассказа Очищенного.
1) Коренная, древняя фамилия рассказчика не Очищенный, а Гадюк.
2) Насчет родопроисхождения Гадюков существуют два предания: одно, сложившееся на лоне московской исторической школы, утверждает, что первый Гадюк был новгородский благонамеренный человек, прежде других возымевший мысль о призвании варягов; причем самое это призвание совершилось в таких обстоятельствах, которые подали маститому московскому историку мысль поставить, совместно с Оффенбахом, на сцену оперетку, под названием «Вещий сон Рюрика»; однако ж предприятие это не было приведено к концу «за неблаговременностью и опасением потрясений»; другое предание, сложившееся на лоне петербургской историческо-сыскной школы, гласит так: первый Гадюк был казанский татарин, который познал Истинного Бога, причем восприемниками были: генерал-майор Отчаянный и штатс-дама Василисы Мелентьевой, княжна Евдокия Вертихвостова. 3) Затем кондуитный список последующих Гадюков заключался в том, что одним из них выщипывали бороды, другим рвали ноздри, третьих били кнутом. Но и за всем тем некоторые уцелели. 4) Очищенными стали именоваться Гадюки со времен Бирона, который разрешил прадеду рассказчика, Прокофию, за некоторый любезно верный ему, Бирону, поступок, упразднить прежнее прозвище, яко омраченное изменою, и впредь именоваться Очищенным. 5) Сам рассказчик, получив классическое воспитание, был в молодости предан суду за жестокое обращение с крестьянами, причем, разумеется, просудил все свое состояние. 6) Скитаясь по белу свету, он первоначально поступил учителем танцевания в кадетском корпусе, но обнаружение прежней судимости заставило его оставить государственную службу навсегда; тогда он сделался тапером в пансионе для девиц, содержимом вдовою учителя латинского языка, Кубаревой, и, кроме того, партикулярно занимался внутренней политикой, за что, впрочем, неоднократно подвергался телесным повреждениям. 7) Будучи тапером, он вступил в первый брак с одною из воспитанниц г-жи Кубаревой, которая, однако ж, через короткое время бежала с шарманщиком. 8) Когда объявили волю книгопечатанию, Очищенный сделался вольнонаемным редактором газеты «Краса Демидрона», а вслед за тем вступил во второй брак с содержательницей гласной кассы ссуд Матреной Ивановной. 9) Брак этот, однако ж, не принес ему желанного успокоения, во-первых, потому, что Очищенный не вполне уверен в смерти своей первой жены, во-вторых, потому, что Матрена Ивановна ни на минуту не выпускает ключа от кассы из своих рук, и в-третьих, потому, что в квартире Матрены Ивановны оказался водворенным «молодой человек», которого она называет своим племянником «Молодой человек» курчав, румян и пользуется завидным здоровьем, но молчалив и целые дни проводит в том, что стоит перед зеркалом, улыбается и расправляет усы. По временам он вдруг неизвестно куда пропадает и непременно уносит что-нибудь из заложенных вещей. Тогда Матрена Ивановна начинает грустить и выгонять мужа на розыски, не пуская в квартиру до тех пор, пока он не убедит «молодого человека» возвратиться к выполнению своих обязанностей.
Затем, извиняясь перед читателями в наготе этого перечня, продолжаю мой рассказ.
При подготовке Изд. 1883 текст был сокращен, в частности, сняты отрывки:
Стр. 81, строка 5 сн. После абзаца: «Понимаю. То самое, значит <…> Веселись!» —
— Вот-вот-вот! Пошли, значит, спросы да запросы. Вопрос первый: «Что такое случилось, что бы для неурочных оных восторгов достаточным основанием послужить могло?» Ответ: «Ничего особливого не случилось, кроме обыкновенного благопристойного течения, какое и прежде было, и впредь без изменения имеет быть!» Другой вопрос: «но ежели бы нечто из пределов благопристойности выходящее и произошло, то прилично ли в сих случаях восторги свои предъявлять, или же следует инако как поступать?» Ответ: «неуказное выражение восторженности уже по тому одному не приличествует, что, заключая в себе косвенный укор прошедшему, оно в то же время и будущему предлагает стеснительный урок, а потому приличнее и с здравою политикой согласнее будет, ежели обыватель и подлинно радостное событие примет скромно, яко вседневный и ничего не значащий дар». Понял теперь?
Стр. 83, строка 5 св. После слов: «…разве настоящая свадьба будет?» —
Съездишь ты в церковь, три раза кругом налоя обойдешь, потом в кухмистерской у Завитаева поздравление примешь — и шабаш! Ты в одну сторону, она — в другую!
Осень 1877 — начало 1878 г. ознаменовались громкими уголовными процессами: дело «Клуба червонных валетов» — великосветских московских аферистов, дело генерала Гартунга о похищении крупного наследства, расследование подделки свидетельств Восточного займа и хищнических афер интендантов, грабивших армию во время русско-турецкой войны, суды над растратчиками из ссудного банка, Киевского частного и Московского промышленного банков, сенсационный процесс главного героя уголовной хроники 70-х годов — кассира Общества взаимного кредита Юханцева, укравшего более двух миллионов. По официальному свидетельству, дела о «преступлениях против чужого имущества» заняли в это время в судебной статистике 58% («Правительственный вестник», 1877, 7 сентября, № 196; 10 сентября, № 198). Эта атмосфера уголовщины в общественной жизни сатирически отражена в главе VII — самой «программой» уголовных деяний, которую «начертали» себе герои и которая определяет дальнейшее движение сюжета. Как и во многих других случаях, сатирическая идея Салтыкова немедленно подтверждалась жизнью: 2 августа 1878 г. М. Вед. (№ 195) сообщили о деле некоего коллежского регистратора А. Н. Буда, обвинявшегося в краже документа, подлоге и троеженстве.
Основное содержание главы VIII составляет «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении». В творчестве Салтыкова он подготовлен многочисленными образцами сатиры на законодательные материалы («История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге»).
Непосредственный источник «Устава» указан самим автором: «Возьмите XIV том Свода Законов и сравните с «Уставом о благопристойности» — ужели <…> это водевиль?» (письмо к А. Н. Пыпину 1 ноября 1883 г.). Как установлено, главным объектом пародирования послужил заключенный в XIV томе «Свода Законов Российской империи» «Устав о пресечении и предупреждении преступлений».
«Устав», созданный Салтыковым, явился «пародией на все то, что утверждала и узаконивала в Жизни общественная реакция»[110]. Вместе с тем появление его именно в этой части романа было не случайным: с необходимостью пересмотреть действующую «благопристойность» и заново кодифицировать ее правительство Александра II столкнулось как раз весной 1878 г. (февраль — апрель), в связи с подготовкой и ходом процесса Веры Засулич. Началось откровенное наступление администрации на «законность», установленную пореформенными судебными порядками.
В критических откликах прежде всего было отмечено открывавшее публикацию VII–VIII глав «резюме», которое заменило вырезанную из журнала предыдущую главу (см. стр. 335). Это «резюме, талантливое, и даже, можно сказать, блестящее», было очень высоко оценено рецензентами («Обзор», Тифлис, 1878, 15 апреля, № 102; «Русская газета», 1878, 6 апреля, № 68). В содержании настоящих глав основное внимание критиков привлек «Устав»: «Лучшими местами в этом очерке являются, по нашему мнению, как рассуждения героев по поводу «Устава о благопристойности», так и самый этот Устав <…> В этом случае юмор автора находит себе полный простор» («Сын отечества», 1878, 8 апреля, № 81; см. также «Новороссийский телеграф», 1878, 17 мая, № 972 и «Киевлянин», 1878, 25 апреля, № 48). В то же время рецензент «Русской газеты», обычно благожелательной к Салтыкову, нашел, что Устав «беспредметен», «вне нашей (да и всякой) действительности» и есть «бессмысленный набор совершеннейших нелепостей» (1878, 6 апреля, № 68).
…покойный Фаддей Венедиктович… — Ф. В. Булгарин, имя которого стало нарицательным для обозначения литературной продажности и реакционности.
…в Сибири университет учреждают… — В июне 1878 г. газеты сообщили, что разрешено открытие университета в Томске (см. М. Вед., 14 июня, № 150). На протяжении 1879–1880 гг. они извещали о поступлении частных пожертвований для него (см. М. Вед., 1880, 23 октября, № 294).
…кафедру сравнительной митирогнозии… — Митирогнозия (далее митирология) — сквернословие.
…давеча газету читал <…> с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой — надо признаться… — Сатирическая формула, высмеивающая уклончивость мнений либеральной публицистики, подробно развернута в V главе «Дневника провинциала в Петербурге» (см. т. 10 наст. изд., стр.781).
…рассуждать о происхождении миров — нельзя. — Речь идет о естественных науках (в частности, идеях дарвинизма), преподавание которых пытался искоренить в это время министр народного просвещения Д. А. Толстой.
…эти греки да римляне больше безначалием <…> занимались. — Изучение и преподавание античной истории вызывало сопротивление реакции: «республиканские добродетели» приходили в неизбежное столкновение с абсолютистскими идеалами. При Николае I «в книге о римской истории, изданной для учебных заведений, напечатано было, что римляне жили под республиканским правлением потому только, что не изведали еще благодетельного самодержавия» («Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым», Paris, 1861, стр. 156–157).
…несколько сцен из народного быта <…> в Александрийском театре… — Вероятно, имеются в виду шедшие в сезон 1876/77 года «Фрол Скобеев» Д. Аверкиева, «Змей Горыныч» В. Александрова (Крылова) с грубой «псевдонародностью» их стиля.
…о слышанном и виденном на экономических обедах… — Эти обеды устраивал в фешенебельном ресторане Донона экономист В. П. Безобразов (см. Вл. Михневич. Наши знакомые. СПб., 1884, стр. 14).
…анекдоты из жизни цензоров Красовского и Бирукова… — Подразумевается, что официально допущена только критика, обращенная в давнее прошлое: Красовский и Бируков — реакционные цензоры пушкинской эпохи, на «глупость» и «притеснительность» которых великий поэт не раз жаловался.
Тщетно будем мы употреблять выражение «рубль», коль скоро он полтину стоит… — Война 1877–1878 гг. вызвала чрезвычайные расходы, которые были покрыты новым выпуском кредитных билетов, внешним и внутренними займами, но курс рубля неуклонно понижался и к началу 80-х годов упал до 62 коп. («По поводу внутренних вопросов». — ОЗ, 1882, № 9, стр. 144).
…«злой и порочной воли» подпущу! — Об этом положении буржуазного уголовного законодательства см. т. 11 наст. изд., стр. 569.
IX*
X*
XI*
Впервые — ОЗ, 1878, № 4 (вып. в свет 19 апреля), стр. 517–542, под номерами VII–IX.
Рукописи и корректуры не сохранились.
При подготовке Изд. 1883 в текст было внесено много сокращений иизменений. Приводим наиболее существенные варианты журнальной публикации:
Стр. 99, строки 5–6 св. Вместо слов: «которые поощряли нас к дальнейшей игре ума» — было:
которые, служа подтверждением добытых абстрактным путем истин, тем самым поощряли нас к дальнейшей игре ума.
Стр. 99, строка 19 св. После слов: «хоть ты что хошь!» — что ни шаг, то в гущу да в гущу! Так и бросил.
— В отставку, значит, вышел?
— Нет, бог миловал. Был, сударь, и не раз разговор, чтоб службу ему оставить, однако видят, что человек не от себя, а свыше уж ему это определено — снизошли. Собственною смертью на службе помер… но все-таки, сударь, без покаяния!
— Однако!
— Да, так в стыде и отошел в вечность.
Стр. 99, строка 11 сн. После слов: «понравиться нужно» —
Коли сумел ты понравиться — теки и орошай! А не сумел — не прогневайся, голубчик! так навек и оставайся малым источником.
— Понравиться-то понравиться — это так; да ведь наука-то эта, голубчик, мудреная!
— Мудрено, сударь, собственно, начало сделать. Истинную потребность угадать, на настоящую линию попасть — вот что обсуждения требует. А коли ежели однажды угодил в точку, так тут только поспевай! Тут мудрости не требуется, а поспешать нужно.
— Хорошо, брат, ты расписываешь, — отчего же, однако, ты сам
Стр. 100, строки 7–9 св. Вместо слов: «Выходит <…> вон!!» —
Выходит. И прямо, знаете, оборвал. Кто таков и по какому делу? Тут я уж и сам догадался, что дело мое не просвиркой пахнет, однако делать нечего: виноват, говорю, за ваше здоровье просвирку вынул! Взял он у меня просвирку, повертел в руках, разломал пополам, потом начетверо… И вдруг, это: так ты, говорит, боговдухновенную взятку мне хотел, всучить… вон!! И на другой же день: такого-то Очищенного и прочая и прочая… Словом сказать, сразу в таперы дорогу указал!
Стр. 100, строки 17–18 св. После слов: «здешняя жизнь состоит» —
Был у меня знакомый один, так тот на какую штуку поддел: колесом ходить умел! Служил он в земском суде писцом, да приехал к ним ревизор — он его и прельстил! А после ревизора — в Петербург перевели, — и он за ним. Дальше да шире, да глубже, а теперь, слышно, он первый человек в своем департаменте состоит!
— Слушай! Да неужто ж может такая «истинная потребность» существовать, чтобы пред глазами человек колесом ходил?
— Всякие «истинные потребности» бывают, и даже такие, для отгадки которых особливые познания нужно иметь. В большинстве случаев, впрочем, можно прямо на немощи человеческие рассчитывать. Иной начальник к женскому полу пристрастие имеет, другой требует, чтобы ему на ушко нашептывали, третий — к законодательству приверженность оказывает, четвертый — просто в звонок звонить любит — вот подчиненный-то и примечает и разыгрывает, сообразно этому, свою фантазию.
— Примеры знаешь?
— Да вот, например, с одним…
Стр. 100, строки 6–8 сн. Вместо слов: «Да что, сударь, в «Русскую старину» заглядывать — и нынче этого волшебства даже очень достаточно, — подтвердил Очищенный» —
С этим мнением не мог не согласиться и я, но при этом — больше, впрочем, для разнообразия, оговорился, что в последнее время, однако же, благодаря свету наук, волшебство уже начинает уступать естественному течению вещей.
— В наше время прохвосту уж не так-то легко… — начал было я развивать свою мысль, но Очищенный без церемонии прервал меня.
— И нынче, сударь, довольно волшебства, — сказал он,
Стр. 101, строки 18–28 св. Вместо слов: «но горе, ежели ты хотя на минуту <…> совсем начальства избежать изловчится» —
Хорошо, ежели ты, обоняя начальственные испарения, будешь все-таки памятовать, что возвышение твое, собственно говоря, плевое и представляет лишь повод для сознания выполненной обязанности! Но горе тебе, ежели ты хотя на минуту позабудешь о своем недавнем золотарстве! Волшебство, которое тебя вознесло, — оно же и низвергнет тебя! Иван Иваныч! Наверное, у тебя и на этот случай примерчик найдется?
— Беспременно-с. Знал я одного коллежского секретаря, так вот с ним от гордости какой случай был. Служил он в департаменте; утром, по обыкновению, бумаги писал; вечером — в танцкласс к Марцинкевичу приходил. Там я его и узнал. Долгое время все шло у них обыкновенным порядком, а тут вдруг начал ихний начальник задумываться. Придет это в департамент, бумаг не подписывает, а все у окна стоит да только в стекло барабанит. Или возьмет в руку колокольчик и начнет звонить; час звонит, другой звонит, все сбегутся, а он за шляпу, и был таков. Ну, всполошились. Жалко, знаете, начальник-то очень уж был хорош, и вдруг его за задумчивость в другое ведомство переведут! Один только коллежский секретарь в ус не дует. «Знаю, говорит, что сия задумчивость обозначает! Увидите, что недели не пройдет, как со всех батарей пальба воспоследует!» И точно, призывает его через неделю начальник и спрашивает: можешь ли ты мне ответ дать, что для России потребно? — Могу, говорит. «Напиши». Ушел коллежский секретарь домой и в одну ночь всю картину представил. Понравилось. «Теперь, говорит, напиши: как сего достигнуть?» Опять ушел коллежский секретарь домой и опять написал. Еще больше понравилось. «За сим, говорит, нам остается открыть пальбу». И начали они палить, и чем больше палят, тем больше коллежский секретарь в доверие входит. Вот он и возгордился. Вместо того, чтобы помнить пословицу: всяк сверчок знай свой шесток, а он возмнил, что конца начальственному долготерпению не будет! Стал, знаете, желания своего начальника упреждать, мысли угадывать. Не успеет начальник прожект задумать — смотрит, а он уж его предварил. Спустили ему это один раз, спустили в другой, в третий, конечно, щелкнули — а он все продолжает предварять. До того, знаете, разревновался, что глаза выпучил, ходит, как пьяный, шатается и у рта пена; словом сказать, спит и видит, как бы ему в самое лоно к начальнику попасть. Терпел-терпел начальник, видит, что дело-то выходит серьезное. Хорош парень, да ежели повадку ему дать, от него, пожалуй, и совсем житья не будет. И что ж, сударь! Только, знаете, дунул… Как был во всей форме коллежский секретарь, так совсем, и с гордостью своей, и с вицмундиром, тут же у всех на глазах и растаял. И теперича он в Пале-де-Кристаль у Марцинкевича в комиках состоит!
— Какая, однако ж, ужасная жестокость судьбы!
— Жестокость-то жестокость; однако и то нужно сказать: самвиноват. Начальство ведь тоже опасается; думает: сегодня я золотаря на перси возложу, а завтра он мне на плечи вскочит!
— Правильно.
— Вообще, сударь, в сношениях с начальством нужно как можно больше остерегаться. Почитать — почитай, но и приличия соблюдай. А еще того лучше, ежели кто совсем начальства избегнуть может.
Стр. 108, строка 15 сн. После слов: «удовольствие мне предоставь!» —
— Что говорить! Удовольствие — это первее всего!
— А я что же говорю! А притом и еще: хоть вы ему и сулите бубнового туза, а он, может быть, не только без всякого туза, а еще во всем сиянии оттуда выйдет! Помилуйте! чего же, в самом деле, тетерева смотрели! Ведь этак ежели им повадку дать, так они и рады глазами хлопать да жалованье получать. А он, между прочим, человек проворный, знающий — кому же, позвольте спросить, преферанс следует оказать?
— Ну, брат, два миллиона восемьсот тысяч — это, я тебе скажу, тоже…
— Многонько — это так. Однако и тут надо сказать: не всегда количество от человека зависит. Иной спервоначалу и скромненько поступить желает, да как увидит, что вокруг тетерева хвосты распускают — ну и ожесточится. Где бы ему взять рубль — он десять да двадцать тащит, и все ему кажется мало! До того, наконец, дойдет, что сам себя не помнит: все тащит, все тащит! И не надо ему, а он все от кассы рук отвести не может. Уж это вроде как болезнь делается!
Стр. 108, строка 3–4 сн. После слов: «над уставом о благопристойности» —
— Как ты думаешь, есть в этом уставе необходимость или так это, одно баловство? — обратился Глумов к Очищенному.
— Помилуйте, как же возможно! Благопристойно ли себя обыватель ведет или неблагопристойно. Когда всякий знает, что от него требуется…
— Не в том дело; я сам понимаю, что ежели начальство благопристойности требует, так, значит, нельзя без того. А стоит ли благопристойность-то эта, чтоб из-за нее нам, например, обычный порядок свой нарушать? Теперь бы вот спать залечь по порядку-то следовало, а мы заниматься должны! Стоит ли?
— Стоит-с. Ежели уж в квартале этот предмет в ходу — стало быть, неотложность в нем есть. Со мною, доложу я вам, когда я, тапером будучи, внутренней политикой занимался, такой случай был…
— Так ты и внутренней политикой занимался?
— Имел это поручение-с. Впрочем, кому же, как не таперу, и наблюсти за настроением умов? Постоянно он в танцклассах, все видит, за всем следит… А между прочим, его никто ни в чем не подозревает!
— Так какой же случай с тобой был?
— Именно насчет вот этой самой неотложности. Был я однажды, по обыкновению, у Марцинкевича — ну, и наблюл. Вижу, что дело мерзкое затевается: и колебания, и попрания, и потрясения — словом, все онеры на лицо. Мне бы, знаете, сейчас в квартал бежать, а я заместо того погоди да погоди. Выставили мне в ту пору шесть пар пива — я и раскис. И так, знаете, раскис, что совсем даже позабыл, на какой предмет я при внутренней политике состою. Помню только, что уговаривал: господа, мол, вы хорошие, а какие в вас мерзкие заблуждения скрываются! И только на другой уж день вспомнил, что надо меры принимать. Спешу, бегу — ан меня уж упредили. Еще рта разинуть не успел — слышу, что до моего прихода все потрясения кончились!
— Чай, досталось тебе на орехи!
— Не погладили-таки. Два дня в «холодной» выдержали да еще благодарить заставили, что этим дело кончилось!
Мы невольно переглянулись с Глумовым. А что, ежели и нас за неоправдание начальственного доверия… в «холодную»? Мысль эта подействовала на нас так решительно, что мы сейчас же уселись за письменный стол и приступили к делу.
Главы IX–XI объединены темой неизбежного вторжения в частную жизнь российского обывателя «волшебства», которое «от начальства происходит»: IX глава разрабатывает одну из постоянных сатирических идей Салтыкова: «наука» «любви к начальству» и воспитанная ею трагическая привычка «среднего человека» к произволу власти, привычка, которая сообщает «жизненному процессу» «окраску <…> еще более горькую и удручающую». В главе X прозорливо отражена тенденция к уничтожению скромных гарантий личной неприкосновенности, существовавших в пореформенной России. Наконец, XI глава уже прямо живописует «вступление в квартиру» «гостей» из полицейского начальства.
Критика подчеркнула в своих откликах жизненную истину повествований Очищенного: «весьма интересные и характеристичные рассказы о том <…> какими путями суждено иным выходить в люди» («Сын отечества», 1878, 12 мая, № 107); «Повесть об одном статском советнике…», утверждалось в «Русской газете», «заключает черты, бьющие живой действительностью»; указав, что Салтыков «имеет способность попадать в самые больные места нашего общественного существования», критик отмечал реалистичность образа Очищенного. Отталкиваясь от содержания всех глав «Современной идиллии» апрельской публикации (гл. IX–XI наст. изд.), он заключал, что «Отеч. записки» — единственный «оазис» в современной литературе, и «смерть Некрасова не расстроила» журнал: в нем по-прежнему существует «единство направления», которое «питается фактами живой жизни» (1878, 23 мая, № 97).
…дал тебе раны, аз же дам ти скорпионы. — Административный афоризм построен с использованием библейского материала (Третья книга Царств, XII, 11; см. т. 10 наст. изд., стр. 778).
Идет человек по улице и вдруг — фюить! — Слово, выражающее в эзоповском лексиконе Салтыкова внезапность репрессивных действий власти. См. т. 8 наст. изд., стр. 864.
…да ты не служил ли в Взаимном Кредите, что коммерческие-то операции <…> знаешь <…> вот хоть бы господин Юханцев… — Упомянут кассир Общества Взаимного кредита, имя которого «громом раскатилось» по России в конце 70-х годов: «Как ни притерпелась публика в последнее время к известиям о кражах всевозможного рода, но факт похищения 2 023 295 рублей общественных денег произвел впечатление» (М. Вед., 1878, 29 августа, № 219).
…под знаменем внутренней благопристойности вход в квартиры — вот цель… — Меткость, с которой схвачена здесь реальная черта российского общественно-политического быта на рубеже 70-80-х годов, подтверждают документальные источники: «Нарушение законов или подготовление к их нарушению производится чаще в домах, чем на улицах, а потому полиция не может иметь характер, так сказать, исключительно уличный» (Речь одесского градоначальника ген. Гейнса чинам одесской полиции. — «Голос», 1878, 24 октября, № 294). О том же свидетельствуют современники: «Полиция производила обыкновенный вседневный обыск, обыск, какие делаются каждую ночь в 40 или 30 квартирах неслужащих или учащейся молодежи…» («Дневник А. В. Богданович. Три последних самодержца». М. — Л., 1924, стр. 23).
…по делу об убийстве Зона… — Нашумевшее в 70-е годы уголовное дело. См. т. 10 наст. изд., стр. 779.
…должность ката — палача.
…не может плодиться и множиться, — Реминисценция из Библии (Бытие, I, 28).
…у меня сегодня третейский суд <…> Соломон! — Библейское сказание о суде царя Соломона (Третья книга Царств, III, 16–28) символизирует справедливое и скорое разрешение взаимных претензий двух спорящих сторон.
…только та внутренняя политика преуспевает, которая умеет привлекать к себе сердца. — Силой художественной логики сатира Салтыкова предугадывала логику дальнейшего движения правительственной политики: в 1879 г. этот «принцип» «привлечения сердец» был реализован двукратным обращением правительства к обществу за «содействием» в борьбе с революционерами; в 1880 г. политический курс М. Т. Лорис-Меликова получил полуофициальное наименование «диктатуры сердца».
…«О ты! что в горести напрасно…» — Начальная строка «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова.
XII*
XIII*
XIV*
XV*
Впервые — ОЗ, 1882, № 9 (вып. в свет 16 сентября), стр. 217–260.
Сохранились:
1) Черновая рукопись главы XII, часть текста которой после слов: «…приняли большую печать…» (стр. 118, строка 11 св.) до слов «Мы приехали с Глумовым…» (стр. 119, строка 10 сн.) утрачена.
2) Черновая рукопись главы XIII. Приводим вариант:
Стр. 137, строки 15–16 сн. Вместо слов: «Редедю ожидала свита, состоявшая» — в рукописи было:
Редедю ожидал его будущий главный штаб.
3) Две редакции черновой рукописи главы XIV. Первая — ранняя, завершенная, содержит существенные разночтения. Большинство их относится к деятельности «Священной дружины» («Союз Недремлющих Амалатбеков»).
Приводим пять отрывков, не вошедших в печатный текст: Стр. 140, строки 5-17 св. Вместо слов: «Другие, напротив, утверждали <…> Думал: придут, заставят петь… сумею ли?» —
И при этом не только пили мою водку, но и брали с меня за каждый урок «пения» (!) по три рубля. С другой стороны, и благонамеренность опутывала меня своими сетями, но, боже! в каких странных формах она являлась ко мне! Клянусь, если б в квартале не объяснили мне, что это именно и есть та самая благонамеренность, которая, по современным условиям жизни, считается наиблагопотребнейшею, я непременно принял бы ее за крамолу! Да, в сущности, это и была крамола, только благонамеренная.
Стр. 144, строка 4 св. После слов: «не хотите ли «к нам» поступить?» —
— Ни за что!
— Что так?
— Я клятву дал никогда ни к каким тайным обществам не принадлежать[111].
— А вы возьмите клятву назад — только всего. Если б я держал все клятвы, которые давал, я бы давно женат был и кучу детей бы имел… А вы подумайте, общество-то у нас какое… малина! Все Амалатбеки, да не такая голь, как я, а гладкие, в соку!
— Ну, нынче об таких Амалатбеках что-то не слыхать!
— Это вы насчет Рюриковичей, что ли? Так нынче около них совсем другой слой проявился. Откупщики народили детей, железнодорожники, оптовые торговцы, и все это в Амалатбеки полезло. Рюрикович-то только икает, а Лейбович около него сидит: извольте, ваше сиятельство, я сто тысяч пожертвую! А потом уж эти тысячи и делят между собой «подсудимые», вот как… ха-ха!»
Стр. 145, строки 7–8 св. После слов: «не о спасении шкуры думает, а об ее украшении… ха-ха!» —
— Послушайте, да ведь я совсем не думаю об украшении шкуры!
— А ежели не думаете — и того лучше. Значит, бескорыстие в вас есть. Это штука тоже полезная. У нас многие Амалатбеки в бескорыстие играют, да я и сам, пожалуй, был бы не прочь, если б смолоду жизнь с расчетцем повел. Потому что бескорыстие бескорыстием, а смотришь, из бескорыстия-то вдруг целая преспектива выползла! Так по рукам, что ли?
Стр. 146, строки 6-10 сн. Вместо слов: «в водевиле <…> соответствующим вознаграждением» —
в самой настоящей крамоле. Руководители, по большей части, безвозмездно икают и поддерживают друг в друге способность трепетать; подначальные — получают присвоенные оклады и производят статистические исследования. На вопрос мой насчет возможности подвергнуться побоям он отвечал, что обстоятельство это предусмотрено и всякий статистик на этот случай снабжен карточкой с надписью: свободен от побоев. Так что если кто и получил случайно по уху, то стоит только взглянуть на карточку, чтоб утешиться.
Стр. 146, строка 3 сн. После слов: «как рукой с него снимет!» —
Иному давно следовало бы в местах не столь отдаленных процветать, а он и сейчас между купающимися мещанами ныряет.
Вторая редакция, незавершенная, представлена рукописью, перебеленною с первой, от слов: «…благонамеренным (особенный политический оттенок…» — кончая словами: «…это просто шалопай!» — Так ли я говорю?»
По сравнению с первой расширена и содержит многочисленные разночтения. Приводим не вошедшие в печатный текст варианты:
Стр. 140, строки 25–29 св. Вместо слов: «Разница тут самая пустая <…> распивочно и навынос» —
Но кому какая надобность, что один Иван Иваныч носит кличку благонамеренного, а другой Иван Иваныч имеет претензию на звание ненеблагонамеренного — неизвестно. Очевидно, что все эти домогательства суть дщери праздности и соединенного с нею бездельничества. Жизнь не представляет реальных интересов, а потому люди с жадностью цепляются за интересы мнимые. Но, право, ужасно видеть, как они из кишок лезут, чтобы определить в свою пользу отличительные признаки подлинной благонамеренности, и ничего из этого не выходит, кроме удручающей сутолоки и взаимного подсиживанья. Не потому ли мы так и отстали на пути цивилизации, что стараемся не о совершении полезных дел и полезных ценностей, а о том, как бы ловчее спровадить друг друга на каторгу или, по малой мере, в места не столь отдаленные?
И все это из-за того, что один говорит: я — благонамеренный, а другой откликается: а я ненеблагонамеренный? Стоит ли из-за такой безделицы наносить друг другу тяжкие увечья? Стоит ли утруждать начальство и поселять недоумение в сердцах подчиненных?
Стр. 140–141, строки 11 сн. — 16 св. Вместо слов: «И вместо того <…> Все это я совершенно ясно сознавал теперь, в своем одиночестве» —
Правда, что явных поощрений оно ни тем, ни другим не оказывало, но ведь весы начальственного предпочтения до такой степени чувствительны, что самого ничтожного дуновения достаточно, чтоб стрелка наклонилась в ту или другую сторону и изменила положение одной партии в ущерб другой. Но повторяю: существенная важность заключается даже не в этих случайных поощрениях, а именно в самом факте признания чего-то серьезного за тем, что на самом деле представляет чистейший вздор. Ибо раз допущено начальственное признание, трудно представить себе, чтобы люди, которым оно развязывает руки, не воспользовались им. А воспользуются они для того, чтобы перервать у своих конкурентов горло и затем уже безраздельно торговать благонамеренностью распивочно и навынос.
В старину, когда всякий человек был приписан к своему «делу», никаких подобных кличек не существовало, а были только люди, живущие покойно. Никто в то время не называл себя ни благонамеренным, ни ненеблагонамеренным, потому что всякий понимал, что он есть сверчок, который должен знать свой шесток. Да и начальство не допустило бы никаких кличек, потому что кличка приводит за собой знамя, а знамя, пожалуй, и черт знает что приведет. Сегодня оно желтое, завтра зеленое, послезавтра красное — поди отгадывай, что сей сон значит? Всякий девиз, имеющий общественно-политический характер, обладает способностью осложняться. Сегодня он имеет смысл утвердительно благонамеренный, а завтра какой-нибудь озорник прибавит к нему крохотную частичку НЕ — и вся утвердительность пошла прахом. А как уследить, чтобы озорства не было? — глаза просмотришь, а не уследишь. Так не лучше ли возвратиться к прежним порядкам, при которых и повода к осложнениям не было. Живите спокойно, занимайтесь своим делом, если же нет дела, а есть капитал, то получайте проценты и отдыхайте.
— Спите! Бог не спит за вас! — Вот драгоценный стих, который надо восстановить у всех в памяти, ежели мы не хотим совсем затонуть в пучине перекоров и подсиживаний.
Да, давно бы пора прийти к этому заключению, тем больше пора, что даже с точки зрения «нас возвышающих обманов» политические распри наши не представляют ничего величественного. Тут души убитых, не утоленных пролитою на земле кровью, не возобновят, как в известной картине Каульбаха, сечу в воздушных пространствах (это, по крайней мере, могло бы красиво подействовать на воображение), а преспокойно останутся в том же навозе, в котором происходила и самая битва. Потому что таково свойство современных благонамеренных битв: не воины и не копья участвуют в них, а взбудораженные подьячие, вооруженные орудиями доноса и приказной ябеды.
Тем не менее я отлично понимаю, что человек, который возьмет на себя дезинфекцию навозных людей, неизбежно должен встретить на пути своем препятствия, почти непреодолимые. Все кругом споспешествует процветанию этих людей и их неистовой деятельности. Всякое уклонение жизни от обычного течения играет роль дрожжей, которые производят в навозной куче обильное брожение, а брожение приводит за собой даровой харч и перспективу беспечального жития. Иметь возможность, не ударив пальца о палец, прожить одной ябедой — вот сладкий удел, к которому всем нутром устремляются знаменосцы бездельничества. И они не только процветают материально, но и завоевывают себе право на безнаказанность и даже на почет. Ибо в навозных кучах имеется своего рода табель о рангах, в силу которой бездельник более вредный пользуется большим почетом, нежели его менее вредный собрат.
Попробуйте растолковать этим людям, что деятельность их вредна, — право, они не поймут даже смысла этих внушений. Они до такой степени приспособились к «вреду», до того принюхались к атмосфере, насыщенной «вредом», что едва ли в них осталась даже способность различать между пользой и вредом. Вредом они живут, вред доставляет им и материальные выгоды, и почет — вот все, что нужно. Затем, так как они вышли из навоза, живут в навозе и в свое время неизбежно обратятся в навоз же, то и это опять-таки все, что нужно. Ничто их в человеческом смысле не трогает: ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. История не дает им уроков и не устрашает их. Так что в смысле нападения на безоружных и хватания кусков это, несомненно, самый бесстрашный и неукротимый народ в целом мире.
Но кажется, что история все-таки со временем заклеймит гнездо ябедников и клеветников. Она не имеет права уклониться от этого акта справедливости и человечности. Посрамленный человеческий образ уже по тому одному должен быть восстановлен, что, в противном случае, жизнь превратилась бы в сатанинскую пытку, которая бессмысленно довлеет сама себе…
Стр. 142, строки 1–2 сн. Вместо фразы: «За календарь взялись? — приветствовал он меня, — отлично… ха-ха!» —
— Рекомендуюсь! — приветствовал он меня, — член «Союза Недремлющих Амалатбеков…» Календарь почитываете?.. Ха-ха!
Стр. 143, строки 18–19 св. Вместо: «и, наконец, благонамеренный крамольник» —
и, наконец… захудалый Амалатбек!
Стр. 143, строка 15 сн. Вместо: «прогоревший вивёр» — захудалый князь, подлинный рюрикович
Стр. 144, строки 4-22 св. вместо фраз: «А вы вот что: не хотите ли <…> Разве вы живете хоть одну минуту так, как бы вам хотелось? — никогда, ни минуты!» —
А вы вот что: хотите в наш «Союз» вступить?
— Тайный?
— Еще бы! Для тех, кто не знает, разумеется, тайный… ха-ха!
— Ни за что!
— Что так?
— Просто не вижу надобности прибегать к тайне, ежели могу явно…
— А явно — это особо! И тайно и явно — милости просим… ха-ха! За явные дела — награда; за тайные — вдву по тому ж… хорошо? Вы подумайте только: людей-то каких у нас встретите… малина! Нуте-ка, раз-два-три… благослови господи… по рукам!
— Не могу.
— Чудак вы! Ну рассмотрите, что такое есть ваша жизнь? — ведь это катастрофа, а не жизнь!
4) Черновая рукопись главы XV, отличия которой от печатного текста несущественны.
В журнальной публикации имелось подстрочное примечание к главе XII:
Первые главы были помещены в «Отеч. зап.» 1879 и 1880 гг. Мне во второй раз приходится извиняться перед читателями в перерыве, допущенном в изложении предлагаемой истории. Считаю нелишним, в коротких словах, напомнить, в чем дело. Герои рассказа (сам рассказчик и друг его, Глумов) — люди умеренно-либерального направления, о которых тем не менее идет слух, будто они, сидя в квартирах, «распускают революции». Зная, с какой легкостью такого рода слухи находят доступ к сердцам, герои наши предпринимают целый ряд действий, которые, по мнению их (весьма, впрочем, ошибочному), должны доставить им репутацию несомненной благонамеренности. Прекращают рассуждение, предаются исключительно питанию и телесным упражнениям, входят в дружеские сношения с сыщиком и через него получают доступ в квартал. В квартале они до такой степени пленяют всех своею скромною рассудительностью, что начальник квартала предлагает одному из них жениться на «штучке» купца Онуфрия Парамонова, занимающегося банкирским делом в меняльном ряду. К счастью, является на выручку адвокат Балалайкин, который соглашается, за умеренное вознаграждение, вступить с «штучкой» в фиктивный брак. Оказывается, однако, что Балалайкин уже женат, но это нимало не останавливает героев рассказа, которые (конечно, ошибочно) полагают, что и устройство двоеженства может входить в программу благонамеренности. Поэтому они не только не отступают от своего плана, но предполагают совершить и еще два подвига: окрестить жида и принять участие в подделке векселей. Во всем этом им оказывают содействие: во-первых, бывший тапер в пансионе (без древних языков) Кубарихи, Иван Иваныч Очищенный, ныне женатый на содержательнице гласной кассы ссуд и, сверх того, состоящий вольнонаемным редактором газеты «Краса Демидрона», во-вторых, письмоводитель квартала Прудентов и, в-третьих, брантмейстер Молодкин. Купно с этими последними герои проектируют «Устав о благопристойном поведении», в котором, по обстоятельствам, с каждым днем ощущается все более и более настоятельная надобность. Рассказ прерывается на том месте, когда начальник квартала Иван Тимофеич, передает действующим лицам приглашение на обед к «штучке» купца Парамонова. На этом обеде Балалайкин должен быть представлен невесте, а потом и обвенчан.
Авт.
В Изд. 1883 это подстрочное примечание было снято. В остальном текст Изд. 1883 совпадает с текстом журнальной публикации.
Публикация этих глав привлекла внимание Департамента государственной полиции: «суждения, неудобные с правительственной точки зрения, о направлении современной внутренней политики»[112] вызвали отношение директора Департамента В. К. Плеве в Главное управление по делам печати от 2 октября 1882 г. «Описание геральдического знака страны зулусов» было расценено как «оскорбление величества». «Знак» этот действительно явно ассоциировался с гербом царской России — двуглавым орлом. Кроме того, здесь же был заключен прозрачный намек на подчинение всей жизни страны свирепой борьбе с революционным движением и свободной мыслью: «главные министры» Зулусии — «министр умиротворений посредством в отдаленные места водворений» и «министр оздоровления корней». Однако представление Плеве не имело неблагоприятных последствий для Салтыкова.
Опубликованные после длительного перерыва XII–XV главы «Современной идиллии» отразили новый этап в работе Салтыкова над романом. Здесь завершается (в гл. XV) одна из основных для начальных глав тема «современного воровства», которое «перепуталось с благонамеренностью». В повествовании возникает эпическая нота, богатое и точное бытописание, предвещающее «Пошехонскую старину» (гл. XII)[113]. В то же время главы XII–XIV непосредственно отражают общественно-политическую жизнь России уже в более крупном масштабе, чем предшествующие им.
Выход из кризиса 70-х годов правительство искало в усилении внутриполитического контроля и одновременно — в отвлечении национальных сил в русло внешнеполитической активности, в попытках укрепиться за счет «побед и одолений» на международной арене. Реакционная по своему существу концепция русской «миссии» на востоке (этим понятием были замаскированы колониальные поползновения царизма) оживленно обсуждалась консервативной публицистикой 70-80-х годов. Салтыков связал как единосущные в правительственном курсе тенденции внешнеполитического авантюризма и внутреннего обуздания.
Персонаж, объединяющий эти тенденции — «странствующий полководец» Полкан Самсоныч Редедя[114]. Для его характеристики использованы хорошо известные современникам подробности биографий нескольких реакционных военных деятелей. Все «ташкентские» реалии внушены генералом М. Г. Черняевым, который в 1865 г. «покорял» Туркестан, «египетские» — генералом Р. А. Фадеевым (в порядке личной политической авантюры он командовал в 1875 г. армией египетского хедива). Оба редактировали газету «Русский мир» (1873–1878), Фадеев же вообще выступал как идеолог и политический публицист. «Забалканские» детали связаны с тем же Черняевым, потерпевшим в 1876–1877 гг. полное поражение в качестве командующего сербской армией и русскими добровольцами в сербо-турецкой войне, и, видимо, с генералом И. В. Гурко, которому в русско-турецкой войне было вверено начальство над гвардией: «герой Балкан» — его нарицательное имя[115]. Он же оказался «полезен во время междоусобия» 1879 г., воюя в роли генерал-губернатора с петербургским населением. Все трое периодически пребывали «не у дел», представляя «печальное зрелище» «одиночества». Гурко приходилось служить и в «западном крае». Основным прототипом, как указал в письме Пыпину сам Салтыков, является Черняев («Вспомните, что Редедя Сербию освобождать ходил, всю Россию взбаламутил»). Однако метод широких аналогий позволил Салтыкову посредством повествования Редеди о «Зулусии» раскрыть «направление современной политики» царизма столь же ярко, как и в прямой форме.
Глава XIV — одна из самых сложных в романе, насыщенная намеками на важнейшие общественные факты, изобилующая иносказаниями, — раскрывает картину того «хаоса»[116], по выражению Б. Н. Чичерина, который являла политическая жизнь страны накануне 1 марта 1881 г. и вскоре после этого события. Весь ее смысл — в злободневном политическом подтексте, проникающем каждый эпизод.
Народовольческий террор, державший в страхе высшие сферы, рождавший обывательские легенды, осторожно затронут в фигурах «крамольников Зачинщикова и Залевалова» — в сложном, как бы двойном освещении: сдержанной иронии («заставляют беззащитных обывателей петь с ними трио») и серьезности (имя В. Телля, упомянутое здесь же, — знак истинной революционности). Салтыков, преклоняясь перед самоотверженностью народовольцев, тем не менее не раз говорил о «бессмысленности» убийств (письмо А. Н. Энгельгардту от 6 февраля 1879 г.). «Из-за них ничего не видать. Не только никакого дела делать нельзя, но и разобраться в этой галиматье трудно» (Н. А. Белоголовому от 20 марта 1882 г.). Контрнаступление реакции олицетворяет деятельность «Кружка любителей статистики», именуемого также «Клубом Взволнованных Лоботрясов» и (в рукописи) «Союзом Недремлющих Амалатбеков». Под этими названиями выведена «Священная дружина» — существовавшее с начала 1881 по декабрь 1882 г. антиреволюционное тайное общество. К началу 80-х годов в среде защитников дворянско-монархического принципа возникли идеи борьбы с революционерами, минуя полицию и суд, путем террора и личных расправ. 20 января 1880 г. «Московские ведомости» (№ 19) опубликовали с восторженным комментарием обращение князя H. H. Голицына: «Долой перчатки, скорей кольчугу и меч! <…> К борьбе! К борьбе! <…> Пусть образуется рать, хотя для этого не надо ей выходить в поле». На этой идеологической почве и возникла позже «Священная дружина». Сначала она, по свидетельству жандармского историографа Н. И. Шебеко, ставила себе цель «вырезать анархистов», но ограничилась «политическим сыском», который «сделался в то время каким-то аристократическим спортом, и в ряды «Дружины» спешили вступать представители высшего петербургского общества всех рангов и возрастов»[117]. Как отмечено в дневнике П. А. Валуева, «Дружина» быстро «приняла тип бывшего III Отделения по части разных доносов и сплетней»[118]. Салтыков, информированный М. Т. Лорис-Меликовым, через Н. А. Белоголового дал первые сведения насчет «Дружины» в заграничную печать и посвятил этой теме третье из «Писем к тетеньке» — вырезанное цензурой. Таким образом, этот эпизод «Современной идиллии» оказался для русского читателя первым известием о «Дружине» (подробнее см. «Письма к тетеньке», примечания, т. 14 наст. изд.).
В гл. XIV отражена еще одна черта времени: разжигавшая общественные страсти шумная полемика консервативной и либеральной печати («благонамеренные» и «ненеблагонамеренные»). Как точно определил еще Арс. Введенский, «автор говорит здесь «детально верно» «об отношениях «благонамеренной», то есть обскурантской печати нашей к печати «либеральной» (Литературная летопись. — «Голос», 1882, 23 сентября, № 258).
С точки зрения Салтыкова, различие между ними, во всяком случае в это время, было ничтожно («разница тут самая пустая»): тот же «Голос» призывал «все разумные, истинно охранительные элементы общества» сплотиться вокруг «коренных основ» и «раздавить вредоносных червей» революции (Е. Марков. Враги и друзья. — «Голос», 1879, 27 июня, № 176).
Публикация сразу четырех глав «Современной идиллии» заставила критику размышлять прежде всего о драматизме, скрытом в сатире Салтыкова: там, где «речь ведется о благонамеренности и способах насаждения ее», «картина жизни современной выходит у автора очень мало похожей на идиллию» («Сын отечества», 1882, 24 сентября, № 219); «современная идиллия, изображенная в калейдоскопе г. Щедрина, представляется каким-то чудовищным явлением, диким, почти невозможным, а между тем существенные черты современности, без всякого сомнения, схвачены автором необыкновенно ярко <…> этот юмор вызывает не смех, а чувство горького негодования, разочарования, так как из-за него ясно видны очертания того идеала, до которого описываемому обществу так далеко <…> настоящая сатира всегда оставляет такое впечатление» («Новости и биржевая газета», 1882, 1 октября, № 259). Эти главы заставили бить тревогу реакционный «Гражданин», его критик откровенно призывал власти «обратить внимание» на литературную деятельность сатирика («Гражданин», 1882, 14 октября, № 82).
Образ Редеди и вся сатирическая фантасмагория его походов повергли современную Салтыкову критику в недоумение. Признавая, что новые главы «Современной идиллии» «наиболее крупное литературное явление» последнего времени, «Кронштадтский вестник» находил в них «недостатки»: «грубый шарж, несколько карикатурную утрировку» (1882, 26 сентября, № 113). «При типичности характеров и языка выводимых им деятелей автор нередко в своей сатире впадает в преувеличения, которые доходят до крайности и мешают ясности представлений о героях и их положении», — вторила «Газета А. Гатцука», (1882, 9 октября, № 41). Единственный из рецензентов М. Супин (М. И. Кулишер) понял, что «тип Редеди действительно карикатурный, действительный уродливый — это насмешка над здравым смыслом и культурой», но «он является художественным воспроизведением действительных лиц — этот тип выхвачен прямо из жизни» («Заря», 1882, 9 октября, № 223).
…командовал войсками короля Сетивайо против англичан… — Личность правителя африканского племени зулу Сетивайо (инкоси Кетчвайо), ведшего в 1879 г. неудачную борьбу против англичан, целый год привлекала сочувствие русских газет, целиком предопределенное кризисом отношений России с Англией (по поводу русско-турецкого мирного договора). Салтыков сатирически использует в этой главе «зулусские события» для намека на отечественный произвол и беспорядок.
…принадлежали к меняльной секте… — Меняльным делом занимались, преимущественно, скопцы-сектанты.
«корабль» — здесь: община скопцов.
…страха ради иудейска… — выражение из Евангелия (от Иоаина, XIX, 38).
«голуби» — здесь: члены секты.
…приняли большую печать… — подверглись полному оскоплению.
…корпуса путей сообщения, ныне, впрочем, не существующего. — Корпус инженеров путей сообщения, имевший военную организацию, в 1867 г. получил гражданское устройство.
…не увлекалась <…> молодыми апраксинцами… — купцами и приказчиками петербургского Апраксина двора.
…отрекомендовал себя камергером Дона Карлоса… — Претендент на испанский престол Дон Карлос VII в январе — феврале 1877 г. был в России.
…у него в гербе был изображен римский огурец… — то есть символ безудержного вранья: выражение это пошло от басни И. А. Крылова «Лжец» (1812): «Вот в Риме, например, я видел огурец… Поверишь ли? ну, право, был он с гору».
Сегодня ты обитаешь, а завтра — где ты, человек! — Сатирически перефразированная строка из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского».
…получил уфимскую землю и потом ее возвратил… — В 1880–1881 гг. сенатская ревизия вскрыла грандиозное расхищение крупными чиновниками в течение всех 70-х годов башкирских крестьянских и казенных земель в Уфимской губернии. См. т. 14, стр. 561–562.
Аника-воин — герой повести «Прение живота со смертью», народных песен, сказаний, лубочных картинок и духовных стихов, нарицательное имя задиры, который хвастается силой, но терпит поражения.
…по дворянскому полку. — Дворянский полк — военно-учебное заведение, существовавшее с 1807 по 1855 г. (в нем учился М. Г. Черняев).
…царь Амонасро (из «Анды») — герой оперы Д. Верди «Аида» (1871).
Сетивайо (ныне обучающийся в Лондоне парламентским порядкам). — Потерпевший поражение 4 июля 1879 г. в сражении при Улунди Кетчвайо содержался в плену в Англии.
Строфокамил — страус.
К нему обратился за помощью Араби-паша… — Ахмед Араби-паша — руководитель национального движения, поднявший восстание против англичан. Разбит в сражении у Тель Эль-Кебира 13 сентября 1882 г.
…задачу России на востоке отождествлял с <…> перспективами <…> для плисов и миткалей первейших российских фирм. — Очевидно, имеются в виду статьи Р. А. Фадеева в «Биржевых ведомостях» (1869), изданные затем отдельной брошюрой «Мнение о восточном вопросе», где обосновывалась необходимость грядущего завоевания Азии Россией. Салтыков показывает реальную подкладку этих стремлений: экспансионистские вожделения царизма, сомкнувшиеся в последней четверти века с колониальными претензиями крепнувшей русской буржуазии. Плисы, миткали — дешевые хлопчатобумажные ткани.
…мануфактур-советник — почетное звание, установленное в 1800 г. для купечества (звания этого удостаивались купцы, пробывшие в I гильдии не менее 12 лет сряду).
…принял косвенное участие и в кукуевской катастрофе… — Железнодорожная катастрофа с большим количеством жертв произошла в ночь с 29 на 30 июня 1882 г. на Московско-Курской дороге у деревни Кукуевка. Упоминается далее как символ бессмысленных и непредвиденных несчастий, преследующих человека в российской действительности.
…одна рука дает, другая — не ведает. — Выражение из Евангелия (Матф., VI, 3–4).
…город на отряды разделить. Что ни дом, то отряд, со старшим дворником во главе. — Такая мера была осуществлена весной 1879 г. после покушения А. К. Соловьева на Александра II, в «незабвенные Гурхины времена», как писал об этом моменте Салтыков 19 ноября 1881 г. Н. А. Белоголовому. По обязательному постановлению генерал-губернатора И. В. Гурко, «дворник безотлучно днем и ночью находился при воротах каждого дома» (М. Вед., 1879, 10 апреля, № 89). «Комичный и тревожный» «вид столицы, где в продолжение целой прозрачной весенней ночи у каждого дома лежа караулил спящий дворник», надолго запомнился современникам (К. Головин. Мои воспоминания, т. I, СПб., 1908, стр. 373).
…а я бы по пушечке против каждого дома поставил. — После 1 марта 1881 г. началось «постоянное осадное положение», — констатировал либеральный военный министр Д. А. Милютин («Записки Отдела рукописей ВГБИЛ», вып. 2, М., 1939, стр. 26). Петербургский градоначальник H. M. Баранов пробовал, в частности, произвести «оцепление всего города кавалерией». Это «похоже на злую насмешку <…> и напоминает юмористические рассказы Щедрина» («.Дневник Д А. Милютина», т. IV, М., 1950, стр. 46, 47).
…выплыло наружу столько оздоровительных проектов… — Мракобесные проекты «спасения России» (отраженные далее в «Сказке о ретивом начальнике» — проекты «мерзавцев») исходили не только от властей, но рождались инициативой добровольцев реакции в ответ на приглашения правительства к «содействию».
…господин финансист Грызунов! — Персонаж, упоминаемый также в «Письмах к тетеньке» (т. 14 наст. изд., стр. 652–653). Один из прототипов его — В. П. Безобразов.
…письма-то на почте <…>над паром секундочку подержал — читай… — Речь идет о перлюстрации, особенно усилившейся в последние годы царствования Александра II: за 1880 г. в семи крупнейших городах страны было вскрыто более 360 тыс. писем. Сам царь «очень интересовался» этим (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов, стр. 225–226).
…оздоровление корней. — Термин «оздоровление корней» Салтыков заимствовал у Достоевского из январского номера «Дневника писателя» за 1881 г. В главе «Забыть текущее ради оздоровления корней» Достоевский призывал «устранить на время» нашу интеллигенцию, якобы «презирающую народ» и состоящую в умственной «крепостной зависимости <…> у Европы», чтобы дать простор развитию самобытной духовной силы народа (которая была истолкована в православно-монархическом духе).
Alеa jacta est… — фраза Юлия Цезаря, ставшая обозначением бесповоротного решения.
…«гуляке праздному!» — слова Сальери о Моцарте в «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери».
Озерки — дачная местность под Петербургом.
Мустамяки — финский поселок в окрестностях столицы.
Хлебодар и Виночерпий… — персонажи библейской истории об Иосифе Прекрасном (Бытие, XL).
…в художественном клубе. — См. т. 10, прим., стр. 772.
«Иде домув муй» — начальные слова чешской песни, получившей значение гимна национально-освободительного движения западных и южных славян. См. т. 14, стр. 618.
…в Вознесенском посаде! — Центр текстильной промышленности во Владимирской губернии, ныне г. Иваново.
…в Ножовой линии — в торговых рядах Москвы (в Китай-городе). По воспоминаниям Е. М. Феоктистова, именно «московские купцы создали <…> героя» из Черняева («За кулисами политики и литературы», стр.333).
…называют «Вильгельмом Теллем». — Опера Д. Россини «Вильгельм Телль» (1829), изображавшая народное восстание, шла в России с измененными цензурой либретто и названием. О значении этой оперы для русской передовой публики Салтыков писал еще в ранней повести «Запутанное дело» в 1847 г. (см. т. 1 наст. изд., стр. 427).
…требуют <…> паспортов… — Выразительный штрих политического быта русского общества 70-80-х годов, повседневно отмечавшийся газетной хроникой («производится в городе поверка паспортов обывателей». — М. Вед., 1878, 18 августа, № 210; «местный толкучий рынок был оцеплен <…> и у всех лиц, очутившихся в этой цепи, произведен был осмотр паспортов». — Там же, 1879, 28 апреля, № 106). О «шпионах-добровольцах», которые «даже паспорта ревизуют», Салтыков информировал Н. А. Белоголового в письме от 11 августа 1882 г.
«Звон победы раздавайся!» — Измененная первая строка «Хора для кадрили» Г. Р. Державина («Гром победы раздавайся»); положенный на музыку О. А. Козловским (1791), исполнялся в качестве гимна.
…на конках, и в мелочных лавочках, и в дворницких <…> где современная внутренняя политика почерпает свои вдохновения. — Иронический выпад против «народной политики» правительства и демагогической позиции «Московских ведомостей», которые по поводу важнейших политических событий часто апеллировали к тому, «что говорит <…> прислуга в домах, лавочники в своих подвалах, извозчики на улицах» — «простой народ», который «в своих суждениях <…> совсем расходится с представителями <…> интеллигенции» (М. Вед., 1878, 6 апреля, № 89).
…выкладывай все, что у тебя есть! <…> не путайся в словах, не ссылайся <…> отвечай прямо, точно, определенно! — Полемическая реминисценция катковских передовиц, призывавших к «спасению отечества» от революции: «Теперь такое время, что всякий, имеющий сказать что-нибудь, должен говорить без обиняков и, не путаясь в словах, идти прямо к делу» (М. Вед., 1881, 3 апреля, № 93); «Никакое снисхождение, укрывательство и защита тут не должны быть мыслимы <…>. Тут не может быть ни ссылок, ни уклонении, ни отговорок» (там же, 1880, 20 января, № 19).
Вивёр — прожигатель жизни (франц. viveur).
Ташкентец — одна из основных фигур в салтыковской сатирической типологии 70-х годов, реакционер и хищник (см. цикл «Господа ташкентцы» в т. 10 наст. изд.).
В суды не верю и решений их не признаю. — См. прим. к стр. 214.
…наш статистик — бултых в воду! — и начинает нырять. — В основе этого эпизода — непосредственные жизненные впечатления; о том, что «шпионы-добровольцы.» «одолели» летом 1882 г. Ораниенбаум, Салтыков извещал 11 августа сразу трех корреспондентов (Н. А. Белоголового, Г. З. Елисеева и Н. К. Михайловского): «Купаешься — и вдруг начнет вокруг шпион нырять и политические разговоры разговаривать».
…все под нумерами и все переодетые… — В дневнике П. А. Валуева отмечено, что «Дружина» набирается по образцу карбонариев (В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. 19 в. М., 1912, стр. 271). Об организации «в виде тайного общества <…> пятерками» сообщал Н. А. Белоголовому со слов М. Т. Лорис-Меликова Салтыков 29 июля (10 августа) 1881 г.
Руководители имеют в виду благо общества <…> исполнители <…> пользуются <…> вознаграждением. — К «Дружине» помимо придворной аристократии (П. П. Шувалов, И. И. Воронцов), финансовых воротил (барон Гинцбург) быстро «примкнули элементы неприглядные», отметил П. А. Валуев, и, «утратив всякий кредит в глазах людей с толком», «она продолжает действовать с личною для действующих лиц выгодою» (В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. 19 в., стр. 271–272).
…не вижу цели-с! <…> нельзя-с! <…> надобно иметь в виду цель… — Такие отзывы на свой собственный счет Салтыков постоянно встречал на страницах реакционной печати: «Человек, который ругает все и вся в продолжении 25 лет, который только ругает и больше ничего не делает — это что-то чудовищное, ненормальное! А Щедрин — не случайность; он знамение времени. Он создал целую школу. Печальное знамение времени!» (X. Дорожные заметки. III. — М. Вед., 1879, 2 октября),
…я и еще тридцать лет прокашлять могу! <…> Созидаемое мною здание — прочно! — Фигура преклонных лет старца символизирует живучесть дворянско-монархическои реакции, которая вновь подняла голову после 1 марта 1881 г. и готовилась к «контрреформам».
…Выжлятников мог дать мне второе предостережение… — Герою, очевидно, угрожает арест (по действовавшему законодательству о печати второе предостережение ставило под вопрос существование периодического издания, так как следующей карательной мерой была уже приостановка или запрещение).
…ввиду народной политики… — Политический курс, провозглашенный графом Н. П. Игнатьевым, министром внутренних дел с мая 1881 г., который характеризовался демагогической «народностью». Обличению «народной политики» посвящены многие страницы в «Письмах к тетеньке». См. т. 14 наст. изд.
…при пособии кокоревского глазомера. — См. т. 4, стр. 588.
…публика утратила даже представление о металлическом рубле. — Военные расходы в 1877–1878 гг. вызвали чрезвычайные выпуски бумажных денег.
…Бонту — тот металлическими украл… — Э. Бонту, глава французского банка «Union général» к началу 1882 г. довел его рискованными операциями до краха. Приговоренный судом к 5 годам тюрьмы, бежал.
XVI*
XVII*
XVIII*
Впервые — ОЗ, 1882, № 10 (вып. в свет 17 октября), стр. 505–530.
Сохранились: 1) черновые рукописи двух редакций главы XVI — начало ранней, кончая словами «Помышлений в сей день не было никаких» (стр. 158), и полный текст последующей; 2) черновая рукопись, в которую под номером XVII входит текст глав XVII и XVIII печатной публикации, позднее разделенных. Приводим один из рукописных вариантов:
Стр. 175, строки 1–4 св. Вместо слов: «Замечательнее всего <…> Бритый» —
Между ними в особенности выдавались графы Аракчеев и Клейнмихель.
Текст глав XVI и XVIII в Изд. 1883 совпадает с текстом журнальной публикации, в текст главы XVII введены слова «Да кто же, наконец <…> только и всего» (стр. 168, строки 1–3 сн.).
Главы XVI–XVIII открывают в романе широкую панораму провинциальной жизни. Как основные признаки, характеризующие современную провинцию, Салтыков выделяет «оскудение», экономический застой и упадок; преуспеяние буржуазных воротил («сила» Корчевы — купец Вздошников); бдительный надзор за «подозрительными» лицами, инициатором которого является тот же Вздошников («коли кто сицилиста ему предоставит — двадцать пять рублей тому»)[119]. Изображение «забытой» захолустной Корчевы во многом полемично по отношению к специфическим народническим увлечениям кустарной артелью, местными промыслами, мелким производством (тема «патентов» и «промыслов», образы мещанина Разноцветова и самоучки-изобретателя Презентова). В противоречии с народническими социально-экономическими рекомендациями писатель открывает в этих героях и явлениях черты глубокой «выморочности» и обреченности перед лицом победного утверждения русского капитализма. В то же время Вздошников показан в соответствии со свойственным Салтыкову взглядом на процесс капиталистического развития России как на хищническое истощение ее природных и человеческих ресурсов, что было близко к идеологии «народнической демократии».
Публикация очередных глав «Современной идиллии» вновь разделила мнения рецензентов. И если «Неделя» (1882, 24 октября, № 43), «Кронштадтский вестник» (1882, 5 декабря, № 143) считали «путешествие» просто «бесцветным повторением» уже сказанного, то «Киевлянин» (1882, 14 ноября, № 253), «Минута» (1882, 1 ноября, № 272) адресовали автору упреки в идейной «недоброкачественности».
В противовес этому «Сын отечества» (1882, 22 октября, № 243) нашел здесь «мастерскую картину той апатии и того застоя, среди которых прозябает наша провинция». В развернутом отзыве «Голоса» отмечено: «Сатира Щедрина всегда является защитой прав нравственной личности человека, осмеивая все, что нарушает эти права, и показывая результаты нарушений — те бесплодные формы жизни, которые возникают и растут во тьме произвола и безмыслия <…> Автор осмеивает не только подозрение и подозревающих, но и подозреваемых — все они <…> представляют изумительную картину общества, в котором замирает жизнь» (1882, 21 октября, № 286). «Кто может отрицать в сатире г. Щедрина серьезный общественный элемент, кто может называть «балагурством» неутомимое исследование всех наших общественных язв и пороков, бичевание всех одолевающих нас гадов <…> с тем спорить нечего <…> Они желают ослабить силу направленных против них ударов сатиры, уверяя публику, что их хлещут не бичом, а тросточкой», — писал «Русский курьер» (1882, 2 ноября, № 302).
Тверская губерния исстари славится своим либерализмом. — См. далее стр. 367, а также т. 6, стр. 594 и подробнее: С. A. Maкашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов. Биография. М., «Худож. лит.», 1972, стр. 385 и след.
…возвести <…> на румынский или сербский престол. — В 1881 г. Румыния была провозглашена королевством, в 1882 г. — Сербия.
…невидимо присутствовавший при разговоре штаб-офицер. — Штаб-офицеры — в губерниях еще в 1867 г. были переименованы в начальников губернских жандармских управлений. Здесь — частый у Салтыкова хронологический сдвиг в эзоповских целях.
Потом объявили волю вину… — См. т. 3 наст. изд., стр. 571–572.
Вздошников — см. т. 14 наст. изд., стр. 634.
…коли кто сицилиста ему предоставит — двадцать пять рублей <…> награды! — См. выше стр. 357, а также т. 14 наст. изд., стр. 625.
…под нозе <…> покорил. — Выражение из Библии (Псалтирь, XLVI, 3–4).
Знаете, какие нынче строгости… — Положение 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» дало свободу административному произволу: оно предоставило местным властям право подвергать обыскам и предварительному аресту «всех лиц, внушающих подозрение» в «прикосновенности» к государственным преступлениям («Полный свод законов Российской империи», 3-е собр., т. I, № 350).
…интендантские науки <…> существуют… — Имеется в виду «интендантское дело», по которому судились 16 интендантов и поставщиков, грабивших действующую армию во время русско-турецкой войны, иронически именуемых здесь Салтыковым профессорами (см.: Н. П. Карабчевский. Речи. СПб., 1901, стр. 1-64). Их хищнические «подвиги» отражены и далее в описании злоключений «египетских войск» в гл. XXVII.
Щеголь в гороховом пальто… — «Гороховое пальто» быстро вошло в русскую фразеологию, обогатив ее иносказательным обозначением полицейского филера, сыщика низшего разбора. По наблюдению Арс. Введенского, оно удачно перекликалось с народными речениями «гороховый шут», «гороховое чучело» («Голос», 1882, 21 октября, № 286).
Сумлеваюсь, штоп <…> Гр. Алексий Аракчев… — Текст этой комической резолюции приписывается генералу Н. О. Сухозанету. Салтыков использует ее для характеристики легендарного невежества Аракчеева.
нынче хрюканье все голоса заглушило… — Здесь перекличка с недавним утверждением в цикле «Круглый год» («1-е ноября». — ОЗ, 1879, № 12): невозможно «представить себе такой ужас: человеческое слово упразднилось, а вместо него повсеместно водворилось свиное хрюканье <…> бог не попустит подобной несправедливости». Свинья у Салтыкова — олицетворение торжествующей реакции. См. т. 14 наст. изд., стр. 548, 595–599.
Урядники ноне… — См. прим. на стр. 363.
Импет — стремление, движение вперед (лат. impetus).
…к вопросу о недостаточном вознаграждении труда <…> о накоплении и распределении богатств… — Речь идет о социалистическом принципе распределения материальных благ в будущем обществе, который входил в требования, выдвигаемые программой революционного народничества (см.: В. А. Твардовская. Социалистическая мысль России на рубеже 1870–1880 гг., М, 1969, стр. 124–128).
XIX*
XX*
XXI*
Впервые — ОЗ, 1882, № 12 (вып. в свет 15 декабря), стр. 537–570, под номерами XIX, XX, XXI. Сохранились:
1) две рукописных редакции XIX главы: первая — черновая, от начала главы кончая словами: «…современная ябеда является несостоятельною и даже глупою. Она путает, дразнится и пугает» (см. стр. 187); вторая — перебеленная с первой, переходящая в черновую во второй половине. В той и другой редакции глава обозначена номером XVIII.
2) пять рукописных редакций главы XX, разной степени завершенности. Полный текст главы представлен только в пятой редакции. Почти без изменений во всех редакциях повторяется начало главы, до «сказки» Очищенного; текст «сказки» каждый раз подвергался существенной переработке. Все рукописные редакции содержат многочисленные варианты и разночтения.
Первая черновая рукопись главы обрывается на словах: «Пришел он к ней: так и так, говорит, отними!» (стр. 193); содержит начало «сказки» Очищенного в наиболее кратком изложении под заглавием «Сказка о вредном начальнике».
Вторая черновая рукопись главы обрывается на словах: «От Моршанска до Петербурга, или Польза железных дорог (записано со слов 1-й гильдии купца Парамонова)» (стр. 196); содержит полный, более пространный по сравнению с первой редакцией текст сказки Очищенного, заглавие которой: «Сказка о вредном начальнике» — зачеркнуто.
Третья черновая рукопись главы обрывается на словах: «…коли люди так отдышаться успели!» (стр. 194). В «сказке» Очищенного, расширенной и переработанной по сравнению со второй редакцией, озаглавленной «Сказка о вредном начальнике, как он вредными своими действиями сам в изумление был приведен» нет конца. Неизвестно, существовал ли в этой редакции конец «сказки» и следующая за ним часть главы, так как сохранился только один лист рукописи, целиком заполненный текстом.
Печатаем два наиболее существенных фрагмента третьей редакции «сказки», один из которых в дальнейшем был изменен, другой — изъят из текста.
Стр. 192. Начало «сказки»:
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был вредный начальник. Когда это было — неизвестно, а должно быть, в ту пору, когда промежду начальства такое правило в ходу было: чем больше начальник вреда делает, тем больше отечеству пользы будет. Науки упразднит — польза; город спалит — польза; население испугает — еще того больше пользы. Разумеется, временно. Сначала пускай отечество через вред остепенится, а потом пущай отдышится и уж настоящим образом процветет.
В этом же смысле положил себе и наш начальник действовать.
И сам по себе он был вредный, да и отечество на беду крепко любил, так что с юных лет все об одном думал: поскорее надо как можно больше вреда наделать, чтобы отечество процвело! И точно: как приехал в вверенный край, так и начал вредить.
Стр. 194, строка 11 сн. После слов: «ан прежние опять в норы уползли…» — в рукописи следует изложение программы «мерзавцев» (программу «мерзавцев» см. в четвертой редакции «сказки», опубликованной в разделе «Из других редакций», стр. 295 наст. тома. Эта программа в четвертой редакции, по сравнению с третьей, подверглась лишь небольшой стилистической правке). Вслед за «программой» идут слова:
Выслушал он эти мерзавцевы требования, и так как в это время у него опять рассуждение прикапливаться стало, то очень ему наглость ихняя не понравилась.
— Ведь это уж они на мои права наступают! — подумал он и, обратившись к ним, прибавил: — А ежели вас за ваши прихоти на каторгу заточить?
И начал он им по пальцам высчитывать, сколько от них для вверенного края искони пакостей было, высчитывал час, высчитывал другой, но не успел и сотой доли перечислить, как вдруг клапанчик в голове сам собою свистнул, и он затмился по-прежнему. Хочет с мерзавцами по всей строгости поступить, а вместо того говорит им:
— Благодарю, господа мерзавцы! Вижу, что вы на правильной стезе стоите! Принимаю вашу программу и благодарю.
Четвертая черновая рукопись главы обрывается на словах: «Оба разом встали и смотрят друг на друга» (стр. 195); содержит почти полный текст «сказки» Очищенного, озаглавленной «Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен». Эта редакция сказки, наиболее пространная, с большим количеством вариантов и разночтений, не вошедших в печатный текст, печатается в разделе «Из других редакций» наст. тома.
Пятая черновая рукопись главы — полная. Текст «сказки» Очищенного, по сравнению с текстом четвертой редакции, сокращен и переработан; он наиболее близок к печатному тексту. Заглавие сказки «Сказка о [некотором] ретивом начальнике, как он своими [действиями] поступками сам себя [в изумление привел] удивил». Приводим наиболее существенные варианты:
Стр. 194, строка 11 сн. После слов: «в норы уползли…» —
Тогда он вспомнил, что когда он еще ребенком был, то воспитатель-француз (из эмигрантов) говаривал: буде хочешь отечество подкузьмить — призови на помощь «мерзавцев».
Обрадовался, созвал «мерзавцев» и сказал им:
— Пишите, мерзавцы, доносы!
И вдруг пошла во всем крае суматоха. Кому горе, а «мерзавцам» радость. Кружатся, галдят, играют; с утра до вечера пир горой. Одни пишут доносы, другие вредные проекты сочиняют, третьи об оздоровлении ходатайствуют. Не хлеба нам надобно, а шпицрутенов! — вопиют. И все эти вопли ихние, полуграмотные, вонючие, к ретивому начальнику в кабинет ползут. А он читает и ничего не понимает. «Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать»… почему? «Необходимо обывателей во всегдашнем изумлении содержать»… на какой предмет? «Необходимо вновь закрыть Америку»… Но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался и нанюхался по горло, а ни одной резолюции положить не мог.
Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще того горше, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!»
Стр. 195, строка 4 св. После слов: «сколько привезут, столько сейчас и расхватают!» —
Словом сказать, общее благоденствие. Все довольны, все заняты, всем некогда. Днем — концессии получают; вечером — в сибирку винтят; в промежутках — закусывают. Даже для любовных дел особливый девиз придумали: «без потери времени». Прежде, бывало, молодой-то человек ходит-ходит, кланяется-кланяется… «неприступная! восчувствуй!» А нынче: pst, pst — только и всего.
Стр. 196, строка 18 сн. После слов: «В 1818 году, Иануария 15-го, при рождении плачено» —
якобы неправильно рожден
Стр. 198, строки 19–20 св. Вместо; «В 1865 году по поводу разных случаев внезапностей» —
В 1865 году по случаю чудесного избавления
Стр. 199. Заглавие и начало фельетона:
Властитель дум современности.
Одни называют его медным лбом, другие — просто мерзавцем. В сущности, он сочетает в своем лице и то и другое. Но так как разнообразие терминологии может привести к путанице, то остановимся на каком-нибудь среднем термине и будем называть его негодяем.
Стр. 204, строка 10 св. Вместо: «увиделись они один раз на бульваре» —
Увиделись они один раз в церкви
3) неполная черновая рукопись главы XXI, обрывающаяся на словах «Сто рублей отысканы» (стр. 211, строка 4 св.).
Текст в Изд. 1883 совпадает с текстом журнальной публикации.
Главы XIX–XXI были опубликованы в декабрьском номере «Отечеств. зап.» за 1882 г. Эта публикация вновь вызвала недовольство цензора H. E. Лебедева. 13 декабря 1882 г. он докладывал в Главное управление по делам печати, что Салтыков изображает «безвыходное» «положение русского гражданина», «так как всякий желает усмотреть в нем социалиста и изловить его» — в том числе «простой народ, наученный ближайшим своим начальством». «Кроме возбуждения такого рода картинами недовольства в обществе, Щедрин старается представить в самом безобразном виде и высшее начальство; проделки, приписываемые автором некоторым начальникам, могут твориться только идиотами» (имелась в виду «Сказка о ретивом начальнике»). Вывод гласил: «Читатель невольно возбуждается против правительства описанием беззаконных действий его агентов, на которые оно смотрит как бы сквозь пальцы»[120]. Представление Лебедева было передано на рассмотрение благожелательному к Салтыкову В. М. Лазаревскому. По его заключению, героями «Современной идиллии» являются не «граждане», а компания подонков, «вообще вся эта Одиссея не более как шарж», а «фантастическая сказка», будучи частью «чтений на<…> литературном вечере», «ничего общего с сущностью статьи не имеет». Состоявшееся 21 декабря 1882 г. заседание Совета Главного управления по делам печати приняло предложение Лазаревского «оставить представление без последствий»[121].
Работа над XIX–XXI главами шла в трудных для Салтыкова обстоятельствах, о которых он сообщил 1 ноября 1882 г. в письме к П. В. Анненкову, — резко ухудшилось здоровье, осложнились условия литературного труда: «современное русское общество так настроилось, что совсем не задерживает впечатлений <…> А тут еще, на беду, связался с «Современной идиллией». Требуется письмо веселое, живое, а у меня все болит».
В этих главах писатель впервые ставит своих героев — «средних людей», ранее сталкивавшихся лишь с деспотизмом самодержавия и разнообразным общественным «негодяйством», лицом к лицу с народом. Картина разоренной пореформенной деревни, отягощенной безнадежной земельной недостаточностью и изобилием духовных и мирских «пастырей» (батюшка, староста, кабатчик, урядники[122]), раскрытие политической темноты крестьянства, не до конца расставшегося с приметами рабской психологии и очень далекого от понимания задач революционной борьбы, служат конечным объяснением причин разгула реакционных сил и трагедии «среднего человека», дворянского интеллигента.
Изображением «выморочности» дворянского гнезда, чуждости помещика современному сельскому быту глава XIX перекликается с циклом С. Атавы (Терпигорева) «Оскудение», который «Отеч. зап.» опубликовали в 1880 г. (№№ 1-12).
В главе XXI примечательна сатирическая критика Салтыковым «тверского либерализма», носителями которого оказываются урядник и исправник. Либеральный критик Арс. Введенский со сдержанным сожалением отметил бескомпромиссность салтыковской сатиры в разработке этой темы: «Автор с ненавистью смеется над «обаянием исконного тверского либерализма». <…> Сатира преследует ожидание «правового порядка», являющегося в виде весьма неказистом». Но «если весь народ и все общество таковы», что «не признают самых даже скромных идеалов общественных, то можно ли возложить на них требование идеалов более обширных и справедливых?» («Голос», 1882, 30 декабря, № 354).
…с самой «катастрофы»… — со времени реформы 1861 г.
…получать «ренду» за сверхнадельную землю… — то есть плату от крестьян за пользование помещичьей землей, взятой ими в аренду.
…таково действие «власти земли»… — Иронический отклик на цикл Г. И. Успенского «Власть земли» (ОЗ, 1882, №№ 1, 2, 4), где «земледельческим инстинктом» объяснена «особая психология» русского крестьянина.
…в воздаяние отличных заслуг… — Пародируется официальная формула высочайших рескриптов о награждении.
…пришли на село <…> два солдата; один говорит <…> крепостное право будет; а другой <…> — все будет казенное… — В 1878–1879 гг. в деревне распространились вызванные земельным голодом крестьянства слухи о «черном переделе». Слухи приобрели массовый характер и вызвали в борьбе с ними специальный циркуляр министра внутренних дел: «ни теперь, ни в последующее время никаких дополнительных нарезок к крестьянским участкам не будет» («Правительственный вестник», 1879, 17 июня, № 135). Как докладывали многие губернаторы, источником подобных слухов (часто совершенно фантастических) были именно отставные солдаты (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов, стр. 13, ПО).
…не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие… — Выражение из Библии (Псалтирь, CXLV, 3).
Игнорант — невежда (франц. ignorant).
аспирация — стремление (франц. aspiration).
…смешивают Прудона с Юханцевым и Гарибальди с Редедею! — Именем Прудона символизировано здесь социалистическое учение о собственности, которое реакционная пропаганда стремилась представить как призыв к «грабежу» (см. вступительную статью, стр. 309 и прим. на стр. 378); прототип Редеди, авантюристический генерал М. Г. Черняев аттестовался в 1876–1877 гг. как «русский Гарибальди» и охранительной и либеральной печатью, что вызывало у Салтыкова резкий протест (см. «Салтыков в воспоминаниях…», стр. 583).
Штандпункт — точка зрения (нем. standpunkt).
Высокоинтеллигентного человека <…> можно вырвать из рядов человеческих <…> потому что средний человек не заступится за него… — Обобщение судеб вождей революционного движения, в первую очередь — Н. Г. Чернышевского. Вновь обращаться к историческому опыту 1861–1863 гг. Салтыкова заставляли общественно-политические обстоятельства переживаемого момента: репрессии правительства по отношению к участникам народнического движения.
…предчувствия <…> стелются над местностью, превращая ее в Чурову долину. — Чур у язычников-славян — божество, оберегающее границы владения, «невидимо поселившаяся сила, которую следовало бояться, т. к. ей предоставлено право наказывать: насылать беды» «до <…> смерти включительно» («Крылатые слова по толкованию С. В. Максимова». М., ГИХЛ, 1955, стр. 219).
…памятно мне в этом смысле одно лето… — Речь идет о правительственном терроре летом 1879 г. после покушения 2 апреля 1879 г. народовольца А. К. Соловьева на Александра II.
…стараться как можно больше вреда делать… — Конкретные обстоятельства, от которых отталкивалась сатирическая фантазия Салтыкова, открывает отчасти его переписка: «Победоносцев Константин и Катков Михаил — заняты деланием вреда» (А. Л. Боровиковскому, 18 ноября 1882 г.).
…с первого абцуга — с первого хода (нем. abzug — термин карточной игры).
Жизнеописание 1-й гильдии купца Онуфрия Петровича Парамонова. — Сходный документ приведен в книге П. В. Долгорукова «Правда о России» (см. прим. к стр. 25): счет, сколько надо «дать» «губернским и уездным начальствам», чтобы получить винный откуп в губернии (стр. 122–124); позже образчик подобного счета публиковал журнал «Дело» (см.: Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, стр. 459–460). В ряде случаев Салтыков приурочил взятки, которые давал Парамонов, к датам, преимущественно, кризисных для Российской империи событий, слегка смещая их в эзоповских целях.
В 1829 году за одоление победы над турками… — Имеется в виду русско-турецкая война 1828–1829 гг.
В 1838, по случаю переложения ассигнаций на серебро… — Пытаясь фиксировать ценность денежных знаков и вывести из обращения обесцененные ассигнации, министр финансов Е. Ф. Канкрин в 1839 г. учредил депозитную кассу, выпускавшую билеты, обеспеченные серебром.
В 1842 году по случаю учреждения губернских правлений. — Они были образованы в 1845 г. как высший орган управления губернией, ведающий судебными и административными делами.
В 1846 году от министра генерал всех вопче тревожил <…> в 1847 году <…> тревожил. — Речь идет об усилении административно-политического контроля и репрессий в России в связи с назреванием революционного кризиса в Европе, революции 1848 г.
В 1849 году по случаю победы <…> над <…> венграми… — Венгерская революция 1848–1849 гг. по просьбе австрийского правительства была подавлена военными силами России.
В 1853 году на армии и флоты <…> на тот же предмет. — В 1853 г. началась Крымская война.
В 1855 году по случаю окончания в знак радости. — В конце 1855 г. военные действия Крымской войны фактически прекращены.
В 1862 году по случаю реформы, окончания. — В 1862 г. должно было завершиться составление уставных грамот, то есть главнейших актов крестьянской реформы — размежевания крестьянских и помещичьих земель.
В 1863 году призывал генерал и чаем потчевал… — «Пожертвования» потребовались на ликвидацию силой оружия польского восстания 1863 г.
В 1865 году по поводу разных случаев внезапностей. — Текст черновой рукописи («По случаю чудесного избавления») показывает, что в противоцензурных целях Салтыков сдвинул дату: речь идет о неудачном покушении Д. Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 г. «По делу обогащения Комиссарова» — костромского крестьянина, случайно помешавшего покушению, был объявлен сбор верноподданнических «пожертвований» (см.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. XIX, М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 335–336).
В 1872 году <…> на памятник Пушкину 15 к. — О таком факте, как указал еще Р. В. Иванов-Разумник, «Отеч. зап.» сообщали в 1876 г. (№№ 10, 12): полицейские власти, производя «сборы» среди населения на различные цели, ухитрялись раздобыть для памятника Пушкину по 5 и 10 коп. «Вообще становой пристав, собирающий пожертвования <…> среди купцов и крестьян, не имеющих никакого понятия о Пушкине, это — такая комедия, которую едва ли где-нибудь встретишь, кроме российского государства» (ОЗ, 1876, № 12, стр. 250–251).
В 1877 году <…> на потреотизм <…> на сей же предмет. — Подразумеваются поборы в связи с русско-турецкой войной, сильно опустошившей государственную казну.
В 1879 году <…> на усиление средств. — На усиление средств борьбы с революционерами, которые дважды в этом году покушались на жизнь Александра II.
Властитель дум. — Название заимствовано из стихотворения Пушкина «К морю» (1824), где оно применено к Байрону («властитель наших дум»). Под «маской» подставного «автора» — корреспондента бульварной газетки — Салтыков говорит здесь с читателем от собственного имени.
Обаяние исконного тверского либерализма… — См. т. 6, стр. 594 наст. изд. и прим. к стр. 157.
…правила об употреблении шиворота… — Имеется в виду «Инструкция полицейским урядникам». См. прим. на стр. 363.
…когда Тверь боролась с коварной Москвой и Москва ее за это слопала. — В 1485 г. Иван III принудил последнего великого князя Тверского бежать в Литву и присоединил его княжество к Московскому.
…«здоровый народный смысл» начинает закипать. — Эта демагогическая формула часто употреблялась в катковских изданиях: «Появился редкий до сих пор гость на пирах нашей интеллигенции — русский здравый народный смысл» (М. Вед., 1879, 17 декабря, № 321); «Мы узнали недавно <…> весь здравый смысл русского крестьянина, пока его не исказили так называемые «друзья народа» (там же, 1880, 20 января, № 19).
…народной немезиды… — Из стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» (1831): «Они народной Немезиды // Не узрят гневного лица».
…ликвидация интеллигенции в пользу здорового народного смысла… — Отклик на кампанию в печати, открытую Катковым и его соратниками против революционно-демократической интеллигенции: «Истинное зло России именно и заключается в той гнилой части ее интеллигенции, которая стыдится своей страны и чуждается своего народа. Эта-то интеллигенция и есть наша язва, от которой мы должны во что бы то ни стало освободиться» (Передовая. — М. Вед., 1881, 17 апреля, № 105); газета публиковала провокационные описания «народного гнева» («Где тут разбирать, кто настоящий из них виноватый, а кто только так себе, середочка на половиночку? <…> Бунтовщики! Всех их в воду!» (Иногородний обыватель <Б. Маркевич>. С берегов Невы. — М. Вед., 1879, 19 апреля, № 97).
XXII*
XXIII*
XXIV*
Впервые — ОЗ, 1883, № 1 (вып. в свет 18 января), стр. 251–288, под номерами XXII, XXIII, XXIV.
Сохранились: 1) черновая рукопись главы под номером XXII, позднее разделенной на главы XXII и XXIII. Приводим некоторые разночтения.
Стр. 216, строка 5 сн. Вместо слов: «мужичье аграрные вопросы разрешает» —
мужичье аграрные вопросы, набивая воблой мамоны, разрешает
Стр. 223, строки 3–4 св. Вместо слов: «И когда последние засвидетельствуют, что лучше ничего не пивали, тогда…» —
а потом губернатора. И когда последние засвидетельствуют, что лучше ничего не пивали, то вино начинают пить члены окружного суда и земской управы. Затем
Стр. 229, строка 19 св. После слов: «как следует это действие понимать?» —
И, изложив этот тезис, смотрели на нас: много ли, мол, вы таких прокуроров видали? Но, увидев, так как мы остались нечувствительны, то и они, щелкнув языками, стали подниматься наверх.
2) черновая рукопись главы XXIV, более краткая редакция по сравнению с журнальной публикацией.
Текст в Изд. 1883 совпадает с текстом журнальной публикации за исключением небольшого уточнения в главе XXIII.
Публикация вызвала тяжелые последствия для «Отеч. зап.». 14 января 1883 г. H. E. Лебедев доложил СПб. цензурному комитету, что в этих главах «проводится идея полного отрицания всего существующего в нашем обществе и народе», «автор предает <…> осмеянию не пороки общества, не злоупотребления отдельных правительственных лиц, а подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды, и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить читателю в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества». «Намерение, которым задается сатирик», цензор счел «колеблющим авторитет <…> власти» и посему предложил арестовать январскую книжку «Отеч. зап.». Цензурный комитет сделал соответствующее представление в Главное управление по делам печати[123]
18 января 1883 г. представление было рассмотрено в Совете Главного управления, который «пришел к заключению, что настоящий очерк не есть простая сатира <…> а переходящая всякое приличие карикатура, не ирония, а нахальное издевательство, неистовое глумление над правительством в деле преследования политических преступников, что не может быть дозволено в печати, а потому признал необходимым подвергнуть журнал «Отеч. зап.» какому-либо административному взысканию». Несмотря на заступничество двух членов Совета (В. М. Лазаревского и Н. А. Ратынского), журналу было объявлено второе предостережение, по существу, решившее его судьбу. В мотивировке предостережения «Современная идиллия» не была упомянута — указывалась статья Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта»[124]. Но, как писал Салтыков в эти дни А. Л. Боровиковскому (31 января 1883 г.), на Николадзе власти ссылались «только для прилику», «главная же цель» была «Злополучный пискарь…».
Знали об этом и в обществе, где даже распространялись слухи об административной ссылке самого писателя: «Салтыкову предложено было выехать в Вятку за «Пискаря», но его оставили лишь по причине болезни», — утверждал причастный к «Священной дружине» темный делец К. А. Бороздин[125]. «Предложения» такого Салтыков не получал, но «слухами», дошедшими до него, был весьма обеспокоен (см. его письма).
На фоне министерской чехарды, политической суеты, охватившей правящие сферы (это отражено в XXII главе «Современной идиллии»), в послепервомартовской России развертывалась трагическая история гибели «Народной воли».
Центром глав, опубликованных в январском номере «Отеч. зап.», является «замечательное политическое дело», зрителями которого становятся путешествующие герои. Фактическую основу этому эпизоду дали крупные политические процессы 70-80-х годов: «50-ти» (февраль — март 1877), «193-х» (октябрь 1877 — январь 1878), «20-ти» (февраль 1882). О подробностях судов над революционерами-народовольцами и участниками «хождения в народ» Салтыков, вероятно, знал не только из газетных отчетов, но и от выступавшего защитником на процессах 50-ти и 193-х А. Л. Боровиковского, с которым его связывали приятельские отношения.
Салтыков осторожно, но точно воспроизвел некоторые детали этих расправ, известные современникам: дело 193-х, как и процесс 50-ти, представило «особый вид дознаний, производимых не о преступлении, а на предмет отыскания признаков государственного преступления», причем «поводом к привлечению в качестве обвиняемого» являлись «без всякого фактического подтверждения <…> внушающий подозрение образ жизни» или «вредный образ мыслей»[126], процесс 193-х тянулся около четырех лет, арестованные томились в одиночных камерах и к концу следствия было 93 случая самоубийств, умопомешательств, смерти, трое обвиняемых умерли во время суда[127]. Процесс 20-ти характеризовался «нарушением форм судопроизводства на каждом шагу» со стороны председательствующего сенатора П. А. Дейера[128], в деле 50-ти «судьи <…> принимали невольно характер стороны в процессе, не могущей относиться хладнокровно к развертывающейся пред нею судебной драме», так как «назначались <…> из наиболее «преданных» сенаторов, а «прокурорский надзор» вела «среда «волкодавов», которые делали себе карьеру в то время», — свидетельствовал беспристрастный А. Ф. Кони[129].
В «Злополучном пискаре» Салтыков высмеял царское «правосудие» и, вместе с тем, в очередной раз заклеймил реакционную печать в ее усилиях активизировать борьбу правительства с «неблагонадежными элементами». Сатирический образ «лягушки-доносчицы», которая «квакает толково и даже литературно», причем, как сразу определил цензор Лебедев, — «словами московских публицистов»[130], должен быть соотнесен с редактором «Моск. вед.». Образ этот подсказан самими катковскими изданиями: нигилизм — «лягушка, хвалившаяся раздуться с вола», которая «давно уже лопнула»[131]; революционеры — «ядовитые жабы, противно надувающиеся, чтоб их приняли за сильного, полезного рабочего вола»[132]; «петербургские» писатели — «литературные человеки, надувающиеся перед публикой <…> как Крыловская лягушка»[133]. Салтыков переадресовывает эту сатирическую характеристику самому Каткову, пародируя в речи лягушки тематику и стиль его передовиц.
Возвращалось восвояси целое стадо «сведущих людей». И те, которые успели сказать «веское слово», и те, которые пришли, понюхали и ушли. — О «сведущих людях» см. в «Письмах к тетеньке» (письмо «третье» и «пятое» и прим. к ним в т. 14 наст. изд.). «Пришли, понюхали и пошли прочь» — реплика городничего из гоголевского «Ревизора» (д. I, явл. 1), точно определяет характер созыва «сведущих людей». Министр внутренних дел Игнатьев намеревался «отнюдь не давать сведущим людям какого-либо не свойственного им значения» (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов, стр. 487–489).
…разделились на два враждебных лагеря <…> партия статского советника Долбни торжествует на всех пунктах… — Характеризуя состояние русского общества в тот момент, когда курс политической реакции был прокламирован Манифестом 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия, хорошо осведомленная современница свидетельствовала: «Сейчас Россия разделилась на два лагеря, где более вражды, нежели у турок с русскими» («Дневник А. В. Богданович. Три последних самодержца». М. — Л., 1924, стр. 60 — запись от 8 мая 1881 г.).
…народился злой антихрист… — Цитируется «Стих о Антихристе» из сборника: «Русские народные песни, собранные Петром Киреевским», ч. I. Русские народные стихи. М., 1848, стр. 75. Салтыков использовал этот текст еще в «Губернских очерках» («Общая картина»). См. т. 2 наст. изд., стр. 113.
…в <…> «Уставе» <…> был усмотрен московскими охотнорядцами злонамеренный якобинский яд. — «Охотный ряд» (торговые ряды в Москве), «охотнорядцы» — обозначение темной и верноподданной «улицы», «толпы», в сатире Салтыкова. Лавочники-мясники и другие торговцы московского Охотного ряда с 60-х годов постоянно участвовали в кулачных расправах с революционной молодежью. Выдавая охотнорядцев за «народ», их «патриотические чувства» восхваляли «Моск. вед.» (см., напр., № 87 от 4 апреля 1878 г.).
Под влиянием вожаков революционной партии, свившей-де гнездо на Литейной. — Намек на редакцию «Отеч. зап.», помещавшуюся на Литейном проспекте. Через год с небольшим «Отеч. зал» были закрыты правительством с мотивировкой, весьма близкой к взгляду на этот журнал, руководимый Салтыковым, как на «гнездо» «революционных партий».
…в клубе Взволнованных Лоботрясов. — См. стр. 351, а также т. 14 наст. изд., стр. 666–676 и след.
…уж и нас, адвокатов, в неблагонамеренности заподозрели <…> об нас, судьях, только и слов, что мы основы трясем, — соболезнует «несменяемый»… — Судебные уставы 1864 г., установившие гласность судопроизводства, независимость суда от административных органов и несменяемость судей, имели наиболее последовательный буржуазно-демократический характер и подвергались наибольшим нападкам реакции.
…сыроварню хотел устроить — говорят: социалист! — См. т. 10 наст. изд., стр. 747–748, а также очерк «Охранители» и прим. к нему в т. 11 наст. изд.
…система эта самая водяная <…> стой, воды нет! <…> А у нас <…> кантрахт… — Из-за несовершенства Мариинской системы судохозяева и торговцы ежегодно терпели миллионные убытки. В 1875 г. для ее улучшения была создана специальная комиссия, которая, однако, не получила «требуемых на этот предмет денег» (М. Вед., 1877, 4 января, № 2) и составляла только бесполезные доклады (там же, 1880, 13 февраля, № 43). В 1882 г. угрожающе обмелела Волга (см.: «По поводу внутренних вопросов». — ОЗ, 1882, № 9, стр. 146).
Сан-Суси, Монплезир — названия загородных резиденций прусских и французских королей.
…с батюшкиным братом! — Батюшкин брат — у Салтыкова — эзоповское обозначение священника, сельского «батюшки».
…«стаметовые юпки»…«Обмокни»… — Цитаты из III д. гоголевской «Тяжбы» (1840).
…Я надеюсь возобновить в своей памяти подробности этой недавней старины… — Первое свидетельство замысла будущей «Пошехонской старины» (1887–1889).
…Liebfrauenmilch, Hochheimer и johannisberger <…> Auslass — знаменитые марки немецких виноградных вин (рейнвейнов).
…аки лев рыкаяй, рыщут, иский кого поглотити. — Псалтирь, XXI, 14.
…защита в составе двух адвокатов: Шестакова (испорченное от Chaix d’Estange) и Перьева (испорченное от Berryer). — В скобках названы знаменитые французские адвокаты, с успехом выступавшие на политических процессах, и одновременно видные политические деятели 20-50-х годов. Их имена понадобились Салтыкову, чтобы, по контрасту, охарактеризовать стесненное положение защиты в процессах русских революционеров (см.: К. Арсеньев. Французская адвокатура. — ВЕ, 1886, № 1, стр. 257–283).
…на лугу, увидевши вола, // Задумала сама в дородстве с ним сравниться… — Из басни И. А. Крылова «Лягушка и Вол».
…процесс был политический, а у присяжных заседателей политического смысла не полагается. — В апреле 1878 г. Особое совещание министров представило Александру II мнение о «недостаточном понимании присяжными назначения их как судей». Результатом был закон 9 мая 1878 г. («О временном изменении подсудности и порядка производства дел по некоторым преступлениям»), которым политические процессы передавались судебным палатам без участия присяжных, а с присоединением специально назначаемых сословных представителей.
Вместо того, чтоб быть благодарными за дарование свободы, они придумывают <…> уловки для избежания <…> сетей… — Здесь и далее в фантастические иносказания вводится ряд намеков на бедственное положение пореформенного крестьянства, вынужденного, в частности, «целыми массами» уходить из деревень на заработки в город.
Каковые преступления предусмотрены 666 ст. всех томов св. зак. Росс. имп. — Апокалиптическое «звериное» число, обозначающее вымышленную статью, указывает на жестокость царских законов по отношению к политическим преступлениям.
…и не лиши нас небесного твоего царствия… — заключительные слова православной молитвы после еды.
…опять тормозить правосудие <…> Слова вымолвить не дам! — Права адвокатуры в политических делах были крайне ограничены; на «процессе 193-х» прокурор обрушился на защитников, называя их «революционерами и подстрекателями» (Б. В. Виленский. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969, стр. 253).
…власти — бездействуют, суды — содействуют… — В «литературном кваканье» лягушки-доносчицы используются характернейшие фразеологизмы реакционно-охранительной печати, в частности, катковских передовиц, например: «Бездействует власть, и появляются признаки хаоса; появляются эти признаки, значит, бездействует власть» (М. Вед., 1879, 21 ноября, № 297).
…risum teneatis, amici — из Горация (Ars poetica, 1–5).
…умер — и дело с концом! — «На Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами <…> можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия», — заявил на суде И. Н. Мышкин (см.: В. Базанов. Ипполит Мышкин и его речь на процессе 193-х. — «Русская литература», 1963, № 2, стр. 149).
Держиморда — полицейский, персонаж гоголевского «Ревизора».
…издатели «Помой». — В «Письмах к тетеньке» газету «Помои» издает Ноздрев. См. т. 14 наст. изд., стр. 650.
…письмо <…> от клуба Взволнованных Лоботрясов! — По-видимому, отклик на «циркулярное приглашение» некоего «Центрального общества борьбы против террористических учений», о чем Салтыков писал П. В. Анненкову (1 ноября 1882 г.). Циркуляр распространялся в столице осенью 1882 г. и обещал всевозможные льготы и покровительство (вплоть до освобождения от политических преследований) тем, кто примкнет к «обществу» («М. Е. Салтыков в воспоминаниях…», стр. 391–398; В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в России в 70-х и 80-х гг. 19 в., стр. 371–384).
XXV*
XXVI*
XXVII*
XXVIII*
XXIX. Заключение*
Впервые — ОЗ, 1883, № 5 (вып. в свет 17 мая), стр. 263–302, под номерами XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX. Сохранились:
1) черновая рукопись, в которой главы XXV и XXVI не разделены. Приводим разночтения:
Стр. 249, строка 19 св. После слов: «князь рассердился» —
на своих крестьян за то, что их сделали вольными.
Стр. 258, строки 13, 15 сн. Вместо слова: «полководцы» — в рукописи здесь и далее по всему тексту главы было: «генералы».
Стр. 263, строки 11 св. Вместо слов: «кур и петухов 205 штук» —
Баранов 10 штук — все принадлежат Финагеичам. Кур 205, из коих 50 принадлежат Финагеичам.
Стр. 263, строка 19 сн. После слов: «Самоваров на селе 8» —
в том числе один у попа.
Стр. 263, строка 5 сн. Вместо слов: «наказывали на теле» —
пороли.
Стр. 264, строки 9-10 св. Вместо слов: «Но из чего этот новоявленный публицист <…> не умею» — в рукописи было:
О чем и считаю долгом довести до сведения цензурного ведомства.
2) черновая рукопись главы XXVII. Приводим наиболее существенные варианты:
Стр. 266–267, строки 1 сн. — 1 св. Вместо слов: «для того, чтоб опустошенное восстановить» —
для того, чтоб опустошенную огнем и мечом страну вновь застроить и заселить.
Стр. 269, строка 4 св. Вместо слов: «торгаша-англичанина» —
прощелыгу-англичанина.
Стр. 273–274, строки 12 сн. — 6 св. Вместо слов: «Что такое <…> за стенами Бежецка» —
Что такое смерть ничтожного жида?.. Это одно из проявлений народной политики, и больше ничего. Не этот факт важен, а все. Долгое время это все копилось и пряталось, и в ту минуту, когда мы думали, что оно окончательно спряталось, является откуда-то Мошка и все хитросплетения наши обратил в прах… Подивимся и умолкнем!
3) черновая рукопись главы XXVIII под номером XXIX, содержащая следующий вариант:
Стр. 274, начало главы XXV… Вместо: «Но здесь я обращаюсь <…> Впрочем, это материя пространная, и речи об ней должны быть пространные… —
Но здесь я вынужден обратиться к снисходительности читателя. Я должен кончить с этой историей, хоть скомкать ее, но кончить. Я сам не рассчитывал, что слово «конец» напишется так скоро. Я намеревался продолжать похождения моих героев и провести их через все мытарства, составляющие естественную обстановку людей, изнывающих под гнетом самосохранения. Я видел их выступающими на арену публицистики и затем спускающимися со ступени на ступень на самое дно области самосохранения. В сочинении этом предполагалось обнять ежели не все разнообразие нравственных оголтений, внушаемых жаждою жизни, то, по крайней мере, довольно значительное количество их… Не знаю, сладил ли бы я с этой задачей, но так или иначе я должен круто ее оборвать и на скорую руку свести концы с концами.
Во все продолжение моей литературной деятельности я представлял собой утопающего, который хватается за соломинку. Покуда соломинки были, я кое-как держался; но как скоро нет и соломинок, то ясное дело, что мне приходится утонуть.
Случай этот очень простой, до того простой, что можно только удивляться, как он в голову мог прийти. Но ежели история современности уделит когда-нибудь мне хоть одну строку, то я желал бы, чтоб эта строка была посвящена не мне лично, а «Современной идиллии».
Однако ж очень возможно, что читатель, вместо снисхождения, даст мне такой ответ: никому нет дела до того, при каких условиях писатель работал. Публика приступает к чтению ваших работ с известными требованиями, которые писатель сам издал, и так или иначе последний обязан удовлетворить им. Извивайтесь, ухищряйтесь, но за данный мною двугривенный вы обязаны уплатить работой сполна.
К сожалению, на Руси таких читателей еще непочатые углы. Редкий понимает, что он солидарен с писателем, что ежели последний и ответствен перед ним, то и он не менее ответствен перед писателем… Но что бы ни говорил читатель, какие бы требования он ни предъявлял, я могу ответить на них только одно: я должен кончить. Во всяком случае, читатель предупрежден, и я от души желал бы, чтоб он убедился, что уплаченный им двугривенный совсем не такая монета, чтоб ради нее начинать розыски.
4) черновая рукопись главы XXIX под номером XXX.
При подготовке Изд. 1883 текст журнальной публикации глав XXVI–XXVIII был расширен, частично за счет введения рукописных вариантов; текст глав XXV и XXIX в Изд. 1883 совпадает с текстом журнальной публикации.
В первых двух главах заключительной публикации «Современной идиллии» Салтыков продолжил исследование бытия русской деревни в годы, предшествовавшие «контрреформам» 80-х годов. Он углубил изображение «истории российского дворянского оскудения»[134], дополнив ее историей дворянской «мести» крестьянам «за то, что их сделали вольными», и меткими наблюдениями над социально-экономическим расслоением в современном селе (глава XXV). Глава XXVI, стремлением «отделить еврейский вопрос» от «вопроса» о еврейской буржуазии[135] непосредственно связанная с статьей Салтыкова «Июльское веяние» (см. т. 15, кн. 2 наст. изд.), раскрывает трагикомические коллизии существования еврейства в условиях ограничений, создаваемых шовинистической политикой царизма[136].
Три последние главы романа возвращают к исходной сюжетной идее: «уголовный кодекс» действительно «защитил» Глумова и Рассказчика, утративших в водовороте шкурных демонстраций человеческий облик, от политических преследований. Уголовные успехи даже открывают им возможность блестящей карьеры. Героев настигает лишь внутреннее возмездие; «мрачно и уныло заканчивает г. Щедрин свою «современную идиллию», — заключал критик-современник[137].
Публикация последних глав романа вызвала сочувственные отклики печати. В них подчеркивалась сила негодования писателя. «Эти последние главы <…> самые замечательные <…> Тут у читателя возбуждается уже не смех <…> а негодование до того сильное, что оно способно заставить содрогнуться» («Одесский вестник», 1883, 17 июня, № 132). Признавалась обоснованность глубоко драматических упреков, предъявленных читателям: «М. Е. Салтыков говорит, что в понижении литературного уровня виноваты столько же и читатели, сколько писатели. Действительно, торжествующее расширение литературных кафешантанов и патриотического канкана не было бы возможно, если бы общественная деморализация не сделала у нас довольно значительных успехов» («Русский курьер», 1883, 24 мая, № 67). Рецензенты пытались толковать и образ Стыда. Он ассоциировался с самой сатирой Салтыкова: «Сатира, в сущности, есть не что иное, как олицетворение стыда. Это есть именно та отрасль литературы, которая громче и сильнее всякой другой напоминает обществу об отвратительных сторонах его жизни и деяний и вызывает в нем чувство стыда» («Заря», 1883, 28 мая, № 114).
…во время петербургского периода русской истории… — Термин «петербургский период» был введен историками-славянофилами и подразумевал эпоху с начала петровских преобразований.
…уступив место более счастливым лейб-кампанцам, брадобреям и истопникам… — Речь идет о возвышении новых дворянских фамилий, родоначальниками которых часто были фавориты самодержцев.
…попечителем хлебных магазинов… — Запасные хлебные магазины существовали в дореформенное время в сельских местностях на случай неурожая, заведование ими, возлагавшееся на выборное от дворянства лицо, было хлопотной обязанностью.
…еще не народилось ни Колупаевых, ни Разуваевых… — персонажи цикла «Убежище Монрепо», воплощающие тип российского пореформенного буржуа — «чумазого».
…Ланской и Ростовцев <…> сознавались, что поторопились, Левшин <…> говорил: чем же я виноват? но Милютин и Соловьев <…> называли князя старым колпаком. — Поименованы члены секретного «Особого комитета», который обсуждал в 1857 г. возможность реформы, и Редакционных комиссий, готовивших ее проект: министр внутренних дел С. С. Ланской и председатель Редакционных комиссий Я. И. Ростовцев тяготели к охране «интересов дворянства»; товарищ министра А. И. Левшин считался «умеренным»; сменивший его в 1859 г. Н. А. Милютин и либеральный чиновник министерства Я. А. Соловьев были наиболее последовательными сторонниками освобождения и сопротивлялись требованиям крепостников.
…синей ассигнацией… — ассигнацией пятирублевого достоинства.
…Лазарь, как некрещеный еврей, не имел права самостоятельно жить в Кашинском уезде… — Принятые 3 мая 1882 г. «Временные правила о евреях» запрещали им жить в сельских местностях.
…называли Уриевой женой? — Упомянута библейская красавица Вирсавия, жена полководца Урии Хеттеянина, которой прельстился царь Давид (Вторая кн. Царств, XI).
…зкспекторировать… — откашливаться (франц. expectorer).
…à la Capoul… — по моде, введенной французским певцом Капулем.
…замахал руками, как дореформенный телеграф. — В 1820–1850 гг. в России существовали «семафорные» телеграфы: расставленные в пределах прямой видимости махальные передавали депеши условными жестами.
…Дыба <…> Удав — персонажи циклов «За рубежом» и «Письма к тетеньке» (см. т. 14 наст. изд., стр. 552, 559–560), воплощающие черты высшей бюрократии царизма.
…нужно нашему брату почаще под рубашку заглядывать! — Законом 17 апреля 1863 г. телесные наказания были отменены, сохраняясь для крестьян только по приговорам волостных судов. Об этом не уставали сожалеть идеологи и проводники реакции: «Есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом. Это сознание нужды розог <…> Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секите, секите <…> где секут, там есть порядок <…> там больше благосостояния», — взывал ретроград В. П. Мещерский (цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия, М., 1970, стр. 79–80); кстати сказать, «новоявленным публицистом» Салтыков именовал кн. В. Мещерского в «Дневнике провинциала в Петербурге» (т. 10 наст. изд., стр. 334).
…возвращается из поездки по Весьёгонскому уезду, куда был приглашен местной интеллигенцией <…> в качестве русского Гарибальди. — О восторженном отношении к предприятиям М. Г. Черняева в среде либеральных земцев Весьегонского уезда Тверской губернии Салтыкову действительно приходилось слышать от одного из них, Б. Э. Кетрица. См. его мемуарную заметку «Встреча с М. Е. Салтыковым» в кн. «Салтыков в воспоминаниях…», стр. 583.
«Груди твои как два белых козленка! лоно твое…» — Редедя фантазирует на темы библейской «Песни песней» (IV, 2–5; VII, 3–3).
Вот мчится тройка удалая! — См. прим. к стр. 9.
Один из фараонов погиб в Красном море, преследуя евреев… — Иронически пересказан библейский эпизод (Исход, XIV).
«Эй, жги, говори!» — припев народной плясовой песни «Ай, вдоль по улице молодчик идет».
…В Москве, в Грузинах… — В районе Большой Грузинской улицы «жили целыми таборами цыгане». Цыганские хоры выступали в загородных ресторанах (П. В. Сытин. Из истории московских улиц. М., 1958, стр. 616).
Allons, enfants de la patrie… — Первая строка «Марсельезы».
Что такое <…> смерть окида? <…> один из эпизодов известных веяний… — «Еврейский вопрос» бурно обсуждался в русской печати после волны летних погромов 1881 г. Салтыков посвятил этому статью «Июльское веяние» (см. т. 15. кн. 2 наст. изд.).
Невинность, сказал где-то бессмертный Шекспир, подобна пустой бутылке… — О возможном источнике этого выражения см. т. 10, стр. 689.
Проскрипции — здесь в смысле запрещения (лат. ргоscriptio — письменное обнародование).
<Отрывок черновой редакции неопубликованной главы>. X*
Настоящая глава должна была, под номером X, следовать за главой IX журнальной публикации, но не была завершена и осталась ненапечатанной. Сохранилась ее черновая рукопись, озаглавленная «Современная идиллия. X», которая была опубликована (с рядом неточностей) и прокомментирована Т. В. Еречневой («Неопубликованная глава романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». — Уч. записки Бурят-Монгольского гос. пед. института им. Доржи Банзарова, вып. XI, Историко-филологическая серия. Улан-Удэ, 1957, стр. 248–252), ею же установлено время написания главы — январь — февраль 1879.
В главе «X» сделана попытка сюжетно реализовать некоторые моменты из предшествующих рассказов Очищенного («приду <…> к Доминику <…> Съешь три куска кулебяки, а говоришь: один!» — см. гл. VI). Основная мысль главы выражена сентенцией о том, что воровство не расценивается как преступление: «это уж дух века такой».
Салтыков работал над настоящим текстом во время процесса Юханцева, в январе — июне 1879 г.[138]. Реакционная публицистика поспешила связать это сенсационное происшествие с революционной пропагандой, которая якобы избавляет современного человека от всяких нравственных запретов[139]. Салтыков доказывает обратное: человек, подобно Юханцеву поглощенный ажиотажем обогащения, в сущности, вовсе не является противником существующего общественного устройства: его «деяния» — «не потрясение, потому что он потряс потихоньку». Салтыков прямо противопоставил в этой главе «юханцевым» того, кто «не похитил ни на пять копеек, ни на миллион, а взамен того пришел и сказал громко: «я не хочу этого вашего миллиона, но утверждаю, что не менее вас имею право на него, имею, имею, имею!»
Можно предположить, что перед нами отклик писателя на знаменитые речи С. А. Бардиной и П. А. Алексеева на «процессе 50-ти» (февраль — март 1877 г.)[140]. «Центральным местом» выступления Бардиной было «опровержение общего обвинения против подсудимых, что они разрушают священные основы собственности <…> по ее убеждению, каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. «Я ли подрываю основы собственности, — спрашивала она, — или фабрикант, который платит рабочему за одну треть его рабочего дня, а две трети берет себе?» (В. Фигнер. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1929, стр. 196). О том, что «все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом», говорил Алексеев (Л. Островер. Петр Алексеев. М., 1964, стр. 168).
сюпрем — здесь: высшее достижение (франц. suprême).
великая монархиня — Екатерина II, памятник которой установлен на Александрийской площади.
Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен*
Черновая рукопись четвертой редакции (см. прим. на стр. 361–363). В рукописи имеется поддающийся прочтению зачеркнутый отрывок: Стр. 296, строка 6 св. После слов: «голосу не подают…» —
— Господа! — воскликнул он, — да ведь программа-то эта с незапамятных времен практикуется, и всегда от нее только для мерзавцев пожива была! А я-то за новость ее счел!
Четвертая редакция «Сказки о ретивом начальнике…», как считал Р. В. Иванов-Разумник, является «и самой полной, и самой острой», но «совершенно нецензурной». Дальнейшая работа Салтыкова над нею состояла в «приспособлении» к цензурным условиям, отчего сказка «потеряла… в остроте и яркости»[141]. Однако, как показывает публикуемый здесь текст, логика работы писателя была несколько иной.
Идея причинения, в интересах «пользы» России, разнообразного «вреда» ее населению была, можно сказать, постоянным принципом политики царизма. Салтыков оставил ее в основе всех редакций «Сказки». В четвертой редакции эта идея уснащена рядом подробностей, характерных именно для 80-х годов. Сравнительно с пятой редакцией, она действительно полнее отражает конкретные политические обстоятельства, оттенки в правительственном курсе, которыми отличались кризисные для российского самодержавия 1879–1882 гг. В пятой редакции Салтыков, отказавшись от некоторых из этих «локальных» политических намеков, усилил момент обобщения, раскрывающего самую сущность института самодержавной деспотической власти.
Науки упразднит — польза… — Имеется в виду деятельность Д. А. Толстого на посту министра народного просвещения.
…население испугает — еще того больше пользы. — К осуществлению этой цели направлялись многие меры правительства: учреждение в 1879 г. временных генерал-губернаторов с задачей «спасительного устрашения», как выразился один из них (см.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов, стр. 97), царский манифест 29 апреля 1881 г., который, по характеристике современника, «дышит <…> вызовом, угрозою» («Дневник Е. А. Перетца». Л., 1927, стр. 69) и т. д.
Предполагалось, что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит… — «Всеподданнейшие доклады» и другие официальные заявления Лорис-Меликова, Игнатьева, Д. Толстого, сменявших друг друга у кормила российской внутренней политики, именно так определяли исходные обстоятельства деятельности каждого: «положение дел достигло того предела, далее которого идти некуда», — утверждал Лорис-Меликов, считая своей задачей «возобновление правильного течения государственной жизни». Игнатьев, в свою очередь, нашел, что «лицам, призванным к управлению после 29 апреля, предстояло работать при весьма трудных условиях <…> хищение и отрицание действительных потребностей народа шли в последнее время рука об руку <…> Полиция и все местное управление, поставленные крайне неправильно, еще более обнаруживали, что авторитет власти поколеблен и что она бессильна» (цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов, стр. 157, 207, 486).
И всякий раз при этом будет слезы лить и приговаривать: видит бог, как мне тяжко! — В политической практике Лорис-Меликова и Игнатьева угрозы «не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий» неизменно обосновывались «тягостным положением» «родины», необходимостью «успокоить и оградить законные интересы» «благомыслящей части» общества и т. д. (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубежа 1870–1880 годов, стр. 156, 157).