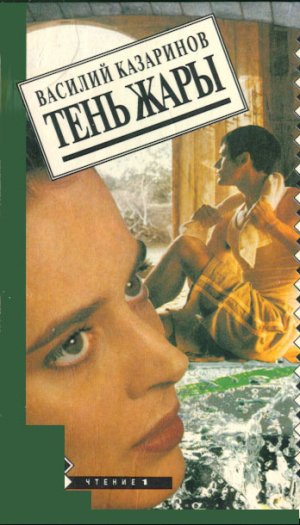
ВАСИЛИЙ КАЗАРИНОВ
"Не был, не участвовал, не состоял, не привлекался" – очень симпатичный и плодотворный биографический мотив. Итак, по порядку. Не был: в длительных загранкомандировках в составе дипкорпуса на ответственных партийных и комсомольских должна не был вхож: в высокие кабинеты и гастроном № 1 на ул. Горького, в среду литературно-художественного истеблишмента и апартаменты директора мебельного магазина. Не участвовал: в строительстве БАМа, опасной и трудной работе КГБ, акциях Комитета советских женщин, ДОСААФ и прочих славных организаций. Не состоял: во Всесоюзном обществе борьбы за трезвость (категорически!) и Всероссийском клубе дураков (к сожалению). Не привлекался: к уголовной ответственности, зато очень часто – к ответственности должностной: множество выговоров за прогулы, связанны с катанием на лыжах в горах.
Сочинять начал в восьмом классе, когда решил: если в этой жизни кем-то быть, то только творческой личностью. Эта кривая дорожка, понятное дело, привела на журфак МГУ, а там – пять лет сплошной фиесты: немного Аристотеля, Сервантеса, Канта, Достоевского и очень-очень много веселья. Далее следуют десять лет работы в журнале "Студенческий меридиан, коллектив которого выделялся в молодежной прессе тремя достойными качествами: нескучность, любвеобильное и пристрастность к горным лыжам. Между делом писал рассказики и готовился к карьере дворника, однако был принят в Союз писателей. Кое-что из рассказов прошло в последнюю пару лет в журналах, несколько повестей валяются в столе и скорее всего проваляются до второго пришествия: обычная, медленная проза – крайне неходовой товар. Другое дело – жанр "Городских приключений", в котором сделана эта книжка, он пока оставляет кое-какие надежды на публикацию. Планы на будущее? Дальше завтрашнего дня они не простираются Политическое кредо? Посоветовать политикам повсюду таскать с собой дезодорант – от них дурно пахнет. Вот и все. В остальном – "не был, не участвовал, не состоял, не привлекался".
Василий Казаринов
Сказать бы, как положено: "от автора", однако статус водящего точнее по смыслу; автор трудится долго, монотонно, упорно составляет свои бессмертные тексты и потом, муки страшные терпя, колотится он по издательским кабинетам, следя за уверенным движением редакторского скальпеля, и выхаживает свои кастрированные тексты – так зачем нам, граждане, эти муки, давайте лучше встанем в круг, сосчитаемся: "Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить..." – и выберем водящего.
А водящий? Ну что, водящий –он играет, водит в игровом поле, только и всего.
Человек придирчивый, конечно же, наморщит нос: в игры играть? Старо, старо. Ровно, гладко, непыльно, ибо даже пыль игровой площадки осела на штиблетах корифеев, унесена по домам, где тщательно счищена, собрана, просеяна и распылена по страницам книг...
С почтением и грустью читал я уже сравнительно давно в "Магазин Литерер" душевную беседу изящного критика с одним из признанных мастеров игры... "Вы утверждаете: "Постоянное присутствие чувства игры объясняет или, по крайней мере, оправдывает много из того, что я написал или пережил. На протяжении всей этой магической диалектики человек-ребенок борется за то, чтобы поставить последнюю точку в игре своей жизни. В конечном счете это игра в шахматы со смертью, с судьбой?" – "Да, естественно. Когда я говорю – игра, я имею в виду не игру в мяч во дворе. Хотя даже и в этом случае дети играют серьезно. Взрослые не замечают, как важна игра для детей. Помню свой позор, когда в разгар какой-то дворовой игры явилась моя тетка и завопила: "Пора идти мыться!". Это было так смешно и глупо... Что мытье? Обычная рутина. А игра – это ритуал, настоящая церемония. Литература в этом смысле – моя площадка для игр. Я пишу играя, но я играю серьезно...".
Почтительно к этим беседам прислушиваясь, я вдруг подумал, что на игровой площадке и нам может достаться крохотный уголок. Играли же мы когда-то– человеко-дети – в "прятки", "салочки", "ножички", "пристеночек", в "царя-горы", "нескладуху-неладуху", "фанты", в "кучу-малу", в "двенадцать палочек"... И все это – забавы сугубо нашенские. Не оттого, что у детей иных племен и народов нет аналогов (наверняка есть!), а просто в наших дворах особенное ощущение игры живет, у наших игрищ своя прелесть, она – в незнании зачем игра. Бесцельность есть цель ее и смысл, ее душа и ее строгое правило – на этот счет даже всезнающий Ушаков сунет нам в потную ладошку свою шпаргалку: "Игра – вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате, а в самом процессе".
Словом, играем. На первый случай – в "двенадцать палочек" и в "прятки". Вы разбегайтесь, прячьтесь, а я стану водить, – мне некуда деваться, потому что хвораю я в последнее время, года два уже кашель мучает; а с недавних пор еще одно нездоровье преследует, по науке его бы следовало назвать "синдром Корсакова" – по нашему же, по-простому, это похмелье.
Они отгородились от Нас законом и прочными стенами, Они врезали в двери умные кодовые замки и наняли охранников. Они завели свирепых псов и кормят их вырезкой – успокоенные иллюзией тишины. Они усаживаются за вечерний чай. Но Мы, дети одноухого безумца, умеющие проходить сквозь стены, проникнем в Их дома и встанем у Них за спиной.
Все меня устраивает в работе консультанта, за исключением одного милого обстоятельства – за исключением перспективы, что сейчас мне отрежут яйца, сварят их вкрутую, измельчат и пустят на приготовление салата "оливье".
Мой визави старательно выдерживал паузу, неторопливо курил и наконец перешел на сладкий сокровенный шепот:
– Да-да, вкрутую, значит... Потом покрошим немного вареной картошечки, колбаски, мясца. Что еще? Да, зеленый горошек. И заправим майонезом.
Он подумал и добавил:
– А потом ты этот салат сожрешь.
– Не пойдет! – возразил я, справившись с приступом тошноты.
Не стоило ввязываться в полемику. Сигарета (он прикурил, вставил мне в рот – руки-то связаны за спинкой стула!) упала на пол. Он аккуратно, носком ботинка, вдавил ее в землю.
– Ничего, – сказал он. – Переживешь. Устроишься евнухом в гарем, там баб много... Или ты не любишь баб?
Я сказал, что люблю, но суть не в этом.
– Да ну?
– Ну да... Я терпеть не могу салат "оливье". Он развернул лампу в мою сторону, я инстинктивно зажмурился.
– Вкусы у вас тут... Ты фильмов про гестапо насмотрелся, что ли? Брось... Кстати уж, в гестапо, чтоб ты знал, для разгона милой беседы в бетонных подвалах давали пожрать. Кофе и булочки. Сначала пожрать, и только потом – иголки под ногти.
Он рассмеялся.
Я не видел его, поток света глушил зрение – оставалось домысливать. Я домыслил его улыбку – странную, горизонтальную; уголки губ у нормального человека движутся вверх, но в этом лице мимическое движение не знало вертикалей, оно растекалось строго по горизонталям и хищно утончало рот. Ничего хорошего от таких садистских улыбок я не жду.
Смех у него мелкий, рассыпчатый – так посмеиваются старики. Если хотите представить себе нечто такое, вообразите сочный комок здорового хохота, по которому прошлась борона.
– Ага, сейчас... И рюмку коньяку. А потом, на сладкое, пудинг с малиновым сиропом.
И то: я бы выпил. Но лучше портвейна – черного, суррогатного, из семейства "солнцедаров" – не согревает, зато успокаивает.
Насчет салата я серьезно.
В самом деле ведь не выношу – ни внешний вид, ни запах, ни тем более вкус. Когда-то, в другой жизни, – когда девушки пахли ландышами и порхали где-то вне суровой миллеровской правды (и значит женщину невозможно было себе представить восседающей на биде и жующей при этом хлебную корку с голодухи) – так вот тогда мне как-то случилось отведать этого салата и горько об этом пожалеть.
Детали упали на дно памяти и растворились в ее марианских глубинах, где обитают одни пучеглазые морские чудовища, фосфоресцирующие рачки и вялые люминесцентные каракатицы, и все, что еще шевелилось там, на дне, шевелилось и тускло мерцало, представляло собой интимный, припухший свет ночника, обволакивающий чьи-то женские ноги, очень стройные и достаточно длинные, закинутые на стол, кислую брагу чьих-то голосов, огни города, стоящие в черном, слезящемся окне, хрип пленочного магнитофона – динамик буквально разрывал на части фантастический голос Джанис Джоплин (и как эта полугениальная-полусумасшедшая девочка умещала в своем детском теле такой гигантский голос?), плошку с салатом "оливье" в окружении темных свечек "Старки".
Да, "Старка", прежний свирепый напиток, черный, терпкий.
Прелесть тогдашнего жанра состояла в отсутствии завязок и развязок; это было сплошное, вытянутое во времени и пространстве действие, сочная густая материя, сотканная из алкогольного пара, любовного пота и того особого блаженства, которое гарантировано при полном отсутствии мыслей, – так что повод той пьянки я теперь вряд ли вычерпаю со дна памяти. Зато отчетливо слышу во рту привкус: "Старка" и салат, салат и "Старка". Потом было шатание по улице, заползание в подъезд, трудное восхождение почти на четвереньках по лестнице, половичок у двери. Половичок и принял на себя извержение вулкана, его горячую лаву, состоящую из чистой "Старки" и салата "оливье". Кажется, я так и стоял – почти на четвереньках – пока дверь не отворилась. У порога возникли тапочки с опушкой, напоминающие собак болонок.
Пикантность ситуации состояла в том, что я, как потом выяснилось, не дополз до нужной мне квартиры и все случилось этажом ниже. Хозяйкой тапочек-болонок оказалась наша преподавательница древнерусской литературы, странная женщина, созданная из чрезвычайно хрупкого материала, из чего-то мимозного; она проросла откуда-то явно не из нашенской почвы и, скорее всего, отслоилась от порыжевших фотографий, где в позолоченных рамках стоят барышни на фоне парадных, мраморно-хрустальных, интерьеров женских гимназий... Она что-то говорила – не помню о чем, – но я чувствовал медленное увядание ее мимозного голоса.
Если когда-то в жизни я и испытывал чувство стыда, то это именно тогда, у ее двери. С тех пор я не выношу салат "оливье".
Мой визави повернул лампу.
– Здесь я командую, понял?..
Сначала я ничего не различал. Глаза привыкли, я опять увидел все то же: стол с лампой, два стула. Холодно, землей пахнет, могилой – я сразу, как только очнулся, догадался, что это погреб. Уютный пыточный погребок в каком-то загородном помещении.
Он встал, прошелся, размял суставы.
– Давай, колись! – в который уже раз повторил он. Рука нырнула за пазуху, в ней возник темный предмет. – Догадываешься?
Догадываюсь: газовый пистолет. Кажется, я уже испробовал на себе его действие.
Он приподнял дулом мой подбородок. Ствол холодный; неужели у него за пазухой – как в погребе?
– Слушай, ведь это мелочи, ерунда... Всего чуть-чуть информации по последним контрактам вашей лавочки. Всего-то...
– Я ж тебе говорил. Я к этому не имею отношения. Я вообще про эту контору впервые слышу.
– Ага! – засмеялся он. – Естественно! – и сунул мне под нос бумажный квадратик. – Тут про это написано на русском и английском языках.
У него моя визитка. И я в ней обозначен как консультант фирмы. Скверно. Надо как-то поменять тему разговора.
– Туг не видно хода светил... Сколько времени вы меня держите в этой яме? Сутки? Двое?
– Трое, – пояснил он. – И вообще, я с тобой затрахался, пора нам закругляться.
Значит, трое суток, если не врет.
Трое суток назад среди бела дня они сняли меня прямо на улице, неподалеку от метро "Красносельская". Я дожидался зеленого сигнала светофора, за спиной жужжала толкучка: тетки с авоськами, дамы, задумчиво закусывающие губу у ящиков с дорогостоящей хурмой, попугайская раскраска столиков с "колониальными товарами", ряды цветочников, шарканье сотен подошв, растерянное озирание по сторонам провинциала – меня аккуратно, без суеты, изъяли из этих шумов, запахов и движений.
На "зебре" притормозил стального оттенка "москвич", кто-то заломил мне сзади руки, впихнул в машину, в лицо ударила пушистая струя (газ? скорее всего...), в голове возникла качка – на этой плавной волне я и вынырнул из забытья здесь, в погребе, где мой тонкоротый собеседник желает получить конфиденциальную информацию. В противном случае он осуществит свои гастрономические фантазии, и мне в самом деле придется подыскивать должность евнуха.
А вообще-то он настроен серьезно *.[1]
– Мне надоело, – вздохнул он. – Ведешь ты себя кое-как... Жаль. А вроде неплохой парень... Сам-то я к тебе ничего не имею.
Я поерзал на стуле, пытаясь размять затекшие суставы. Он равнодушно следил за моими неловкими телодвижениями, вернее сказать, намеками на движения.
– В моем положении полагается последнее слово и последнее желание.
Он сплюнул, посмотрел на часы: "Ну? Быстрее, быстрее!" – прикурил, вставил сигарету мне в губы.
– Еще что-то?
– Да мелочь... Девушка, Алиса... Это что – тоже ваша "посылка"?
Он попробовал изобразить недоумение – неловко, слишком театрально, актер из него дрянной; впрочем, зачем ему? Ежели занят профессиональными заплечными делами, то актерский навык ни к чему, такие роли не играют на публике.
Значит, все-таки Алиса, эта милая "девушка с римских окраин" – их дела. Значит, я прав: для разведки неделю назад они послали ее мне для первичной, так сказать, проработки материала.
Надо отдать должное их вкусу – персонаж они подобрали очаровательный: формами она в самом деле ничуть не уступала тому типу женщин, какой принято называть "девушка с римских окраин" – и я сразу сделал ей комплимент*[2].
Я приготовился в красках живописать, что у нас было после обмена впечатлениями, но его рука прочертила в воздухе плавный полукруг, в лицо ударил знакомый запах, и я отплыл куда-то на плавной волне.
Я отплывал из подземной гавани с легким сердцем и с надеждой: я выгребу, я обязательно выберусь, глотну свежего, пахнущего солью, водорослями и раскаленной галькой воздуха, я пообсохну на сухом горячем ветру, приду в себя, соберусь с силами и навещу Катерпиллера. Я навещу его в офисе: сперва набью ему морду, а потом мы за чашкой кофе побеседуем. Кое-что мне надо выяснить. Есть в перипетиях этого сюжета нечто такое, что мне выяснить необходимо.
Какое-то время я не смогу двигаться. Но мышцы отдохнут, я встану и выйду отсюда.
Трудно сказать, сколько времени я пролежал без сознания – важно то, что именно пролежал. Я нашел себя на холодном полу; я уже не был привязан к стулу, это само по себе отрадный факт.
Первое, что услышал, – шуршание в углу. Наверно, мышка ходит. Или сам мышиный король, толстый и важный, печальный от обилия монаршьих забот – пусть себе томится в подполье, а нам пора наружу.
Я поднялся по косой лестнице, нащупал крышку. Уперся в нее спиной – крышка подалась, сдвинулась.
Он не запер меня – значит, предчувствие не обмануло: что-то в этом сюжете не так.
Я выбрался на свет; меня пошатывало, мутило. Некоторое время я пролежал на полу.
Дом выстужен, пахнет нежильем, чуланом – так характерно пахнут дачи, не согретые человеческим теплом. Комната обставлена скудно, небрежно, пожилой, отставного вида мебелью: промятый диван, монументальный, каменно-тяжелый шкаф, круглый стол, крытый газетой, пыльные газетки на окнах – приколоты к раме ржавыми кнопками; и тексты в полосах, наверное, того же качества, ржавые. Точно: Горбачев, Рыжков – побитые ржавчиной рудименты какой-то прошлой жизни, которой, кажется, и не было вовсе.
Из комнаты виден коридор на веранду. Слева крохотная кухонька, там двухконфорочная плита и холодильник "Саратов" – скорее всего, внутри ничего нет, кроме затхлого сундучкового запаха.
Верно: сундуком пахнет, плесенью и старыми заскорузлыми носками. Однако в этих запахах томятся и другие ароматы, еще вполне живые. Плоская коньячная бутылка, что-то завернутое в газетку.
Кусок сыра, чеснок, сало. Вот это вы напрасно!
Если прежде еще оставались иллюзии относительно последних событий, то теперь они растаяли окончательно: Катерпиллер, сука такая, проверял меня – сболтну я что-нибудь про их дела или не сболтну. Я не сболтнул.
Пожалуй, теперь я разрешу себе короткий отдых.
И пусть возле этого стола встанут на часы покой и сладкое беззвучие таких старых, доживающих свой век домов, где царствуют пыль и древние запахи, где под низким потолком бродяг тени воспоминаний о прошлых людях и прошлой жизни: о вползании в распахнутое окошко сиреневой ветки, о сочной клубнике на грядке, варенье из крыжовника; тут ночью объявит свой голос сверчок, а в трубе ухнет домовой, полистывающий на паутинном чердаке старые "Огоньки", и будет постанывать от прикосновения теней сухое дерево пола – я люблю этот воздух, эти звуки, они согревают... Через полчаса я заставил себя уйти от них.
День уже прочно встал на ноги и распрямился – в уютной дачной тишине, в чистых запахах сосны, последнего снега, в покрикивании дальней электрички – на этот скользкий, как будто из слюды сделанный голос железной дороги и надо идти.
Это был старый дачный поселок, с довоенной, скорее всего, родословной: плотные заборы стерегут основательные дома с просторными верандами. Большие участки, захламленные, забитые сорным кустарником, облезлые клумбы под окнами; все, что тут когда-то стояло, цвело, спело, созревало, теперь потихоньку преет, крошится, врастает в землю и, наверное, скоро истлеет совсем.
Я двинулся мимо заборов – на крик электрички. В центре поселка чувствовалось присутствие жизни, пахнуло запахом дыма – это со стороны участка, охраняемого прочными железными воротами. В канаве валялся пластиковый ящик из-под бутылок, я подставил его к забору.
В глубине участка дом – вполне в современной манере: желтый кирпич, дымчатые стекла. Участок расчищен. Летом он, наверное, выглядит как аккуратно выбритый английский лужок, и по газону фланируют люди в бриджах, помахивая крикетными молоточками.
Пока же на их месте прогуливаются три черных чудовища.
Они метнулись к забору, из их раскаленных пастей вываливались тяжелые звуковые глыбы – если это и можно было принять за лай, то лай в самой нижней басовой октаве.
На грохот этих глыб из дома вышел среднего роста человек в дубленке и киргизской шапке-ушанке, он что-то крикнул псам – они ворча отошли к крыльцу, послушно сели к ноге.
– Вы неосторожны, – сказал он, приблизившись к забору.
Характерным качеством, сущностным признаком этого человека была плотность: плотно сбитая фигура, и в лице та особая гладкая плотность, какую обеспечивает отменное питание; такие лица бережно носят перед телекамерами чиновники высшего разряда.
– Что это у вас за звери?
– Это?.. Это мастифы.
– А к чему это вы – про осторожность? Они что, скачут через такие заборы?
– Нет, они не скачут... – прищурившись, он посмотрел в сторону соседнего участка.
Я проследил этот взгляд. В чердачном окне соседней дачи полыхнул солнечный зайчик. Особой породы зайчик, с голубым отливом: так может бликовать только качественная оптика: бинокль или подзорная труба.
– Вы в порядке? – спросил он.
– Я в порядке. Я туг занимаюсь спортом: бегаю на лыжах, тренируюсь, знаете ли, – разве не ясно?
– Значит, вы в порядке, – заключил он. – Это хорошо. Мне ни к чему, знаете ли, неприятности. У вас там, насколько я понимаю, были какие-то разборки в крайней даче. Я в чужие дела не вмешиваюсь, но я послал своих ребят сказать вашим ребятам, чтобы никаких чрезвычайных происшествий в ближайшей округе не было. Я рад, что все у вас обошлось тихо и интеллигентно.
Да-да, интеллигентно: три дня тебя держат в погребе, морят голодом и травят напоследок газом – все это очень мило.
– Приятно, – согласился я, – иметь дело с интеллигентными людьми.
– Бросьте вы, бросьте... Не паясничайте.
– Где мы? Он сказал, где*[3].
– А вы не опасаетесь, что...
Он усмехнулся и опять бросил взгляд на чердак соседней дачи, туда, где живет голубой солнечный зайчик.
Скорей всего, там дежурят ребята с подзорной трубой, а на случай недоразумений у них под рукой крупнокалиберный пулемет: теперь я оценил его пожелание в другой раз быть поосторожней.
– Ну, так я побежал тренироваться дальше? Такова спортивная жизнь...
Он пристально посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд был тяжелый, с примесью ртути.
– Давайте, тренируйтесь... Вам, судя по всему, следует хорошо бегать... Очень хорошо. Вы, если не секрет, по образованию кто?
В какой-то из прошлых жизней – в какой именно, уже не помню – я по образованию был филолог.
– Опасная профессия, – без тени иронии заметил он и побрел к своим чудовищам; собаки лежали у крыльца каменными сфинксами.
Я давно не ездил в электричках. Поджидая поезд в высоком дощатом павильоне, – эти павильоны кое-где сохранились на подмосковных станциях и стоят часовыми, охраняя остатки прошлой жизни, ласковой и теплой, – я подумал, как хорошо это было, как славно: вламываться в вагон в толпе лыжников, шумных, несущих в мохнатых свитерах запахи мороза и снега, втискиваться в гладкую жесткую лавку, громко говорить, перекрикивая завывания дороги, слушать гитарные всплески и какую-нибудь песню про дорогу, разгоняющую тоску, и отогреваться в тепле возле этих нескучных людей в свитерах и лыжных шапочках.
Все они, должно быть, уже уехали отсюда, сидят у своих костров, поют про тягу к перемене мест и тоску и больше не появятся среди нас – уже не появятся никогда, я понял это, шагнув в вагон.
Степень его захламленности превосходила все мыслимые и немыслимые пределы. Тамбур заплеван, в самом вагоне мечутся сквозняки (пара стекол разбита), сидения через одно экзекутированы, их дерматиновые обшивки вспороты, поролоновые потроха вываливаются наружу – в таких случаях говорят: "тут пронеслась орда"*[4].
Пассажиров мало – середина дня; основная орда пронеслась утром, рассыпав по следу своих эскадронов фантики, ошметки газет, комки жвачек, плевки, семечную шелуху, грязные следы стоптанных башмаков, и вагон переводит дух, остывает от вечных дорожных перебранок и готовится в вечернему нашествию.
Сквозняк оттеснил пассажиров ближе ко входу: преклонных лет мужчина с неподвижным солдатским лицом – скорее всего, отставной военный; хромовые сапоги, офицерский бушлат, серо-голубой собачий воротник поставлен в стойку "смирно". Он смотрит в одну точку, брови его сдвинуты, что, наверное, должно обозначать погруженность в неторопливую солдатскую думу.
Следующая лавка захвачена грузной женщиной лет сорока: зеленое пальто с искусственным воротником – продукция районного ателье, типичный уездный шарм, кисти рук аккуратно устроены на коленях, в лице выражение покорности. У женщин с такими лицами мужья, как правило, пьяницы; должно быть, вчера она, опрокинув бесчувственное тело супруга на кровать с поющей панцирной сеткой, вот так же сидела на полутемной кухне, грела ладонями колени, вспоминала его распахнутый, слизняком стекший на бок рот и вяло размышляла о непрерывности жизни, о том, что позавчера было с мужем вот так же, как вчера, и ничего не изменится завтра – это постоянство мучительно, но другого дома и другого мужа у нее нет.
Вагон споткнулся, дернулся, сбавил ход, в окна медленно всплыла какая-то станция, голая, унылая, безлюдная.
Впрочем, нет, не безлюдная.
Трогаясь, состав встряхнулся и втянул в себя странное существо в кургузом малахае. Из-под платка брызжет на лоб пегая сальная прядка – перечеркивает глаз... С ней девочка лет трех.
Женщина сильно кашляла.
Когда-то, когда над нами еще сияло наше старое доброе небо, я ехал с родителями на пикник, кажется, в Снегири. В вагон вкатился инвалид на деревянной тележке. Он пел протяжную, бесконечную песню, на унылый мотив, напоминавший безводную калмыцкую степь, он вплетал в нее сказ о горькой судьбе, присоединял к песне просьбу о подаянии – я не смог этого вынести и залез под лавку.
Они были всегда, но теперь их особенно много; они – посланники другого мира, его полпреды и его консулы; их не приглашают сюда, им не вручают верительных грамот, но они все равно приходят и приносят с собой запах душного барака, где стены поросли копотью, а одно единственное окошко почти не пропускает свет... Их теперь великое множество, женщин с девочкой или женщин с мальчиком, они странствуют по электричкам, попадаются в вагонах метро и на станциях, сидят у стен в подземных переходах, и песня у них на всех одна:
Войдите в положение, потеряла билет на поезд, пропадаем тут, надо насобирать на дорогу... кто сколько может... войдите в положение.
Женщина в зеленом пальто вошла – рублем; отставной воин – цыканьем зуба, тяжелым взглядом, от которого просительница шарахнулась; я вошел – за неимением никакой наличности – шарфом: когда-то это был мохер, пышный, как взбитые сливки, теперь же представлял собой нечто среднее между половой тряпкой и бумажным чулком. Я не очень уверенным движением повязал шарф девочке на шею, и она стала похожа на беспризорного котенка.
Тратить время на бритье и мытье я не собирался. С одной стороны, в трехдневной щетине есть свой шарм – одно время небритость даже была в моде – а с другой стороны, есть кое-какая выгода в том, чтобы явиться к Девушке с римских окраин именно в таком виде. Пусть я буду вонять землей, потом и дерьмом – это даже хорошо. Трехсуточное заточение в дачном погребе не может не наложить отпечаток на внешность; в глазах наверняка появился холодный волчий блеск – она должна испугаться.
Прямо с вокзала я направился на Сретенку.
Она меня не ждет, но я ее навещу и задам пару вопросов. Что она не просто случайная знакомая, а именно "посылка", ясно на сто процентов. Процентов на девяносто ясно, кто ее прислал. Осталось десять процентов неясности – их можно скинуть со счетов.
На Сухаревке, у выхода из метро, клокотала толкучка, блошиный рынок. Прежде жителя столицы можно было опознать по характерному выражению лица, теперь москвича можно вычислить по другой примете – он почесывается: в блошином рынке жить и блох не нахватать? Когда-то за здешней торговлей лениво присматривала известная башня, теперь не надзирает никто. Вот разве что плоские каменные люди, втиснутые в барельеф на той стороне Садового, – они шагают куда-то в сторону Маяковки с просветленными лицами, надеясь, что совсем уже недалеко, на Маяковке, где-то под ногами у каменного Владимира Владимировича, звенят медные оркестры будущего.
Но там ни черта нет. Был в Оружейном переулке популярный винный магазин, но и тот закрыли.
Садовое хватил паралич – мертвая, непроходимая пробка; тромб вспух прямо напротив Склифа: там накаляется вой клаксонов, и кто-то монотонно бубнит в мегафон.
В толпе я двинулся по наитию, и наитие привело куда надо: у кромки газона двое мужиков с влажными лицами торговали напитком в мутных, заляпанных чем-то сальным бутылках. Если бы не наклейка "Агдам", можно было бы предположить, что они торгуют сжиженным лондонским туманом.
– Чего там? – спросил я у влажнолицего виночерпия, в левом глазу которого свило гнездо пухлое бельмо.
В ответ он пошевелил студенистой, устричнотелой опухолью, и меня чуть не стошнило прямо в ящик с посудой.
– Так доктора бастуют! Вишь, кольцо перекрыли*[5].
Над кипением автомобильных звуков возрос чей-то спокойный, уверенный голос, слегка просеянный характерным мегафонным шипением; голос сообщил, что профессор медицины, возвращающий каждый день людей с того света, получает вдвое меньше тюремного охранника и что в таком случае говорить об остальных работниках реанимационного конвейера...
Нечего говорить, поскольку последняя шлюха на вокзале кует собственной задницей куда более приличную деньгу, чем профессор, это вполне в русле современного жанра.
Я сказал бельмоглазому, что давно мечтал об "Агдаме".
– "Агдам" я пью с детства, – признался я. – У мамы кончилось молоко, и она поила меня "Агдамом".
Потому я вырос такой большой и красивый. Вот только с деньгами у меня сегодня плоховато.
Он пошевелил бельмом: "Проходи, не отсвечивай".
Я закатал рукав и сунул ему под нос часы – дрянь, штамповка, такие часы в Гонконге продают на килограммы. Он выкинул в пальцах знак "Victory": значит, две.
– И отыграй сюда немного деньжат, – потребовал я. – Хорошее вино надо чем-то заесть.
Он нехотя отыграл, мы совершили выгодный бартер: два "Агдама" плюс немного деньжат – можно жить.
Возле одной из коммерческих лавок я обратил внимание на причудливый персонаж: драповое пальто, мелкие, острые черты лица, нервная, дерганая мимика – да мало ли их тут таких, нервных, – но чем-то он из общей массы выделялся. Да, болезненной сутулостью! Эти люди везде и всюду несут на себе примету – придавленности, наверное. Они рождаются на свет прямыми, сильными и здоровыми, но низкие потолки их темных бараков, сам тяжелый смрадный воздух их лачуг чугунно давит на плечи, давит и сгибает их спины.
Он швырял мелкие, коротенькие взгляды по сторонам, избегая опускать очи долу, где на газетке были разложены странные продукты, цветом и формой напоминавшие спелую сливу размером с кулак.
– Это съедобно?
Он испуганно зыркнул в мою сторону и закашлялся.
– Я говорю, это птица или рыба?
– А, кх-х-х, это... – кашлянул он. – Это, видите ли... голуби. Берите. Совсем недорого... Берите, пожалуйста.
Я заметил, что он дешевит: лесной голубь – это деликатес, запеченного в глине, его подают в парижских ресторанах.
– Они хоть не болели бруцеллезом? – спросил я, пока он заворачивал тушки в газету.
– Ну что-о-о-о-о вы! Я же в этом понимаю... Я преподаватель биологии. Что вы, что вы! Не лесной, конечно, обычный, городской, но ни боже мой, какой бруцеллез, что вы!
Вот и хорошо – есть с чем прийти в гости. Тут недалеко, в доме, где обувной магазин.
У входа в подземный переход я задержался – что-то меня остановило. Я обернулся.
Торговец голубями буквально переломился пополам – его сотрясал приступ сухого чахоточного кашля.
Если сегодня у нас двадцать первое, то, выходит, мы познакомились ровно неделю назад, шестнадцатого.
Она рухнула под колеса моего "жигуля".
Шестнадцатого, то есть на следующий же день после того, как я высказал Катерпиллеру просьбу познакомиться с документами его лавочки.
Сейчас она скажет: ах, ничего, не беспокойтесь, это я сама виновата! – примерно так я представлял себе дальнейшее развитие событий, когда сидел, упершись подбородком в баранку, следил, как ерзают дворники по стеклу, и чувствовал, что ладони у меня стали влажными.
Я ехал Даевым переулком в сторону Сретенки – слава богу, медленно! – и из подворотни наперерез мне метнулось нечто серо-коричневое, я успел вывернуть руль и ткнулся в высокий бордюрный камень. Кажется, я зацепил ее правым крылом – не сильно, вскользь.
Она сидела на тротуаре, болезненно морщилась и терла коленку: кожаное коричневое полупальто, темная юбка, темно-сиреневые дутые ботинки – вполне коммерческий "стайл", в такую мануфактуру нувориши пакуют своих любовниц.
Я вышел из машины, присел на корточки.
– Ничего, не беспокойтесь, я сама виновата...
Я осмотрел коленку.
– Гангрена, – сказал я. – Придется ампутировать. Садитесь в машину, у меня там как раз есть пила по металлу.
Она улыбнулась, оперлась на мое плечо, поднялась. Она стояла, подогнув ногу, как цапля на болоте.
– Только глоток керосина спасет раненого кота, – вздохнула она.
Конечно, конечно... Это что-то вроде пароля.
– Естественно, – согласился я. – Гоголь, вторая глава "Мертвых душ".
Она удивленно приподняла бровь*[6].
Она попросила проводить – это недалеко, в двух шагах. Мы заковыляли в сторону арки, и что-то в этой истории меня настораживало.
Я оглянулся и понял, что именно: пластиковый пакет. Она успела подстелить пластиковый пакет на тротуар – пожалела свой кожаный полуперденчик, дура. Когда человек валится на землю, получив бампером под зад, он не станет стелить на асфальт пакеты.
Выяснить, что наше знакомство не случайно, труда не составляло, достаточно было полезть на рожон. Если она проглотит хамство, значит, я ей зачем-то нужен.
В лифте я спросил, какого цвета у нее белье – черное? Она проглотила. Правда, обозначив движением губ неудовольствие, но проглотила; потом, уже в квартире, помогая ей раздеться, я сказал, что у нее потрясающая жопа, и она отреагировала спокойно:
– Я знаю.
Из окна крохотной кухни я выглянул во двор. Это был двор-колодец, глухой, сырой, в таких дворах солнечный свет не живет.
Прямо напротив, в противоположной стороне колодца, в оконной раме неподвижно стояло старушечье лицо. Оно вмерзало в пыльное стекло тусклым размытым пятном. Я помахал рукой – лицо не двигалось: наверное, эта старуха дни напролет сидит у окна, смотрит в никуда, медленно мертвеет – мне хорошо знакомы эти лица. Их выражение дошло до наших дней из первобытного времени; мир двигался, шевелился, расцветал, обрушивался во прах, воскресал вновь, топил себя в крови бесчисленных войн и залечивает, раны, нагуливал жирок в годы благоденствия, шлифовал нравы, менял моду, облагораживал обычаи, укреплял себя знанием, течение времени отмывало лица людские, смягчало черты, но эти лица оставались неизменными, они так и висят в наших окнах грубо обструганными деревянными масками.
Лицо за стеклом вдруг дрогнуло.
Или показалось? Нет, не показалось... Так дергается человек, когда его колотит кашель.
Везет же мне в последние дни на чахоточных.
Хотя ничего удивительного; в домах топят едва-едва, все ходят с простудами, хлюпают носами и дохают, а старики – тем более, у них так мало сил сопротивляться: болезням, голоду и холоду.
Я заглянул в холодильник. Зима, пустынная зима, как пелось в популярной когда-то песне. В хлебнице сохранилась галета. Вкусом и качеством она напоминала фанеру, из хлебо-булочного изделия такого качества в самый раз выпиливать фигурки лобзиком.
Девушка с римских окраин быстро привела себя в порядок, изготовилась к бою, то есть улеглась поперек кровати, в руках у нее был журнал.
– Знаешь что... – сказал я, – где-то мне приходилось слышать, что это слишком нудное дело... Я читал про него в книжках, но самому заниматься пока как-то не приходилось.
– Нудное? – спокойно парировала она, облизывая верхнюю губу. – Это когда как, дело техники.
Мы занимались техникой до самой ночи, я терпеливо ждал, когда она начнет меня раскалывать, не дождался и задремал. Я засыпал с мыслью, что мне, пожалуй, по душе моя новая работа: тебе выдают машину для разъездов, оплачивают накладные расходы и посылают в подарок Девушку с римских окраин... Вернее сказать, она представляла собой миниатюрную копию той "девушки с римских окраин", какую мы знаем по итальянскому кино, что, впрочем, никак не снижало впечатления. К тому же миниатюрный вариант идеально монтировался с миниатюрностью этого жилища.
Потолок обмахивал павлиний хвост рекламного неона – под крышей соседнего дома свила себе гнездо какая-то рекламная птица; с ровными промежутками она кукарекала свою рекламную песню и клевала окно жгуче-красными вспышками – присутствие на потолке пульсирующего света составляло, наверное, единственное неудобство жилища, миниатюрность которого, как я уже заметил, превосходила все мыслимые нормы. Это, строго говоря, квартира-портмоне. Состоит из трех тесно притиснутых друг к другу кармашков: кухня, совмещенный санузел и комната, перегороженная стеллажом с тем расчетом, чтобы отделить спальную половину от, так сказать, гостиной.
Когда я проснулся, она забросила удочку.
Где я работаю? Так, в одной фирме... В фирме? Это интересно. Хорошо платят? Платят прилично. А что за род деятельности? Да так, бизнес... А что за бизнес?
– Это коммерческая тайна, но уж ладно... Только тебе. Дай на ухо скажу. Тс-с-с... Мы бьем слонов в Африке и сбываем тут слоновую кость.
К утру сферы деятельности нашей конторы расширились: от поставок заинтересованным организациям и частным лицам механических мастурбаторов до торговли наукоемкими технологиями – давненько я не врал настолько изобретательно и вдохновенно.
Ночью я неожиданно проснулся.
Что меня разбудило, я не понимал. В комнате полыхали вспышки рекламного неона. Девушка с римских окраин ворочалась во сне и постанывала. На кухне ритмично капала вода: кран течет – до чего же занудный, выматывающий душу звук!.. Однако ни вспышки света в окне, ни приглушенные ночные звуки не могли меня выдернуть из глубокого забытья – я слишком устал, вымотался за последние дни, чтобы реагировать на такие мелочи.
Сон!
Да, мне снилось наше старое доброе небо, наш сквер, дети у старых гаражей – они собрались в круг, и разводящий монотонным голосом гнусавит какую-то считалку. Что-то, насколько я мог расслышать, про месяц, туман, ножик в кармане... Рука его, медленно двигающаяся по кругу, доходит, наконец, до твоей груди, и он выталкивает тебя из круга:
– Тебе водить!
Он устанавливает на землю кирпич, кладет на него широкую плоскую палку от деревянного тарного ящика – получается своего рода подкидная доска: на таких подскакивают высоко- высоко летающие акробаты в цирке.
Потом на край доски ты аккуратно укладываешь двенадцать палочек.
Они тщательно выструганы тобой, подогнаны одна к другой, лежат штабельком – недолго же им лежать, прижавшись, притершись друг к другу. Ты знаешь: сейчас разводящий прыгнет на свободный конец доски, и палочки разлетятся в стороны... Ты никогда не любил эту игру в "двенадцать палочек": по какому праву разводящий, этот сухопарый, длиннорукий мальчик, разрушает созданное тобой с таким старанием и тщанием?
Прыгнул. Палочки летят высоко и разбегаются от тебя: какая в траву юркнет, какая улетит в кусты, зацепится за ветку – поди ее теперь найди...
Игра есть игра, а ты в ней – водящий. Так что ищи, собирай палочки и помни: до тех пор, пока все двенадцать не соберутся у тебя в кулаке, ты не имеешь права отправляться на поиски попрятавшихся от тебя друзей-товарищей. Ты долго ползаешь на коленях, собирая осколки распавшегося смысла, и они за это время далеко успеют убежать и хорошо спрятаться.
Играем?
Возможно. Прокручивая в памяти события последнего времени – начиная с того момента, как меня пригласил к себе Катерпиллер и предложил невероятную работу – меня все время преследует ощущение, будто я включен в некое игровое поле, где мне, как когда-то под нашим старым добрым небом, опять выпало водить.
С утра я принял ледяной душ, но окончательно проснуться мне так и не удалось.
– Не знаю, как насчет глотка керосина для раненого кота... Если хочешь спасти меня, дай глоток кофе.
Девушка с римских окраин ушла на кухню. Там тонко, остро, как циркулярная пила на приличных оборотах, взвыла кофемолка. Пока она отсутствовала, я поискал, чем бы в квартире-портмоне можно было заняться, чтобы скоротать время. В углу, радом с телевизором, стояла гитара.
Когда-то под нашим старым добрым небом мальчику полагалось знать три-четыре аккорда – их хватало для аранжировки любой дворовой песенки про романтику бандитской жизни и трагическую любовь невинной девушки к блатному пареньку.
Я тронул струны. Инструмент очень хороший, мягкий и податливый – даже мне, дилетанту, имевшему в основном дело с пианино в музыкальной школе, это сразу стало ясно. У гитары был профессиональный голос –плавный, интеллигентный, не базарный.
Оказывается, пока я музицировал, Девушка с римских окраин с джезвеем в руке наблюдала за моими неловкими упражнениями. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, и с сочувственной улыбкой следила, как я, склонив голову к грифу, пытаюсь вылепить из левой руки горизонтальную фигуру аккорда ре-минор.
Она разлила кофе по чашкам, молча отобрала у меня инструмент – уже по тому, как она уверенно, точно держала его, как профессионально уложила гитарную талию на левое колено, и пальцы ее исполнили изящную и слегка рассеянную пробежку по ладам, можно было догадаться, что с гитарой она на "ты".
Какое-то время она сидела молча, глядя то ли мимо меня, то ли сквозь меня – скорее всего, перебирала в памяти музыкальные тексты. Она запела – и я остолбенел. Я не люблю, когда в компаниях, особенно если публика под шофе, кто-то затягивает песнопения на английском языке – и выглядит это претенциозно, и саму мелодию исполнитель, как правило, ухитряется втиснуть в стилистику блатного шлягера давних времен... Она пела по-английски, но я даже не обратил на это внимания.
У нее был фантастический голос. Очень низкий, почти на грани типично мужского. И поразительно глубокий.
Она пела совсем негромко, не форсируя звук, но в глубинах особого тембра, свойственного, на мой взгляд, исключительно человеку негритянского происхождения, созревало то немыслимое качество, правом на владение которым располагает разве что классический спиричуэлс.
Когда последний звук потух, я долго сидел, тупо разглядывая орнамент на ковре, в котором извивалась и полыхала сочными, однозначными красками витиеватая фантазия безымянного среднеазиатского ковродела.
– Ты не упоминала, что у тебя в роду были негры... – сказал я наконец.
В последнее время я редко испытываю потрясения. Сейчас был как раз этот случай. Ей-богу, на меня дохнули сухие горячие ветры рабовладельческого юга, запахи тяжелого каторжного пота, слез и крови. Я не понял, о чем она пела, но зато отчетливо слышал смысл: надрывный невольничий хрип, плач детей, вой затравленного собаками беглеца и еще протяжная интонация молящегося: Господи, забери нас скорее отсюда и дай, наконец, покой в своем просторном небе.
– Нет, в самом деле, – сказал я, – это было потрясающе. Где ты этому выучилась?
– Да так... Нигде.
Я понял, что выгляжу очень глупо. В самом деле – этому выучиться нельзя. Я отхлебнул кофе и закурил.
Когда-то, в другой жизни, – было дело – ты просыпался после обычных молодых сумасшествий в университетской общаге и рассматривал острый акулий оскал разбитого плафона (накануне публика, достигнув градуса полного очумения, развлекалась состязанием в меткости – кому удастся кокнуть полушарие плафона из толстого матового стекла – и потому метала в потолок все, что под руку подвернется: тарелки, вилки, обглоданные буханки хлеба, ботинки, учебники – пока, наконец, кто-то не послал точно в цель тяжелую пивную кружку), просыпался и холодел от недоумения: "Господи, да где ж это я?!" И, уяснив себе – где, даже не интересовался у голуболицего, похмельно-анемичного общества, распластанного на кроватях, словно второпях разбросанная одежда: был ли кто с тобой этой ночью, и если был, то кто именно? Сознание не удерживало отпечаток этого существа, однако его черты надежно хранила мышечная память, та самая, что живет на кончиках пальцев и в ладонях...
В случае полного отказа головного мозга она была способна подсказать если не портретные черты, то, на крайний случай, – общие сведения о кондиции подружки.
И когда с первым утренним глотком пива, раздиравшим сухую глотку, как комок измельченного стекла, публика возвращалась к жизни, мы дружно начинали взывать именно к мышечной памяти и точно угадывали имена своих ночных сестер... Я вдруг вспомнил об этом потому, что и сейчас чувствовал в ладонях это мягкое пластилиновое вещество мышечной памяти.
Прикрыв глаза, я звал из руки ее медленные токи и убеждался в том, что судьба свела меня в самом деле с очень сочным и колоритным персонажем: прекрасное сложение, точная лепка фигуры, восхитительная кожа – она, вне сомнения, относилась к типу ярких женщин.
Сказать по правде, к этому типу я отношусь равнодушно: в них всего слишком, всего перебор. Это как раз тот случай, когда избыточность качества дает обратный эффект: не согревает, но напротив – холодит; яркие женщины в моем сознании почему-то всегда ассоциируются с неоновьм светильником.
Но Девушка с римских окраин – грела.
Источник этого тепла я не понимал. Наверное, оно – плавно, без вспышек и всполохов – прорастало из ее миниатюрности. И все-таки что-то на кончиках пальцев было не так, что-то прошло мимо них – я открыл глаза.
Она сидела на своем месте, слегка размягчив жесткую концертную позу тем, что уложила подбородок на гитарное плечо.
– Медитировал? – спросила она.
– Вроде того... – кивнул я; мы знакомы уже достаточное время, однако, кажется, только теперь я по-настоящему увидел ее лицо.
В нем было качество хорошего шоколада – вкусно, но ни в коем случае не приторно. Некое кукольное начало, безусловно, присутствовало – в ее темных глазах, в персиковой щеке, в припухлости рта – но эта кукольность была без слоя ширпотребовского фабричного лака.
– Нагляделся? – спросила она. Я, наконец, добрался до смысла и понял, чего не хватало на кончиках пальцев.
– А тебе ведь трудно приходится в этой жизни... Я предвидел ее реакцию – это инстинктивная реакция всякой женщины на слишком откровенный, интимный жест малознакомого мужчины: вспыхнуть и зажаться; выждать, выдержать паузу и обороняться – чем-либо нарочито неумным. Выглядело в самом деле неумно – и распускание губ в несколько скошенной, порочной улыбочке, и смешок, и деланное лукавство прищура, и цоканье языком:
– Ца-ца-ца! Нелогично. Сам ведь говорил...
– Что?
– Что у меня потрясающая жопа.
– В том-то и дело.
В ее глазах – откуда-то из самой глубины, со дна – поднялось к поверхности некое мутноватое выражение. Такая муть стоит, как правило, во взгляде крайне утомленного человека.
– Так в чем это дело? – спросила она очень тихо.
– В том, что для девушки, почитывающей на досуге Булгакова, у тебя слишком потрясающая жопа. Да и все остальное тоже.
Она отставила гитару, прикрыла глаза и – не то что бы запела – скорее затянула какую-то долгую, унылую тему; она выводила ее, не раскрывая рта, ее и без того низкий, глубокий голос опускался на самое дно грудной клетки и возвращался обратно протяжным холодным стоном – наверное, такие песни поют в северных деревнях, по самые брови затопленных волнами снежных наметов, поют, остужая взгляд в мохнатых зарослях изморози, извивающейся в крохотном окошке, и пристраивая свой голос к медленно текущему в пустое небо волчьему вою.
Эта вокальная тема не имела отчетливых очертаний и больше походила на импровизацию. Я не вмешивался, хотя чем дальше, тем больше мне хотелось наложить на себя руки.
– Ты прав! – она резко, на полувзлете оборвала стон. – Бывает паршиво.
Я указал на гитару.
– Надо бы тебе потолковее распорядиться своими талантами.
Она нахмурилась, насторожилась.
– Я что-то не так сказал?
Она сузила глаза и долго меня рассматривала – от этого узкого взгляда мне стало не по себе. Сначала так смотрят, а потом без предупреждения бьют тебя чем-то тяжелым по голове, сковородкой или утюгом.
– Да н-нет... – наконец сказала она. – Однако что значит – распорядиться?
– Ну что... Устроилась бы куда-то со своей гитарой. Не в филармонию, конечно, и не в кабак... В какой-нибудь, скажем так, творческий клуб с ограниченным посещением. Интеллигентная публика, тонкие манеры, поэтический настрой души... И, естественно, никаких приставаний и прочих варьетешных штучек.
То ли я с утра был не в форме, то ли в самом деле сморозил какую-то глупость – не знаю. Она резко поднялась, сгребла в охапку мои вещи, сложенные на стуле, и запустила всем этим барахлом в меня.
– Давай-ка, мотай отсюда! Ну! Живей, живей!
Потом она, строго сдвинув брови, внимательно надзирала за тем, как я неторопливо застегиваю рубашку, натягиваю свитер, шнурую кроссовки.
– Еще быстрей!
Резкая смена настроений меня озадачила, я присел перед ней на корточки, попробовал погладить ее колено. Она сбросила мою руку.
– Что стряслось? – спросил я.
Девушка с римских окраин – если я хоть что-то смыслю в женских настроениях – собиралась реветь, губы ее, во всяком случае, характерно вздрагивали.
– Ничего... Мотай отсюда!
Пока я выходил в прихожую за курткой, она успела дать настроению волю – нашел я ее лежащей на диване. Она свернулась калачиком и плакала.
– Послушай. Что все-таки произошло?
Она не ответила, я вышел на кухню, присел на табуретку и сказал, обращаясь к старухе, торчащей в окне напротив, что слишком в нашем деле много неясностей.
Я выкурил сигарету и вернулся в комнату.
Девушка с римских окраин стояла у зеркала и промакивала платком влажные глаза.
– Ничего, – сказало мне ее отражение. – Просто это не твое дело... Когда-нибудь я тебе расскажу.
– О чем?
– Да так. Расскажу. Может быть.
Только часов в десять я выбрался из квартиры-портмоне. Я намеревался заехать домой, переодеться и побриться. Какая-то сволочь слила ночью весь бензин из бака. Пришлось бросить машину у подъезда моей новой знакомой и двигаться своим ходом. Через двадцать минут у метро меня "снял" стального оттенка "москвич".
Звонить по телефону нет смысла – она скорее всего бросит трубку. Наверняка не захочет отпереть дверь. Но мне необходим тет-а-тет. Если она начнет выкобениваться, я найду способ ее разговорить. Да и запертая дверь не помеха. Откланиваясь четыре дня назад, я прихватил с собой запасной комплект ключей – нашел на кухне, в пустой сахарнице, и позаимствовал на всякий пожарный случай.
Теперь еще не пожар, но ключи пригодятся.
Отпирая дверь, я понял, что сгубил в себе квартирного вора. Я вошел бесшумно, и они ничего не услышали.
Я сказал – они. Девушка с римских окраин была явно не в одиночестве – в прихожей висела чья-то сиреневая пуховка.
Дверь в комнату у нее застекленная. Стекло матовое – тонкий слой жиденького кефира, кефир сильно разбавлен водой и потому позволяет различить происходящее в комнате, а происходит там все то же.
Я толкнул дверь ногой и вошел.
Забавное это занятие – наблюдать, как ведут себя абсолютно голые люди, если их застать врасплох: женщина инстинктивно прячет грудь за крестом рук, мужчина стыдливо прикрывается и подгибает колено, принимая позу человека, которому очень хочется писать.
Очнувшись от короткого шока. Девушка с римских окраин с криком "сво-о-о-лочь!" кинулась на меня – если в какой-то из прошлых жизней она кем-то и была, то уж наверняка не одуванчиком, а скорее кошкой. Если от таких энергичных наскоков не обороняться, то запросто можно остаться без глаз – я на долю секунды опередил ее: правой перехватил ее руку, а левой заехал в ухо, несильно, но достаточно хлестко. Она опрокинулась на ложе любви.
Теперь – ее приятель.
Я сразу отметил, что он сильно близорук. Он плохо ориентировался в пространстве, и успокоить его, полузрячего, труда не составляло; освежившись ветром, который он поднял, бестолково размахивая руками, я точно уложил удар ему в солнечное сплетение. Он вывалил язык, переломился пополам и углом рухнул на пол.
– Ну уж извини, – сказал я Девушке с римских окраин. – Вы первые начали...
Она плакала, тихо, монотонно – так плачет собака, у которой отняли щенков. Что-то здесь было не так.
Похоже, что я опять сделал глупость.
Я прошел в ванную, намочил полотенце, положил парню на лоб. Она успела накинуть на себя халатик. Вдвоем мы натянули на него трусы, затем я перетащил его на кресло; он приходил в себя, в его беспомощных глазах медленно прорастало выражение осмысленности.
– Ничего, сейчас пройдет, – ободрил я его. – В другой раз бей ногой в пах. Это эффективнее.
Я взял с тумбочки очки и нацепил их ему на нос.
Господи, он оказался студентом. Точно тем персонажем, каких малюют карикатуристы, если им надо изобразить не каменщика и не сапожника, а вот как раз именно студента, шурика: худ, анархически всклокочен, толстые стекла очков и абсолютная неприспособленность к жизни.
Он вопросительно смотрел на Девушку с римских окраин.
– Брось, приятель, – успокоил я. – Оставь догадки, это все так, ерунда... Мы с Алисой друзья детства. Мы в школе занимались в авиамодельном кружке. Вчера наш авиамодельный учитель скончался, вот я и пришел сообщить ей скорбную весть. Да, между нами была. когда-то пылкая любовь, но это была любовь к планерам. Алиса! На два слова...
На кухне я закурил, выглянул на улицу. Старуха в противоположной стене колодца была на месте. Я послал ей воздушный поцелуй, она никак не отреагировала.
– Я думаю, у вас тут все обойдется... Извини, кое-чего я не рассчитал. Бог с вами, живите с миром, если это любовь. Но прежде ты мне обязана объяснить... Кто приказал тебе бросаться мне под колеса? И обо всем остальном я тоже хотел бы знать.
– Эдик...
Эдик. Ну-ну. Что за Эдик? Кто такой? Где живет? Чем занимается?
Она пожала плечами – скорее всего, в самом деле не знает.
– Кожаная куртка, "найк", короткая стрижка, тонкий рот и улыбка такая... напоминает двойное шиковское лезвие?
Она кивнула: д-да, это он, Эдик.
– Круг знакомых? Работа?
Нет, не знает.
– Где его искать?
Опять не знает. Хотя...
– Наверное, в пицце-хат... Там, на Кутузовке.
Уже что-то.
– Это бывший "Хрустальный", что ли? Там теперь валютный кабак?
– Слушай, не связывайся с ними... Они все скоты.
– Тебе заплатили?
Она дернула плечом, посмотрела в окно.
– Да ну... Заплатили! Мелкая услуга – в счет погашения долгов. Я однажды влипла, знаешь, бывает по молодости лет. Эдик помог. Теперь время от времени тянет долги. Зачем он тебе?
Сказать по совести, Эдик мне ни за чем, меня просто занимает этот сюжет в целом. Тебе предлагают работу. Тебя нанимают как специалиста – если, конечно, университетский диплом дает право считаться специалистом хоть в чем-то. Тебя нанимают для выполнения чисто филологической работы, но в течение одной недели ты успеваешь получить резиновой дубинкой по башке, под колеса тебе кидают барышню, трое суток маринуют в дачном погребе, а напоследок тебя едва не подстреливают, как куропатку, возле загородной собачьей фермы. Мы так не договаривались, так настоящие пионеры не поступают.
– Зачем мне Эдик... Во-первых, хочу с ним поближе познакомиться. А во-вторых, меня интересуют некоторые теоретические и практические проблемы, связанные с кастрацией.
Она опять дернула плечом, не отрываясь от окна.
Старуха напротив не двигалась, наверное, это не живая старуха, а просто экспонат паноптикума.
Я вспомнил про голубей.
Девушка с римских окраин запекла их в духовке. Мы помирились, к тому же славно попили и поели. "Агдам" оказался вкуса потустороннего, скорее всего, такие напитки подпольно изготавливают в пещерах: от них в человеке пробуждаются тяжелые пещерные инстинкты. В разгар трапезы Алиса осторожно поинтересовалась: что это у нас на ланч, животное какого разряда, класса и семейства – птица, рыба или моллюск *[7].
– Это вальдшнепы, – объяснил я. – Я сегодня поймал их в силки. Вы ешьте, а мне много нельзя. У меня на вечер пицца.
Бэлле я позвонил из автомата.
Номер начинался на "два-сорок-два" – это где-то в районе Комсомольского проспекта. Молодец, там хорошие дома, и район в целом приличный, я бы сам снял там квартиру.
Бэлка, конечно, снимает, как многие иностранцы. Жить в гостинице с тараканами и крысами за бешеные деньги дураков нет.
Мне повезло, я застал ее на месте.
– Слушай, мне надо прорваться в один кабак. Да, кажется, валютный... Нет, в расходы я тебя не введу. Выпью бутылку лимонада и все.
Если надо прорваться в любой кабак, то лучшего тарана, чем Бэлка, не придумаешь.
Она меня очаровала моментально – талантливостью в питейном деле и потрясающей способностью к мату.
Познакомились мы лет сто назад – когда еще были молодые, фонтаны били голубые и розы, естественно, красные цвели.
Бэлка (русский вариант имени Belle) прибыла из Страсбурга, мама ее, по слухам, служила там в университете профессором, и за каким чертом ей понадобилось отправлять дочку учиться в МГУ, оставалось неясным. Но факт есть факт: на курсе возник экзотический французский персонаж – Бэлла.
Явление в ту пору редкое и даже уникальное, в основном зарубежные кланы факультета формировались из изысканных (в силу высокого положения родителей) болгар, таких же примерно голубых кровей монголов и вьетнамцев, на снайперском счету которых, наверное, было приличное число американцев. И, конечно же, богатых негров. Был один парень из Бангладеш, карманного размера человек с сальными глазами, утверждавший, что был личным другом убитого президента Рахмана. Подружек он себе подбирал, начиная от метра восьмидесяти. Одну из них мы называли "Девушкой с веслом" – она была спортсменкой, олимпийским чемпионом по гребле и представляла собой гору бицепсов и трицепсов; по пьянке ей нравилось брать президентского друга на руки и баюкать, изображая мадонну с младенцем. Впрочем, что касается интимных дел, он ей, кажется, пришелся по вкусу. Еще был американец по имени Вовка. Вовка был американец причудливый: по рождению русский, по гражданству турок, а местожительством имел Тампере. В этом букете не хватало только француженки – вот Бэлла и появилась.
Впечатления француженки она не производила, скорее наоборот: если б я не знал, что ее родина – Страсбург, то наверняка сказал бы, что она из Конотопа. По комплекции она вполне укладывалась в определение "корова": избыточная тучность, блеклое, маловыразительное лицо, неестественно бледное – как будто она хорошенько намылилась, но в самый неподходящий момент отключили воду. Впрочем, недостатки внешности с лихвой компенсировались сокровищами внутреннего мира, и в этом мы убедились с первых же дней учебы. Кажется, в сентябре – в том прошлом времени, когда сентябри еще были свежи, солнечны, прозрачны, пахли костровым дымом, и каждый из нас испытывал потребность в острых ощущениях, когда расстройства отлетали, а не висели камнем на шее, и любовные раны саднили не более недели, когда симпатичная мордашка значила для тебя куда больше, нежели Сервантес, а на ежемесячную стипендиальную тридцатку можно было позволить себе ездить на такси, пить кофе в "Национале" и вообще не знать особых забот, – вот в этом времени, обрезками которого теперь можно разве что фаршировать ностальгические мемуары, и, кажется, после какого-то массового нескучного мероприятия (наверное, субботника) мы в общаге младших курсов на Мичуринском испытали неожиданный приступ жажды.
Население этого общежития походило на бедуинов, выбредших к источнику после трехмесячного кочевания по пустыне, и готово было пить любые жидкости, лишь бы только это были жидкости... Тогда жажду решили утолять суровым мужским напитком "Маринер".
Собственно, это венгерский джин. У меня до сих пор есть подозрение, что работники магазина "Балатон" что-то тогда путали... "Маринер", наверное, предназначался для парфюмерного отдела, а не для винного; во всяком случае, впечатление от него было такое, как если бы ты выпил тройной одеколон и закусил свежей еловой хвоей.
Бэлла некоторое время наблюдала, прислонившись к дверному косяку. Потом сказала: "Накати!" – шарахнула полный стакан, не поморщилась и моментально приобрела статус "нашего человека".
Симпатию вызывало также ее поразительное чутье к ненормативной лексике. Степень ее проникновения в сложные схемы матерных конструкций, глубина постижения тонкостей, нюансов – тех самых, которые воспринимаются разве что на цвет и запах – наталкивали на мысль, что она отслужила срочную службу на флоте. При всем том, в ее французских устах это выглядело ни грубо, ни пошло, – скорее даже изящно.
Она иногда водила нас по ресторанам.
В рестораны всегда пускали в первую очередь иностранцев, такова наша отечественная традиция. Бэлла ждала и делала через стекло знаки швейцару. Когда дверь наконец отворялась, чтобы могла протиснуться очередная порция немчуры или там макаронников, она просовывалась внутрь и говорила швейцару что-нибудь приятное, например, "сучье вымя", "говноед" или "сраный гондон".
Последняя конструкция у меня всегда вызывала возражения по чисто этимологическим соображениям, и мы с ней об этом энергично полемизировали.
Вскоре она теряла терпение и начинала колотить в дверь ногой. Когда из мраморно-хрустальных глубин холла выплывал швейцар и, напялив на лицо выражение, как минимум, генерального секретаря, заявлял, что иностранцы, как известно, в первую очередь, Бэлла с размаху лепила в стекло свой паспорт: а я тебе кто, чучело?!
Кажется, ее знали все московские швейцары. Мы прорывались куда угодно: в "Пекин", "Славянский базар" – и вообще повсюду, где из-под дверей тянулись пикантные запахи.
Поговаривали, будто в Бэлле текут какие-то благородные голубые крови. Возможно... Но определенно ее прабабушка в свое время якшалась с пиратами, в Бэлле явно присутствовал пиратский ген.
Потом я потерял ее из виду. Пару раз она была замужем – за нашими парнишками, и оба раза, кажется, неудачно. Первый муж был слишком прост, второй – слишком замысловат. Первый был детдомовец и к тому же, как потом выяснилось, почти импотент. Второй обладал характерным опрокинутым взором, писал сюрреалистические стихи, редко мылся, томился от непонимания и в томлении своем дозрел до Кащенки.
Бэлла прорезалась по телефону пару недель назад, я сразу догадался, что время не растворило два ее основных таланта.
– Мне срочно, аллюр три креста, нужен контакт с кем-нибудь из ваших стариков, ну, из тех, кто... груши околачивал на Старой Площади *[8].
– Какого хоть примерно сорта груша?
– Кто-то из бывшего международного отдела ЦК...
Оказывается, она приехала снимать кино про центр мировой революции: помощь западным компартиям, оружие для партизан в банановых республиках и все такое прочее.
Я сказал, что прямо сейчас мы к ней заедем с Пономаревым. С каким таким Пономаревым? Ну с тем, что в годы нашего студенчества как раз и возглавлял этот отдел. Теперь он на пенсии, мы тесно дружим домами на почве филателии.
– Он милый старик, только немного слезлив.
Она догадалась, что в этих делах от меня толку мало.
Ну, а теперь она была необходима мне.
– Ты голоден или это связано с приключениями?
Скорее всего с приключениями – Эдик стопроцентный персонаж приключенческого жанра.
– Ладно! – согласилась она, и через полчаса я встречал ее на Кутузовском.
Паркинг перед рестораном был забит хорошими автомобилями – гладкокожими, издали напоминавшими изящную женскую руку, туго обтянутую добротной лайкой. Они стояли на рейде, дожидаясь, пока команда ест и пьет в высоком "козырьке" – там окна расписаны яркими неоновыми пятнами, а мужчины, наверное, распушают перья, и женщины тонким пальцем аккуратно стряхивают пепел с длинных черных сигарет "Моор" и подносят к губам стаканчики с кьянти. Впрочем, наличие кьянти, скорее, следует домыслить.
У входа стыла маленькая очередь. Мужчины все как один были экипированы в темные пиджаки, фасон которых строился на прямых линиях и углах; манжеты подвернуты – небрежно, будто невзначай. Готов побиться об заклад, что все они в белых носках.
Такой пиджак с матрацно-полосатой подкладкой, мешковатые брюки и белые носки – признак состоятельности и вообще хорошего тона.
Очередь пахла – хорошим табаком и дорогой парфюмерией.
Я прохаживался под "козырьком", высматривая Бэллу. Остановился перед стеклянным кубом рекламной витрины и пробовал сообразить – что бы эта реклама могла означать.
В стеклянный куб, походящий на аквариум, были погружены ресторанный столик и пара стульев. У меня возникла идея.
Движением очереди руководил молодой человек приятной наружности – идеальная стрижка, ухоженное продолговатое лицо, безразличный взгляд. Я давно не бывал в ресторанах и понятия не имел, что у нас теперь так выглядят швейцары... Швейцар должен все-таки оставаться швейцаром: скромная пенсия армейского отставника, синий мундир, лацкан и обшлаг отчеркнуты золотой лентой, высокомерный изгиб рта, студенистый взгляд, толстые щеки, идеально выскобленные опасной бритвой.
Дождавшись, пока юный привратник отворит дверь и соединит аппетитно-теплый мир ресторана с прохладным миром улицы, я тронул его за локоть.
– Я хочу у вас поработать...
Он посторонился, освободил проход, пропуская очередную парочку, бесстрастно покосился на меня, прикидывая, наверное, про себя, в каком это качестве может нести здесь службу человек вроде меня.
Похоже, он пришел к выводу, что ни в каком.
Я указал на сухой аквариум.
– Я буду человеком-рекламой. Буду сидеть в той витрине, рекламно улыбаться, рекламно поедая пиццу. У вас не будет отбоя от клиентов.
– У нас и так нет отбоя... – он осмотрел мой гардероб и жестко добавил: – В джинсах к нам нельзя!
Но прежде, чем он успел захлопнуть дверь, на нас с тыла обрушился залп скорострельной французской речи; кто-то в сером долгополом плаще колоколообразной формы протиснулся к двери – привратник, не ожидавший такой энергичной атаки, был вынужден отступить. Он возражал – жестом и голосом – впрочем, голоса я уже не слышал: дверь плавно закрылась.
С минуту они вели интимную беседу в холле.
Привратник прошествовал к двери и кивком предложил мне войти.
– Черт тебя!.. – Бэлла уже кидала плащ на стойку гардероба. – Не мог поприличней одеться? Ты уже стоишь мне пять долларов!
Я поцеловал ее в щеку.
– Зараза! – она ласково улыбнулась и в знак приветствия двинула меня в плечо так, что я покачнулся. – Пять долларов стоили мне твои джинсы. Или три тысячи... Как это по-русски?..
– Три сверху, – оживил я ее память. – Можно еще – три на лапу... А кстати, почему долларов, а не франков? Или ты платила еще в какой-то валюте?
– В бырах! – рявкнула Бэлла.
– Бырах?
Бэлла перед зеркалом устраивала рту короткую энергичную гимнастику – так женщины проверяют, хорошо ли легла помада – и по ходу дела объясняла, сплющивая слова характерным движением губ: быры – это эфиопские деньги...
– Быра. Бы-ы-ра... – я пробовал незнакомое слово на вкус. – Я не знал, что есть такие... Одна быра. Две быры. Это хорошо звучит. До этого я полагал, что самая вкусная на слух валюта – это тугрики. Прислушайся: туг-ри-ки, туг-ри-ки, туг-рики... На мой вкус, это хрустит, как жареный в соли арахис.
Мы поднялись наверх, в ресторанный "козырек", и пристроились в ближнем к лестнице углу.
Я сразу увидел Эдика. Он сидел спиной к нам через три столика, компанию ему составляла пышная женщина с лошадиным лицом. Бэлла заказала пиццу.
– Работаешь? – спросила она. – Или так?
Я объяснил, что у меня теперь редкая, экстравагантная служба, имеющая прямое отношение к мировой революции, причем – к любой: социалистической, буржуазно-демократической, империалистической и так далее.
– И что за служба?
– Я работаю осквернителем могил.
– Занятно! – Бэлла поискала глазами официанта, но не нашла. – Придется взять у тебя интервью... – она комкала салфетку и развивала мысль о нашем будущем сотрудничестве, я слушал вполуха и смотрел, как подрагивает, ерзает тюлевая занавеска от щекотки тонких, острых сквознячков, прорывающихся через щели в гигантском окне... Занавеска посторонилась – скорее всего, внизу открыли входную дверь – в черном треугольнике слезящегося окна встали огни Кутузовского: сиреневое ложе большой улицы, накрытое неоновой мутью светильников, тонкие нити автомобильных стоп-сигналов... А хорошо же смотреть на этот город вот так, сверху, из прямого тепла кабака: слева темный штык памятника, дальше пятно витрины, в котором вспух красный прыщик сигнальной лампочки; мозаика прохладных цветов, вытекающая из-под тебя, вознесенного на второй этаж, и ускользающая куда-то туда, где белыми прожекторными тросами надежно пришвартована глыба триумфальной арки... Я думал, что к этому городу, наверное, можно испытывать теплые чувства – но в том случае, если ты вот так приподнят, изъят из него. В конце концов можно любоваться и гиеной – если она отделена от тебя надежной оградой зверинца. Голубоватый тюль медленно встал на место, смазал шевеление цветов в черном окне.
Я присмотрелся к публике. Пьяных нет. Тонко чувствуя теперешние времена, бандиты не позволяют себе излишеств – в том, что добрая половина здешних посетителей бандиты, я не сомневался ни минуты.
– Ты чего? – спросила Бэлла. – У тебя что, шило в... – она покосилась на соседний столик и не стала развивать эту мысль.
– Симпатичное место, – сказал я. – И народ интеллигентный, не то что прежде. Вообще пиццерия – это золотое дно. У меня был знакомый, занимавшийся этим бизнесом.
– Большие деньги?
– Ну, сравнительно... Когда они приезжали в банк сдавать выручку, банк закрывался – столько приходилось считать-пересчитывать. Они оперировали исключительно лимонами.
Бэлла подняла глаза в потолок:
– Лимонами?
– Это у нас теперь такая денежная единица. Миллион. Поллимона, полтора лимона, десять лимонов – такие у нас теперь цитрусовые деньги.
– Хорошо, – заинтересованно заметила Бэлла. – Я запомню. А у твоего приятеля – целая цитрусовая плантация?
Кто его знает... Возможно, и есть какой-то надельчик в шесть соток – если только в садах Эдемских успевают созревать цитрусовые. Из него сделали начинку для пиццы – упаковали машину динамитом, и от него ничего не осталось. Ничегошеньки.
Я рассказал, что знаю, опустив, правда, кое-какие подробности: в машине, кроме пиццерийщика, находились его жена и дочка.
– Твою мать! – сказала Бэлла. Она хотела еще что-то прибавить, но я ее уже не слушал: Эдик поднялся с места.
Если он направляется в туалет, то нам по пути. Его роскошная приятельница будет приятно удивлена, когда Эдик вернется.
Он, наверное, читал мои мысли. Я вошел в туалет следом за ним, тихонько прикрыл дверь.
Минут через пять я вернулся и кивнул на выход:
– Сматываемся отсюда.
– А пицца? – скуксилась Бэлла.
– Пусть ей официант подавится, а нам надо сматываться и поскорее, мы опаздываем в театр.
Я не шутил, нам в самом деле надо было в театр.
На этот раз Бэлла ездила в белых "жигулях".
Она всегда любила машину, водила уверенно – правда, что называется, на грани фола – и любила по дороге пошутить. На перекрестке она вставала в крайний левый ряд, поближе к гаишнику, и строила хозяину дороги глазки. Тогда у нее был зеленый "фольксваген", "божья коровка" – гаишники таяли, им было приятно, что иностранная девушка в иностранном автомобиле проявляет к ним внимание.
Бэлла прогазовывала, дожидаясь того короткого мгновения, когда желтый сигнал светофора должен был сорваться – в зеленый. Поймав этот момент, она во все горло каркала: "Мудак!" – и рвала с места. Я вспомнил ее пиратские замашки и попросил на сей раз обойтись без эскапад.
– Давай, к "Современнику". Дорогу помнишь?
Бэлла завелась, грела двигатель, поглядывала зачем-то в зеркальце заднего обзора.
– Площадь Маяковского?
Я был слишком занят своими мыслями, чтобы среагировать: "Современник" на Маяковке?
– Бэлла, туг все сильно изменилось. Ты находишься в другом городе!
В другом. Того, прежнего, который был нашим городом и где мы были своими людьми, их уже и не будет больше никогда. А там, где когда-то дожидался нас "Современник", теперь одна асфальтовая плешь, засиженная лакированными мухами иномарок.
– Мимо Киевского на мост, а там, возле МИДа, свернем на кольцо. За Красными воротами – в какой-нибудь переулок, к Чистым прудам.
– Красные ворота? – переспросила Бэлла, трогая – резко, с места в карьер, как она любила стартовать в том городе, где было метро "Лермонтовская".
На Смоленской, неподалеку от гладких коробок "Белграда", мы угодили в пробку, левый поворот на кольцо долго не открывали; мы не видели, что происходит на кольце, скорее, чувствовали: Садовое замерло. Минут через пять по нему пронесся ветер, на кончике которого ритмично пульсировал характерный, изогнутый синусоидой вой сирены – в нем безошибочно узнавалась интонация старой доброй "девятки".
– Слуги народа, – опознал я сигнальный вой.
Бэлла недоуменно покосилась на меня.
– Я думала, вы это дело отменили.
Нам дали, наконец, зеленый, стая истомившихся в ожидании машин ринулась на захват Садового кольца – борт в борт, рискуя поцарапаться.
– Что с тобой? – спросила Бэлла, не отрывая взгляда от дороги.
– А что, заметно?
Мне в самом деле было не по себе. Я никогда не бил человека со спины, и вот пришлось. Не была выхода. Если бы Эдик обернулся, мои шансы опустились бы до нуля. Во-первых, он профессионал, во-вторых, он физически много сильнее меня.
По счастью, он не обратил на меня внимания: стоял у писсуара и сосредоточенно делал свое маленькое дело. Я сцепил руки замком и ударил его по затылку.
Эдик ткнулся лбом в кафель, в недоумении обернулся и, закручиваясь медленно винтом, опустился на пол.
Я оттащил его в кабину и запер двери. На всякий случай пошарил у него за пазухой. Его пугач был на месте, только это был совсем не тот газовый пугач, которым он размахивал перед моим носом на даче.
В оружии я кое-что смыслю; больше, правда, в винтовках и охотничьих ружьях – когда-то, давным-давно, занимался стендовой стрельбой, люблю охоту. Из пистолетов самое мое любимое оружие – это кольт – с детства помню, как он сам прыгал в железную, не знающую промаха руку Юла Бриннера.
Кольт прыгал из открытой набедренной кобуры в руку, исполнял на указательном пальце несколько переворотов "солнышко" и рассылал свои смертоносные плевки. И еще я хорошо помню, как пули с протяжным осиным пением высекали из глиняных стен сонного мексиканского поселка фонтанчики пыли – когда-то, под нашим старым добрым небом, ты смотрел это восхитительное кино. Замечательное кино, пропитанное запахом пороха, салунного перегара и крови, – это было в Клубе строителей на нешумной пыльной улице, вдоль которой выстроились двухэтажные пряничные особнячки – плод старательной, аккуратной военно-пленной фантазии немцев...
Там во дворах было забрано в железные прутья высоких оград буйное баловство сирени, а под окнами приседали, выпустив когти, кусты роз, и с обезьяньей матросской лихостью карабкались по веревочным вантам хлопья дикого винограда. Там одна только сонная тишина, время от времени крошащаяся у основания от воробьиных драк, мощно, бетонно утопала по щиколотку в тополином пуху. Там грузная билетерша в домотканной кофте и сползших на кончик остроотточенного птичьего носа очках вперевалку, типично по-тюленьи, прохаживалась у заветного входа в зал, а за темным квадратом дверного проема, наискось отчеркнутого тяжелой плюшевой занавеской, уже звучали первые такты этого энергичного концерта для кольта с оркестром. Ты торопился – слушать, видеть, обмирать. Мать-тюлениха, охранявшая вход на запретную для малолетних территорию, медленно опускала подбородок, чтобы мутноватый от долгих лет жизни взгляд смог перевалиться через барьер черепаховой оправы; она вопросительно разглядывала стриженного под "польку" мальчика, и, кажется, собиралась перегородить вход – однако твоя узкая ладонь плотно лежала в тяжелых деревянных ножнах отцовской руки, инкрустированной голубым татуировочным якорем. Твердость и мужество большой руки резкими, ритмичными толчками перетекала в руку маленькую – и тюлениха не посмела преградить вам дорогу.
Кажется, ты был единственным малолетним человеком на весь Агапов тупик, допущенным к вольному воздуху американского Юга, и потому имел счастливую возможность имитировать раскаченную походку Юла Бриннера и его манеру держать руку у бедра – наготове к пружинистому подскоку тяжелого кольта с холодным круглым зрачком: он был настолько огромен и черен, что твой курьерский детский взгляд вкатывался в него, как локомотив в жерло тоннеля.
Нечто похожее я испытывал сейчас, рассматривая целых три секунды пистолет Эдика. У меня было впечатление, что я подставил ладонь под струю холодного металла – он втек в руку, затвердел, и на рифленой поверхности рукоятных "щечек" остался слепок с линий судьбы, жизни, любви, карьеры.
Это был "ТТ" – очень уважаемый в среде мафиози пистолет – поскольку пробивает бронежилеты.
Я подумал, что дела мои обстоят скверно. При всем том, что сейчас пол-Москвы таскает за пазухой оружие, связываться с публикой, привыкшей рассчитывать на такого рода полемические аргументы, в мои планы никак не входило.
То ли у него железное здоровье, то ли его каждый день вот так бьют по башке – не знаю. Факт тот, что Эдик довольно быстро пришел в себя и приоткрыл глаз. Я сказал: пусть не обижается, надеюсь, мы останемся друзьями. Все, что мне надо – это информация о том, кто обеспечил мне трехсуточную командировку на дачу. Катерпилер?
Эдик прикрыл глаз: да.
– Ты тоже из его лавочки?
– Нет.
– Он лично присутствовал там, на даче?
– Шутишь, что ли... Это всего лишь маленькая услуга. Он такой мелочовкой сам не занимается.
– Ничего себе мелочовка. Вы меня чуть не прикончили.
– Мелочовка, мелочовка... – философски заключил Эдик. – Когда ему что-то такое надо провернуть, он берет людей со стороны. Он говорит: моя фирма при всех раскладах должна оставаться идеально чистой.
– Я ему покажу "чистой"! – не выдержал я.
Он собрался с силами, поднялся с пола, уселся на унитаз и ощупал затылок.
– Чем это ты меня?
Я пожал плечами: почему я? Я шел по малой нужде, гляжу, ты отдыхаешь, наверное поскользнулся на банановой шкурке и расшибся.
Он вздохнул.
Теперь все случившееся было мне ясно целиком и полностью. Какой же сегодня день? Кажется, среда...Значит, Катерпиллер в театре*[9]. В "Современнике". У него пассия, так себе, на третьих ролях, много понта, но на самом деле она дура, и худая к тому же, было бы за что подержаться! – примерно в таких красках рисовала мне ситуацию Ленка, секретарша, восседающая в приемной фирмы... Очень удачно, что сегодня именно среда: в театре его не пасет охрана, ему надо выглядеть простым, нормальным мужиком, а если вокруг топтуны - не тот кайф.
Я вспомнил, как Эдик за мной ухаживал, прикурил сигарету и вставил ему в губы.
– Слушай... За информацию спасибо. Но ты что же, разошелся теперь с Катерпиллером?
– Да нет, хотя вообще-то он скотина... Ты, я слышал, ему другом детства приходишься... Если ты по старой дружбе на него хорошенько наедешь, я в обиде не буду.
– Ну уж нет, я в этой истории выступаю исключительно как консультант – меня в этом качестве и пригласили; если вам так приспичило разбираться, так и разбирайтесь между собой, а я туг ни при чем.
– Ага! – сплюнул сигарету Эдик. – Разберешься с ним! Потом мало не покажется...
Возможно, возможно, но, тем не менее, некто, судя по всему, как раз и желает разобраться: если не с Катерпиллером лично, то, во всяком случае, с его лавочкой.
Я вернул ему пистолет, он сунул пистолет под мышку:
– Знаешь, я в самом деле к тебе ничего не имею.
– Да и я, Эдик, тоже.
За кого же он меня принимал? Хотел бы я знать...
Мы уже выворачивали на Чистые Пруды. Я ошибся, посоветовав Бэлле свернуть с кольца на Большой Харитоньевский, – театр оставался у нас за спиной. Пришлось немного сдать назад. Бэлла понеслась задом на бешеной скорости – к счастью, машин в такой час немного. Какая-то белая "Волга" – частная, частники на "Волгах" сразу узнаваемы, даже в потемках, у них особая манера водить: мягкая, плавная – шарахнулась от нас влево и едва не поцеловалась с оградой сквера.
Мы успели вовремя: публика только начинала расходиться. Эти люди еще пребывали во власти тепла, уюта, плавного сценического света – они зябко поеживались; не спеша сходили по ступеням бывшего "Колизея" или поджидали спутников у белых колонн.
– Давно не посещал очаг культуры? – поинтересовалась Бэлла.
– Сто лет...
В самом деле, в театре я не был лет сто и основательно забыл, как выгладит фойе, как шуршит занавес и как прожектор вдруг прорисовывает в темном пространстве сцены меловые, синтетические лица актеров – впрочем, думал я не об этом.
Впервые за много лет я оказался на Чистых Прудах вечером и видел это яркое праздничное пятно в темном жерле бульвара: раскаленно-белое, с медными прожилками... Это был и не "Современник", и не "Колизей" – тут полыхало нечто третье.
– Мы только за этим сюда приперлись? – тоскливо поинтересовалась Бэлла.
Я положил ладонь на ее руку и попросил оказать мне маленькую услугу. Мы дождемся, пока рассосется публика, а потом я перекинусь парой слов с одним завзятым театралом. Он скоро выйдет, но будет не один. Мы отойдем в сторонку – вон туда, за левый угол здания, где афишные витрины. В задачу Бэллы входит как-нибудь занять спутницу театрала. Как-нибудь, все равно как – лишь бы она не скучала и, тем паче, не подняла крик.
– А в Москве стало веселей! – приободрилась Бэлла. – Мне у вас больше нравится, чем прежде.
– Мне тоже... Вот только... – я поглядывал на медленный театральный разъезд, вернее сказать, расход, прикидывал: минут пять-десять у нас еще есть...
– Что только? – Бэлла уселась вполоборота ко мне, в лице ее обозначилось легкое ехидство, – что, тяжело дается демократия?
– Твою мать! – я приоткрыл окошко и сплюнул.
– М-м-м-м? – переспросила Бэлла.
– Когда я слышу это слово, мне хочется схватиться за пистолет!
– Вот это разговор! – засмеялась Бэлла. – И что дальше?
– Да ну тебя!.. Я просто о том, что время от времени теряю ощущение реальности, понимаешь? Ну, перестаю чувствовать, где заканчивается реальная жизнь и где начинается "Большой налет" Хэммета, понимаешь? Грань между этим крутым романом и нашей, так называемой, эпохой кардинальных реформ – на чисто бытовом уровне, на уровне улицы – как-то растворилась. Такова примета теперешнего жанра.
– Жанра? – нахмурилась Бэлла. – Жанра?
– Вот именно, именно... Хочешь знать, чем я отличаюсь от тебя? Ну, в принципе? На уровне генотипа?
– Ну-ну... Это занятно...
– Тем, что я никогда не жил толком – здесь!
Бэлла сосредоточенно разминала переносицу, соображая.
– Когда мы учились в университете, я жил в "Доме на набережной" и был там прописан, там, а не у себя, в Агаповом тупике. Или вот родители... Им только казалось, что они живые люди. На самом деле у них вместо крови были гайдаровские чернила. Мой дедушка – тот вообще сделан из осинового полена – его старательно выстругал Алексей Максимович... А пращуры мои – думаешь, они дышали живым воздухом?
– А чем они дышали? – спросила Бэлла.
Лесной прелью... Знаешь, ее в "Записках охотника" сколько? Много, на всех хватало. Да и вообще, по слухам, мы все вышли из шинели. В том-то и причуда, что мы в самом деле толком никогда не жили здесь... То в "Вешних водах" жили, то в "Петербурге" квартировали. Скрипки наши – они что, думаешь, наши?
Бэлла пожала плечами.
– Черта с два наши! Это все Скрипки Ротшильда. А шаркающей кавалерийской походкой у нас – кто не ходил? Звездный билет в заднем кармане кто не таскал с собой повсюду!.. Это и есть наша питательная среда, понимаешь? Мы устраиваем жизнь по законам литературного жанра... Именно поэтому все теперь так зашевелились.
– Понимаю, – кивнула Бэлла. – Теперь у вас, значит, – Хэммет?
– Ну, примерно... Попробуй не зашевелись, если тебя вписали в качестве персонажа в "Большой налет". С этим, кстати, связана моя нынешняя работа.
– Стало быть, ты работаешь по специальности?
– Вот именно... Вон они... Пошли!
Я всегда знал, что Бэлла молодец, но не думал, что молодец настолько. Она блестяще отыграла свою импровизацию. Она резво побежала навстречу парочке, вполне достоверно исполнила сцену поскальзывания, рухнула на землю и непритворно завыла; пока актрисулька охала и ахала, я взял Катерпиллера под локоток, отвел за угол, прислонил к стене. Он сидел у меня в стене аккуратно – как печать в загранпаспорте.
Я коротко высказал свои претензии; я дал ему понять, что не нуждаюсь в проверках на лояльность; если наши отношения будут развиваться в подобном духе, я ведь могу не только морду набить...
Я ослабил хватку, Катерпиллер отслоился от стены.
– Насколько я понимаю, – сказал я, – наш контракт расторгнут? Можно явиться за расчетом?
Он поправил галстук, отряхнул полы плаща, подобрал шляпу.
– Напротив... Пошли, дамы волнуются.
Они вовсе не волновались и, кажется, не обратили внимания на нашу отлучку – болтали, курили. Я потянул Бэллу за рукав: на сегодня все, поехали, нас ждет мировая революция.
Мы двинулись к нашей машине, Катерпиллер – к своей. Он усадил актрисульку, привинтил зеркальце, вернулся к нам, постучал согнутым пальцем в стекло. Я приоткрыл дверь.
– Завтра к десяти я жду тебя в офисе. Будь обязательно!
– Что за официальность?
– Борис Минеевич нашелся...
– Значит, жив-здоров? А ты волновался...
– Жив-то жив... Но не вполне здоров.
– Что с ним? Похмелье? Ишиас? Понос? Пневмония?
– Полагаю, он сошел с ума...
Вот это уже забавно. Я конструировал этот сюжет и так и сяк, насиловал воображение и прорисовывал Бориса Минеевича во всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах, свойственных современному жанру; я его рэкетировал, пытал электрическим током, я отсылал его к старушке матери в Вятку, прятал у любовницы, я поселял его в сочинской "Жемчужине" и даже клал, грешным делом, букет алых гвоздик на его могилу, но предположить, что коллизия вытащит нас к дурдому, я не смог.
Пришлось вылезти из машины и порасспросить Катерпиллера.
Через пару минут мы уже мчались к Петровке, а там дальше на Садовое и потом мимо Парка культуры на Комсомольский: у меня возникло острое желание глотнуть чего-нибудь крепкого.
– И где нашелся этот парень? – нарушила, наконец, Бэлла молчание: оказывается, она внимательно следила за нашей беседой.
То-то и оно – где.
Его нашли в железном контейнере для перевозки мебели.
...и Мы войдем в Их дома, и встанем у Них за спиной. Мы хорошо знаем силу наших рук, выносливость наших жилистых тел, деревянную жесткость ладоней, сокрушительность наших кулаков и мертвую хватку наших челюстей, но Мы не прибегнем к насилию, не кинемся на Них – Мы пришли не за тем.
А вообще-то мне в самом деле нравится новая работа. Получил я ее при несколько странных обстоятельствах. Мне позвонили домой. Протокольный женский голос вопросил: вы такой-то? В том случае, если я действительно такой-то, а не какой-то еще, женскому голосу поручено передать мне предложение от фирмы такой-то.
Названия я не разобрал *[10].
– Эй! Постойте! – крикнул я в трубку, но голос уже отгородился от меня частыми гудками.
И все, что осталось от нашего разговора – это запись на полях старой газеты: адрес, время визита.
С минуту я сидел в коридоре у телефонного столика, соображал, что бы это все могло означать, и слушал, как кашляет во сне Музыка: его часто бьют среди бела дня жестокие чахоточные приступы.
Сны ему снятся редко, вернее сказать, это один-единственный сон: уже свечи потухают, задушенные наслюнявленным пальцем лакея, уже вьют они нити тонких сладких дымов, уже отмахал свое подвижный циркуль канкана, и девушки-танцовщицы сидят за кулисами, устало разбросав длинные ноги. Уже обезьяны сомкнули свои искалеченные рты, в бокалах остывшего выдохшегося шампанского плавают пьяненькие розы, и сам Музыка почему-то оказывается посреди всеобщего разгрома; он не в силах поднять свой картонный меч, его клоунская корона из папье-маше сползает на бок и катится под рояль. И Музыка падает лицом прямо в черно-белую клавишную кость – рояль горько вскрикивает, как будто кто-то тяжелый и грубый отдавил ему лакированную ногу в позолоченном башмачке... А Музыка лежит, придавив щекой разболтанные клавиши, и вдруг видит: качнулась ветка потухшей елки, и по праздничной рождественской хвое тихо спускается желтый ангел, медленно приближается, склоняет над пьяным тапером желтое лицо и колыбельным дискантом поет: "Вы устали?.. Вы больны ?"
Музыка (бывают же у людей прозвища!) – мой сосед. Мы с ним коммунальные люди, честно делящие коммунальный кров. Перспектив сделаться отдельными гражданами под отдельной крышей у нас нет никаких – в шевеление мистических очередей на жилплощадь я давно не верю.
Зарабатывает Музыка на жизнь тем, что время от времени ходит на рынок со своей мандолиной; там он играет во фруктовых рядах, и темнолицые усатые ребята его за это подкармливают. Вообще он производит впечатление уроженца острова Пасхи: мне порой кажется, что по квартире шаркает в стоптанных шлепанцах миниатюрная копия тех серых каменных истуканов, какие во множестве рассеяны по унылому безлюдному острову. Они стоят там веки-вечные, глядят в плоский океан, и океан выглядит смертельно уставшим от соседства с застывшим выражением каменных лиц... Впрочем, непостижимая прелесть этих лиц состоит в том, что в странном сочетании грубых линий зреет завязь тончайшей саркастической улыбки.
Что касается Музыки, то его улыбка давно отцвела.
Она жила когда-то в его лице, и живо еще было его хорошее имя – Андрюша, но было это давно, под нашим старым добрым небом было.
Много чего под нашим старым добрым небом Андрюше прощалось: сытная жизнь, японский халат кимоно и легкие деньги... Дом, где живет Андрюша, приучен к тяжести труда, его постоянству: кто с утра до вечера завивает серебряную кудряшку у токарного станка, кто песенку "Веселей, шофер!" мурлычит себе под нос в дальнем рейсе, кто с толстой сумкой на ремне несет людям приветы к Майским, к Октябрьским, к морозному Дню Конституции, кто головы ваши в парикмахерской на углу бреет в свирепые "боксы", лояльные "полубоксы" или уж совсем либеральные "польки" – и все это есть труд, грубый и честный, труд кормящий, на котором прочно, нешатаемо стоит жизнь. А что Андрюша?
Что он в самом деле? Сидят они, тридцать здоровых мужиков, в прозрачном, промытом хрустальным светом зале, навалившись широкими крахмальными грудями на хрупкие балалаечные углы, светят набриолиненными затылками, а руки их – розовые, девичьи, – душат балалаечные грифы, а крохотность, щуплость инструментов, вмятых в строй черно-белых фрачных квадратов; так остро подчеркивает никчемность их труда.
– А р-р-р-ожи у всех серьезные, м-б-т-вашу! – ругается твой отец, обжигаясь борщом; отец – шофер, ему за большой километраж без ремонта местком гаража выдал билет в концерт, и больше, сколько ты помнишь, он в концерт не ходил, пока не сделался начальником колонны, а потом начальником всех колонн вообще, а потом и вовсе не переехал шуршать пером в огромный серый дом в Охотном ряду... Из этого дома он ходил изредка в Большой по торжественному случаю; после торжественного случая на десерт полагался концерт, и отцу приходилось сидеть, мучаться пару краснознаменных, кантатно-балетно-куплетных часов в душном зале – но это еще когда будет, в каком туманном далеке, а пока, за борщом, он кривит рот... Но когда дело доходит до Андрюши (который тоже ведь был на сцене, и во фраке), отцовский рот смягчается:
– Андрюха – он ничего! Он наш... Он наяривает! Йэ-х, сыпь, Андрюша, нам ли быть в печали! – отец, закатив глаза, вспоминает мелодию. – Не прячь гармонь, играй на все лады...
Их двое под нашим старым добрым небом – граждан другой жизни, шуршащей где-то в мраморах Колонного зала; там шелест оваций, дирижерские поклоны, гастроли (вся комната у Андрюши заклеена афишами), выступления по радио, и, конечно, шальные деньги. И кроме Андрюши, есть еще певец по прозвищу Пузырь. Пузырю недоброжелательствуют.
Пузырь живет через дорогу от нас – в кооперативе. Мы плохо различаем какой-то не наш, какой-то чуть ли не вражеский смысл слова – кажется, это был вообще один из первых кооперативных домов в Москве; жительствуют в нем исключительно ослепительные – лицом, одеждой, манерой держаться – люди: актеры, художники, композиторы, и среди них один генерал с головой, как биллиардный шар, – наверное, в свободное от службы время он покровительствует искусствам.
Пузырь – солист в каком-то шумном, гремящем воинском ансамбле песни и пляски, у него очень тонкий голос ("Ах вы, люди! – расстраивается Андрюша за доминошным столом во дворе, когда кто-то обзывает голос Пузыря "бабским" или – того хуже – "тещиным", – это же тенор, и неплохой!"), Пузырь чересчур кругл и крупен для грубых ефрейторских погон, и полы армейского мундира едва сходятся на животе. Толстая его грудь на вдохе вываливается из уставного декольте:
– Са-а-а-лавьи-и-и-и-и... – вытягивает он "тещин" голос в тонкую медную нить, все утончает, утончает сечение, и протяжное "у-у-у-у" во фразе "пусть солдаты немножко поспят" – вот-вот - и оборвется!
Он ходит через наш двор к трамвайной остановке, менторски забросив голову назад, и его взор блуждает где-то поверх пролетарских затылков. У Пузыря черноволосая полная жена – то ярко-поплиновая, то шелково-шуршащая, то минорно-каракулевая. И у него есть сынишка – хрупкий чернявый мальчик... Ах, не любят их у нас, в Агаповом тупике, не любят. И как-то под вечер тебе удается заманить чернявого мальчика в подворотню.
Там темно, пахнет сыростью, и стены все в зеленоватой плесени. В темных от испуга его глазах стоит выражение покорности. Ты подталкиваешь его в плечо:
– А ну-ка, попрыгай!
"Попрыгай!" – привычный пароль, метка, опознавательный знак характерной для нашего Агапова тупика бытовой оценки; тебе уже раза три приходилось попадаться в подворотне или глухом тупике в сети, расставленные кодлой из бараков, пришвартованных к железной дороге. Их пять-семь человек, они окружают тебя, ты прижимаешься спиной к стене и слышишь – даже через пальто – как она холодна. Ты знаешь, что сейчас будет. Кто-то из кодлы, как правило, щенок, малолетка, которого берут в компанию в качестве наживки, чтобы он задирался, выступает вперед, и, пульнув через зубы короткий плевок, взвизгнет, остро затачивая "эс": "А ну, с- с-с-ука, попрыгай!".
Это можно...
Это можно, если ты согласен считать себя последним дерьмом.
Они выгребут из твоего кармана мелочь, демаскировавшую себя характерным звоном, легонько двинут по скуле и уйдут.
Если ты себя дерьмом считать не согласен, то ты и сам не заметишь, как колени твои согнутся, локоть упрется в живот, и кулак выскочит навстречу кодле: "Выкуси!" И значит, тебя будут бить серьезно, но зато ты останешься самим собой – диким и вольным, не признающим ошейник волчонком Агапова тупика – а ссадины до свадьбы заживут.
Он, кажется, не понимает.
– Попрыгай, попрыгай... Ну! – Ты отстегиваешь свой солдатский ремень с заточенной пряжкой, наматываешь кожу на кулак – он, конечно, догадывается, что может означать этот жест.
И он у тебя прыгает, звеня, как копилка. Ты протягиваешь руку, он ссыпает в ладонь мелочь. Потом ты покупаешь в киоске два эскимо за одиннадцать копеек, потом вы за гаражами режетесь с пацанами в "буру", а вечером, по возвращении домой, ты застаешь на кухне Пузыря. И отец молча ведет тебя в ванную комнату; отец бьет тебя только в ванной – а как же, гигиена!
А вот Андрюше много чего под нашим старым добрым небом прощали.
"Сыпь, Андрюша! – покрикивают ему из-за доминошного стола... "Нам ли быть в печали!" – подхватываете вы, мальчики, кроящие за игрой в ножички свои америки, азии и европы... "Сделай так, чтоб горы заплясали!" – подзуживают старшие, грея в ладонях черную гремящую кость... "Чтоб зашуме-е-е-ли зеленые сады!".
Андрюша приветливо покачивает девичьей ладонью:
– Сейчас, сейчас... – и идет домой.
Он возвращается с ослепительным перламутровым трофейным аккордеоном, присаживается к доминошному столу, разогревает пальцы тренировочными прыг-скоками по клавиатуре и быстро, без паузы, без подготовки, съезжает к начальным аккордам: уамп-памп-памп...
– "Эх, путь-дорожка, подожди немножко..."
И все бросают домино, подтягивают – поначалу робко, боясь спугнуть грубым сипением точность темы, но когда горы уже заплясали, сады зеленые зашумели, все вы втягиваетесь в строй андрюшиных аккордов и дружно раскачиваете Агапов тупик слаженным хором:
– Пой-играй, чтобы ласковые очи, не боясь, глядели на тебя!
Играет он потрясающе (хотя аккордеон и не его прямая специальность – Андрюша работает в струнной группе ансамбля народных инструментов), но столько сока в его мелодиях, такая светится искра в его не всегда логичных аккордах, такая легкость парит в стремительных связующих фразы пассажах – ах, как он играет, Андрюша! И все вы уже не здесь, и нет с вами ни слез, ни расстройств, и не кирпичные скалы Агапова тупика наваливаются на вас всей тяжестью своих теней... Нет, это тени пахучих магнолий в благоуханном парке Чаир – там вдалеке, в просветах тропического сада покачивается на мелкой волне луна, вытянувшаяся в тонкую, трепещущую струну. И ведь вы – это вы, те, кто на "эмке" драной и с одним наганом первым врывались в города... И вели вы полные серебристой кефалью шаланды к южному городу, к его молдаванкам и пересыпям, к зацветшему французскому бульвару. И, не стыдясь себя, падали вы на колени перед женщиной в нашем нетесном уголке, молили, ломая руки:
– Не уходи... Тебя я умоляю...
И желтым ангелом сходили с потухшей елки, трогали за плечо упавшего лицом на клавиши маэстро и шептали:
– "Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго... Даже и под нашим добрым небом были все удивлены!" – и здесь ты всегда отворачивался, смотрел в маленькое небо, стиснутое жестью крыш, и уходил за гаражи, чтобы скрыть от людей нечто такое, что в Агаповом тупике было глубоко презираемо, и там ты горько плакал.
Утомившись, отдыхает Андрюша, уложив подбородок на сожмуренные меха аккордеона, он тускло улыбается, глядя на перечеркнутую дуплями черную линию игры, и все знают: сейчас он полезет в карман.
Живет он один, жены нет, детей тем более нет, деньги у него легкие, нетрудовые, и их – много.
Кто-нибудь сбегает.
Тихо во дворе и хорошо... Из переулка, выводящего к большой улице, течет низкий сквозняк, он посасывает двор, и вздрагивает тополиный пух бордюров; пахнет пылью и теплом, шевелится на столе раскрошенная тень старой липы, водка медленно, булькающими хлопьями падает в стакан...
– Топ-топ! – подравнивает Андрюша чрезмерны наклон щедрого горлышка.
Он долго рассматривает граненое стекло на просвет: полуденную тишину вдруг дернет чей-то крик из форточки: "Витька, домой!" – и снова встает тишина во круг стола. Андрюша выдыхает в перламутровое плечо аккордеона. Пить ему с инструментом на коленях неудобно, и он не то что бы пьет, а – кидает водку из стакана, ловит ее распахнутым ртом и припадает обожженными губами к перламутру.
– Андрюша! – опять просят его.
Он щупает басы: уамп-памп-памп-памп.
– "Эх, путь дорожка!.."
У меня в шкафу стояло пиво. Я взял бутылку и зашел к Музыке. Его жилище представляет собой классический барачный угол, а его обитатель сам относится к людям барачного класса.
Они рождаются в бараке при тусклом свете керосинки, они выпускают на волю свой первый младенческий крик и уже на первом вдохе давятся затхлым, гнилым воздухом лачуги; первый звук, достигающий их ушей, есть шуршание крысы в темном углу; они быстро привыкают – к этим обшарпанным стенам, изъеденным плесенью, к тесноте, грязи, блеклым краскам, тусклому свету от закопченного окошка, теням, встающим у стола в час поздней трапезы, и сам дух барака проникает в их плоть, осаждается на грубых кожных тканях, делает шершавым, заскорузлым их язык, и его ничем, ничем уже не вытравишь.
Музыка лежал ничком на диване, свернув голову на бок, и кашлял.
Он приоткрыл глаз и увидел бутылку; он смотрел на нее так, как если бы на столе стоял не холодный сосуд с подкисшим, отплюнувшимся осадком пивом, а холеная женщина, исходящая эротическим потом.
Я вернулся к телефонному столику. Тупо разглядывал адрес, второпях записанный на полях старой газеты. Имя переулка было знакомо... Старые улицы обладают именем собственным, но не названием. Улица строителей, Шоссе энтузиастов – названия новых времен. А прежние имена есть, скорее, отчетливо артикулированное пространство звуков и запахов, тонкая матовая пыльца блеклых цветовых гамм, осевшая на ржавую, извивающуюся в конвульсиях кровельную жесть, на красные сторожевые башенки печных труб, рассохшиеся рамы с разболтанными форточками, на широкие площадки карнизов в коросте голубиного помета...
Я спустился во двор, закурил. Татарка-дворничиха с картонной улыбкой обмахивает жесткой шершавой метлой игровую площадку с растекшейся кучей бурого песка для детских игр в "куличики". Ревматически постанывают качельки, на них молодая женщина баюкает свою сосредоточенность, целиком отданную какой-то книжке, рядом ковыряется в земле совершенно забытый мамашей ребенок... Я подумал, что в продиктованном мне по телефону имени переулка слышится запах кислого кваса в деревянной кадке, свечного воска, тлеющих в самоваре сосновых шишек; кроме того, в нем присутствовало куриное квохтанье, кубарем выкатывающееся из-под ног, мягкие скрипы хорошо смазанных салом сапог, плевки гераньевых хлопьев в окнах, отороченных причудливой деревянной вязью наличников... Так это имя и звучит до сих пор – где-то в гнутых, перепутанных линиях Замоскворечья.
Я не был в этих краях примерно с год. Где именно запутался нужный мне переулок, я толком не знал, просто помнил: это где-то там, в Замоскворечье.
То ли я забрел в самый несчастный угол этой некогда теплой, заторможенной местности, то ли это теперь повсюду так, – мне показалось, что квартал неосторожно высунулся из своей старой норы и угодил под бомбовый удар. Вспоротый траншеями асфальт, содранные крыши, провалы оконных проемов, ошметки голубеньких обоев на стенах, парение в невесомости лестничных пролетов, груды битого кирпича, цементные мешки вповалку, глиняное месиво под ногами, сверкающие оскалы японских минитракторов, симметричный росчерк арматурных сеток – и вся эта ремонтная куча-мала забрана в жесткие корсеты суставчатых металлических лесов.
Ничем прежним не пахнет – пахнет цементом, соляркой, землей.
Нужный мне особняк слегка будто бы отпрянул, отодвинулся от разрухи вглубь квартала. К нему вела выстеленная рифлеными каменными плитами дорожка, стиснутая газонами, забранными в белый арматурный камень.
Мягкие пастельные тона стен, кованые решетки на окнах, кованое медное крылечко с покатой крышей.
Я подергал дверь – она не ответила на мое приветствие, не шелохнулась.
Я поднял глаза и встретился взглядом с маленькой телекамерой. С минуту мы состязались в детской игр "кто-кого-переглядит", и я проиграл. В приличном обществе принято не стучать в дверь, а пользоваться услугами пульта связи. Нажал кнопку. Знакомый протокольный голос допросил, кто я такой, в чем состоит цель визига, есть ли при мне сумка или портфель. Мы быстро утрясли таможенные формальности, дверь цыкнула и плавно отворилась.
Я очутился в уютном холле; бросил куртку на вешалку, сплюнул в кадку с экзотическим цветком.
Дверь налево. Крохотная комнатка: журнальный столик, на нем пара бутылок пепси, сигареты, пепельница; два глубоких кресла, запах синтетики, кофе; и впечатление, что где-то неподалеку упорно трудится кондишн.
– Прошу вас! – сказал динамик, встроенный в стену.
– Да ради бога! – сказал я динамику и вошел в приемную.
Белый стол на металлических хромированных ножках, компьютерный монитор, какой-то пульт с множеством кнопок, электронные часы, пара телефонов, стопка папок и – хозяйка стола, барышня лет двадцати восьми: строгий твидовый костюм, минимум косметики, аккуратная стрижка плюс рафинированная стерильность.
Где-то тут должна по логике вещей заваляться традиционная перламутровая американская улыбка.
Нет, не завалялась.
– Вас ждут, – обдала меня холодом секретарша.
– Это прекрасно!
– Простите? – переспросила она.
Я объяснил: знать, что кто-то где-то тебя ждет – это уже само по себе неплохо.
Она легким, скупым кивком обозначила направление движения – кабинет генерального директора.
Он поднялся из-за стола и улыбнулся:
– Привет!
– Привет, Катерпиллер, – сказал я, – только не надо вот этого... Сколько лет, сколько зим!.. Сам ведь знаешь: всего одна зима.
В самом деле – между нами стояла зима. Говорили, она будет голодной, злой, холодной и свирепой – именно такой, какая и нужна люмпену.
Я не могу понять, отчего мы держим люмпенов за психов.
Вот я – люмпен.
Но мне не нужна ни стужа, ни голод; всю зиму я радовался, что погода стоит кислая и слякотная, почти осенняя.
А перед этим осень была – скользкая, серая, одетая в улиточную слизь – не время года, ей-богу, а улитка в кирпичной раковине.
Под стать сумеркам в природе и обстоятельства мои складывались сумрачно – в тот день, когда мы пересеклись с Катерпиллером в Орликовом переулке, меня выгнали с работы за грубость: я назвал одну из клиенток стельной коровой.
Жаль... Славная работа – я был тапером в "зойкиной квартире".
Собственно, это бордель. Но, в отличие от обычного борделя, там употребляют не мужики барышень, а барышни – мужиков.
Обставлено заведение было в лучших традициях купеческого ампира: тяжелый малиновый сироп плюша стекает на подоконники, старательно гнется гнутая мебель венских кровей, сыпятся хрустальные брызги с огромной люстры, бликует белоснежный "Petroff" в углу, стены драпированы шелковой тканью – словом, антураж вполне комильфо, как и положено гостиной зале. К тому полагается: шампанское, фрак плюс белые перчатки, Шопен. Шампанское – богатым бабам, фрак – мужикам, а Шопен – это уже наша с "Petroff"ым забота. Посетительницы платили за все: за напитки, за тщательно отлакированную внешность сотрудников, их приятные манеры, ужин при свечах, сопровождаемый моими музыкальными экзерцициями – впрочем, это комильфо подавалось в качестве аперитива, а настоящие напитки лились уже в отдельных будуарах.
Возможно, по внешнему впечатлению эта жизнь и выглядела легкой, порхающей, но на самом деле ребятам приходилось туго – они жаловались мне, что клиентки, дорвавшись до будуара, ни в чем себе не отказывают и требуют отрабатывать гонорар до последней копейки, причем демонстрируют изобретательность такого класса, что Чиччолина, окажись она здесь, в компании наших крутых бизнес-баб, смотрелась бы первоклассницей, читающей сексбукварь по слогам, тогда как все вокруг заняты высшей – математикой.
Заведение помещалось в старом, еще дореволюционной раскройки доме, и самое смешное, что хозяйку действительно звали Зоей. Зоя Сергеевна, дама лет сорока, приятная во всех отношениях.
Встречаются имена, само звучание которых провоцирует ассоциативные фантазии: ну, например, Варвара – это, как еще классик унюхал, есть нечто мужиковатое, грубоватое, да к тому же еще и рябое. В имени Зоя присутствует острое, жужжащее, осиное начало – 3-з-з-оя! – поберегись, а то напорешься на жало! Наша Зоя вполне соответствовала ассоциативной подоплеке имени – короче говоря, была стерва. Только законченной стерве придет в голову называть мужской половой орган настолько трогательно – "зизи" – и самым тщательным образом тестировать кандидатов в сотрудники.
Чтобы заполучить должность, требовалось приблизительное знание манер света, то есть: не рыгать в обществе, не сморкаться с треском, не ковырять спичкой в зубе - однако и это в конце концов мелочи. Проходной балл в конечном итоге обеспечивал именно "зизи" – его размеры, формы и другие понятные наметанному женскому глазу достоинства.
Зоя запиралась с претендентом в комнате – как-то раз мне случайно пришлось присутствовать при этой процедуре. Парень стоял без штанов и глядел в потолок. Зоя сидела в полуметре от него на стуле в той характерной позе, в какую закован шедевральный мыслитель – впрочем, Зоя позаимствовала у Родена не столько позу, сколько общее настроение: взгляд у нее был такой, как будто в созерцании "зизи" она постигала некие философские тайны.
Принимая меня на службу в качестве тапера, она – скорее всего по инерции – пожелала оттестироватъ и меня; ее претензии я вежливо отмел, сославшись на то, что кондиции "зизи", возможно, и сказываются на качестве музыки, но в конечном счете играют на фортепьяно не этим. Она неохотно согласилась.
Тетки к нам захаживали в большинстве своем закомплексованные, скобареватые, с типично торгашескими привычками и голосами, но душевные, что характерно, и почти сплошь замужние – мне их бывало даже жаль. Но однажды заявилась чудовищно вульгарная баба. Она крепко набралась за ужином при свечах и все норовила усесться мне на колени; я ей вежливо указал на то, что между мной и "Petroff"ым возможен посредник, но это – на крайний случай – будет нотный лист, а не ее, стельной коровы, задница. Поднялся крик, началось битье хрусталя – одним словом, наглую бабу вывели обрадованные мужики. Но меня в результате отлучили от должности тапера, а жаль... Я успел полюбить – тяжелые глухие гардины, белоснежного "Petroff"а и этих несчастных баб.
В память об одной из них у меня остался магнитофон – прекрасный "филипс". Обстоятельства, связанные с этим приобретением, я до сих пор вспоминаю с легкой дрожью в коленях. Дело было за неделю до печального инцидента с битьем хрусталя. Отыграв программу и проводив расползавшиеся по апартаментам пары пенящим кровь маршем Радецкого, я попрощался с роялем до завтра, закурил и краем глаза отметил, что в дверях маячит мадам Зоя. Она ласково поманила меня пальцем.
Выяснилось, что мне придется немного поработать ("В порядке исключения... – мадам Зоя кашлянула в маленький кулачок, – сверхурочно!"). Тон, которым она высказала свое пожелание, не оставлял никаких сомнений относительно того, что речь идет не о польке-бабочке, а как раз о "зизи": кто-то из теток требует именно меня. Такого рода сверхурочные услуги лежали вне пределов наших договоренностей, однако шутки ради я согласился, выторговав себе полное алкогольное довольствие штатных наших жеребцов; вылил почти целую бутылку шампанского, натянул белые перчатки – и отправился на службу.
То ли мечущая искры энергия игристого напитка взорвалась во мне безудержным приступом хохота, то ли в самом деле это выглядело просто уморительно – точно не помню.
Если великий семнадцатый век чем-то еще и отзывается в нашем бездарном двадцатом, то – именно такими женщинами: она просто вывалилась из рубенсовского полотна, и, сохраняя все здоровые соки и пышные кондиции оригинала, возлежала на кровати, приподнявшись на локте.
Наверно, я до гробовой доски сохраню в себе это впечатление: передо мной было не тело.
Это был торжественный гимн телу; он звучал монументально, мощно, во все оркестровые трубы, скрипки, литавры, органы – и даже где-то на задах этой могучей музыки гудел, как мне почудилось, китайский гонг.
Потеха состояла не в теме, а в аранжировке.
Она аранжировала симфонию природы каким-то немыслимым, типично проститутским орнаментом: пояс, чулки с резинками и что-то там еще из традиционной рабочей спецодежды профессиональной потаскушки – то ли шелковое, то ли батистовое.
Потом она мне рассказывала, что ей запало в душу, как я "перебираю пальцами" – ей-богу, она так и выразилась. Мы выпили для разгона приятной беседы чего-то крепкого, потом еще и еще, так что перипетии развития наших отношений я вспоминаю очень туманно, зато в момент пробуждения у меня складывалось впечатление, будто я по-пластунски, на брюхе – строка за строкой, страница за страницей – прополз через всю пикантную лимоновскую прозу.
Выяснилось, что она записывала ночную музыку на магнитофон и хочет оставить мне кассету – на память. Подумав, она махнула рукой: "А-а-а, забирай все вместе, с аппаратом!".
...В Орликовом тихо тлели эмоции маленького дорожно-транспортного происшествия: пыльный автобусик с подмосковным номером вскользь шаркнул по лакированной скуле "ниссана" – в крыле цвета сырого асфальта белели свежие ссадины. У автобусника было такое лицо, как будто его собирают к эшафоту – батюшка отдолдонил молитву, и пора выходить; водитель "ниссана" – молодой, с идеальной стрижкой, в идеальной белой сорочке, в ворот которой впился идеальный галстучный узел, – изящно курил в ожидании гаишников, а с заднего сидения, кряхтя, выбирался из комфорта салона в дискомфорт улицы человек в длинном (сказать бы – долгом...) пальто, болотный цвет и свободная линия которого однозначно намекали: мы, болотно-свободные – дороги и за рубли не продаемся. К этим намекам присоединялись черная, как южная ночь, рубашка и белый, будто только-только побеленный, галстук.
Виноват, конечно, автобусник – за поцарапанное крыло с него слупят столько, что еще долго он будет сыночку напевать: "Кушай, Вася, тюрю, молочка-а-а-то не-е-е-ту..."; он растерянно переминался с ноги на ногу и сухо кашлял в кулак.
Да что ж это в самом деле у нас – эпидемия чахотки?
В глазах его стояла просьба о помиловании, но его, пыльного, серого пейзанина в кирзовых сапогах и солдатском бушлате, миловать тут никто не собирался... Эти люди все чаще стали появляться в городе; они производят впечатление живых организмов, из которых выпустили воздух, слили на землю их горячую когда-то кровь, и все жизненные силы ушли из них, испарились вместе с тяжелым каторжным потом – от человека остался пергаментный фантик, в который обернуты одеревеневшие мумии.
Человек в болотном пальто обернулся.
Узнал я его не сразу; он изменился со школьных времен – и в лучшую сторону – он дозрел наконец. Кое-кого из одноклассников мне приходилось встречать в последнее время; нельзя сказать, что эти встречи поднимали настроение: лучше бы эти люди оставались к прошлой жизни, где девочки были девочками, где их талии были туги, резиновы, а их лица пахли персиком и глаза имели отчетливый цвет. Оставались бы там и мальчики – мальчиками, жилистыми, упругими... Девочки оплыли, их лица теперь пахли кухней, половой тряпкой, а глаза поблекли; мальчики сгорбились. Катерпиллер смотрелся в этом унылом ряду усталых персонажей приятным исключением.
Существует несколько слов, смысл которых я до конца так и не в состоянии расколоть.
Одно из них – "чернявый". Сказать бы – черный. темный; характер этих устойчивых, жилистых, скуластых слов, возможно, и грубоват, но зато отличается определенностью. А чернявый? Лизни его, попробуй на язык – почувствуешь во рту легкую приторность; на взгляд это нечто скользкое, набриолиненное, – виной всему, видимо, червоточина подленького "я-я-я-я" в самой сердцевине слова, которое, ко всем его достоинствам, еще и пахнет – подмышками.
Катерпиллер был именно такой – на вкус, взгляд и запах – он был чернявый. Худ, угловат, даже слегка сутул; он, тонкокостный, очерченный торопливым, неряшливым штрихом графического угля, мальчик – от первого класса и до последнего – скрывал в себе хрупкую душу саженца; десять весен прошли впустую, так и не сумев переплавить ее в сердцевину настоящего крепкого дерева.
Трудно теперь сказать, как и почему к нему пристало это прозвище – Катерпиллер; его звали хорошим именем Федор, но к старшим классам это имя уже никто не вспоминал.
Наверное, я был перед ним виноват: я его не замечал. Катерпиллер всегда находился немного на отшибе. Теперь я понимаю, что он не сам себе выбрал это скромное место – он был отжат, отодвинут в сторону; не имея ни тайного намерения, ни злого умысла, я его отодвигал на второй план. Я хорошо играл в футбол, а он на поле производил впечатление механического человечка, у которого разболтался вестибулярный аппарат. Я нырял с мостков в Москва-реку, а он боялся воды. Мне везло в "буру", в "секу", а он вечно пролетал; мы испытывали симпатию к одной девочке – девочка отвечала взаимностью мне. Потом я сделался хиппи, и стал своим человеком в "системе"; летом со всей нашей лохматой компанией мотался в Гурзуф или Коктебель. А его "система" всерьез не принимала. Я прошел в университет, а он с грехом пополам пристроился в каком-то заштатном полумосковском институтике, кажется, кооперативном.
Я отлип от столба, подошел к машине.
– Вот и ты, наконец, надел черную рубашку, – сказал я.
Он прищурился, неловко сыграв сцену недоумения, – на самом деле он тоже узнал меня сразу.
– М-м-м... – улыбнулся он. – Ты и это помнишь?
Статус "человека-на-отшибе" иногда оказывался выгоден: помнится, в годовщину смерти Ремарка мы всем классом напялили черные траурные рубашки и вот такими чернорубашечниками заявились в школу; вспыхнул скандальчик, грянули разборки по комсомольской линии. Катерпиллер не пострадал и потом оправдывался, что насчет траурной униформы его не предупредили.
Возможно, так оно и было.
– А ты не изменился... Все вспоминаешь фрау Бекман?
– Теперь каждый культурный человек обязан иметь в виду судьбу фрау Бекман!*[11]
Прошуршали гаишники на BMW. С чувством, с толком, с расстановкой они принялись готовить автобусника к эшафоту.
На прощанье я вручил Катерпиллеру визитку. Эти визитки мне подпольно и по большой дружбе изготовили девчата из типографии – еще в то время, когда я работал в газете. Фамилия, должность, телефон – все как полагается.
Должность в визитке была обозначена просто и без затей: "Хороший парень".
Катерпиллер, не глядя на текст, погрузил "Хорошего парня" в карман пальто – я успел подумать, что это символично.
– Ты, стало быть, все по-прежнему трудишься "Хорошим парнем"?
Я присмотрелся к нему. Средний рост, плотное сложение, аккуратный зачес, нос прямой, обычный, лоб высокий, чистый, лицо овальное, особых примет нет.
Вернее сказать, не было – прошлой осенью, но теперь особая примета освежала лицо – острый клинышек бородки. Изо всех мыслимых и немыслимых фасонов Катерпиллер почему-то избрал эту, пойдя в русле чисто эсдэковской манеры драпировать вялые подбородки остренькой бородкой *[12].
Катерпиллер откатился от стола на вертлявом, подвижном стульчике, закинул ногу на ногу, кивнул на мягкое кожаное кресло. Я осмотрелся. Стены обшиты деревом, два стола, рабочий и заседательский, ничего лишнего. На краешке рабочего стола – литровая бутылка минералки, стакан и книга. Книга лежала титулом вниз, но я ее узнал. Это был сборник детективных рассказов. Его тиснула гигантским тиражом одна частная контора – пару лет назад. Теперь эти ребята разбежались, сняв на таких книжечках трехсотпроцентную прибыль, – и правильно сделали. Недавно я встретил шефа этого пиратского издательства, и он мне объяснил, что по его скрупулезным расчетам единственный вид издательской продукции, которая ныне продолжает удовлетворять нормам рентабельности, является производство винных наклеек.
Редсовет…………
Алк. – 18. об.
Сах. – 7%
Я тут же попросился в редакторы этого издания.
Я убеждал его, что создать высокохудожественную, отвечающую тонкому литературному вкусу винную наклейку, – это все равно что выпустить книжку толстого журнала. Для начала необходима редакция винной наклейки: редакторы, художники, авторский актив, литконсультанты; необходимы отдел рукописей и секретариат. И хорошо бы сделаться чьим-нибудь органом.
Издатель обещал подумать, а я обещал составить эстетическую программу и подобрать солидный редсовет.
Катерпиллер перехватил мой взгляд.
– Вот именно! Я хочу предложить тебе работу.
– Мыть полы? Водить представительский автомобиль? Вставлять в офисе стекла?
Он покачал головой, достал платок, промокнул вспотевший лоб.
– Душно что-то... – поморщился он. – О чем это мы? А... Нет, ты меня не понял. Это будет работа по специальности.
– Это смотря какую специальность иметь в виду!
В самом деле, у меня много специальностей. После университета я отбыл двухлетний каторжный срок в общеобразовательной школе*[13].
Кроме того, у меня есть специальность дворника*[14].
В каком-то смысле я газетчик*[15].
Из газеты я ушел работать в морг, где мыл трупы. Это была страшная тошниловка, но все же поприятней, чем газетчина.
Потом я трудился "кормильцем": в больнице кормил стариков, которые сами были уже не в состоянии есть Впрочем, они уже и жить были не в состоянии. Мне платили двести рублей в месяц. Оттуда-то я и попал в зойкину квартиру, где честно барабанил на "Petroff"е то что мне нравилось или что просили осоловевшие работницы прилавка. Последнюю мою должность можно было назвать "уборщик квартир". Два раза в неделю мыть полы, протирать пыль, ополаскивать грязную посуду сосать пылесосом все, что собирает пыль, – хозяевам каким-то коммерческим людям, было недосуг: они вечно куда-то неслись, возвращались домой заполночь; им было проще отдать тысячу и не иметь горы грязной посуды в раковине, тараканьи бега – на кухонном столе мокриц – в кофейных чашках и склоку – в супружеской постели. На этой должности я протянул недолго: во-первых, далеко ездить, в Ясенево. А во-вторых в этой квартире однажды в шесть утра взорвали динамитом дверь – никто, к счастью, не пострадал, но я счел нужным держаться от таких веселых обиталищ подальше.
– Так в чем у вас тут дело? – спросил я. – Тебе кто, собственно, нужен? Мойщик трупов или кормилец?
– Да вот в этом дело... – Он расслабил галстучный узел, расстегнул ворот рубашки и прихлопнул ладонью книжечку; там под дрянной шершавой бумажной обложкой покоились пара моих переводов и, кажется, коротенькое предисловие, замешанное на чистом надувательстве: я пробовал убедить читателя, что боевик есть чисто литературный жанр, требующий скрупулезной работы. На самом деле триллер только тогда хорош, когда он не написан, не изваян, не выстрадан, – и так далее, а когда он – склепан; хорошо, прочно склепан стальными заклепками.
– Знаешь, у меня совсем нет времени для чтения... Это... – он пустил страницы веером, – так, на сон грядущий. Попалось под руку случайно, сейчас ведь полно такой литературы*[16]. И вот мне пришла в голову одна идея...
– Да, – согласился я. – Сейчас этих триллеров полно. Иначе и быть не может.
Он налил полный стакан минеральной воды, залпом выпил, отдышался.
– Это почему?
– Такова логика нашей жизни... Ничего, кроме бое вика, человек сейчас просто ни в состоянии воспринять... – я взял со стола книжечку, тоже пустил страницы веером. – Литература всегда была для нас не столько чтивом, сколько средой обитания. Теперь эта среда из меняла русло и потекла в жанре триллера. Всем остальным жанрам придется подождать*[17].
Катерпиллер расстегнул еще одну пуговку, подергал ворот рубашки – характерный жест человека, желающего слегка освежить вспотевшую грудь; налил себе минералки, на его висках вспухли крохотные капелью пота.
– У тебя температура? – спросил я.
– С чего ты взял? – удивился он. – А-а-а, это... Да, накатывает что-то временами. Я и сам не пойму. Вдруг ни с того ни с сего – душно делается. Как в бане. У тебя такого не бывает? Топят, что ли, у нас чересчур?
Катерпиллер выдерживал паузу и покусывал длинный, тщательно отманикюренный ноготь мизинца.. Надо бы ему при случае заметить, что этот ноготь на мизинце – дефект образа, моветон.
– У нас в фирме что-то не так, – сказал он и поглядел в окно; взгляд у него был отсутствующий. – Я не понимаю, что именно не на месте. Просто чувствую... Чутье у меня, как у легавой.
Про себя я отметил, что он лукавит. Если у тебя хватило денег на шикарный офис в Замоскворечье, то наверняка осталась кое-какая мелочь, чтобы нанять кэгэбэшников для дознания или десантников для охраны. Хотя с бывшими десантниками уже возникают проблемы - наверное, все запасники уже служат где-то "алексами".
– Догадываюсь, о чем ты думаешь, – Катерпиллер подкислил улыбку саркастической интонацией. – Однако в нашем случае мы имеем дело с чем-то нетривиальным.
Он встал, скинул пиджак, бросил его на стул, подошел к окну и включил кондиционер, заложил руки за спину, прошелся по кабинету. Потом присел на соседнее кресло, покосился на сборник детективных рассказиков.
– Тут в предисловии есть одна занятная мысль...
– Да ну! – удивился я. – Хорошо, что хоть одна нашлась.
– Брось! – отмахнулся Катерпиллер. – Ты знаешь, о чем я.
– Нет, не знаю.
– О путанице... О том, что мы часто не разбираем, где кончается литература, а где начинается реальная жизнь. И наоборот. Вообще это, знаешь ли, повод... – он, кажется, собирался развивать эту мысль, и мне пришлось его прервать на самом старте глубокомыслия.
– Ради бога, не надо делать умное лицо, не надо... Мысль-то неоригинальная. Я ее просто позаимствовал из какого-то текста. На этом приеме, собственно, стоит вся наша гуманитарная наука, – я поудобней устроился в кресле и закурил, не обращая внимания на сдержанное покашливание Катерпиллера, намекавшего, кажется, что курить у них не принято.
Катерпиллер бросил взгляд на стенные часы, давая понять, что нам пора переходить к делу. Замечательные у него часы – они аккуратно вписаны в стену на уровне двух человеческих ростов. Цифр нет – их заменяют четыре тонкие хромированные занозы, впившиеся в стерильно-белое поле времени; острая секундная стрелка короткими толчками насекает суточный цикл на мелкие щепки секунд. Впрочем, это его время вот так аккуратно закруглено и заковано в рабский хромированный ошейник, мое пока – свободно.
– А что касается путаницы... Так ведь мысль вторична, она вторична в кубе уже тысячу лет – с тех пор, как существует наша словесность. Наверное, первым великим мистификатором в этом смысле был сам Даниил Заточник... А черту под этими гениальными мистификациями подвел Брюсов – по-моему, он очень толково объяснил корни всех наших несуразностей.
– И в чем же эти корни?
– "Быть может, все в жизни – лишь средство для сладко певучих стихов!" Все верно. Сама по себе жизнь имеет у нас значение лишь как материал для литературы.
– Ну это когда было! – усмехнулся Катерпиллер.
– Да как сказать, как сказать... Слушай, ты чего делал, когда у нас тут разворачивался августовский путч?
По-видимому, Катерпиллер не ожидал такого поворота в разговоре; он поднял глаза в потолок – наверняка соображал, как бы поживописней соврать: мол, был на баррикадах, у костров...
– Да я не о том! – успокоил я Катерпиллера. – Тебе не кажется, что история о том, как Борис Николаевич вызволял из Фороса Михаил Сергеича – она за пределами реальности? По-моему, это просто коллизия из какого-то романа.
Дверь плавно зевнула – в кабинет всплыло существо, сошедшее к нам прямо с потных подмостков конкурса красавиц. У нее было очень эффектное и очень глупое лицо, в котором стояла эстрадная улыбка; достаточно вольный для официальной конторы туалет – вырез в кофточке, расчерченной красно-белыми штрихами, стремится за грань нормы; подбородок приподнят, поднос в руке движется по идеальной прямой, не приседая в такт восхитительно раскаченной походке. Впрочем, рост немного не вписывается в выставочный канон – до стандарта не дотягивает.
– Кофе, разумеется? – осведомился Катерпиллер деловым тоном. Он даже не взглянул в сторону выреза, зато заглянул я и оценил все, что у этой дурехи хранится за пазухой.
– За что люблю буржуазию – так вот за это. В подборе и шлифовке кадров она знает толк: постная деловая девушка в приемной – селедка в твидовой чешуе – смоделирована очень точно. Равно как и эта, приносящая кофе. Если первый персонаж напрягает, то второй замечательно расслабляет. А где же третья девушка?
– Не понял! – нахмурился Катерпиллер.
– Быть принятым – раз. Выпить – это два. Кого-нибудь употребить – это три. Таков полный комплекс желаний, которые я испытываю, приходя в гости*[18].
– С молоком? – осведомился Катерпиллер.
– С коньяком...
Он повел глаза вверх и вбок, барышня поймала его взгляд и медленно двинулась к двери. Она так восхитительно раскачивала бедрами, что я даже предположил:
наверное, этот персонаж совмещает в фирме сразу два "гостевых" желания: второе и третье.
Через минуту к нашему столу причалил и отдал швартовые очередной поднос: грузинский, три звездочки, с голубой наклейкой (сто лет не видел...), шарообразные рюмки – свою я отодвинул.
– Стакан, дорогуша, стакан...
Эстрадная улыбка треснула.
– Это как раз в русле нашей беседы. Наверное, в конторе найти граненый стакан оказалось делом непростым – она отсутствовала минут пять, но все-таки нашла. Я налил до краев.
Мне начали надоедать наши разговоры, я прикинул про себя: выпью все, что тут есть в закромах, и смотаюсь.
Я осторожно поднял стакан и донышком аккуратно прикоснулся к краю Катерпиллеровой рюмки.
– Давай выпьем. За ошибки переводчиков!
Катерпиллер скуксился, изобразив поджатой губе разочарование. Коньяк был хорош: доза в двести весомых граммов вкатилась в меня, как шар в лузу.
– Ты меня не понял... Знаешь, откуда у нас взялась мода хлестать коньяк стаканами? Она проросла как раз-таки из литературы. Строго говоря, это следствие тривиальной переводческой ошибки. Некто такой Володя Высоцкий – бывают же такие совпадения в именах! - он был переводчик, еще в начале века. Чудный парень по свидетельству современников, веселый и красивый И вот, переводя как-то Пшибышевского, он оплошно поместил в русский текст слово "стакан". В оригинале – конечно же, "рюмка". И все общество, слабо разбирая, где кончается пространство литературы и где начинается сама по себе жизнь, приохотилось лакать крепкие напитки стаканами.
– И что?
– Он чуть было не сыграл в ящик.
– Кто? – не понял Катерпиллер.
– Да этот Высоцкий. Он так увлекся собственной ошибкой... Ему нельзя было. У него были слабые лег кие.
Катерпиллер оттопырил мизинец, приподнял рюмку.
– Это как раз то, что мне нужно.
Я поплыл – качественный напиток натощак дает с себе знать быстро – и уже слабо понимал, о чем у нас речь. Закурил, залпом выпил кофе; кофе немного привел в порядок строй мыслей.
Этот строй слегка покачнуло шальное предположение – если оно окажется верным, значит, я в Катерпиллере сильно ошибался: он гораздо умней, тоньше и изысканней, чем прикидывается... Я осторожно двинулся вперед, прощупывая почву под шальным предположением.
Он явно встревожен. Стало быть... Тебе, стало быть, надо обнаружить источник этого беспокойства, так? Тот нервный центр, откуда исходит импульс?
Ей-богу, меня это начало занимать! Если он в самом деле исходит из предположения о вечной перепутанности пространства жизни и пространства литературы, то, стало быть... Стало быть, он не настолько прост, как мне казалось. Стало быть, он что-то желает получить от меня. Что? Конечно, не квалифицированное прокурорское расследование. И не систему энергичных мер – в духе сыщиков из МУРа, И не схему охраны.
– Это что-то серьезное? Насколько это серьезно?
– Я давно чувствовал: что-то вокруг нас не так... А вчера ... – У него было лицо человека, испытавшего приступ острой зубной боли, – вчера пропал наш... Как бы это тебе объяснить? Знаешь, что такое ньюс-бокс?
– Ну, имею кое-какое представление... Ньюс-боксы существуют в газетах. Ящик, битком набитый новостями.
– Вот-вот! – заметил Катерпиллер. – Вместилище всего потока оперативной информации – обо всем, что происходит вокруг нас и может нас касаться.
– Это может быть компьютер...
– Естественно! – усмехнулся Катерпиллер. – При одном условии. У этого компьютера должен быть особый человек – с чутьем легавой и хваткой волка, понимаешь? Это и есть Борис Минеевич... И он пропал. А без него я – как без рук. Он крайне необходим. И чем быстрее он найдется, тем лучше. Он должен быть здесь, рядом. Всегда...
Я предположил: запой? Катерпиллер отмахнулся: исключено... Загул? Девицы? Любовница?
– Исключено, исключено... – Катерпиллер старательно разминал виски.
Устал, все надоело, сбежал в деревню к старушке матери, в глушь, в Саратов?
– В Вятку, – поправил Катерпиллер. – Но это тоже исключено.
Мы умолкли. Я курил, он рассеянно глядел, как стрелка наручных часов (очень скромные внешне, но, скорее всего, очень дорогие) щекочет пятки цифрам.
– Понимаешь, я чувствую – вокруг напряг...
– Кто-то из фирмы?
– Исключено.
– Компаньоны?
– Нет, вряд ли... Исключено.
– Женщина?
– Ай, брось!
– В таком случае, кто-то из нас псих – либо ты, либо я.
– Если тебе так хочется, пусть буду я...
– То есть мне надо попробовать сконструировать некий текст? И текст нас вытащит на главного героя? Именно на того, кто тебе не дает спокойно спать? И всего-то?
– Но, кажется, ты ведь уже приступил? Ведь мы уже набросали первую страницу, ведь так?
Он допил, поставил рюмку на поднос, я подлил себе – чисто символически, чтобы собраться с мыслями.
– Тебе известно, что труд сочинителя – труд каторжный?
Он усмехнулся, да и я не удержался, прыснул *[19].
– Сколько? – сухо осведомился Катерпиллер и снова промокнул платком влажный лоб.
– Да ерунда. Текущие расходы, кредит – в рамках разумного.
– Нет проблем.
– Ну там... Визитка от фирмы. Скажем, консультант, Консультант? Это хорошо, это нормально. Солидно, но ни к чему не обязывает.
– Нет проблем...
– Автомобиль...
– Нет проблем.
– Деловая документация, контракты, договоры, протоколы - текущие и потенциальные. Я понимаю, информация конфиденциальная, но...
Он напрягся, налил минералки, выпил.
– В таком случае, пока! – я встал, меня сильно пошатывало. – Мы не сговорились, – я двинулся к выходу.
– Ладно, черт с тобой.
Я вернулся, уселся в кресло, где уже освоился, присиделся. Закурил. Медленно прокрутил в памяти наш разговор – что-то здесь было не так.
– Слушай, Федя, давай не крути...
– Мы, кажется, все обсудили?
– Это понятно, сочинять так сочинять... Дело, сказать по правде, нехитрое, незатейливое – потому и сочинителей у нас пруд пруди. Но ты позвонил именно мне.
Он отпил глоток, промокнул платком потный висок. Взгляд у него был холодный, тяжелый.
– Ну, во-первых, мы в некотором роде свои люди, не так ли? – Он откинулся на спинку кресла, отвернулся к окну и тихо добавил: – Ко всему прочему, ты ведь хорошо стреляешь, если не ошибаюсь?
Ну ничего себе! Нет, он не ошибается, когда-то под нашим старым добрым небом я целыми днями пропадал на стрельбище; палил по летящим тарелкам и "дорос" до первого разряда. Однако Катерпиллер – персонаж современного жанра. Если у них возникает потребность в стрельбе, то вряд ли в качестве мишеней они выбирают тарелочки.
– А что, это сочинительство будет связано с пальбой по мишеням? По каким? По живым?
Он усмехнулся и покачал головой:
– Нет, конечно!.. Но мало ли что может случиться в нашем деле. Жизнь такая... Сам понимаешь.
Понимаю: не жизнь, а совершенный Хэммет.
Мне в самом деле нравится эта работа. За здорово живешь я получил деньги, машину, полную творческую свободу, возможность лежать на диване, глазеть в окно – то есть, как раз возможность вынашивать замысел и при этом не мучиться по утрам головной болью где бы раздобыть денег на жратву.
– Будем считать, мы с тобой оформили издательский договор! – Я допил коньяк и двинулся к выходу.
У двери я помедлил, оглянулся – он сидел на своем месте, утирал влажный лоб платком и обмахивал лицо газеткой.
– Хочешь, поделюсь с тобой одним профессиональным наблюдением? – спросил я. – Одно время я работал мойщиком трупов...
– Балбес! – Катерпиллер поперхнулся.
– Да нет, серьезно, – спокойно продолжал я. – Так вот. В твоем кабинете, строго говоря, стоит такой же колотун, как в покойницкой.
В ту же ночь я получил резиновой дубинкой по башке.
Это была именно резиновая дубинка.
Момент удара я не видел – меня стукнули по затылку – но прежде, чем ткнуться лицом в землю, я успел сообразить, чем именно воспользовались, чтобы уложить меня.
Когда-то под нашим старым добрым небом резиновой дубинкой владел один-единственный мальчик из всей дворовой шараги, его звали Хэха; ни имени его, ни фамилии никто не знал – Хэха и Хэха.
Хэха: плотное сложение, квадратный торс; он мог бы выглядеть атлетом, если бы не патологическая – на грани уродства – коротконогость и маленькая, вытянутая тыковкой головка.
Он был крайне неразговорчив; нормальные человеческие слова в нем не жили, а все отдаленно напоминавшие человеческую речь звуки, что квартировали в его хрипящей глотке, вся палитра чувств, знаний и эмоций размещалась в этом характерном, раздробленном хрипотцой возгласе:
Скорее всего, потому его и звали Хэха.
Он жил возле железной дороги, в длинных дощатых бараках, заселенных барачными людьми, и был он прост, храбр, добродушен, готовился в первую "ходку". (А куда ему деваться?.. Все тамошние, барачные, либо уже сидели когда-то, либо сидели в тот момент, либо готовились сидеть; похоже, они и детей рожали с тайным умыслом пополнить каторжное племя, и эта устойчивая походка судьбы была отпечатана в их тяжелых квадратных лицах) и владел большой ценностью – тяжелой резиновой дубинкой, залитой свинцом..
Однажды – по ошибке – в суматохе рукопашного боя с кодлой из квартала строителей мне довелось испытать на себе действие этого снаряда; впечатление сногсшибательное, его я сохраню до конца своих дней. Зерно этого впечатления в том, что боль тяжела, тупа, ватна – ты погружаешься в вату и слышишь гул морского прибоя, как будто вместо ушей у тебя две огромные рапанные раковины.
Хэха так и не успел сходить в тюрьму, его убили на четырнадцатом году жизни – там, у них, неподалеку от железнодорожных путей. Его закололи ножом; он лежал на откосе, свернувшись уютным калачиком (мы видели – бегали глядеть издалека, пока не прибыли "воронок" и санитарная машина), а у входа в барак стояли распаренные, разваренные в чаду общей кухни женщины; они не кричали, не голосили и не перешептывались, они молча вытирали влажные руки о свои замызганные фартуки... Таковы уж женщины бараков; они давно разучились удивленно распахивать глаза на этот мир; они начинают увядать уже в тот момент, когда женщине самой природой положено цвести, распускаться и наливаться соком; годам к двадцати их талии теряют значение талий, их груди отвисают, а в лицах расплывается овечье безразличие ко всему тому, что составляет жизнь женщины, и потому по ночам они лениво плывут в потных потоках грубой любви и сонно, свернув голову на бок, отдаются угрюмой ярости мужей, жаждущих скорого, бессловесного совокупления. День за днем они медленно линяют внешне и ветшают душой, и потому даже чья-то смерть, встающая вдруг в полный рост перед ними, не способна разбудить в их груди крик горя или стон отчаянья – они привыкли сопровождать жизнь молчанием.
И они молчали, машинально вытирая влажные руки о фартуки, а Хэха лежал в колкой траве, иссушенной солнцем; он очень смирно лежал, свернувшись калачиком, и напоминал спящее дитя – скорее всего, и я вот так же лежал в грязи, прежде чем пришел в себя.
Я честно приступил к исполнению служебных обязанностей, едва ступил за порог конторы.
Скорее всего, секретарша по монитору следила, хорошо ли я веду себя в качестве консультанта фирмы.
Она мне действовала на нервы, эта селедка в твидовом костюме.
Отдалившись от кованого крылечка ровно настоль ко, чтобы не пропасть из поля зрения телеглаза, я смачно, с треском высморкался, не прибегая к помощи платка. И для порядка энергично повстряхивал кисть, как бы желая стрясти с пальцев насморочную влагу, как это делают все, привыкшие прочищать нос таким незатейливым способом.
По-моему, у меня получилось.
Я подумал, что если в этой конторе приживусь, то обязательно при первом же удобном случае ее трахну. Не оттого, что она произвела на меня впечатление, а просто из вредности: я употреблю ее грубо, агрессивно, зло и грязно – нечего строить из себя бог знает что.
Я обогнул особнячок, покручивая на пальце ключи.
Мне было предложено на выбор: "тойота", не новая, из той, скорее всего, породы, что привозят наши морячки, или – просто "жигуль".
Я выбрал то, что просто.
У "тойоты" правый руль; с таким рулем я ездил всего пару раз и всегда чувствовал себя не в своей тарелке. "Жигуль" невзрачного мышиного оттенка оказался в полном порядке, только в руле чувствовался небольшой люфт.
Я запустил двигатель, тронул, проехал метров двадцать и встал – забыл нацепить "дворники". Было что-то около восьми вечера; основной поток служивого народа схлынул, переулок опустел – вот только в дальнем конце его, по соседству со стройкой, белел кузов грузового "москвича".
У ближайшего метро я остановился прикупить винца*[20].
Дело секундное, но, на всякий случаи, я решил запереть машину: теперь собственность нельзя оставлять без присмотра или защиты даже ни на секунду.
Замок тугой, проворачивался плохо – это я еще на паркинге заметил – и я немного замешкался. Этого промедления было достаточно, чтобы какая-то машина, резко вильнувшая из крайнего правого ряда и просвистевшая буквально в полуметре, окатила меня грязью. Я уже собрался послать ей вдогонку что-нибудь ласковое, вроде: "козел", "хрен моржовый" или "мудила гороховый" – но почему-то осекся на полуслове.
Перелезая через железное ограждение тротуара, у которого громоздились пластиковые ящики, я подумал, что почему-то этот автомобиль, который я видел краем глаза, мне знаком.
Точно! Это был тот белый грузовой "москвич", который сторожил край переулка.
Торговал вином парень в китайской пуховке: гладкая рожа, в которой растворен осадок четырехклассного образования, а все, что плескалось поверх осадка, было настояно на прозрачных, без посторонних примесей, бандитских наклонностях. Он с интересом наблюдал, как я распечатываю "котлету" – банковскую упаковку ассигнаций, полученную в конторе, и посасывал сигарету.
Загадка, тайна природы: отчего это все бандиты у нас предпочитают американские сигареты? Они быстро тлеют, ими невозможно толком накуриться, и к тому же тонкие, изящные дымы выглядят на фоне бандитских рож чем-то совершенно эфемерным, сокрушительно потешным.
– У меня там еще много, – сказал я, уловив его интерес к "котлете". – Там, в тачке, в багажнике. Я только что грохнул казино в "Национале".
– Бог в помощь, – улыбнулся бутлегер.
– Крупье там померещилось, что я неправ... Пришлось его застрелить. Завтра об этом будет заметка в "Московском комсомольце".
– Почитаем, – пообещал бутлегер.
Он сказал "почитаем", но я не уверен, что он сохранил способность воспринимать печатное слово. Их интеллектуальный порог, как правило, не выше видеоролика... Я взял у него "фаустпатрон" портвейна.
Остаток дня я просидел за столом. Честно работал, осмысливая варианты будущего текста. Малыми дозами вынимал из памяти все, что хоть как-то могло быть связано с новой службой; прошелся под ручку с Эдгаром По, но мы быстро распрощались, и каждый двинулся своей дорогой; Честертону я рассеянно кивнул – он милый человек, но в его руке не хватает остроты, его патер ходит задом наперед; на Бейкер-стрит был смысл задержаться – тамошний скрипач-любитель старомоден, но он жесткий конструктивист, а это может пригодиться.
Нужен именно набор конструкций – унифицированных, скелетно-жестких, очищенных от беллетристических мягкостей, строго отсортированных и разложенных по ячейкам. Не зря же все наше бытие – всего лишь литературный сюжет! Где-то за спиной интеллигентно подкашлянул Уилки Коллинз, но я постарался его не заметить; Акутагаву я не звал вовсе, но он объявился. В его лице стояла немыслимая восточная улыбка, имеющая, на мой вкус, значение раскаленной сковороды, на которую плеснули воды: улыбка тянет губы, но в глазах – стальной холод... Восток дело тонкое, слишком тонкое; его гениальная Чаща могла вырасти только на влажной азиатской почве, для наших же нечерноземов это никак не подходит. Я с пристрастием допросил Хэммета, Чандлера, Кристи, Гарднера, Джеймса, Жапризо, естественно, Чейза, Буало и Нарсежака, Стаута, Брауна, Томаса и кое-кого из современных ребят, которые с потрясающей скорострельностью шарашат покет-буки про Джерри Коттона и так далее. Уже к вечеру я имел неплохой патронтаж конструкций.
Потом я порыскал по национальным квартирам. Американцы – те без затей, англичане нудноваты, скандинавы заторможены; у немцев вообще нет детективного жанра; поляки слишком часто отсылают героев за границу и почему-то по большей части в Данию или Швецию; болгары прямолинейны, много курят "при исполнении". Чехи? У чехов, если соседка стащила у соседа курицу, это уже повод для детективной коллизии. Латиноамериканцы? Это слишком сложно, слишком вязнет в национальной традиции. Африканцы – отдельная история; они же как дети, африканцы, – в сюжетном монтаже, в характеристиках, в стилистике; у них все просто, мило и сказочно. Мы, кстати, глубоко заблуждаемся, отодвигая африканцев куда-то за пределы классического вкуса только потому, что они черные и будто бы недавно слезли с дерева – это предубеждение. Мне как-то случайно попался роман Тотуолы "Путешествие в город мертвых", и я долго не мог прийти в себя – фантазии у этого африканца хватило бы на сотню европейских писателей.
Что касается наших, то их я отмел сразу. Наши с патологическим упорством населяют тексты странным типом милиционера. Это, как правило, утонченный, изысканный персонаж, способный с ходу растолковать теорию относительности, свободно ориентироваться в живописи эпохи Возрождения, а что касается его склонности к цитированию, то создается впечатление, что Кафку, Кьеркегора, Камю и Гамсуна у нас преподают преимущественно в полицейских школах.
Я досидел до самой ночи, выпил много кофе, искурил пачку "Пегаса" – во рту сделалось сухо и горько, как будто весь день жевал речной песок.
Ни к какому выводу я так и не пришел. Пока текст просто не из чего было конструировать. Ну, обволакивает Катерпиллера некая туманная тревога, ну, "ньюс-бокс" сгинул – и что?
Был первый час ночи, но заснуть мне вряд ли удалось бы. Я зашел к Музыке в надежде найти глоток горячительного.
Во дворе орал автоаларм.
Я не обратил на эти острые ритмичные повизгивания никакого внимания – привычка. Во дворе стоит с десяток машин, и практически каждую ночь надрываются алармы: пацаны снимают лобовые стекла, колеса, аккумуляторы, потрошат салоны, и ничего с этим не поделаешь – ничего.
На этих ребят просто надо ставить капканы – другого средства уберечь собственность в нашем городе нет. Или минировать подступы к паркингам.
Я зажег свет. Мой "фаустпатрон" стоял на столе, конечно же, разряженный. Худосочный свет от лампочки вяз в толстом, мутном бутылочном стекле, занавеска на окне болталась на сквознячке в такт вспышкам сигнального звука, и я вдруг понял, что это ударно трудится в ночи мой аларм.
Я проверял его, прежде чем поставить машину во двор, он был узнаваем – слегка подвывал на излете отрывистого сигнала: звук по-кошачьи выгибал спину.
Я вышел во двор. Мой "жигуль" смирно стоял у старой липы и орал.
Я обошел машину, в кармане нашарил ключ. Последнее, о чем успел подумать; "Это резиновая дубинка" – и еще на какую-то долю секунды мелькнуло перед глазами прежнее, оставшееся в другой жизни; дорожный откос, в сухой траве лежит, свернувшись калачиком, мальчишка, ему четырнадцать лет от роду, его зарезали, его зовут Хэха, он живет в дощатых бараках у железной дороги – и, кажется, успел крикнуть:
Если меня кто-то и обнаружил в ночи, так это, скорее всего, Чуча.
Чуча – собака желто-табачной масти, ее родительница наверняка якшалась с волчьей стаей: внешне Чуча и есть самый настоящий волк, впрочем, волк особый, уникальный. Если бы все серые обладали Чучиным характером, то в тамбовских лесах царил бы мир и покой. Ни в одной собаке – пусть даже самых благородных, умных кровей – я не встречал подобного добросердечия.
У Чучи есть хозяйка, во дворе ее зовут баба Тоня – не совсем точно зовут. Баба есть нечто огромное, рыхлое с переваливающейся походкой, у бабы густой, низкий голос, бабы в оранжевых дорожных жилетах носят на себе рельсы, бабы орут в очередях и едят много мучного – баба Тоня фигурой напоминает двенадцатилетнюю девочку, с трудом тащит трехкилограммовую сетку с гнилой картошкой и почти ничего не ест.
У нее, кажется, какая-то пенсия, пенсию почти целиком съедает Чуча.
Если Антонину упрекают: какого черта кормит собаку мясом, а сама питается святым духом, – она неизменно отвечает:
– А мне зачем? Пусть ей будет.
Собака стоит рядом, уронив взор долу: она все понимает, и ей стыдно объедать тетю Тоню.
Гуляет она, как правило, по ночам – чтобы Чучу не упрекали и не стыдили.
Впрочем, последние полгода Чуче приходится подголадывать – хозяйка приютила в доме дочь с внучкой.
Тети Тони дочка –это бледное, изможденное существо неопределенного возраста, у нее малярийного цвета лицо, и вся она состоит из впалостей: впалые щеки, впалые глаза, впалая грудь... К матери она сбежала от мужа, который, по слухам, сильно закладывал и в припадках бешенства зверски колотил свое семейство: скоро его определенно посадят, но, пока не посадили, лучше от него держаться подальше. Она нанялась мыть перед закрытием полы в нашей булочной и продуктовом магазине; двери в торговых точках закрываются плохо. Тонина дочка, отжимая чудовищно грязную тряпку, истерически кричит – даже не на покупателей, у куда-то в подпотолочное пространство: "Ну что за люди, что за люди!" – и тут же начинает шумно рыдать... Ее шарахаются, подозревая, что у уборщицы не все дома.
Младшенькая в их семействе... Ну, что сказать? Бледный, худой ребенок лет восьми с глазами кролика; у кролика глаза глупы и покорны, но этого девочке, наверное, недостаточно, и она рассыпает в своих кроличьих глазах острые искры дикой животной перепутанности.
Собака шершаво лизнула меня в щеку, и я пришел в себя. Поодаль стояла баба Тоня.
Свернув голову на бок и спрятав лицо в воротник, она кашляла: тяжело, хрипло – странно, откуда в ее хрупком теле берутся настолько мощные свирепые хрипы? Впрочем... Скверное, скудное питание, ветхая одежда... Возможно, у бабы Тони чахотка, а это, как известно, болезнь бедности.
По логике вещей: если ты обнаружил во дворе человека без признаков жизни, следует поднять крик, звать на помощь, бежать к телефону и вызванивать "скорую", но баба Тоня – она ведь тоже из рода молчаливых барачных женщин – просто стояла и, покашливая, наблюдала, как я пробую встать на четвереньки.
Я дополз до старой липы, цепляясь за ствол, кое-как поднялся. Собака отошла, присела рядом с Тоней. Я отдышался, собрался с силами.
Теперь они в четыре глаза спокойно наблюдали, как я дергаю дверцу автомобиля, нахожу ее запертой и вообще нахожу, что ничего не похищено, даже "дворник", который я позабыл снять, потом баба Тоня повернулась ко мне спиной и побрела в сторону детской площадки, следом за ней двинулась собака.
Александру Александровичу Фадееву я послал воздушный привет, а рыжую поцеловал в щеку.
Сан Саныч был угрюм, молчалив, запылен и отвечал на приветствие демоническим взглядом.
Рыжая отвечала – братским поцелуем и упреком: я, скотина такая, совсем перестал показываться, живем же в пяти минутах ходьбы друг от друга, неужели так трудно зайти проведать...
Мы знакомы давным-давно – когда-то под нашим старым добрым небом учились в одной школе, правда, она тремя классами младше. Маленькая, рыженькая – она напоминала юркого, проворного зверька с пушистым хвостом, бесстрашно прыгающего с ветки на ветку, потому и звали ее у нас в Агаповом тупике Белкой. Последние пятнадцать лет мы вместе предавались трем полезным для здоровья занятиям: катались на лыжах в Терсколе, изредка попивали винцо и спали в одной постели.
Что касается постели, то года полтора назад мы начали потихоньку остывать к этому занятию. Наверное просто устали: она – от меня, а я – от нее.
– Как жизнь, рыжая? – спросил я, покосившись на Белинского; она в ответ рассеянно пожала плечами.
Значит, никак. Ну что ж, это понятно, все мы никакие люди в никаком городе.
Неистовый Виссарион смотрел на меня так, будто хотел испепелить взглядом.
Я всегда очень неуютно чувствую себя в этой библиотеке где на стенах под самым потолком в овальных лепных рамах стоят намалеванные масляной краской лица гигантов духа: на торцовых стенах – Белинский и Добролюбов, а с фронта на тебя гневно взирают Фадеев, Горький и Маяковский.
Немного странный подбор корифеев, учитывая, что библиотека относится к каким-то профсоюзам и хранит на своих стеллажах профсоюзную мудрость всех племен и народов.
Впрочем, забрёл я сюда не за тем, чтобы поболтать с революционными демократами и пролетарскими писателями.
– Ты своего благоверного давно не видела?
– Нет. – Белка покачала головой. – И видеть не хочу.
Понимаю: ей досталось в этой жизни в свое время...
Она была когда-то замужем за Катерпиллером. Что толкнуло ее на этот безумный, в голове моей до сих пор не укладывающийся, шаг, сказать трудно... Она всегда была очень умной и талантливой девочкой, это еще в школе было заметно, а уж на факультете нашем, куда она поступила сразу после школы, набрав на вступительных экзаменах одни пятерки, – и подавно... В аспирантуру потом прорвалась, писала что-то про Латинскую Америку.
Не знаю уж, как она тогда выжила.
У них должен был родиться ребенок. Катерпиллер этого не хотел. Расстались они мирно и интеллигентно, он просто отошел в сторону: делай как знаешь, однако – без меня. Она родила... Слабенький был пацанчик, "кесаревый". В полтора года подхватил пневмонию – жуткую какую-то, свирепую и быстротекущую. Словом, за двое суток он "сгорел".
Мы едва ее потом откачали.
Аспирантуру – пацанчик ее все время хворал – пришлось бросить. С тех пор сидит в хранилище профсоюзной мудрости, стол ее стоит прямо под Фадеевым.
Я не очень-то надеялся, что узнаю у Белки что-нибудь свеженькое про Катерпиллера. Так оно и оказалось. Нет, она своего бывшего благоверного давно уже не видела. И видеть не хочет.
Я ее понимаю.
– Ты с ним поосторожней, – посоветовала Белка узнав о моих делах. – Он человек сложный... – она задрала голову и пересеклась взглядом с Александром Александровичем, точно испрашивая у него подсказки. – Он, знаешь ли, человек молчаливых решений. И очень себе на уме.
Что-что, а это я хорошо понял.
– Ему передать что-нибудь?
– Передай – чтоб он сдох, – вяло откликнулась Белка.
Ценное пожелание. Обязательно при случае передам.
У выхода из зала я обернулся.
Белка сидела за столом, сдавив виски ладонями. Александр Александрович гневно смотрел мне в спину
Каюсь, Александр Александрович: не стоило мне заходить к ней и напоминать.
У Бэллы – после театральной прогулки – мы пили за то, что жить стало проще.
Бэлла снимала квартиру в одном из грузных, монументальных домов на Комсомольском. Скорее всего, когда-то эти дома были предназначены для госчиновников выше среднего уровня: солидно, основательно, просторно. Теперь в подъезде пахнет кошками, а лифт не работает – по-видимому, чиновники перебрались в другие, теплые края, свили себе гнезда на Алексея Толстого, в Староконюшенном, в Сивцевом Вражке, а тут оставили куковать своих бабушек.
Квартира в самом деле производила впечатление бабушкиной – дело даже не в обстановке: старых фасонов крепкая мебель, обшарпанное фортепьяно; выцветшие фотографии в деревянных рамках, в фотографии вмерзли гладкие, прошлые, нездешние лица; настенный коврик над кроватью, в коврике лебеди гнут вопросительными знаками тонкие белые шеи – и ко всему этому особый запах стоит в квартире. Так пахнет жизнь старух.
Бэлла метнула на стол ликер в пышнобедрой бутылке – я выжидательно постукивал по столу двумя пальцами. Бэлла с пониманием кивнула.
– Водки нет. Вискарь есть. Черт бы тебя забрал... Я хотела его завтра использовать – как взятку.
Я заметил, что она сильно отстала от жизни: теперь у нас вискарем не отделаешься, нужны деньги, много денег, и лучше – если деньги не деревянные. Новая номенклатура у нас на этот счет без затей. У практичных западных людей в компьютерах давно сидит программа, где скрупулезно расписана вся наша чиновная братия – от министерского вахтера и вплоть до министра, с точным указанием: кому, как и сколько давать.
– Ты, главное, не робей, не канючь и не выкобенивайся, целкой не прикидывайся, а сразу – давай. Жизнь стала проще. За это выпьем, хорошо?
– Хорошо, – без энтузиазма отозвалась Бэлла.
Из теннисной сумки она извлекла причудливо расписанный тубус, отодрала крышку, попробовала вынуть бутылку из картонной трубы.
Я наклонил тубус над креслом и шарахнул кулаком по донышку – из картонного жерла медленно вышел золотистого оттенка снаряд, литровый.
– Давай. За то, что жизнь стала проще.
Мы взялись за дело серьезно: без разминки, не смакуя, не цедя маленькими глотками.
– Первая пошла, вторую крылом позвала! – энергично выдохнула Бэлла алкогольные пары, и я убедился, что ее познания в дворовом фольклоре не ржавеют. – Этот парень... Ну тот, у театра... У тебя с ним проблемы?
– Да нет никаких проблем, он меня нанял, он мне предложил, с точки зрения здравого смысла, невероятную работу, а когда я попросил его дать мне кое-какие материалы конфиденциального характера, он решил проверить меня на вшивость – вот и все.
– Проверить на... Как это? Вшивость? – нахмурилась Бэлла.
– Это значит... – я задумался, подбирая синоним. – Это значит – взять на понт.
– А-а-а! – понимающе кивнула Бэлла.
То-то и оно: они подкладывают мне симпатичную девушку и просят ее меня расколоть. Когда они понимают, что с этим ничего не вышло, они отправляют меня в дачный погреб отбывать испытательный срок. Час назад, перед тем как уехать от театра, я спрашивал у Катерпиллера: а бить меня резиновой дубинкой по башке тоже входило в планы проверки? Но он всерьез удивился: нет-нет! Как можно! – и я склонен ему верить. Он насторожился и потребовал подробный отчет о происшествии.
Значит, мне перепало случайно, по недоразумению... Что ж, ни за что ни про что получить по башке – это вполне в рамках нашего жанра.
Тут приятную беседу прервал телефонный звонок. Бэлла нахмурилась, глянула на часы (начало первого!), взяла трубку.
– Комендатура! – рявкнула она старшинским голосом и тут же осеклась. – Ой, это ты? Да мы тут... Да, приятель университетский... – я наблюдал за ней – и не узнавал Бэлку, нет, не узнавал – я никогда не слышал в ее голосе этих мягких, материнских интонаций – Ну, конечно! Давай, ждем! Ты на такси? Значит, минут через пятнадцать? Да, ждем.
– Счастливый соперник? – я сделал свирепое лицо.
– М-м-м... – Бэлла покусывала губу. – Это... Ну, словом, это Слава.
– Ладно, на посошок! – я налил немного, поднял стакан, поприветствовал Бэллу.
– Брось! – она махнула рукой и наконец стала похожей на себя прежнюю. – Он нормальный мужик, без этих, как это... за... за...
– Закидонов?
– Ага! Он очень хороший парень, вы друг другу понравитесь.
Я прошел к телефонному столику, где по-прежнему сидела Бэлла, опустился перед ней на колени, взял ее за руку - ты готова исповедаться?
Она смиренно кивнула
– Он не импотент, как твои – первый? – Бэлла, потупив глаза, покачала головой. – И не пишет стихи, как твой – второй? Нет? Очень хорошо, очень... Он в состоянии выпить этот стакан без закуски? Что? Даже не один?! Ладно, я отпускаю тебе все предыдущие грехи!
Слава оказался человеком, в котором – всего много: двухметровый рост, огромная, как у баскетболиста, ладонь румянец во всю щеку – мы моментально сделались друзьями. Слава работал анестезиологом. У него была внеплановая операция – потому и припозднился.
Бэлла постелила мне на кресло-кровати с покатыми подлокотниками; ложе оказалось удобным, но спал я скверно – все покоя не давал этот запах... Мне казалось, что я сплю в обнимку со старухой.
Монитор косился на меня взглядом слепого. Однажды на Тишинском рынке я видел настоящего слепого – он был, естественно, нищим и побирался у магазина "Рыболов-спортсмен". Я видел его мельком, но успел подумать: такого в природе не бывает, это бутафория – нищему просто вдавили под веки пару бледно-зеленых маслин молочной спелости, позабыв прорисовать в них зрачки, хрусталики, радужные оболочки.
Если и есть на дне этих глаз то, что принято называть глазным дном, то наверняка это скользкое, илистое дно; в холодном иле вязнут все движения текущей мимо жизни и тухнут все ее краски, все, за исключением одной – серой. Рождаясь в серости, в ней вырастая, в ней любя, продолжая в ней свой род, они, барачные люди, слишком рано устают смотреть и видеть. Когда после каторжных трудов в угольных копях приходят они в свои тесные дома, рассаживаются у стола в ожидании скудной трапезы, то не покой, не радость в предчувствии отдыха, не сомнение в правильности устройства этой жизни и не желание оспорить прописные истины стоит в этих глазах, нет: одно покорство судьбе и каменная усталость – и потому все их чувства слепы. И слепа бывает их ярость, и ненависть к инородцу, и восторги их, и обожание кумира – все слепо, слепо...
Пару раз этот старик с маслинами вместо глаз заглядывал в мой сон, и Музыка наутро говорил, что я кричал.
Я показал электронному глазу язык и так – с перекошенной рожей – проник в офис, встав в голубом поле монитора перед примерной барышней.
Направляясь сюда к условленному часу, я притормозил у метро. В лавке "колониальных товаров" я прикупил для секретарши подарок и заплатил лишние деньги за то, чтобы его завернули в плотную упаковочную бумагу, простроченную наискось товарной маркой всемирно известной парфюмерной фирмы, и перевязали крест-накрест голубой атласной ленточкой.
Девчушка в ларьке сердилась: бери так! Нету ленточки! Но я, просунув голову в узкое окошко, нашептал, что, мол, сочтемся; и вообще – не могу же я являться надень рождения без красиво упакованного презента... Продавщица прыснула: на день рожденья?! Я сказал: вот именно, моей двоюродной бабушке сегодня исполняется восемьдесят лет! – и хозяйка ларька захохотала – густо, низко, как хохочут все бабы, приставленные к прилавку.
Настаивать на упаковке имело смысл – я приобрел пачку американских презервативов.
Я присел на край стола и аккуратно поставил презент рядом с телефоном.
– Это тебе. Ты мне нравишься. Ты мне подходишь.
Она равнодушно кивнула на дверь шефа: "Вас ждут!" – и углубилась в бумаги, проигнорировав подарок.
Я убежден: стоит мне скрыться за дверью, она его развернет.
Занятно, как будут развиваться наши отношения, когда я выйду из кабинета?
Катерпиллер имел потерянный вид – наметанным глазом я определил, что вид он в самом деле обронил где-то вчера на ночь глядя, а с утра забыл захватить его с собой на службу.
Я посочувствовал, он отмахнулся: ладно, не до тебя сейчас!
Я уселся в мягкое кресло – в правом углу кабинета, в маленькой нише, стояли два кожаных кресла, разделенных журнальным столиком: милый интимный уголок для отдыха и расслабленных бесед. В прошлый раз я как-то не обратил на него внимания.
– Конечно, не до меня. Тут все дело в тренировке. Кофе не пей. Пиво тоже – опохмеляются пивом только сантехники. Только чай – крепкий, очень крепкий и без сахара...
Он нажал на кнопку селектора: аппарат пискнул и моргнул красным глазом, динамик выжидательно выдохнул. Катерпиллер не то чтобы сообщил селектору информацию – его голос упал в микрофон:
– Виктория Борисовна... Принесите, пожалуйста.
Через минуту возникла Виктория Борисовна.
Я с ходу могу идентифицировать эту породу женщин, которая мистическим образом вызрела в чревах коммуналок, в задымленных кухнях, стирках, стряпне, в тяжелых поломойных трудах, в стонах по поводу безденежья – вызрела и, подобно змее, выползла из старой кожи. А новая их кожа – она прочная, титановая, пуле-пыле-водонепробиваемая, им теперь без такой никуда, на то они и зовутся в народе: крутые женщины.
Средний рост, аккуратная фигура, ухоженное лицо, энергичная спортивная походка – наверняка за всем этим стоит серьезная, усердная работа над собой; шейпинг – само собой, и само собой – теннис; минимум алкоголя и табака; мягкая диета, горные лыжи; в малых дозах – черноморский пляж; тщательнейший маникюр, макияж, массаж – и никаких больше ножей для чистки картофеля. Ничем традиционно женским – мытьем посуды, готовкой, уборкой – такие бабы уже не занимаются, они нанимают для этого поденщиков и батраков. Я ведь батрачил в подобном доме, я знаю.
Она бегло меня оглядела. В течение секунды она вывернула меня наизнанку, просветила рентгеном и, не обнаружив ничего достойного внимания, сдержанно кивнула, прошла к столу, положила перед Катерпиллером голубую папку.
– Вы просили... Тут все... В основном. Компактно сжато. Коллега, – и послала легкий кивок в мою сторону, – насколько я понимаю, не нуждается в деталях.
– Нет-нет, коллега не нуждается.
С ними следует говорить скупо, четко и ясно.
– Только общая информация. Меня не занимают ни ваши расходы, ни ваши доходы, ни все такое прочее.
– Тогда что именно?
– Да просто состояние среды вокруг вас. Состояние среды, понимаете?
Не следовало размягчать фразу этим вполне человеческим "понимаете?" – она отреагировала мгновенно.
– Естественно! – и полоснула меня коротким выразительным взглядом, давая понять, что если я чего-то и стою, то стою гроши.
– Крутая женщина, – сказал я, когда Виктория удалилась. – Наверное, корни ее генеалогического древа в тех краях, где водятся амазонки.
– М-да... – согласился Катерпиллер, – она деловой человек.
Селектор зевнул, секретарша попросила взять трубку: звонок из клиники.
Катерпиллер внимательно слушал, пил мелкими глотками свою минералку и мрачнел.
Закончив разговор, он уложил подбородок в составленные вазочкой ладони и с минуту бессмысленно глядел перед собой.
– Как там Борис Минеевич?
– А? Что? – встрепенулся он. – Я что-то ничего не понимаю... Он крайне истощен.
Догадываюсь: две недели в металлическом контейнере – достаточно, чтобы похудеть.
– И судя по всему, у него серьезное психическое расстройство... Он все время просит пить. И почему-то спрашивает: это пресная? Не соленая? Пресная? Он пьет и пьет, пьет и пьет – воду. И просит прогнать тараканов.
– Тараканов?
– Врач говорит, ему мерещится, будто по кровати ползают тараканы... Огромные, в полладони длиной. Ты что-нибудь понимаешь?
Пока понимаю только одно: ньюс-бокс рехнулся.
– Где это можно полистать? – я указал на голубую папку.
Катерпиллер кивнул на дверь в торце кабинета.
Там крохотная комнатка для отдыха. Обшита жженым деревом. Мягкий диван, столик, холодильник – никаких посторонних шумов. В шкафчике чайный сервиз кофейный сервиз, обойма устойчивых стопок, букет хрустальных фужеров.
– Ты что, копируешь больших начальников? – спросил я, закончив беглый осмотр рабочего места.
– С чего ты взял?
– Ну, как с чего – все прежние начальнички держали в своих кабинетах такие интимные закутки с холодильником, а в холодильниках мерз коньяк, икра мерзла, рыба красная, то да се...
– Ладно тебе! – опять огрызнулся Катерпиллер.
Битый час я изучал материалы. Как верно заметила Виктория, информация была компактна. В торговых, посреднических делах я ни черта не смыслю, практически ничего существенного из голубой папки не почерпнул.
Когда-то их лавочка, насколько я понял, представляла собой обычную посредническую контору: "купи – продай". В формуле не столько важны "купи" и "продай", сколько тире между ними. Их лавочка и действовала в пространстве этого тире, имея посреднический процент. С этого, во всяком случае, начиналось дело. Далее шли совсем уж для меня темные бизнес-дела: фирма целиком переключилась на операции с недвижимостью.
Я понял, что ни грамма смысла из этой бухгалтерии не вытрясу.
– Дело с размахом, – поделился я впечатлением с Катерпиллером. – Правда, меня удивляет одно обстоятельство.
– Ну? – спросил он.
– Что-то ничего в ваших архивах не сказано про собак... Это подрывает устои.
– Собак? – тупо удивился он.
– Ну да, собак... Сказано же: воровать книги, собак и казну в России никогда не считалось зазорным...
Он открыл было рот, но обсуждать на трезвую голову, что имел в виду Иван Сергеевич Тургенев, охоты у меня не было; я записал адрес ньюс-бокса и направился к выходу.
– А ну-ка, постой... – тихо произнес Катерпиллер за моей спиной – в его голосе я уловил властные интонации.
В первый момент мне показалось, что он немного смущен. Но я ошибся: с него, задумчиво грызущего ноготь, – мгновенно и вдруг – стекла характерная глазурь буржуазности. За столом сидел постный чернявый мальчик, сын медноголосого солиста воинского ансамбля, каким я его знал, когда все мы жили под нашим старым добрым небом.
– Ты, насколько я понимаю, все там живешь, в Агаповом тупике? Как там? Я сто лет не был. Как там?
Я пожал плечами. Как? Да никак. Все по-прежнему: сто лет и все одно и то же.
– Слушай, – он сосредоточенно разминал уголки глаз, – подворотня наша – помнишь? Цела она?
– Да вроде на месте... – в его неожиданном интересе к нашему старому доброму небу крылся какой-то подвох; я не понимал, что именно меня встревожило, но, определенно, он вспомнил про подворотню неспроста.
– И стены все по-прежнему облупленные? И лужа посередине?
Я попробовал заглянуть Катерпиллеру в глаза, но он отвел взгляд в сторону... Все так: стены облуплены и в пятнах плесени. Лужа. Если он сейчас вспомнит про доску...
– И доска – через лужу?
У меня засосало под ложечкой: что-то здесь было не так, и я не понимал, что именно. Я пересек кабинет в обратном направлении, подошел к столу.
– Не темни, – сказал я. – В чем дело?
Я опоздал: передо мной сидел уже теперешний Катерпиллер – в броне глазури и обозначал уголками губ мягкую, кошачью улыбку.
– Дело? Да нет никакого дела... Просто – говорю же–я сто лет там у нас, в Агаповом тупике, не был. Надо бы заехать. Посмотреть.
– Посмотреть... – усмехнулся я. – Это такое место, которое бессмысленно смотреть. Его надо – прочитывать.
Вольному – воля, дуракам – рай, и поскольку я, скорее всего, дурак, то мне закидоны простительны – тем более что Агапов тупик в самом деле удобней не рассматривать, а прочитывать. Эта мысль мне пришла в голову несколько лет назад, когда я работал в больнице кормильцем стариков. Я прекрасно запомнил этот день. Во-первых, ожидалось солнечное затмение. Во-вторых, с утра радио транслировало торжественную церемонию приведения нашего президента к присяге. В-третьих, я нашел в газете заметку о том, что на отчем доме Пастернака в Оружейном переулке собираются повесить то ли мемориальную доску, то ли еще какой-то памятный знак. В-четвертых, я накануне перед сном читал Короленко – что-то несерьезное, миниатюрную, немного рассеянную эссеистику. В-пятых, в этот день с утра умер один мой ребенок – старики ведь как дети. – и настроение у меня было настолько скверное, что мне захотелось стать плоским гербарийным листом. Я валялся на диване и тупо рассматривал корешки книг на стеллаже, прикидывая, в какую бы лучше улечься, чтобы высохнуть и утончиться. Наконец, я нашел то, что нужно – WHO’s WHO . Это да! Это вещь, это предмет! Приподнять плиту в три с половиной тысячи страниц да залечь там кленовым листом в компании достойных упоминания, полежать, высохнуть и ждать сквозняк – пусть выдует тебя в форточку. И почитать есть что – да вот хотя бы эту улицу почитать. Тут строка изъедена вопросительными знаками, вот так – ?????????????? – это наши городские липы согнуты голодом, а между ними завалился пьяненький апостроф: урна рухнула на карачки, ее тошнит бумажными стаканчиками из-под прохладительных напитков... Свой текст, знакомый, привычный. Он тривиальной цитаткой вяло шевелится в тексте "подозрительного" (так одному маленькому мальчику показалось) околотка. И до чего же неряшливо цитатка выписана: асфальт тут через шаг в помарках и описках, зачеркиваниях и вставках – в ямах, то есть, колдобинах и трещинах. Время от времени косоглазую нашу улицу переписывают набело - то есть: возникает некий стилист в сером плаще и серой же шляпе и вдумчиво водит по строчке носком остро отточенного ботинка. И ставит галочки на полях, и велит линовать лист по-новой. Линуют, тянут прямые линии веревок вдоль бордюрного камня. Так... Потом, стало быть, редакторы в промасленных робах и каллиграфисты с пунцовыми лицами (в них пот тушит жаркое дыхание свежего асфальта) изрядно правят текст и даже переписывают набело, стелят новые слои асфальта. А все впустую. Скоро, скоро: строка привычно съедет набок, и текст засорят прежние помарки. Словом, если читать – то лучше пешком: топ-топ, топ-топ – с самого начала, с Буквицы. А Буквица пусть нарядится в парадный мундир – это Его превосходительство Вячеслав Константинович Плеве саркастически кривит жесткий министерский рот, сейчас скажет, сейчас произнесет... И кривая ухмылка Его Превосходительства министра внутренних дел Российской империи упадет в грунтовку улицы стартовым бордюрным булыжником. Господи, какой только правке с тех пор не подвергалась улица! Как ее ни пахали, ни боронили, а тот булыжник все сидит на месте тяжелой смысловой глыбой – и оттого строка тут вечно в помарках и зачеркиваниях, в ямах и колдобинах. Странная же у текста физиономия, странная... Ее черты – от архетипа, от первожителя улицы; данные о нем в муниципальных архивах не сохранились, но есть основания предположить, что внешне выглядел он примерно так: лицо, заросшее старорежимной бородой, сапоги в гармошку, мехи которой смазаны салом для мягкости и вообще для шарма, крепкая шляпа с высокой тульей и большой латунной пряжкой по центру, а также запах конского пота, квашеной капусты и смирновской божьей слезы – поскольку первожитель наш и патриарх был скорее всего извозчик. И переулки-то в околотке до сих пор – все ямские да ямские... А текст от него пошел – в рамках сословной нормы: смысл всего есть путь; стилистика – дорога; синтаксис – улица; орфография – то грунтовка, то булыжник, то асфальт. Ну, что еще о нем? Да, он слегка косит, вот именно: врожденное косоглазие сослагательного наклонения. Ах, если бы, если бы! Вот именно, еспи-бы-не-бы – то был бы на нашей улице праздник! В речном ожидании праздника плавно, густо, как река из манной каши, все будет течь этот текст, подтапливая черные зевки подворотен; однако в околотке, тут неподалеку в Оружейном переулке, в доме Лыжина напротив Духовной семинарии, в двухэтажном доме с двором для извозчиков, в квартире над воротами, в арке их сводчатого перекрытия однажды должен будет родиться мальчик – и текст сломается. Он споткнется как раз напротив этой арки и провалится в пустоту абзаца, и на этом крохотном порожке можно будет наконец присесть, передохнуть, вот так:
И в этой блаженной пустоте можно расслабиться, закурить папиросу и наблюдать, как в полдень упражняются на открытом плацу Знаменских казарм конные жандармы, а копыта высекают из плаца звонкие восклицательные знаки, а няня со знанием дела вплетает походку ведомого ею мальчика в текст околотка. Мальчик терпеливо и внимательно будет прочитывать расстеленный перед ним текст, весь замусоренный опавшими листьями, и постигать азы грамоты: "Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое". Ах, как жаль – скоро он покинет эти тексты, переселится с семьей на Мясницкую, в казенную квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества, где преподает его отец, а улица останется... Много ли гербарийному листу, выпавшему из коллекционного планшета, надо? Пустяки надо: сухость, поменьше пыли, и чтобы ногами не топтали – так ведь нет! Топчут, и пеняй только на себя; в другой раз не станешь верить сквозняку, сманившему на улицу. Вон там, чуть левее, из нее вытечет маленькое – шагов в сто пятьдесят – сложно-сочиненное предложение, подтравленное ядовитым угаром из ворот завода пищевых концентратов где веки вечные варят консервированный борщ; и в вязких клубах борщевого амбрэ тут уверенной походкой движутся устойчивые подлежащие в партикулярных серых костюмах, вяло шевелятся дополнения в штопаных колготках, обвешанные авоськами; снуют бандитского вида вводные слова в обнимку с бутылками, какими торгует неподалеку некий спасительный неологизм (фирма РОСМИ); и даже междометие набрякнет в строке, звать его "фи!" – это "фи!" почти у кромки полей, оно без башмаков почему-то, зато в белых носках, сидит себе, привалившись к стене, вцепилось пьяными руками в пьяную башку, раскачивается и стонет... Что характерно – раскачивается прямо под сноской; такова уж причуда здешнего текста – тут сноски из положенного им подвального помещения на задворках листа вдруг ни с того ни с сего выскочат наверх... Так и тут: выскочило, засело в стене мраморными заплатками; заплатки золотыми буквами прострочены: "В этом доме в 1905-1906 гг. помещался профсоюз деревообделочников". "В этом доме, в кв. № 10 в 1905–1906 гг. размещался профсоюз табачников"... И все просвещенные деревообделочники, и все глубокомысленные табачники, опущенные в теплую вату махорочных дымов, – все будут заседать, все будут спорить в надежде обрести право на прямую речь: "Нам нужен свой путь!". Вот тут бы и – абзац, абзац!.. Но нет, текст плотен, энергичен, он сейчас упрется в тяжелые квадратные скобки...
Что тебе, легкому гербарийному экспонату, стоит докувыркаться до скобок – чай, не в кандалах, как при Его превосходительстве Вячеславе Константиновиче, чай, не в железном автофургоне с надписью "Хлеб" или "Мясо", как при иных уже министрах – катись, брат, катись! Туда, где Лесная стальной нагайкой трамвайных путей перешибет нашей улице хребет... Вот-вот, вот здесь; старый пожарно-красный дом, у него во лбу клеймо: "Оптовая торговля Кавказскими фруктами Каландадзе", а чуть ниже – очередная, выскочившая с положенного места сноска: "Подпольная типография ЦК РСДРП, 1905–1906 гг.", ну, а в дверях, за стеклом, выцветший тетрадный листочек: "Вход – со двора...". Абзац, абзац, товарищи! Куда там, нет – там во дворе пенится свалка; тропка заманит в тенистый палисадник, здесь кроны лижут мощные квадратные скобки, скобки красно-кирпичные, высокие, простреляны окошками в решетках сверху фривольная кудряшка колючей проволоки а там уж... Там уж желтые глухие бастионы, охраняемые квадратными скобками, вот такими: [БУТЫРКА]... Отсюда глухой лай можно расслышать – это Пресня лает; она уже вся перепахана каракулями лозунгов прострелена картечью отточий, перечеркнута черными штрихами баррикад, но там, где просится абзац, мы не найдем абзаца – на Пресне торят путь. Торят и торят – орфография за делом забыта, привычная лексика разогнана по подворотням, а синтаксис выпрямлен вечно-будущим временем: будет и на нашей улице праздник! Будет, будет, будет! А юнкера сюда уже не сунутся: их всех перебьют где-то в центре; тихий Вертинский их молодые жизни тихо помянет, укачивая боль в колыбельном мотиве, – и будет расслышан, будет зван в ЧК. "...Но, позвольте, кто же может мне запретить – печалиться?" – "Если сочтем необходимым, запретим – дышать!". А текст уже прорвется к прямой речи; в тенистом парке на Миусской выпрямится по стойке смирно серый дом – и все потому, что сюда в конце девятнадцатого года придет на встречу с сельскими коммунистами (есть на то, естественно, подскакивающие сноски) Первый Учитель новой российской грамматики; в этой грамматике все прежние "яти", "фиты" и "ижицы" ликвидированы как класс: "...Я уверен, мы стоим на правильном пути, движение по которому вполне обеспечено".
И несколькими днями позже – все в том же сером доме: "Лишь тогда мы одержим прочную победу над старой темнотой, разорением и нуждой, лишь тогда нам будут не страшны никакие трудности на нашем дальнейшем пути..." – ты, гербарийный лежебока, здесь два слова самовольно согнул курсивом – это ничего, не книжку в синем переплете листаешь, а потихоньку – топ-топ, топ-топ – почитываешь улицу; в конце концов все ее 593 шага – в этой стилистике безначалъности-бесконечности, в пространстве этого пути... Тут выправит осанку орфография (асфальт, асфальт!), а что там за квадратными скобками, за вот такими: [БУТЫРКА] – так разве же прочтешь? Еще когда эти тополя вдоль тротуаров напьются влаги от оттепелей – и первой, и второй... Зато уже знатный наш стилист Каро Семенович Алабян в сорок девятом году (опять-таки – подскок сноски...) пропишет в нашем тексте нечто гиперболически-монументальное в духе социалистического классицизма; в этой гиперболе разместится высшая партшкола (улица, конечно, будет переписана набело, новые лягут асфальты), и путь теперь предельно ясен: Второй Учитель новой российской грамматики так часто говорит про путь – недаром он у нас столп языкознания. Потом и Третий Учитель будет проколачивать путь – ботинками по трибуне. И Четвертый, мучительно прожевывая неподатливые звуки, – тоже про путь. И Пятый – на смертном одре, и пошатывающийся ввиду немощи Шестой – все про то же, про путь. И Седьмой, конечно, тоже... Абзац, абзац же, ну, граждане-товарищи! Да ну, какой абзац! Нет, еще не время, пока наш Нынешний Учитель российской словесности держит речь, и этот голос так привычно, как в постель к жене, ложится в нашу строку – он все в той же стилистике безначальности-бесконечности... "Пришлось пройти через великие испытания... Они выбрали не только личность, не только Президента, но, прежде всего, тот путь, по которому предстоит идти нашей Родине. Это путь демократии, путь реформ, путь возрождения достоинства человека... Пройдя через столько испытаний, ясно представляя свои цели, мы можем быть твердо уверены: Россия возродится!" Абз-а-а-а-а-а-а-ц! Абзац же, граждане-товарищи-господа! Ан нет, все те же 593 шага в тексте – и все бегом, бегом, сломя голову, и, что характерно, вытоптав в строке всю пунктуацию... Крупа отточий, запятых, всех этих вопросительно-восклицательных значков высеена в текст по весне, да что-то не взошли озимые, на то, видно, климатические условия, на то, видно, "время вне пунктуации...". Господи, да установится хоть когда-нибудь в тексте улицы хоть какая-то грамматическая норма?.. Должно быть, вряд ли, покуда улица сделана из кривой ухмылки Его превосходительства Вячеслава Константиновича Плеве – Его превосходительство так мило ухмыльнулся, высунув нос из Короленковского текста (Сборник "Помощь голодным. Собрание автографов и факсимиле", М. 1907 г.). Министру на каком-то чиновном совещании по улучшению грунтовых дорог в России предложили запросить мнение земских деятелей по сему вопросу, на что Его превосходительство произнес нечто совершенно эпохальное: я охотно сделал бы это. Но я знаю, что земцы в свою очередь, обратятся к третьему элементу (сами пишут плохо), и в конце концов мы получим ответ: "Для улучшения грунтовых дорог необходимо упразднение самодержавия...". Вот тут уж сам Вячеслав Константинович сгорит дотла в образе, как набоковский Ремизов в образе шахматной туры, совершившей неудачную рокировку, – одна останется в итоге российская дорога, вечная, грунтовая, текст без абзацев, обезображенный косоглазием согласительного наклонения, – улица имени Ожидания Праздника. Ожидаем... А ну, как у нас, в "Подозрительном околотке", в доме Лыжина, в Оружейном переулке напротив Духовной семинарии, где прошлой зимой 1890 года тротуары в сугробах – как хрупкие елочные игрушки в мягкой вате, родился мальчик в семье преподавателя Художественного училища? А ну как – в самом деле? И вовсе не обязательно ему потом на Мясницкой вырастать в поэта – да будь он хоть дворником... А просто им, таким мальчикам, дано: испытать жалость к женщине – "пугающую до замирания"; и жалость к родителям – "еще более нестерпимую"; и решиться – "совершить что-то неслыханно светлое". А потом, поглядев, как гарцуют на открытом плацу у Знаменских казарм конные жандармы, пройти по нашей улице, поймать в руку кусочек прямой линии нашего вечного пути, стиснуть этот кусочек в кулаке, переломить и зашвырнуть в текст два острых угла, оскалившихся в латинской букве "Z", – и это будет как раз корректорский значок абзаца. И еще он увидит: катятся по уличному асфальту гербарийные листья, а день клонится к закату, и пора в самом деле этот текст рассечь абзацем; и кто-то, повстречавшийся ему не на грунтовых, а на воздушных путях, шепнет на ухо: бывают дни такие, что длятся дольше века. И далее – по тексту, но уже с абзаца, вот так:
Проходя через приемную, я обратил внимание: презент покоится там, где я его оставил, у телефона. Я вернулся, присел на край стола.
– Так как? – спросил я.
Секретарша не отреагировала. Она старательно делала вид, будто изучает какой-то документ на фирменном бланке. Я повторил вопрос. Она откинулась на спинку кресла и подняла на меня глаза: взгляд ее был откровенен и опасен, в нем смешивались в равных долях ирония и ожидание, предчувствие и расчет.
– Мы поладим! – сказал я.
Она приоткрыла рот и – медленно, медленно, медленно – провела кончиком языка по верхней губе.
Этот характерный женский знак приглашения к быстрому развитию отношений мне слишком хорошо знаком. Когда они вот так проводят язычком по губе, у меня мутится в глазах – пришлось собраться с силами, чтобы тут же не опрокинуть ее на пол.
...Нет, Мы не кинемся на Них, Мы пришли не за тем, Мы просто молча, сталактитовыми столбами, встанем а круг у Их изысканно сервированных столов, Они почувствуют Наше присутствие и поймут, что все меры предосторожности тщетны, потому что Мы умеем проходить сквозь стены, этот дар воплощен в Нас одноухим нищим безумцем, Отцом Нашим. И значит Им никуда от Нас не деться.
Собака есть калька хозяина, оттиск его характера, продление его натуры. Ватикан признал право животного на обладание живой душой, но душа собаки несамостоятельна, потому что хозяину пространство собственной души представляется слишком узким, тесным -миниатюрную ее модель он селит в меньшого брата.
На пороге их квартиры меня встретил карликовый пинчер.
Эти несчастные декоративные костлявые собачки вывихнутой, дерганой пластикой, эти остро, тонко, словно "циркулярка" на полных оборотах, визжащие шавки вне сомнений, есть плод чьего-то изощренного изуверства. Наверное, этот сукин сын в долгих раздумьях и скрупулезных селекционных трудах вынашивал модель создать нечто идеально отталкивающее; слепить крохотную модель уродства, живой комок всех мыслимых и немыслимых пороков – и ему удалось точно воплотить свой извращенный вкус в этих маленьких; агрессивных существах.
Она бесновалась у моих ног, на ее губах пенилась ненависть ко всему, что живет и дышит вокруг; все коротышки – собачьего ли рода, человеческого ли – втайне желают стать властелинами мира, и эта Тэрри, конечно же, не исключение.
– Тэрри! Ну иди, иди, девочка, на место. Иди...
Занятый препирательством с этой визглявой крысой, я как- то не успел толком разглядеть хозяйку.
Борис Минеевич жил в центре, в глубоко эшелонированных тылах мощного, широкоплечего дома: этот бетонный монстр начинен высокопоставленными гаишниками – тут у них высшее, центральное гнездо, заправляющее всей гигантской стаей желто-голубых "канареек" с мигалками и спидганами.
На той стороне Садового кольца, растянувшись до мастерской по ремонту пишущих машинок, вмерзала в желтую стену огромная очередь, заметно припухавшая у стальных дверей магазина. Внутри этого облепленного черными ватниками и драпами старых пальто тромба пульсировала нервная энергия борьбы за место под солнечной вывеской "ВИНО" – катились с голов шапки, плескались руки в матерной пене, и время от времени на гребне волны мелькал чей-то кувыркающийся костыль... Я подумал: уж не Костыля ли это костыль?
Костыль*[21] – сердечный приятель моего соседа Музыки, они вместе толкутся на рынке. Правая его штанина заправлена за ремень, а на левой живой ноге он и скачет себе помаленьку. Целыми днями он стоит у магазине "Рыболов-спортсмен" и продает поплавки. Поплавки у него – не просто снасть, это – предмет искусства: они прикручены к картонке проволочками и похожи на разноцветных бабочек в коллекционном музейном планшете. Так он и стоит там, обрушив тяжесть разлинованного тельняшкой крупного матросского торса на приклады костылей... Если ему принести ящик и предложить присесть, он лягнет ящик резиновым копытом костыля: "Когда это... стоймя – берут товар лучше!". А если у него поинтересоваться – как коммерция? – он пожует потухшую папироску, сплюнет: "Япошки, б... косоглазые! Вся снасть теперь от них. Нашу, вон, хрен берут!".
"Мерседес" стального оттенка на всех парах катил по узкому притоку Садового кольца; как атакующий торпедный катер, он рассекал навозные потоки грязи, окатывал тротуар и рассеивал грязевую пыль по стенам домов – я едва успел отскочить.
Нужный дом я отыскал без труда. Вернее сказать, я его не искал: он сам выплыл навстречу из глубин квартала – здешние улочки текут плавными приливными волнами откуда-то со стороны гигантской морской звезды, в которой живет Театр Советской Армии. Дом высился на плоской, разровненной бульдозерами отмели: нестандартная архитектурная линия, застекленные лоджии, желтый облицовочный кирпич; Борис Минеевич должен был проживать именно в таком доме... В каком-то таком, в одном из таких.
Я поиграл на клавиатуре домофона – без какого бы то ни было успеха. Крошечная лампочка, застывшая на пульте каплей крови, не ожила, не задышал динамик в сетчатом хромированном наморднике. Я вспомнил: кажется, нужно набрать номер квартиры – его я знал.
Безуспешно... Подставил спереди ноль – домофон включился, что-то в его чреве зашевелилось, динамик шершаво зазвучал.
Готовясь к встрече с женой Бориса Минеевича, я успел набросать вчерне этот персонаж. Она, по логике вещей, должна представлять собой характерный тип заведующей овощной базой времен позднего застоя, то есть: никаких там ватников, резиновых сапог и холщовых рукавиц; нет, совсем наоборот: кожа, велюр, саламандра, мадам Роша; связи в райкомах и исполкомах, в Елисеевском гастрономе и на Ваганьковском кладбище, в мебельном магазине и Союзе кинематографистов; ухоженное лицо, прямая осанка, интонация человека властного и уверенного в себе.
Принять гостя она должна в домашнем. Но в каком-нибудь эдаком домашнем, скажем, в кимоно.
Эскиз смазался и поплыл.
Она встретила меня в тяжелой домотканой, бесформенно стекающей с узеньких плеч чуть ли не до колен шерстяной кофте и высоких грубой деревенской вязки черных шерстяных носках.
В ней угадывался деревенский корень: в жесте, в лице, в повадках – природное начало еще тлело в ее внешности; корень был не столько различим зрением, сколько осязаем: слышался отголосок давнего тепла. Городская жизнь стесывает с таких женщин незамысловатые приметы простоты, утончает черты лица, соскребает с речи коросту простецких словечек, полирует манеры и в целом вытачивает либо нечто тусклое и унылое, либо откровенно вульгарное.
Естественно. Загадочность натуры нуворишей, кроме всего прочего, состоит и в том, что из всего гигантского, многообразного собачьего мира они предпочитают не борзых и не легавых, не спаниелей или пуделей, эрделей или ньюфов, а как раз бультерьеров, – этих белых колченогих псов с крохотными красными глазками – сильных, свирепых, не чувствительных к боли.
– Вам кофе? Конечно, кофе, все наши гости пьют кофе. А я вот – чай. Вы проходите. Туда, в гостиную.
– Я, пожалуй, тоже чайку... Руки можно сполоснуть?
– Конечно, конечно, коридор на кухню, вторая дверь.
Я вошел в ванную, потянул носом и инстинктивно огляделся.
Либо я рехнулся, либо где-то здесь должен присутствовать сам маэстро Бальдини – старый и неподвижный, как колонна, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, и благоухающий ароматами миндальной воды Франжипани...
Здесь царил именно тот немыслимый, неописуемый хаос запахов, который наполнял лавку серебряноволосого парижского парфюмера, алхимничающего в известном бестселлере Патрика Зюскинда*[22].
Мешанина запахов стеной валила из правого угла облитого кремовым кафелем помещения, где, по соседству с биде, от самого пола вытягивался до высоты среднего человеческого роста вместительный стеллаж. Его открытые полки просто ломились от "парфюма" всех мыслимых и немыслимых сортов и фасонов. Что ж, "ньюс-бокс", сколько я понимаю, человек небедный, может себе позволить коллекционное хобби такого свойства. Я плотно прикрыл дверь в кунсткамеру летучих ароматов и направился в гостиную.
Мы ошибочно предполагаем в богатом человеке плоский вульгарный вкус: чтобы хрусталь горой и ковры в несколько слоев. Здесь, во всяком случае, чувствовалось стремление обставить жизнь настоящим: если береза – то карельская, если аппаратура – то никак не плебейская, японская; пепельница, конечно, малахитовая; а чай, конечно, из фарфора – старого, тонкого, отлитого из одной туманной полупрозрачности, – настоящего.
Мы с час сидели за столом, пили чай – ничего заслуживающего внимания я не выяснил.
Он пошел вечером гулять с собакой – и пропал.
Врач ей сказал: Борис Минеевич ничего не помнит. Он все время просит пить, выпивает огромное количество воды и умоляет прогнать тараканов.
У меня чуть было не соскочило с языка: свихнулся, значит! Но я вовремя язык прикусил.
– Так-таки ничего и не помнит?
– Да вспоминает что-то... Путаное, туманное. Говорит, когда гулял в сквере, слышал за спиной – будто кто-то подкашливает... Сухо так, чахоточно.
Стоп, милая хозяйка богатого дома, стоп! Мне надо сосредоточиться – водящему в этом запутанном игровом поле крайне необходима сосредоточенность... Что-то слишком часто у меня над ухом звучит этот кашель: он рассыпан, распылен в огромном пространстве нашего города, совсем как те двенадцать палочек, которые ты, ползая на коленях, старательно собирал; ты обязан был их найти все до единой, аккуратно сложить на место, на подкидную доску, и только тогда получал право подняться в полный рост, размять затекшие суставы и оглядеться... Играем в "двенадцать палочек"? Ладно, играем, нам не привыкать – играли же дети когда-то под нашим старым добрым небом.
Чахоточная побирушка из электрички? Глупо. Учитель биологии, торгующий на блошином рынке голубиными тушками? Нелепо... Ну, не баба же Тоня! И тем более – не полуживая, обездвиженная старуха в окне напротив квартиры Девушки с римских окраин! Тем более – не Музыка...
Однако что-то в этом есть.
У них у всех, похоже, одна группа крови и один на всех кашель.
На всякий случай, я эти "палочки", подобранные в поле наших игр, придержу в руке. Пока я не знаю, зачем это делаю. Наверное, сказывается инстинкт игрока, и не исключено, что именно он когда-нибудь выведет меня к цели, и я соберу-таки рассыпанный кем-то на равновеликие доли смысл...
Напоследок она показывала мне семейный фотоальбом.
Если кому-то из наших киношников потребуется человек на роль классического сукиного сына, то ему следует разыскать Бориса Минеевича. Борис Минеевич может выйти на съемочную площадку без грима.
У него лицо осторожного, опытного в жизни котяры: мягкие, плавно перетекающие друг в друга черты лица, интеллигентные щеки, благородные скулы, аккуратный разрез рта – его можно было бы принять за профессора... ну, скажем, лингвистики. Если бы не глаза – острые, холодные.
– А это вот я!
Узкая каменная лестница, сдавленная тяжелыми, ампирной пышности перилами, не спеша подползает к гигантской, дореволюционных форм двери; изломанные тени ветвей стынут в камне парадного подъезда и – кажется – шевелятся, а воздух – чувствуется – светлый, свежий, прозрачный – воздух позднего марта, совсем левитановский; и, наверное, там, у каменной лестницы, пахнет талым снегом; слышно, как ручей протачивает во льду русло, и птичий крик сыплется сверху – с ветвей большого, не захваченного объективом дерева; а посреди весны облокачивается на каменные перила сестрица милосердия: белый халат, белая докторская шапочка, лицо монашки.
– Вы были медсестрой?
– Да... Давно. В Вятке.
– Борис Минеевич тоже оттуда?
Она кивнула: оттуда.
– А это кто?
Сельская улица, забор, лавочка, на лавочке старуха; ладони на коленях, плечи напряжены, лицо сковано ожиданием птички, которая должна выпорхнуть из фотокамеры, – так сидели женщины в фотостудиях прошлого века, поддерживая плечом тяжелую мужнину ладонь, а на заднем плане плюшевая портьера мягко стекала из-под потолка, приоткрывая туманный пасторальный пейзаж на стене.
– Это баба Катя... Мама Бориса Минеевича. Баба Катя.
Я почувствовал: она напряглась.
– Она очень хороший человек, баба Катя! – ее голос заметно изменился, потяжелел.
Я поинтересовался:
– Она в доме престарелых?
Женщина кивнула.
– Я ей денег посылаю. Туда... – ей было трудно выговорить слово "приют". – Не говорите только Борису Минеевичу.
– Не скажу.
Сукины дети калечат все, что вокруг них дышит и шевелится: женщин, детей, старух и собак.
Напоследок я рассеянно поинтересовался парфюмерной коллекцией – в самом деле у Бориса Минеевича такое хобби?
Она смутилась.
– Да, знаете... – она смущалась очень трогательно – так умеют только простые деревенские девушки в советском кино, поджимая губы, пряча взгляд и не зная, куда подевать вдруг полыхнувшее румянцем лицо; я и не предполагал, что нечто подобное встречается в жизни. – Он что-то в последнее время... Примерно с год...
Я не торопил и не вмешивался. Захочет – скажет. Нет – так нет.
– Он стал сильно потеть.
Я уже выходил на лестничную площадку, однако что-то заставило меня скомандовать себе: "стоп!".
– Как вы сказали? Потел?
– Да, – просто сказала она. – Вот и покупал себе, – она бросила кивок в сторону ванной, – а это...
– Постойте, – перебил я. – Постойте. Ему что, жарко было? Казалось – душно?
Она распахнула глаза:
– Откуда вы знаете? Он вам говорил?
– Да... – соврал я. – Говорил.
Похоже, за ним тенью ходит жара...
И за Катерпиллером – тоже ходит: вон он как потеет в своем прохладном кабинете.
Прикорнувшая было на подстилке Тэрри вскочила, завертелась под ногами – дать бы ей хорошего пинка...
А хозяйку – жаль.
Страшно хотелось курить, но спичек в кармане не оказалось. Выйдя из подъезда, я поискал глазами потенциального курильщика. Аккуратный паркинг перед домом был почти пуст – середина дня, самое рабочее время. Один подраненный "мерседес" с мятым крылом, пара "жигулей" и раритетная кремовая "победа" с задранным капотом. "Старушка" была в очень приличном состоянии. Алчно распахнув пасть, она заглатывала какое-то вяло шевелящееся существо в крапленых масляными пятнами брезентовых штанах.
Скорее всего, с двигателем возится персонаж из породы старых автомобилей, хранящих верность первой любви: они сутками способны лежать под своими рыдванами, чинить, штопать, латать дыры, чутко вслушиваться в затухающий пульс изношенных одышливых движков, и нет такой силы, которая сподвигнет их на измену, заставит открыть сердце какой-нибудь вертлявой современной модели.
Согнутым пальцем я постучал по мощному крылу:
– К вам можно?
– Сейчас, сейчас...
Он оказался именно тем, о ком я подумал: старая шоферская кепочка с потемневшим от частых прикосновений промасляных пальцев козырьком, кожаная таксистская куртка на молнии, брезентовые штаны и тяжелые кирзовые башмаки с заклепками – в таких когда-то выступали воспитанники ремесленных училищ. На вид ему лет шестьдесят.
– Что с ней? – я ласково погладил крыло. – Инфаркт? Летальный исход?
– Да боже упаси! – он махнул рукой, отгоняя дурное предположение. – Стартер что-то барахлит. Это ничего, поправим. Мы еще побегаем.
Он не курил, но спички имел – в машине, на всякий случай.
Мы провели очень милую беседу размером в три выкуренных мной сигареты; владелец "Победы" много интересного рассказал про обитателей дома. Вообще-то говорил он исключительно о здешних автомобилях, но его комментарии были настолько самобытны и живописны, что вполне можно было составить представление о характере владельцев.
В порядке любезности я поддержал его философскую схему, согласно которой автомобиль выступал чем-то вроде Alter Ego того, кто сидит за рулем.
– А как же! – он энергично заглотил наживку. – Это уж точно... – сдвинув кепку на затылок, он сосредоточенно тер пальцем лоб, как будто разогревал трением слегка подостывшую память. – Вот один тут был. Заруливал во двор. Недельки три назад, что ли? Он еще когда вон там, из-за угла, выворачивал, я на слух определил: чахоточный...
Я инстинктивно напрягся.
– Так – двигатель... Он еще заглох потом. Прямо тут, у крайнего подъезда. А я ему прикурить давал.
– Он что, курит?
Он смотрел на меня сострадательно – такие взгляды кидают на тихо помешанных или убогих. Я вспомнил: "дать прикурить" – значит, помочь завестись от своего аккумулятора.
– И знаешь, водитель-то... Он сам вроде как чахоточный был, кашлял сильно.
– "Москвич"? Грузовой вариант? Белого цвета?
Поклонник автомобильной архаики мгновенно смыл со взгляда прежнее выражение – он разглядывал меня с искренним интересом. Он не понимал, как я догадался.
Психопат опасен для общества вовсе не тем, что эпатирует публику на улицах; и даже непредсказуемость его опрокинутого поведения можно на крайний случай перетерпеть. Он тем опасен, что трансформирует свой идиотизм в пространство, в окружающую среду, а психопатия заразительна. Я подумал об этом, когда прибыл на место, где нашли "ньюс-бокса" запертым в железный контейнер.
Его занесло аж за сто тридцать километров от Москвы, в крохотный дряхлый поселок, заброшенный, тронутый проказой тлена, облизанный мхами – мхи ползут по стенам гниющих изб; мхи – это щупальца земли, щупальца крепко держат деревушку и скоро втянут ее в землю.
Один из домов оказался обитаемым – я заглянул. На деревянной лавке у окна сидела старуха. Она поглядела на меня без тени удивления, испуга, радости – без тени какого бы то ни было чувства; поднялась, пошла встретить. Шаг ее был тяжел, нетвердые ноги слушались плохо и разучились держать легкое тело.
– Вы что, одна тут?
– Одна, одна... Боле не осталось никого. Дак ты ж видал, нету никого, вот я есть.
Она полезла в сервант, шарила маленькими руками по полкам, трогала посуду.
– Угостить-то мне тебя вот нечем, – смутилась она.
– Вы-то, мать, чем тут живете?
– Много ль мне надо, – сказала она.
Она ведь так и умрет, подумал я, просто однажды утром не сможет подняться; будет еще долго лежать на кровати с железными шариками на спинках, глядеть в потолок и думать: поскорей бы уж. Но жизнь будет уходить из нее неторопливо, и кто знает, сколько пролежит, пока сердце не устанет и, устав, избавит от хлопотных мыслей: "кто ж меня на кладбище снесет?"
– Так вы совсем одна на свете?
Старуха ожила, заулыбалась пустым ртом.
– Зачем одна? Дети, внуки у меня. Так ведь в городе они, квартиры у них там, работы, некогда им тут! – она выговаривала какую-то очень важную и естественную для себя истину, бесспорную: им – жить в самый раз, а мне с Богом разговаривать пора. И все бубнила что-то про детей: какие они у нее славные, как у них хорошо, и, значит, у нее тоже хорошо; и невозможно было оборвать обстоятельный рассказ, потому что это и было тем главным, тем единственным, что у нее оставалось и что задерживало пока на этом свете.
– Вот, ты говоришь! – вдруг по-стариковски основательно принялась она меня укорять неизвестно в чем. – Вот, говоришь! А ко мне тут сын приезжал! Крышу делал. Шифер вон положил...
Видел я этот шифер... Наверно, просто раздел крышу какого-то соседнего, давно обезлюдевшего дома.
Вряд ли она что-нибудь знает – барачные люди по природе своей нелюбопытны, тем более в таком возрасте.
К вящему моему изумлению, она что-то вспомнила: да, был тут человек...
– Возраст? Какой из себя?
Она рассеянно ласкала большим и указательным пальцами уголки губ – чисто старушечий жест, обозначает задумчивость и блуждание в потемках пустой, беззвучной памяти. Память стариков видится мне в форме огромного колхозного амбара, откуда давно вымели все до последнего зернышка: пусто, пыльно, скучно.
– Какой? Дак, какой?.. Никакой. Обычный, человек и человек.
Это уже существенно: никакой – значит, как все мы, никакие люди в никаком городе.
– Еще это... Кхэкал он.
– Кашлял?
– Ну... Кашлял.
– Где жил?
– Да тут где-то. Вроде б, в котельной.
– Какой котельной? Нет же тут ни черта никакой котельной...
– Там... – она повела взгляд в сторону окна. – Недалече тут. Машинный двор раньше был. Ну, и котельная при нем. Сын, когда приезжал, оттуда шифер брал, с котельной... – она испуганно покосилась в окно, потом на дверь и перешла на шепот. – Он ведь человека там нашел, Колька-то мой.
– Где?
– Как где, в котельной, где ж еще-то...
– Того, что кашлял?
– Да не-е-е! – она замахала на меня маленькими руками. – Другого. Больного совсем. В район еще его возил, в больницу сдавал – тот своими ногами ходить не мог. Сын и отвез. У него ж мотоцикл с коляской, у Кольки.
Я принес из автомобиля кулек с пирожками, купленными на всякий случай – конечно же, возле метро – положил на стол; старуха заплакала и пожелала на прощанье: Бог в помощь!
Котельная на машдворе – это в полутора километрах от деревни – представляла собой приземистое каменное строение без окон. Дверной проем чернел в облупившейся стене, а саму дверь я нашел внутри – ее сняли с петель, прислонили к стене. В дальнем углу – штабель сухих дров.
Я поднял голову. Крыша, в самом деле, наполовину разобрана.
Я вышел на улицу. Неподалеку от котельной чернела груда угля – поначалу я не обратил на нее внимания. Теперь пощупал, понюхал.
Свежий уголь. Его привезли сюда совсем недавно.
Я вернулся и обследовал котлоагрегат. Судя по всему, он еще вполне на ходу. К нему вплотную прислонен контейнер. Внизу, по всему периметру, контейнер густо зализан черной гарью. Груды головешек подпирают железные углы. Я покосился на поленницу, и мне стало не по себе. Я открыл дверцу и чуть было не опрокинулся навзничь: это был не просто дурной запах – меня едва не сшиб с ног настоящий залп зловонья.
В этом железном ящике кто-то жил, и жил затворником; возможно, он что-то ел и гадил там же, где ел.
Я попробовал себе представить все прелести этого времяпрепровождения: если котлоагрегат в рабочем состоянии, да еще если сам контейнер обложен костром, в железной конуре должно быть чудовищно душно.
Это, собственно говоря, была коптильня.
Но здесь коптили не рыбу и не мясо, а живого человека.
Его могли бы просто отправить на тот свет. Могли перерезать ему глотку. Кастрировать. Четвертовать. Пытать током. В конце концов из него могли бы сделать просто "корейскую собаку". Корейцы, возможно, и неплохие люди, но я не могу принять их живодерских обычаев: прежде, чем съесть собаку, они долго морят ее голодом, чтобы распухла печень, а затем бьют палками – собачий бифштекс хорош, по их понятиям, когда он сочен и кровит.
Ни то, ни другое, ни третье, ни десятое не выпало на долю затворника.
Его хотели именно закоптить в железной коптильне.
Я ехал обратно к деревне и думал о том, что мой чахоточный персонаж безумен. Он втаскивает в котельную металлическую клетку (интересно – как, с помощью крана, что ли?), потом сажает туда Бориса Минеевича – и потихоньку коптит.
Он сумасшедший, это не вызывает сомнений.
Я заехал к старухе, нашел ее на том же месте и в той же позе, в какой оставил. Кулек с пирожками она не тронула. Я пожелал ей счастливо оставаться – она тихо и ласково призвала ласкового Бога дать мне здоровья; отвернулась, уставилась в окно.
На обратном пути я тасовал в памяти образцы хрестоматийных текстов, в которых действуют психи. Но то ли колода от времени поистерлась, то ли все карты в ней были одного достоинства, но в трех мастях: либо физиологический очерк о черной бытовухе психического дома; либо та же бытовуха, но разжиженная намеком на иллюзорность стен психиатрического узилища и замкнутая в финале совершенно неоригинальной моралью (эти стены, собственно, очерчивают границы всего нашего сумасшедшего мира); третья масть сообщала представление о вывернутости наизнанку самой конструкции дурдома: там, внутри – пристанище людей нормальных, зато уж все мы, существующие снаружи,– конечно, со сдвигом.
Впрочем, вряд ли кто из классиков мог предположить, что наступит время, и на дворе у нас будет не весна и не осень, не зима или лето, а просто – "Большой налет" Хэммета. А в "зоне боевых действий", где половина населения таскает с собой боевое или нервно-паралитическое оружие, любая выходка помешанного смотрится чем-то вроде детской игры в куличики.
Я вернулся домой к середине дня. Сварил кофе. Чашка кофе и сигарета – вот что мне было нужно. Но сигарет не оказалось.
Делать нечего, придется прогуляться к метро*[23].
Перед спуском в подземный переход стояла гигантская автоцистерна. В таких емкостях перевозят мазут. Картонка на раскладном столике уведомляла, что в цистерне плещется вино "Карабах". Напиток разливал из шланга грязный человек с бурым, обветренным лицом, в засаленном ватнике.
– Это взрывоопасно?
Мне достался угрюмый взгляд исподлобья.
Я ничего не имел против вина как такового, но присваивать ему такое название сейчас... Если сам по себе Карабах – пороховая бочка, то одноименным вином, наверное, можно начинять бутылки и кидать их под танки: танки не пройдут.
– Или бери, или гуляй, – сказал человек в ватнике.
– Беру, беру...
Сорт, колер, вкус, запах и в целом букет вина из цистерны идеально точно ложились в понятие "портвеюга".
В желудке у меня вспыхнул конфликт.
Я спустился в переход и увидел неподалеку от лесенки старуху, сидящую на деревянном ящике. Тут церковь рядом; прежде они гнездились поближе к паперти, а теперь двинулись за чугунного литья церковные ворота и растеклись по городу; спины их согнуты вопросительным знаком, и эти вопросительные знаки есть знаки постоянства, вмороженности нашего бытия во время: так было четыреста лет назад, и сто, и вчера, и сегодня. А завтра?
Надо бы ей что-то дать, но мелких денег нет.
Купив пива и сигарет, я зашел в метро и попросил разменять крупные купюры мелочью.
– Мелкими? – огрызнулась грузная женщина, командующая обменом мятых бумажек на жетоны. – Зачем тебе мелкими!
– На растопку...
На обратном пути я положил в узкую, вытянутую лодочкой ладонь комок ассигнаций. Старуха кивнула и перекрестила меня – она тут всех крестит.
Телефонный звонок я услышал на лестнице.
Это были кукольники.
Кукольники – чрезвычайно милая, тихая супружеская пара. Это тот тип теплых, спокойных, интеллигентных людей, которые смотрятся в рамках нынешнего жанра рудиментом*[24]. Они изготовляют куклы для кукольных театров.
Впрочем, "изготовляют" – не то слово. Кажется, Пришвин заметил: большое дело – вырастить и написать книгу... В этом все кукольники – они как раз выращивают.
В своем деле они известные люди – их детки играют на театральных подмостках Германии и Австрии, в Америке и, кажется, даже в Австралии.
Сколько я их помню, они вечно слоняются без своего угла.
Последнее их пристанище напоминало помесь психбольницы с отделом внутренних дел. Какая-то приятельница, смотавшаяся в Израиль, сдала им квартиру. Сдала и сдала – спасибо ей. Но в первый же день выяснилось, что жилище она сдала вместе с мужем. Муж у нее алкаш. По соседству с домом пивнуха. Остальное нетрудно домыслить.
Не так давно они забегали ко мне в гости. Я пожелал этой стерве, загорающей под жарким небом Иерусалима, попасться в темном переулке шайке серьезных молодых людей из арафатовских террор-питомников – они были шокированы: "Да что ты, как можно! Она, в целом, неплохой человек..."
В конце концов их комнату обчистили. То ли сам муж, то ли его приятели. Если бы унесли только вещи, это можно было бы пережить.
Но эти ублюдки унесли куклу.
Куклу они растили почти целый год – пестовали характер, оттачивали темперамент, лепили образ. Когда я думаю, что алкашня толкнула ее в своей пивнухе за трояк, мне становится тошно.
Последние несколько лет их обстоятельства складывались относительно благополучно; театр арендовал в центре, в старом трехэтажном доме, помещение под мастерскую. Там они и жили, в мастерской.
Звонил кукольник, голос у него был потерянный. Учитывая карабахский конфликт в желудке, я решил обойтись без машины, пошел пешком.
Я давно не гулял по улицам, и потому не предполагал – насколько же их много: в подземных переходах, у дверей магазинов, просто на тротуарах; они стоят, сидят, стоят на коленях, лежат или валяются, дохают, кашляют; они безучастны к движениям текущей мимо жизни, и все, чем они с этим движением соединены, – это их протянутые руки... Эти руки – даже у женщин и у детей – корявы, тяжелы, грубы, они походят на окаменевшие корни погибшего дерева и вряд ли когда держали легкое гусиное перо над листом бумаги или хрупкий ветреный веер; их не грела никогда ласка пушистой муфты и не обтягивала лайка перчатки, ничьи губы не оставляли на них тепло поцелуя; их ладони жестки, шершавы и заляпаны гранитными кляксами мозолей – этот гранит до блеска отполирован черенком лопаты, рукоятью серпа и ручкой шахтерской тачки. Их лица уродливы, асимметричны, они скроены по одному образцу и выточены все из одного и того же материала: иссохшегося, растрескавшегося дерева – в таком сером, грубом, сухом материале выполнены корчи и конвульсии заброшенных, обглоданных ветрами и дождями плетней...
Знать бы – наменял больше мелочи... А "палочку", на всякий случай, прихвачу с собой.
В подъезде стоял особый, настоянный на пыли, запах. Из чего именно он составлен – кто ж его знает... Должно быть, это сдвинутые с привычного места половики, старые газеты, завалившаяся давным-давно за диван книжка, заскорузлые цветочные горшки с окаменевшей пепельной землей, репродукция или картина, от которой в обоях осталось темное клеймо, подточенные молью рукавицы из шкафа – словом, все, что веки вечные врастало в свое законное укромное место, и вот вдруг сдвинуто, вырвано, выломано из суверенной ячейки быта и свалено в кучу; да, это особый запах – переселения.
Я толкнул дверь в третьем этаже – не заперто – и понял, что обоняние меня не обмануло.
Тут была коммуналка образца двадцатых-тридцатых годов – обширная кухня, укромные уголки и закоулки в путаном, лабиринтно-шарахающемся то в одну, то в другую сторону коридоре. Жильцы отсюда разлетелись по новым районам; на их место слетелись художники, наполнили коридоры собой – своими бородами, туманными взглядами, путаными речами; в мастерских полумрак грелся у свечных огней; говорили, пили вино, работали.
Они, кукольники, сидели за круглым столом друг против друга посреди полного разгрома – впечатление было такое, что с мастерской заживо содрали кожу.
– Вот, – сказал он.
– Что вот? – спросил я с порога.
Пару дней назад к ним заявился деликатный подтянутый паренек и скорбно поведал, что ему очень, очень, очень жаль – но дом продан. Куца продан, кому продан? Меховой фирме. Тут будет после реконструкции меховой салон. А жильцы? Напротив в квартире три старухи, во втором этаже еще одна – вместе со старухами, что ли, продан? Выходит так, увы, увы... Словом, в трехдневный срок необходимо освободить помещение. А куда податься-то? С мастерской, с оборудованием, с пожитками? Он сказал: я все понимаю, но это уже не наш вопрос...
– Он что, так и сказал: не наш вопрос?
Она подняла на меня глаза:
– Вот именно: это не наш вопрос – сказал.
Есть речевые обороты, позволяющие определить сорт и качество персонажа. "Это не наш вопрос" – всего одно из родимых пятнышек, какими облеплены с ног до головы все наши начальнички, начиная от президента и кончая вахтером.
– Странно, – сказал он. – Я не запомнил лица. У меня отличная память на лица, но тут я не запомнил.
Наверное, деятель средней руки. У по-настоящему богатых – рожи примечательные.
– А задница?
– Что-что? – близоруко прищурился он.
– Ну, задница у него – какая?.. Могучая?
– Пожалуй, да.
Возможно, в прошлом комсомольский работник. Вообще мне нравятся эти ребята, борцы за идею: вчера – коммунистическую, сегодня – капиталистическую. Наверное, и в конфуцианстве они будут чувствовать себя как дома, если в кремлевских кабинетах – чего у нас не бывает! – вдруг засядут конфуцианцы.
– Давай набьем ему морду?..
Он покачал головой, она тоже: этим делу не поможешь.
Знаю... Все эти домишки, особнячки так и будут потихоньку рассыпаться; их не привести в божеский вид, если не вкачать в дело приличные деньги, – но я все равно с удовольствием дал бы этому пареньку в морду.
Мы пили восхитительно душистый чай, настоянный на каких-то целебных травах, и вели типичную для современного жанра застольную беседу: без цели, смысла, эмоций, без особого интереса к словам и выражениям.
– Работаешь? – спросил кукольник, заваривая свежую порцию (он, в самом деле, божественно готовит чай; чаевничанье в его компании – это не просто питие горячего напитка, это ритуальное пиршество, полезное, ко всему прочему, для здоровья); конфликт в моем желудке стал медленно потухать, враждующие стороны заключили перемирие и прекратили стрельбу. – Или так? Перебиваешься?
– Трудно сказать... Сочинительствую.
Я в общих чертах рассказал о замысле.
Кукольник, свернув челюсть на бок, сосредоточенно скреб подбородок. Замысел он прокомментировал в том смысле, что сам по себе сюжетный ход достоин фантазии матерого, закоренелого клиента психушки, однако, – заметил он, вернув челюсть на место, – он не предполагал, что я настолько "созрел" для этого заведения.
– Хотя... – он медленно, внимательно "лечил" заварку, – такого рода закидоны, теперь, похоже, вполне в рамках нормы.
Еще бы, милый друг, еще бы. Вся разница между жанром недавнего прошлого и жанром теперешним состоит, разве что, в нюансах клинического диагноза: если лет десять назад наше лежание с книгой на диване, эта дремучая, бесконечная берложья лежка, могла быть расценена как тихое помешательство, то теперь шанс выжить есть только у буйно помешанных: все "тихие" незаметно, без криков и причитаний публики, помаленьку вымрут – от тоски, ощущения своей ненужности на этом варварском, языческом празднике жизни, и, конечно, от голода.
– Да, – согласился кукольник. – Кому хорошо, так это – им... Им все нипочем.
Он смотрел куда-то мимо меня – влево и вверх, я обернулся, пустив взгляд вдогонку: цепляясь за книжные корешки, он, наконец, добрался до верхней полки стеллажа.
– Господи! – выкрикнул я. – Нашелся!
У стеллажа, на самой макушке, сидела кукла. Это был неказистый субтильный человечек неясного возраста, роста низенького, несколько рыжеватый, несколько даже на вид подслеповатый, с небольшой во лбу лысенкой и цветом лица, что называется, геморроидальным... Впрочем, в нем не хватало маленького штриха. Я сразу – как только впервые эту куклу увидел – говорил автору, что человечку надо пошить шинель. Дело, конечно, хлопотное, однако куда деваться? А шинель пусть будет из добротного, крепкого сукна, на подкладке из коленкора и с кошкой на воротнике – издали эту кошку вполне можно принять за куницу. Я знаю место! – убеждал я кукольника, – очень хорошие, справные шинели веки вечные пошивает на всю нашу гигантскую орду портной по имени Петрович, жительствующий, как известно, в столичном городе Петербурге, на тусклой улице, в безглазом каком-то доме, с черной, пропитанной насквозь спиритуозным запахом лестницей; мы зайдем и, как всегда, застанем Петровича на месте, и на месте будет его кривой глаз, и изуродованный ноготь большого пальца, и рябизна по всему лицу, и его твердое убеждение – что все наши беды от немцев – тоже будет на месте. Он скосит свой и без того кривой глаз на нас и глубоко потянет воздух, натаскивая в нос нюхательного табаку... Заодно и себе справим новые шинельки.
Помнится, кукольник тогда обиделся немного – он говорил, что, выращивая эту куклу, он не имел в виду Акакия.
– Ну, привет! – сказал я человечку. – Долго же ты гулял.
Он, как выяснилось, нашелся в пивной. Сосед кому-то продал, а новый владелец – того же поля ягода – забыл спьяну на столе.
Со временем кукла сделалась чем-то вроде талисмана в заведении. Ее усадили на высокий подоконник, куда-то под самый потолок: в этой пивнухе окна были как в сортире – высокие и узенькие.
Примерно с полгода человечек взирал сверху на то, как серолицые мокрогубые люди муравьино шевелятся внизу, пьют, блюют, мочатся под стол, дерутся, сквернословят, плачут и засыпают, камнем обрушившись на влажные столешницы.
– Бедный ты, бедный! – жалел я его. – Досталось тебе... И как ты только не рехнулся!
– Он-то в полном порядке! – заверил кукольник. – В полном! Не то что...
Перед уходом я пообещал заехать завтра: помогу хоть вещи на машине перевезти.
– Куда? – спросил устало кукольник.
Об этом я как-то не подумал. Перевозить в самом деле некуда.
Часов в семь позвонил Катерпиллер. Выслушав его, я в полный голос, от души выругался. На пороге своей комнаты бесшумно возник Музыка.
– Ты чего? – спросил он.
– Андрюша, – очень серьезно произнес я, прикрыв трубку ладонью. – Кто тут пил керосин? Керосином пахнет.
Музыка оттопырил нижнюю губу и поглядел на меня с явной укоризной.
– Выходит, это наше дело пахнет керосином!
Минутой раньше Катерпиллер будничным голосом сообщил: пропала Виктория.
Мое предложение заехать завтра с утра пораньше Катерпиллер отклонил: устал, вымотался, надо отдохнуть, "отмокнуть".
Я знаю, у него есть бзик, пунктик: если сильно устал, взять машину – не представительную, естественно, а собственный, практически простаивающий без дела "жигуль", старенький, обшарпанный, с треснутым лобовым стеклом – сесть за руль и пропасть из виду.
Пропасть – значит скрыться на даче.
Насколько мне известно, у него дача в ближнем Подмосковье – каменный дом с теплым сортиром, ванной и биде. Но даже в узком кругу мало кто знает, что есть еще одна дача, родительская. Когда-то Пузырь купил простой деревянный дом в старом, еще в тридцатые годы заложенном поселке. Родители умерли, дом пустой – идеальное место для уединенного отдыха.
Согреть мощным кипятильником ванну, залечь, задремать, отключиться – "отмокнуть".
Я спросил, как дела у Бориса Минеевича – поправляется?
Поправляется, но медленно. Врачи говорят, что он пережил мощный психологический шок, и когда его психика придет в норму, никому не известно.
– Ну, счастливо тебе отмокнуть... И вот что. Захвати с собой пару килограммов яблок.
Он не понял и, кажется, немного обиделся.
– Поедание яблок в ванной – это привычное рабочее состояние Агаты Кристи, – объяснил я. – А эта тетка очень хорошо знала, что делает... Лежишь себе, греешься, грызешь шафран... Это стимулирует воображение, в голову приходят интригующие коллизии. Другого способа движения к смыслу нашего сюжета я пока не вижу.
Чахоточный псих похищает людей, доводит их до сумасшествия и отпускает с миром – фабула сама по себе занятная, но она оставляет слишком мало шансов для постороннего в нее вмешательства.
– Кстати, с чего ты взял, что Виктория в самом деле пропала?
– Она не появилась в офисе.
Я вспомнил нашу встречу. Пожалуй, он прав: если такая женщина не появляется в конторе, не уведомляет коллег о чрезвычайных обстоятельствах, внезапной болезни, значит, с ней в самом деле что-то стряслось.
– А дома? Кто-нибудь к ней заходил?
Трубка долго накалялась – ее накаляло молчание Катерпиллера; похоже, что ее навещали. И, скорее всего, навещал он сам.
– Ну?
– Там был я, – едва слышно произнес Катерпиллер.
– Это как же?
– У меня есть ключ. Свой...
Дело, конечно, хозяйское, но я вряд ли рискнул бы приблизиться к такой бабе ближе, чем на три метра. А что касается всего остального, то предаваться с ней любовным утехам – это, на мой взгляд, все равно что спать с гипсовым памятником: гипс – материал хороший, прочный, но он не поддается размягчению, его можно либо раскалывать, либо резать хирургическим секатором.
– Было впечатление, что она вышла на минуту... Ну, скажем, за газетой... И не вернулась. Чашка с чаем в кухне. Сгоревшая сигарета в пепельнице – не искуренная, а именно сгоревшая, остался длинный хоботок пепла... Сидела на кухне в домашнем халатике, покуривала. И сгинула.
– Откуда ты знаешь?
– Что? – не понял Катерпиллер.
– Почему именно в домашнем халатике?
Он без тени смущения разъяснил: это ее (если, конечно, не ожидаются визитеры) привычная домашняя спецодежда, вот так по-простому: коротенький халатик на голое тело – и никаких излишеств. Удобно и гигиенично – в квартире окна на солнечную сторону, да и топят изрядно: жарковато...
– Ты не подумывал о том, чтобы пригласить в фирму – ну хоть бы на денек – специалиста по тропическим болезням?
– Ой, ну хватит! – зло выкрикнул Катерпиллер. – Все тебе шутки шутить!
– Я серьезно. Опять – жара? Похоже, вы подхватили малярию: испарина, жар, впечатление духоты... Ну да ладно. А что милиция?
– Смеешься, что ли? – огрызнулся он. – Какая милиция? Где милиция? Она такими делами не занимается. А потом, у них сейчас одни большевики на уме.
И то верно: большевики вышли из окопов и подсластили серость улиц кумачом. Кроме того – в рамках современного жанра бесследное исчезновение огромного числа людей стало делом привычным. Город превратился в "зону боевых действий", а где война, там и без вести пропавшие.
Я пошел на кухню – согреть чай, поискать в холодильнике что-нибудь съестное.
Из всего обилия продуктов – цветущих, спеющих, сочащихся сладкими соками, лоснящихся, жарящихся, парящихся, пекущихся за прочным переплетом "Книги о вкусной и здоровой пище" образца пятьдесят третьего года – сквозь сито долгого времени прошли и осели в холодильнике три яйца и кусок сала.
Яичница так яичница. Желтки, схваченные раскаленным жиром, взорвались, прозрачный студень белка мгновенно побелел и покрылся ожоговыми волдырями.
Но за шипением сковородки я услышал: Музыка постанывает. Наверное, проснулся и пробует подняться с кровати.
Я подошел к его двери, прислушался.
Звякнула струна – звук секунду постоял над обшарпанной декой, потом тронулся и характерно изогнулся, утончаясь, завиваясь в кудряшку – это Музыка подтягивает колок... Вскоре за дверью зажурчало. "И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый"... – я, позабыв про раскаленную сковородку, вознесся в наше старое доброе небо.
А свихнулся Андрюша незаметно – даже под нашим добрым небом были все удивлены.
Мало ли что у нас, в Агаповом тупике, происходит – все бывает: спиваются, идут в тюрьму по пьяному делу, тонут в Москве-реке, умирают от сердца, и кто-то даже ухитрился попасть под трамвай – вон как! – но в движениях этой жизни есть своя логика, последовательность и упорство, с которым тот или иной житель нашего доброго неба стремится либо к переломной, либо к финальной точке пути... И вот бабушка, сидя вечером за вязанием в конусе скаредного света от торшера, позвякивает спицами.
– Ничего удивительного, – говорит она и спускает петлю. – Он к этому шел...
Уже вечер; синий абажур торшера глотает львиную долю света, отдавая комнате лишь матовую размытую просинь.
– Свихнулся человек! – подводит итог бабушка.
Кто бы спорил. После какой-то очередной гастроли не приходит он к доминошному столу, хотя и просят его. А на следующий день он возникает во дворе в бабском халате.
– Ах, вы! – обижается он на усмешки. – Это же кимоно! – и, по обыкновению, лезет за пазуху, достает комок купюр – он всегда носит так деньги, скомкав снежком.
Потом Андрюша, как всегда, регулирует пальцем угол булькающего наклона, кидает водку в рот, промакивает губы шелестящим краем японской одежды.
Бабушка откладывает вязание, опускает очки на кончик носа.
– А тебе больше к нему ходить не следует! – и строго смотрит на тебя.
– Не следует ему ходить! – и переводит взгляд на отца.
Отец, ломая о нижний резец карамельку и перечеркивая подбородок липкой нитью патоки, молча кивает.
Это они к тому, что Андрюша учит тебя на аккордеоне.
Ты уже и не помнишь, по какой надобности оказываешься в его комнате... Скорее всего, бабушка посылает – бабушка часто снаряжает тебя к соседям.
– Попроси соли, – инструктирует она. – И непременно заметь, что это взаимообразно.
Ты плохо понимаешь значение этого слова, однако оно ласкает слух и плавно перекатывается на языке, и потому прямо с порога торопишься оповестить:
– Взаимообразно! Спичек у вас нет?
Андрюша сторонится, пропуская тебя в комнату. Ты шагаешь за порог – и слепнешь.
Как богато...
Вернее сказать – как безалаберно-богато живет Андрюша... Тут дорогая мебель; ковер глушит шаг и впитывает все посторонние неуместные звуки; хрусталь в горке магнитом притягивает солнечный луч и рассыпает его на искрящиеся зерна, и эти ослепительные зерна поклевывает тонконогий журавль, вписанный в бедро огромной напольной китайской вазы...
– Вы так живете...
– Богато, что ли? – смеется Андрюша. – Да уж...
И только немного освоившись с обстановкой, начинаешь ты понимать странное свойство его богатств, их безалаберное нагромождение. Ковер по центру залит чем-то темным, чернильным, ваза припудрена пылью, мебель абы как расставлена... "Ну что же, – думаешь ты, – легкие деньги, легкое богатство". А наши богатства, собранные по копейке, наши трудовые, чугунно-тяжелые роскошества – все эти комоды, шифоньеры, трюмо, бабушкин торшер, кроватные коврики, грубая грань плебейских стаканов в алюминиевых подстаканниках – они имеют совершенно иной, основательный смысл, а тут что? Легкие деньги...
Пока он ищет спички, ты подходишь к аккордеону, стоящему на стуле.
– Вещь, да?! – оживляется Андрюша. – Вещь, сынок, шесть регистров, это тебе не гармоника... Хочешь?
Он усаживает тебя на стул посреди комнаты, приказывает не горбиться, осторожно опускает инструмент на колени – ноги сразу начинают ныть под тяжестью инструмента. И невозможно себе представить, что этот холодный перламутровый ящик хранит в себе божественный звук, и этот звук можно достать из него вот этими твоими деревянными пальцами.
– Ничего, ничего, – успокаивает Андрюша, – дело привычки. – И пропихивает твое плечо в черную петлю лямки. Он устанавливает левую руку, массирует кисть и помогает тебе на первый случай растянуть меха.
– Дышит, – говоришь ты. – Как живой...
Он будто бы пропускает твой голос мимо ушей; он занят вылепливанием твоей руки, но вдруг он опускает пальцы – инструмент замолкает и очень долго молчит – Андрюша вглядывается в твое лицо. Очень тихо, с крайней степенью серьезности и удивления он говорит:
– Да-да. Как ты хорошо сказал! Конечно, живой, конечно! Будем играть, обязательно! – и ты ходишь к нему три раза в неделю заниматься.
Ходишь в том случае, если Андрюша трезвый. Когда Андрюша пьяный, к нему лучше не заходить – он плачет.
Однажды ты видел.
Ведь не один женский халат привез тогда Андрюша из поездки в какие-то дальние страны. Среди привычной роскоши в его комнате расцвел еще один предмет, и это был совершенный блеск! Как блестели никелированные ручки, и как необычна была сама форма предмета – не то что грубые ящики наших шепелявых радиол! И не кривой, как загипсованная рука, сустав звукоснимательной трубки... И никакой шепелявости, никакой шершавости звука: изящная никелированная лапка, слегка согнутая в запястье, плавно опускается на вертящийся блин пластинки, и видно, как поблескивает тонкий, алмазный ноготок иголки... Андрюша сидит на полу, нелепо разбросав ноги, глаза его прикрыты, а губы шевелятся в такт покачиванию пронзительно-тонкого детского голоса, звучащего в динамике восхитительного проигрывателя:
– О со-о-о-о-о-ле, о со-о-о-о-ле миа...
В том месте, где голос взлетает, проясняется до самого светлого, ангельского тона, Андрюша распахивает влажные глаза. Медленно гаснет детский голос и тонет в шипении холостого хода пластинки; никелированная ручка подпрыгивает, будто поймав занозу под ноготок, и висит над диском – как дамская рука в кружевной розетке, ожидающая поцелуя. Взгляд Андрюшин твердеет, он замечает тебя.
– Аа-а, это ты... – уронив голову на грудь, он тихо поскуливает, – "И тогда с потухшей елки... и сказал он мне, маэстро... маэстро..." Забыл. Забы-ы-ы-л...
– "Маэстро, вы устали, вы больны", – поддерживаешь ты шаткую его память.
Он вскидывает голову и тянет к тебе руки: в глазах его стоит какая-то просьба – такой глубины и такой степени сокровенности, что, пожалуй, это и не просьба вовсе, а скорее мольба, но, по молодости лет, тебе трудно проникнуть в ее смысл, и, коченея от стыда, ты подвываешь:
– Говорят, что вы в притонах... По ночам поете танго.
И Андрюша плачет уже навзрыд.
А через два дня он ничего такого не помнит; он с прежней доброжелательностью вылепливает твою левую руку, пристраивает к клавиатуре правую – кажется, ты делаешь успехи. После занятий вы пьете чай с баранками, Андрюша рассказывает про многочисленные поездки с ансамблем народных инструментов.
Афишными листами тут заклеены все стены – по ним ты станешь изучать географию. Вон тот лист, справа, у окна – это Тамбов (в городе Тамбове скверная гостиница и кран в номере течет). Рядом – Калуга (в Калуге есть река Ока). Следующий квадрат – это Венеция (там, на большой площади с цокающим именем, на какой-то там Ламца-дрица-и-ца-ца-площади мы подарили девушке-цветочнице матрешку и она засмеялась: "Грацци!"). Рядом – Неаполь (здесь свежий ветер из гавани мягко, как пушистая мыльная пена для бритья, ложится на щеки, и пронзительно пахнет морем, рыбой, подгоревшим кофе, легким бесцветным винцом из открытой кафешки, накрытой матрацно-полосатым тентом; покрикивают торговцы на рыбном базаре, и все, что есть тут, живет и движется – звучит, звучит в неярком, пастельном мажоре; музыкальный аппарат в кафе самостоятельно выбирает пластинку из длинного ряда, укладывает ее на диск, а из динамиков звучит этот немыслимой чистоты голос: "О соле, о соле миа..." – эту пластинку мы купим...)
Но музицируем мы все реже и реже.
Андрюша почти каждый день бывает во дворе, и, значит, к вечеру он бывает пьян, а в нашем добром небе, во всех его закоулках и подворотнях, во всех распахнутых окнах поселяется со временем тот светлый ангел, голос которого ты когда-то слышал в Андрюшиной комнате. Он теперь у нас ангел-хранитель на свадьбах и именинах, ангел-благовест на застольях по случаю рождения детей – и только на похоронах он молчит.
"А-а-а-ве, Мари-и-и-я..." – в одном окне. "Джа-ма-а-а-йка!" – в другом, а Андрюша все свихивается и свихивается; руки твои постепенно черствеют без музыкальных упражнений, и как-то вечером отец приказывает:
– Чтоб к нему больше ни ногой!
– Верно, – соглашается бабушка, – пусть ходит в музыкальную школу... В класс фортепиано.
И постепенно пропадает Андрюша – вернее сказать, он умолкает: он больше не звучит, и становится во дворе тихо, настолько, что даже в нашем старом добром небе были все удивлены.
Виктория нашлась через неделю.
Ее подобрал на пустынном участке шоссе, километрах в ста от Москвы, один из "дальнобойщиков" – водителей тяжелых трейлеров*[25]. Скорее всего, он толком и не разглядел, кого подхватил. А присмотреться стоило.
Она была одета в коротенький шелковый халат и легкую мужскую куртку, которая была ей явно велика.
Только в кабине оценив приобретение, "дальнобойщик" счел нужным подбросить ее до ближайшего поста и сдать от греха подальше на руки гаишникам.
Симптомы все те же, что и у "ньюс-бокса": провалы в памяти, крайнее физическое и нервное истощение.
Я заехал в контору и первым делом узнал у Катерпиллера, что она выписывала.
"Коммерсант", "Куранты", "Независимую".
Что ж, обойма вполне в ее характере.
– Только это?
– Кажется, еще что-то... Да, "Известия". Это имеет какое-то значение?
Возможно, возможно... "Известия" – вечерняя газета, ее просматривают на сон грядущий.
– Да-да, она всегда перед сном читала. Кажется, "Известия".
Занятное, наверное, зрелище: она читает, Катерпиллер ерзает под одеялом и где-то в районе пятой полосы раскаляется настолько, что начинает дымиться.
Ее обнаружили, настолько мне известно, в странном наряде: шелковый халат – не та одежда, в которой выходят перед сном подышать воздухом. Значит, она спустилась за газетой, и наш персонаж поджидал ее в подъезде.
– Там есть где спрятаться?
Он прищурился, припоминая.
– Пожалуй... Да, у лифта маленькая ниша.
– А куртка?
– Что куртка?
– Болоньевая коричневая куртка. Фасон начала восьмидесятых годов. Теперь в таких ходят на дачах. Это твоя куртка?
– Нет. И у нее такой не было. Точно.
Мы знаем пока чертовски мало. Он покашливает – впрочем, это детали, не существенно. Существенно вот что: он знает людей из фирмы и знает неплохо. Знать их привычки – это уже полдела. Борис Минеевич имеет привычку прогуливаться по вечерам с собачкой – он ждет его во дворе. Виктория перед сном спускается за вечерней газетой – он караулит ее в подъезде.
– Ты увольнял кого-нибудь из конторы в последнее время? Выгонял? Вышибал на все четыре стороны?
– Нет. Ничего такого.
– Он имеет какое-то отношение к вашим делам. Или имел. Значит, в ваших делах что-то не так.
– У нас все чисто! – снисходительно улыбнулся Катерпиллер. – Безупречно!
– Это ты в налоговой инспекции станешь рассказывать... Чтоб в ваших делах, да все чисто – так не бывает.
– Я в том смысле, что все в рамках нормы. Все до последней запятой.
– Выходит, не все. В той голубой папке, что приносила Виктория, я ничего не нашел, никаких зацепок – в коммерции ни черта не смыслю. Зато смыслишь ты. Вспоминай, вспоминай... Кого-то вы сильно нагрели. Раскинь мозгами, вспомни. Наш воображаемый герой вас знает – это бесспорно. Равно как и то, что он душевнобольной... Ладно, пока, я заеду к ней в больницу... Кто-то из ваших у нее уже был?
Катерпиллер показал глазами на дверь:
– Лена... Ну та, что в приемной сидит. Они вообще-то дружны... Такая, знаешь, могучая бабская солидарность.
В приемной Лена метнула в мою сторону косой взгляд, короткий, но достаточный, чтобы прочесть в нем намек: скажем, присесть, как обычно, на край ее стола; скажем, поинтересоваться, как жизнь молодая; скажем, позвать в кабак.
Старик Фрейд туг бы не смолчал.
Бумажку с адресом клиники (Катерпиллер сунул ее в карман моей куртки несколько небрежно – так рассеянно погружают в карман ресторанного швейцара банкноту) я развернул только в машине.
Пока я был в конторе, потек снег – он плавно соскальзывал по слегка наклонным трассам дождя и у самой земли распадался в водяную пыль. Я быстро пробежал взглядом адрес, кинул записку в ванночку для мелочевки под "ручником", тронулся – и тут же встал. Перечитал.
Заполняя листок своим аккуратным мелкозубым почерком, Катерпиллер бубнил себе под нос: "Бабки, милый мой, бабки!" – я не придал значения этой фоновой реплике, и только теперь оценил ее.
Его платиновое перо проложило вектор моего движения – в Кунцево... Аббревиатура "ЦКБ" кое-что, да значила.
Машину я поставил за автобусной остановкой. Отсюда, не спеша, тянулся народ с сумками и авоськами – процессия медленно всасывалась в пограничную будку слева от широких ворот. Скорее всего, там бюро пропусков.
Очередь к квадратным маленьким окошкам подвигалась медленно. Я отстоял минут двадцать... Согнулся, просунул голову в глубокий проем. Меня поразил не столько даже идеальный порядок, царивший в канцелярии, сколько хранители и распорядители пропускной карусели.
Визитные нужды граждан обслуживали два человека с лицами отставных офицеров госбезопасности: в них не читался ни возраст, ни образ мыслей, ни степень заостренности интеллекта – профессиональная ценность таких лиц состоит именно в том, что они – никакие.
Исследовав записку с именем и фамилией пациентки, один из них порылся в картотеке, извлек из нее бланк, внимательно его просмотрел и медленно перевел взгляд на меня.
– Паспорт! – требовательно произнес он странным, загнанным вглубь грудной клетки, голосом; губы его при этом едва шевельнулись.
Паспорт. Об этом я как-то не подумал... Я даже не знаю, есть ли у меня паспорт. Во всяком случае, уже не меньше года я его не держал в руках.
– Хотя, – продолжал он, – это дела не меняет. Во-первых, она никому не заказывала пропуск. И, во-вторых, к ней пока нельзя.
Интересно, как в таком случае удалось прорваться ее подружке из приемной – взятку, что ли, она дала на вахте?
Я вышел на улицу и двинулся вдоль прочного бетонного забора. Еще совсем недавно эту стену охраняли, наверное, не хуже, чем Берлинскую. Хотя вряд ли находилось много охотников бежать из-за ограды во внешний мир.
О том, чтобы перелезть, нечего было и думать. Но метрах в пятидесяти от ворот я приметил как раз то, что мне нужно: любопытствующая береза наклонялась к забору и заглядывала на запретную территорию. Лазать по деревьям я еще не разучился. Мускулистая ветвь стряхнула меня на ту сторону, в компанию низкорослых декоративных елок.
Я почувствовал себя лазутчиком на вражеской территории. И не потому, что пиратским способом проник в заповедные земли, а просто здесь стоял другой воздух: слегка мутнее, спокойней обычного городского, и с примесью горчинки – где-то неподалеку явно жгли костер.
Сладкая, полной спелости тишина особого сорта – такая созревает, разве что, в осеннем подмосковном лесу – стояла меж деревьев и продлялась в сырой аллее. Асфальт дорожки был ритмично насечен разметкой для пешеходных прогулок. Миновав монументальный корпус, крепко сбитый в духе ампира пятидесятых годов, я двинулся в направлении зданий поздних времен: одно из них помечено номером двадцать – это и есть цель моего визита.
Просторный, окрашенный в дорогие, добротные тона мореного дуба холл улетает высоко-высоко – под гулкие своды на уровне второго этажа, и притененный воздух этого большого пространства мягко, но упорно давит на плечи, сообщая всяк сюда входящему ощущение мелкотравчатости.
В отделении, в тесном закутке за полураскрытой матовой дверью сидела на низком стульчике женщина. Она удерживала – характерным вывихом плеча и легким наклоном головы – рогалик телефонной трубки. "Да... Да-да... Да-да..." – она медленно переводила взгляд с блокнота, где что-то быстро писала, на меня; она меня видела и не видела – слишком, наверное, была увлечена беседой.
Молода и очаровательна – вот и вся информация, вынесенная мной из нашего немого общения. Даже мягкая коричневая пижама с жирным кремовым мазком на лацканах и манжетах не смогла снизить впечатления. Она придавила ладошкой трубку: обнаружила меня, наконец, в узком проеме слегка приоткрытой двери и в ответ на мой извинительный шепот: "Дежурный врач?" – разрубила ладонью воздух: поперек, а потом под прямым углом – вдоль.
– По коридору прямо и потом направо?
Она кивнула. В том же направлении двигалась пожилая медсестра, она подталкивала впереди себя большую сервировочную тележку на колесиках.
– Дежурный врач?
Мы поравнялись, и я обратил внимание на причудливую лепку ее челюстного механизма: в профиль он напоминал плоскогубцы.
– Одну минуту! – кивнула она. – Посидите, будьте любезны!
В конце коридора появился молодой человек – щуплый, с очень подвижными бровями. В лице его скрывалась какая-то мука. Пока он шел ко мне, я пробовал определить природу этой муки. Если он окажется заикой, я непременно займусь углубленным изучением физиономистики.
Он рассматривал меня с интересом.
– Вы т-т-т-ут инк-к-к-огнито?
– Угадали... – мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. – Я в некотором роде контрабандный товар. А как вы догадались?
Он мягко улыбнулся. Скорее всего, информация о всяком входящем-выходящем поставлена тут четко – давно поставлена и основательно. Он указал на несколько добротных кожаных кресел, стоящих у окна. Мы присели. Он некоторое время внимательно изучал мою новую визитку, выданную в конторе Катерпиллера. Визитка его вполне устроила. Кажется, мы сразу прониклись взаимной симпатией. Поэтому я разрешил себе спросить о том, что меня, в свою очередь, сильно заинтересовало еще в машине, когда я разглядывал записку с адресом.
– У вас тут... Как это принято выражаться? Новый контингент?
– Да я бы н-н-н-е сказал...
– Неужели? Что? Все прежние? А святая борьба с привилегиями, а, доктор? – я погрозил ему пальцем. – Вы мне, пожалуйста, не клевещите на нашу народную власть! Я сам видел в телевизоре, что Борис Николаич лечится в обычной районной поликлинике. А проживает в обычной блочной хрущобе,
– Н-н-да? – он опять мягко улыбнулся. – Я т-тоже видел. И еще в-в-в-идел, что Борис Николаевич ездит с п-п-п-ролетариями в т-т-т... т-т-т-т...
– Трамвае?
– Вот-вот! Именно в т-т-рамвае.
– Но ведь у вас тут теперь не только номенклатурные граждане отдыхают, ведь так?
Он не захотел вдаваться в подробности: да, есть немного, но они платят большие деньги, очень большие.
Узнав, по чью душу я прибыл, он оживился.
– Все это н-н-емного странно...
– Странно – что именно?
Значит, так у них есть врач, очень хороший парень, его все любят, интеллигентнейший человек. Вчера он дежурил. Она спала. Он зачем-то присел на койку – пульс измерить или еще что-то. Она открыла глаза и страшно закричала. Вырвалась, пыталась убежать из палаты. Словом, подняла на ноги все отделение. Ее едва успокоили.
– Что она кричала? Что-то членораздельное?
– Д-д-а, вп-п-п-олне...
Она кричала: "Уберите эту черную рожу! Уберите эту черную рожу! От него пахнет зверем!"
– При чем тут черная рожа!
– Видите ли... Он т-т-уркмен... Откуда-то с дальнего юга, такой характерно темнолицый. Он прекрасный ч-ч-человек. И врач отменный...
Извинившись, что оторвал его от дел, я направился к выходу. Он меня нагнал.
– Т-т-ут один момент... П-п-п-икантный. Ее смотрел г-г-инеколог...
Гинеколог? Мне прежде казалось, что, если человек свихнулся, ему нужен психиатр.
Нет-нет, я не так понял... Просто обычное комплексное обследование.
– Ну-ну, интересно.
– П-п-п-онимаете... – у него был вид человека, вдруг усомнившегося, что дважды два – четыре. – Такое впечатление... Это впечатление специалиста, вы же понимаете... – он замялся.
– Ну же, смелее!
– Такое впечатление, что она все п-п-п-оследние дни жила ч-ч-ч-резвычайно интенсивной половой жизнью...
С минуту я пытался осмыслить, что бы это значило.
– Это было насилие?
Он пожал плечами: кто знает? Явных признаков – ушибов, ссадин – на теле не обнаружено.
– Доктор, эту интенсивность... Как бы это сказать... Ее мог обеспечить, скажем так, один человек?
В его глазах вспыхнул искренний испуг: возможно, он подумал, что будь в стране Советов хоть пара таких производителей, то население "одной шестой" к двухтысячному году равнялось бы населению Китая.
Я выругался сквозь зубы.
– Извините, доктор, это я не вам. Это я себе.
Придется весь сюжет переписывать наново. Их, должно быть, много – помешанных, чернорожих. И от них пахнет зверем.
Обратно я двинулся все той же тропой лазутчика. По аллее, старательно растаптывая скелетные тени тополиных крон, шествовал некто в длиннополом больничном халате – то ли старик, то ли старуха.
Это бесполое существо оставляло в кильватере своего движения некий прозрачный, почти неосязаемый след – в пространстве того тоннельчика, что силуэтно в точности повторял фигуру в длиннополом халате; мне не хватало воздуха.
Наверное, все здешние аллеи изрыты такими воздушными кротиными ходами; и все граждане здешнего, охраняемого тяжелым бетонным забором, государства, все лежащие в могилах и готовые в них шагнуть, тут незримо присутствуют; и даже самый верховный крот, крот-генералиссимус, крот-отец-наших-детей-и-отец-народов, стоит тут на часах: он характерно прищуривается, и край его жесткого уса ласкает трубочный мундштук.
Я вышмыгнул на волю через главные ворота. Они плавно, как бы готовясь отвесить церемониальный камердинерский поклон, посторонились, пропуская черную, приземистую тушу дорогого лимузина. Сзади – я успел заметить на бегу – сидел средних лет человек с вытянутым иезуитским лицом и сосредоточенно покусывал ноготь.
Мне срочно требовалось поговорить с Леной из приемной.
Я позвонил в контору из ближайшего автомата, мы условились встретиться в послеобеденное время: я подъеду к офису и буду сидеть в машине... Ждать она себя не заставила. Не подвезу ли я ее в одно хорошее место? Ну, почему бы и нет... Это в центре, "Montana - Centre" – мне, конечно, знаком этот магазинчик?
Нет, не знаком.
Она, кажется, хотела намекнуть: если человек не знает "Montana - Centre", то он не имеет права жить на этом свете.
– Ничего. Ты меня просветишь.
Магазинчик расправил крыла в районе Старой Площади, в узких переулках правительственного квартала, и выглядел чем-то вроде вставного фарфорового зуба в гнилой, кариесной челюсти: кристально-чистые витрины отрывались от грязной, замусоренной окурками и фантиками бабл-гама мостовой и парили в невесомости, ухватившись за отливающие безупречным хромом буквы "Montana".
По дороге она объяснила: надо присмотреть что-нибудь на летний сезон; дорого – но зато стандарт – стандарт дорого стоит.
Желающих присмотреть оказалось достаточно. Мало того, что внутри у прилавков толпился народ, так еще и на улице тянулась очередь: в основном, люди молодые, судя по всему, вполне довольные жизнью. На кончике хвоста монументом стоял избыточно тучный персонаж в кожаной куртке цвета кофе с молоком и найковских шароварно-широких спортивных штанах. Такой отвратительной хари я давненько не встречал; если в одной кастрюле замещать обжорство, хамство, скудоумие, наглость, самодовольство и презрение ко всему на свете, что не связано с дензнаками, отлить в форму и сунуть в духовку, то выпечется как раз этот сдобный кулич, обильно смазанный маслом, – рожа имела смысл именно такого кулича.
Коротать время в очереди по соседству с этой жирной свиньей охоты не было, я отдал барышне ключи от машины, сказал, что пойду прошвырнусь. Если она присмотрит себе наряды до моего возвращения, пусть подождет в машине.
Я шел наобум, не отдавая себе отчета в том, куда и зачем направляюсь – пожалуй, в этой деловой, озабоченной, подвижной части города я был единственным праздношатающимся. Здесь все торопится, спешит, несется; и с девяти до шести уныло тянется однообразная мелодия над улицами – если, конечно, можно принять за мелодию шарканье тысяч подошв по асфальту*[26]. Когда-то, прежде чем погрузиться под землю, Китай-город не шаркал, а пел; голоса канареек, дроздов и клестов – особенно на Благовещенье – сливались в один живой, здоровый, сильный голос; он рассыпался по площади, и всякий, кого сюда приводила служебная надобность или весенняя прихоть, знал, что ему предназначено в этой россыпи отдельное зернышко. Подходили к клеткам из ивовых прутьев, давали птицелову денежку, грели в ладонях пушистый комочек, отпускали в небо.
Когда я видел в последний раз в Москве пунцовую манишку снегиря? Давно... Лет пятнадцать назад, а то и все двадцать.
Я свернул за угол. Там, во дворике, сколько я помню, притулилась крохотная пряничная церквушка с парадным крыльцом, в ней ютится, вроде бы, какой-то музей.
В глубине двора, под охраной голубых елей, уселась идиотского фасона коробка из стекла и бетона – глупый, плоский, холодный дом, младший брат кремлевского Дворца Съездов. Или, скорее, его внучатый племянник. К стеклянным дверям тоже присасывалась приличная очередь – сплошь из людей учрежденческой наружности. Они стояли молча, аккуратно, друг другу в затылок. Аккуратность строя дрогнула, хрустнула, сломалась – стеклянные двери-распашонки шарахнулись внутрь, очередь торопливо потекла. Я закурил... Я успел выкурить пару сигарет, прежде чем из стеклянного дома хлынул обратный поток; на его плавной волне теперь покачивались пакеты, авоськи, сумки, свертки…*[27].
Я двинулся переулком вниз, к площади, и почувствовал спиной: сзади что-то случилось. Напротив церковного крылечка в совершенной растерянности стояла интеллигентного вида женщина, а по асфальту наперегонки неслись яблоки. Она перегрузила пластиковую сумку –ручки лопнули, пакеты вывалились на землю. Публика, обвешанная авоськами, в замешательстве посторонилась, освобождая продуктам путь. Яблоки неслись, огурцы катились, сосиски ползли по-пластунски. Ногой я остановил крупный плод, потом еще один. Протер их платком, помахал – в знак благодарности – кормушке.
Яблоки пахли югом.
Секретарша ждала меня в машине.
– Откуда это? – спросила она.
– Так... Один приятель просил тебе передать. Лично из рук в руки.
– Это кто ж такой?
– Змий.
Она распустила губы в лукавой – типично лисьей улыбке; она медленно, внимательно полировала твидовым манжетом зеленый, с красной подпалиной, яблочный бок – и твид наносил на плод слой прохладного бутафорского блеска. Я следил за ее священнодействием... За тем, как она двумя пальцами держит плод за черенок и осторожно укладывает его в ритуально приподнятую на уровень лица лунку ладони. Как, склонив голову, сузив глаза, разглядывает плутание красного тона в зеленой кожице – его медленное, словно движение кляксы, клюнувшей промокашку, разрастание. Как, не спеша, она сдвигает взгляд в мою сторону и, наконец, пепельные ее и восхитительно-влажные (как я этой влаги прежде не замечал?) глаза застывают в откровенно порочном искосе. И как она, не меняя острый угол зрения, несет яблоко к тонко улыбающемуся рту, а рот медленно, медленно распахивается, но в последний момент наплыв ее ладоней-лодочек со священным грузом приостанавливается – и все это я наблюдаю, кажется, целую вечность.
Мне кажется, я слышал ее – вечности – дыхание в затылок; она растекалась по заднему сидению и внимательно наблюдала, как души первоженщины и моей попутчицы плавно соединяются, входят друг в друга и друг друга – обнимают.
– Ешь быстрее! – я резко спустил ручник. – Иначе нам придется заняться этим прямо здесь.
Она алчно – широким захватом – атаковала плод; капля мутноватого сока вспухла в уголке ее рта.
Машину я поставил во двор, под самое окно – с тем расчетом, чтобы, в случае чего, обеспечить прицельность гранатометания. Машины теперь курочат едва ли не каждую ночь. Если этих ночных дел мастера облюбуют мою, я открою окно и стану прицельно метать в них тяжелые бутылки из-под шампанского. До тех пор, пока не проломлю кому-нибудь из них башку.
У моего дома два хода: обычный и черный – тот, что выходит во двор.
Если идешь черным ходом, тебе предстоит в совершенных потемках, медленной, осторожной ощупью преодолеть два лестничных пролета, свернуть направо, к моей двери, и нащупать на уровне человеческого роста звонок. Хорошо, что походка у лестницы с черного хода мелкая, семенящая, и ступеньки не подставят привычному человеку подножку.
– Дай руку... Да не цепляйся ты за перила! Давай за мной по центру. Вот так, вот...
– Почему по центру? – спросила она.
О, это священный ритуал. Если бы путь наш не был во мраке, если бы чуть выше – там лестница переламывается, образуя узкую посадочную площадку для почтовых голубей (здесь у нас расположены ящики для корреспонденции), над ящиками сигналил нам маячок лампочки, ты бы смогла заметить, что плоский серый камень ступеней по центру слегка подтоплен, промыт светлыми впадинами...
– Чувствуешь?
– Что? – переспросила она.
Чувствуешь – в плавные изгибы этих впадин затекло вещество нашего старого доброго неба, затекло и успокоилось навеки: ночные вскрикивания младенцев, тяжелый пот мужчин, занятых грубым, честным трудом, и ревматические стоны женских поясниц, быстро ржавеющих во влажном пару кухонных прачечных; и еще там есть скупые мужественные слезы детей, скрипящих зубами и по-собачьи выворачивающих скошенные глаза – дети следят за свистящим полетом тяжелого отцовского ремня; и есть оглушительное буйство свадеб, и медная густая лава похмельного похоронного оркестра, и теплый гейзер шампанского на именинах, и чуткое караульное бдение поминальных ста граммов под хлебной корочкой; и кровь, и пот, и слезы – такова эта сладкая влага, всю жизнь питавшая просторы нашего старого доброго неба.
Люди говорят – эти впадинки протерты грубыми башмаками жильцов – дом-то стар, он поселился у нас, в Агаповом тупике, еще в прошлом веке; когда-то, говорят, это был доходный дом.
Однако я твердо знаю – нет, не протерты.
Не протерты, а промяты – Господи, какие же тяжести надо было в себе носить, чтобы вот так прогнулся камень!
Дверь на втором этаже приветствовала нас – узкой полоской света.
Это все Музыка... Он, как и большинство барачных людей, пользуется черной лестницей. И часто забывает закрывать дверь.
Наверное, Музыка опять был со своей "старушкой" мандолиной на рынке, и ребята во фруктовых рядах ему налили.
За его дверью журчала мандолина.
– Это твой сосед? – она прислушивалась, склонив голову на бок.
– Можно считать, кровный брат...
Да, мы были братья – в нашем старом добром небе.
– Что он играет?
– Да ничего он не играет... Он просто – ждет.
– Ждет? – она вопросительно изогнула красивую бровь.
– Ну да... Когда с потухшей елки тихо спрыгнет ангел желтый. Спрыгнет, погладит по голове и скажет:
"Маэстро! Вы устали, вы больны... Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго... Даже в нашем добром небе были все удивлены!" – вот что скажет...
– Это, кажется, стихи?
– Нет.
Стихи вмерзли в бумагу, но разве можно уложить в белый лист все это: тонкие, полупрозрачные руки, матовое лицо в темном пространстве сцены, где в углу, невидимый, тихо стонет рояль аккомпаниатора? И уложить это-особое-течение фразы, слегка подточенной изысканной картавостью... Нет, Вертинский и бумага плохо между собой ладят.
Я кивком указал на дверь: нам туда.
– Свет зажги! – потребовала она.
Я зажег.
Она стояла в центре комнаты, смотрела на меня в упор – и опять, как совсем недавно в машине, на губах ее созревала лисья улыбка... Однако эта улыбка и этот взгляд существовали совершенно самостоятельно, автономно – от ее змеиных телодвижений; от вялого сползания со спинки стула ее твидовой змеиной кожи; от легкого покачивания бедер, понуждающих юбку к медленному стеканию вниз, на пол; и от короткого, как видно, хорошо оттренированного шажка вперед – через твидовый же круг, мягко обволакивающий щиколотки.
– Тебе надо повесить зеркало на потолок, вот тут, прямо над нами, – заметила она после, когда мы лежали и тупо смотрели в потолок.
– Еще чего!..
В самом деле – еще и видеть эти сцены, еще и участвовать в высоких играх отражений, бурлящих в потолочной плоскости – не слишком ли?
– Это было неплохо, ведь так? – она мягко наваливалась на подпорку локтя, заглядывала мне в лицо. Я что-то невразумительное промычал в ответ. Если во мне после и сохранялись остатки голоса, то они имели не прочное, на жесткий артикуляционный каркас нанизанное, качество человеческой речи, а представляли собой некую густую сжиженную материю звука.
Мне просто страшно хотелось спать.
Но спать было нельзя; спать на работе – это, говорят, грешно, а я находился именно на работе и чувствовал на груди широкую бурлачную лямку; эту лямку надо просто тянуть, тянуть, тянуть – чтобы хоть немного подвинуться к смыслу нашего сюжета...
Она явно не была расположена обсуждать интересующую меня тему и говорить о Виктории. Но я упорно тянул, я наваливался всей грудью на лямку, не обращая внимания на предательский хруст суставов и тупое, басовое гудение натянутых жил: так что там Виктория, что с ней?
Наконец, она раскололась.
– Ее трахнули... Вернее, нет, не так. Трахали. Долго, методично. Солдаты.
– Солдаты? Откуда ты знаешь? Про солдат, про... Ну, вообще про все?
– Она мне рассказала. Только мне. Я ведь была у нее в Кунцево.
– Насколько мне известно, она... Как бы это сказать? Немного спятила.
– Спятишь тут! По десять солдатиков в день... Хотя Виктория – железный человек. Она – между нами – в достаточно здравом уме. Это ее легкое помешательство – оно так, больше для отвода глаз. Врачи кое о чем догадываются... Этот отчаянный трах-перетрах, в который она поневоле попала, – все это может выплыть на поверхность. И ей пока надо чем-то... – она задумалась, подыскивая слово, – обороняться... Обороняться, понимаешь? Хотя вы, мужики, этого не понимаете.
Ну, отчего же, я понимаю: обороняться, симулировать провалы в памяти: ничего не помню, ничего не видела, уберите черные рожи, от них пахнет зверем – понимаю.
– Она должна помнить, обязана. Хотя бы смутно, обрывочно... Чем ее? Газ?
– Ну да, кто-то шмальнул в лицо. Она спустилась за газетой – и ее приласкали.
– Кто? Она его видела?
– Скорее, слышала... Он покашливал.
– Надо тут же было делать ноги!
Она села на кровати, подтянула колени к груди, замкнула их в кольцо рук и так сидела, слегка покачиваясь, – довольно долго сидела.
– Я же тебе говорила... Виктория – железный человек. Она ни хрена не боится. Ни бога, ни черта не боится!
В дальнем конце двора затравленно, жалобно заорал "автоаларм". Опять чью-то машину потрошат.
Она дернула плечом:
– Бог с ней, давай спать.
– Давай... Только давай именно – спать.
– Ага. Мне завтра надо быть в форме. С утра у шефа какие-то переговоры... – она лежала, забросив руки за голову, долго лежала, потом приподнялась, оперлась на локоть.
Она смотрела на меня в упор, и в ее лице медленно зрела завязь какого-то нового качества; его аромат был достаточно тонок и прост, терпок и незамысловат – так пахнет высохшее на июльском солнце подмосковное поле.
– Мне будет кое-чего не хватать теперь...
Занятно – чего же? Наверняка она зарабатывает в конторе достаточно, чтобы не испытывать недостатка ни в чем: ни в жратве, ни в красивой шмотке, ни в возможностях приятного времяпрепровождения.
– А ты ж не по-о-о-о-нял, – разочарованно произнесла она, в ее растянутом, слегка изогнутом кверху оо-о-оп звучала укоризна.
Я заставил себя оторвать затылок от подушки. Это была интонация не совсем того персонажа, характер которого я про себя считал законченным, не требующим каких-либо правок и редактур.
– Это яблоко... Ну то, которым ты угостил меня...Что это за сорт? Где их можно купить?
– Купить их нигде нельзя, – сказал я. – Они растут в моем личном саду.
Наутро я рискнул подойти к платяному шкафу, отгораживающему кровать от двери, и заглянуть в мелководную, подмытую по краям грязными разводами муть дверного зеркала.
Оттуда, из зазеркалья, на меня уныло глядел кто-то из персонажей известной картины "Бурлаки на Волге". Да, один из передовых тягловых – тот, худой, сутуловатый, с трубкой в зубах. Только, вместо трубки, во рту он держал сигарету.
Славное же Виктория выбрала себе место для прогулок.
Уверенная, без затей, фантазия дорожного проектанта полоснула местность наотмашь, оставив в сером унылом поле прямой шрам трассы. С обеих сторон к асфальту подтекали черные, лоснящиеся океаны взрыхленной земли – абсолютно штилевые. Над ними не то что буревестник гордо не реет – даже вороны. В кюветных лужах лежали туманные оттиски близких облаков – похоже было, что это прибалтийские фотохудожники разложили вдоль дороги свои психоделические пейзажи. В этих пейзажах, состоящих из кипящего черного неба и белых дюн, в изгибах песчаной волны иногда прорастает холодная, стеариновая, обнаженная натура.
Так оно и тут выглядело – только натура была в шелковом халате.
Чтобы дотянуться до горизонта, трассе пришлось напрячься и вползти на пригорок, поросший низким прямым леском. Создавалось впечатление, что пригорок стрижен под "ежик". И вообще в этом пейзаже было что-то от Александра Федоровича Керенского – в профиль.
Желающему познать уныние – в самой его сути – следовало бы приехать именно сюда.
Впрочем, я здесь не за тем. Ленка примерно очертила мне координаты того места, где "дальнобойщик" подобрал Викторию. С ней развлекались солдаты – это я тоже выяснил. Значит, где-то неподалеку есть воинская часть.
Примерно в километре от взгорка трасса выдавливала из себя узкую, изгибающуюся серпом дорогу; на кончик бетонного серпа накалывалась березовая рощица.
Я поехал туда и через пару минут уперся в железные ворота, во лбу у них горела алая звезда. Поставив машину на крохотном паркинге справа от ворот, я двинулся вдоль бетонного забора. Пахло прелью и сырым бетоном; где-то высоко над головой небо медленно сверлил тихоходный самолетик; я поискал его глазами, не нашел, зато провалился в ямку с жидкой черной грязью.
Меня окликнули.
Он сидел на заборе – воин в расхристанной гимнастерке – и вдумчиво покусывал березовый прутик.
– Друг, сыгарэт есть?
Он азиат: блиноподобное лицо, узкие глаза – с такими темными лицами хорошо жить в степях Калмыкии. Должно быть, за забором томится стройбат.
– А командыр не заругат? Курыть солдату вредно!
Он обнажил белоснежные зубы – соскочи на эти зубы солнечный зайчик, я бы, наверное, ослеп – всем бы нам вот такую отполированную здоровым образом жизни челюсть.
– Н-э-э-э-э... Я этот командыр... – он развил мысль замысловатым выражением, сообщавшим, где он командира видал и как он командира имел. Я протянул ему сигарету, он тут же закурил, алчно затягиваясь.
– У вас тут что? – Я кивнул на забор. – Степная калмыцкая сотня на постое? Кони наши быстры, шашки наши востры?
Солдатик захохотал.
Я пошел дальше, но что-то меня тянуло вернуться.
Солдатик был темнолиц – вот-вот! – именно темнолиц.
"Уберите черную рожу!"
У него была именно такая рожа.
Солдатик сидел на месте; он успел искурить сигарету дотла и теперь пробовал затянуться фильтром.
– Еще есть?
Я сказал: есть – но пусть он спрыгнет ко мне. Если спрыгнет, получит пачку.
Воин зыркнул через плечо. Не обнаружив в расположении части ничего тревожного, он легко соскочил с забора и молча протянул руку. Я отдал ему полупустую пачку и вытащил из кармана свежую, нераспечатанную. Левой рукой он взял первую, правую протянул за второй.
Я спрятал сигареты в карман.
– Пара слов – и они твои.
Солдатик картинно развел руками: дескать, вах! какая разговор!
– Тут была баба.
Он мелко-мелко, на восточный манер закивал:
– Был женчин, был...
– Одна?
– Зачем одна? Нэ-э-э...
– С ней был мужик?
Он и бровью не повел. За что люблю восточных ребят, так это за то, что их ничем не удивишь.
"Был мужик, хороший мужик, сигарет давал, водку давал, женщин давал, только больной он – кашлял сильно...".
– Как это – женщин давал?
– А так давал, пришел сюда, говорит: эй, парень, женчин хочешь? Солдат всегда женчин хочет. Хорошо, говорит. Собери своих чурок человек десять. Только чурок, понял? Русских не бери, только ваших, понял? Вечером придешь к кладбищу. Знаешь сторожку там? Заброшенную?
– Ничего себе, самоходы... По десять-то человек?
– Э-э-э, – скривил солдатик рот, – тут теперь...
Да уж, теперь легче дышится, смыться не такая проблема, как прежде, – тем более в стройбате.
– Я за ним ходил, да... Следил. Слышал, он в сторожке с женчин той разговаривал. Он говорил: тебя уп... уп-па...
– Употребят?
– О! Употребят шестьдесят человек. Ровно так. Вспомнишь Машу.
– Какую Машу?
Солдатик пожал плечами: откуда ему знать.
– Как будет шестьдесят, говорил, можешь идти на четыре стороны... – он задумался. – Почему на четыре, а?
– И что дальше?
Хотя и так ясно... Он, конечно, привел своих чурок. Он водил их каждый вечер, пока количество "употреблений" не достигло загаданной нашим придурком нормы.
От таких объемов общения с темнорожими ребятами, в самом деле, можно свихнуться.
– Как выглядел?
– Как?... Мужик и мужик.
– Да я понимаю, что не баба. Рост? Лицо? Приметы?
Все попытки выдавить из солдатика хоть какую-то информацию по этому поводу были безрезультатны. Во-первых, его познания в русском языке не распространялись дальше лексического объема "Устава гарнизонной и караульной службы" – конструировать из чугунного уставного словаря словесный портрет занятие безнадежное. И во-вторых, он, скорее всего, воспринимал мир с чисто детской непосредственностью и был носителем сугубо видового мышления.
Существует вид – разнообразные подвиды, классы, и роды значения не имеют. Мужик – худой, толстый, щуплый, высокий, молодой или древний – он есть просто "мужик" и не более того. Женщина есть просто "дженчин". Водка, "напареули", "ахашени", "агдам", "ала-башлы", херес, чинзано, шартрез, бенедиктин, самогон, брага, пиво – все это есть "вино". И так далее.
– Твои сигареты...
Первая порция – полпачки "Пегаса", вторая – "Винстон".
– Ага, сигареты, – сказал он.
"Пегас" или "Винстон" – какая разница, сигареты и есть сигареты.
Я искренне ему позавидовал. Видовое мышление избавляет от множества расстройств и хлопот.
Кладбище я разыскал быстро. Оно врастало в березовую рощицу – от части всего-то километра полтора. Если здесь кого-то и хоронили, то уже очень давно; те древние люди продлились стволами и вот стоят теперь среди просевших холмиков в ожидании тепла.
"Сторожка", о которой упоминал воин, представляла собой гнилую халупу, крытую ржавой жестью. Единственное окно наглухо заколочено досками – заплата свежая. Это меня не удивило: узнавалась все та же сумасшедшая рука. Внутрь я не заглядывал. Наверно, там на полу – груды сырой соломы, в лучшем случае, старый, с пролежнями, матрац.
Я отдавал себе отчет в том, что кощунствую, припоминая капитана Пантелеоне, гениального менеджера "роты добрых услуг". Кажется, эффективность любовного труда роты исчислялась в "человеко-удовольствии – в-час". Но у Льосы солдатню развлекала как-никак целая рота проституток, а Виктория оказалась точно – "один в поле воин", к тому же она проституткой не была.
В том, что строительное воинство в этом деле отчаянно энергично, упорно и изобретательно, я нисколько не сомневался.
Я почувствовал, что меня подташнивает. Странно, с чего бы это? Я закурил.
Отпустило.
Я догадался, в чем тут дело. Сквозь обычный солдатский запах – кирзы, пота, казармы – сочился еще какой-то, особый.
Это был запах зверя. Возможно, не дикого зверя, а просто домашнего животного. Да, в халупе пахло – жеребцом.
...Им никуда от Нас не деться. Мы пройдем сквозь стены, шагнем в их промытые хрустальным светом комнаты, Мы размножим в миллионах копий сумбурное движение кисти Отца Нашего и развесим эти холсты по стенам в каждом доме – в каждом, в каждом. И Они услышат запахи нашей скромной трапезы, запахи картофеля и сала. Мы не прибегнем к насилию – С Них будет достаточно одного Нашего безмолвного присутствия в Их домах. Наши боль и тоска войдут в Них, Их кожа станет сосновой корой, Их вялые от сидячего образа жизни суставы затрещат в мучительных ломках. Их жилы станут рваться от чудовищных нагрузок, Их глаза вылезут из орбит – ОНИ ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В НАШЕЙ ШКУРЕ И СОЙДУТ С УМА
Три дня после возвращения из воинской части я честно отдал труду сочинителя: валялся на диване, с удовольствием поплевывал в потолок, растирал пальцами виски, слонялся по дому или подолгу стоял у окна, разгоняя мысль созерцанием копошения ворон, терзающих помойку*[28], – время от времени стая, испуганная приближением бродячей собаки, шумно, с термоядерным грохотом, ретировалась; создавалось впечатление, что из металлического контейнера вырываются, как из кратера вулкана, хлопья черного, сокрушительного взрыва.
Творческое настроение мне подкосил Катерпиллер – неожиданным звонком.
– Чем занят? – поинтересовался он холодным, сугубо деловым тоном – этот начальственный тон я органически не перевариваю.
– Работаю...
– Работает он!
Я долго выслушивал упреки общего характера, наконец он – будто бы между делом – уведомил меня: пропал Игорь...
Кто такой Игорь, я не знал – меня просто увлекло развитие сюжета: третий по счету! Катерпиллер в двух словах объяснил.
Никакой мало-мальски серьезной должности в конторе он не занимал. Катерпиллер объяснил: его задача – анализ и прогноз: сидеть, думать, предлагать решение. Он мыслит – за счет этого и существует. В фирме он давно, с самого начала, когда она еще представляла собой вшивый кооперативчик. Мог бы при желании занять какое-нибудь серьезное кресло – ему предлагали – но он отказался.
Познакомиться с ним случая у меня не было, но Игорь чем-то был мне симпатичен – скорее всего, этим статусом свободного мыслителя.
В середине семидесятых я знал одного парня, который, как мне разъяснили, работал где-то в Дубне "генератором". Он был худ, стрижен под немодный тогда "ежик", отличался патологической неразговорчивостью, и если что-то и произносил, то расслышать его удавалось только в мертвой тишине. Наверное, он разговаривал не с внешним миром, а с самим собой – потому и не считал нужным напрягать голосовые связки. Его гардероб ограничивался тяжелым грубым свитером, джинсами и башмаками-вибрамами. Вряд ли этот подчеркнуто скромный "экип" был проявлением позы: слишком его хозяин выглядел не от мира сего, чтобы обращать внимание на условности. Говорят, он был дружен с Пантекорво и целыми днями катался на лошадях. Если не совершал верховые прогулки, то катался на водных лыжах. Он не имел никакого рабочего места и не ходил в присутствие. Единственное, что от него требовалось, – это посещать симпозиумы, коллоквиумы, ученые советы, сидеть и слушать. Он сидел и слушал. Раз в полгода он выдавал настолько нестандартное решение той или иной проблемы, что академическая публика валилась под стол.
Если работа Игоря носила примерно такой характер, то я готов его любить и уважать, даже заочно. Катерпиллер толком не знал, что случилось с Игорем. И вообще это его мало занимает – в настоящий момент у него короткий перерыв между переговорами, он пьет кофе с тостами, ему не до того. Да, тосты просто восхитительные: поджаренные хлебцы с сыром, посыпанные тмином.
– Тосты с тмином вполне вписываются в рамки жанра*[29], – заметил я. – Однако не кажется ли тебе, что нам все-таки придется наведаться на Петровку, 38?
Я был убежден в необходимости дать этим загадочным делам нормальный законный ход. Я, в принципе, знаю нужный нам персонаж, я его чувствую, слышу. Понимаю его характер – неторопливый, основательный. Но все это пока годится для бумаги. А что касается наших первоначальных задумок – придать главному герою черты психопата, то интуиция мне подсказывает: мы дали маху.
– Он нормальный, – сказал я. – Это-то и скверно.
Он долго молчал, и мне не нравилось его молчание.
– Слушай... – он медленно цедил сквозь зубы неясную мне пока, но отчетливо проступающую в интонации ярость, – а ведь за тобой должок.
– Что-что?
– Ты мне должен, – сказал он, – двадцать пять копеек.
Господи, он, оказывается, все помнит.
Я давно забыл, а он носит в себе, холит и лелеет, и дожидается, чтобы можно было потребовать с меня должок.
И потребовать все то, что когда-то было под нашим старым добрым небом: арка подворотни, вся в бледных лишаях плесени, лужа, перечеркнутая доской, запах сырости, полумрак – и ворот его рубашки в твоем кулаке. И ты прижимаешь его, сынка медноголосого солиста ансамбля песни и пляски, к стене, ты, вольный стрелок, осторожный охотник, ты, мальчик с большой дорога, которую чутко стережет наш Агапов тупик – ты отпускаешь его наконец, отступаешь на полшага и тихим, но твердым разбойным тоном требуешь: "Прыгай!".
И он – сын другого, враждебного тебе мира, в котором звучит музыка сытой жизни, где на обеденный стол проливаются блестки с хрустальных люстр, где на дни рождения детям дарят привезенные из загранпоездок водяные пистолетики, а к чаю подают торты, вспенившиеся густым жирным кремом, – он послушно подпрыгивает.
Он подскакивает, и в карманах его звенит мелочь. Ты протягиваешь руку – и он пересыпает из своей ладони в твою аппетитно шуршащую медь.
Помнит, все помнит... Наверно, и то помнит, как после визита его папаши отец жестоко избил меня в ванной, и я три дня не показывался во дворе.
– Ладно, – сказал я. – Должок за мной. Но не по телефону... Жди, сейчас приеду.
Я бросил трубку, постучался к Музыке, ответа не получил, толкнул дверь. Он лежал на диване, не мигая, глядел в потолок, аккуратно, по-покойницки, сложив руки на груди, – для полноты впечатления оставалось вставить в пальцы свечку,
– Слушай, Андрюша, мне нужно немного денег...
Музыка очнулся, прокашлялся. Он воскресал медленно и постепенно – вернее сказать, прорастал из воска покойницкой позы: сначала проросли глаза, следом за ними руки, наконец, он расшевелил себя и сел. Полез в карман, протянул мне комок мелких ассигнаций:
– Вот, – сказал он. – Надавали. Там, на рынке... – смутился, поправился: – Заработал, то есть.
Он протягивал мне эти маленькие по теперешним временам деньги совсем как Андрюша – когда-то давно, когда все мы жили под нашим старым добрым небом.
А умолк Андрюша незаметно – "даже в нашем добром небе были все удивлены..." Его, конечно, вышибли из оркестра народных инструментов; он устроился во дворец пионеров учить детей музыке, но и оттуда его тоже вышибли. Так что сделался Андрюша свободным гражданином Агапова тупика, и блеск его жилища все тускнел и тускнел, как самоварная медь в чулане. Первым улетел персидский ковер-самолет; за ним на цыпочках смылся хрусталь; тонконогий китайский журавль махнул крылом и тоже улетел, а потом ушло и все остальное, кроме паркета, старого дивана, тумбочки да трех гвоздей в двери, заменивших вешалку.
И ты запомнишь теплый июльский вечер. В этот вечер у нас в Агаповом тупике объявилось странное существо – пожилой мужчина с пышной актерской шевелюрой и с галстуком-бабочкой. Он подсел к доминошникам, смирно дождался конца кона.
– Я, знаете ли, ищу тут одного человека, – вежливо объяснял он. – Тут, видите ли, причуда такая... Хобби, коллекционный зуд. Я собираю старые афиши...
– Афиши? – переспросишь ты.
– Да-да, афиши, молодой человек. Вы не знаете, – говорил он, оглядывая твой дом, – где тут проживает...
– Нет! – отрежешь ты.
Но он все равно найдет, и на следующий день ты, заглянув в комнату Андрюши, увидишь пустые, темные квадраты на стенах: обои ведь со временем выгорают.
Я покачал головой: нет, он меня не понял, бумажные деньги мне не нужны.
– Мелочь, мелочь...
Можно, конечно, наменять пятнашек у метро, неподалеку от телефонных автоматов. Точнее сказать, не наменять, а купить: у телефонов всегда можно разыскать старика, продающего пятнашки. Но времени у меня на экс-ченч не было.
Музыка поднялся, добрел до трех гвоздей, вколоченных в дверь и заменявших ему вешалку, утопил руку в глубоком кармане старого пальто.
Старики хранят почему-то эти медные россыпи прошлого времени – копеечки, трешки, пятачки – берегут... А зачем – и сами не знают.
– Когда наши эскадроны, – торжественно пообещал я, – под колокольный звон, под сенью российского флага войдут в первопрестольную, я подарю тебе целый монетный двор.
Музыка горько усмехнулся и мотнул головой: нет, монетный двор ему не нужен.
У конторы я развернулся и подал задом прямо ко входу. Такая парковка против всяких правил – машина перегородила пешеходную дорожку – но сейчас мне на правила было наплевать.
Не исключено, что ретироваться придется со скандалом, и лучше иметь машину под рукой, а не на паркинге за металлической оградой, в тылу особнячка.
В приемной было тесно: помимо Лены, тут присутствовало пятеро молодых людей, чья внешность и отменные физические кондиции не оставляли сомнений в их профессии и их способностях. Если им вздумается меня стереть, то они запросто сотрут – и даже не в порошок, а в прозрачную невесомую пыль.
Лена выразительно перекрестила приемную взглядом – как будто я сам не отдавал себе отчета в том, что за публика тут собралась.
– Ничего! – успокоил я ее. – Дело житейское, – и обратился к мощной компании, рассевшейся на стульях по бокам от дверей генерального директора. – У нас дружеский разговор. Мы с генеральным директором друзья детства.
Один из них лениво поднялся, быстро, профессионально обыскал меня и пожал плечами. Я прошел в кабинет.
Катерпиллер сидел на своем императорском месте во главе длинного стола; склонив голову к плечу, он ласково меня рассматривал – слишком ласково, приторно.
– Ну? – спросил он наконец. – Так попрыгаешь?
Я похлопал по карману куртки, медяшки звякнули.
– С этим порядок, – сказал я. – Сколько я у тебя тогда позаимствовал? Помнится, мне хватило на два эскимо. Значит, двадцать две копейки.
– Двадцать пять, – поправил Катерпиллер. – Двадцать пять.
Я внимательно отсчитал мелочь, встряхнул в кулаке, вернул в карман.
– Должок при мне. Только я не думал, что человек твоего уровня и положения может так жидко обосраться, – я кивнул на дверь. – Не бойся, бить я тебя не стану.
Он усмехнулся, прошел к рабочему столу, нажал клавишу селектора и приглушенно с ним о чем-то переговорил. Единственное, что мне удалось расслышать, была финальная команда: "Свободны!". Вернулся к столу, уселся на председательское место.
– Это ведь было неплохо разыграно? – спросил он. – А ты купился, балбес. Я всегда знал, что ты балбес.
Вот значит как: он на меня и не рассчитывал. Зачем тогда он меня нанял? Да так, из соображений милосердия, у меня был очень потрепанный вид и глаза голодные; в принципе, это была, конечно, глупость, маленький домашний театр, мистификация; он рассчитывал немного отвлечься от рутины, напрасно я принял эти игры всерьез.
– Это в самом деле очень удачный домашний театр, – сказал я и припомнил те коллизии, в которые попадал в последнее время; и припомнил, что два достаточно близких ему человека свихнулись, а третий пропал.
– Ты и не подозреваешь, насколько забавно было за тобой наблюдать... Ладно, брось это дело. Забудь. Можешь больше не объявляться. Машину поставь на стоянку. Деньги? Оставь себе, на бедность. Все. Занавес.
– Постой, еще два слова...
Во-первых, я сказал, что он сука порядочная, – это значит, во-первых; а во-вторых, пусть он мне ответит на один вопрос.
– Этот ваш Игорь... Это ведь не вполне ваш темперамент? Несколько иной, как теперь говорят, менталитет?
– О да!.. Вы бы друг друга поняли.
Он помолчал и добавил, что хочет дать мне один совет; если я не понимаю пока, что творится вокруг, то он может подсказать, по старой дружбе: всем НАМ (почему это НАМ? – переспросил я), ну, всем ВАМ, ВАМ, ВАМ! таким, как ты, расп...ям и пох...истам – крышка, конец, амба; теперь другая жизнь; в этой жизни максимум, на что мне приходится рассчитывать, это на должность мусорщика.
– Так это не так уж и плохо!
Он злился – это меня веселило.
Я представил себя мусорщиком – и сразу оттаял, меня согрело воспоминание; когда-то под нашим старым добрым небом дети устраивали экспедиции по помойкам, и, Господи, что же это было за увлекательное занятие, какие только открытия ни подстерегали нас на каждом шагу, какие только экзотические находки ни дожидались нас в грудах хлама... Ах, помойки – наши джунгли и наши амазонки, наши египетские пирамиды, тропические наши суматры – их было много у нас в Агаповом тупике. Это была наша Территория, а мы в ней были золотоискателями; перерабатывая груды трухи, мы добывали крупицы золота; штурмуя невысокие кирпичные бастионы, охранявшие железные помойные контейнеры, мы познавали людей, ссыпавших сюда вторсырье своей жизни; узнавали их характеры, привычки и приметы, проникали в их тайные помыслы и прикасались к заветным их желаниям; исследовали их вкусы – ах, эти старые, добрые, восхитительные помойки нашего детства!
– Ладно, занавес так занавес. Машину поставлю в конце недели. Деньги раздам нищим... И все-таки... А ну-ка, налей мне глоток. Чуть-чуть, на посошок.
Он пожал плечами, сходил в закуток для отдыха, принес коньяк, пару пузатых рюмок.
– Наверное, это был в самом деле хороший домашний театр, – я отхлебнул и опять, как в момент нашей первой встречи, отдал должное качеству напитка. – Впрочем, я – это так пустяки. Но твои-то... "Ньюс-бокс" твой, Виктория...
Сказать по правде, мне их в самом деле было немного жаль – они непрофессиональные актеры, однако сюжет отыграли по полной программе, по полной.
– Мог бы все-таки принять хоть какие-то меры...
– Меры! – усмехнулся он. – Меры... Какие у нас тут к черту могут быть меры! Единственная мера, которую теперь можно принять, это таскать под плащом "узи".
В этом друг моего детства, пожалуй, прав – такова примета сегодняшнего жанра, и ничего с этим невозможно поделать, ничего.
– А потом... Жизнь – суровая штука. Мысль банальная, но ее приходится повторять. Я вряд ли смог бы им помочь, – он вертел коньячный бокал в пальцах; я обратил внимание, что он не выпил.
– Ты чокнулся, но не пригубил... Дурная примета, поверь.
Он посмотрел на стенные часы.
– Дела. Это Вы можете себе позволить лакать среди бела дня. Я–не могу! – он поднялся, давая понять, что аудиенция закончена.
Я остался на своем месте, облокотившись на полированный стол для заседаний.
– Есть еще одно маленькое обстоятельство.
– Ну же! – торопил Катерпиллер, поглядывая на часы. – У тебя еще полминуты.
– Этот наш персонаж... – я совершенно не обращал внимания на его понукания. – Тот, кого я с твоей подачи – сочинял. И почти сочинил, кстати!.. Так вот он – он ведь не из нашего с тобой домашнего театра. Это тебе в голову не приходило? Он реален. Он вышибает твоих сотрудников из патронташа – одного за другим, одного за другим. Он реален. И когда-нибудь он придет к тебе.
Катерпиллер сочно захохотал.
– Пускай!.. – Он отсмеялся, глаза его сделались злыми. – Я его сотру в порошок. Раздавлю. Если где-нибудь встретишь этого придурка, ты уж ему объясни популярно... А потом пусть суется ко мне на здоровье – если жизнь не дорога.
Я поднялся, направился к выходу. Взялся за медную дверную ручку, но меня догнал его голос:
– Эй! Ты кое-что забыл!
Я вздохнул, сунул руки в карманы, обернулся, прислонился спиной к двери.
Катерпиллер подошел почти вплотную.
– А ну-ка... Попрыгай!
Будь у меня время и желание, я бы объяснил ему, что с ролью он справляется плохо; эту реплику нельзя выкрикивать тоном уездного трагика и нельзя сопровождать ее театральной жестикуляцией – выглядит опереточно.
– Прыгай, сука!
Я усмехнулся, слегка расслабил колени, полуприсел, прижал локоть к животу, а кулак выставил ему навстречу. И слегка повел кулаком – вправо-влево, вправо-влево:
– Выкуси!
В приемной, откуда исчезли молодые люди, сразу стало легче дышать.
– Жаль! – сказал я, озираясь. – Кажется, меня собирались торжественно встречать с оркестром.
Лена смотрела на меня исподлобья.
– Ты когда-нибудь нарвешься... Едва уже не нарвался.
– Я позвоню?
Она подвинула телефон к краю стола.
Я набрал номер Бэллы. Я хотел ей сказать, что если мировая революция в состоянии подождать до завтра, то я приеду. Я накрою замечательный стол, и мы поужинаем – очень вкусно, очень сытно, очень красиво и от души... По счастью, Бэлла оказалась дома.
Выслушав мои предложения, она спросила:
– У тебя завелись деньжата?
– Ага, завелись. Их надо с толком потратить.
На том конце провода возникла неловкая пустота, эта пустота мне не нравилась.
– Слушай... Вообще-то я решила бросить пить. Ну, да не в этом дело... – она наконец преодолела свою неловкость. – Может, не сегодня, а?
– Опять, значит, счастливый соперник?.. Ладно, извини. Слава – хороший парень. Поклон ему.
– Да, – ответила Бэлла после короткого молчания. – Он хороший парень.
– Значит, в другой раз?
– Давай в другой. Обязательно.
– А как мировая революция?
– Да ну ее в задницу! – сочно, от души выкрикнула Бэлла, и я совершенно успокоился – я узнавал прежнюю Бэлку, но мне было немного грустно, что она влюбилась.
Я позвонил домой и сказал Музыке, что у нас сегодня будет хороший ужин. Я выиграл деньги в моментальную лотерею, и нужно их вложить в дело.
Потом заехал к метро, укомплектовал наш коммунальный арсенал приличным боезапасом.
Музыка слонялся по квартире, с интервалом в пятнадцать минут он заглядывал ко мне в комнату.
– Еще не время. Ужин так ужин. Поставим приборы на крахмальную скатерть. Я купил утку, запечем ее с яблоками. Что мы, не люди?
Музыка соглашался: так-то оно так, но хорошо бы приступить.
Утка уже свила гнездо в духовке, уже протягивался по дому пикантный аромат, скатерть легла на стол, огурцы ныряли в мутноватом рассоле, маринованый чеснок лоснился, мелко наструганное сало млело, сыр потел. Музыка томился – и тут раздался телефонный звонок.
Звонила Ленка.
Он нашелся. Кто он? Да Игорь же! Да, километрах в ста от Москвы. Вышел на дорогу, его подобрали.
– С ним все то же? Сдвиг по фазе? Выпадение памяти?
Она сказала: да нет, он в порядке. В трезвом уме и здравой памяти. У него вывихнута нога, но это не смертельно. Куда как неприятней, что ему вкатывают полный противостолбнячный курс инъекций.
Что-то я не припомню, чтобы вывихи лечили противостолбнячной инъекцией.
– Он немного покусан...
– Покусан?
– Ну да.
– Собаки? Волки? Лисицы?
Она помолчала. Нет, не собаки – крысы.
– Что-что?!
– Его покусали. Крысы покусали.
– Ты ничего не перепутала, нет?.. Давай адрес. Что? Какой адрес? Да Игоря же, Игоря!
Музыка в мое отсутствие успел приложиться и успокоился. Я собрал бутылки со стола, загрузил их в шкаф, запер, ключ сунул в карман. Музыка обиженно поджал губы.
– Последи за уткой, я скоро буду. Если от птицы останутся угли, то этот кран, – я мотнул головой в сторону шкафа, – придется перекрыть.
Музыка послушно перекочевал на кухню, уселся у плиты, уставился в закопченное окошко духовки.
Он жил на Юго-Западе, близко от метро, в одном из кооперативных домов, осваивавших здешние территории в числе пионеров Юго-Запада – тогда еще дикого. Теперь город уполз отсюда далеко-далеко – завоевывать новые прерии и каньоны.
В Игоре я не ошибался – он был из другого детского садика, не из того, где воспитывались Катерпиллер и его компания.
Однокомнатная квартира – не то чтобы запущенная, неряшливо обставленная, скорее наоборот: хозяин, судя по всему, не выносил грязного пола, пыли на книжных полках и грязной посуды в мойке. Тем не менее, примета беспорядка чувствовалась – в книге, забытой на подоконнике, в тюбике крема для бритья на журнальном столике, в сахарнице, приткнувшейся на книжном стеллаже, в массе других деталей... Во всем тут была примета того особого беспорядка, который рассеивает вокруг себя человек, склонный внезапно отключаться от внешнего мира, проваливаться в себя и забывать предметы быта в самом неожиданном месте – там, где его настигла очередная нескучная мысль.
На письменном столе рядом с компьютерным монитором валялся тяжелый разводной газовый ключ. Соседство чисто пролетарского инструмента с электроникой казалось символом единства физического и интеллектуального труда.
Я поискал глазами: нет ли тут композиции, отвечающей духу тезиса о смычке города и деревни.
Пожалуй, на смычку намекал сам хозяин: что-то в нем было от подсолнуха – сухощав, высок, крупная голова, соломенная шевелюра. Кажется, он в стадии созревания – голова слегка склонена к плечу.
Он рассеянно кивнул на мои объяснения о цели визита, прилег на диван, попробовал согнуть ногу.
– Болит?
Он кивнул. Сел, начал взбивать подушку. Под подушкой лежал посторонний предмет. Передний маркер от горнолыжного крепления "Саломон–747". Конструкция не новая, но безупречная, крайне надежная, вечная. Он перехватил мой взгляд.
– Да вот... Думал в Кировск в мае податься. А тут... – он пощупал коленку – сам видишь. Я всегда езжу в Кировск, только туда.
– Выгодное постоянство.
– Думаешь?
И думать нечего. На Кавказе сейчас запросто можно угодить под обстрел. И вообще Кавказ – дело тонкое; однажды в Терсколе, неподалеку от турбазы Министерства обороны, я набрел на вагон метро. Обычный голубой вагон стоял прямо в лесу, а внутри, в салоне, торговали пивом. Пиво после катания – это особый случай. Я выбрался из вагона только ближе к ночи. Задуматься над тем, как этот предмет оказался в ущелье, за многие сотни километров от ближайшего метрополитена, мне просто не пришло в голову.
Игорь улегся, укрылся пледом, его познабливало.
– Что с тобой случилось?
– Да так... В общем-то – ничего особенного.
Ничего особенного; он бегает по утрам: просыпается рано – жаворонок – часов в шесть идет в сквер размяться. Тогда было скверное, мутное утро; в такое утро кажется, что незачем предпринимать усилия для дальнейшей жизни: вся серость, накопленная природой, течет по улице, воздух киснет, и весь двор – сказочный городок на детской площадке, качели, скосившая плечо каруселька, машины у подъезда – подергиваются слизью... Пробежавшись немного, он разминался на детской площадке. Напоследок качал пресс: усевшись на лавочку, выгибался дутой – выдох, в исходном положении – вдох. На вдохе он получил в лицо мягкий пушистый удар спрея и отключился.
– Ничего не помнишь?
– Ну, отчего же... Кое-что помню. Обрывочно, фрагментарно. Но все фрагменты растащены, имеют к тому же такую чисто акварельную основу. Размыто-туманно.
– Акварель так акварель, – сказал я. – Сейчас мы ее рассмотрим хорошенько. Вообще-то это моя любимая техника*[30].
– Это было что-то нервно-паралитическое, – сказал Игорь.
Естественно. Баллончики продаются на каждом углу. До широкой продажи электропарализаторов еще не дошло, но обязательно дойдет.
– Все-таки, что ты помнишь?
– Дом какой-то... Буржуйка в углу. Похоже, дачный дом.
Наш персонаж располагает дачей? Непохоже. Скорее всего, просто забрался в чью-нибудь. Ранней весной масса дачек торчит на шести сотках – холодных, просыревших, беззащитных – отыскать пустую дачку труда не составляет.
Игорь приподнялся, нашарил на тумбочке сигареты.
Он затянулся пару раз и аккуратно уложил сигарету в пустую чайную чашку.
Минут пять он пропадал где-то вне нашего разговора, я терпеливо ожидал его возвращения. К месту отлета, на кушетку, он вернулся вместе с жестом – так спросонья, еще толком не разлепив глаза, заядлый курильщик нашаривает на тумбочке спички. Я прикурил, вставил ему сигарету в губы.
– Спасибо... Так вот. Я сейчас подумал, что знаю его. Определенно. Я его где-то видел. Причем видел очень ясно. Возможно, это было какое-то застолье... Да! Совершенно точно! Он сидел за столом, в профиль ко мне. Странно...
– Что странно?
– Будто бы я сам, знаешь... Сам будто бы расположен вне застолья, понимаешь? То есть, чем-то, легкой прозрачной преградой, от него отделен. Стою в стороне и наблюдаю.
Мне стало грустно... Сообщение о "трезвом уме и здравой памяти" оказалось "уткой". К несчастью. Игорь внимательно вглядывался в мое лицо – слишком внимательно; мне стало не по себе.
– Слушай, не надо на меня так смотреть... Как прокурор на подследственного.
Он смешался: "Извини!"– откинулся на подушку, поглядел в потолок, чертыхнулся, сбросил плед, сел, опять уставился на меня.
– Слушай... Так ведь и ты там был... Ну да, был! Ты сидел лицом ко мне. Ты держал в руке чашку. Или маленькую пиалу...
Он явно свихнулся. Жаль, очень жаль.
– Подожди. Ты, значит, наблюдаешь откуда-то сбоку. И что?
Он сделал нетерпеливый жест – кисть мелко задрожала у виска, как бы отстраняя посторонние шумы и голоса, расшифровать жест было нетрудно: погоди, погоди!
– Ну да... Обстановка крайне мрачная. Все больше темно-коричневые тона, унылые, угнетающие. Свет над столом тусклый, как от керосиновой лампы – если сильно керосин экономить. И этот парень за столом, в профиль... И ты – с чашкой...
Я засобирался. Домой, домой; там утка поспела, и Музыка сидит в моей комнате возле шкафа. Грешно ставить над людьми такие опыты: золотой ключик все еще у меня в кармане, и я здесь, мы тет-а-тетничаем с помешавшимся Игорем.
– И вот еще, – продолжал он, не замечая мои намеки, покашливание, ерзанье на стуле, искусственную зевоту. – Я понимаю теперь, что не знаю его голоса. Он не проронил ни слова. Возможно, он просто немой.
– Игорь, мне пора.
Он окончательно вернулся на свою кушетку и удивленно разглядывал свою сигарету в чашке:
– От ведь!
– Ты давно в конторе?
Он давно, он с самого основания. Закончил МАИ, работал... Кем? Да кем, инженером в ЖЭКе, а куда деваться? Потом надоело. Подвернулся Катерпиллер – тогда еще только начинались кооперативы, едва-едва шевелились. С год-полтора было неплохо: шестнадцатичасовой рабочий день, проекты, прожекты – все не прежняя рутина, все не старушки в ЖЭКе: "Милок, у меня кран текеть!". Потом стал остывать, остыл.
– Работать надоело?
– Да ну! Служить неохота. Работа и служба – разные же вещи. Консультирую их теперь. Что-то платят, подкармливают. Пока.
Приличия ради я спросил: как этот персонаж – профильный –выглядел?
– Он производил впечатление – от сохи. Есть такой тип внешности – как будто человек вырос из земли. Грубые, тяжелые черты... Лицо асимметрично... Похоже, оно некогда имело вполне нормальную форму, но потом его мяли, комкали – как пластилин – и вот оно застыло на полпути к своей первозданности. Нос вот... Длинный, сплюснутый... Я очнулся и увидел его. Как в тумане, но увидел.
Это уже очень, очень существенно. Этот парень позволил себя увидеть. Наверное, он в чем-то усомнился.
– Да, – согласился Игорь. – Что-то вроде сомнения в нем чувствовалось.
– Ты слишком не похож на Них, на всех Ваших. Надо было попробовать ему объяснить: кто ты да что ты.. .А потом?
Игорь пожал плечами: что потом? Он помог подняться с пола, подтолкнул вперед, открыл дверку в полу – погреб. Кивнул: дескать, полезай.
Игорь и полез. Лестница крутая, не видно ничего – оступился, упал. Пробовал встать – не тут-то было. Теперь оказалось – сильный вывих. Лежал, прислушивался, сразу понял: он тут не один. Шорохи, шорохи по углам. Крысы... Сверху лязгнула задвижка.
Что-что, а создать антураж мой персонаж умеет: глухой подпол, крысы, лязг задвижки и перспектива, что голодные сокамерники объедят тебя до скелета – подобная точная, основательная режиссура способна довести до сумасшествия кого угодно.
– Как ты выбрался?
– Как обычно. По лестнице. Подтягивался на руках.
– А запор?
– Я слышал, как он опять лязгнул, решил рискнуть: вдруг – не заперто? Дверка погреба была не на запоре, кто-то открыл.
Кто-то... Скорее всего, именно тот, кто и закрыл. Если бы в подпол сунулся посторонний – он бы полез. Или, по крайней мере, заглянул. А этот – просто отодвинул щеколду и ушел.
– Сколько ты там просидел?
– Наверное, около суток. Вылез, отдышался, пришел в себя. Кто-то о моем завтраке позаботился. На столе был хлеб, чай в бутылке из-под лимонада. Чай был еще теплый. И сладкий. Но прелесть даже не в этом.
– В чем же прелесть?
– Я там, знаешь, что нашел? На верандочке, под столом?
Господи, он еще что-то там искал... И что-то нашел. Пыль? Старую газету? Горбачева на первой странице? Союзный Договор? Единую и неделимую? Мир в Карабахе? Борис Николаича нашел – того, кукольного, который с пролетариями в трамвае катается и проживает в блочной хрущобе? Или еще что-то, что давно стало трухой и свалено на дачной веранде под стол – на растопку для будущих костров?
– Это была клетка.
Я не сразу среагировал: клетка? Клетка? Зачем клетка?
– А в клетке канарейка?
– Если это и была канарейка, то размером с глухаря. Мощная конструкция, сварная. Сталь. На дне корытце с объедками.
Мне захотелось домой: к шкафу, к шкафу! Провести основательную дезинфекцию: вирусом сумасшествия наш чахоточный друг засеивает все, к чему прикасается. Он ловит крыс и сажает их в клетку. Он их, скорее всего, немного подкармливает, а потом перестает кормить вовсе; доведя же до полной людоедской кондиции, вытрясает в подпол, а потом туда же спускает Игоря – в качестве корма.
– Что ты думаешь – он псих?
Игорь улегся поудобней, прикрыл глаза; наверное, составлял разрозненные акварельные фрагменты в нечто целостное.
– Исключено!.. Я же системщик. Привык мыслить четко, на уровне жесткой схемы, модели.
– И что?
– У меня такое впечатление... Все происходившее со мной – это, конечно, абсурд, бред чистой воды. И тем не менее, я чувствую, что этот парень выстраивал какую-то модель, понимаешь?
Вот уж не думал, что бред поддается обработке и укладывается в ту или иную схему.
– При определенных обстоятельствах вполне укладывается, – возразил Игорь. – Это называется паранойя.
Домой я несся по пустым влажным улицам так, будто этот город враг мне, кровный враг, и я хочу нанизать его – как кусок мяса на шампур – на острый визг пришпоренного "жигуленка". А потом пусть он, вялый, скользкий, сочащийся кровью, висит на шампуре между небом и землей и потихоньку тухнет, тухнет, протухает.
Музыка меня ожидал, но ожидал не в одиночестве – еще в коридоре я обратил внимание на вешалку. Под вешалкой валялся на полу короткий матросский бушлат.
– У нас гости? – строго спросил я, проходя на кухню.
Музыка с виноватым видом косил под кухонный стол.
– Да, видишь... Костыль зашел...
– Ничего! – я похлопал Музыку по плечу. – Втроем – оно веселей пойдет!
– Правда? – с надеждой поглядел на меня Музыка. – Так вот и я тоже подумал. Он мужик-то хороший...
Мы потихоньку пили, переживая эту ветреную ночь, желая ее пережить и догнать за тупым чоканьем стопариков утро. Костыль молол ерунду; я догадывался, что мельницу его фантазий не остановить, пока есть, что заправить в баки; он говорил и говорил – и все про свои былые морские странствия. Я послушно следовал в кильватере его трепа, плохо понимая, какие воды пенятся у форштевня, какие берега тонут в круглых горизонтах. Костыль рассказывал о плаваньях по Белому морю; потом перемахнул в Японское, где ловил кальмара; оттуда продрейфовал в совсем уж теплые воды, и там их судно долго стояло на приколе в каком-то африканском порту; была чудовищная жара, народ лежал пластом в кубриках раскаленных, как железная бочка в костре, – лежал и коптился.
Я был прилично подшофе, но остатки сознания все-таки шевелились; они отвечали на вмешательства извне крайне слабо, но все же отвечали, толчки окружающего мира были крохотны, размером с булавочный укол.
Он был – этот булавочный укол, был. Я плохо понимал, откуда, с какой стороны он нанесен, я, кажется, схватил Костыля за рукав рубашки и потянул на себя.
Он послушно клонился в мою сторону:
– Ты че! Ты че!
В голове моей был студень.
– Стоп – машина! Полный назад! Что вы там делали? Ну-ка, еще раз – что?
Он хмурился, собираясь с мыслями:
– А че? Ну, коптились...
Студень твердел; он делался упругим, эластичным, как резина; мозг разом – каждой клеткой серого вещества – выплюнул похмельный туман.
– Еще раз! Только внимательно. С самого начала. Как ты сказал? Коптились?
– Ну!.. Как ставриды в коптильне.
– Так, хорошо. Соберись, вспомни. Тараканы. Захаживали к вам?
– О-о-о! – Костыль закатил глаза, уведя зрачки так глубоко под веки, что они, наверное, опрокинулись внутрь головы. – Зв-в-ери! – и рубанул ребром ладони по запястью, отмеряя размеры зверей. – М-м-м-ест-ные. Африканские. Черные...
– Крысы?
Он сдублировал прежнее, гигантское, круглое "О-о-о" – только теперь оно было увесистей и в сечении на порядок больше.
– Зв-в-в-ери!
Я прикрыл глаза. Так было легче тасовать простроченные принтером листы из голубой папки. Я ворошил в уме страницы, пролистывал их по нескольку раз и, наконец, нашел.
Всего один абзац.
Это был один из первых проектов фирмы.
Можно завтра дозвониться Ленке, попросить поднять документы – установить, кто стоял за этим проектом.
Впрочем, это уже ни к чему. Элементарная логика подтаскивала сюжет к знакомым мне именам; сюжет их мягко, плавно обтекал, втаскивал в себя, втаскивал – и в себе топил.
Я отволок Музыку и Костыля в комнату и выгрузил то, что от них осталось, на диван: оба представляли собой загипсованные в причудливой позе манекены; обычно люди в таком состоянии мягчеют, расплываются медузой, но мои кровные братья не вполне обычные люди, они деревянные.
У дивана я поставил пару бутылок пива.
Завтра они, бог даст, проснутся, почувствуют себя манекенами в витринной позе, и пиво смочит их деревянные суставы.
Но это уже без меня. Я буду спать на верхней полке, и железная дорога будет раскачивать и тащить мой сон за северо-запад и доставит его до пункта назначения, а проводница – "Прибываем! Прибываем! Белье сдавать! За чай платить!" - вытряхнет меня из сновидения на свежий воздух; в этом воздухе будет едва-едва слышаться запах моря, и еще будет накрывать этот город с головой мерный металлический гул: дан-н-н! – похоже, какой-то гигантский молот стучит в корабельный борт на судоремонтном заводе, и корабль ритмично стонет на выдохе – как будто ему вгоняют кулак под дых.
Этот проект... Он был не бартер и не лизинг, не клиринг и не трансферт... и не черт его знает что еще.
ФРАХТ – вот что это было.
Едва-едва, легким, прозрачным мазком запаха моря выписан этот город; он тает в автомобильных выхлопах, запахах камня, металла, солярки, и мерно гудит над крышами домов: дан-н-н, дан-н-н.
Мне приходилось тут бывать раньше – проездом, бегом-кувырком, но запах и голос я запомнил. И они пока живы.
Добрую половину дня я проболтался у проходной порта – и без толку.
"Капитан Горбунов" в рейсе...
Когда будет обратно? А черт его знает, спроси в пароходстве.
В пароходство я не пошел, двинулся в пивную. Если хочешь до чего-то дознаться, то следует направляться не в инстанции, а в пивную; здесь – в гомоне, раскачивающемся под низким потолком, в пивных запахах, в тугих аккордах упругой пивной струи – хранится, как в памяти компьютера, вся мало-мальски значительная информация о происходившем, происходящем в округе и даже о том, что пока не случилось, но обязательно случится.
Я смутно помнил эту пивнуху, зарывшуюся в землю, скатившуюся в подвальное, закругленное плавными сводами помещение в старой части города, но ничего прежнего на старом месте не нашел; ни привычного гула, ни оживления, ни букета из дюжины пенных пивных цветов на каждом столе. Пять человек, разбросанных по углам, ссутуливались над пятью кружками – сдавленные, согнутые подземной тишиной.
Цены, цены...
Я взял кружку и бутерброд с рыбкой – цены в самом деле тяжелы. Народ этих тяжестей снести не может: он перестал сюда ходить, чтобы галдеть, вспоминать, прорицать.
Причаливать к пустому столу не было смысла – я поискал глазами: кто из пятерых? Выбрал преклонного возраста человека в тяжелом черном бушлате. Почему его?
Сам не знаю. У него была заячья губа. Глупо брать в качестве ориентира заячью губу, но почему-то именно эта уродливая губа сигналила мне знаком надежды.
Это оказался ложный маяк. Заячьегубый был крайне необщителен. Что это у вас тут запустение такое!.. Да уж. Народу прежде набивалось – жизнь! Да уж. А теперь
вот цены... Уж это да!
Никакие больше слова под заячьей губой не квартировали.
"Капитан Горбунов"? Да уж.
– Что – да уж?
Была какая-то с ним история. Несколько лет назад. Он не помнит.
Он мочит рот в пиве и ничего не желает помнить. Присмотревшись, я понял, что уродство, полоснувшее рот, – не врожденное, а благоприобретенное: это был чудовищный шрам. Я прикинул мощность удара, способного вот так расколоть человеку рот, и мне стало не по себе.
– Ты вот что, парень... Ты у пана Марека повызнай. Он знает.
– Что за пан Марек?
– Пан Марек-то? Так он – пан Марек.
"Пан Марек – пан Марек" – очень содержательный тезис.
– Он про наши морские дела все знает, – пояснил собеседник; больше он ничего не говорил, погрузился в созерцание жиденькой пены, паутиной осевшей на стенках кружки.
Хорошо, хоть ориентир есть: тут недалеко, за угол, там арка, ходи под арку, в ней дверь, а за дверью в арке – пан Марек.
Я допил пиво и пошел туда, "за угол".
Человек живет в арке? Как это – в арке? А подъезд?
Тем не менее, все оказалось именно так, как говорил собеседник: низкая подворотня, заманивающая свет улицы во мрак внутреннего двора, чтобы там растоптать, сгноить, вмять в свалку, пенящуюся у глухой каменной стены. В арке – дверь. Заперто. Звонка нет.
Он откликнулся на стук, дверь заскрипела.
– Цо пан хцэт? Пан до Марека?
До Марека, до Марека, пан хцэт потолковать. Поразмувляты. Пшепрашем, довидзенья.
Похоже, это все, что мне памятно из польского.
– Прошу пана...
Мы взобрались по крутой лестнице. Пан Марек сильно хромал. Правая нога, огромная, бесформенная, была закована в ортопедический ботинок.
– Прошу пана...
Я шагнул в комнату; мне показалось, что я ввалился в какой-то кунсткамерный мир. Кто-то изъял из морского музея один из тесных уютных зальчиков и замуровал его в этом доме прямо над аркой. Много книг. Морские пейзажи. Осколки корабельной жизни: рында, компас, штурвал и масса еще каких-то предметов, название и назначение которых я не знал.
В левом углу высоким, подпирающим потолок стеллажом отгорожен закуток, приютивший стол, две лавки, железную койку, идеально застеленную солдатским одеялом, узкий вещевой шкафчик – наверное, именно так выглядит фрагмент обычного судового кубрика; хозяин гостеприимным жестом пригласил за стол.
Я присел, дернул лавку, понуждая ее придвинуться ближе к столу, – лавка не шелохнулась, как будто пустила глубокие корни в пол. Пан Марек усмехнулся – снисходительно, доброжелательно:
– Привинчено, пан...
– Привинчено?
– А если качка?
Я обратил внимание, что за нами наблюдает со стены круглое стекло в хромированной оправе – иллюминатор; пан Марек любовался впечатлением, произведенным обстановкой.
Он потянулся к чайнику, разлил по стаканам. Компот из сухофруктов, мутноватый, приторный. Где-то я слышал, что на судах пьют компот. Прежде пили ром, теперь компот. Интересно, как хозяин кубрика относится к давней традиции. Если он поставит на стол пузатый, почерневший от времени бочонок, я вряд ли удивлюсь.
Он сидел напротив, ласковость его прищура сообщала вашей беседе романтический аромат, хотя в глубине души я сомневался, что коротаю время с нормальным человеком.
В его внешности было что-то от хрупких чистеньких старушек с Маршалковской прежних времен; они день напролет сидят в тесных кукольных кондитерских, они носят старомодные шляпки, у них аккуратные птичьи ротики, они мелко, на птичий манер, прихлебывают кофе и поклевывают пирожное "наполеон". На третьем курсе у нас была практика в Польше, о тех днях осталось теплое воспоминание. Наверное, потому, что варшавяне – это особая нация; изысканность, рафинированная интеллигентность, тонкий вкус, умные лица– вообще тогдашняя Варшава была Городом Солнца, населенным гуманитариями. Мне казалось, что можно подойти к любому человеку на улице с просьбой продекламировать кусочек из "В ожидании Годо", или еще что-нибудь в этом духе –и прохожий бы прочел... Теперь в Городе Солнца, говорят, другие лица, сплошная торгашня да девчата, таскающие в сумочках свое легкое поведение – все, как у нас.
Марек был откуда-то оттуда, с той Маршалковской, опущенной в мягкий солнечный свет, кондитерские запахи – у него тонко очерченное лицо, глубокие внимательные глаза, мягкая интонация.
К счастью, он прекрасно изъяснялся по-русски. Он обволакивал русскую речь изящным акцентом, в этом была трогательная прелесть.
"Капитан Горбунов"? Да-да, это грустная история, это очень печальная история, но отчего пан ею интересуется? Это было давно...
Пан работает в газете, в Москве, он репортер, интересоваться всем на свете – это не просто его работа, это образ жизни.
В его прищуренных глазах метнулся промельк сожаления: ах, пан, обманывать грех, впрочем, как пану будет угодно.
Мы выпили огромный чайник приторного компота; мы пили мелкими глотками и заедали этот напиток рабочих окраин черным хлебом; но мы – каждый про себя – представляли себя сидящими у пыльной, позолоченной уходящим на покой солнцем витрины в кондитерской, за маленьким, на две персоны, столиком; так мы сидели и вели долгий тихий разговор про какую-то совершенно немыслимую здесь, в Городе Солнца, жизнь. Мы дышали запахами кофе и заварного крема и мы очень, очень сомневались, что где-нибудь и когда-нибудь может воплотиться в реальность этот грубый сюжет; сюжет о том, что какая-то столичная фирма проворачивала проект с фрахтом "Капитана Горбунова"; набирали экипаж, обещали приличные заработки в валюте, заходы в загранпорты и много чего еще; "Горбунов" – хотя и судно со стажем, но вполне еще сносное, да, это траловый флот, согласно договору он должен был вести лов где-то в теплых морях, откуда можно запросто доплюнуть до экватора; но, как выяснилось, никакого соглашения с африканцами на предмет лова в их территориальных водах не было, да и вообще весь этот проект оказался липой, судно вскоре было арестовано, поставлено на прикол; команда оставалась на борту – без денег, без воды, без продуктов – и медленно тонула в собственном дерьме; не было даже средств нанять мусорное судно, чтобы вывезти помойки.
– Сколько они там коптились?
Месяца полтора или два, пан отдает себе отчет, что это значит – в тропиках? Вытащить "Горбунова" все-таки удалось – чуть ли не через самые высокие кабинеты в консульском отделе МИДа.
– Тяжелые случаи, а, пан Марек? Было что-то такое?
Естественно, в таких кошмарных условиях иначе и быть не могло. Маша-буфетчица. Ее все тут знали, хорошая девушка, плавала – буфетчицей, брать ее в этот рейс было не с руки, но она упросила какое-то начальство; потом,– Толя, матрос; Женя, второй штурман. Их списали на берег по здоровью, остальные кое-как оклемались.
Остальные кое-как оклемались, а эти трое – нет.
– Среди этих, кто оклемался, был кто-то неместный?
Марк кивнул: да.
– Из России?
– Да, москвич.
– Москвич, или из Подмосковья?
Марек пожал плечами: какая разница?
Конечно, никакой разницы, но котельная, где коптили Бориса Минеевича, воинская часть, укомплектованная чернорожими солдатиками, и дачка, где Игорь коротал время в обществе крыс, – все это в одном и том же подмосковном районе.
Где этого парня теперь искать, Марек не знал.
Покидал я морскую комнату с ощущением, что через каждые полчаса придется искать общественный туалет: литра два компота во мне плескались.
У входа в арку торчала дворничиха – приземистая, основательная, похожая на афишную тумбу прежних театральных времен; она опиралась на дворницкую лопату с широкой алюминиевой ладошкой и наблюдала, как забранная металлической решеткой канализационная дыра глотает грязный уличный ручеек. Я спросил, как пройти на подсказанную Мареком улицу. Оказалось, это недалеко.
Я поймал себя на мысли, что не успел спросить, какие ветры выдули его с Маршалковской и закинули в этот город, пахнущий железом и морем. Я просто посмотрел наверх, туда, где на улицу пялился иллюминатор. Дай ему Бог здоровья, Мареку, пусть сидит в кубрике на лавке, привинченной к полу на случай качки, и глядит, как в иллюминаторе покачиваются горизонты - это его святое право.
Я помахал иллюминатору:
– Довидзенья!
Дворничиха не отреагировала – ее больше занимала прожорливость канализационного люка, сосущего воду с мостовой.
Никого из тех троих я не застал.
В Машиной квартире я нашел одну церковного вида старушку, она качала головой и бормотала себе под нос; из этого долгого, вытянутого в бесконечную шерстяную нить бормотания можно было напрясть совсем короткую информацию: Маша уехала совсем... Куда? Куда-то в Магадан и дальше, срам-то какой, от срама и убежала, там ее никто не знает, в Магадане. Женя находился в ЛТП на излечении: за время после списания он успел догнать белую горячку и прочно уцепился за ее тяжелое крыло; Толя в санатории: последнее время он пролеживал больничную койку десять месяцев в году, к весне полегчало, уехал в санаторий, куда-то в Крым, что ли.
О Толе мне рассказывал его сосед по лестничной площадке; мы курили в подъезде, сосед в двух словах сказал о себе: плавал, потом еще плавал, и снова плавал, а теперь баста! На пенсии... Плавал ли он в тех широтах? Конечно, это сомнительное удовольствие, и вспомнить неохота. Как могли выглядеть те полтора месяца, что команда "Горбунова" проторчала в порту без жратвы, воды, денег, без лекарств? Он догадывается, но точно передать это ощущение не может – если охота нечто такое прочувствовать на собственной шкуре, представь, что гостишь в преисподней.
Мой поезд уходил в полночь, надо было убить пару часов, я заглянул к Мареку.
Он не удивился моему появлению, поставил чайник на плитку.
– Пан не понимает, почему я здесь оказался?
Я пожал плечами: это, наверное, интересно, но лезть в чужую жизнь я не хочу,
– Да уж, эта жизнь... – грустно улыбнулся Марек.
Это был грустный рассказ про человека с изуродованной ногой: человек родился в Гдыне, у серого прохладного моря, перед войной жил в Вильнюсе ("В Вильно", – сказал Марек), потом в Сибири, и, наконец, прочно осел здесь. Он родился в семье моряка и с детства мечтал плавать, но на суда его, естественно, не брали из-за сильной хромоты, и тогда он стал читать, много – и все про море.
– Иногда мне кажется, что та детская мечта... – тихо произнес Марек, – что она исполнилась, – он пристально следил за моей реакцией. – Вы полагаете, это не вполне нормально?
– Напротив, – сказал я. – Вы совершенно правы. Я вас понимаю.
– Пан узнал все, что нужно для газеты?
В принципе, да.
Мне не хватает пока крохотной смысловой точки. Той самой с которой стартует коллизия и у которой финиширует. Того сгустка чисто настроенческой плазмы, которая потом растечется по тексту и согреет металлический каркас сюжета. Это вовсе не обязательно должна быть какая-то законченная мысль. Возможно, такой смысловой точкой окажется – звук. Или запах. Или движение теней. Никто не знает толком, что это такое.
Марек разогревал чай на электрической плитке, долго, со знанием дела, заваривал, соблюдая ритуальные тонкости; я тем временем бродил вдоль книжных полок, разглядывал пейзажи.
Один выбивался из маринистического ряда; на картине была суша, какое-то поле – неряшливо, на первый взгляд, вытканное случайными мазками.
Где-то я это поле уже видел. Спиной я почувствовал: Марек в полунаклоне у плиты, он оторвался от чайных церемоний, смотрит мне в затылок и прищуривается.
– Это он.
Я резко обернулся; все так – и полунаклон и прищур, и тонкая струйка черного кипятка у чайного носика.
– Кто – он?
– Он. Москвич.
Мы пили чай мелкими глотками, и я про себя дорисовывал портрет персонажа. Он из той реликтовой породы людей, говорил Марек, какие есть странствующие романтики; каким-то ветром его занесло сюда, к нам... Нет, он не профессиональный матрос. Кажется, он учился в Москве, в училище, ну, в том, где учат рисовать, ведь у вас в Москве есть такое училище? Нет, он его не закончил, ушел с третьего курса, то ли сам ушел, то ли его выгнали – что-то он рассказывал Мареку, но Марек не помнит. Путешествовал... Когда он возник здесь, в городе, у него был с собой маленький рюкзак и плоский деревянный ящик на ремне через плечо. Мольберт? Да, кажется, мольберт. Но никто не видел, чтобы он писал на улице, как все художники. Зато его часто видели в городском музее. Он ходил по залам и вглядывался в холсты. Бывал ли он у Марека? Да, бывал, этот холст – где поле – его. Подарок.
Я вспомнил, откуда знаю это поле. Это "Пейзаж в Овере" – выставлено в Пушкинском.
И что-то в этом холсте было не так, не на месте было. Что именно – я не понимал. Возможно, в промытом дождем пейзаже чувствовалось чуть больше вольного воздуха, терпкого, степного – как раз того, какой носят горячие ветры гуляй-поля, – автор оригинала был европейцем и дыхания этих горячих ветров знать никак не мог.
Я, наконец, добрался до смысловой точки нашего текста – это не месть, не каверза, не злой умысел. Это – мазок, след, оставленный кистью на холсте. Он не псих, этот парень, он всего-навсего – КОПИИСТ.
И, кажется, я догадываюсь, в какую именно композицию складываются мои "двенадцать палочек".
Поездка к морю заняла два дня. Я вернулся в Москву с твердым намерением отдохнуть.
Неделя вяло подползла к выходным; я плыл в сером потоке глупого, бездеятельного времени – вернувшись из города, пахнущего железом и морем, я бездельничал, перевернувшись на спину, разбросав руки; когда-то под нашим старым добрым небом я любил заплывать на самую середину Москва-реки и лежать в ней крохотным загорелым крестиком; лежать и не шевелиться, чтобы ленивое течение несло на закорках – куда? Куда-нибудь.
На второй день я заставил себя позвонить в контору и попросил передать Катерпиллеру: сюжет завершен, продолжения иметь не будет, рукопись отпечатана, выправлена, вычитана и уложена на полку – сохнуть, желтеть, сосать пыль. Ленка холодно поинтересовалась: так и передать?
Точно так, пусть расценивает мой звонок как телефонограмму.
Приличия ради, я вспомнил Бориса Минеевича и Викторию – как у них делишки, поправляются?
В общем и целом – в отношении физических кондиций – сносно, но чисто психологически... Они никак не приходят в норму, и неизвестно, придут ли вообще.
Напоследок она забросила удочку: ей лично я ничего не желаю передать? Какую-нибудь телефонограмму – не желаю?
Я сказал, что составление телефонограммы – это слишком трепетное занятие – больше одной в день мне не родить; телефонограмма – это как стих, ее нельзя высиживать, как наседка высиживает яйца, она должна созреть.
Ленка бросила трубку.
Остаток дня я провалялся на диване. Кажется, я начал впадать в состояние анабиоза. Единственный человек, способный меня в таком состоянии поднять с места, – это Бэлла. И она позвонила.
– Подъезжай... Сейчас можешь?
С трудом, но все-таки, кажется, я мог.
– У меня тут это... – продолжала Бэлла. – Машину... – она задумалась; я представил себе, как она сидит у телефона на низком пуфике и листает в памяти свой инфернальный словарь.
– Стырили?
– Как? Стырили? – странно, что этого термина не оказалось в ее необъятном словаре.
– Можно по-другому, – сказал я. – Сперли. Свистнули. Помыли. Слямзили. Умыкнули.
Некоторое время она размышляла.
– Не-е-е-т, – раздумчиво отозвалась она. – Это называется не так. По-русски это называется...
Я и сам догадывался, как это называется.
– Приезжай. Посидим тихо. Без шума и звона. Втроем.
– Втроем?
Ах, да – Слава анестезиолог. Тихо посидим – при свечах, вкусно поедим, потом меня уложат на старушкину раскладную кровать – перспектива не самая веселая, но выбора не было.
У метро я купил цветов – белых вперемешку с розовыми.
Бэлла встретила меня при параде, я едва ее узнал: темно-вишневое вечернее платье, бриллиантовые капли в ушах, новая короткая стрижка – это была Belle, но никак не Бэлка, которую я знал сто лет.
– Я угодил на свадьбишный ужин? – сказал я, рассматривая хозяйку. – Ты очаровательно выглядишь. Наш вольный воздух тебе на пользу.
– Слишком вольный, – уточнила Бэлла.
– Ни один француз не позволил бы себе соорудить такой стол. Все французы, сколько я их знаю, страшные жмоты. Просто патологические.
– Есть немного, – согласилась Бэлла, проверяя перед зеркалом аккуратность зачеса. – Который час?
– Семь...
Она нервничала. Наверное, Слава уже должен был стоять у дверей.
Я устроился в кресле, подтащил к себе сервировочный столик с напитками.
– Захватишь Славу с собой? Или сама тут осядешь?
– Как-то не думала... – Бэлла повела плечом. – Как ляжет... – она наморщила лоб, и я пришел ей на помощь:
– Фишка?.. А чего? Устроишься тут в какое-нибудь совместное предприятие. А меня возьмешь к себе личным переводчиком.
– Это с какой стати?! – вскинулась Бэлла. – Я идеально владею языком – и нашим, и вашим. И еще английским!
– В том-то и дело, что идеально... Как ты переведешь слово "Deception"*[31] ?
– Наебка! – моментально перевела Бэлла.
– То-то и оно.
Она подошла к окну, отстранила тяжелую штору, глядела во двор: все высматривала своего Славу.
Я спросил, что с машиной.
Да, ничего особенного, обычный советский цирк. Подъехала на заправку, выстояла минут сорок, наконец, дождалась заветного места у шланга. Пошла в будку платить, заплатила, вернулась, но машины на месте не нашла.
– Ну, – посочувствовал я, – это вполне в рамках нашего теперешнего жанра. В милицию ходила?
Про милицию я спросил для проформы – и дураку понятно, что если на дворе у нас "Большой налет", то ходить в милицию не имеет никакого смысла. .
– Да, была! Там отделение рядом, через два дома.
Была; по обыкновению устроила скандал и размахивала французским паспортом; преклонных лет капитан покорно внимал ее словоизвержениям, и в ответ грустно заметил: "Скажите, девушка, еще спасибо, что легко отделались".
– Представляешь, твою мать! И говорит дальше: у нас ведь как? Останавливают вас на дороге – и кирпичом по голове... – она прошлась по комнате: туда-сюда, туда-сюда. – Где ж Слава? У него была операция. Плановая. Днем. Он сказал, что будет часов в шесть.
– Номер больницы знаешь, конечно? И телефонный справочник давай...
В справочной, как обычно, занято. Я дозвонился в приемное отделение, мне ответил хрупкий высокий голосок – такие бывают у пятнадцатилетних девочек-практиканток из медучилища.
– Вячеслав Сергеевич? Он занят. Непредвиденные обстоятельства. Недавно привезли пострадавшего – и сразу на стол. В ужасном состоянии, весь избит, сильно порезан... Вячеслав Сергеевич сейчас в операционной.
Девушка примолкла. Потом перешла на испуганный шепот:
– Знаете, мне только что звонили... Да, по поводу этого пострадавшего.
Звонили и звонили – в приемное часто звонят и справляются о состоянии больного и шансах на выздоровление...
– Да нет, вы не поняли...
Она была явно перепугана, эта сестричка, – я насторожился.
– Что такое? Только спокойно, без нервов.
Звонил мужчина... Нет, не назвался и ни о чем не спрашивал. Узнав, что больной у нас, он приказал, чтобы врачи его не трогали: он должен умереть – и пусть он умрет.
– Что ты ответила?! – неосторожно выкрикнул я и затылком почувствовал, как Бэлла напряглась.
– Как что? Что положено... Что пострадавший сейчас на столе.
– Черт бы тебя побрал, – тихо сказал я, но Бэлла, конечно, все слышала: она положила мне руку на плечо, и я через свитер почувствовал, какая у нее напряженная и холодная ладонь.
Я поднялся с банкетки, обнял ее и мягко повлек к столу. Усадил в кресло, стал успокаивать: ничего особенного, внеплановая операция, бывает... Они скоро закончат. Какую-то женщину с час назад доставили с подозрением на перитонит. Но подозрение не подтвердилось – просто аппендицит. Слава скоро закончит, наверное, уже закончил, снял перчатки, умывает руки.
Не знаю, положены ли анестезиологу перчатки, но Бэлла успокоилась.
Мы немного поболтали о том, о сем, о ее работе – Бэлла жаловалась, что на телевидении сейчас очень паршивая ситуация, фильмы плохо продаются, и вообще повсюду кошмарное сокращение – на Би-Би-Си недавно выперли чуть ли не половину штатного состава. Прошло, наверное, минут двадцать.
– Слушай, а чего мы тут? Давай за Славой сгоняем, а? – предложил я. – Подхватим его там, еще тепленького, быстро доставим – от стола операционного к столу нашему.
По дороге Бэлла пару раз спросила, какая муха меня цапнула – я гнал, не обращая внимания на то, что дорога скользкая...
Это была старая больница – желтые приземистые корпуса за мощной чугунной оградой, уютный палисадник, круглая клумба в центре – в оправе чахлой, обглоданной сирени; щуплые фонарные столбы – сутулые – пялятся себе под ноги.
Ворота открыты. Нам нужно пересечь дворик по диагонали (так я понял из указателя, неряшливо намалеванного масляной краской на стене), нырнуть под низкую арку: где-то там, в тылу, и находится приемное отделение.
Нам повезло – я успел среагировать.
Узкая арка на том конце двора взорвалась – вспышкой стального галогенного света. Я ослеп и инстинктивно рванул вправо, нас подбросило на низком бордюрчике. Мы прыгнули на газон и едва не протаранили старофасонную чугунную урну. По узкой дорожке мимо нас просвистел приземистый лимузин – я толком не разглядел автомобиль; и не смог бы разглядеть: еще с минуту сидел зажмурившись – было впечатление, что глаза мне просто ошпарили.
Про Бэллу я совершенно забыл.
Мы осторожно миновали арку, свернули направо, выехали на пологую горку, прямо к двери.
На входе меня чуть было не сшибла с ног какая-то женщина в зеленом хирургическом халате. У нее были безумные глаза. Она резко толкнула меня в грудь и побежала. Метнулась под арку.
В острых ситуациях человеку иногда приходят в голову совершенно идиотские мысли – одна из них посетила меня.
"Черт, она промочит ноги!" – подумал я. Я так подумал, потому что женщина была обута в специальные хирургические тапочки без подметки и бежала по лужам, не разбирая дороги.
Я вломился в приемный покой, оказался в узком "предбаннике" – наверное, здесь было что-то вроде кладовки пополам с раздевалкой. Дверь в соседнее помещение распахнута.
Просторная белостенная комната, в углу огромная бутыль с желтоватой жидкостью; медицинский шкафчик с прозрачными дверцами, канцелярский стол у окна, на столе перекидной календарь, букетик градусников в стакане; рядом кушетка, крытая рыжей прорезиненной простыней, опрокинутый стул.
Она сидела на полу, нелепо разбросав ноги, прислонившись затылком к белой стене. У нее были каштановые волосы и пионерское лицо – такие носят девочки-отличницы из шестого класса. Похоже, именно с ней я недавно разговаривал по телефону. Она тупо, не мигая, глядела в потолок и стучала зубами.
Я присел перед ней на корточки.
– Что? Что они тебе сделали?
Она прикрыла глаза: ничего...
Надо было как-то вывести ее из состояния столбняка. Как это можно сделать, я не знал – моя медицинская практика ограничивалась работой в морге. Но там я мыл трупы, а здесь сидел на полу пока еще живой человек.
В шкафчике я наткнулся на нашатырный спирт –-плеснул на платок, поднес к ее лицу. Ее передернуло.
Теперь она смотрела мне в глаза, но я сомневаюсь, что она меня видела. Я встряхнул ее за плечи.
– Кто это был?
– Они.
– Кто – они?..
– Они, – повторила сестричка и опять прикрыла глаза. – Они пришли... С пистолетами... Сказали: веди в операционный блок.
На подъезде к больнице я обратил внимание: в окнах на третьем этаже стоит холодный матово-голубой свет... Скорее всего, это и есть операционный блок.
Кажется, я скакал по лестнице через четыре ступеньки.
Я рванул дверь на площадке третьего этажа – открыто. Приглушенный свет тонких неоновых ламп под потолком удлинил коридор, замкнутый в торце матовой стеной из стеклянного кирпича – кажется, мне надо туда, за эту стену.
Справа по ходу – двери-распашонки. Я толкнул створки, попал в какое-то голубое помещение, откафеленное с ног до головы. По правой стене – длинное зеркало, несколько раковин. Из крана туго хлещет вода... На полу, прислонившись к кафельной стене, прямо под умывальником, сидит Слава, он холодно и отрешенно смотрит сквозь меня. Я опускаюсь на корточки, трогаю его за плечо: "Слава...". Он вздрагивает и – этот гигантский, баскетбольных кондиций мужик – вдруг плачет навзрыд. Я помогаю ему подняться и сдаю на руки какой-то медсестричке. Его уводят.
Множество людей в белых и голубых халатах сгрудились в узком проходе. Они почему-то молчат и не обращают внимания на то, что кто-то посторонний, без халата, проталкивается между ними.
И я протолкался. Первое, что я почувствовал, – здесь не было привычного больничного запаха; точнее сказать, он был отодвинут, оттеснен каким-то другим запахом, немыслимым, посторонним в этих кафельных стенах, – слегка сладковатым: так пахнет порох. И только потом я увидел.
Разбрызганное по полу стекло, опрокинутый столик с хирургическими инструментами. Медленное покачивание капельницы, ритмичная пульсация зеленого сигнала в экране какого-то прибора. Пустой операционный стол, кровь на полу. Человек в хирургическом халате – лицом вниз, рядом с оперстолом. Еще человек – справа, у приборов: он лежит, нелепо вывернув колени.
И был еще один человек – в левом углу, у кафельной стены. Вернее сказать, что от человека осталось. А осталось от него, кажется, одно лицо – все в ссадинах и синяках. Но не настолько изуродованное, чтобы его нельзя было узнать.
Наверное, они пришли, оттеснили в угол опербригаду, стащили со стола человека, обрывая нити, соединяющие его с жизнью, – все эти капельницы, шланги искусственного дыхания или что у них там еще есть на этот случай в операционных – оттащили налево, прислонили к стене и расстреляли.
А потом расстреляли всех, кто попался под руку. Под руку попались хирург с ассистентом.
Значит, Эдик больше никогда не заявится в Пицце-Хат – там, у стены, валялось именно его лицо.
Двое суток я провел у Бэллы.
Утром звонил Слава. Бэлла слушала молча, потом протянула трубку мне. Говорил он как-то глухо и путано. Да, чувствует себя ничего. Но пока приехать не может – ему нужно побыть одному, подумать. О чем подумать, он не сказал.
Я знал единственный способ пережить эти дни. Сначала напиться – до полной оглушки, до потери сознания, а потом, очнувшись, поддерживать в голове жидкий голубой алкогольный туман: понемногу, мелкими дозами – но последовательно, упорно поддерживать.
Но чем можно было помочь непьющему человеку, я не знал. Два дня она не поднималась с дивана, и я сидел рядом на стуле. Время от времени она поворачивала в мою сторону белое, без кровинки, лицо, и – невыносимо спокойным тоном, крайне серьезно – спрашивала:
– За что – их? Почему – их?
Я молча гладил ее по голове – отвечать было нечего.
Я страшно, нечеловечески устал – ночью она не спала, и я не разрешал себе задремать.
Похороны должны были состояться на третий день. Слава будет там. Бэлла сперва сказала, что тоже пойдет, но я ее отговорил – зачем? Этих людей она не знала. И вообще, чем скорей она все это позабудет, тем лучше. Там будет серый больничный двор, сырой, скользкий, будет, наверное, висеть в воздухе дождевая пыль, будут траурные цвета, и цветы, и венки. Будет покачивание над обнаженными головами людей сдавленного женского плача.
Наутро третьего дня она резко поднялась с дивана, достала из шкафа чемодан, пару больших теннисных сумок и медленно, внимательно стала собираться.
Я молча следил за тем, как она неторопливо, аккуратно пакуется.
– Здесь человеку жить невозможно, – сказала она наконец.
Я не возражал, мне страшно хотелось спать. Она отнесла чемодан в прихожую, подсела к телефонному столику, долго говорила по-французски, положила трубку, но с места не двинулась. Минут через пять раздался звонок. Она слушала, кивала, смотрела на часы.
– Присядем... На дорожку.
– Куда ты?
– Здесь невозможно человеку жить.
Бэлла порылась в сумочке, достала ключи, маленький листок бумаги.
– Адрес и телефон хозяйки... Оплачено еще за месяц вперед. Если хочешь, живи...
– Как ты намерена улететь? Зайцем? Все ж билеты проданы – года на полтора вперед.
Она кивнула на телефон, давая понять, что эти проблемы сняты.
– Или ты думаешь, я полечу на Аэрофлоте? Я больше никогда в жизни не буду летать на Аэрофлоте. Я приеду домой и сожгу все книги на русском языке, какие у меня есть. Я постараюсь забыть все: город, дома, людей. Я постараюсь забыть язык... Я забуду, забуду... Вытащу отсюда Славу, привезу к себе – и забуду.
Мы долго молчали; Бэлла поглядывала на часы, наверное, ждала – то ли за ней должны заехать, то ли позвонить.
– Как твой сосед поживает? – рассеянно, скорее всего, из необходимости заполнить паузу, спросила она; я слишком устал, чтобы среагировать и понять, о чем это она.
– Сосед?.. Ах да, сосед, человек по имени Музыка. Да как обычно.
– Что с ним? – спросила Бэлла.
– Да, вроде ничего, – я поднялся из кресла, прошел к телефонному столику, сел перед Бэллой на пол, скрестил по-турецки ноги; я взял ее холодную руку, погрел в ладонях. – Тебе не придется забывать наш язык.
– Да? – спросила очень серьезно Бэлла. – И почему же?
– Потому что Его и так уже нет. Язык распался. Помнишь, как греки определяли варвара? Да, верно: человек без языка. И не потому, что весь окружающий мир не владел членораздельной речью. А просто язык был для них нечто большее. Как один умный человек сказал: это было артикулированное пространство мысли, желания и чувства. Этот Музыка – он ведь был под нашим старым добрым небом чем-то вроде языка. Он умолк – и стало тихо. Слышишь, как тихо у нас теперь?
Бэлла кивнула... Зазвонил телефон.
– За мной, – объяснила Бэлла, взглянув на часы. – Ну, пока... Ты хороший парень. Постарайся тут выжить.
– Постараюсь, – пообещал я; мы поцеловались. Крепко. В губы.
Я ее не провожал. Я повалился на диван, который еще пах Бэллой, и моментально исчез – из этих стен и этих запахов, исчез надолго.
Очнулся я только на следующий день. Позвонил домой. Музыку не застал. Видно, ушел на работу в свои фруктовые ряды. Меня тянуло в квартиру-портмоне. Какое-то смутное чувство. Проверив обойму привычных желаний, я обнаружил в ней один нестреляный патрон: пройти там на кухню, выглянуть во двор – сидит ли еще старуха в окне напротив? Все еще вмерзает ее лицо в стекло или уже растаяло?
Уже в районе Маяковки я понял, какую допустил глупость, выбрав маршрут по Садовому; пробка уплотнялась уже на мосту над Самотекой и закупоривала все кольцо, наверное, до самой Сухаревки; сосед справа выключил движок и дремал, привалившись к дверце, левый сосед распространял вокруг себя напряженную ауру; он ерзал, стучал ладонями по баранке, откровенно артикулировал, и я не сомневался, что концентрация инфернальной лексики в его машине уже превысила все допустимые экологические нормы – он, должно быть, опаздывал на Курский вокзал.
Чем ближе к перекрестку на Сухаревке, тем больше уплотнялась пробка; народ нервничал, старался воткнуться в крохотные трещинки и полости пробкового дерева; сам перекресток представлял собой чудовищный водоворот движений и звуков, темпераментов и эмоций – пространство площади было настолько раскалено, что сигареты в зубах водителей, похоже, прикуривались сами по себе, от воздуха.
Я пристроился к левому заднему колесу КамАЗа: в такой ситуации кто большой и сильный, тот и прав. Гаишники предусмотрительно ретировались отсюда, светофор перебрасывал сверху вниз и снизу вверх цветовые сигналы, но к ритмичным подскакиваниям зеленого – в желтый, а желтого – в красный следовало относиться точно так же, как к усердию фельдшера, делающего массаж сердечной мышцы покойнику. Автопоток подчинялся логике волны; пока волна катит, надо на ее гребне переплыть перекресток.
Правила дорожного движения я считал последним оплотом нормы: эта норма хоть как-то удерживала пошедший вразнос город – теперь и она рухнула на сырой асфальт и погибла под колесами.
Я прикинул про себя, какие осколки всеобщего Закона нам осталось истолочь в порошок, чтобы почувствовать себя окончательно свободными. И пришел к выводу, что таких осколков осталось всего два. Нам осталось отменить Метр и Килограмм.
Все остальное мы уже отменили.
От Самотеки до Сухаревки я ехал ровно час десять. Проще было дойти пешком.
Преамбула нашей встречи мне не понравилась.
В подъезде я столкнулся со студентом – сердечным другом Девушки с римских окраин. Вид у него был потерянный. Я протянул ему руку для приветствия – он секунду раздумывал, на приветствие не ответил, пошел к выходу.
Такие манеры мне не по душе; я догнал студента, взял его за воротник пуховки, придержал. У него дрожали губы, мне показалось – еще немного, и он заплачет.
– Скоты, – выдохнул он мне в лицо. – Все вы скоты!
Где-то я уже нечто подобное в свой адрес слышал – где? Ах, да, Девушка с римских окраин именно так приласкала меня, когда я нагрянул сюда после дачной отсидки.
– Спокойно! – скомандовал я. – В чем дело?
Он дернул плечом, высвободился – да я его уже и не держал. Некоторое время он собирался с мыслями; наконец, как видно, собрался – его рука медленно приподнялась на уровень лица, потом он отвел ладонь в сторону. Именно такие телодвижения совершают герои кинофильмов про дворянскую жизнь, когда собираются дать недоброжелателю пощечину.
Перехватить эту слишком медленную, слишком дворянскую руку мне труда не составляло.
– Ладно, – сказал я, когда студент успокоился. – Будем считать, что ритуал мы соблюли, можешь присылать ко мне своих секундантов. А вообще-то... Я ж тебя учил; сразу бей ногой в пах. Ты что, забыл? На худой конец лбом – в переносицу.
– Скоты, – повторил он. – Какие же вы скоты!
Прежде чем захлопнуть тяжелую лифтовую дверь, я крикнул ему: "Что все-таки стряслось-то?"
Он истерически выкрикнул из подъездного полумрака:
– Иди-иди! Там тебя обслужат.
Дверь была не заперта. Я прошел в квартиру-портмоне, заглянул в комнату. Пусто... На кухне тоже пусто.
Дверь в ванную была закрыта. Я постучал. Потом еще. И еще.
Развернуться в квартире-портмоне было невозможно, а в прихожей – тем более. Одно хорошо – дверь в ванную открывается внутрь.
Разбежаться было негде. Я встал на ящик для обуви, прикинул, куда лучше бить. Бить нужно чуть выше дверной ручки: как раз в этом месте запорная щеколда. Я прыгнул, сгруппировался, резко выбросил ноги вперед. И рухнул на пол всем прикладом, больно ударившись спиной, – но дверь все-таки вышиб.
Она не обернулась на грохот; она сидела в ванной, в левой руке держала кухонный нож.
В такой ситуации нельзя ни кричать, ни делать резких движений. И слава богу, что ей под руку попался кухонный тупой тесак – чтобы им вскрыть вены, надо очень постараться. Я осторожно разжал ее пальцы, взял нож, бросил его под ванну, сходил за халатом, помог ей встать. Пока я ее вытирал огромным махровым полотенцем, она все так же смотрела мимо меня, в одну точку.
Я отвел ее в комнату, усадил в кресло, укутал пледом.
Мне пришлось потратить несколько минут на то, чтобы в комнату вернулось хоть какое-то подобие жизни. Я ходил в кухню, носил в чашке воду, вешал чьи-то пальто на гвоздики, даже подмел.
– Я ему рассказала, – наконец подала голос Девушка с римских окраин, и это был голос очень и очень уставшего человека. – Нельзя было не рассказать.
Я смутно припоминал наше знакомство и это ее мимолетное, скользкое замечание: "Когда-нибудь я тебе расскажу...".
Я присел рядом, обнял ее – так родитель успокаивает теплой большой рукой перепуганного ночным кошмаром ребенка.
– Ничего, все будет хорошо...
Она отрицательно покачала головой. Через полчаса я знал – все, или почти все. То, давешнее, мое замечание – "Тебе надо бы пристроить свой талант к месту!" – оно ведь попало в точку; оказалось, она его как раз уже "пристраивала" – в Югославию. Хороший выгодный контракт: играть на гитаре, петь. В Дубровнике, в каком-то артистическом клубе.
Знаем, знаем мы эти контракты. Все эти артистические клубы, набитые глубокомысленной публикой, все эти трогательные романсы при свечах – на деле оборачиваются третьеразрядным борделем... Черт с ними со всеми – с рэкетирами, кидалами, торгашами и прочими бандитами, черт с ними. Но шустрых ребят, которые занимаются подобной современной работорговлей – поставляют в западные кабаки этих глупых девчонок – я бы сразу ставил к стенке.
Когда-то, на заре демократии, когда еще только начинало шевелиться кооперативное движение, мы с моим приятелем Володей-Кукольником вылакали у него в мастерской трехлитровую банку вина "Изабелла" и сбегали за второй в квасную палатку. Мы потихоньку пили и смотрели телевизор. Шла передача про какого-то шустрого малого, который, по словам журналиста, и был воплощением ленинской мечты о цивилизованном кооперативе. Я предложил Кукольнику немедленно организовать свой кооператив. Кукольник заметил, что они с женой и безо всякого кооператива могут делать замечательные театральные куклы, но я возразил: ты меня не понял... У нас будет совершенно особый, уникальный кооператив: это будет кооперативный трибунал. Мы будем предлагать наши трибунальные, и, естественно, палаческие услуги как организациям, так и частным лицам. Кукольник сказал, что идея хорошая, но в палаческом кооперативе он вряд ли долго протянет. За второй банкой мы обсуждали устав и структуру организации, а потом отчаянно спорили относительно самой методики палаческой услуги. Кукольник склонялся к современным методикам, то есть к расстрелу или электрическому стулу, я же больше тяготел к классической модели: рубить головы топором... К сожалению, дальнейшее развитие этой темы растворилось в "Изабелле", а жаль.
На сегодняшний день наш скромный палаческий кооператив представлял бы собой солидную фирму, скорее всего, консорциум: потребность в подобного рода сервисе, кажется, уже превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Что касается этих педрил, владеющих фирмами, так называемых, "эскортных услуг", то я бы сам с удовольствием посносил им бошки.
Девушка с римских окраин угодила в серьезный переплет.
Артистический клуб на деле оказался каким-то баром неподалеку от Белграда. Владел им хозяин – толстый, волосатый горилла с бакенбардами. Их было там пять девочек: трое из Иванова, одна из Ярославля, и вот она. Покидать заведение, выходить в город строго запрещалось. Хозяин заставлял их танцевать, называлось: "с голой грудью". С десяти вечера до четырех утра. Платил он пять долларов в сутки. После четырех утра их разбирали посетители. Возражать или сопротивляться было бесполезно – они же все там вооружены.
Один раз она сбежала... Но куда там убежишь? Полиция ее задержала и сдала на руки хозяину. Тот отвел ее в кладовку, изнасиловал, а потом долго бил резиновой дубинкой – она пролежала пластом дня два или три. Пока она лежала, какой-то пятнадцатилетний пацан застрелил одну из девочек – ту, что из Ярославля: она отказала пацану в каком-то неординарном половом удовольствии – и он ее застрелил. Полиция? Какая, к черту, полиция; тогда у них уже начиналась вовсю пальба по-крупному, им было не до инцидентов в барах... Когда она немного пришла в себя, хозяин устроил ей небо в алмазах. Он отменил традиционные ночные "танцы с голой грудью", он соорудил на сцене что-то вроде невысокого помоста, вывел ее, раздел и тут же употребил – к большому удовольствию публики. Он и публику пригласил участвовать в аттракционе. Все уже были прилично под банкой, и желающих набралось много, почти весь зал – они поднимались на сцену один за другим. Часа в три ночи ее за руки, за ноги отволокли в кладовку и бросили на мешки – то ли с мукой, то ли с сахаром...
Она сидела и монотонно рассказывала, глядя в одну точку. И в голосе ее было только одно чувство – недоумение. Что же вы со мной сделали? За что? Почему?
– Скоты, – сказал я. – В самом деле скоты... Потом мы долго молчали, говорить было не о чем.
– Это все Эдик, – сказала она.
Я вспомнил операционную.
– Это ведь он мне устроил... Контракт этот. Он устроил.
Я опять вспомнил операционную и подумал, что мне его не жаль; он получил свое и встал к стенке.
– Вообще-то он палаточник.
– Палаточник?
– Ну да, он по ночам дежурит у коммерческих палаток в машине..
– Охраняет?
– Да что ты... У него в машине три-четыре девушки. На выбор – от семнадцати до сорока лет. Подруливает к палатке клиент, договаривается с продавцом, обязательно показывает деньги... Продавец делает Эдику знак: порядок! Клиент идет в машину, Эдик зажигает свет. Клиент выбирает подружку. Пересаживает к себе и увозит.
Я присел на подлокотник кресла, погладил ее по голове.
– С этим – все... Эдик больше не придет.
– Ты его не знаешь.
– Я знал одного такого Эдика. Кто-то на него наехал. Да так основательно, что Эдик теперь наполовину состоит из свинца.
Она заплакала – в первый раз за все это время.
Я ушел на кухню – пусть побудет сама с собой и поплачет.
Я стоял у окна, курил, не чувствуя вкуса табака, не слыша его резкого запаха, тупо глядел в гулкий, сырой двор-колодезь; мне казалось, что я неудержимо лечу вниз, немо разевая от ужаса рот, вниз, на самое дно, где очень темно, пахнет тиной и плесенью – еще немного, и ледяная вода обожжет тебя. Ты продержишься на поверхности недолго – мышцы окоченеют, увянут, в ноги вцепится судорога, и ты камнем уйдешь вглубь земли: в колодцах со скользкими бревенчатыми стенами не за что зацепиться,
Я вспомнил – где-то тут должна быть старуха в окне. Слава богу... Значит, не все потеряно. Значит, проваливаясь в вязкий темный холод, я смогу ухватиться за этот подоконник, где дремлет сонный, нахохлившийся голубь, я удержусь, подтянусь – и старая женщина, знающая эту жизнь насквозь, протянет мне руку.
Окна в доме напротив были одинаково серы, грязны, и ни одно из них не оживлялось присутствием за стеклом живого существа.
Не было ее на месте, не было!
Или отошла, или прилегла, или тихо умерла прямо у окна – вздохнула в последний раз, опустила голые, без ресниц веки, и мягко, ватно упала на бок.
Настолько вывернутым наизнанку я чувствовал себя в последний раз, когда умерла моя бабушка – давно это было, еще под нашим старым добрым небом.
Девушка с римских окраин сидела в кресле, куталась в плед – она немного пришла в себя.
– Слушай, я сейчас отъеду... Ненадолго. Заверну домой, возьму зубную щетку, бритву и что там еще нужно... А! Домашние тапочки. И вернусь. Будем с тобой жить-поживать и добра наживать.
– Говорят, я проститутка, – просто; совсем бесцветно сказала она.
– И кому принадлежит этот философский вывод?
Она кивнула в сторону двери.
Значит, студент. Наверное, слово "проститутка" в его представлении имело значение самого свирепого ругательства; наверное, щелочно обжигало язык, и на прощание он сплюнул это едкое вещество – возможно, прямо ей в лицо... Ничего, она достаточно умный и опытный человек, а влюбленность в молодых импульсивных идиотов быстро проходит.
– В случае, чего – я тебе позвоню... Обязательно. У тебя есть в доме Библия? Есть? Тащи сюда.
Библия была детская, с картинками – ничего, сойдет и такая.
– Так, положи сюда левую руку, правую подними, вот так, вот так... Теперь говори: Перед Богом и людьми клянусь... – я задумался.
– В чем клясться-то?
– Ну в чем... Не делать больше глупостей.
Она улыбнулась – впервые за все это время.
У двери я поцеловал ее в лоб.
– Ты знаешь, что клятвопреступники все до единого горят в геенне огненной?
Она погладила меня по щеке; ладонь у нее была маленькая и жесткая.
– Я не хочу гореть... Хочу в рай.
– Что ты там забыла?
– Я никогда в жизни не слыхала, как поют архангелы.
Музыку я дома не застал. Зато застал Костыля. Он сидел на кухне, выставив вперед ногу. Костыли он прислонил к холодильнику.
– Ты как сюда попал?
– Как... Нормально. Через дверь. Ключи у него в кармане взял. – Он тяжело приподнялся с табуретки, потянулся к костылям. – Я тебя ждал.
– Где Музыка?
– Там он, у рынка. На лавочке.
– Что значит на лавочке?
– Что-что! Лежит, вот что! – Костыль проскакал мимо меня. – Пошли, чего встал.
По дороге он рассказал.
Они, как обычно, встретились на рынке; поболтали о том о сем, Музыка пошел пройтись, потолкаться на барахолке – он всегда так, для начала, прохаживался: приценивается, торгуется... Не покупает, конечно, ничего, а просто так, для порядка. А потом пошел в свои фруктовые ряды. Там у Махмудов (Махмудами, сколько я помню, Музыка называл всех восточных торгашей) был праздник, что ли... Или не праздник, а просто они сбыли товар и собирались восвояси. Словом, стали они немного выпивать, Музыку тоже угостили, налили ему, а он не жрал ничего весь день. И повело его. Потом один Махмуд – главный у них, наверно – стал Музыку кормить. Как бельчонка, с руки. Музыка поел немного, потом стал отказываться... Но Махмуд пристал: "Шалишь, Музыка! Вы все тут нищие, все русские – одна нищета! Зачем на рынок ходишь, раз нет денег? Зачем ругаешься, что дорого? Нищета, так и не ходи на рынок, а я добрый, я хочу, чтоб ты, Музыка, наелся, чтоб кушал досыта, хоть раз в жизни..."
Музыку мы увидели сразу: он лежал неподалеку от ворот рынка на лавке и блевал.
– Обожрался он хорошей пищи, – поставил диагноз Костыль. – Вон, выворачивает как, и все кусками, кусками... Не варит у него желудок, что ли? Гляди-ка, балалайка его на месте. И то слава богу. Кишки бы ему промыть. Марганцовкой, что ли... Есть у тебя марганцовка?
– Да, вроде, есть. Помоги-ка... Вот так, ага, все. Дальше я сам.
После литра воды с марганцовкой Музыка ожил. Я отвел его в комнату, усадил на диван, сел рядом, откинулся, тупо уставился в стену.
Пожалуй, днем этого не увидеть.
Но сейчас, при свете чахлой лампочки, заметно: в стенах стоят темные квадраты, они едва различимы на фоне выцветших обоев, но все-таки они есть.
Музыка прищурился, рассмотрел какой-то непорядок в стене, тяжело поднялся, послюнявил палец, потер обои.
– Вот ведь! – сказал он. – Мухи засидели. Слышь-ка, Венецию засидели.
Да уж, Андрюша, Венеция... Там, на площади под фонарем, кто-то подарил девушке-цветочнице матрешку и она засмеялась: "Грацци!". Ах, Андрюша, я, как и ты, вижу в пустых квадратах свое, я ведь здесь учился географии... Я вижу, как за истершимися обойными цветочками проступает Дворец Дожей, и его роскошная лестница выводит нас почему-то прямо в вытянутую комнату с аляповатой лепниной под потолком – помнишь, Андрюша, Тамбов? Ну, конечно, Тамбов, там скверная гостиница, и кран течет в номере... А вон, Андрюша, видишь, чуть выше – это Минск. Да нет, какой же это Ярославль, это Минск, Минск! А справа – это, кажется, Невский проспект; Невский впадает в Калугу, и весь он – с его фонарями, витринами – тонет в Оке, а по Оке плывет пароход, большой-большой, белый-белый, и мы едем на нем до города, а потом на пляже лежим и купаемся, брызгаемся, ныряем и выныриваем, наконец, совсем в других водах – чувствуешь, Андрюша, соль на губах? А как же, это ведь море, это Неаполитанский залив, там в кафе на набережной играет музыкальный автомат, нам из-за столика хорошо видно, как хитрый механизм цепляет пластинку, опрокидывает ее на вертушку, и в динамике возникает ангельский голос! "О со-о-о-ле, о соле мио...". "Эх, Андрюша, нам ли быть в печали! Не прячь гармонь, играй на все лады, сделай так, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады".
Музыка дотянулся до футляра, открыл, достал мандолину, попробовал строй, подтянул колок. Он тронул струны, а у мальчика, пришедшего к доминошному столу послушать музыку, вдруг перехватывает дыхание:
"...и тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый..." Музыка шевелил губами, вспоминая давний мотив, а мальчик, чувствуя близкие слезы, бочком, бочком отодвигается от стола: "...и сказал он мне, маэстро, вы устали, вы больны". В этой фразе такая звенит болевая нота, что мальчик, добежав до гаражей, тыкается лбом в железную стену, но Музыка ведет мелодию на той же звенящей ноте дальше; дальше, к самой высокой точке: "...говорят, что вы в притонах по ночам поете танго!" – и мальчик все плачет, растирает кулаком слезы по щекам, он никак не понимает, что вдруг с ним случилось, – какая сила так сдавливает сердце, что слезы выступают на глазах? А Музыка ни с того ни с сего взбирается октавой выше, и в самом крайнем, звенящем обертоне дрожит его струна: "...даже в нашем добром небе были все удивлены!"
Музыка долго, целую вечность, сидит, привалившись спиной к стене, и смотрит в потолок, где в углу покачивается от сквозняка гамачок паутины, а я в самом деле горько плачу там, за гаражами, от бессилия и тоски; какой-то случайный прохожий останавливается, сует мне ириску "Золотой ключик" в ладонь. Но мне нельзя... У меня такая аллергия на сладости, со временем она перерастет в тяжелую: до сих пор кашляю, кашляю, кровью харкаю – особенно когда у нас, в Агаповом тупике, тополя пухом пылят.
Да, наверное, целая вечность прошла, прежде чем я пришел в себя.
– Андрюша, помнишь, у нас во дворе был мальчик? Щуплый такой, сын певца из воинского ансамбля?
Музыка кивнул:
– Ага. Черненький. Был такой... А что?
– Да я как-то давно денег занял у него...
– И что? – спросил Музыка.
– Он требует вернуть долг.
Музыка нахмурился.
– И много?
– Да нет. Всего на пару эскимо, но он не деньгами просит...
– Как это? – не понял Музыка. – А чем же?
– Он хочет, чтобы я ему отдал наше старое доброе небо.
– И что ты ему сказал?
Я встал, расслабил колени, упер локоть в живот, выставил вперед руку – должно быть, этот жест у тебя в крови, в генах, и, значит, ты все так же стоишь в подворотне, окруженный кодлой, и чувствуешь спиной, как холодна кирпичная стена.
Я уложил Музыку. Пусть вздремнет: сон лечит успокаивает, забирает из души тяжесть.
Заняться было нечем, да и не хотелось ничего. Ни читать, ни девушку обнять, ни винца выпить; выходит, не хотелось жить – из потребности в этих упражнениях, если разобраться, и состоит моя жизнь. Сесть бы в ванну с серной кислотой, вспыхнуть, задымиться, уйти в желтоватый, зверской концентрации яд каждой живой клеткой, каждой крошкой костной ткани.
Телефон ожил. Кто бы там ни был, я решил не подходить. Но аппарат накалялся, и само тяжелое беззвучие нашего коммуналочного коридора начинало извиваться, дергаться от этой назойливой телефонной щекотки.
– Ну!
Как это славно и изысканно – с места в карьер приветствовать неведомого тебе собеседника не ритуальным "алло!", или сосредоточенным "вас слушают!" и даже не импотентно-аморфным "да!", а как раз чем-нибудь хамским, извозчичьим, сшибающим с ног, как выдох из больного, дурно пахнущего рта: "НУ!".
Этим грубым "ну!" я, оказывается, окатил Ленку. Нет, у нее никакого конкретного повода, она просто так, проведать, узнать, как дела.
– А у вас там – как?
У них, вроде, ничего, помаленьку. Катерпиллер? С ним все в порядке, только выглядит очень усталым – уходя из конторы, приказал завтра его не дергать и не искать, он намерен поехать "отмокать"; я, часом, как старый друг, не знаю, что означает "отмокать"?
Часом, знаю.
– Ты, Лена, извини, я что-то не в себе сегодня, – я нажал пальцем на рычажок, в трубке возникла пустота – совершенно плоская и слегка шершавая; если кому-то вздумается прикоснуться к ощущению предельной, вакуумной пустоты вокруг себя, ему надо сесть у телефона, опустить руку на рычаг и слушать.
Я набрал ее номер – просить прощения. Наверное, я грешил банальностями: "устал", "вымотался", и так далее – она не перебивала. В паузах этой исповедальной речи я слышал ее дыхание в трубке.
Но разговаривать на языке дыханий я пока не умею.
– Ты скажешь что-нибудь?
– Я... Я тебе носки купила.
Вот, значит, как: в прошлый раз она заметила, что у меня дырявый носок. И купила мне пару новых, хлопчатобумажных.
Как это трогательно и мило: носки дарят своим повзрослевшим холостым сыновьям состарившиеся матери... От Ленки я ожидал чего угодно, только не материнской заботы.
– У меня для тебя тоже подарок есть.
– Да ну? – произнесла она тоном человека, привыкшего получать дорогие презенты; их стоимость, качество, да и сама частота дарений начисто вымывают из этих. людей ощущение радости от подарка.
– Достал тут по случаю... – я намеренно удлинил паузу, открывая простор для ее фантазии: парфюм? красивая шмотка? путевка в Сингапур? микроволновая печь?
– Да? – в ее интонации в самом деле звучала нота равнодушия.
– Я принес для тебя яблок... Тех самых.
Она долго молчала.
– Правда? Тех самых?
Ну, слава Богу. Наконец я слышал голос нормального человека.
Я повесил трубку и тут же, чисто механически, поднял: звонки неслись друг за другом, как будто играли в догонялки: в короткую паузу успели втиснуться три зуммера – межгород, значит.
Я ожидал услышать кого угодно, только не его.
Это был Марек.
Это был Марек – вне логики, против здравого смысла, но это был именно он, презревший тот очевидный факт, что сюжет закончен и давно подсохла в листе финальная точка.
Пан журналист уже написал свою статью? Написал? Но, может быть, тогда пан внесет в нее поправки? Да, одну поправку. Существенную? Весьма и весьма.
– Пану следует говорить о Жене в прошедшем времени...
– То есть как?
А так. Он есть – но до нынешнего вторника: он в понедельник покидает свое лечебно-профилактическое заведение и возвращается домой; их дом ремонтируют, в квартире кавардак, пол застелен газетами, побелка, штукатурка, цементная пыль; и Женя идет во двор, где, конечно, друзья за доминошным столом, и, конечно, за этим столом они пьют вино; а потом он возвращается домой и лезет в ванну; ванна у Жени – это идефикс, он там мечтал о ванне: не о жратве, вине, женщине, не о прохладной тени, а вот именно об этом – вернуться и погрузить свое изъеденное потом тело в горячую ванну; словом, он, не глядя на ремонтный кавардак, лезет в ванну; трудно сказать, что там произошло, но он по пьянке заваливается на бок, хватается за стену, а в стене голый провод – вот до этого момента Женя есть; а весь последующий Женя – был.
– Вчера его похоронили...
Мы молчали. Я собрался вешать трубку, но Марек успел обогнать мою руку.
– Возможно, пану будет интересно...
В среду звонил этот москвич.
Я настолько выключился из сюжета, что не сразу сообразил, какой именно москвич.
Ну тот, которым пан интересовался... Он звонил просто так, в порядке любезности, узнать, что и как; и пан Марек, конечно, сообщил ему о передвижении Жени из времени настоящего во время прошедшее; пан журналист полагает, этого не стоило делать?
Стоило – не стоило... Теперь это не важно.
Катерпиллер завтра собирался ехать на "конспиративную" дачу.
Дело даже не в том, что он наверняка за Катерпиллером – после разговора с паном Мареком – присматривает и, значит, отправится за моим бывшим работодателем следом.
Беда в том, что он слишком тщательный, внимательный, скрупулезный копиист, чтобы допустить неточность в переносе смысла с оригинала на копию.
И только теперь, сложив собранные мной "двенадцать палочек", я почувствовал композицию в целом, и значит ничего сверхъестественного нет в том, что Игорю знакомо лицо персонажа: всякий интеллигентный человек однажды участвовал в этом застолье – хоть раз в жизни, но обязательно бывал в нашем бараке и видел этот скудный стол, освещенный керосиновой лампой.
Он не станет топить Катерпиллера, бить его топором по голове, пырять ножом, четвертовать, обезглавливать, сажать на осиновый кол, сжигать на костре – и какие там еще у человечества есть в запасе способы лишать человека жизни; он в самом деле – не злодей, не душегуб, он всего лишь навсего копиист.
И, значит, он найдет способ превратить кипятильник в штепсель, и сунет его в воду. В таком случае, это купание станет для Катерпиллера одновременно омовением перед положением в гроб.
Все будет так, а не иначе – все остальное для моего чахоточного персонажа не имеет смысла.
– Его как-то надо остановить, – произнес я вслух совершенно бессознательно и порадовался за себя; ей-богу, когда-то под нашим старым добрым небом люди, бывало, дрались; мы дрались жестоко, кроваво; дрались палками, бутылками, солдатскими ремнями с заточенной, как бритва, пряжкой, велосипедными цепями; в этих побоищах – квартал на квартал, улица на улицу,– трещали головы и челюсти, хрустели кости – но это были честные драки, и ни один из нас не имел намерения убить другого – это намерение считалось тягчайшим преступлением.
Катерпиллер – порядочная скотина, он в этом качестве вполне вписывается в интерьер нашего гниющего, делающего под себя города, уже давно напоминающего скотный двор. В хлеву и устав свой: отпихивать всякого, кто послабее, от кормушки, брыкаться, лягаться, поднимать на рога того, кто тебе не по ноздре, дико насиловать глупых мутноглазых телок, жрать и еще самозабвенно предаваться тому занятию, наименование которого очень хорошо рифмуется со словом "жрать"; но если принять за норму, что всякой порядочной скотине следует возвращать в полном объеме то скотство, какое она рассеивает вокруг себя, то это будет уже бойня.
Я набрал Ленкин телефон – и тут же положил трубку.
Она наверняка поднимет шум, на дачу подъедут спортивные ребята, которых я видел в приемной, и с копиистом сделают как раз то, о чем говорил Катерпиллер: сотрут в порошок.
Выходит, остановить его придется мне.
На бумаге конструировать жизнь, в принципе, не трудно: из твоей медленно прогуливающейся по чистому листу ручки плавно вытекают коллизии и обстоятельства, жесты и интонации, плачи и молчания, взгляды и выкрики, сны и бессоницы – но теперь наш подкашливающий персонаж отслоился от плоского листа, выскользнул из-под руки, и завтра придется с ним свидеться.
Тот, кто сидел в перьевой ручке, вряд ли представляет опасность: он неимпульсивен, сдержан в эмоциях, с ним можно договориться – взять за руку и увести от греха подальше.
Тот, кто завтра явится на дачу, вполне может оказаться диким, необузданным, неуправляемым, в самом деле психопатом или придурком, каких теперь много шляется по улицам: взять да и проткнуть человека ножом для них – что пончик съесть.
Я пошел на кухню сварить кофе. Я ждал извержения черного вулканчика в узком жерле джезвея и смотрел в окно.
Тетя Тоня медленно пересекала двор по диагонали. Чуча, опустив хвост, скорбно уронив морду к самой земле, плелась следом – их вялое движение казалось вылепленным из пластилина.
И тут я вспомнил.
Я вспомнил холст, виденный у пана Марека, и догадался. Я догнал, ухватил, наконец, за шкирку то невнятное, скользкое, никак не дававшееся в руки впечатление, которое поразило меня тогда: тронуло легко и мягко – как мамин, после колыбельной, поцелуй, – и отлетело, распалось.
Это ведь, в самом деле, был не "Пейзаж в Овере после дождя".
Вернее сказать, не вполне тот пейзаж.
Внешне копия покорно следовала в композиционном русле оригинала, и точна была цветовая гамма, и все, все, все – вплоть до последней детали – было на месте. И все-таки это не копия.
Грамотный, профессиональный копиист по содержанию своему, по духу и чисто ремесленническому навыку все-таки ближе к переписчику нот, нежели к аранжировщику.
Копиист лучше истратит жизнь на изучение древнегреческого – если придет ему вдруг охота декламировать Гомера – но он не рискнет пересказать его по-русски; он понимает тщетность этих трудов: нет и не будет второго Гнедича, и второго Жуковского – тоже.
То, что я видел у Марека, было переводом – с французского на русский.
Я пил черный дымящийся кипяток, глядел в окно и слушал ревматические стоны соседской лежанки: не спится, что ли, Музыке?
Я тихонько отворил его дверь и буквально прирос к полу.
Эта комната представляла собой движение грубых, угловатых – типично мужицких – теней; они тяжко и будто бы с натужным стоном, скрежетом зубовным ворочались в дальнем углу, наваливаясь на простой, сколоченный из струганых досок стол.
"Хотя, потолок..." – прикинул я про себя. Потолок слишком высок, да и окошко, прикрытое газетой, несколько выпадает из общей стилистики. Не беда. Окно можно завесить одеялом. И слегка промыть центр композиции жиденьким скаредным светом – свечка? Можно и свечкой, но лучше керосиновой лампой. Хорошо – но где ее взять?
Так тетя Тоня же, тетя Тоня!.. С год назад, когда мы с ней стояли в долгой очереди на пункте приема стеклотары, она жаловалась: страшно ей, страшно... Чего? А всего она боится. Войны, голода, холода, особенно же – тьмы. Когда война, в домах нет света, и она на всякий случай хранит на антресолях керосиновую лампу – колпак, правда, с трещиной, ну да это не беда; и немного горючего хранит в красивой бутылке из-под иностранного вина; бутылку она во дворе нашла, в приемку такую посуду – пышную, вычурную – не берут, вот она и нашла ей полезное применение.
Да, свет керосинки необходим. Он опустит, притянет к себе потолок и заметно сожмет объем комнаты – и грубые тени, сдавленные тесными стенами, издадут мраморный Лаокоонов стон.
За рабочим столом я разбирал свои "записки сумасшедшего" – их собралась целая груда, наверное, и в обычную канцелярскую папку не уместится.
Это была простая работа прачки, отжимающей белье.
Отжать бумагу с множеством слов так, чтобы на ней остался список гостей.
Тех, у кого с моим чахоточным персонажем одна группа крови. Тех, кто вычислен и опознан мной в долгих блужданиях по игровому полю, в котором я – чисто бессознательно, подчиняясь инстинкту игрока, – собирал заветные "палочки", не отдавая себе отчет в том, что, в принципе, восстанавливаю оригинал.
А что – краски в нашем городе подходящие, да и натурщиков хватает.
Там, в оригинале, изображены больные, уставшие люди.
Они работают на угольных копях, и потому у них ветхие, изношенные, забитые земляной и угольной пылью легкие...
Кашель – это их профессиональная болезнь.
Попрошайку из электрички мне, конечно, уже не разыскать – где они, в каких поездах катят с протянутой рукой? С престарелым учителем биологии, что торгует голубиными тушками на Сухаревке, тоже могут возникнуть проблемы: не каждый же день он торчит там озябший, опасливо озирающийся. Шофера, который своим автобусом с подмосковным номером "поцеловал" лимузин Катерпиллера, – ищи свищи. Слепой с Тишинки? Что-то давно его не видно на месте, у магазина "Рыболов-спортсмен". Женщины, что молча вытирали о передники сырые руки и сонно разглядывали лежащего в сухой траве Хэху, наверняка давным-давно разбрелись из барака...
Впрочем, не беда: нас в оригинале всего-то – пятеро.
Жаль Музыку, но придется его разбудить.
– Ты заходил, – сказал Музыка. – Надо чего? Или так?
Значит, он не спал.
– Надо, Андрюша, надо.
Я присел на корточки у его лежанки.
– Ты не голоден?
Музыка закашлялся.
– Теперь-то оно, конечно, не полезет, хотя... Марганцовка твоя... Вычистила меня знатно, все, до последней крошки. Завтра засосет в животе. А есть у нас – чем червячка заморить?
Он сел, поискал босыми ступнями тапочки.
– Есть, Андрюша, – я присел рядом. – Знаешь что... Давай мы завтра картошки нажарим, а? На сале картошечки? Чтоб с корочкой, и хрустела чтоб? Гостей позовем...
Он долго, внимательно, прищурившись, смотрел мне в лицо – я и не замечал раньше, какой у него мягкий и мудрый прищур.
– Так надо? – спросил он крайне серьезно.
– Надо, Андрюша, – я поднялся, подошел к окну, отодвинул газетку-занавеску; тетя Тоня пересекала двор в обратном направлении. – Понимаешь... Завтра один человек убьет другого. Или наоборот – другой уничтожит того, кто его намерен лишить жизни. Или – или, третьего не дано. Надо как-то помешать.
Андрюша молча кивнул: дело хорошее...
– Я завтра отлучусь. Вернусь, возможно, к обеду.
– А мне куда? – спросил Музыка.
– Ты к этому времени картошки нажарь, позови Костыля. Еще тетю Тоню позови, вон она, с собакой гуляет. Пусть с дочкой приходит и с внучкой. И захватит пусть свою керосиновую лампу... Ну вот, а потом мы за стол твой сядем, будем обедать.
– Хорошо, – ответил Музыка. – Я ведь, знаешь, сам тебе давно хотел сказать: хорошо бы нам как-нибудь картошки нажарить. Ну так, по-простому, по рабоче-крестьянски.
Весной старые дачные поселки – скользкие, обсосанные мхами – похожи на поднявшиеся со дна морского руины; талая вода стоит по канавам и студит в себе отражения зализанных прошлогодней травой заборов, заплесневевших веранд; и в осанке домов угадывается признак нездоровья – наверное, на подъем к поверхностям, к весеннему свету устремлялись они слишком торопливо, и в их крови растворился яд кессонной болезни.
Я вышел на старт рано – часов в семь. Перед выездом пересчитал деньги, полученные в фирме на расходы. Оказалось, что потратил не так уж и много. Захватил с собой полученный в "зойкиной квартире" "филипс": жаль с ним расставаться.
У метро работала одна-единственная коммерческая лавка. Торговаться времени не оставалось – я отдал "филлипс" за полцены. Этого хватило, чтобы восстановить полученную в конторе сумму, и даже оставалось что-то на карманные расходы.
Заехал в контору. Застать кого-то в такую рань я не надеялся, да и ни к чему было. В углу забранного решеткой окошка мерно пульсировал красный фонарик сигнализации – издалека казалось, что особнячок дышит розовым эфиром: вдох – выдох, вдох – выдох.
Деньгами я в несколько приемов досыта накормил узкий почтовый ротик в двери.
Через час они придут сюда и увидят прихожую – запорошенную купюрами: весенний деньгопад.
Покончив с формальностями, я рванул на Ярославское шоссе; я ехал опасно, "на грани фола" – приходилось торопиться.
Слава богу, я успел. Катерпиллера еще не было.
Я проехал в конец поселка, поставил машину за долговязой водонапорной башней, чтобы со стороны поселка ее не видели.
Вернулся, перелез через забор, прислушался.
Никого. Осторожно двинулся в сторону темной глыбы дачного дома.
В тылу должно быть узкое окно чуланчика: помнится, когда-то давно, в другой жизни, напившись чаю с вишневым вареньем (родитель Катерпиллера иногда приглашал детей из сынишкиного класса), мы прятались в этом чуланчике, среди старых "Огоньков", хромых стульев и прочего хлама; мы наслаждались теснотой и уютом, теплом мягкой пыли и старыми запахами, полумраком, в котором отдыхали вышедшие на пенсию предметы быта.
Ножом я без труда отковырнул заскорузлые полоски замазки, отогнул гвозди, вынул стекло.
В чулане теперь ютилось новое поколение пенсионеров – Катерпиллер менял дома обстановку и сослал сюда на поселение еще вполне приличную мебель.
Я прошел по темному дому.
Где-то коротко вспыхивал голос сверчка. Говорят, сверчок подает голос, если чует поблизости покойника, чует – и сигналит.
Пока здесь покойника нет – но обязательно будет.
Из столовой ведет узкий коридор на веранду, слева дверь в ванную комнату. Большая старорежимная эмалированная ванна, шланг на носике крана; над полкой с обмылками, скомканными тюбиками зубной пасты, помутневшим стаканчиком, из которого растут заскорузлые зубные щетки и замызганный бритвенный помазок, висит на гвозде кипятильник: мощный агрегат, рассчитанный на ведерные дозы. Согреть им ванну можно в два счета.
Долго оставаться здесь не следовало, я ретировался – за забор.
И вовремя.
В конце дачной аллеи, за поворотом на боковую улочку, возник звук движка. Метрах в пятнадцати от калитки, ближе к водонапорной башне, у самого забора стояла старая, вечная сосна. Не бог весть какое укрытие, но выбирать не приходилось.
Я прислонился к стволу, вытянулся по стойке "смирно" и на слух реконструировал развитие событий: вот машина встала у ворот. Водитель вышел, встряхнул связку ключей. С ржавым хрустом провернулся механизм замка, сухо взвизгнули воротные петли. Большой, густо заросший, захламленный беспризорным кустарником участок втянул в себя урчание "жигуленка". Хлопнула дверь. И снова тихо; можно размягчить стойку "смирно" командой "вольно" и даже, как разрешено уставом гарнизонной службы, оправиться и покурить.
Покурить не пришлось. Опять в конце аллеи дал о себе знать голос автомобильного движка – на этот раз он был осторожней, глуше: машина, похоже, ползла по-пластунски.
Я выглянул из укрытия.
Грузовой "москвич" с металлическим кузовом.
Он высунулся из-за угла, постоял, сдал назад.
Водитель точно не знает, какая именно дача ему нужна, поэтому будет проверять их в порядке очереди: слегка подпрыгнуть, подтянуться на заборе труда не составляет. Я сразу засек его появление на аллее, он в самом деле подкашливал: негромко, сдержанно – так подкашливают, желая привлечь к себе чье-то отсутствующее внимание.
Он остановился. Значит, нашел. Увидел машину в глубине участка. Чиркнула спичка. Закуривает? Это понятно, когда идешь на такое дело, стоит покурить и привести нервы в порядок.
И тут он закашлялся. Он жутко (от неосторожной, чересчур глубокой затяжки, что ли?) дохал: сухо, жестко, спазматически – так кашляют рудокопы, у которых в груди вместо розовых и нежных легких пульсируют две насквозь пропитанные смертельной рудной пылью субстанции, предназначенные для чего угодно, только не для дыхания. Я выглянул из засады.
Он стоял, переломившись пополам; кашель выворачивал его наизнанку.
Сейчас он не опасней кролика. Я спокойно подошел и ждал, пока закончится приступ. Чахоточный флаттер медленно отпускал его, он распрямился; выпрямился, тыльной стороной ладони не то чтобы утер слезы в глазах, скорее – отжал слезную влагу. И нелепо, совсем по-детски, заморгал: часто-часто, как будто хотел сморгнуть меня.
– Привет, – сказал я. – Я тебя застукал, парень.
Да, застукал – ведь мы, кажется, играем? Играем в "двенадцать палочек"; я исползал наше игровое поле на коленках вдоль и поперек, собрал осколки вдребезги разлетевшегося смысла – вот они, заветные "палочки", у меня в руке, и, значит, я могу, наконец, встать с земли, распрямиться, отряхнуть колени, поднять лицо и увидеть того, кто все это время прятался в поле наших игр.
Он мучительно переживал неудачу; сожалел, что кто-то посторонний вдруг возник за его мольбертом, вмешался в работу, сбил руку, расстроил остроту зрения, и, значит, этот холст, почти готовый, придется отложить, и возможно, навсегда.
Ему трудно дались эти секунды.
А у Игоря точный глаз: жесткое лицо; это лицо долго мяли, мяли, лепили, но вылепили не до конца – мягкий податливый материал зачерствел в грубых линиях диспропорций.
– Отойдем, что ли? – я кивнул в сторону водонапорной башни. – Потолкуем. Иди вперед. Я сзади.
Он сломался – сразу и вдруг; я шел в метре за ним, передо мной покачивалась узкая спина – наверное, именно такое выражение имеют спины тех, кого ведут на виселицу.
Мы сели в машину.
– Ну, так что... – я навалился на рулевое колесо и смотрел, как струйка воды протачивает в грязном стекле русло. – Ты задумал жестокую копию. Теперь – расскажи.
Он заговорил не сразу. Но, начав рассказывать, постарался упомянуть про все... Про полтора месяца в преисподней, в духоте, зловонье, без воды и хлеба, в раскаленных железных клетках, где можно было превратиться в "человека горячего копчения" – он как бы пробовал изобразить оригинал (копия с которого мне была известна). Маша? Маша... С какого-то времени она стала пропадать; поначалу не замечали – она приходила, приносила еду; потом за ней проследили: она ходила в будку, где размещалась охрана порта, она ложилась под этих вонючих чернокожих охранников, два раза в день – утром и вечером; они рассчитывались продуктами.
– Ты сосчитал?
Да, он сосчитал: шестьдесят чернокожих пришлось на Машу, шестьдесят.
– Женя... Что с ним?
Женя... Он был хороший парень, он страшно трудно переносил жару, лежал пластом, за это время он практически растаял. Все растаяли, но он особенно – закоптился. По возвращении его откачали, но пришлось оформить инвалидность: он не то чтобы не годился для работы в море – вообще ни на что не годился.
– Толя?
Он потерял сознание... Полез в трюм и выключился, упал, сломал ногу; хорошо, его вовремя хватились. Все-таки крысы успели его сильно покусать.
Я припомнил маленькую деталь композиции: тараканы.
– Ну, этого добра там!.. Не то, что наши, во! – он отчеркнул пальцем половину ладони – от такие.
– Где ты их наловил? С собой вывез? Контрабандой?
– Зачем? – усмехнулся он. – На Птичьем взял. Там все продается. А тараканы эти, говорят, кубинские. В майонезных банках.
Копиист – он и есть копиист: чувствует значение детали.
Я спросил, чем он персонажей своей копии травил? Чем-то ведь он их отключал?
Он прищурился: ну, это не проблема... Он в армии служил в роте химзащиты; недавно встретил друга, вместе провели всего два года, друг теперь офицер и все по той же, химической части, снабдил в знак старой дружбы; нет, не "черемуха", что-то полегче.
А транспорт? Не на закорках же он их всех таскал?
Зачем на закорках? На машине. Он сейчас работает шофером на складе в райцентре. У него грузовой "москвич". Грузил в кузов, запирал дверцу, вез до места.
– С Игорем у тебя промашка вышла?..
– У меня было такое предчувствие... Но он ведь тоже стоял за этим рейсом. Их было четверо. И он среди них. Эта контора здорово нагрела на нас руки. С этого контракта, собственно, и началась их лавочка, по-серьезному началась. Не знаю, как и сколько они сорвали с того фрахта, но сорвали очень прилично... Весь последний год я ходил вокруг них, присматривался, изучал. Я им не желал зла. Это была не месть.
Ничего себе – "не желал зла": двое свихнулись, третий, слава богу, отделался вывихом.
– Это называется–не желал зла?
– Я просто хотел, чтобы они примерили на себя нашу шкуру.
– Ты звонил Мареку?
Он кивнул:
– Да. Женя... Он в ванной был. Вылезал, схватился за голый провод.
Женя схватился за провод, а с минуты на минуту здесь появится Катерпиллер, который приедет "отмокать".
Грамотный копиист найдет, как распорядиться мощным кипятильником.
– В ванной есть кипятильник. Там, над раковиной, на гвозде.
– Пусть так, – заметил он, – но какой теперь в этом смысл?
Если я здесь, то значит неспроста. Значит, этот сюжет ему не суждено дописать – ведь я тут затем, чтобы помешать.
Я откинулся на спинку сиденья.
– Не совсем так!
Он внимательно посмотрел на меня:
– Что значит "не совсем"?
Я завелся, включил печку – что-то прохладно. Да и вообще, пора нам стартовать из дачного поселка.
– Смотри сюда и слушай меня внимательно. Сейчас мы поедем в одно место. Кстати, и перекусим – глаза вон у тебя голодные... Машину твою пока бросим тут, приткнем к воротам какой-нибудь дачки, ничего с ней не случится. А после обеда я подброшу тебя сюда и можешь ехать на своем "москвиче" на все четыре стороны. Договорились? Впрочем, выбора у тебя нет...
Он пожал плечами: нет так нет. Всю дорогу мы молчали.
Я осторожно приоткрыл дверь в комнату соседа. Или это мистика, или гениальная душа Андрюши проснулась от долгого сна – не знаю, не знаю – но все было именно так: крупные неловкие тени громоздились в углу, наваливаясь друг на друга, стремясь расправить плечи и развалить старые, закопченные стены; и потолок – наверное, благодаря тусклому свету керосинки – давил, стискивал притененный воздух, густо набитый запахами жареной картошки. Музыка сидел в левом углу; рука его висела над сковородой по соседству с женской рукой, принадлежащей тети Тониной дочке; Костыль грел в ладони чашку; сама тетя Тоня, казавшаяся безглазой, по наитию, будто бы наощупь, лила в расставленные по краю стола чашки черную жидкость; и спиной к нам, зрителям, в четверть оборота, стояла девочка, и левая ее щека, видимая нам, была немыслимо кругла.
Копиист за моей спиной тихо произнес:
– Господи...
Я обернулся; я видел, как медленно опускаются его веки. С минуту он стоял, прикрыв глаза, – наверное, выискивал что-то в памяти.
– Господи, так не бывает, – сказал он, отшатнулся, привалился спиной к стене коридора.
– Бывает, – возразил я и прикрыл дверь.
Бывает, бывает... Сложим наши палочки – одну к одной.
Они возвращаются в свой барак после тяжелого трудового дня на угольных копях, или в полях, или на землеройных работах и чинно рассаживаются у стола; они были всегда, но теперь их особенно много – посланников другого мира, его полпредов и его консулов; их не приглашают сюда, им не вручают верительных грамот, но они все равно приходят и приносят с собой душный запах затхлого барака, где стены поросли копотью, а одно-единственное окошко почти не пропускает света. Эти люди везде и всюду несут в себе примету придавленности к земле; они рождаются на свет прямыми, сильными и здоровыми, но низкие потолки их бараков, сам тяжелый смрадный воздух их лачуг давит на плечи, давит и сгибает их спины, и уродует лица. Их выражения дошли до наших дней из первобытного времени; мир двигался, шевелился, расцветал или обрушивался во прах, воскресал вновь, топил себя в крови бесчисленных войн или залечивал раны, или нагуливал жирок в годы благоденствия; шлифовал нравы, менял моду, облагораживал обычаи, укреплял себя знанием; течение времени отмывало лица людей, но эти лица оставались неизменными. Эти люди рождаются в бараке при тусклом свете керосинки; они выпускают на волю свой младенческий крик – и уже на первом вдохе давятся гнилым воздухом лачуги; первый звук, достигший их ушей, есть шуршание крысы в темном углу. Они быстро привыкают: к обшарпанным стенам, изъеденным плесенью, к грязи, к этим рвотного оттенка краскам, тусклому свету, теням, встающим у стола в час поздней трапезы. Они производят впечатление живых организмов, из которых выпустили воздух, слили на землю их горячую когда-то кровь; и все жизненные силы ушли из них, испарились вместе с тяжелым каторжным потом – вот и остается от человека один пергаментный фантик, в который обернуты одеревеневшие мумии. Таковы мужчины. Таковы и эти женщины бараков; они давно разучились удивленно распахивать глаза на этот мир; они начинают увядать в тот момент, когда женщине самой природой положено распускаться и наливаться соком; их талии теряют значение талий, их груди отвисают, а в лицах расплывается овечье безразличие ко всему тому, что составляет жизнь женщины; и потому по ночам они лениво плывут в потоках грубой любви, и сонно, свернув голову на бок, отдаются угрюмой ярости мужей, жаждущих скорого, бессловесного соития. День за днем они медленно линяют внешне и ветшают душой; даже чья-то смерть, встающая вдруг в полный рост перед ними, не способна разбудить в их груди крик горя или стон отчаянья – они привыкли сопровождать жизнь молчанием. У них есть глаза. Но если и кроется на дне этих глаз то, что принято называть глазным дном, то наверняка это скользкое илистое дно; в холодном иле вязнут все движения текущей мимо жизни, и тухнут все ее краски – все, за исключением одной: серой. Рождаясь в серости, в ней вырастая, в ней любя, продолжая в ней свой род, они, барачные люди, слишком рано устают смотреть и видеть. Когда после каторжных трудов в угольных копях приходят они в свои тесные дома, рассаживаются у стола в ожидании скудной трапезы, состоящей из жареного на сале картофеля, то не покой, не радость в предчувствии ожидания отдыха, не сомнение в правильности устройства этой жизни и не желание оспорить прописные истины стоят в этих глазах, нет: одно покорство судьбе и каменная усталость – потому все их чувства слепы. И слепа бывает их ярость, и ненависть к инородцу, и восторги их, и обожание кумира – все слепо, слепо, слепо. Потому их голова не ведает, что творят их руки; эти руки – даже у женщин и у детей – корявы, тяжелы и грубы, они походят на окаменевшие корни погибшего дерева; никогда они не держали легкое гусиное перо над листом бумаги или хрупкий ветреный веер; их не грела никогда ласка пушистой муфты и не обтягивала лайка перчатки; ничьи губы не оставляли на них тепло поцелуя; их ладони жестки, шершавы и заляпаны гранитными кляксами мозолей – и гранит мозолей до блеска отполирован черенком лопаты, рукоятью серпа или ручкой шахтерской тачки; эти руки выполнены, в самом деле, в одном и том же материале – в таком сером, грубом, сухом материале выполнены корчи и конвульсии заброшенных, обглоданных ветрами деревенских плетней, – таковы они, ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ.
– Ты сядь, отдохни, – я подтолкнул копииста к телефонному столику, он тяжело опустился на стул.
– Ты делал копии Ван Гога? Почему? С какой стати? Только Ван Гога?
Да, только его... Из училища, с третьего курса, загремел в армию. Художники там – публика очень уважаемая, замполит быстро пристроил его к делу: транспаранты малевать, расписывать ленинские комнаты. Он настолько одурел от вычерчивания классических для советской социалистической иконописи профилей и анфасов, что всерьез засомневался: а сможет ли по выходе из этого паноктикума, густо украшенного кумачом, взяться за кисть. Служил он в Германии. Там не было увольнений, но для него делали исключение – замполит изредка брал с собой в город. Как-то он увидел – в витрине магазинчика, торгующего художественными поделками: масса копий, хорошо, добротно выполненных, в основном постимпрессионисты. У них там, у немцев, это было в моде. Скорее всего, поставлено на поток: кто-то Гогена размножает, кто-то Мане, кто-то Ван Гога. Потом, уже на гражданке, он подумал: почему бы и нет? Ну и занялся. Продукция пошла неплохо, были даже заказы. Один ненормальный заказал "Прогулку заключенных".
– Ты хочешь спросить, писал ли я это? – он кивком указал на дверь Музыки.
– Да.
– Нет, не писал.
– Почему?
– Не знаю. Вообще "ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ"... – он прикрыл глаза; наверное, восстанавливал в памяти линии и тона оригинала. – Нет, скопировать это можно. Но не в том суть. В этом холсте есть что-то такое... Его нельзя держать дома. Нельзя повесить на стену. Это опасно. И жить с ними, с ЕДОКАМИ, по соседству – тоже нельзя.
– Почему?
– Потому что если они рядом, если каждый день где-то поблизости, то можно... заболеть. Можно просто сойти с ума.
– Сойти с ума?
– Да, сойти с ума.
Я закурил, протянул ему пачку, он отрицательно покачал головой, постучал ладонью в грудь: легкие...
– Я понимаю, тебе трудно бросать свою копию, когда осталось сделать последний мазок... Но придется – если, конечно, не хочешь сделаться одним из НИХ. И во-вторых, бросай свою вшивую заготконтору, или где ты там сейчас состоишь водителем. Займись делом – ты же умеешь. Я знаю наверняка– видел, у Марека. Займись своей работой. Только в ней есть смысл.
Он долго сидел, ссутулившись, сдавив ладонями виски.
– Ничего из этого не выйдет, – сказал он наконец. – Они же пылеводонепроницаемы, они не читают книги и не ходят в музеи, чтобы стоять перед картинами.
– Ну и пусть...
Он внимательно, профессионально пристрастно изучал мое лицо – наверное, хотел в каком-то мимическом движении расшифровать смысл реплики, повисшей в долгой паузе.
Да пускай, пускай! Пусть не читают и пусть не ходят, им от нас все равно никуда не деться; один очень мудрый человек как-то заметил: хорошая книга спасает... Она спасает даже того, кто ее никогда не читал – и не прочтет до гробовой доски. Книжный лист, холст, мелодия, движения резца по камню – все едино, все способно спасать, было бы желание спасаться. А если нет – так вольному воля, пусть пеняют на себя!
Пусть пеняют на себя – НАСТАНЕТ ВРЕМЯ, МЫ ПРОЙДЕМ СКВОЗЬ СТЕНЫ, ВСТАНЕМ У НИХ ЗА СПИНОЙ, ОНИ ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В НАШЕЙ ШКУРЕ - И ТОГДА ОНИ ПРОСТО СОЙДУТ С УМА.
– Думаешь – так? – спросил он.
– Только так!.. Как тебя зовут?
– Митя... – он смутился.
И я почему-то смутился; наверное, потому, что мягкое плюшевое имя плохо вязалось с его заскорузлым лицом – эта мягкая святочная ткань давно выцвела, ушла через поры из его тела, отделилась, отстранилась и упала дымчатой вуалькой на лицо – точно так же, как у всех Нас; Мы прячем за муаровым дымом имен, отчеств, фамилий и кличек Наши лица, но скоро эту ткань развеет ветер, и Они увидят Нас и узнают, и поразятся, насколько же Нас, ЕДОКОВ КАРТОФЕЛЯ, много.
Митя улыбнулся – беспомощно, по-детски: "Я в самом деле проголодался... А что на обед?"
Я укоризненно покачал головой: сам знаешь – и сегодня, и вчера, и завтра, и до гробовой доски.
Он прикрыл глаза:
– Конечно, знаю, конечно.
Он определенно близорук. Или просто устал сидеть на боевом посту. Или не самое благоприятное впечатление производит на него то, что по ходу разговора я посасываю за щекой тугой комочек "истинной свежести" – так или иначе, он слушает меня насупившись, ковыряет спичкой под ногтем, изредка поднимает глаза, точно проверяя, на месте ли я или уже удалилась, позабыв в казенном доме свой голос; он опускает лицо и закатывает глаза – это именно то движение, каким достопримечательны близорукие люди.
Наверное, носит очки – но дома, а не при исполнении; "при исполнении" он рассеянно следит за моими сбивчивыми объяснениями и время от времени отворачивается к окну, ритмично расчерченному прутьями решетки.
Если меня спросят, отчего так скверно и скованно чувствует себя человек, оказавшийся в милицейских апартаментах – точнее это состояние отражает, на мой вкус, термин "приплюснутость" – так я-таки вам скажу, чтобы вы не искали причину там, где ее нет. Ее нет в этих холодных, бесстыдно раздетых стенах, крашенных унылой масляной краской; и даже в решетках, графящих живой уличный свет на равные квадраты; а уж в ровном шуршании радиоэфира, на штилевую поверхность которого время от времени выныривают шипящие голоса, ее нет и подавно, ибо причина прорастает не столько в антураже, сколько в запахе.
Если безнадежность чем-то и пахнет, то пахнет именно этой тусклой и совершенно безликой комнаткой, где мы объясняемся с милиционером вот уже примерно с полчаса, и он ничего от меня не может добиться, или почти ничего.
Ну хорошо, он ваш учитель... Дальше? Когда он ушел из дома? Во что был одет? Где был замечен в последний раз? Возраст?
Я втягиваю голову в плечи – сказать мне почти нечего, я даже возраст его не знаю.
Особые приметы? Хромой? Сильно хромой? Ногу подволакивает, говорите? Слава богу, хоть какая-то есть зацепка...
– И что теперь?
– Ну что... – он пожимает плечами и разламывает спичку, как бы подводя итог нашему общению. – Наверное, будет заведено розыскное дело. Знаете, сколько их по городу заводится? Тысячи полторы-две в течение года.
– Неужели так много? И все – без вести пропавшие?
Характеристику "без вести пропавший", терпеливо разъясняет он, еще нужно заслужить – долгим и честным отсутствием; стаж этой выслуги – пятнадцать лет с момента заведения дела.
Как на войне... Пропавшие. Исчезнувшие. Уж лучше похоронка, чем так – уйти в никуда.
– А мы и есть на войне, – безразличным тоном откликается он. – Когда вы, хоть примерно, обнаружили эту пропажу?
О, это был знаменательный день в жизни туземцев Огненной Земли!
– Тэк-тэк, – он потирает мочку уха – наверное, прикидывает про себя, не стоит ли вызвать санитаров – и пристально меня оглядывает. – Что еще?
С утра пораньше в мою машину пытался залезть один человек. Сначала я приняла его за насильника и намеревалась стукнуть обломком железной трубы по голове, однако этот очаровательный бандит оказался приличным, интеллигентным человеком; мы чудно провели с ним время на кладбище.
– Очень хорошо! – понимающе кивает милиционер. – Чрезвычайно существенная информация. Это все?
Да что вы – это было только хорошее начало хорошего летнего дня; потом три белокурых бестии на пустынной дороге предложили мне пойти с ними в овсы и "расслабиться": если насилие неизбежно, говорят, надо расслабиться и получать удовольствие.
– И как?
Ну, проверить на практике эту народную мудрость мне не пришлось – так уж неудачно обстоятельства сложились.
О том, что в результате этого инцидента одной из белокурых бестий я вдребезги разнесла стальным прутом ключицу, мне хватило ума умолчать. Равно как и не распространяться по поводу тех предметов, которые мой попутчик таскает под плащом.
– Что еще?
Надо припомнить... Ах да, потом на Садовом кольце мы наблюдали штурм Зимнего.
Мой собеседник сдавленно застонал.
Нет-нет, это фигурально, так сказать, выражаясь; на самом деле народ штурмовал трейлер, битком набитый баночным пивом и испанским шампанским.
Он с треском захлопнул блокнот, в котором, наверное, собирался делать пометки, но так ни одной и не сделал; болезненно сожмурился, потом мелко-мелко заморгал, выдвинул ящик стола, достал маленький белый контейнер, резко встряхнул его, звонко, точно опустошенную стопку, вколотил его в стол и не обратил внимания на то, как я, чувствуя шевеление рвотного комка в горле, беспомощно озираюсь в поисках стакана с водой – по фильмам я помню, что в заведениях такого рода обязательно должен быть графин и стакан – однако ничего уже с собой поделать не могу...
...с минуту он пристально меня рассматривает, то ли дожидаясь разъяснений, то ли теряясь в догадках, откуда мне известно про контактные линзы.
– Извините, – тихо говорю я, избегая встречаться с его взглядом. – Это у меня бывает... Синдром Корсакова.
– Алкоголизм? – сухо осведомляется он.
Что-то в этом духе... Похоже на похмелье; опытный человек знает: когда мутит с утра пораньше, надо пойти куда-нибудь в укромное место и сунуть два пальца в рот – потом становится полегче.
Он убрал контейнер с физиологическим раствором (да-да, Сергей Сергеевич Корсаков мне верно подсказал: в таких пластиковых снарядиках хранят контактные линзы) в стол и углубился в бумаги, давая понять, что аудиенция окончена.
– Постойте! – нагнал меня его голос уже на пороге. – Вы полагаете, что весь этот цирк, который вы тут устроили, имеет отношение к вашему делу?
Я ничего не полагаю; просто инстинкт водящего в "прятках" подсказывает мне, что, при всей абсурдности моего поведения, в этом есть кое-какой смысл.
Он проводил меня долгим, тяжелым, с оттенком недоумения взглядом.
– кто-то шепчет над самым ухом – кто? Никого поблизости нет, ни единой живой души; значит, опять произошел выброс "китчевого вещества", и мое счастье, что на этот раз оформлен он легким, едва различимым на губах шепотом.
Развитие сюжета, вполне возможно, будет иметь отношение к тем сокровенным уголкам женского тела, обслуживание которых берет на себя время от времени этот спасительный "Тампекс", однако в моем положении уместнее припомнить иную мудрость: если насилие неизбежно, следует расслабиться и получать удовольствие!
Оно, конечно, можно – но не в муравейнике же...
Застегивая "зиппер", я мысленно посылаю проклятия на головы тех, кто вшивает в джинсы столь оглушительно журчащие "молнии".
Скорее всего, сотрудникам "Леви Страус" досталось понапрасну: глухой, унылый участок загородного шоссе, где слышно, как растет трава и как в земле шевелятся, разминаясь, поводя плечами, грибы, накрыто такой плотности и прозрачности беззвучием, что в ушах твоих короткая линия крохотного и слегка зазубренного звука, издаваемая механизмом застежки, распухает до размеров невероятных: такое впечатление, будто ты тащишь из воды ржавую, ритмично клацающую зубами якорную цепь.
Тут даже в поступи муравья, волокущего хвойную иголку, слышится нечто слоновье – потащил, работяга, очередной кирпичик в основание своего муравьиного дома, притулившегося сбоку от дерева.
Мои осторожные телодвижения в жидком придорожном кустарнике не потревожили его слух – странно; у бандитов и насильников слух волчий.
Так или иначе, он не среагировал – скорее всего, слишком был поглощен делом: уперев ладонь в дверное стекло Алкиной Гакгунгры, он пытался опустить его.
Дело незатейливое; стекло в правой передней дверце держится на честном слове, на ходу оно слегка опускается само, и в щелке свистит остренький, как бритва, сквозняк.
Он наверняка сейчас сломает подъемный механизм.
Значит, если я выйду живой и относительно невредимой из этой передряги на пустынном шоссе, придется ехать на станцию техобслуживания... Я плохо знаю эту сферу криминальных (судя по ежедневным разборкам в автосервисных организациях) услуг: куда там ходить, с кем договариваться? Вертеть бедрами надо? И каким выражением лицо гримировать на этом плотно заставленном паркинге перед воротами, где слоняются – будто бы без дела, а исключительно наслаждаясь свежим воздухом, – люди со скользкими глазами и притушенными, вернее сказать, притененными голосами? И как вести себя с механиком, перед тем как пасть на колени и вручить ему челобитную по поводу барахлящего карбюратора или обвалившегося стекла? Главное же – в какой валюте рассчитываться за услуги: в деревянной, твердой или в мягкой (натурой, так сказать). Система натуральных взаиморасчетов достигла у нас такого совершенства, что пророчества относительно финансового краха представляются мне чистой воды кликушеством: обвалится и рассыпется в прах рубль, гривная, карбованец – черт с ними; наш рынок не умрет – "не надо золота ему, когда простой продукт имеет".
Он уже слегка сдвинул стекло. Еще немного – и он сможет просунуть руку в щель, выдернуть запорную кнопку.
Странно, в моменты не самые приятные, когда следует стремительно соображать (кто он такой и что ему надо в полуразваливающейся машине, предоставленной мне Алкой во временное пользование?), искать выход из положения (кричать, звать на помощь?) и принимать решения (уносить подобру-поздорову ноги?) меня одолевают совершенно идиотские мысли – вроде этой, о преимуществах "мягкой валюты" в период тотального финансового кризиса.
Забавно же должна выглядеть со стороны девушка, что, притаившись за кустом в момент, когда бандит с большой дороги лезет к ней в автомобиль, предается такого рода размышлениям.
Как, к примеру, "мягкая валюта" будет конвертироваться, и по сколько соитий будут на межбанковской валютной бирже давать за доллар – тысячу? А как осуществлять половые взаиморасчеты между государствами СНГ? Если я в украинском Конотопе закупила, предположим, партию дверных щеколд или ночных ваз – во сколько пламенных ночей любви это мне встанет? Коробок спичек в табачном ларьке будет наверняка стоить один половой акт.
Не может же он стоить – половину?
Нет, половина полового акта или же четверть – это даже звучит странно, не говоря уже о смысле. Зато до чего прелестно жить в стране, где в магазинах и банках, газетных киосках и коммерческих ларьках, универсамах и на колхозных рынках, в сберкассах и ресторанах, трамваях и метрополитене, общественных туалетах и картинных галереях, прачечных и булочных, клиниках и концертных залах – словом, везде, где за еду, питье, услуги и эстетические радости надо платить, аквариумы кассовых клетушек заменят эдакие сооружения наподобие примерочных кабинок в магазинах готового платья, оснащенные вместо кассового аппарата диванами, тахтами, канапе и банкетками... Он сдвинул стекло.
Пора выходить из засады.
Как он отреагирует на мое появление? Возможны варианты. Побежит? Вряд ли. Зачем бежать, если ты мужик; если время московское что-то около шести утра; дорога пуста и до горизонта нет ни одной живой души? Прогонит? Не исключено. Захочет немного развлечься? А почему бы и нет? Догонит, повалит прямо в муравейник и – "если насилие неизбежно, следует расслабиться"...
Я огляделась, оценивая это славное местечко, где мне, возможно, предстоит "получать удовольствие".
Трасса уныла и пряма, как слесарная линейка; вдали она слегка выгибает спину на длинном пологом подъеме; пыльный, задохшийся в газовых атаках дороги кустарник – угловатый, костлявый, чахоточный; высокая трава – расчесана на множество проборов, пролегших по следу дорожных людей, притормаживающих здесь с целью "девочки – налево, мальчики – направо"; за этой нуждой я, собственно, и свернула на обочину... Нет, получать удовольствие в общественном туалете под открытым небом – сомнительное удовольствие, и потому я для более близкого знакомства прихвачу кусок ржавой железной трубы – вот она торчит в груде мусора. Имея при себе такой аргумент, как-то спокойней обмениваться с этим парнем любезностями, делать реверансы и приседать в книксенах.
Он наверняка слышал шорох в кустах и сдержанное поминание черта (преодолевая канаву, я провалилась в закамуфлированную травой лужу), однако, скорее всего, отнесся к чьему-то присутствию за спиной философски: стоял, не шелохнувшись, выжидал.
Я знаю: в такой ситуации большое значение имеет стартовая атакующая реплика – когда-то под нашим старым добрым небом мне случалось видеть, как дрались у нас в Агаповом тупике мальчики... И очень часто успех оказывался на стороне того, кто лучше умел атаковать словом. Прикидывая, про себя, варианты (сука! сволочь! скотина! дерьмо поганое!) я чувствовала, как пробуждается во мне и крепнет тот внутренний голос, мое особое китчевое "эхо", что время от времени выплескивается из меня наружу, во внешний мир – совладать с выбросами этих идиотских паролей времени я не в силах...
Да: он очень качественно, добротно одет в духе чисто коммерческого "стайла" – длинный бледно-салатовый плащ, темно-зеленые брюки, прекрасные черные ботинки,
да и под плащом у него, скорее всего, не домотканый свитер – он неторопливо, плавно, как заспанный, заторможенный солдатик, исполнил команду "Кругом!" и поглядел на меня с чувством крайнего недоумения.
Я нередко ловлю на себе взгляды такого рода: на улице, в магазине, в трамвае, в прачечной, в аптеке – везде, где есть люди, до слуха которых долетают эти мои невольные выкрики... Смотрят на меня по-разному: снисходительно или с опаской, с сарказмом или с сожалением, с удивлением или испугом – однако в любом случае человек, оказавшийся поблизости, предпочитает отступить на шаг: девушка, похоже, немного не в себе...
Пару раз я пыталась объясниться, однако быстро поняла бессмысленность торопливых извинений; природа этого поведения слишком сложна, чтобы ее можно было растолковать в двух словах. Пришлось бы рассказывать про телевизор "Рекорд", старый заслуженный ящик – "Заслуженный деятель телевизионных искусств" – прослуживший мне верой и правдой десятки лет. Давно ему пора на пенсию: в последнее время он медленно, мучительно слеп, с год назад экран стал бледнеть и представлять движения размытых теней, которые быстро, в течение одной недели, совершенно растворились в молочно-белом, слегка потрескивающем поле экрана.
Утратив реальные очертания, тени сохранили главное – голоса.
Голоса по-прежнему звучат сочно, ясно – по ним весь последний год я и ориентируюсь во внешнем мире. Приходя домой, я целую Роджера, старого друга, хранителя девственной чистоты моей девичьей кровати, в холодный лоб (в ответ он скалится – преимущество Роджера в том, что он перманентно весел...) и, повернув ручку, соединяюсь с внешним миром с помощью Заслуженного деятеля ТВ-искусств.
Это очень устойчивая связь; в контексте современной культуры она выполняет функцию основного канала – глубокомысленные откровения интеллектуальной публики о том, будто всякий рождающийся на земле автоматически становится читателем Толстого, слишком лукавы, замысловаты и слишком не от мира сего: человек теперь если и становится читателем, то исключительно тех текстов, которые хранятся в
Никакой потребности в "живой картинке" я не испытываю; мне вполне достаточно "Рекорда": слепой, но голосистый, он питает меня тем необходимым для современной жизни веществом культуры, которое вливается в кровь, проникает в клетки кожной и мышечной ткани, оседает на легочных альвеолах и погоняет, нахлестывает реакции, несущиеся по нервам, как спринтеры по гаревым дорожкам, – в этом смысле я нормальный, рядовой ЖИТЕЛЬ ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ. Иной раз вещество переливается через край – ну что ж, должно быть, я слишком восприимчива к голосам культурной среды, и потому время от времени с губ моих слетает очередная, отлитая в звуковую форму и ясно артикулированная веха современности, ну, предположим:
Сокрушительность переворота – смены вех – я почувствовала три дня назад, когда мы с Алкой ехали на дачу, откуда я теперь и возвращаюсь. На выезде из Москвы мы миновали косогор, поросший интеллигентной щетиной (травку аккуратно, на английский манер, подстригают, подравнивают), ехали быстро, однако что-то в стремительном промельке наклонного бледно-зеленого поля было не так, не на месте было... Мимо этой природной декорации в прежние времена я следовала не раз и не два – и что-то в ней теперь определенно изменилось... Мы отъехали уже довольно далеко, когда я догадалась: смена вех! В поле жизни, представляющемся мне беспредельным болотом, топким, опасным, кисло пахнущим плесенью, прелью и сочной грязевой жижей, веки вечные воздвигались сигнальные вешки, по которым следовало торить путь и перескакивать с кочки на кочку. Во времена молодости моей бабушки они представляли собой милые трогательные глупости: "В человеке все должно быть прекрасно!", "Красота спасет мир!", "Человек – это звучит гордо!". Потом на месте прежних были вколочены твердой рабоче-крестьянской рукой сигнальные ориентиры попроще: "Народ и партия едины!", "Мы придем к победе коммунизма!", "Превратим Москву в образцовый коммунистический город!" – и если старозаветные вехи выстраивались в материале духа, то последующие выпиливались на конвейере из похожего на бетон вещества холодной идеи; однако – при всей наивности первых и при всем идиотизме вторых – наши вехи никогда не обозначали нечто осязаемое.
Я вспомнила. Прежде на этом косогоре выложенные из дерна – точно самой природой выстраданные, выпестованные и выстроенные – красовались слова: "Слава КПСС!". Теперь там прорастало из земли нечто иное:
и сигналило о трансформации предмета духа и предмета идеи в "просто предмет" – в вещь высочайшего качества, не чреватую рвотными позывами с утра, однако – вещь.
Не в этот сумбурный день, когда население нашей Огненной Земли дружно спятило, предалось вселенскому пьянству, наживая себе инфаркты-микро и инфаркты обширные, а много позже, когда станет со всей очевидностью ясно, что Иван Францевич Криц, мой старый школьный учитель, пропал без вести, я проговорю про себя давнюю детскую считалочку: "Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить, все равно тебе – водить!" – и окончательно пойму, что в поле наших диких игр водить выпало мне; и покорно встану у стены, буду считать, давая возможность партнерам по игре скрыться, а напоследок предупрежу:
– Иду искать! А кто не спрятался – я не виноват!
Играем в прятки! Играли когда-то под нашим старым добрым небом дети; и маленькая рыжая девочка, повадкой, моторикой движения похожая на стремительного рыжего зверька – потому и называли ее у нас в Агаповом тупике Белкой – вот так же водила, водила, водила, искала своих попрятавшихся товарищей - и набрела на Дом с башенкой, где жил хромой учитель; много-много раз потом туда возвращалась, сидела за круглым столом и смотрела в потолок, расписанный масляными красками; и вырастала, и выросла; и не догадывалась, что однажды придут в эти московские дворы другие времена, а жизнь – в самом-то деле! – потечет в них строго в русле одной коротенькой заметки в писательском дневнике: в литературе, мол, царят нравы каннибалические, совсем как у туземцев на Огненной Земле... Вольно было последнему из наших классиков в другой раз на эту же тему рассуждать: подрос Набоков, да и сразил нас, стариков, наповал!.. Набоковские пули отливались в книгах – мы же, истинные, а не литературные туземцы, свои льем из свинца; и не знают промаха наши стволы калибра "семь-шестьдесят два", и много же мы стариков положили – не в романах, а на самом деле...
Так что води, Белка, води – двигаясь наощупь по тропам безжалостной каннибалической игры, согласно правилам которой старик должен быть съеден; води, выстраивай свой текст в том сугубо китчевом жанре, в русле которого развивается эта жизнь – ведь инстинктивно жанр тобой нащупан... Знать законы жанра – уже полдела, если не три четверти; инстинкт подскажет тебе, где искать – строго в пространствах столичной Огненной Земли, а также что искать: не след, не отпечаток пальца, не старый окурок, не "вещдок", не улику – нет. Двигаясь в русле жанра, то есть в духе смены вех, ищи звуковой пароль времени, и значит:
– Ищи вещь! – скажу я себе...
Если, конечно, удастся выйти невредимой из этой передряги на пустынном утреннем шоссе.
Я помахивала железной трубой аки жезлом железным – если он поведет себя агрессивно, я его приласкаю.
Он недоуменно оглядел свой наряд, пощупал рукав плаща и, выставив вперед ногу, оценил состояние ботинка, измазанного грязью.
– Вообще-то у Ле Монти я не одеваюсь... Ботинки, правда, в самом деле итальянские, однако сомневаюсь, что это ручная работа...
Он сделал шаг вперед, я подняла железный жезл – еще шаг, и придется пустить его в ход. Жаль... У него милое, приятное лицо, он определенно кого-то мне напоминает, да: нежный рот, мягкий подбородок, плавные – будто бы не до конца оформившиеся, созревшие – черты, в них просвечивает какое-то отчетливое детское начало.
– Вы, наверное, хотели спросить, что я тут делаю? – он мягко улыбнулся. – Честно говоря, я собираюсь залезть в эту машину.
Святая простота... Я верю в магическую силу слова, вернее сказать, точно выбранного слова; бывают ситуации, когда одна-единственная фраза (именно единственная, верно избранная из тысячи вариантов) способна решить исход дела; он меня разоружил – очаровательный незнакомец в грязных черных ботинках (ко всему прочему, он еще и блондин); я швырнула трубу в канаву. Наверное, несчастная мартышка вот так же, случайно напоровшись на гипнотический взгляд удава, послушно и радостно идет под смертельный удар змеиного хвоста – разоружившись, позабыв о вековом инстинкте самосохранения.
– Давайте поедем, – он похлопал ладонью по крыше автомобиля, – поедем, время... – упомянув про время, он посерьезнел, собрался, огляделся по сторонам, и, приподняв подбородок, замер, прислушался: не возникнет ли у этой дороги на кончике языка далекий, приглушенный звук.
Я опустила глаза: его брюки по щиколотку темнели от влаги.
– Говорят, по росе надо ходить босиком. Полезно для здоровья. А так... Ты промочил ноги.
Он рассеянно взглянул на свои штиблеты: их холеные лоснящиеся остроносые физиономии в самом деле были изуродованы бурыми потеками и рыжими комочками грязи – значит, прежде чем ходить по росе, он шагал нашим вечно разбитым российским проселком.
– Поехали, чего там... – я погладила шершавое, слегка облупившееся крыло; Алкин "жигуль" (Алка называет свой автомобиль Гактунгра) – птица пестрая, разнокрылая; сама по себе она густо зелена, левое крыло – салатовое, правое – бежевое; Алка водит крайне неосторожно, вечно бьется, так что крылья у Гактунгры неродные; красить их в тон нет никакого смысла – все равно придется менять, не сегодня, так завтра. – А куда мы едем?
Он молча смотрел на дорогу. Я рванула с места в карьер – наверное, слишком жестко всадила Гактунгре в бока шпоры; она взвыла, вильнула задом, пошла юзом на влажном от утренней влаги шоссе – прекрасный незнакомец бросил на меня косой выразительный взгляд; я открыла было рот, чтобы оправдаться
и втянула голову в плечи – такова моя инстинктивная реакция в моменты, когда культура вдруг хлестнет через край.
Двести дней своей жизни человек проводит, сидя на унитазе, – вдумайтесь, вслушайтесь в мелодию этого статистического откровения и впишите ее – отдельной, самостоятельной темой – в симфонию вашего бытия и, проникнувшись ощущением вечности, потренируйтесь в арифметике; перемножьте цифру "200" на бесчисленные численности всех племен и народов, медленно шагающих из ледяных пещер питекантропа к спасительным кострам древнего человека, от которых далеко еще брести до мрамора античных дворцов; прошагайте опасный кровавый путь до мрачных средневековых замков, и так далее и тому подобное, вплоть до вашей малогабаритной квартиры; и ужаснитесь: мама мия! – тысячелетия человечество провело на унитазе, вместо того, чтобы предаваться любви или войнам, сочинять трагедии или писать картины; строить замки или рыть каналы; растить хлеб или рожать детей; возделывать фруктовые сады или сочинять головоломные геометрические теоремы; изобретать паровоз или играть "Гамлета"; вязать кофточки или печатать энциклопедические словари – так вот, милые люди, в рамках такого рода философствований прислушайтесь к моему доброму и бескорыстному совету:
– Ни в коем случае не садитесь с Алкой пить чай!
Не позволяйте ввести себя в заблуждение ее профессиональным интонациям – Алка двухголосая; приглашая к чайным церемониям, она подло, каверзно прячет свой обычный бытовой голос (с таким голосом ей бы петь на клиросе – от ее нижнего "до" вздрагивали бы лица святых угодников и гнулись бы острые свечные наконечники...). Нет, она подманит вас в свою западню тем восхитительным бархатным голосом сирены, какой составляет неотъемлемую часть ее теперешней профессии.
Ах, не садитесь с ней пить чай – ни на ночь глядя, ни с утра – иначе вы рискуете провести на унитазе не отмерянные вам природой заветные 200 дней, а все четыреста: нынче утром, стартуя с Алкиной дачи в направлении столицы Огненной Земли, я – то ли спросонья, то ли оглушенная полночным сообщением БИ-БИ-СИ – забыла залепить уши восковыми пробками, не велела привязать меня толстым пеньковым канатом к мачте, за что и расплачиваюсь на дороге. Прежде чем притормозить у кустов, где судьба свела меня с незнакомцем, я успела уже дважды остановиться и проклясть свою слабость.
Вскочив ни свет ни заря, примерно в половине пятого, металась я по комнате, натыкаясь в потемках на стулья и табуретки, и пышными гроздьями развешивала где только можно эпитеты в адрес нашего горячо любимого и всенародно обожаемого правительства, примерно вот такие:
Алка, послушно поводя глазами – так следят за шараханьем туда-сюда теннисного мяча на корте – наблюдала, как расцветают гроздья гнева: на впившейся в стену железной трубе от "буржуйки", на вешалке, на старом комоде; и когда концентрация инфернальных паров достигла в комнате критической отметки, а из плотного текучего воздуха нашей дачи можно было запросто изготавливать семидесятиградусную чачу, Алка, поглаживая темные усики над верхней губой, провозгласила голосом сирены:
– Может, чайку?
Она интонировала предложение на особый, сугубо профессиональный, бархатный манер – таким тоном она разговаривает со своими сексуально озабоченными абонентами; абонентов Алка называет "вонючими онанистами". Должно быть, работа на "секс-телефоне" (или "телефоне любви", или как там еще называется эта служба, куда можно позвонить и совершить половой акт по телефону?..) настолько обострила ее обоняние, что она слышит запахи, сочащиеся по телефонным кабелям и радиоволнам.
Я вовремя не среагировала – в момент приглашения к столу занималась конструированием замысловатой фразы, содержащей в себе исчерпывающую информацию о том, где я наше всенародно обожаемое демократическое государство видала, как я его имела, а заодно имела всех его родственников, внуков и племянников, деверей и невесток, тещ и зятьев, бабушек и дедушек, снох, золовок и дядьев – и потому машинально отмахнулась:
– Давай!
Чай я ненавижу.
Моя ненависть глуха, свирепа и беспощадна – особенно с тех пор, как Алка наложила на себя очередную диетическую епитимью.
Сколько я ее помню, она вечно истязала свою обширную, тучную плоть мазохистскими ограничениями, исключая из рациона то мучное, то мясное, то молочное, то рыбное, то овощное, то хлебное, то сахарное и вводя в него то размоченный овес, то проросшую пшеницу; однако стрелка домашних весов неизменно улетала за отметку "100".
В конце концов она провозгласила, что отныне, убедившись в полной несостоятельности диетологических рецептов, будет сбрасывать вес согласно рекомендациям, изложенным в классической литературе, и сделается "полковником, которому никто не пишет".
Я плохо помню, какими яствами был украшен стол этого старика, известного всякому советскому человеку (и даже сантехнику, и даже первокласснику) тем, что в свое время он состоял казначеем революционного округа Макондо, что подтверждается собственноручной распиской полковника Аурэлиано Буэндиа, главного интенданта революционных сил Атлантического побережья, однако Алка освежила мою память.
– Знаешь, когда полковник почувствовал себя победителем? – спросила она. – Когда ответил жене на ее вопрос: "Что же мы будем есть?"
– И что он ответил?
– "Дерьмо".
Не знаю, в какой степени Алка следовала оригиналу... Теперь она ничем не питается – кроме чая.
Из чувства жалости и сострадания я время от времени составляю ей компанию в чаепитиях; чай мы не просто пьем, мы его глушим – понимая неотвратимость этой муки, я присела к столу: надо же хоть чем-то ее отблагодарить.
В конце концов она пошла на большую жертву, разрешив мне взять Гактунгру для поездки в столицу Огненной Земли и покинуть эту забытую богом деревню, где Алка владеет серым, выцветшим от дождей и ветров срубом.
Три дня назад она затащила меня сюда, "на природу": устала, надо отдохнуть.
Служба на секс-телефоне, в самом деле, трудная и утомительная, за такую работу полагается давать молоко: для разгона отношений Алка живописно рассказывает клиентам, как однажды в пиковом троллейбусе к ней сзади прижался мужчина (подробности прилагаются: чем прижался и как) и что она в конце концов от этих горячих, упругих прикосновений испытала сладостный оргазм (подробности прилагаются) – ну, а дальше Алка импровизирует. Все последнее время ее донимает один клиент, который не удовлетворяется привычными ласками в постели, а требует пройти в ванну – Алка называет его "самой отъявленной занудой из всех онанистов Земного шара" и жалуется, что после его звонков у нее ломит колени.
Мы чудно провели время среди тишины, запахов сосны и блаженного отсутствия каких-либо мыслей; я, наверное, прожила бы так выходные и начало будущей недели – не дерни меня черт после вечернего чая покрутить ручку плоского, шепелявого транзисторного приемника.
Я докрутилась до приглушенных лондонских голосов, кормивших занимательной сборной солянкой из обрывков светской хроники, разного рода невероятных случаев кто-то выпал из окна на пятнадцатом этаже приземлился на клумбу и отделался переломом пальца), далее следовал репортаж с выставки "Оборудование туалетов" (Вот!), проходящей в маленьком европейском городке; организатор выставки, упомянув про заветные "двести дней", патетически восклицал: "Ну неужели вам безразлично, на чем вы сидите более полугода?! И при этом, заметьте, никто до меня всерьез не занимался научным изучением этого фаянсового предмета – я имею в виду не столько техническую сторону дела, сколько, если хотите, философскую" – а потом объявили сводку новостей.
Мы сидели за столом, полоска огня уютно шевелилась под колпаком длинноносой керосиновой лампы; в трубе ухал домовой; ползли по стенам и переламывались под потолком гигантские тени – нам было хорошо, уютно; а потом равнодушный женский голос бесстрастно доложил нам, что в России опять грянуло.
Грянула очередная и любимая всем населением Огненной Земли забава: с понедельника купюры с профилем Ильича будут стоить дешевле туалетной бумаги.
С минуту мы сидели и тупо смотрели друг другу в глаза.
Потом дрогнули и двинулись Алкины губы; ее аппетитный и любвеобильный рот медленно, очень медленно округлялся, и в глубине монументального Алкиного тела, где-то в районе его фундамента, возник глухой, невнятный звук; он рос по мере движения вверх, к голосовым связкам, он темнел, наливался спелостью и наконец созрел в черном провале Алкиного рта.
– Л-о-о-о-о-о-о-о!!! – Алка выла низко и протяжно, на одной долгой и глубокой ноте, текущей неторопливо и мощно, как великая египетская река Нил, и на самое дно этих теплых желтых вод опускались обломки классической фразы; "...б!" – еще можно было различить; "твою!" мелькнуло над волнами и погрузилось в пучину, а "мать!" и вовсе не выплыла – Алка трубила голосом слона; наш добросердечный домовой, как реактивный снаряд, вылетел из трубы и унесся к звездам; сверчок в чулане потух навеки; и полегли в округе травы; и сосны в ближнем лесу пустились наутек; галки на проводах остекленели и посыпались наземь, звеня, как хрустальные рюмки; а мертвые постояльцы деревенского кладбища восстали из могил, взялись за руки и стали водить хороводы.
– У-у-у-х! – тяжело выдохнула Алка.
– Какой сегодня день? – спросила я неживым голосом; такими голосами, скорее всего, разговаривают те, кто, усевшись в лодку, принимается жаловаться на жизнь, безденежье, пьянство мужей, их заскорузлые носки, на моль в шкафу, на ранний климакс – а Харон все гребет и гребет.
Значит, пятница.
Ночью она отговаривала меня ехать.
Но не ехать нельзя: дома в письменном столе, в конверте, перетянутом резинкой, лежат восемьдесят тысяч; месяц назад испустил дух мой старый "Саратов": он умер спокойно и мужественно, без вскриков и воплей, в полный рост, как боец старой наполеоновской гвардии под градом союзнической картечи; деньги на новый я собирала долго и мучительно, вымаливая в десяти местах, занимала и перезанимала – пришлось завести специальный листок, на котором вычертилось могучее, с путаной кроной, древо моих долгов.
– Знаешь, – ответила я Алке на ее уговоры, – у меня есть предчувствие, что сегодня я кого-нибудь убью. Будет грустно, если этим человеком окажешься ты. Так что лучше я тронусь.
Дорога привела меня в чувство. Однако Алкин чай дал о себе знать быстро: он колыхался во мне и просился на волю – уже минут через двадцать я вынуждена была остановиться.
На отрезке между второй и третьей "стоянками" случилось маленькое происшествие. В зеркальце заднего обзора стремительно вкатилось нечто серое, ослепительно сверкающее свежим лаком. По левой стороне трассы, за сплошной осевой, мне вдогонку несся роскошный лимузин. "Должно быть, за рулем англичанин, – подумала я, – который спросонья позабыл, что катит не по дороге своей туманной родины с левосторонним движением".
Настичь меня на таком быстроходном аппарате ему ничего не стоило.
Я, естественно, наслышана о том, что на Минское шоссе теперь лучше не соваться, если под сиденьем у тебя не лежит, на всякий случай, ручной пулемет или, на худой конец, "калашников" – жидкие леса, что тянутся вдоль трассы аж от самой польской границы до Смоленска и дальше, давно изведены на корню, а взамен насажены деревья из лесов шервудских; что касается братьев, курсирующих тут на "поршах", "альфа-ромео" и "ниссанах", то они, в отличие от своих литературных пращуров, начисто лишены сантиментов, а тугим лукам предпочитают лимонки и гранатометы.
Впрочем, их интерес касается иномарок.
Серый красавец поравнялся со мной, некоторое время мы двигались борт в борт. Потом он резко ушел вперед. Вообще-то я струхнула. Как только лимузин скрылся из поля зрения, я причалила к обочине.
И в результате мне сломали подъемный механизм в правой дверце.
– Здесь направо, пожалуйста!
Свернув на поселок, тихой сапой, маскируясь в перелеске, подползающий к трассе, я почувствовала себя в родной стихии разбитой, чудовищно раскачанной грунтовки. Маленький брелочный чертик, подвешенный на зеркальце, занялся выполнением махов – как гимнаст на перекладине – и, кажется, собирался сделать "солнышко".
Проехав метров двадцать, я сказала себе: "Какого черта!" – и нажала на тормоз.
В его интонации напрочь отсутствовали характерные приказные нотки; напротив, он обозначил вектор нашего дальнейшего следования очень спокойным ровным тоном, как если бы высказывал нечто само собой разумеющееся и между нами давным-давно обусловленное.
– Какого черта!
С какой стати я должна колыхаться на этой сугубо кроссовой пересеченной местности вместо того, чтобы сломя голову нестись в столицу Огненной Земли?
– Пожалуйста, – мягко произнес он. – Вон туда. Видишь: рощица впереди? Пожалуйста, я тебя прошу.
Вижу, не слепая: примерно в километре на пологом взгорке – грива березовая, роскошная, вся в есенинских кудрях; и воздух в ней, наверное, голубой, есенинский: "Гой ты, Русь, моя родная, хаты – в ризах образа!" – листва над головой журчит, загорелые подберезовики в высокой траве совершают свой утренний променад... А что, сесть бы там, березу обнять, да и заплакать: да что ж это за жизнь у нас такая на Огненной Земле, что мы, в самом деле – родина слонов?
Осторожно огибая метнувшуюся под колеса впадину, сочно и пышно, как торт с шоколадным кремом, украшенную толстой грязевой пеной, я пробиралась вперед и размышляла об этом хорошем начале хорошего летнего дня.
Подхватила я своего обаятельного бандита километрах в тридцати от столицы, сразу за развилкой, где стоит указатель, зазывающий посетить загородный ресторан... Наверное, пропьянствовал ночь в кабаке вместе с цыганками, а теперь возвращается к жене.
Приоткрыв рот, он массировал пальцем уголок глаза. Я сразу заметила: веки припухшие, розовые, потяжелевшие – скорее всего, в самом деле ночь не спал.
– Осторожней! – подсказал он, но опоздал: очередная яма кинулась под колесо, горизонт накренился; я с трудом выправила машину.
– Ты инвалид? – спросила я.
– С чего ты взяла?
– Да так... Ты все время держишь левую руку в кармане. Наверное, у тебя под манжетой протез в черной перчатке.
Встряска на дороге только выправила ход этой мысли: да, все время держит руку в кармане, и сидит несколько странно, откинувшись назад, деревянно и прямо, точно плечевой пояс скован гипсовым корсетом; или просто прячет под плащом что-то мешающее устроиться в кресле нормальным образом.
– Налево! – подсказал он, я послушно крутанула руль.
Мы огибали холм по раздолбанной колее, и я все время опасалась, что Гактунгра сядет на брюхо – если это произойдет, нам понадобится трактор или танк.
Только теперь я разглядела, куда мы направлялись.
– Карамба! – заорала я. – Ты завез меня на кладбище!
Вот уж, в самом деле, "хорошее начало хорошего летнего дня": наверное, он вампир: распластает меня на каком-нибудь осевшем от времени холмике, станет пить мою девичью кровь, а прошлые люди, поднятые из могил вчерашним Алкиным трубным воем, сгрудятся вокруг и станут давать ему полезные советы.
– Я сейчас, – он хлопнул дверцей, стекло обвалилось.
– Гад! – крикнула я ему вдогонку. – Ты сломал мне машину!
Он обернулся, пожал плечами – что за мелочи жизни! – и двинулся в глубину кладбища. Минут через пять он появился, пригласительно помахал рукой: дескать, давай, заезжай и будь как дома. Я приткнулась за буйными зарослями бузины и вышла из машины. Он стоял, привалившись плечом к стволу коренастой березы, покусывал травинку и смотрел в сторону шоссе.
– Извини, – сказал он. – Кажется, я немного расстроил твои планы. Ты в Москву?
Туда, куда ж еще: участвовать в осаде сберкасс; работать локтями в раскаленных потных очередях, материться, проклинать начальников и срывать злость на безответных стариках; штурмовать магазины, мести с прилавков все, что под руку подвернется, – кастрюли, утюги, колготки, туалетную бумагу, кофе, соль, спички, контурные карты для школьников, презервативы, картошку, хрусталь, гвозди, граненые стаканы... Я отчетливо помню, как выглядело прежнее светопреставление и сомневаюсь, что на этот раз любимая забава туземцев Огненной Земли будет обставлена иначе.
– Давай немного переждем, – сказал он, покосившись на шоссе. – Недолго... А потом тронемся, – он осторожно опустил руку мне на плечо, и мистическим образом все нервное электричество, скопленное мной для битв у стен сберкассы, незаметно и плавно перетекло в эту узкую и поразительно прочную ладонь; я сразу обмякла и потому никак не реагировала на то, что рука, освоившись на плече, осмелела, двинулась дальше и добралась до моей щеки: господи, какая у него ледяная ладонь – наверное, приняв в себя едкие испарения моих умонастроений, химический анализ которых однозначно подтвердит наличие в них стрихнина, мышьяка, цианистого калия, синильной кислоты и боевого яда кураре, отравилась – прикасаться к бабе, имеющей в столе восемьдесят тысяч, которыми с понедельника можно будет оклеивать туалет, опасно для жизни.
– Ты простыл... Ноги вон сырые. Тебе выпить надо.
В "бардачке" лежала бутылка "Лимонной". Собираясь в деревню, я прихватила с собой пару бутылок; одну потихоньку выпила, стараясь не провоцировать Алку, объявившую мораторий на спиртное, вторую не успела.
– В самом деле. Чуть-чуть. Для здоровья. Дрянь, конечно, но согревает.
Что напиток "Лимонная" – продукт для здоровья небезопасный, я давно заподозрила, благодаря чисто бытовому наблюдению: последнее время все помойки у нас в Агаповом тупике завалены крупнокалиберными бутылками из-под любимого напитка туземцев Огненной Земли "РОЯЛ". Эти груды стекла настолько впечатляют, что предположить, будто вылакало спирт коренное население Агапова тупика, я не рискну – даже если вообразить, что спирт у нас пьют все рабочие и служащие, пенсионеры и пенсионерки, молодые мамаши, юноши и девушки, школьники и дошкольники, грудные дети и беременные женщины, истребить такие объемы алкоголя им не под силу; значит, работники прилавка разбавляют дешевый канцерогенный спирт лимонной эссенцией, и мы, простодушные туземцы, лакаем эту огненную воду, рискуя ослепнуть или оглохнуть – или сделаться дебилом.
– Спасибо, – вежливо отозвался он. – Не теперь.
– Пойдем в машину. Я печку включу.
Он отрицательно мотнул головой.
– Давай тогда подышу на руку – это я твою руку отравила.
– Давай...
Интересно, за кого он меня принимает? Что вообще можно подумать о девушке, покорно следующей за первым встречным, приглашающим скоротать время на кладбище, предлагающей кавалеру в шесть утра канцерогенной водки и согревающей теперь его застывшую руку теплом своего дыхания?
– Ты меня не бойся, – сказала я, предупреждая этот возможный ход его мыслей. – Вообще-то там, на дороге, я намеревалась огреть тебя трубой по голове. Ты вовремя обернулся. И, кажется, в порядке знакомства нашел какие-то очень точные слова.
– Место, конечно, не самое веселое... – он смущенно оглядел кресты и могилы.
– Ну отчего же. Мне тут нравится.
Я в самом деле люблю эти старые деревенские кладбища, прячущиеся в прозрачных рощах... В этой земле уже давно никого не хоронят; ни кощунственный скрежет заступов, ни надгробные плачи, ни маятник батюшкиного кадила не тревожат здешних старожилов; прошлым людям здесь уютно, просторно и покойно: летом не жарко, зимой не зябко; столетние дожди смыли с дубовых, вразвалку бредущих меж берез, крестов начертания имен и дат – так пусть; здесь все друг друга знают, живут в мире и согласии и шепчут нам, сходящим с ума наверху: присядь и отдохни... Присядь тут, где сдержанные шепоты бродят в березовых кронах да трудолюбивый кузнечик упорно шлифует прохладный, как березовый сок, воздух своим тонким надфилем; ах, хорошо, "не пылит дорога, не шумят кусты, подожди немного, отдохнешь и ты..."
– Спички у тебя есть?
– Да я не курю, – извинился он.
Не курит, не пьет, хорошо одевается, симпатяга, не лезет в первые пять минут знакомства тебе под юбку – очень симпатичный набор добродетельных качеств. Он присел на корточки и вывалил на землю содержимое кармана; носовой платок, маленькую записную книжечку в изящном кожаном переплете с золотым тиснением, несколько небрежно скомканных купюр пятидесятитысячные.. я впервые вижу такие серьезные дензнаки...), еще что-то, похожее на крошечную голубую льдинку; взглянув на этот предмет, я почувствовала, как заходил в горле рвотный комок...
...следовало бы извиниться, однако, покуривая, я заметила среди карманных причиндалов нечто такое, что меня насторожило.
Ключи от машины – они были прицеплены к плоскому серебряному брелоку, изображающему Нефертити.
Странно: имея машину, он предпочитает путешествовать автостопом. И носит с собой кучу денег.
– Ты что не знаешь, какой сегодня день?
Он не знает – я его просветила. Он долго разглядывал одну из своих розовых бумажек.
– Тут, кажется, нет нигде Владимира Ильича.
– Дай-ка!
В самом деле, нет, денежка свежая: только-только соскочила с печатного станка – единственного механизма в станочном парке, который пока работает на полных парах и дает тысячу процентов плана.
– Возьми... – он протянул мне пару купюр, когда я рассказала ему о своей беде; он предлагал мне сотню тысяч таким бесхитростным тоном, как будто речь шла о фантиках от жевательной резинки; я попыталась отвести его щедрую руку, однако он решительным жестом сунул деньги в карман моей куртки:
– Давай будем считать, что здесь, – он кивнул в сторону крестов, – выездной филиал Сбербанка. А твои бесполезные сбережения я у себя на работе обменяю, ей-богу, в любом количестве.
– Ладно, – согласилась я. – Разберемся как-нибудь... А что с твоей машиной? – я дотянулась до ключей, подбросила их на ладони – серебряная царица издала грустный глухой возглас.
– А-а-а... – неопределенно протянул он. – Гвоздь поймал на переднее колесо. Неподалеку тут. Пришлось оставить пока.
Занятно. Надо иметь очень веские основания к тому, чтобы бросить беззащитную машину в чистом поле. Неужели он настолько не от мира сего, что не догадывается: в течение часа его машину ослепят, оскопят, линчуют, четвертуют и разденут до скелета. Наверное, и скелет потом упрут: в хозяйстве пригодится.
Он осторожно разжал мои пальцы, извлек задохнувшуюся в кулаке Нефертити, прикованную к колесику с ключами.
Ни с того ни с сего он напрягся, быстро прошел к зарослям бузины, откуда открывался вид на дорогу; я последовала за ним.
Со стороны Москвы по шоссе двигалась машина. Я ее сразу узнала – роскошный серый лимузин, некоторое время эскортировавший меня. Я вспомнила, как этот быстроходный автомобиль, поравнявшись с Гактунгрой, следовал в опасной близости от моего борта; он не притирал меня к обочине, вообще не проявлял никакой агрессивности, но, может быть, поэтому ладони мои мгновенно вспотели; я вцепилась в руль, стараясь сохранить самообладание: всякая инициатива в такой ситуации чревата улетом в кювет. Тревожный привкус нашей совместной прогулки ощущался уже в том, что я не видела, кому обязана такого рода экстравагантными ухаживаниями на пустынном шоссе – стекла в лимузине изысканно-дымчатые. Наконец, дымчатое поле справа от водителя плавно соскользнуло вниз, рассеялось, открывая чье-то лицо, настолько неестественно бледное, что я инстинктивно отшатнулась – что-то в его застывших, жестких формах было от посмертной гипсовой маски.
Теперь серый лимузин двигался в обратном направлении – крайне медленно. Было что-то неестественное в том, как этот изящный, способный выжимать на трассе за двести километров в час автомобиль крайне неторопливо, вдумчиво, я бы сказала, шествовал по шоссе – точно совершая разведку и опасливо озираясь по сторонам.
Серый разведчик притормозил у того места, где мы свернули на проселок, постоял в замешательстве и медленно покатил дальше.
– Они по твою душу? – тихо спросила я, когда серый филер скрылся.
– С чего ты взяла? – его отсутствующий взгляд бродил меж берез, как будто выискивая удобное местечко: где бы здесь, среди захлестнутых травой холмиков, присесть и отдохнуть.
Я догадалась, откуда мне знакомо лицо обаятельного незнакомца; прикрыв глаза, я медленно восстанавливала в памяти цвета, звуки и запахи оригинала; тона выстраивались в мрачноватую, производящую гнетущее впечатление из-за долгой разлуки с солнечным светом гамму – здесь безраздельно господствовали болотные и бурые оттенки; звуковое поле представляло собой причудливую смесь голосов обширной рыночной площади, на задворках которой квакает вековая слизистая грязь, плывет и пьяно покачивается нестройный кабацкий гомон, расчерченный тонкими женскими визгами, и где-то вдали остро трещит прерывистый полицейский свисток – эта звуковая материя косо и безжалостно была насечена тонкими бритвенными порезами, так рассекают воздух розги в опытной руке; и тяжелы тут запахи: ветхой одежды, вдрызг изношенных башмаков, жиденькой овсянки, булькающей в огромном сиротском котле, крови, перекисшего пива, затхлой трущобы; а сквозь эти оттенки, звуки и запахи пробирается маленький мальчик с чистым непорочным лицом, широко распахнув наивные и верующие во что-то хорошее глаза.
Незнакомец в чем-то, безусловно, изменился, однако сохранил во внешности мягкость и ласковость оригинала.
– Ай, нехорошо! – пожурила я его. – Вроде из добропорядочной семьи, да и воспитание, скорее всего, получил отличное, в классическом английском духе... А девушек на дорогах пугаешь. Кстати, чем ты занимался за пределами текста? – я подняла глаза в небо, соображая. – Унаследовал дедушкино дело? Вряд ли... Я тебя не вижу в чопорном антураже Сити – ты в детстве слишком много повидал, а детский опыт устойчив, он не пустит тебя в те сферы, где делают деньги, – именно потому, что бизнес неизбежно продуцирует все те беды, через которые ты прошел... Скорее всего, ты избрал за пределами текста карьеру военного. Служил, наверное, где-то в колониальных войсках, к тридцати годам вышел в отставку...
А вообще-то, увлекательное занятие: выстраивать тот или иной персонаж за пределами авторского "DIXI". Золушка в обязательном порядке превратится в страшную зануду и от безделья будет патронировать богадельни. Мальчик-с-пальчик определенно дойдет до степеней известных в политике или бизнесе, хотя я скорее вижу его в роли "капо" какой-нибудь мошной мафиозной семьи: отдать на заклание семерых девочек – пусть и злых, пусть и дочерей людоеда, – способен только тот, для кого кровь людская – что водица.
– Так-так, – улыбнулся незнакомец. – В колониальных войсках, говоришь, служил? А где именно?
Кто ж тебя знает, мало ли у Владычицы морей колоний по всему миру. Возможно – в Индии: грабил индусов, ходил в пробковом шлеме и привязывал несчастных сипаев к жерлам пушек, а потом командовал "Пли!" – что ж, такого рода закалка далеко не бесполезна у нас тут, на Огненной Земле.
– Ты удивительно похож на Оливера Твиста, – я вернулась к машине, запустила двигатель, включила печку, высунулась в окно: – Сэр, экипаж готов, кони сыты, бьют копытом.
Он уселся на свое место, развернул зеркальце заднего обзора, долго в него вглядывался, потом тихо, обращаясь скорее к собственному отражению, нежели ко мне, произнес:
– Оливер Твист, говоришь? Ну-ну...
Если бы я знала, насколько оказалась права.
На малой скорости мы сползали с пригорка, оставляя за спиной березы, кресты, груду мусорной травы, из которой торчит ржавый остов венка, увитый бледнолицыми бумажными цветами. Выехав на грунтовку, я остановилась, обернулась и помахала кладбищу на прощание:
– Пока. Мы скоро все здесь соберемся!
– Поедем... – он чиркнул зажигалкой, дал мне прикурить. – Ты, кажется, торопишься?
– Нисколько, – возразила я, глубоко затягиваясь. – Сто четырнадцать дней и... – я сверилась с часами, – шестнадцать часов – это большой срок.
– В самом деле, – согласился он. – Можно многое успеть.
Еще бы, милый друг Оливер, еще бы; сто четырнадцать дней даются человеку один раз – и прожить их надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно истраченные часы, минуты и секунды; эта мысль преследует меня с тех пор, как брат Йорген, с оттенком брезгливости берясь за тугую ручку тамбурной двери, торжественно и скорбно возвестил мне, что двадцать четвертого ноября сего года, в полдень все сущее на земле, все дышащее, цветущее, текущее, мыслящее поющее, кукарекающее, мычащее, произносящее парламентские спичи, поспевающее и увядающее, летающее и ползающее, талантливое и бездарное, гурманствующее и голодающее – словом, все без остатка прекратит свое существование; глупое человечество, сбившее в кровь ноги на каменистых путях тысячелетий, рухнет в белую пыль, испуская дух, – поскольку никак не двадцать третьего или двадцать пятого, а именно двадцать четвертого ноября придет к нам в гости светопреставление.
Благая весть настигла меня недели две тому назад, в семь часов пятнадцать минут утра, в момент шествования по проходу в вагоне электрички и в настроении несколько нервном: дядечка предпенсионного возраста с обширной розовой лысиной, отороченной вспенившимся младенческим пушком, сосредоточенно оттопырив влажную нижнюю губу, крайне неторопливо, часто увлажняя пальцы языком, коротко и стремительно, как у настороженного варана, выстреливающим изо рта, отсчитывал мне замызганные купюры, прежде чем вручить их точное количество в обмен на "Московский комсомолец"... До отхода поезда оставалось минут пять, а мне предстояло пройти еще, как минимум, три вагона.
Неисповедимы пути Господни – кто бы мог разглядеть их немыслимые изгибы в прошлом основательном времени, когда ты уводила взгляд от книги, прислоненной к массивной, профессорского вида настольной лампе и, передвигая его вдоль высоких книжных полок, взявших в тугое кольцо гулкое пространство читального зала научной библиотеки, подталкивала взгляд выше, к просторным окнам, как бы испрашивая там подсказки в разрешении смысла очередного темного, путаного абзаца; там, под сводами гигантской ротонды, прояснялись и наливались силой те крохотные звуки, что отлетают с длинных стволов: чье-то сдержанное подкашливание, юркнувшее в стыдливый кулачок, скрип столетнего переплета, разминающего старые кости в чьей-то руке, скороговорочное бормотание страниц, пущенных веером... Кто бы мог представить себе, что это текучее вещество звуков, умное и сосредоточенное, когда-то вступит в реакцию с щелочной основой новейших времен – и я выпаду из него в осадок здесь, в пахнущей потом дорожными бутербродами и немытым человеческим телом электричке.
Промышляю я газетами не так чтобы часто – лишь тогда, когда с утра бреду на кухню, осматриваю закрома и понимаю, что зубы мои, как говорят в народе, уложены на полку, а до зарплаты еще очень далеко.
В таком случае лучше вложить оставшиеся средства в газеты и ехать на вокзал. Спекуляция газетами – дело несложное, надо только с умом поместить капитал и соблюдать кое-какие маленькие хитрости, делающие профессию газетного фарцовщика относительно прибыльной.
Во-первых. Интеллектуалистику, распрысканную по столбцам "Независимой", "Сегодня", "Литературки" и кое-каких других газет с чопорной физиономией и опрокинутым в себя взором, будьте любезны, засуньте себе в задницу! – именно так, просто и бесхитростно, объяснял мне смысл информационных и культурных ожиданий граждан Огненной Земли Гена, обнаружив меня в "своей" электричке с кипой "солидной" прессы под мышкой.
Гена – двухметровый славный человек, напоминавший тяжелую боксерскую грушу, – осуществлял в поездах инспекторские функции, то есть вышвыривал вон всякого "чужака", неосторожно сунувшегося в застолбленную тем или иным кланом фарцовщиков электричку.
Меня он не трогает и даже слегка патронирует– несколько неуклюже, зато вполне надежно – и дает множество советов относительно потребительских качеств столичной прессы. Все интеллектуальные издания – говно, объясняет Гена; "Криминальная хроника", "Петровка-38", "Очень страшная газета" – тоже говно, но пожиже; на пикантную прессу, бильд-редакторы которых убеждены, что нет ничего на свете краше женских гениталий, тоже надежды мало – оральный секс в натуральную величину уже мало вдохновляет наш "самый читающий народ в мире". Лучше всего разлетаются "АиФ", "Вечерка", "Московский комсомолец". Маркетинговые откровения Гены безупречны, я точно следую его рекомендациям.
В вагоне, где меня настигла благая весть, наблюдался "эффект театрального кашля".
Доказано вековым опытом сцены: стоит в зале, накрытом давящим мраком, кому-нибудь поперхнуться, как по рядам прокатятся вспышки кашля. Примерно так же и в вагоне: если кто-то из первых рядов взял у тебя газету, значит, остальные, подчиняясь стадному инстинкту, разберут добрую половину твоей кипы. Если передовые индифферентны к твоим рекламным завываниям – можешь со спокойной совестью чесать в следующий вагон. Здесь первые три ряда проглотили весь мой "АиФ", остальных я докармливала "Комсомольцем". В четвертом я сбагрила газету по десятерной цене – тут соседствовал с парой миловидных барышень гражданин, как теперь принято выражаться, "кавказской национальности" (двадцать последних лет я катаюсь по Кавказским горам на лыжах, но о такой национальности не слышала) – он сунул мне крупную купюру не глядя и легким кистевым движением отклонил попытку дать сдачи. А потом меня застопорил розоволысый старичок с его ветхими рублями – деньги он извлекал из полиэтиленового мешка; в такую тару нищие в метро сбирают свои урожаи.
– Возьмите так! – махнула я рукой. – Дарю!
Только дилетант мог бы упрекнуть меня в бескорыстии: бесплатная раздача газет старикам и старухам тоже входит в арсенал "маленьких хитростей", один-два номера на поезд можно пожертвовать – это располагает публику.
Вместо традиционного "Дай Бог тебе здоровья!" я получила в ответ на благотворительный жест изумленное (или озадаченное) молчание; нижняя губа читателя К набухла и опустилась, добродушные глаза остекленели, розовый в белом пушку затылок напрягся; соседствующая со стариком мадам в поблескивающем, будто бы недавно смоченном дождем костюме "адидас", коренастая и плотная, как борец вольного стиля в полутяжелом весе, повесила на полпути к пунцовому рту руку с бутербродом: куски салями на хлебе громоздились, как груда подтаявшей, размякшей черепицы.
Я обернулась. В проходе между креслами парило ослепительное существо в снежно-белых одеждах. Его скорбное, красивое бледное лицо, будто бы освещенное изнутри, имело отчетливое сходство с лицом Кторова, сыгравшего в старом немом фильме роль мошенника на религиозной почве; про себя я тут же назвала человека в просторных и легких, фасоном схожих с долгополой монашеской рясой, одеждах "брат Йорген".
"Брат" медленно приближался, целясь прохладным взглядом мне в плечо; монотонно и бесстрастно он декламировал какой-то текст то ли заклинательного, то ли проповеднического свойства, требуя от очумевших пассажиров покаяния и отречения от мирской скверны в преддверии Страшного Суда.
Я моментально пришла в себя – такого рода ахинея в большом почете у туземцев с Огненной Земли; ничего, кроме сарказма, эти заклинания у нормального человека не вызывают.
Я подхватила сумку и прошла в тамбур.
Что-то я про эту белосаванную компанию уже слышала; заправляет там симпатичная женщина средних лет – то ли Христова сродственница, то ли вообще некая ипостась Спасителя – в этих тонкостях я не сильна. Кто-то мне говорил, что в прошлом она комсомольский работник. Что ж, вполне в духе времени: если все эти добротно откормленные ребята – еще вчера – с алым значком в лацкане – теперь сплошь банкиры и генеральные директоры акционерных обществ, то почему бы кому-нибудь из них не заделаться мессией?
Я как раз закуривала, когда в тамбур прошествовал "брат Йорген", и машинально прыснула; в голову мне пришла кощунственная мысль: интересно, он под рясой – голый? Или в трусах? А если в трусах, то в каких – пролетарских, семейных? Или в модных – какие продают в коммерческих ларьках?
"Брат Йорген" коротким, вертикально восходящим взглядом измерил все сразу: рост, кондиции фигуры, степень греховного падения; взялся за дверную ручку.
– Эй, брат! – окликнула я.
Он заинтересованно посмотрел на меня.
Я спросила, когда точно грянет конец света – надо знать, дела завершить, долги содрать и хорошенько напоследок отдохнуть.
Он укоризненно вынес вердикт: я не верю в приход Страшного Суда, который настанет 24 ноября сего года, однако у меня еще есть шанс очиститься от скверны.
Я хотела было ему возразить, что я уже вполне очистилась – от уверенности в себе, веры в людей, от денег, планов на будущее, нормального питания, одежды; я очистилась настолько, что вот эти джинсы и есть последнее, чем я могу прикрыть задницу; однако воздержалась.
– Знаешь, брат, – сказала я, втаптывая окурок в грязный заплеванный пол, – мне кажется, вы со сроками что-то напутали. Мы уже давно переехали в какие-то параллельные астральные миры... Давно, года два назад.
Он не ответствовал, дернул ручку и двинулся дальше – вдохновлять немые сцены в соседнем вагоне...
– Так куда мы теперь? – спросила я у попутчика, притушив сигарету в пепельнице, – Туда? – и указала на узкую дорогу, уползающую в глубины бескрайнего картофельного поля. – Огородами – и к Котовскому?
Он пожал плечами: давай огородами, только, ради Бога, не надо к Котовскому.
– Чем тебе не нравится народный герой?
– Не люблю лысых.
Напрасно: среди них попадаются милые люди, как тот розовый старичок с глазами сказочника из электрички, которому досталась бесплатная газета. Кажется, я сыграла с ним злую шутку и впопыхах сунула в руки газетку "ЕЩЕ", гнилую, вонюче-порнографическую – у меня был один экземпляр в сумке; перебирая ее содержимое после ухода "брата Иоргена", этой газетки, где на первой странице запечатлена девушка в чудовищно откровенной, разваленной позе, я не нашла.
Наконец-то мы выбрались на прочный асфальт. Цивилизованное дорожное покрытие после мытарств на штормовой российской грунтовке успокаивало. Меня немного клонило в сон.
Сейчас бы освежиться чашечкой кофе – о пагубности этой мысли я догадалась слишком поздно, когда синдром Корсакова опять дал о себе знать:
...и ближайшие десять минут смотреть в сторону попутчика я избегала.
День потихоньку прояснялся, подвижное небо было высоко и неровно, все в мелких кудряшках мутноватой облачности.
Мы двигались по извилистой дороге, изобиловавшей глухими поворотами и совершенно заплутавшей в обширном поселке, – то и дело мне приходилось тренировать тормозную систему Гакгунгры. Дворы вдоль дороги сплошь крепкие, основательные, дома каменные, гаражи кирпичные, сараи – и те их бруса: крестьяне живут себе и не тужат; станут они кормить нас, худосочных и бесполезных горожан, как же! Сами съедят свои окорока, сметаны, свеклы и укропы; без "Амаретто" и порнухи – кажется, кроме этих продуктов, город уже ничего не может поставить в деревню – как-нибудь перетерпеть можно...
Миновав поселок, мы вторглись в просторный и прямо-таки шишкинский пейзаж, очень воздушный и совершенно беззвучный – вот разве что поскрипывал, наверное, ствол сосны, выпрямившейся среди немыслимого оттенка поля, где многочисленные влажные цвета были мелко нарублены и винегретно перемешаны.
Сосна занимала положенное ей место в левом углу композиции. Наискосок от нее, у обочины, бездарно модернизируя классический пейзаж, стояли "жигули": лицом к нам, но на правой стороне дороги.
– Не стоит! – быстро среагировал мой попутчик на то, что я притормаживаю.
– Там что-то стряслось! – отмахнулась я.
– Не стоит, – упорствовал он, но я пропустила его совет мимо ушей.
Их было трое. Один лежал на асфальте в нехорошей, какой-то "мертвой", позе, второй стоял перед ним на коленях, третий выбегал на дорогу и с бесстрашием парламентария размахивал чем-то бельм, кажется, полотенцем.
– Газуй! – тихо, но требовательно произнес мой попутчик.
– Куда?!
– Прямо на него... Он. отскочит в последний момент.
Парламентарий стремительно приближался; у него были крепкие нервы – во всяком случае, крепче моих – я затормозила, вышла, склонилась над мертвым.
– Господи, что тут у вас?
"Мертвый" приоткрыл правый глаз и сально улыбнулся.
Все произошло быстро и просто. Мертвый пружинисто вскочил, коленопреклоненный последовал его примеру.
Я тупо смотрела на асфальт, где только что лежал беспамятный человек и спиной чувствовала: в моем тылу происходит что-то нехорошее.
Я медленно обернулась, чувствуя, как справа налево, по мере кругового движения, на меня наплывает ощущение немоты – той самой, которая окатывает тебя в кошмарном сне, когда хочется орать и звать на помощь, но вместо членораздельной речи на губах созревают какие-то неповоротливые и тяжелые, точно груда камней, звуки.
Так я и стояла, разинув рот и беспомощно мыча.
Они выстроились перед Гакгунгрой в позе белокурых бестий из гитлеровского кино – расставив ноги и заведя руки за спину; на вид им было лет по двадцать; кожаная с ног до головы экипировка, пробитая заклепками – должно быть, в часы досуга они полируют металл зубным порошком.
Не хватало им только эсэсовских фуражек с черепом вместо кокарды.
Точно по команде они опустили руки.
"Мертвый" был вооружен монтировкой, "парламентарий" – стальным прутом, коленопреклоненный – приземистый, коренастый, длиннорукий, словом, типичный житель Огненной Земли, где в джунглях водятся кинг-конги, – что-то сжимал в кулаке.
С коротким щелчком из кулака высунуло нос голубое лезвие.
– Девушка! – тоном коверного клоуна обратился ко мне "мертвый". – У вас есть в багажнике запаска?
Я скорбно кивнула. Есть, совсем свежая, месячная - наверное, не более месяца назад ее сперли с завода и продали Алке на блошином авторынке.
– Отдайте ее нам, – вежливо попросил он. – А то у нас резина лысая.
Врет. Резина у них отличная и притом высочайшего качества: я успела заметить "мишленовское" клеймо на скате – мне бы такую резину, да на все да на четыре колеса.
Направляясь к багажнику, я заметила: мой попутчик безмятежно сидит на своем месте и развлекается тем, что подталкивает чертика, висящего на зеркальце, – чертик болтается туда-сюда; "Вот сукин сын! – подумала я, – с меня, похоже, сейчас снимут скальп, а он развлекается с брелоком".
Колесо я отволокла к ним в машину. В багажнике лежали еще три. Сейчас они полностью укомплектуются и направятся на авторынок толкать товар; и какая-нибудь Алка купит у них колесо втридорога – только затем, чтобы на какой-нибудь пустынной дороге безвозмездно вернуть товар – какой очаровательный круговорот колес в природе! Наверное, весь наш рынок вращается в рамках этого круговорота.
"Парламентарий" тем временем ощупывал переднее колесо Гактунгры.
– Эй, ребята, вы что? – заорала я. – Как я поеду дальше?
"Мертвый" картинно развел руками – се ля ви! – но тут внебрачный сын кинг-конга подал голос:
– А ты не поедешь!
Нельзя доверять человеку голос такого угрюмого свойства и низкого сорта – окружающие рискуют остаться заиками.
– Тащи домкрат! – весело прокомментировал реплику товарища "мертвый".
– Может, мне сразу и могилку выкопать? – спросила я; на самом деле мне было не до шуток.
"Парламентарий", набросив свой белый флаг на плечо, подошел к нашей машине и постучал ладонью по крыше:
– Дружочек, пойди, пожалуйста, прогуляйся. Мы с девушкой сейчас пойдем в овсы, – он указал в сторону поля, смерил меня внимательным раздевающим взглядом и добавил: – Развлечься. А ты воздухом подыши, вон какой бледный.
Они опять, как и в прологе к нашему знакомству, выстроились в рад – только на этот раз перед своим "жигулем" – и приняли позу белокурых бестий.
Я слышала, как мой попутчик испускает вздох сожаления и выбирается из машины. Что произошло дальше – не знаю. Глаза у чернокожаных хлопцев стали расширяться. Потом за моей спиной раздался сочный, плотный "чтоп"! – качеством и объемом этот звук напоминал вскрик бутылочного горлышка, исторгающего из себя пробочный кляп.
Левое колесо автомобиля вздрогнуло и, предсмертно шипя, испустило дух.
Потом ребята с большой дороги дружно, как по команде, улеглись на землю. Секундой спустя – слишком быстро развивались события – я поняла, что команда все-таки прозвучала; она была произнесена совсем негромко, скрытным каким-то, спрятанным, как подсказка из суфлерской раковины, приглушенным голосом:
– На землю.
Я уже освоилась с тем, что мой попутчик изъясняется тихо, не напрягая голосовых связок. Однако в этой короткой реплике звучали свежие интонации.
– Руки на затылок!
Послушно исполнив команду, я сделала полуоборот назад – как физкультурник на зарядке.
Попутчик грустно улыбнулся и покачал головой.
Я наконец увидела предмет, который он таскал под плащом, придерживая рукой, спрятанной в кармане.
Это было ружье.
Он тронул меня за плечо: "Это к тебе не относится!", а ребятам миролюбиво посоветовал: "Лежать смирно. Одно движение, и..."
Не спеша прошествовав к распластанному на асфальте обществу, он носком ботинка, несколько брезгливо, отфутболил в мою сторону образцы холодного оружия.
– Прибери это... В хозяйстве пригодится.
Я выбрала стальной прут; я русский человек, и с молоком матери впитала основательную народную мудрость: против лома нет приема.
Он прохаживался в опасной близости от уткнувшихся лицом в землю злоумышленников. Коснулся стволом обезьяноподобного.
– Встать.
Тот поднялся.
– Без лишних телодвижений! – он упер дуло парню под ухо; наверное, это профессиональный прием; в полицейских боевиках герои именно сюда тычат свои черные пистолеты, под ухо.
– Так, – сказал попутчик. – Теперь ты немного займешься физкультурой, – он отступил на два шага. – Руки опусти, затекут.
Потом я наблюдала, как потенциальный партнер, с которым я должна была бы, уступая грубой силе, заниматься любовью в овсах, перегружает все четыре колеса из багажника своей машины в Гакгунгру.
– Тащи домкрат.
Парень принес.
– Слушай меня внимательно... – он говорил спокойно и монотонно, как будто зачитывал инструкцию о пользе мытья рук перед едой. – Ты сейчас на этой машине заменишь всю резину. Три ваших колеса, насколько я понимаю, в полном порядке. Пробитое оставишь себе. Снятые с нашей машины колеса уложишь на заднее сиденье.
Трудно сказать – как я среагировала.
Уголком глаза я видела: "парламентарий" потихоньку убирает ладони с затылка, приподнимается. Вот он уже стоит на четвереньках...
Я с размаху хватила его стальным прутом по плечу.
Наверное, я сломала ему ключицу – он рухнул лицом вниз, дико завыл, подобрал под себя раненую руку и остался так лежать в неловкой скрюченной позе – и выл, выл, выл...
Попутчик подарил мне долгий оценивающий взгляд, в котором я прочла примерно следующий текст: "От девушек с такими ухватками стоит держаться подальше. Или нужно заставить их носить на груди металлические таблички, которые вешают на столбах линий электропередач в порядке предупреждения – "Не влезай, убьет!"
Если он предположил нечто такое, то отказался от истины неподалеку – недаром же добрый десяток лет я живу вместе с Роджером. Металлическая табличка, изображающая череп, висит у моего изголовья – Роджер весело скалится и предупреждает всякого, кто рискует покуситься на мою девичью честь: "не влезай – убьет!"
Процедура переобувания Гактунгры в новую резину заняла немного времени. "Его бы в компанию механиков формулы-1", – подумала я, наблюдая, как разбойник проворно управляется с делом.
– Хочешь, составлю тебе протекцию в конюшню "Вильямс-Рено"? – сказала я ему на прощание. – У меня там знакомый. А что, по миру поездишь: Монте-Карло, Монако...
Он окинул меня взглядом мясника, собирающегося разделать коровью тушу согласно малоаппетитной схеме, какие когда-то висели в мясных отделах магазинов; корова на этих полотнах казалась сшитой из разноцветных лоскутков, и мясник точно знал, в какой из швов ему надо садануть топором.
Отъехав, я глянула в зеркальце: парень исступленно колотил кулаками по крыше безногого автомобиля.
– А что, это так теперь в приличном обществе принято – таскать под плащом ружья? – спросила я.
Он засмеялся: нет, не принято, конечно, просто так сложились обстоятельства; он охотник, заядлый... Дал приятелю на время свое ружье, тот на уток собирался сходить; договорился в охотхозяйстве – хотя у него ни охотничьего билета нет, ни, естественно, разрешения на хранение оружия. Приятель этот человек взбалмошный – вчера мой попутчик пожалел о своей слабости, поехал к нему на дачу, ружье забрать. Хозяина на месте не оказалось, его мамаша выдала ружье – правда, без чехла, чехол приятель куда-то засунул. Искали-искали, но так и не нашли. Пришлось забрать так. Ну, а на обратном пути он поймал гвоздь на колесо.
– Остальное ты, вроде, знаешь, – заключил он.
– Так ты охотник... – грустно протянула я.
– А что, это плохо?
Все это время он сидел вполоборота ко мне – изучал.
– Ну, что смотришь? – огрызнулась я. – Интересно?
Ничего интересного: девушка тридцати с небольшим, рыжая, рост сто пятьдесят восемь, вес сорок пять килограммов, грудь маленькая, образование высшее гуманитарное, русская, беспартийная, место работы -профсоюзная библиотека, семейное положение – разведена, место прописки – Агапов тупик, дом десять, квартира двенадцать – в самом деле ничего интересного, таких маленьких беззащитных зверьков сейчас много расплодилось в лесах Огненной Земли...
– А почему Белка? – спросил он после паузы.
Это с детства... Когда-то под нашим старым добрым небом так звали маленькую девочку, она давно выросла, а прозвище осталось; скачет с ветки на ветку, питается дарами природы, орехами да сушеными грибами и старается держаться подальше от людей – среди них встречаются охотники: уверенные в себе мужики. И меткие – бьют белку прямо в глаз, чтобы шкурку не попортить.
"Город принял!" – был в свое время такой популярный милицейский роман; если я не ошибаюсь, в заглавие выплыла одна из уставных реплик: заступая на дежурство по столице, герой докладывает начальству – именно этой фразой – о том, что теперь рука его на пульсе нашего опасного и не вполне здорового мегаполиса.
Именно в этом выражении я бы оценила состояние столицы Огненной Земли в день, когда грянула денежная реформа; город определенно принял – основательно и с утра пораньше: водки и пива, ликеров и сухого, коньячка и шампанского, "Черри" и "Салюта", спирта, "Лимонной", "Чинзано", "Мартини"; город потрошил ларьки, торопясь вложить бесполезные деньги в полезные напитки. Похоже, народ отмечал прощание с каноническим ленинским профилем тотальной пьянкой, салютуя вождю чпоканьем пробок и журчанием огненной воды всех цветов радуги, – так что пробка на Садовом кольце меня ничуть не удивила.
На проезжей части творилось что-то невообразимое – бурлящее, клокочущее, поразительно напоминавшее сцену штурма Зимнего из старых фильмов.
– Рабочий тащит пулемет, – сказала я, выворачивая на пешеходный тротуар; однако продвинуться вперед нам так и не удалось – путь был перегорожен грузовиком.
Я выключила движок и закурила.
– Какой рабочий? – спросил мой попутчик.
О, этот поэтический персонаж есть один из ритуальных тотемов коренного населения Огненной Земли; стих, в котором действует ритуальный рабочий, напоминает мне гвоздь-сотку, по самую шляпку его вколотили в наши головы еще в школе – так мы и ходим с пробитыми железной занозой черепами, и никакими...
...и никакими французскими мылами, кремами, едкими притирками и благовонными маслами эту пробоину не заретушируешь: в один прекрасный момент мы репрессируем необъятное лексическое население нашего языка, сохранив жизнь одному единственному его представителю, – "Долой!" Рабочий наш седоус, в кепке, в ладном пиджаке, у него умное основательное лицо, теплые и одновременно (как бы с изнанки) очень строгие глаза – оттиски этого лица я многократно встречала в фильмах про большевиков (седые усы – в обязательном порядке) или же на плакатах, иллюстрирующих тезис о преемственности поколений. Он – правая рука в отлете, левая крепко держит длинноносого "максима" то ли за шкирку, то ли за фалды – стремится вдогонку за своей летящей вперед ладонью; лицо его полуразвернуто к зрителю – наверное, он призывает отставших догонять, вливаться в ураганную волну черных матросских бушлатов и серых рабочих тужурок и скорее выплеснуться на Дворцовую площадь.
– А где же пулемет? – спросил попутчик, вглядываясь в кучу-малу, клубящуюся на дороге.
– Где-то должен быть! – уверенно ответила я. – Сказано же: "рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой: долой – царя, господ – долой, помещиков – долой!"
В центре композиции в самом деле присутствовал персонаж, пластически точно имитировавший позу поэтического рабочего – только это был на сей раз пожарный в тяжелой робе и защитном шлеме, он волочил жирную пожарную кишку.
– В самом деле, дурдом какой-то, – отметил он. – И на штурм Зимнего похоже...
Этот гигантский трейлер с прицепом я заметила на одном из светофоров. Он рассеянно проскочил на желтый сигнал, исторгая из себя клубы черного выхлопа – слишком густого и темного – как будто залил в баки не солярку, а сырую нефть. Он торжественно волочил за собой этот сизый шлейф, но чем дальше, тем больше дым густел и напоминал вату... Он горел!
Он чадил, как дымовая шашка. Наконец, водителю, наверное, стало совсем тепло в кабине – он резко и рискованно затормозил; прицеп занесло, и дымящийся монстр перегородил проезжую часть.
В течение нескольких минут этот цирковой номер собрал полный аншлаг: никак не меньше половины пешеходов Садового собралось здесь – поглазеть. Из кабины вывалился низкорослый щуплый молодой человек, отбежал метра на три и очень нелепо окаменел, затвердел на мгновение в позе копьеметателя, собирающегося послать снаряд метров на восемьдесят.
Обмякнув, он начал медленно приседать – ему не хватало разве что переминаемой в руках газетки, чтобы пантомимически точно воспроизвести человека, неторопливо, в предчувствии скорого блаженства, принимающего характерную "позу орла".
Усевшись, он тонко, пронзительно завыл.
В ответ на призывный вой появился шофер – молодой опять-таки человек в кожаной куртке и бейсбольной кепке, в тулье которой расправляла широкие крыла белая гербовая птица американских, скорее всего, кровей. В его меланхоличных движениях присутствовало то немыслимо отстраненное от всего окружающего мира начало, которое управляет движением добротной американской челюсти, массирующей сочный комок, скажем...
...все вокруг может рухнуть, взорваться, рассыпаться на куски, однако эта самовлюбленная челюсть методично будет заниматься своим делом. Сбив кепку на затылок, он поплевал на ладони и отворил задние шлюзы трейлера – оттуда низвергнулся густо-фиолетовый дым.
Молодой человек, сопровождавший груз, ринулся в чрево кузова и очень быстро вернулся: с вываленным языком и обильно слезоточащими глазами. Он с трудом удерживал на вытянутых руках шаткую конструкцию из картонных, со слюдяным тентом, коробок – и не удержал...
Верхняя рухнула на землю, слюда лопнула.
– Ну и цирк! – воскликнула я.
С ревом и воем подкатили пожарные – вскрыв своим краснокожим фургоном бока, они потянули из брюшин пожарные кишки и селезенки. В черный зев кузова шарахнули струи разлетающейся хлопьями пены.
Очень неточно трактует нашу жизнь известная песня: "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!" – вожаки всегда найдутся.
Сыскался он и на этот раз. Впечатления буйного он, правда, не производил: средних лет мужичонка пограничной наружности; с одинаковым успехом его можно было принять за станочника высокого разряда или за инженера: неяркая клетчатая рубаха, брюки от "Москвошвеи", в авоське пакеты то ли с молоком, то ли с кефиром.
В коробках было баночное пиво.
Одна из банок подкатилась к его ногам. Некоторое время он недоуменно взирал на аппетитно поблескивающий, расфуфыренный подарок судьбы. Нагнулся. Поднял. Взвесил в руке. Дернул колечко запорного клапана. Отпил глоток.
Секунду в его лице стояло расплывчатое выражение то ли наслаждения, то ли тоски – с таким видом, слегка забывшись, люди ковыряют в носу.
Если цирк с известным допуском и кое-какими оговорками можно причислить к искусству, то последовавшие за глотком пива события развивались строго в русле тезиса "Искусство принадлежит народу!"
Мужичонка, выпустив из рук авоську, ринулся к трейлеру – его порыв стал именно той искрой, из которой возгорается пламя. Народ со всех сторон – справа и слева, сзади и спереди, с неба и, кажется, даже из-под земли – обрушился на этот начиненный пивом фургон. Мгновенно возникла сюрреалистическая мешанина рук, спин, крика, свиста, парящих в дыму ящиков; и вся эта подвижная композиция была пышно – точно щеки клиента под помазком брадобрея – декорирована густой, шевелящейся пеной.
Кроме пива, народу принадлежало, как выяснилось, еще кое-что – синдром Корсакова проснулся во мне, и очередной рвотный комок подкатил к горлу:
...мой попутчик усмехнулся (я по обыкновению втянула голову в плечи), выждал, пока приступ меня отпустит, и возразил:
– Это не "Кодарнью". Если не ошибаюсь, это "Деляпьер".
Какая разница... Главное, что его много.
– Как думаешь, – толкнул он меня под локоть, – этот парень не умрет?
– Вряд ли... – я проследила направление его взгляда и добавила: – Разве что взлетит в небо, как воздушный шарик. От избытка газов.
Обменивались мы мнениями по поводу одного из удачливых участников штурма Зимнего. Это был сельского вида мужчина, сухощавый и добролицый.
Сколько тяжелых и скользких шампанских бутылок в состоянии унести человек?
Этот унес восемь. Отдалившись от кучи-малы, он уселся на тротуар, облокотился на стену дома, вытянул ноги и приступил к дегустации. Пейзанин методично производил залпы и пил. Он пил неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой, почти не отрываясь от горлышка. Дух он переводил только в перерывах между салютованиями.
Я толкнула дверцу машины.
– Хочу быть с народом, – объяснила я свои намерения. – Пойду стырю пару ящиков. Ни разу в жизни не пила испанского шампанского.
Попутчик выразительно дернул плечом – я вспомнила про ружье, захлопнула дверь, закурила.
– В таком случае, что шампанское будет с тебя причитаться.
Он с улыбкой кивнул.
Я резко подала задом и опрокинула лоток с книгами. Торговец – седовласый человек с печальными глазами безработного доцента – бросился собирать свои фолианты: большие, тяжелые, в однотонных переплетах – похоже, он специализировался на продаже словарей.
Ну и слава богу, драться с интеллигентным человеком у меня охоты не было.
Пятясь назад, расталкивая истеричными сигналами пешеходов, мы с грехом пополам дотащились до ближайшего переулка.
Переулок, которым я собиралась бежать от революционно настроенных масс, был узок; проезжую часть теснил мощный бетонный забор, огораживающий стройку.
– Карамба! – выкрикнула я. – И тут затор!
Пробку создавали две "девятки" цвета сырого асфальта. Водители вели мирную беседу, не обращая внимания на то, что с обеих сторон скопились приличные "хвосты": ни развернуться, не объехать "беседу" в этом переулке возможности не было.
Одного из собеседников мне было хорошо видно – килограммов сто двадцать живого веса, скотская рожа, черные очки – он стоял, облокотившись на открытую дверку автомобиля, в его руке тлела сигарета; второй из машины не вылезал, опустил стекло и вывалил наружу затянутый в кожу локоть – дописать его внешность большого труда не составляло, он определенно из семейства кинг-конгов, которые во множестве водятся в лесах нашей Огненной Земли.
Мы стояли уже минут пять – семь.
Кинг-конг в очках прикурил новую сигарету и, кажется, забыл про нее – медленный плавный дымок напоминающий воздушный макет перевернутой Шаболовской телебашни, вырастал из мощной короткопалой лапы.
Моя беда в том, что я слишком остро чувствую деталь.
Скорее всего, я бы осталась безучастной к происходящему, если бы не этот сигаретный дымок; его медленное движение бесило меня все больше и больше.
– Они тут до второго пришествия могут дымить! – я собиралась выскочить из машины, однако попутчик удержал меня за локоть.
– Сядь... – сказал он, по обыкновению, тихо.
– Какого черта! – я дернулась, пробуя высвободиться, однако безуспешно; хватка у моего знакомца, как выясняется, железная – наверное, синяки останутся на руке. – Что это вообще за рожи?
– Насколько я понимаю... – он присмотрелся к горилле в очках, – это палаточник.
Торгаши? Торгашам приспичило философствовать посреди дороги, а я должна ждать, пока они иссякнут?
– Да нет... Охрана.
Понятно... Толстомордые обезьяны из этого племени вечно толкутся у ларьков с колониальными товарами. Как только я доберусь до своей библиотеки, первым делом разыщу собрание каких-нибудь марксистско-ленинских сочинений, сосланных в подсобку на поселение. В этих бескрайних текстах, густо засоренных стилистическими плевелами, надо будет разыскать каноническое определение класса; занятная же метаморфоза произошла в классовой структуре нашего туземного населения: прежние гегемоны потихоньку уплотнились в тонкую и зыбкую рабоче-крестьянскую прослойку, сдавленную глыбами новейших гегемонов: торгашей и охраны. Других классов у нас просто не осталось. А где гегемоны, там и диктатура – тут классики как в воду глядели.
Кто-то не выдержал и вякнул. Сигнал подали зеленые "жигули", стоящие вторыми в моей колонне. Очкастый недоуменно поднял физиономию, выискивая нарушителя спокойствия.
Он на секунду исчез в салоне и тут же возник – с монтировкой в руке; медленно и лениво гегемон прошествовал к зеленой машине, похлопывая монтировкой по тяжелой ладони, обошел ее, попинал носком ботинка скаты. Первый удар пришелся в лобовое стекло – на тротуар брызнуло немного стеклянной крошки, основная масса хлынула в салон, прямо на водителя.
Отступив на пару шагов и склонив голову к плечу, кинг-конг любовался делом рук своих – так скрупулезный пуантелист, поставив в холст крошечный мазок, проверяет его точность. Впрочем, художник редко курит за работой – в отличие от гегемонов: он вынул из кармана куртки пачку и я поперхнулась...
...а потом, закусив губу, я тупо наблюдала за тем, как этот мордоворот, выбив всё стекла и фары и напоследок шарахнув пару раз по крыше, неторопливо возвращается к своей машине, еще с минуту о чем-то беседует с приятелем, точно извиняясь за вынужденную отлучку, а потом они медленно, торжественно трогаются.
"Тоже мне охотник, – подумала я, – мог бы и вмешаться..."
Кажется, он угадал ход моих мыслей.
– Светиться в городе с ружьем? Шутишь, что ли?
Я расхохоталась.
"Светиться" – чудное словечко, вчера я на него наткнулась в мемуарах какого-то нашего легендарного рыцаря плаща и кинжала; исследовала Алкин чердачный архив и наткнулась на эти воспоминания в одном из журналов; супершпион повествовал о том, как он "засветился" в первый же день своей карьеры, где-то в середине двадцатых годов; прибыл ночным поездом в Берлин, он направлялся в гостиницу и страшно волновался на предмет того, как впишется в чуждую всякому советскому человеку среду – языковую, бытовую, поведенческую, – а навстречу ему шествовал какой-то гражданин, явно обрадованный присутствием в вымершем городе хоть одной живой души; "Сейчас будет мой первый экзамен", – думал разведчик; когда они поравнялись, гражданин на чистейшем русском языке осведомился у рыцаря плаща и кинжала: "Слушай, друг любезный, ты, часом, не знаешь, где тут можно поссать?" – на что свежеиспеченный тевтон, не моргнув глазом, и опять-таки на чистейшем русском языке ответствовал: "А ты иди в любую подворотню и ссы на здоровье!" И только после того, как господа раскланялись, нашему штирлицу пришло в голову, что он, кажется, немного "засветился".
Мы тронулись. Водитель зеленых "жигулей" – в профильном очерке его лица было что-то от попугая – стоял возле своей покалеченной, безглазой машины и тупо следил, как по бетонному забору осторожно, рассчитывая точность каждого шага, шествует серая уличная кошка; и я сглотнула слюну...
...по счастью, мне удалось подавить в себе очередной выброс культурной информации,
Он жил в Марьиной Роще.
На скамейке у подъезда шестнадцатиэтажной бетонной башни смирно сидели три старика с пустыми глазами.
– Так я пошел? – неуверенно произнес мой охотник.
– Иди.
Мы молча посидели в машине еще какое-то время – не знаю, сколько: отрезок длиной в выкуренную сигарету.
– Пока. Спасибо тебе.
– Пока, – вяло отозвалась я.
Старики у подъезда очень напоминали аксакалов из "Белого солнца пустыни": те же позы, та же обездвиженность, тот же холодный отблеск вечности в глазах... С удивлением я поймала себя на мысли: мне не хочется, чтобы он уходил.
Он ушел, а я осталась сидеть – трудно сказать, что я тут высиживала. Из состояния прострации меня достал негромкий звук – тук-тук-тук! – костяшкой пальца он постукивал в стекло. Я кивнула: заходи!
– Я видел из окна. Что-то с машиной?
– Не заводится... Выкобенивается старушка, – я ухватилась за подсказку и повернула ключ зажигания – Гакгунгра предательски завелась с пол-оборота.
Если бы маэстро Решетникову вздумалось воскреснуть и в современной манере исполнить свое классическое полотно "Опять двойка", то лучшего натурщика для воплощения темы стыда и раскаянья ему бы не найти.
– Я же обещал починить тебе стекло... – он настолько просто и естественно преодолел неловкость паузы, что мои пылающие щеки мгновенно остыли. – Поехали. У меня есть знакомый на станции техобслуживания.
Станция техобслуживания? Ну нет, там бензином воняет, маслом, соляркой, и мужики с сальными глазами тебя ощупывают взглядом, намекая на расплату в "мягкой валюте".
– Нет, – сказала я. – Мы поедем к Панину. У него золотые руки и большой жизненный опыт. В свои тридцать пять лет он успел поработать учителем в школе, корреспондентом в газете, мойщиком трупов в морге, кормильцем стариков в больнице и тапером в борделе.
– Какой матерый человечище! – усмехнулся охотник. – Он что, твой знакомый?
Знакомый? Да нет... Он наставник. Он был моим заботливым наставником в античной литературе (недолго, в течение двух семестров), горных лыжах (опять-таки недолго, всего один сезон) и в любовных утехах (долго, лет, наверное, десять, пока я не вышла замуж). Теперь милый друг детства никем не работает. Он хорошо разбирается в машинах – у него отец был шофером в каком-то номенклатурном гараже. Панин в два счета подлечит Гактунгру. Так что мы сейчас путь держим к нам, в Агапов тупик.
Панин, по счастью, оказался дома. Поломку он ликвидировал быстро.
– Куда мы теперь? – спросил охотник, когда мы выезжали со двора.
Тут недалеко... Мы едем в Дом с башенкой, проведать Ивана Францевича: он совсем старенький, газеты не читает, радио не слушает – наверняка весть о том, что у нас грянула денежная реформа, прошла мимо него.
– Поехали, охотник! Я покажу тебе наше старое доброе небо. Оно нарисовано на потолке в Доме с башенкой.
Дом с башенкой – алмаз в нашей ржавой короне, где все плебейские стразы тускло бликуют; Дом с башенкой – камень благородный, хотя и очень причудливо огранен. Несет он в себе примету незаконченности, как будто создатель наш, наш скромный ювелир, сидел себе за рабочим столом, утомительно долго шаркая грубым напильником, вытачивал фасады и дворы нашего Агапова тупика; занялся, наконец, огранкой настоящего камня – да вот в разгар точного, скрупулезного труда отчего-то зевнул... Откинулся на спинку стула, потянулся, приподнял утомленную бровь, выронил из глазницы черное бельмо ювелирной лупы, и, запахнув полы шелкового халата, отправился, предположим, на кухню – сварить себе кофию; сготовил, серебряной гильотинкой кастрировал гаванскую сигару, закурил да и задремал себе у окна... А проснувшись, засмотрелся в какой-то другой угол верстака, позабыл про нас, принялся вытачивать другие пространства; может, Сретенку полировал, или Лубянку гранил, Арбат осторожно шлифовал – так и остался Дом с башенкой незавершенным... Должно быть, смутные готические фантазии тревожили нашего ювелира за работой – и ожили под резцом, вычертились узкие бойницы окон, тонкие, летящие вверх линии фасада, глубокая ниша над подъездом, где встал на вечный пост Ричард и оперся локтем на рукоять огромного меча. И почему-то созрела в правом углу башенка; она эркером обнимает угол дома чуть выше уровня четвертого этажа и походит на глуповатую туру. По всему судя, дом должен бы иметь иной размер, иную форму: скажем, подъездов должно быть два – и башенки тоже две; однако через три окна от дозорного Ричарда готические линии резко, бездарно обрываются, точно рассеченные палаческим топором, а вторая половина дома обрушилась с плахи, покатилась куда-то – то ли на Сретенку, то ли на Чистые Пруды; и оттого Ричард так угрюм, тяжел в своем одиночестве, и даже не замечает, что его шлем и латы в отвратительной коросте голубиного помета... Он отшагнул в глубь полукруглой ниши; косой свет скользит по бетонным доспехам, оттеняет смотровые пазы забрала, острые холмики локтевых и коленных суставов и подчеркивает тяжесть огромной десницы в боевой перчатке; знакомы были дети под нашим старым добрым небом со вкусом свинцовых чернил Вальтера Скотта – и потому каменное чудовище, охраняющее Дом с башенкой, конечно же, звалось Ричардом, и в холодной толще бетона стучало для них львиное сердце.
Смотри, охотник, выслеживай: видишь, по краю сквера бредет маленькая рыжая девочка – что-то в ней есть от бельчонка, не правда ли, – маленького безобидного зверька, заблудившегося, потерявшегося в Агаповом тупике; и какой же у нее несчастный вид – она водит... Играли дети в прядки, вставши в круг, считались для начала, и рука разводящего отмеряла доли этого круга: Вышел. Месяц. Из тумана. Вынул. Ножик. Из кармана. Буду. Резать. Буду. Бить. Все равно. Тебе...
И ей выпало водить.
Она давно водит, никак не меньше часа: товарищи по игре попрятались, и она никого не смогла отыскать, Теперь бредет краем сквера и не замечает, что щеки ее влажные от слез – какая досада! отчего она так неудачлива в детских играх? – и вдруг чувствует, как на плечо ее опускается чья-то рука. Она поднимет глаза и увидит невысокого человека в строгом черном костюме – он знаком бельчонку: с этим учителем они встречались в школьных коридорах. "У вас какая-то беда?" – спросит учитель и, взяв за руку, поведет ее к Дому с башенкой. Идти ему трудно: он тяжело приволакивает правую ногу в черном, огромном, напоминающем спелую грушу ортопедическом ботинке, на ходу он раскачивается, как будто проваливается через шаг в ямку...
Входи, охотник, в этот подъезд – здесь так прохладен и спокоен притененный воздух. Наверное, этот воздух, впущенный однажды в просторный холл с мраморной лестницей, которую стерегут две каменные вазы по бокам, тут так и остался. Множество ветров неслось мимо тяжелой входной двери с круглым окошком, в толстое стекло которого проросли нити бронзового К узора, но он, этот древний первозданный воздух, почему-то сохранился – не выветрен. И вкус в нем свой, и цвет – бледно-рыжий – как фоновый тон фотокарточек, впаянных в жесткую картонку с золотым тиснением, – таких много хранится у бабушки.
Видишь, охотник, слева от лестницы – уютная, в три четверти человеческого роста, полукруглая ниша? Внутри ее живет некое таинство пустоты – не так ли? Вот именно, таинство пустоты: здесь кто-то когда-то определенно был. Наверняка. И конечно же, мраморный. Возможно, это мраморная греческая девушка, захваченная художником в момент летящего шага и насквозь, до самой мелкой мраморной прожилки, пропитанная воздушной энергией этого вольного движения. Она застигнута врасплох, обращена в камень в тот момент, когда тяжесть тела приходится на носок, и этот крошечный носок есть все, что связывает ее с земной твердью, а все остальное – уже не здесь, уже в полете: тонкие руки, отброшенные назад, хрупкие плечи, девичьи бедра, облитые тончайшей тканью туники... еще секунда, еще грамм энергии – и девушка взлетит... Хотя, возможно, и не она занимала нишу. А вот, скажем, легионер. Если он был тут, то в нем совсем иная кровь, иной вязкости и тяжести; он, может быть, зашагнул в нишу после долгого перехода по белой раскаленной, гремящей бранным железом боевой дороге; он жаждет, горло его пересохло от пыли и зноя, и весь он в тяжелом липком поту. Пока войско устраивается лагерем, раздувает костры, он отошел к роще, снял тяжелый шлем, расслабил колено, облокотился на обломок оливкового дерева и застыл, наградив себя за долгий путь и невзгоды этим мгновением полной расслабленности; а все, из чего сложена жизнь – кровь, пот, слезы, дым пожарищ, журчание контрибуционного золота, перекошенные рты насилуемых пленниц, бегущая по земле тень стремительного дротика – все это вдруг схлынуло, стекло с потом к сухой траве; и ничего не осталось – одно спокойное бесстрашное предвиденье скорого конца, возможно, даже в завтрашнем бою...
Бог его знает, охотник, кто именно стоял в нише тоща, когда вниз по лестнице, скорее всего, стекало полотно мягкого ковра, а мимо ниши степенно двигались прежние люди с прямой осанкой; и желтый свечной след полировал глянец их цилиндров, или взрывался вдруг в драгоценной нитке дамского ожерелья – взрывался и быстро, как шипящее пламя в бикфордовом шнуре, скатывался к самому краю декольте. Девочка послушно следовала за учителем по спиральной лестнице, ввинчивающейся высоко-высоко, в самое небо, до верхнего этажа.
Какая странная комната у учителя... В ней почему-то пять стен – ах да, ведь учитель живет в башенке. Он вытянет больную ногу, усядется в кресло, выдернет двумя пальцами белый уголок из кармана мягкого уютного домашнего пиджака, в который успел переодеться, – уголок рассыпется полотнищем платка. Учитель снимет очки, начнет медленно, подробно протирать стекла; глаза его без брони толстых, слегка желтоватых линз сделаются оловянными.
"Ой, что это?" – девочка поведет взгляд вверх – от обойных цветов к лепному бордюру, резко обрывающему край бумажного поля, которое все в синих васильках; и дальше взгляд подтолкнет – к краю тяжелой дубовой рамы, в которую закован пятиугольный потолок; и задохнется от восторга... А как же, охотник, а как же! Наши-то потолки, наши комнатные, неряшливо отбеленные небеса, где по вечерам стоит худосочное солнце в тридцать электрических свечей, оттеняя желтые разводы проточек и шершавые трещины, – все они скроены у нас, в Агаповом тупике, на один манер; угрюмы они и холодны, а тут – Господи, какая красота! Высокие сосны, а между ними, изгибаясь, ходит теплый ветер; белый песок пляжа и пруд – чистый, холодный – а над водой мостик горбится, учтиво переводя зрителя на лужайку; по лужайке дети бегут в доисторических каких-то одеждах: мальчики – в матросках, девочки – в легких белых платьицах с глухим высоким воротом, они... играют? Неужели тоже в прятки играют?
"Сколько я знаю, – объяснит учитель, проследив направление ее взгляда, – тут прежде доходный дом был, вы понимаете, что означает – доходный дом? Хотя, откуда вам знать... Сдавались, значит, квартиры, приносили доход, вот и называлось – доходный дом, вы понимаете значение слова "доход"? Хотя, откуда?.. Не самый, конечно, шикарный дом, но вполне, вполне – для публики, так сказать, среднего слоя: врачи, адвокаты... знаете, кто такие адвокаты? Да нет же, нет, вовсе не мильтоны... Ад-во-ка-ты... Ковер, конечно, был в парадном: широкий, красный (обязательно красный!), а туг? Тут башня, судя по всему, была – из слоновой кости. Почему, говорите, из слоновой кости? Ну, это выражение такое; мне рассказывали, здесь мастерская была, художник какой-то жил. Потолок – это он расписал. Хорошая фреска, не так ли? Несколько, правда, приторная – впрочем, возможно, я слишком строг – я математик и не люблю пасторали... Но заметьте, как устойчиво легли краски – раз и навеки; смотрите; ни трещин, ни патины – умели раньше краски разводить; но почему вы плакали, девушка?"
"Ах, вон, значит, как... – скажет он в ответ на девочкин короткий и неловкий рассказ; его шелкопрядно-пышные брови потяжелеют, и заострится маленький кукольный нос в тяжелом ярме оправы, и припухнут гипертрофированно огромные, спелые губы. – Мучительное это дело, надо вам сказать, детские игры, тяжкое. Я ведь за вами наблюдал, там, во дворе – когда разбежались ваши сотоварищи, и вы остались в одиночестве у стены. У вас был очень несчастный вид, такой бывает только у очень, очень одинокого человека... Теперь вам этого не понять, но все равно послушайте – когда-нибудь вы вспомните еще эти слова... Во всех этих детских играх есть что-то наподобие синдрома. Синдром – не понимаете? Что-то вроде болезни – она впитывается в человека в детстве и так преследует его потом всю жизнь... Ну, вот ваши прятки: тут явный синдром одиночества. Или жмурки – до чего же несчастен водящий, погруженный в темноту, лишенный зрения; он существует в каком-то диком, варварском и совершенно безопорном мире, раскачанном, накренившемся... Впрочем, в подвижные игры меня в детстве не брали, я их больше наблюдал со стороны. Но вот вам, например, фанты! До чего же несуразная игра! По какому праву некто, повернувшись к тебе спиной, навязывает тебе свою волю? Знаете, что мне все время выпадало в фантах? Думаете, стишок прочитать? Песенку спеть? Рисунок исполнить? Куда там... Мне все время выпадало – станцевать. Впрочем, что это я? Чаю хотите? Да вы не скромничайте. Сейчас заварим. Варенье вы какое любите, вишневое? Или клубничное?.."
Ну вот, охотник, а потом, через год, когда девочка пойдет в пятый класс, этот толстогубый хромой человек будет назначен ее классным руководителем – и часто она будет приходить в Дом с башенкой, сидеть под живописными небесами.
Хотя, теперь жизнь перевернулась – сколько же я не была здесь, когда в последний раз навещала Дом с башенкой? Года два назад.
Заснуть мне так и не удалось. Я оделась, вышла на улицу. Люминесцентный светильник, работавший вполнакала, спелой сливой нависал над нашим переулком. Зачем я на ночь глядя опять отправилась в Дом с башенкой? Не знаю...
Должно быть, меня повел туда инстинкт. Вон, и месяц в самом деле вышел из тумана – висит в черном небе, холодный, неживой; и греет в кармане свой ножик...
В дальнем конце переулка грохочет стекло: кто-то мечет из окна пустые бутылки, они тяжело, гулко взрываются на асфальте.
Ивана Францевича мы дома не застали. Своим нервным пальцем я, скорее всего, выколола дверному звонку его черный пластмассовый глаз: давила, давила на кнопку – и звонок под пыткой истерично вопил где-то в глубине квартиры, хозяин которой так и не пришел ему на помощь. Вспомнила: запасной ключ всегда хранится в маленькой нише справа от двери, где установлен счетчик электроэнергии: сине-бело-черным языком счетчик медленно облизывал губу и смаргивал какую-то цифру.
Мы обследовали квартиру. Затхлые запахи хмуро стояли по углам, охраняя характерный воздух нежилья. Живописный оттиск нашего старого доброго неба заинтересовал охотника – правда, он заметил, что с таким потолком трудно жить: все время кто-то точит взглядом затылок. В дальнем углу, ближе к окну, штукатурка осыпалась, обнажив мелкую сетку тонких деревянных несущих реек; везде – на полу, на мебели, книжных стеллажах – лежал слой белой штукатурной пыли.
У моего охотника оказалось немыслимое, никак с внешностью не монтирующееся имя – его звали Зиновий. В самом деле, какое неудобное, холодное, неживое имя; большинство имен подвижны и наделены способностью теплеть: Иван Иванович – холодно; Ваня - уже теплее; Ванечка – ах, как славно разогрето слово уменьшительно-ласкательным суффиксом! А Зиновий... Я сказала, что буду звать охотника Зиной – а что, по-моему, это мило; и вовсе оно, как заметил бы классик "не застегнуто на левую сторону" – носят же мужчины имена Валя, Женя... В ответ на замечание относительно несоответствия имени и внешности он ощупал лицо, точно проверяя, все ли в лице на месте.
– Зина, ты еврей?
Он удивленно приподнял бровь и сказал, что не знает. Возможно, он грек. Или русский. Может быть, мордвин или чуваш. Точно он может сказать одно: он не негр и не китаец.
– Я в самом деле не знаю, кто я. Кто я и откуда взялся.
– Разве так бывает?
Он мрачно кивнул: бывает.
Потом мы заглянули ко мне.
Усевшись с ногами на бабушкин купеческий диван, я наблюдала, как он осваивается в новом месте: щупает корешки книг, щупает мои насупившиеся лыжи (три времени года они стоят, уткнувшись носом в угол, как наказанный за непослушание школьник) и осторожно присаживается на диван, точно опасаясь запретного соприкосновения с музейным раритетом (впечатление справедливо: диван мой – долгожитель; резьба, извиваясь, ползет по краю спинки и блеет какой-то путаный орнаментальный текст черного дерева; боковые спинки уютно выставляют локти в пухлых нарукавниках кожаной обивки; и ложе еще мускулисто, под кожей перекатываются тугие бицепсы – умели раньше мебель мастерить!). И дальше наблюдаю, как, покосившись на Веселого Роджера, хранителя моего девственного ложа, он поднимается, прохаживается вдоль стеллажей, растворяя туманные отражения лица в стеклах, и недоуменно ощупывает груду машинописных листов, возвышающуюся на рабочем столе (тоже бабушкина мебель, тех же древних негритянских кровей, что и диван):
– Х-м... Твое?
Мое – ветхие останки прошлой жизни; листы пожелтели, скрючились, греют гербарийно засохших тараканов; мое – опавшая крона диссертационного древа. Название ее я теперь и не выговорю... Однако можно рискнуть; кажется, звучит примерно так: "Проблема социальной детерминации искусства в работах прогрессивных мыслителей Латинской Америки" – Господи, какая тарабарщина! Груда кособоких, рахитично шаркающих текстов, глыбы глав, бетонные блоки параграфов, мертвый синтетический язык и долгий шлейф библиографии: произведения классиков, официальные документы съездов, угрюмые догматики вроде Агостии, Мариатеги, Арисменди, Тейтельбойма, Корвалана, Кастро, пересыпанные нашими отечественными эстетствующими ортодоксами; и все это для шарма расшито блестками, пусть и грубо, белыми нитками, пристроченными: Маркес, Картасар, Астуриас, Неруда, Льоса, Отера-Сильва, Онетти, Фуэентес... Тускло где-то мерцал Борхес – впрочем, он был решительно спорот научным руководителем.
– Детерминация? – Зина в мучительном раздумье сдвинул брови. – А что это значит?
А черт его знает: я и прежде-то не разбирала смысл этого понятия, а теперь и подавно не разберу; и слава Богу, что эта бумажная уродина, это в муках созревшее во мне дитя, этот недоносок с грацией неандертальца и ухватками вышибалы, так и не объявил свой младенческий крик в какой-нибудь сомлевшей от запаха пота и тоски аудитории, – не дошло дело до защиты.
Я вспомнила: деньги... Отдала Зине конверт, перетянутый резинкой, он небрежно сунул его в карман. Ушел он часа в четыре. Я предложила подвезти, он отказался.
Остаток дня я провела на диване. Попробовала читать, но минут через десять отложила книгу.
Отчего-то меня тянуло в Дом с башенкой.
Да, надо сходить – возможно, Иван Францевич уже вернулся.
Странно: в последнее время он редко выходил; в магазин, разве что, в сберкассу за пенсией – ходить ему стало совсем тяжело.
Дверь я открыла запасным ключом, позвала. Никто не откликнулся.
Не нравится мне все это, и в первую очередь не нравится – воздух нежилья. Я прошла в комнату и зажгла свет. Протерла пыль, уселась за круглый обеденный стол – прямо под нашим старым добрым небом.
Я всегда ощущала его как некую звуковую материю, – в моей личной картотеке звуков много чего хранится... Сигнальное покрикивание татарина-старьевщика: "Ста-а-а-а-рьл!.." – головка фразы стоит высоко у верхних окон; туловище же и, тем более, хвост клубящейся мешаниной гортанных хрипов растекаются у земли и пенятся, как кусок карбида в луже. А вот – сдержанное, целомудренное чпоканье домино под старой липой... Или внезапное, точно от щекотки, взвизгивание электрички где-то вдалеке – в той стороне, где железная дорога. Термоядерный взрыв вороньего крика в сквере, рассыпающийся на множество мелких, острых осколков, кувырком летящих с высоких тополей, а вслед за взрывом – бурные аплодисменты испугавшейся вороньей стаи... Шорохи в зарослях боярышника – безжалостно, густо, в упор расстрелянного сочной, поспевающей шрапнелью... И что там еще хранится в картотеке?
Есть монотонное, бесконечно вытянутое бубнение радиоприемника за распахнутым окном на третьем этаже – там, в темных уютных глубинах комнаты, прорастает гладкокожий фикус. И скрученное жгутом журчание водяной струи, сочащейся из крана, – к этому крану, высунувшемуся из цоколя, наш дворник Костя прикручивает черную жилу шланга для ежеутренних орошений двора; шланг шипит коброй, а вырывающаяся из него струя вся инкрустирована радужными зернами. И будто даже бордюрный камень в молочной пенке тополиного пуха, и липовый летунок, штопором ввинчивающийся в теплый воздух, и зеленые вспышки травы в трещинах асфальта, и ночное копошение шампиньонов в черной земле сквера, и шевеление теней, неряшливо измазавших двор, и растекание зеленоватой плесени под низкими сводами арочных проходов – все, все, все имеет свой опознавательный звуковой знак...
Должно быть, потому меня и мучает время от времени "синдром Корсакова"; эта прежняя материя звука, осевшая во мне, плохо принимает песни нынешние – их несовместимость и провоцирует приступы рвоты. Тошнота – облегчает; выблевав современный, непереварившийся во мне продукт, я чувствую себя лучше...
Да, так, наверное, и было все устроено когда-то в этой пятиугольной комнате: звуки жизни плавно восходят от круглого стола, за которым Иван Францевич, нагружая голос басовой нотой и быстрым взглядом сверяя его правильность с распахнутой книгой, декламирует перед детьми какие-то густо-лиловые, местами с кровавыми прожилками тексты (шекспировские, как потом выяснится), и дети в странном оцепенении, будто пораженные лунатизмом, сидят у стола; и медленно испаряются отсюда, текут вслед за звуками привычной дворовой жизни; и оседают в масляно поблескивающем поле нашего старого доброго неба, среди светлого воздуха, прямых сосен, пушистой травы; они уходят туда исполнять свое предназначение, ибо каждый из тех, собирающихся у своего классного руководителя за круглым столом, отмечен искрой божьей.
Их пятеро, они веером разбегаются по лужайке и стремятся к густому кустарнику, обрамляющему озерцо. Крайняя слева девочка: широко распахнутые руки, очень красивое, яркое, нарядное евразийское лицо (восточная выделка плюс европейский пошив). За ее спиной мальчик: хрупко сложен, густая штормящая шевелюра – и поразительно глубокий, как бы в себя обращенный, взгляд. На одной с ним линии еще один мальчик; он невзрачен, низкоросл, слегка кривоног; он бежит неловко, вперевалку, в его осанке есть легкий намек на сутулость – видно, слишком упорно сидит над своими живописными картонами. Еще один мальчик немного отстал от компании: он полноват и мало приспособлен для подвижных игр, он розоволиц, у него "большие негритянские губы – должно быть, подолгу целуется с мундштуком какого-то духового музыкального инструмента.
И есть еще один ребенок, девочка: она застыла в полуобороте, у нее хрупкая, с выражением внезапного испуга, спина; поза ее, в отличие от остальных детей, не взбодрена динамикой; она стоит и выжидает.
Меня отвлек какой-то шершавый звук – точно мышка скребется в углу. Странно: мышки не ходят по потолку.
Сверху стекала струйка штукатурки. Она текла из россыпи трещин, сетчатым чулком охватывающих ногу черноволосой девочки с евразийским лицом; поток белой пыли медленно нарастал, уплотнялся, а потом посыпались куски: башмачок на тугой шнуровке, подол платья – под ногами у меня вздулось облако белой пыли.
Я замела штукатурку в угол.
Пора домой.
В коридоре под ногами что-то хрустнуло. Я включила свет и...
...это был разовый шприц.
Ума не приложу: зачем он понадобился старику?
Две недели – это много, если занят делом и есть что предъявить по истечении срока самому себе: свежую главу в рукописи книги; принявшееся деревце, посаженное тобой... Или просто услышать в себе мягкий толчок предчувствия, за которым воспоследует задержка, а потом и все остальное; и все это мучительное остальное через девять месяцев разрешится острым криком крохотного существа, которому ты дала жизнь.
И значит, ты состоялся.
Ни на шаг за эти две недели я не приблизилась к тому, чтобы состояться. Книгу не написала, дерево не посадила, ребенка не родила. Несколько раз съездила по коммерческим нуждам на вокзал. Спекуляция принесла кое-какой доход – достаточный, чтобы поддержать силы, спокойно коротать время за рабочим столом в библиотеке и не особенно расстраиваться, что третий месяц не платят зарплату. Телефон молчит, Заслуженный деятель телевизионных искусств хрипит и кашляет, отхаркивая время от времени едкое вещество культуры, в котором последнее время безраздельно господствуют какие-то мистические кампании, огромными тиражами штампующие свои заветные и самые надежные бумаги–
...прислушиваясь, я все думаю: народ у нас в самом деле полный идиот или только прикидывается?
Уик-энд внес разнообразие в череду однотонных дней; впечатление от поездки в троллейбусе оказалось настолько мощным, что я прямо с порога собралась потребовать у Варвары рюмку чего-нибудь крепкого.
Варвара позвонила в субботу и попеняла мне за то, что я давно не появлялась со своими "сагами" – пришлось собираться в гости.
Мы знакомы давно, еще по университету. Все пять лет нашего ученичества Варвара выступала в каких-то изнурительно невзрачных темных нарядах, фасоном напоминавших школьную форму. Плотная, чуть выше среднего роста, с плоской грудью и увесистыми, чисто мужицкими руками, она плохо вписывалась в изысканное, утонченное факультетское общество; единственным ее богатством были волосы – роскошные, темно-русые, великолепного качества – они были заплетены в тяжелую косу; такую косу носила моя бабушка. Происходила она из далекого, темного, пахнущего дешевым портвейном района (кажется – Тушино), поступила в университет по рабоче-крестьянскому списку, имея трехлетний стаж работы на заводе; сколько я помню, она неизменно сидела на первом ряду в аудиториях, конспектировала, старательно догоняя нас, вчерашних школьниц: в знаниях, умении сносно выражаться на родном языке, манере держать себя; эти старания не были видны невооруженным глазом, однако они были – теперь я отдаю себе отчет в том, как ей, "дочке поварихи и лекальщика", тяжко давалась эта наука.
После факультета она пристроилась в какой-то жиденькой отраслевой газетке – то ли лесной, то ли железнодорожной – и надолго исчезла из поля моего зрения. Выплыла Варвара на поверхность в ту славную пору, когда у нас тут все бурлило и клокотало: я увидела ее на телеэкране (мой "Рекорд" тогда еще дышал). Она сильно изменилась. Слава богу, у нее хватило ума не трогать свои роскошные волосы и не уродовать их современной стрижкой. Перед камерой Варвара с угрюмым пафосом произносила что-то энергичное и непримиримое – "наш верховный начальник пролез в президенты "через форточку"! – я еще подивилась ее рабоче-крестьянскому бесстрашию; за такие лихие оценки можно было схлопотать. Как тут же выяснилось, она уже схлопотала – из газеты ее выгнали, так что вещала Варвара в качестве "независимого" журналиста без места работы и оклада. Через год я встретила ее на митинге; дело было на Маяковке: сорвав глотку выкрикиванием проклятий в адрес какого-то верховного начальника – не помню, какого именно, – мы зашли ко мне в гости, выпили водки, смеха ради я разложила на столе свою Сагу "О трактористах и механизаторах".
От нечего делать в библиотеке я просматривала газеты и собирала в них всякие забавные случаи из советской жизни. Девять десятых этих историй почему-то касались именно трактористов и механизаторов – люди этих профессий оказались единственными представителями нашего народа, которые вели полнокровную жизнь и практически в каждом номере газеты что-то находили или откапывали в земле: кадушки со старыми монетами или керенками, бомбы, снаряды и другие боеприпасы времен войны, а также черепа древних людей. Так что коллекция этих историй у меня собралась очень внушительная.
С год назад она меня разыскала. Позвонила, мы потрепались о том о сем; Варвара вспомнила мои собирательские труды и предложила продолжить в том же духе – она теперь работает на радио, у нее прямой полночный эфир, ей необходимы для подпитки мозга, устающего продуцировать темы для многочасовой болтовни, своего рода дайджесты из самых разных областей жизни – все равно я "задницу просиживаю в библиотеке" и могу стричь из газет всякие вкусные (так она выразилась) разности.
– Вкусные? – переспросила я.
– В целом ты действуй в жанре саги, – наставляла меня Варвара, – это у тебя хорошо получается, но при этом надо иметь в виду соображения "вкусности"... Как бы это объяснить... – в трубке возникла пауза, потом что-то зашуршало.
– Ну вот хотя бы это, с телетайпа, Франс-Пресс передает, – Варвара что-то пробубнила себе под нос, потом выкрикнула: – Да! Слушай. "Одна девушка в Центрально-Африканской республике в ходе нетрадиционных любовных утех откусила возлюбленному детородный орган" – представляешь, какой кайф!
Иной раз я туго соображаю. Это был именно тот случай.
– Как это? – простодушно поинтересовалась я.
Варвара ответила – глубоким стоном.
– А-а-а, – наконец сообразила я. – Понятно. Вкусности. Понятно.
Мой первый труд – "Сага о чуме и холере", по оценке Варвары, имел большой успех. Я перемолола кучу газет за пару последних лет и составила подробнейшую антологию рецидива на просторах нашей Огненной Земли тех болезней, которыми мир переболел в эпоху средневековья и о которых узнает разве что за чтением исторических романов. Оказалось, что если свести вместе все короткие и явно эзоповым языком изложенные сообщения о холере, чуме, черной оспе, тифе и других дремучих хворях, то картина получается очень впечатляющая. Правда, у Варвары были неприятности: одного слушателя увезли на неотложке с микроинфарктом.
Следующую антологию – "Сагу о Геенне огненной" – я старалась выполнить помягче, чтобы не травмировать психику аудитории. Я представила панораму пожаров; в самом деле: все кругом горит, дымит и полыхает – если сгорел дотла такой монстр, как КамАЗ, то что говорить о коммерческих ларьках, офисах, магазинах, складах, квартирах, кинотеатрах. Кто-то из публики долго и настойчиво стучал Варвариному начальству по телефону, и в результате ее на некоторое время разлучили с микрофоном – за нагнетание катастрофических настроений. Репрессии ее только взбодрили – она опять почувствовала себя в родной стихии "борьбы за правду".
– А то, мать их, хуже прежних стали давить! – высказалась она о своем демократическом начальстве. – Ничего... Правду не зароешь! – и пожелала мне успехов в моих сокрушительных трудах.
В последнее время я работала сразу над двумя трудами: "Сага о родных и близких" и "Сага о том, что лучше быть бедным и живым, чем богатым и мертвым".
Прихватив наброски, я отправилась проведать Варвару.
Варвара жила на Комсомольском. Вернее сказать, они: Варвара и ее муж – милый, тихий интеллигентный человек с землистого оттенка лицом, низкого роста и высокого положения; поженились они года три назад. Трудно сказать, чем уж Варвара приворожила этого далеко не последнего сотрудника МИДа – не исключено, что именно основательной комплекцией и рабоче-крестьянской прямолинейностью. Так или иначе, они составляют занятную живописную пару: щуплый узколицый чиновник (он по специальности синолог) и Варвара, которая всякую попытку мужа вставить слово поперек пресекает решительно и бескомпромиссно: "Ты брось свои китайские штучки!"
Я немного припозднилась, уже вечерело. Минут двадцать пришлось ждать троллейбус. Наконец-то он притащился, долгожданный.
Я пробила талончик в компостере на задней площадке. Народу было не слишком много. В салоне были свободные места, но ехать мне было недалеко – ничего, постою.
Кто-то сочно дышал мне в затылок свежим перегаром. Обняв вертикальную стойку у крайнего сидения, раскачивался и колыхался гражданин с оплывшим лицом. Неустойчивость его бросалась в глаза, и я прошла в салон от греха подальше. Мы подъехали к метро "Фрунзенская". Что произошло в двух шагах от остановки – сказать не берусь.
Я услышала хлопок под ногами, за ним последовал жуткий свист. Я опустила глаза и уставилась на то место, где только что стояла. В чреве троллейбуса происходило утробное вулканическое брожение. Пол вздувался, вспучивался – как будто под рифленой резиновой кожей пола зрел нарыв. Созрел и прорвался...
В полу образовалась дыра с рваными краями – и в эту прореху, крича, как раненая птица, погружалась молодая женщина. Мы вместе ждали на остановке, и у меня было время ее рассмотреть. Впрочем, рассматривать было нечего – кроме ног. Восхитительные ноги, затянутые в тугие, черные, сально поблескивающие чулки – забыла, как они называются. Юбку она надеть забыла. Длинный лиловый свитер более открывал, нежели скрывал.
Плохо помню, как в потоке горячих тел, среди кулаков и ругательств, я выплеснулась через переднюю дверь на улицу.
Заднее колесо троллейбуса разлетелось в клочья.
Быстро подъехала "скорая".... Женщину с изуродованными, жутко располосованными окровавленными ногами увезли.
Пьяный человек обнимал столб и блаженно улыбался.
– Спасибо вам, – сказала я. – Если бы не вы...
Я очень живо представила себя на задней площадке – ив очередной раз подивилась языку, способному на такое лукавство, как сослагательное наклонение: если бы он оказался трезвенником? А если б и оказался пьющим, но сегодня решил бы воздержаться? Если бы принял на грудь, но не такую дозу? Если бы ввалился в другой троллейбус? Если бы да кабы – то в этой карете "скорой помощи" валялась бы теперь я, без сознания, с разодранными в клочья ногами, ногами, ногами – прикрыв глаза, я опять увидела эти очаровательные ноги, затянутые в... и почувствовала, как Сергей Сергеевич Корсаков опять стучится в мои двери:
...пьяный, по-прежнему нежно, как любимую женщину, обнимавший столб, лукаво погрозил мне пальцем:
– Лоси-и-и-ны...
Господи, какой идиот... Остаток пути я проделала пешком.
"Балбесина!" – вместо заготовленной и старательно отрепетированной реплики ("Дай глоток чего-нибудь крепкого!") у меня вырвалась именно эта.
Варвара рывком втащила меня в прихожую.
Она была лысая.
Так мне показалось, когда дверь отворилась, и Варвара предстала передо мной во всей своей красе. Впечатление было настолько сокрушительным, что я моментально позабыла о приключении в троллейбусе. В прихожей у меня было время рассмотреть ее повнимательнее.
Да, она была лысая, но уже не вполне – с такой растительностью на голове человек покидает холерный барак, если ему суждено уйти оттуда своими ногами: густой плотный "ежик" в возрасте двух-трех недель.
У нее была абсолютно круглая голова и затылок с выражением трогательной беззащитности – какие у нас, оказывается, беззащитные головы, если их обрить.
Варвара (услышала, что ли, мои репетиционные упражнения на лестнице?) молча налила мне рюмку рябины на коньяке и, склонив голову набок, утомленно впитывала мой монолог, мелко кивая и время от времени освежая рюмку новой дозой.
– Все? – спросила она, когда вдохновение мое иссякло. – Можно хлопать в ладоши? – она налила себе, отхлебнула. – Теперь слушай сюда.
Оказывается, я напрасно расточала эпитеты и обличительные характеристики – просто она угодила в переделку, обычную для нашей Огненной Земли; она возвращалась после своего полночного эфира, и на нее напали четверо туземцев, совсем еще пацаны. Варвара – сказываются пролетарские гены и закалка Тушинского района – активно возражала агрессивным поползновениям молодых людей и с криком "Ну, кто тут хочет попробовать комиссарского тела?!" приласкала по голове одного из насильников деревянным тарным ящиком, удачно подвернувшимся под руку; тем не менее, оставшиеся в строю воины ее одолели.
Вели они себя странно и никакого интереса к комиссарскому телу не проявляли. Вся процедура заняла от силы минуты две-три. Потом туземцы ее отпустили и смылись, позабыв раненого товарища, заползшего в кусты, – "отряд не заметил потери бойца".
– Так тебя не обесчестили? – глупо удивилась я.
Варвара допила и облизнула губы.
Какое, к черту, бесчестие: просто обрили наголо, волосы сложили в огромный пластиковый мешок – и были таковы. Толкнут ее восхитительную шевелюру в какой-нибудь парикмахерской или фирме, изготовляющей шиньоны из натурального продукта, – представляю себе, сколько такая шевелюра может стоить.
Варвара провела ладонью по голове и заметила: мол, ничего, отрастут, зато у этого щенка уже ничего не отрастет.
– Что ты натворила?!
Варвара приподняла бровь, округлила глаза и приоткрыла рот – такой мимический рисунок можно прочесть в лице человека, услышавшего совершенную нелепицу.
– А чё они?
По этому характерному "А чё?" я определила, что в тот сумрачный полночный час она отлетела в миры своего пролетарского детства, очистилась от скверны высшего образования, сделалась девочкой тушинских окраин, с молоком матери впитавшей справедливый взгляд на вещи, согласно которому за око полагается – око, а за зуб – именно зуб. Однако ни глаз, ни челюсть, ни даже короткая стрижка молодого туземца ее не вдохновили. Она разыскала его в кустах, прислонила к дереву и...
– В детстве я очень хорошо играла в футбол, – пояснила Варвара.
Мне стало не по себе. В самом деле она рассказывала, что в детские годы увлекалась футболом, играла во дворе с мальчишками, и у нее был "мертвый", неберущийся удар.
Словом, она ногой заехала молодому человеку в пах. Чтобы наверняка избавить его от дальнейших хлопот, связанных с половой жизнью, она проделала эту процедуру еще дважды; пришла домой, посмотрелась в зеркало, выпила полбутылки водки, а остаток ночи поила мужа валокордином.
– Он теперь может устраиваться евнухом в гарем, это точно, – подвела итог Варвара, и тяжело вздохнула: – Сейчас бабе иначе не прожить... Иначе тебя кругом будут иметь все кому ни лень: на работе, в ЖЭКе в магазине, в парикмахерской. Они, – Варвара наполнила это "они" каким-то всеобщим, космическим содержанием, – они начинают с тобой считаться исключительно в одном случае. Если им хорошенько заехать по яйцам. Ладно, проехали это... Что там у тебя вкусного?
Я открыла общую тетрадку и принялась за чтение бесконечной саги "Родные и близкие". Значит, познакомились Миша и Оля, заключили счастливый брак; Миша был в прошлом боксер, располагал отдельными, апартаментами, набитыми всяким заграничным барахлом; Оля была девочка девятнадцати лет без определенных занятий...
– Мокрощелка, – прозорливо оценила Варвара.
Возможно... Словом, стали они жить-поживать, потом родился у них сынок; Оля стала веселиться с приятелями – Миша стал возражать; и супружеская жизнь дала трещину. Оля решила с ней покончить: договорилась с приятелями, сели они как-то все вместе выпивать, Миша зачем-то в холодильник полез – тут его топором и огрели, затем придушили и снесли в ванную.
– Омовение перед положением в гроб? – спросила Варвара.
Нет, чтобы кровь стекла. Оля потом уселась смотреть "видик", а с утра Мишу выкинули на свалку.
– Дальше! – сосредоточенно скомандовала Варвара.
Две подружки из Подмосковья сидели на живописном берегу речки, попивали винцо; повздорили немного – одна другую взяла да и утопила.
– И что тут "вкусного"? – хмуро поинтересовалась Варвара.
– Название речки. Очень красивое, говорящее прямо-таки.
– Ну?
– Эта речка называлась – Моча.
– Отменно! – кивнула Варвара.
– Дальше. Жили-были на одной лестничной площадке – молодой человек и молодая женщина. Сосед выпил вечером и направился к соседке в гости; заткнул ей рот кляпом, раздел и привязал ремнями к стулу.
– Банально, – поморщилась Варвара. – Хотя... Как это он ее употребил – на стуле?
Вовсе нет, у него и в мыслях не было лишить соседку чести. Он ее просто – обглодал.
– Что-что?
То, что слышала: обглодал... Начал ее кусать, отрывать куски мяса. Он так соседку объел, что ее едва в реанимации откачали... Потом вот еще... Молодая мамаша двадцати трех лет так извелась от плача девятимесячного ребенка, что взяла да и проткнула его кухонным ножом; потом легла спать, и говорят, хорошо выспалась... Налей-ка, Варя, сейчас мы переходим к роковой теме лесбийской любви...
– Я за это пить не буду! – вспыхнула Варвара. – Ненавижу педиков и лесбиянок!
Можно и не пить, а просто понаблюдать за развитием сюжета; собрались четыре девочки на квартире и стали друг дружке доставлять всякие удовольствия; потом кто-то кого-то приревновал; обиженная в лучших чувствах завалила разлучницу на пол и до смерти истыкала ножом.
– Ненавижу педиков и лесбиянок, – опять подтвердила прочность своих рабоче-крестьянских моральных устоев Варвара.
Можно и про нормальных: вот в Орехово-Борисово внук собрал приятелей, сели выпивать, мальчик отключился; а тут его бабушка пришла, принялась молодых людей укорять, что спаивают ее внучка, – ребята ее и покрошили на мелкие куски...
– Фигурально, так сказать, выражаясь? – сухо осведомилась Варвара.
Ну, отчего же–в прямом смысле слова: иначе бабушку нельзя было бы упаковать в ящик из-под телевизора, а по частям она как раз уместилась. Ящик отнесли на балкон. Самое интересное, что юноша вспомнил про бабушку только через четыре месяца. Или вот еще сюжет из семейной жизни. Жила-была семейка: он, она, двое детей; к папе с мамой часто любители винца захаживали; сидели как-то большой компанией на кухне, папа позволил себе что-то нелюбезное в адрес мамы произнести – ну и мама со товарищи папу, как свинью, ножом прикололи...
– Дальше!
Постой, это еще не все... То ли у них закуска кончилась, то ли просто охота к нестандартным ощущениям пришла, – словом, папу тут же освежевали, вынули у него сердце и зажарили на сковородке; дети, понятное дело, при сем присутствовали.
– Ё-мое! – густо прогудела Варвара; наверное, ее окраинная закалка дала трещину. – Перерыв! – она вышла из-за стола, достала из мойки пару стограммовых граненых стаканчиков и початую бутылку водки. – В самом деле – не город у нас, а Огненная Земля.
Под водочку с селедкой я не спеша прочла фрагменты другой саги – "Лучше быть бедным и живым, чем богатым и мертвым". Действовали в ней так называемые "новые русские" – точнее сказать, они не столько действовали, сколько выполняли роль мишеней. Генерального директора взорвали в машине вместе со всем семейством. Директора товарищества с ограниченной ответственностью расстреляли из автоматов возле казино. Директора совместного предприятия разорвали на куски гранатой. Какую-то предпринимательницу двое суток насиловали и пытали электрическим током, а потом утопили в колодце. Директора крупного концерна грохнули прямо на выходе из ресторана...
– Кто таков? – вяло поинтересовалась Варвара.
Я назвала фамилию.
Варвара присвистнула: человек очень заметный, такие без охраны шагу не ступают; даже когда они в постели с любовницей, кто-то из ребят держит свечку – тем более в кабаке...
Я перечитала свои записки.
– В этом эпизоде много неясного... Он выходил из дверей ресторана и ни с того ни с сего опрокинулся. Никто ничего не мог понять, звука выстрела не было слышно; шел себе человек, шел и вдруг свалился, как подкошенный. Потом, правда, установили, что выстрел все-таки был – неизвестно откуда. И – что характерно – одиночный. Странно: в джунглях Огненной Земли киллеры предпочитают палить длинными очередями, чтоб наверняка... Есть еще один сюжет, просто очаровательный, – вспомнила я, закусывая ледяную, ломящую зубы водку хлебной корочкой, – по нашей с тобой специальности.
– А кто мы с тобой по специальности? – угрюмо спросила Варвара; дав мне прикурить, она добавила: – Мы с тобой по специальности полное дерьмо.
Сославшись на "служебную надобность", – десятый час, надо телек посмотреть, информационную программу! – она удалилась в комнату.
Я докурила сигарету и последовала за ней, уселась в мягкое кожаное кресло. Шел репортаж с какой-то глубокомысленной заседаловки. Сначала возник в кадре наш всенародно любимый президент – на совершенно брежневский манер он мучительно пережевывал какой-то суконный текст, не отрываясь от бумажки. Затем камера медленно прошлась по лицам граждан заседающих.
– Господи! – выкрикнула я, вглядываясь в знакомые черты: высокий упорный лоб, опрятная борода, седые виски, упрямо поджатые губы, насупленный взгляд...
Да, он вел у нас спецсеминар по Салтыкову-Щедрину, да, это он; до нас долетали слухи, что у него всю жизнь были неприятности, веки вечные он пребывал, как бы Трифонов выразился, в состоянии затира, затирали его; я прекрасно помню его изящные, тонкие (явно с двойным дном) пассажи относительно теории и практики социалистического реализма, саркастические шпильки в адрес "живых классиков" и литературных генералов... Впрочем, в последние годы он часто мелькал – на телеэкране, в прессе, на всяких говорильнях.
Значит, пробился, наконец, в генералы – и не только литературные, но и во всамделишные. – У господ шестидесятников расстройство желудка, – прокомментировала Варвара. – Не у всех, конечно... – она кивнула на экран, – но у этих точно. Опасно хавать власть в таких количествах. Можно жидко обосраться... – она грустно взглянула на меня. – Ты что с Луны свалилась? Он же член президентского совета.
Мы долго молчали.
– Как ему не совестно? – тихо сказала я.
Варвара со стоном выбралась из кресла, где очень уютно сидела, поджав ноги и укутавшись пледом; подошла, указательным пальцем приподняла мне подбородок и долго изучала мое (должно быть, крайне растерянное) лицо.
– Тебя надо лечить! – серьезно заметила она.
В прихожей, помогая мне надеть куртку – я никак не попадала в рукава; то ли алкоголь сказывался, то ли впечатление от телерепортажа – она вспомнила: а что за сюжет по специальности?
Занятный сюжет: ребятишки, ученики одной из столичных школ, пытались пристрелить свою учительницу. Это была учительница литературы. Она сидела у себя, дома перед зеркалом, когда шарахнул выстрел: стреляли через окно. Ей хватило ума моментально грохнуться на пол – это ее и спасло.
– Вот молодцы ребята! – азартно выкрикнула Варвара. – Так их и надо! Шаламов как в воду глядел – на три четверти в нашем переселении на Огненную Землю она виновата, наша великая и самая гуманная словесность.
На прощание она сунула мне в карман очаровательную пластиковую бутылочку – в таких водятся французские шампуни; я инстинктивно прихлопнула рот ладошкой, однако приступ тошноты побороть не удалось:
– придя в себя, я отпихивалась, как могла:
– Тебе ведь самой нужно!
Варвара провела ладонью по своему "ежику".
– Мне? – и сокрушенно покачала головой. – Нет, тебя надо лечить.
Я хотела было поцеловать ее в щеку на прощание, но передумала – еще заразится моя подружка, а ей это ни к чему.
На обратном пути меня потянуло в Дом с башенкой. Две недели прошло с момента последнего визита сюда, а я, тварь, так и не удосужилась навестить Ивана Францевича, порасспросить: куда это он исчез? Уезжал куда-нибудь? Родственников навещал?
Хотя, какие родственники... Он же совсем один на этом свете. Отец его, насколько я знаю, умер где-то в казахских степях в районе Семипалатинска. Иван Францевич имел несчастье уродиться немцем – их, немцев, перед войной всех куда-то ссылали... Кроме отца, у него никого не было.
Окна в башенке не светились.
Пошарив в нише, я нащупала ключ, прошла в квартиру. Никого.
Пахнет все тем же – нежильем...
Стоп!
Когда мы с Зиной первый раз приходили сюда, какая-то смутная догадка потревожила меня – какая?
Так... Мы долго звонили. Потом я нашла ключ в нише под счетчиком. Потом прошли в комнату...
Счетчик! Он медленно вращался и наматывал на цифровые барабаны значения расходуемой электроэнергии.
Если человек надолго собирается покинуть свой дом, он отключит электроприборы.
Значит, Иван Францевич не имел в виду отлучаться надолго – тем более на две недели.
Я прошла на кухню, закурила, поискала, куда бы можно стряхнуть пепел; на холодильнике заметила пустую баночку из-под майонеза.
– Идиотка, – сделала я себе комплимент.
Холодильник, конечно же холодильник – можно было давным-давно догадаться.
Это был старый "ЗИМ", тяжелый, грузный ящик с вертикальной запорной ручкой. Я потянула никелированный рычажок на себя – в дверце что-то глухо щелкнуло.
С минуту я в оцепенении стояла перед распахнутым холодильником; наконец, пришла в себя:
– Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Даже если бы мне суждено было найти здесь залежи полупротухшего минтая, сизого цыпленка, кусок заплесневевшего сыра (и что там еще отпускают старикам по списку в "ветеранском" магазине в награду за труды на благо Отечества?), то я очень бы удивилась.
Полки были забиты продуктами – этот живописный натюрморт в холодильнике нищего пенсионера едва не опрокинул меня навзничь... Особенно меня поразил большой пухлый фирменный пакет – такие выдают в ресторанах; на наречии туземцев Огненной Земли это должно звучать... ну же, Сергей Сергеевич Корсаков! ну же, приходи скорей на помощь и даруй мне очередной рвотный позыв:
...да-да, возвращаясь в Агапов тупик после приключений на дорогах, мы с охотником забегали в один ресторанчик, тут у нас, неподалеку – там выдают точно такие пакеты.
Прежде в этом заведении размещалась крохотная "Кулинария", где на прилавках синели задушенные цыплята, чернел сопливый шашлык, костенели заскорузлые рулеты, и мухи отстукивали барабанные дроби по стеклам; я хорошо знала это заведение; прежде частенько брала здесь так называемое азу, сделанное из тугой резины... Теперь его было не узнать.
Две божественно-чистые фиолетовые колонны охраняли изящную стерильную дверку, за которой тебя приветствует – "Добрый день!" – девчушка лет шестнадцати; фирменный козырек (такие таскают пацаны из "Макдональдса") слегка приподнят, невыгодно приоткрывая лоб, производящий впечатление не совсем чистого; все остальное в ней – фирменная отутюженная униформа и приветственная улыбка – подчеркнуто стерильно. В уютном зальчике несколько белых столов, широкая стойка, в витрине пышное изобилие чего-то очень аппетитного; тихая музыка и мягкая фиолетовая подсветка – наверное, фиолет это фирменный тон заведения. Помнится, я присела за столик, пока мой охотник набирал всякие вкусности. Распорядитель на этом празднике чревоугодия, приземистый широколицый молодой человек с острыми подвижными глазами и профессионально безупречным проворством рук (это проворство существовало совершенно автономно – от выражения лица, тех или иных телодвижений, необходимости поддерживать учтивый разговор с клиентом), нагружал пакет; я рассеянно взглянула на меню – и перед глазами у меня закачались фиолетовые тени: цены тут были космические...
Я сунулась в пакет, стоящий на средней полке.
Все верно – мясные деликатесы.
Я продолжила инспекцию холодильника. Собственно, он являл собой крохотный филиал Центрального рынка. Венчал композицию большой ананас с красочной биркой на жесткой шевелюре. Десерт был представлен блоком коричневых пластиковых стаканчиков – французский шоколадный крем "DANETTE".
В дверце несколько бутылок с темным вином. Я вынула одну из обоймы, посмотрела этикетку. "Хванчкара".
Это в его духе – он человек старых правил.
В морозилке хранился большой кусок отборной свинины. Вот уж не могла предположить, что мясо такого качества существует на свете – оно, кажется, давно погребено в "Книге о вкусной и здоровой пище".
Особняком в компании благородной "Хванчкары" Стояла какая-то прямоугольная посудина.
"Амаретто". Это уже совсем чудеса.
Я свернула бутылке пластиковую шею, хлебнула из горлышка – Иван Францевич меня простит, мне надо было сосредоточиться.
– Ну и дрянь! – прислушалась я к вкусовым ощущениям. – Хотя для неустойчивых девушек в самый раз.
Местами наречие туземцев Огненной Земли бывает Удивительно точным, в переводе с языка аборигенов ликер "Амаретто" означает – БАБОУКЛАДЧИК. Туземное предание гласит: если тебе пришла охота уложить девушку в постель – накачай ее "Амареттой",
Захватив эликсир любви, я вернулась в комнату, присела к письменному столу, упирающемуся в подоконник. Выдвинула ящик – бесцельно, чисто машинально.
На дне лежали; стопка пожелтевшей писчей бумаги, картонный пенал с карандашами и несколько почтовых конвертов. Я взяла верхний, рассеянно пробежала глазами адрес.
Это был мой адрес.
Я вытащила остальные, разложила их на столе. Так этот конверт предназначался Алке. Этот – Семену...
Кому были адресованы остальные, я догадывалась - откинулась на спинку стула, задрала голову. Алка осыпалась почти совсем – в живом живописном поле нелепо и беспомощно висела ее обрубленная по локоть рука.
Я вытащила из своего конверта открытку, пробежала текст. Иван Францевич приглашал меня на НАШ день.
"Наш день" – это день его рождения.
Что бы там ни было, в этот день после окончания школы мы всегда – когда впятером, когда и с другими ребятами из класса – собирались за этим столом. Последние пару лет эта традиция тихо угасла; все разбрелись по своим норам.
Какое же это число?
Вспомнила. День его рождения приходился как раз на тот день, когда у нас грянула реформа...
– Он не собирался никуда исчезать! – я шарахнула кулаком по столу с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурная пыль.
Я открыла окно, глотнула свежего воздуха, набрала его полные легкие и заорала:
– впрочем, вряд ли кто-то из туземного населения расслышал в ночи этот крик, а если б даже и расслышал, то наверняка ничего бы не понял: иностранные языки даются жителям Огненной Земли с большим трудом.
Что ж, теперь я по крайней мере знаю, что мне делать.
Выйти во двор, встать к глухой кирпичной стене и, сдерживая порывающийся перейти с ходьбы на бег шепот (регламент игры предписывает водящему избегать скороговорки), вести отсчет; и медленно отодвинуть от ноющих висков занемевшие ладони, отступить на шаг, увидеть: желтая стена вся в трещинах, вздутиях и струпьях; чуть выше, широко расставив ноги, стоят буквы, прыснутые из пульверизатора с краской: "Витя Цой, вернись!" – и довести положенный счет до конца, а потом громко выкрикнуть: "Я иду искать! А кто не спрятался – я не виноват!"... Однако прежде я отведу эту несчастную старуху домой.
Мы спустились в подземный переход, потом миновали сверкающий надраенным никелем и дымчатым стеклом отель, свернули в чудовищно захламленный глухой двор (сюда стаскивают картонные отходы уличной и палаточной торговли); старуха остановилась перед парадным – подслеповато щурясь, она вглядывалась в окно на первом этаже; потом тихо заплакала.
Я встретила ее возле прачечной – она беспомощно озиралась и со стороны казалась птенцом, выпавшим из гнезда. Ростом – никак не больше метра сорока – и фигурой она была совершенный ребенок, вот именно птенец.
– Потерялась вот... – она зачем-то показала мне пустую сетчатую авоську. – В прачечную пошла, а обратно как, к дому – не помню...
Она назвала улицу. Это совсем недалеко, минут пять-семь ходу; я взяла ее под локоть, мы медленно двинулись к перекрестку; вдруг я случайно оглянулась на витрину и чуть было не споткнулась на ровном месте. Листок, приклеенный к стеклянной двери, сообщал, что сегодня прачечная отдыхает по причине санитарного дня.
– Когда вы ушли из дома? Вчера? Позавчера?
Вид у нее был испуганный: похоже, она опасалась, что я не отведу ее на родную улицу, а покину здесь, среди незнакомых домов, деревьев, машин и людей... От нее исходил тонкий, сладковатый, совсем древний запах.
Она мелко-мелко закивала головой.
Авоська у нее пустая, значит, в лучшем случае вчера сдала свое ветхое белье, а потом кружила по Агапову тупику, плутала, и душа ее медленно мертвела от мучительного неузнавания квартала, поблизости от которого прошла, наверное, вся ее жизнь, и где она знала каждый камень, куст, дерево, пучок травы, взломавший асфальт... Я поймала себя на мысли, что точно так же ничего вокруг не узнаю: я родилась и выросла в каком-то другом городе.
Возможно, и мой учитель вот так же ушел из дома, забылся, заплутал... Эта мысль меня грела, однако, недолго. Он был в абсолютно трезвом уме и здравой памяти. В беспамятстве не пишут пригласительные письма ровным твердым почерком.
Я усадила старуху на лавочку, собралась было уходить, но тут обратила внимание на маленькую странность: только окно на первом этаже было оживлено сиреневыми хлопьями герани – все остальные окна были пустоглазые, совершенно неживые.
– Выселяют нас, видишь, – просто объяснила старуха. – Я одна в доме осталась... Куда я поеду? Всю жизнь тут... Вон уж и отключили все, воду, газ... Сказывали, дом этот, стеклянный...
"Отель", – догадалась я.
– ...В общем, расширяться этот дом будет. А чего, красивый дом, богатый.
Как же она будет – без воды, газа, без тепла – холода скоро нагрянут...
– Ничего, – сказала старуха, смахнув застрявшую в глубокой морщине у рта слезинку и аккуратным жестом упрятала выбившуюся из-под платка прядку пегих волос. – Проживем как-нибудь.
На прощанье она меня перекрестила... Что ж, в бога я не верю, но, возможно, прозрачная тень креста, вычерченного этой крошечной рукой, поможет мне искать. Здесь неподалеку; мимо этого отеля наверняка проходил в последнее время Иван Францевич, тут пролегает путь, который проходят все пенсионеры Агапова тупика: через квартал отсюда, в сером доме, где на запущенном балконе растет худосочная березка, на первом этаже находится почта; здесь все наши старики получают пенсию. В прежние годы я несколько раз провожала учителя до почты. Тогда отель еще строился, отгородившись от мира глухим массивным забором, ритмично проштемпелеванным через каждый метр фирменным клеймом какой-то очень известной строительной кампании – то ли австрийской, то ли итальянской, то ли турецкой.
Теперь на месте забора паркинг. А на ступеньках прогуливается швейцар – он торчит туг с утра до ночи.
Возможно, он видел пожилого хромого человека.
Когда-то на этом месте был скверик; узкие дорожки извивались между пышной сиренью и сходились к обширной клумбе, в центре которой рос массивный каменный цветок лепной вазы – такие цветы культивировались прежде в парках культуры и отдыха, и Бог знает, какими ветрами бетонное семя занесло его сюда с тех плантаций, где вдоль аллей стояли гипсовые гребцы, копьеметатели и пионеры с горнами... Здесь было тихо и темно – детям под нашим старым добрым небом этого вполне хватало; собирались здесь по вечерам – сидеть на лавочках, дышать свежими запахами и обниматься. Отель подмял под себя все прежнее: сквер, лепную вазу, сутулые лавочки, на которые волнами накатывала сирень, – ах, как хорошо было тонуть в этих темных пахучих волнах! Я принюхалась, отметила про себя:
...и порыскала взглядом: от кого бы могли исходить ароматы такой плотности?
По сверкающей лестнице нисходила азиатская женщина средних лет в невероятно белоснежном пиджаке. В стороне от парадного подъезда стоял полный мужчина со щеками такой восковой спелости, что в них хотелось впиться зубами, как в мягкую, сочащуюся янтарным соком грушу, – что-то в его позе было неловкое; уронив левое плечо, он пытался нащупать что-то в кармане. Смысл позы расшифровать оказалось нетрудно: в глубинах просторных брюк совершенно автономно от взгляда, скользящего по лакированному паркингу, от выражения лица, от правой руки, в которой быстро тлела сигарета, происходило характерное шевеление – мужики имеют обыкновение, впав во внезапную задумчивость опускать руку в карман... Внезапно за спиной моей возник звук – оглушительный! – если брать во внимание его природу... (во всяком случае, нужно обладать большим талантом и навыком, чтобы исторгать из себя подобные густо-басовые рулады).
Эта женщина с тщательно отштукатуренным лицом бухгалтера совместного предприятия прохаживалась на углу паркинга и жевала что-то продолговатое, полуочищенное от кожуры блестящей обертки; старик Корсаков тут бы не смолчал:
...подавив икоту, я присмотрелась к обладательнице столь нетривиального таланта... А что, ее дедушка мог вполне иметь красивые льняные волосы и прекрасное рязанское лицо.
– Слушайте, – спросила я. – Ваш дедушка, часом, не служил в Конармии? Там был один боец, который восхитительно умел вот так развлекать ратных товарищей... Называлось это, кажется, "орудие номер два нуля, крой беглым".
Она продолжала жевать и трубить, совершенно не смущаясь собственной неосторожностью; больше того, она продолжала, даже встретившись со мной взглядом.
Глаза у нее были карие – красивые, спокойные и глупые.
– Катись ты, – парировала она, заканчивая на высокой ноте; скомкала фантик и пульнула серебряным шариком в меня; я увернулась, и маленький снарядик вприпрыжку понесся к ногам грушеголового господина, невозмутимо продолжавшего свои потаенные массажные пассы. Я, было, подумала посочувствовать: "Вам трусики жмут?" – однако вовремя прикусила язык: не ровен час, меня здесь еще поколотят.
Швейцар в зеленой униформе, расшитой золотом, напоминавший генералиссимуса, переломившись пополам (в нем, как минимум, два метра роста), учтиво объяснял что-то на вполне приличном английском японской женщине; та слушала и бессмысленно улыбалась – не кому-то конкретному, а в пространство. Уличный генералиссимус производил впечатление подростка: патологическая худоба, подчеркнутая баскетбольным ростом, смуглое, скорее даже закопченное узкое лицо – точно только-только прибыл сюда с берегов самого синего в мире Черного моря, где можно расслабиться, разомлеть на солнце и не думать о том, что мама тебя только затем и произвела на свет, чтобы ты в идиотски-пышной ливрее торчал под козырьком отеля, кланялся богатым самураям и рассылал во все стороны лакейские улыбки.
Я поинтересовалась: что он заканчивал – ИнЯз или Институт международных отношений?
– Вам нечем заняться? – он быстро, профессионально осмотрелся, бегло оценил мою внешность и сдержанно кашлянул в кулак – намекая, по всей видимости, что присутствие здесь, на огороженном столбиками пространстве, людей вроде меня не вполне уместно.
Заняться? Отчего же нечем; я занята, мы играем в прятки; один пожилой человек так замаскировался, что я никак не могу его отыскать...
– Хромой такой... Левая нога в ортопедическом ботинке. Не видели?
Поразительно – он видел и запомнил.
Он запомнил благодаря какой-то странности... Ах да, он был очень бедно одет, и вообще производил впечатление полунищего, однако при этом на ходу жевал шоколадную конфетку – что-то из известного семейства, где "толстый-толстый слой шоколада".
Ой, не нравится мне все это... Безденежный старик, все последнее время едва-едва сводивший концы с концами, раскошеливается на "сникерсы" или что-то в этом роде?
– Он задал мне тот же вопрос... – швейцар стыдливо отвел глаза. – Насчет института. И еще спросил – не грустно ли все это.
Понимаю... Узнай Иван Францевич, что я фарцую газетами, он бы меня по головке не погладил.
– Один совет... – я потянула молодого человека за рукав, понуждая его наклониться. – Не тяни гласные без разбору. Это все-таки язык Шекспира, а не бабл-гам.
– Да-да, – согласился он, – "пишется Ливерпуль, а читается Манчестер"... Я за этим послежу, – зыркнув по сторонам, он вытащил из кармана крохотный продолговатый пенальчик, дал ему в лоб щелбан; предмет выплюнул плоскую пластинку.
– С собой? – сглотнув слюну, спросила я.
Он расхохотался. Ах, да...
Что за прелесть – водить в Агаповом тупике; идти дозором по этим дворам, прислушиваться, принюхиваться, приглядываться – непременно взбодрит тебя какое-нибудь свежее впечатление: на этот раз оно явилось мне в виде татарки Раи, нашего дворника, средних лет женщины с румяным лицом, очень хорошо сохранившимся от здорового, наполненного физическим трудом на воздухе образа жизни; опираясь на метлу, она с тоской и грустью взирала на помойку.
Железные контейнеры, как всегда, были доверху завалены пустыми толстобокими бутылками; еще совсем недавно, может быть даже вчера, наполненные любимым напитком туземцев Огненной Земли. Загружает контейнеры какой-то подпольный буглегер явно по ночам; с утра население приходит к помойке, а опорожнять мусорные ведра некуда – вываливают объедки прямо на асфальт.
Рая сквозь зубы обещает спиртовозу повыдергивать ноги и пустить их самостоятельно гулять по Агапову тупику.
– ГовнА такая! – ругается Рая, и я про себя восхищаюсь ее тонкому языковому чутью; до чего просто и гениально: достаточно одеть слово среднего рода в женскую сорочку – и оно тут же приобретет известный шарм и изысканность.
Рая хмурилась, припоминая; хромой? Нет, в последнее время не встречала. Недели три, наверное, или больше.
Рае можно верить – она человек профессионально старательный, стоит на боевом посту часов с пяти утра, и пройти мимо нее незамеченным просто невозможно.
– Может, он в больницу загремел?
В больницу? Об этом я как-то не подумала.
Скорее всего, так; не дай бог, с ним что-то серьезное: "неотложка" или "скорая", массаж сердечной мышцы, инсулин...
Рая прищурилась – она близорука немного, однако очки не признает; наверное, она права, дворник в очках – это все равно что еврей-дворник, нонсенс. Я проследила направление ее взгляда.
От арки наискосок через двор по направлению к нам двигалось сомнамбулическое существо в сером, гигантского, гренадерского размера больничном халате и тапочках-шлепанцах; я зябко поежилась: в последнее время дни стоят свежие, сомнамбула одета явно не по погоде.
– Никак, Тоня? – охнула Рая.
Баба Тоня: лицо как печеное яблочко, длинные трудовые руки, легкая косолапость – один из старожилов Агапова тупика; прежде у нее была собака Чуча, добродушный волчара с невозможно стыдливым взглядом, но весной она сдохла, отведав во дворе воздушной кукурузы. Это лакомство, как выяснилось, было нашпиговано зоокумарином и предназначалось для крыс. Баба Тоня с горя захворала – чем-то ужасным, безнадежным. Наверное, злокачественные опухоли уже давно свили гнездо в ее легком, одуванчиковом теле, и смерть любимой собаки только подтолкнула и разогнала процесс: после долгих обследований и истязаний ее уложили в онкологическое отделение.
– Что их там, на прогулки отпускают?
– Ага, жди! – пресекла Рая мои размышления вслух и как всегда, оказалась права.
С утра в отделение, равнодушно докладывала Тоня, пришел главврач и "освободил" больных и страждущих: нет денег на содержание, нет лекарств и лабораторных препаратов, нет еды в столовке – вообще ничего нет; поэтому граждане рако-больные, ступайте с богом! – баба Тоня и пошла...
– Господи, пешком? – я прикинула про себя расстояние до онкологического центра и ужаснулась. – В самом деле пешком?
Ласково улыбаясь, баба Тоня мелко кивала: пешком, пешком, милая, а как же еще, денег-то нет...
Что ж, пейзаж для Огненной Земли вполне нормальный; так и бредут они по городу: все сердечники, разинув голубые от боли рты; и почечники, гремя утробными камнями; и костыляют из Склифа наскоро заштопанные, на живую нитку наметанные клиенты хирургического отделения; и паралитики, наверное, идут как цирковые акробаты – на руках; и даже те, кто в состоянии комы пластался в "интенсивной терапии", тоже пойдут, бережно неся на вытянутых руках свои капельницы.
– Чер-р-р-ти! – выкрикнула Рая; я смотрела вслед удаляющейся бабе Тоне и поэтому не поняла, что на этот раз вызвало гнев нашей дворничихи; Рая вытянула ногу, демонстрируя свой ослепительный, апельсинового оттенка резиновый сапог, измазанный чем-то черным и сальным. – Влипла... Куда ни плюнь – говны кругом!
Что верно, то верно: собачки настолько густо унавозили двор, что не оставили без продуктов своего отменного пищеварения ни единого квадратного сантиметра, – однако, черт с ними, в самом деле, – с четвероногими друзьями человека... "Рая, – восхищенно воскликнула я про себя, – это именно тот случай, когда умри, а лучше не напишешь!" Ведь в самом деле:
...и пусть фирма "Эрлан" к продукту, о котором идет речь, отношения не имеет, это уже не столь важно... Их в самом деле много, они – справа и слева, сверху и снизу, они заливают нас девятым валом и топят в себе...
Забежав в библиотеку, я талантливо отыграла роль "библиотекарша-сломленная-простудой" и выпросила несколько дней воли. Впрочем, и разыгрывать не было особой нужды: я имею безоговорочное право ни черта не делать на службе, поскольку зарплату мне задерживают уже третий месяц.
Вернулась домой, поцеловала Роджера в холодный лоб, бесцельно побродила по квартире; наконец уселась у телефона и поймала себя на мысли, что в последнее время отчетливо ощущаю его присутствие в доме... Это как боль – зубная, сердечная; нет ее – и будто бы не понимаешь, что есть у тебя челюсть, а в ней резцы и мудрые зубы, и не слышишь ритмичный ход сердечного перпетуум мобиле; однако чуть что – зашевелился нерв в зубе, сердечный клапан застучал – и сразу чувствуешь всю хрупкость плоти.
Значит, я жду звонка: манит, манит черный телефон; однако за пазухой у него холодно, он крайне молчалив, и даже если вызвать его на разговор, он попросит отвязаться: ту-ту-ту...
От кого должен долететь звонок? От Алки? Это исключено – мы страшно поцапались. Вернувшись в Москву из своей деревни, Алка гневно отчитывала меня по телефону: я – сука такая! (само собой разумеется), я – ... (понятно, упрек принят), я – ... (с этой характеристикой можно поспорить), я – ... (ну, эхо уже слишком, перебор, я не торчу на Трех вокзалах и не занимаюсь оральным сексом с кем попало!) – словом, я, конечно, неправильно поступила, бросив ее на даче без машины и без средств к существованию... Нет, Алка не позвонит, да я и не жду.
Признавайся, Белка: ты самая чудная белка из всех бегающих по деревьям в джунглях Огненной Земли, поскольку ждешь встречи с охотником.
Я рассеянно листала странички с номерами телефонов – нет занятия печальнее: перебирать имена людей, когда-то близких, необходимых, но теперь годами не подающих весточку.
Из блокнота выпала визитка. Я повертела в пальцах плотный и вполне респектабельный кусочек картона.
"Сергей Панин, консультант..."
Ах да, в прошлом году, кажется весной, Серега заходил в библиотеку – порасспросить о моем бывшем муже. Помочь я ему тогда не смогла: с Федором Ивановичем мы не виделись лет восемь, и желания встречаться я не испытывала... Помнится, Панин от руки вписал телефон мужа.
Мне пришла в голову нескучная мысль.
Этот розыгрыш стар, как мир.
Он стар настолько, насколько идиотичен.
Тем не менее я набрала вписанный от руки номер телефона.
Ответил ровный, прохладный женский голос. Нет, с генеральным директором поговорить нет никакой возможности. Да, занят... Если вы не договаривались о разговоре заранее, то – увы и ах...
Ничего себе, оказывается, в коммерческих лавочках даже о телефонной болтовне следует договариваться.
– У госпожи какой-то деловой вопрос?
Я поперхнулась. Меня подташнивает от этих речевых ноу-хау, принятых в кругах "новых русских": твою мать господа с четырехклассным образованием!
Деловой вопрос? В каком-то смысле да, госпожа беспокоит госпожу с телефонной станции. Нет, все счета оплачены – просто обычная проверка линии; линия барахлит, вот мы и прозваниваем всех абонентов. Аппарат у вас качественный? Какой-нибудь из рода:
– она ответила в том смысле, что и без указанных аппаратов у фирмы в кармане – пусть не весь мир, но добрый его кусок.
– А провод у вас длинный?
Длинный, сообщила секретарша, метра три.
Я сокровенно притушила голос и попросила: ну, так будьте любезны, госпожа, засуньте его себе в задницу - и повесила трубку. Выждала минут пять, перезвонила и строго приказала: теперь можете вынуть.
Минуты через три раздался звонок.
– Развлекаешься? – спросил Федор Иванович. – Ты ничуть не изменилась.
– Как ты догадался? У тебя телефон с определителем?
– Естественно, но определитель в данном случае ни к чему. В этом городе есть только один человек, способный позволить себе такого рода идиотские шутки! Впрочем... – он помолчал, – нет, не один, а два. Еще твой горнолыжный приятель Панин. Как он там, еще не сдох? Мусорщиком работает?
Нет, не мусорщиком. Время от времени подрабатывает частным извозом – родитель его умер года четыре назад, если не ошибаюсь, и оставил сыну машину. Свою теперешнюю профессию он толкует, на мой вкус, несколько глубокомысленно: извоз – это своего рода внутренняя эмиграция – он не желает участвовать "во всем этом идиотизме". Милый, старый Панин... Говорят, часть животных впадает зимой в спячку и пребывает в состоянии анабиоза до первого тепла. Мы с милым другом детства "животные-наоборот" – погружаемся в анабиоз в течение трех времен года, когда не лежит снег. Стоит первому снегу улечься в Крылатском, как мы тут же собираем лыжи, пакуем рюкзаки и движемся на природу – "открывать сезон". Открытие сезона – это торжественное, ритуальное мероприятие; пару раз мы спускаемся с горок, а потом катим к огромному дереву, торчащему посреди склона.
– Лыжи плохо едут, – объясняет Панин. – Надо смазать! – и лезет в рюкзак. Последние пятнадцать лет Панин в качестве смазки, радикально улучшающей скольжение, применяет портвейн. Прошлое открытие сезона прошло настолько душевно, что милиционер в метро заметил моему лучшему другу: "А вам, товарищ лыжник, предстоит добираться наземным транспортом!"
Я хотела пожелать Федору Ивановичу на прощание что-нибудь душевное, однако мой бывший муж предусмотрительно повесил трубку.
Едва я успела нажать на рычажок, как туг же раздался очередной звонок.
Это был Зина.
– Охотник ты, – пожурила я его, – но где же дичь? Где куропатка или сыч?
– Это стихи?.. А что дальше?
О, дальше просто великолепно:
Мы славно выпьем под сыча
Зубровки и спотыкача.
"Спотыкача" Зина мне не гарантирует, но что-то вроде сыча отведать можно...
– Давай поедем куда-нибудь. Перекусим.
Он подъехал через полчаса на изношеной "шестерке" сугубо "литературного" оттенка. Литературным я называю цвет "сиреневых сумерек" – в природе такого оттенка нет – его придумали писатели, а они, как известно, страдают легкой формой дальтонии – не все, но многие... Наблюдая за ним из окна – он запирает дверцу, по привычке пинает носком ботинка колесо, медленно поднимает лицо, видит меня, расплющившую нос об оконное стекло, – я с удивлением отметила: у меня есть впечатление, будто мы знакомы сто лет; и странно, что в паспортах нет соответствующих штампов... Во всяком случае, если он сейчас присядет на диван и заметит, что пора бы уже приступить к исполнению супружеских обязанностей, я отнесусь к его словам с тем послушанием и спокойствием, с каким выслушала бы тривиальный бытовой намек – ну, скажем, на то что в мойке с вечера лежит груда грязной посуды.
В прихожей он осторожно отвел мои волосы от виска, наклонился, поцеловал – висок вспыхнул; наверное, вспыхнуло и все остальное... Он прошел в комнату и уселся на диван. "Ну вот, – подумала я, – сейчас скажет, сейчас произнесет..."
– Так что, едем?
– Сейчас... – рассеянно ответила я, соображая, во что бы нарядиться. – Сейчас, только пописаю...
Я схватилась за рот, но было уже поздно. Реплика выпорхнула совершенно автоматически; такого рода рассеянные замечания разбрасывают люди только в одном случае: если это свои люди.
"Охотник... – подумала я, – вошел в мои леса и моментально сделался своим; знает все тропы, ручьи, буреломы, понимает язык зверей и птиц..."
Я столбом стояла посреди комнаты – скорее всего, в этот момент я была сделана из чистого, без посторонних примесей, сталактитового вещества.
Он поставил на стол какой-то пакет:
– Твой Делапьер! Сама ведь говорила, что хорошее шампанское за мной.
Опять он нашел какую-то самую простую и самую нужную в неловкой ситуации реплику – я моментально "отмерла".
– По походному одеваться?
Он ответил неопределенным жестом, который можно было истолковать примерно так: "По походному, однако не совсем..."
– Впрочем, я сейчас уточню... Телефон у тебя где? Ах да, в коридоре...
Пока он звонил, я копалась в шкафу. Выбрала просторный вельветовый жакет поэтического фасона и светлокремовые брюки. Выбирать было особенно на из чего, однако Зина утвердительно кивнул:
– Вполне!
В машине он включил музыку.
– Странно, что у тебя не сперли магнитофон... Тогда, помнишь? Когда ты бросил машину.
– Какую машину? – переспросил он.
Занятно. Туземцам с Огненной Земли автомобиль дается один раз в жизни, и прожить с ним надо так, чтобы не было мучительно больно за покореженные ночными грабителями приборные щитки, разбитые стекла и снятые колеса; если человек спокойно бросает машину в чистом поле, то, значит, он располагает целым гаражом и может себе позволить менять авто, как перчатки.
Хорошо, что я успела подсказать Зине, чтоб не гнал и перестроился в левый ряд.
Улица, которой мы выбирались из Агапова тупика на волю, хворает вот уже добрых полгода – что-то у нее не в порядке в желудке; скорее всего, либо канализационные селезенки, либо ветхие жилы теплоцентрали; хотя, возможно, это аппендицит – справа проезжая часть вспорота и огорожена бетонным забором, прикрывающим глубокую рану; однажды я видела копошащихся в яме людей в касках, но месяца три назад они исчезли, забыв засыпать яму и снять забор, – впрочем, такого свойства забывчивость в характере коренного населения Огненной Земли.
У входа в узкую воронку, через которую мимо забора просачивается транспортный поток, вечно возникает толчея. Сразу за бетонным ограждением Зина резко вильнул вправо, отчаянно придавил газ – мы едва не налетели на стеклянную будку автобусной остановки.
Минуты через три, когда Зина ушел, а я осталась сидеть на месте, тупо глядя на приборный щиток, я размышляла над тем, что с нами могло бы приключиться, не пойди он на этот рискованный отчаянный маневр.
Остальное было потом – жуткий скрежет, грохот, звон разлетающегося стекла – да, было потом. А прежде с неба что-то упало – ослепительное, яркое, сияющее...
Автомобиль. И он упал с неба – прямо на серебристый "фольксваген", шедший борт в борт с нами на расстоянии полутора метров.
Проехав метров пятьдесят, мы приткнулись к бордюру и с минуту молча, в состоянии полной прострации следили, как ерзает по стеклу черная лопаточка "дворника". Потом Зина резко выдохнул – как штангист перед решающей попыткой – и вышел.
Я сидела, откинувшись на сиденье, и – тупо, натужно, как бульдозер в большом снегу – пыталась протолкнуться к смыслу странного ощущения, которое преследует меня все последнее время. Проталкиваясь через беспорядочный, буреломный какой-то навал событий, я понимала, что следом за мной (вернее сказать, где-то надо мной) следовала в эти дни россыпь мелких, рваных характеристик, в чем-то определенно напоминающих мельчайшую крупу млечного пути; крупинки падали из черного космоса и оседали на землю где-то поблизости от меня, сигналя о чем-то таком, что вселяло в меня суеверный ужас... Одна из молекул млечной крупы, кажется, плавно опустилась на плечо кинг-конга, который шел тесным переулком разбираться с зеленым "жигуленком"; да-да, у него был вид пастыря, собирающегося пасти свое стадо жезлом железным, и под его ударами несчастный автомобиль сокрушался, как сосуд глиняный. А получасом раньше – что? Ах, да, фургон, алкогольный кладезь: и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, – и в самом ведь деле – помрачились солнце и воздух.
Я закурила, попробовала сосредоточиться. Что еще? Кажется, крупинка млечной пыли залетала в окошко того троллейбуса на Комсомольском: треск, грохот, искры сыпятся с проводов, крики да вопли – словом, произошли голоса и громы, молнии и землетрясения... А теперь? Ослепительно сверкающая ярким красным лаком машина низверглась с высоты – звезды небесные пали на землю?
Я притушила сигарету, посмотрелась в зеркальце и определила, что у рыжей девушки, пристально глядящей на меня из Зазеркалья, есть два пути. Либо – как Шпаликов советует: зубровки и спотыкача. Либо – забежать к психиатру.
Отсутствовал Зина долго. Я не могла заставить себя обернуться.
– Тебе не стоило на это смотреть, – хмуро сказал он, когда мы тронулись, и рассказал, как, по его предположениям, развивались события.
Этот "летучий голландец" шел на бешеной скорости в правом ряду; одна бетонная плита в ограждении завалилась, улеглась на асфальт под углом и сыграла роль "подкидной доски" – такие трамплины используют каскадеры, когда им надо перелететь на автомобиле через улицу. От них осталось мокрое место – от "фольксвагена" и самого каскадера.
– Роскошный был автомобиль, – подвел итог Зина – "Понтиак Файерберд".
Я сглотнула слюну и закашлялась; на этот раз мне удалось справиться с приступом и трансформировать его едкое вещество в достаточно нейтральную реплику:
– Выходит, этот парень слишком стремился во всем быть первым.
Зина метнул на меня короткий выразительный взгляд, и я махнула рукой на правила приличия:
...однако мы уже, кажется, приближались к цели нашего путешествия; бросив машину на паркинге, углубились в просторную, полную воздуха и свежести холмистую местность, укрытую ровной зеленой травкой, аккуратность которой наводила на мысль, что она внимательно причесана.
– Нам предстоит пикник? – спросила я, беря Зину под руку.
– В каком-то смысле... – улыбнулся он, высвободил локоть и обнял меня, – да, пикник.
Вдали металлически поблескивала Москва-река.
– А что это за райская такая обочина, предназначенная для пикников?
Оказалось, это не обочина, а вотчина – гольф-клуба. Я присвистнула: вот уж не думала, что Огненная Земля достигла таких высот народного благосостояния, что может себе позволить заводить гольф-клубы. Зина уверенно увлекал меня в направлении аккуратного здания торчащего в поле и, казалось, вырастающего прямо из травы. Мы поднялись на второй этаж, и я невольно вспомнила тихого, пришибленного синолога, Варвариного мужа, - у входа стояли китайские куклы и одаривали всяк сюда входящего тайными восточными улыбками.
Мы прошли в зал.
– Зина, Зина... Какой у тебя экстравагантный способ ухаживания за девушками! Для начала ты их ведешь на кладбище. Продолжаете вы в китайском ресторане. А что будет на третье, на десерт, так сказать?
Это был именно китайский ресторан: фонари, ширмы на окнах, цветочные гирлянды... Мы прошли на балкон и устроились за столиком на солнышке.
Отсюда открывался чудесный вид.
Среди зеленых холмов бродили люди в белых одеждах; время от времени они останавливались, опускали плечи и сосредоточенно смотрели себе под ноги – в точности воспроизводя позу мужчины, делающего свое маленькое дело.
– Что это они?
Зина не откликнулся; он сидел, слегка подавшись вперед, вглядывался в белые фигурки, растворенные в зеленом поле.
– А-а-а, – очнулся он наконец. – Играют себе люди.
Наверное, мне следовало и самой догадаться: в гольф-клуб люди приезжают не справить нужду, а помахать клюшками.
Только потом – после, когда много чего экзотически-роскошного исчезло в моем желудке; все эти восхитительно разгоняющие аппетит кусочки курицы в чехлах хрустящего теста, креветки в кляре, телятина, глазированная баранина, и, наконец, королевская креветка с чесночным соусом такой крепости, что язык мой воспламенился, – только тогда я подумала, что Зина не в своей тарелке: почти ничего не ест, отвечает рассеянно и часто невпопад.
– А скоро здесь начнут стрелять? – спросила попытавшись пошевелиться; это мне удалось с трудом –наверное, такие ощущения испытывает человек, съевший слона.
– Что-что? – он вздрогнул, переменился в лице. – Что ты сказала?
В китайских ресторанах вечно стреляют – это я знаю как автор саги про "новых русских"; в одном из эпизодов какие-то бандиты расстреливают у меня шефа-повара ресторана "Пекин" – странно, говорят, он был приличным и безобидным человеком...
– Вот ведь несчастный народ, эти "новые русские"! – заметила я, коротко посвятив Зину в кое-какие детали саги.
– Не такие уж они и бедные, – заметил Зина, и мне показалось, что сейчас он разговаривает сам с собой.
Он пристально вглядывался в зеленое поле, где разглядывать было особенно нечего. К домику приближался какой-то человек лет пятидесяти: плотно сбитый, осанистый, подтянутый – должно быть, в прошлом спортсмен, считающий нужным постоянно поддерживать себя в отличной форме; единственную помарку в его внешности составляла достаточно откровенная и бросающаяся в глаза кривоногость – дефект придавал походке несколько вульгарный оттенок... Про такую говорят – утиная. Человек прошел мимо нас и медленно удалился в сторону паркинга.
– Твой знакомый? – спросила я.
Взгляд у Зины был отсутствующий: он меня не слышал, а если и слышал, то делал вид, будто на время забыл русский язык.
– А, этот? – переспросил он. – Да нет, откуда? Тут публика респектабельная, а я человек простой... – он подтянулся, повел плечами, смахнул несуществующую пылинку с лацкана изысканного клетчатого пиджака ("Ага, простой, – передразнила его я про себя, – да за один такой пиджак мне надо работать год!") и с улыбкой кивнул мне: – Иди, я расплачусь.
Я не тронулась с места; постукивая ногтем по бутылке "Shablis" ("шабли", что ли? не "спотыкач", конечно, но вполне, вполне на уровне питье!), я молча курила, пытаясь найти в его мягких светло-голубых, совершенно по-детски беспомощных глазах ответ на вопрос, занимавший меня.
И не нашла.
– Что это с тобой, а, Зина?
– Ты мне нравишься, – он мягко улыбнулся и прикрыл ладонью мою руку. – Нравишься. В том-то и дело.
Охотник, охотник... Не лукавь – белка зверек не только проворный, но и смышленый, ее не перехитрить... Ее можно, разве что, подстрелить – если ты меткий стрелок и сможешь послать девять граммов свинца точно в глаз.
В середине дня я отправилась к Панину.
С утра наведалась на почту и в поликлинику, где выяснила кое-что про Ивана Францевича.
Во-первых, он уже три месяца не приходил за пенсией.
Во-вторых, обращался к врачу по поводу расстройства желудка.
И то и другое выглядело, по меньшей мере, странным – мне нужен был совет старого доброго друга. Он старше меня на три года, тем не менее, мы с ним очень близкие, совсем родственные души; оба – "бабушкины дети": нас растили и воспитывали не папы и мамы, а бабушки и дедушки. Сережа рос без матери; отец его (под нашим старым добрым небом – рядовой шофер в каком-то очень закрытом номенклатурном гараже) со временем зашагал и сделался большим госплановским начальником; четыре года назад он умер. Я росла без отца, мама (под нашим старым добрым небом – аспирантка с косичками) настолько углубилась в свой исторический материализм, возводя на монументальном фундаменте цитат средневековой прочности и угрюмости диссертационные замки, что со временем пришла к мысли о соединении теории с практикой, и была принята в Министерство культуры, где отвечала за художественную самодеятельность; временем наши ответственные родители не располагали – и сдали детей на руки старикам.
Был еще один повод для встречи.
Когда мы с Зиной заезжали к Панину и просили его починить стекло в дверце Алкиной Гактунгры, он мне впихнул в сумку несколько журнальчиков; я сунула их в стол. Обстоятельства складывались так, что про этот подарок я совершенно позабыла, и только вчера на ночь глядя в поисках спичек наткнулась на журналы.
Оказывается, Панин накатал роман про моего бывшего мужа*[32], где по ходу развития сюжета выясняется, что Федор Иванович "сука порядочная". Не стоило изводить груду бумаги, чтобы прийти к такому оригинальному выводу, – мне это стало ясно давным-давно.
Однако разговор у нас будет не о характере персонажа.
Милый Панин, скажу я старому другу, во-первых, "сука порядочная" – это ты... Какое ты имел право присваивать имя Белка какой-то толстомясой французской корове, если оно принадлежит мне по праву? Во-вторых, название сигарет "Мор" по-английски пишется не через "дабл-о". В-третьих, маленькое замечание по поводу прозвища моего бывшего мужа. CATERPILLER, насколько я помню, содержит в себе целый букет симпатичных значений: "гусеница", "кровопийца", "пиявка", "паук", "паразит", "вымогатель", "ростовщик" – для одного человека это слишком роскошный набор качественных характеристик; если даже прозвище Катерпиллер и прилипло в школьные годы к Федору Ивановичу, то не стоило бы тупо следовать в русле документалистики – воображение писателю на то и дано, чтобы его время от времени напрягать.
И потом – отчего бы не назваться своим именем? Зачем придумывать псевдоним? Василий Казаринов – это кто? Наверняка пьянь порядочная, как и сам автор, и тоже катается на горных лыжах...
Впрочем, милый друг Панин, скажу я, это мелочи, камешки на ладони, так сказать; берегись, Панин, сейчас я пульну в твой огород настоящий камень, кирпич: нельзя, милый друг, так торопить и нахлестывать текст – если так нахлестывать, можно слова до смерти загнать; слова не виноваты, и уж тем более они не скаковые лошадки... Вообще этот азартный вид спорта совершенно чужд нашей беллетристической традиции – уж если следовать в русле ассоциативных пассажей, то нам ближе подводное плаванье: стремление уйти от поверхности, погрузиться и плыть в каких-то опасных сумрачных глубинах, их неторопливо осматривать, ощупывать, подолгу растирать в пальцах скользкий донный песок – и при этом совершенно индифферентно относиться к тем ураганам, что баламутят, переворачивают вверх тормашками и разметают в пыль поверхностные слои жизни; словом, милый друг Панин, в своем тексте ты – обычный тривиальный туземец с Огненной Земли.
Занятно – как он отреагирует?
Дверь мне открыл Музыка, сосед Сереги по коммуналке; когда-то он чудесно играл на аккордеоне во дворе... От прежнего Андрюши ничего не осталось; он совершенно выцвел и обветшал. Он молча кивнул в ответ на мое приветствие, повернулся и тяжело, вперевалку зашаркал на кухню.
Панин лежал на необъятных размеров лежанке и внимательно читал книгу в ядовито-зеленом переплете. В углу, на приземистой, неопределенного назначения тумбе сонно бубнил телевизор; в кадре мелькали дореволюционного вида люди с роскошными усами и в мундирах, порхали белоснежные девочки в воздушных платьицах ("ТАК мы жили..." – с горьким сожалением комментировал диктор); прочную, улыбчивую и порхающую жизнь срезали, точно бритвой, жанровые сцены теперешних времен ("ТАК мы живем..." – подсказал диктор; балбес! как будто люди сами не знают – как).
"Возродим Россию вместе!" – проорал в финале ролика телевизор.
– Серега, они нас держат за идиотов!
– Вовсе нет, – отозвался Панин, не отрываясь от чтения. – Россия возродится, тут нет никаких сомнений!
– Панин, ты сошел с ума, – я поискала, куда бы присесть: обстановку милого друга составляли два стула, однако они по совместительству служили гардеробом; я устроилась на огромном сундуке с покатой крышкой.
"Ваш ва-а-а-а-учер... Ваш вы-ы-ы-ы-бор" – сладкоголосо пропел телевизор.
Откуда-то мне этот нежный женский голос был знаком... Вернее, не сам по себе голос, а интонация. Догадавшись – откуда – я выкрикнула:
– Ну, это уже слишком!
Да, именно так; однажды мне случилось присутствовать при сценах телефонной любви; дойдя в половой близости с далеким абонентом до точки, Алка именно так интонировала сладостный оргазм.
– Возродится, возродится... – настаивал Панин. – Я понял это, прочитав чрезвычайно достойную книгу. Глянь...
Это была "История кабаков в России" И. Т. Прыжова. Я слышала об этом фундаментальном труде, но на глаза он мне попался впервые.
– Судя по тому, как мы решительно восстанавливаем кабаки, у нас есть будущее, – Панин поднялся с лежанки, подошел, поцеловал меня в лоб. – Привет, рыжая... Нет, в самом деле, реставрировав в полном объеме кабацкое дело, мы прочно встанем на ноги.
– Ты уже и так стоишь... – я ласково отвела его руку, которая, полежав на плече и осмелев, двинулась на завоевание моей груди. – Панин, милый друг, ты меня не трожь теперь, у меня влюбленность... Тебе не уложить меня на спину, даже если ты накачаешь меня бабоукладочным напитком "Амаретто".
Я рассказала про Ивана Францевича. С минуту Панин молчал, покусывая ноготь.
– Криц? Он ведь был у вас классным руководителем?
Да, жили-были дети под нашим старым добрым небом, и был у них классный руководитель, Иван Францевич Криц, преподаватель математики; он часто приглашал детей к себе в Дом с башенкой, под расписные небеса на потолке.
– На почте была?
Была... Отстояла очередь к третьему окошку, где старикам выдают их пенсионные гроши.
– И что?
Странно, он три месяца не приходил за пенсией.
– Значит, у него завелись деньги, – раздумчиво произнес Панин, пожевывая потухшую сигарету.
Да, завелись, и, судя по всему, очень приличные... Откуда? Не ограбил же он банк – старый, хромой, немощный учитель.
– Может, не дай Бог, в больницу попал? – предположил Панин.
Вряд ли. После посещения поликлиники я обзванивала клиники. Нет... Не был... Не поступал...
А что в поликлинике?
Да почти ничего... Прорвалась кое-как к районному терапевту – без предварительной записи это непросто. Доктор (утомленный, полуживой взгляд, профессионально-равнодушный тон: "На что жалуетесь?" "Раздевайтесь?", "Как это зачем?"), оторвавшись от марания чьей-то засаленной истории болезни, изучал меня с видом совершенно сбитого с толку человека. Уяснив наконец цель визита, он, против ожиданий, не выставил меня вон, а, порывшись в ящике стола, достал затрепанную ученическую тетрадку; терпеливо листал страницы, тщательно исследуя указательным пальцем – сверху вниз – какие-то графы с фамилиями и именами... Да, был Криц. Месяца полтора назад... Обращался по поводу расстройства желудка. Ситуация не вполне ординарная; он, грубо говоря, объелся хорошими продуктами – такое бывает, если человек резко меняет характер пищи. Что бы это значило? Ну, допустим, объяснил участковый терапевт, человек несколько последних лет имел крайне скудное меню, "шрапнель" да чай, и вдруг ни с того ни с сего впадает в гурманство: сыры, копчености, соки.
Панин некоторое время напряженно молчал, гоняя бычок из угла в угол рта; наконец он оставил в покое свою подвижную сигарету, вытоптавшую ему всю нижнюю губу, сосредоточенно размял ее в пепельнице.
– Морги? – тихо произнес он.
– Что – морги? Какие – морги? Зачем?
– Ладно, – тяжело вздохнул он. – Морги – это в прошлом моя родная стихия. Я выясню.
И рассказал очаровательный сюжет из жизни туземцев Огненной Земли. Туземцы очень любят бананы – это общеизвестно. В последнее время этого фрукта завезли в страну в таком количестве, что местное население воспряло духом. Однако, с другой стороны, общеизвестно, что Огненная Земля располагает крайне малым количеством специальных холодильников для хранения подобного рода скоропортящихся деликатесов. Владельцы бананов, справедливо опасаясь, что товар сгниет, взяли в оборот морги – в покойницких царит изрядный холод. Подвинули усопших, поставили ящики с товаром. Туземцы обжирались экзотическим тропическим фруктом, не подозревая, что в него проникла трупная палочка.
– Так что морги теперь у нас, – заключил Панин, – точно такой же элемент рыночного хозяйства, как товарно-сырьевая биржа или завод Уралмаш.
– Сюжетец! – оценила я этот рассказ и вспомнила про журналы в сумке. – Славный ты накатал роман, местами очень впечатляет, – я пустила странички веером, отыскивая начало повествования. – Вот! "Все меня устраивает в работе консультанта..."
– В оригинале было – "литконсультанта", эта должность больше соответствовала характеру работы, – вставил друг детства.
– Хорошо... "Все меня устраивает в работе литконсультанта, за исключением перспективы, что сейчас мне отрежут яйца, сварят их вкрутую и пустят на приготовление салата "оливье". Мило, нежно и трогательно... Что-то такое прямо тургеневское сквозит в этих строках... – я высказала Панину свои соображения и в итоге, учитывая все замечания по-крупному и мелочевку, намеки тонкие и толстые, объявила, что милый друг детства по-настоящему матерый графоман.
Панин, прищурившись, погрозил мне пальцем: ну что за комплиментарность!
– Нет-нет, Панин, - настаивала я, – не выкобенивайся, ты же прекрасно знаешь, что на Огненной Земле графомания есть способ профессионального существования. Вот у меня три года течет на кухне кран; время от времени приходит слесарь, задумчиво чешет в затылке и ставит диагноз: "Прокладка!" Он меняет прокладку, но кусочек свежей резины моему крану – что мертвому припарка; он продолжает исправно течь. Минут пять слесарь задумчиво взирает на мойку и, подняв взор горе, произносит: "Не прокладка!..", – собирает свои железки в фибровый чемоданчик и, напялив на лицо выражение, как минимум, Сократа, откланивается. Понимаешь, он нормальный житель Огненной Земли, как все мы. Так что в условиях тотальной графомании – в политика, науке, строительстве, финансах, медицине образовании, домашнем хозяйстве, сексе и так далее и тому подобное – обладать хорошим, прочным графоманским навыком в создании текстов не только не стыдно, напротив – очень престижно.
– Ценное соображение, – кивнул Панин и распластался поперек огромной лежанки, составленной из нескольких матрацев на жесткой деревянной раме; это могучее лежбище среди наших знакомых (в ту пору, когда Панин работал в газете) носило характерное название "ЛОЖЕ ПРЕССЫ". В ложе могли одновременно разместиться пять пар. В хорошие времена на этой кровати, которая функционально соединяла в себе закусочную, рюмочную, бутербродную, сосисочную, пивную, портерную, ночлежный дом, дискуссионную кафедру, читальный зал, секс-полигон, и, естественно, медвытрезвитель, – гиены пера проводили зачастую все выходные.
Мама миа, подумала я, глядя на лежанку, сколько же лет я провела в "ложе прессы" с тех пор, как милый друг детства привел меня, тогда десятиклассницу, трогательную и непорочную, в эту комнату и приступил к обязанностям наставника в любовных утехах? Лет десять, наверное, провела – хорошие были времена.
Последние несколько лет, впрочем, гиен пера не было видно в этих стенах – интересно, почему?
– Не навещают соратники по пьянству? – спросила я.
Панин закурил, стряхнул пепел в пустую пивную банку и наморщил нос: да ну их! С ними стало совсем неинтересно; поговорить не о чем, у них к концу дня язык страшно болит, просто не шевелится.
– Язык?
– Где-то я слышал, что в ряду правительственных наград недавно появился еще один орден. Догадываешься – какой?
Откуда? Я и в прежних знаках отличия и доблести ничего не смыслила... Я пожала плечами.
– Орден Почетного Легиона Лизателей Бориной Задницы.
– Выпей... Ты злой, когда трезвый.
Панин цыкнул зубом: нет, завтра надо поработать, а то с деньгами напряженно...
Ах, да, поработать. Извозчиком. А что, нормальная работа – в конце концов она достойней той, от которой к вечеру болит язык.
Панин покосился на журналы, которые я сложила около кровати, в его лице проступила улыбка, настроенческий смысл которой укладывается в суконную формулировку "с чувством глубокого удовлетворения"; "Приятно иметь дело с таким читателем, как ты, – заметил он, – однако ты кое в чем не разобралась".
– Не может быть! – вскинулась я, соскочила с сундука и решительно направилась к "ложу прессы".
Панин прислонился спиной к стене, кивнул: приземляйся! На четвереньках я добралась до милого друга, уселась рядом. Он взял меня за подбородок, развернул лицом к себе.
– Это же сугубо прикладной, служебный текст, понимаешь?
Нет, не понимаю, что значит – служебный? А то и значит, с улыбкой объяснял Панин, что мне нужно было просто отыскать парня, который твоему благоверному не дает спокойно спать... Достаточно было иметь представление о законах жанра; по этим законам я его и вычислил, вернее сказать, сочинил. В реальной жизни он оказался примерно таким, каким выстраивался в тексте, хотя и не совсем... В первом варианте он упаковал моего бывшего мужа в деревянный макинтош.
– Ну, это ты хватил! – возразила я. – Я с Федором Ивановичем недавно по телефону говорила.
– Я же сказал – в первом варианте!
Прежнее выражение азарта в его глазах начало медленно бледнеть и потухать; так тухнут глаза преподавателя, уставшего твердить перед классом, что река Волга впадает в Каспийское море; Панин испустил тяжкий минорный вздох.
– Меня самого такого рода разрешение коллизии не устраивало... Пришлось поехать к Катерпиллеру на дачу – иногда сочинитель должен вторгаться в реальную жизнь.
А-а, знаем-знаем! Жизнь наша – это не более чем тот или иной литературный текст. Или наоборот: пространства реальной жизни и литературы – во всем мире четко разведенные по сторонам – у нас сходятся, пересекаются и прорастают друг в друга... Возможно, в этих соображениях и есть какой-то смысл, однако я не вижу, как мы их можем приложить к ситуации сегодняшнего дня... Сегодняшний день – это даже не Хэммет, это хуже; Хэммет всегда оставался в рамках литературы, немного специфической, но все-таки литературы.
Панин в задумчивости тер ладонью шершавую от щетины щеку – слава богу, я не первый год знаю милого друга: если он вот так в течение двух-трех минут трет щеку, значит, чувствует либо тревогу, либо опасность.
– Рыжая...
Он рассеянно повесил старт реплики в пустоте.
– Что, Серега?
– Ты знаешь, у меня есть ощущение... Неясное, туманное такое, но есть, – Панин обнял Меня, привлек к себе; я не возражала – это был хороший, чистый, дружеский жест. – Есть ощущение, что ты в чем-то повторяешь мой опыт. Ну-ка! – он резко поднялся, потянул меня за собой. – Пошли на кухню, за стол!
В коридоре было слышно, как за дверью Музыки тихо журчит мандолина.
Никак не меньше трех часов он заставлял меня подробнейшим образом излагать события последнего времени; тщательно, с пыточной изощренностью он тащил из меня жилы и вытряхивал все до последней пылинки: детали, реплики, даже промельки каких-то случайных и необязательных теней; время от времени он делал быстрые пометки в блокноте; потом долго сидел, ссутулившись, смотрел в черное слезящееся окно – пока мы заседали, успели опуститься сумерки; ах, до чего хорошие, покойные сумерки природы; флейты голос нежный, поздние катания на велосипеде... Тьфу, черт, при чем тут велосипед?
– Рыжая, – тихо произнес наконец Панин! – А ведь это текст. И признак жанра отчетливо чувствуется... Ну да, статичные картинки, застывшие, обездвиженные персонажи. И обязательно в каждом кадре – реплика.
Он встал, прошелся по кухне, в задумчивости остановился перед холодильником, широко махнул рукой:
– А-а, век воли не видать! – вытащил бутылку "Рояла". – За это надо выпить.
Панин махнул стограммовый стаканчик, я пригубила – скорее, обозначила глоток.
– Давай до дна! – скомандовал Панин. – За это стоит выпить! Ты же, рыжая, сочинитель!
Нет, милый друг, пить я не стану, не хочется.
Этот текст, думал друг детства вслух, представляет собой... Как бы это сказать... Он, по сути, представляет собой тотальное разрушение текста. Это как раз та странная материя, которая копит в себе силы исключительно ради саморазрушения, и в этом. она черпает энергию для новых разрушений самой себя...
Отразмышляв, он долго смотрел мне в глаза.
– Рыжая... То, что ты делаешь, называется...
– Ну?
– Это называется комикс.
Я все-таки выпила. Внутри у меня все вспыхнуло – Панин разбавляет круто, напиток у него получается вполне в туземном, вкусе, градусов под шестьдесят; я выпила потому, что мне вдруг захотелось напиться, налакаться до смерти – милый друг убил меня, он сразил меня наповал.
Комикс!
Значит, дошла до ручки... Оно конечно, жанр чрезвычайно популярный в самых широких массах, однако потребителем его является публика, чей интеллектуальный уровень примерно таков, каким ограничивался пещерный человек.
– Серега, – сказала я наконец, отгорев внутри и впитав в кровь напиток. – Но ведь это же китч.
Панин хмыкнул, покачал головой, распахнул окно – двор дохнул на нас прохладой, сыростью и сообщил какие-то звуки – очень отчетливые, упругие, маленькие в сечении и формой напоминавшие гвоздики: какая-то барышня отважно шествовала в ночи в туфлях на высоком каблуке.
– А ты думаешь, – грустно произнес Панин, указывая куда-то в темные прохладные дали, где мирно дремало в этот поздний час население Огненной Земли, – там сохранилось хоть какое-нибудь направление в искусстве, кроме этого?
Пожалуй, милый друг, пожалуй; эта жизнь, конечно же, имеет сугубо китчевую основу.
– И что мне теперь?
Панин объяснил: да ничего особенного, ходи-броди, играй в свои прятки... Смысл в том, чтобы собрать в последнем кадре все нужные персонажи. И услышать реплику – самую важную, одну из тысячи. И догадаться, кому она должна принадлежать. Просто, как дважды два четыре, на то он и китч.
– И не усердствуй, ради бога, в работе над словом, – грустно заметил Панин. – Китч этого не терпит...
– Ай, брось ты! – отмахнулась я. – Чего ты мне азы грамоты втолковываешь? Структурные признаки жанра – дело десятое. А тема?
Панин помрачнел и сказал, что не знает темы – у него есть просто предчувствие этой темы; он удалился в комнату, вернулся с какой-то книгой, аккуратно обернутой в газету. Из книги высовывала нос закладка.
– Потом посмотришь, завтра, на свежую голову... И слава богу, если это предчувствие меня обманет.
– А куда мне теперь двигаться? Я уперлась в стену.
Панин посоветовал: зарисуй для начала своих приятелей – ну, тех, кто у Крица собирался под нашим старым добрым небом. Им были адресованы приглашения. Возможно, кто-то из них знает, откуда у нищего пенсионера такая прорва денег, что он смог набить холодильник датскими деликатесами.
– Телефон у тебя где, в коридоре? Сейчас Алке позвоню. Она должна знать – кто куда попрятался.
Алка не откликалась.
Странно. Она патологический домосед, ее крайне трудно выманить из дома и среди бела дня, не то что в двенадцать ночи... Что-то меня тревожило... Ах, да, в ходе нашего последнего разговора, когда Алка меня изощренно материла за то, что я бросила ее одну на даче, она призналась, что ей страшно хочется выпить. Если она выпила, то дело швах. Строго говоря, ей надо вшивать "торпеду". Или закодироваться. Иногда – в перерывах между голоданиями – она слетает с катушек, причем отчаянно. И все бы ничего, завались она в таком состоянии где-нибудь дома. Но нет – ее вечно тянет на улицу – представлять. Такой бродячий театр одного актера. Как правило, она сваливается где-нибудь на улице, и счастье, если это большое бездыханное тело попадется на глаза мильтонам. Они отвозят ее в женскую вытрезвиловку – я уже пару раз забирала ее оттуда. А если нет – то мало ли что у нас туг, на Огненной Земле, случается по ночам... Однажды ее какие-то ночные граждане употребили прямо под кустом – на этот раз не по телефону.
Я высказала Панину свои пожелания.
Мне необходимы: ледяной душ; крепчайший кофе; автомобиль; "антигаишные" шарики; сколько-нибудь денег; Джойс.
Милый друг мне все это предоставил, провожая меня до машины, стоящей под его окнами, он сдержанно поинтересовался:
– Душ, кофе, то, сё – это понятно. А "Улисс" тебе зачем?
– Алка имеет обыкновение похмеляться Джойсом.
Я двинулась в сторону Садового. Остановилась в одном из переулков, достала из сумки Серегину книгу, хранящую, как он выразился, "предчувствие темы". Это был Бунин, фрагмент из записных книжек. Простым карандашом было подчеркнуто:
Мы редко по-настоящему чувствуем смысл знакомых формулировок.
"Сердце упало" – из этого ряда.
В эту минуту я, кажется, отчетливо ощутила телом и душой – как оно падает, падает, катится неизвестно куда.
Добралась я без приключений; свернула в знакомый переулок, остановилась метрах в десяти от нужного подъезда, заглушила двигатель; сидела, наблюдала за процедурой выноса тела.
Из машины как раз выгружали полыхающее матом существо. Веса в этой тетке было килограммов сто, зато пьяной ярости – все двести; итого – триста килограммов вдребезги налакавшейся женщины.
Я выждала минут десять и поплелась к двери. За дверью ждет меня привычное развитие сюжета: щуплая девчушка в милицейской форме, в лучшем случае, меня успокоит: "Здесь она!" Если – "Нет, не поступала!", значит, Алка распласталась где-то на асфальте.
По счастью, она оказалась здесь; у меня отлегло от сердца. Койки в заведении без пуховых перин, но все удобней, чем асфальт.
В полутемном коридоре стояла, подперев стену, женщина с жестко очерченным лицом и воспаленными глазами... Это врач.
Здешнему медику профессиональное образование, конечно, не противопоказано, но, думаю, оно существенной роли не играет: что бы в этом скорбном заведении успешно трудиться, нужно, скорее, закончить цирковое училище по классу дрессировки животных, причем хищных животных – иначе ты рискуешь в первое же дежурство быть покусанным и расцарапанным до смерти: баба в состоянии пьяной оглушки десятикратно опаснее поддавшего мужика.
– Мы больше не будем, – извинилась я. – Я с машиной...
Женщина равнодушно пожала плечами и обменялась взглядами с девочкой в форме, та махнула рукой. Вообще-то до утра тревожить клиентов не положено; с другой стороны, с утра у персонала начинается страшная морока; барышни продирают глаза и закатывают страшные скандалы.
Мы прошли в спальные, так сказать, апартаменты. Гладкие, облитые кафельной плиткой стены – если с горя вздумается на такую стену полезть, то ничего у тебя не выйдет. Ряды коек. Светло, как в раю, свет никому не мешает – клиентки слишком погружены в себя... Запах пота, перегара, храп.
Клиенток что-то мало, всего четверо; Алка лежала с краю, у холодной стены. Я едва ее растолкала. Алка смотрела на меня, не мигая, и вряд ли узнавала. "Иди на х..." – очень внятно, качественно произнесла Алка; именно таким голосом стройная, как колонна, дама объявляет в Большом зале Консерватории очередной номер программы. Я надавала ей по щекам, Алка застонала, села на койке; минуты две ей потребовалось, чтобы: а) оценить качество бликующих от яркого света стен; б) найти и осознать себя в этой прохладной обстановке; в) вписать меня в свои, явно страшно запуганные, представления о времени и залитом кафелем пространстве.
– Палочки-выручалочки, Алка... Ты попалась... Я тебя застукала.
С великими трудами нам удалось отволочь ее в машину и загрузить на заднее сидение. Я вернулась – заплатить штраф.
У выхода меня остановила доктор. На вид ей было лет сорок. У нее были роскошные седые – явно не по возрасту – волосы и удивительно красивые (такие я встречала только на картинках) черные брови – сочетание тонов придавало ее внешности то особое качество, которое я бы определила, как "добротность" или даже лучше–"породистость".
Не понимаю, как это люди с такими прекрасными лицами могут работать в подобных заведениях.
– Кто она? – спросила доктор, вынимая из сине-белой с золотистым тиснением пачки сигарету; я невольно поймала взглядом этот жест, и милейший Сергей Сергеевич Корсаков опять навалился на меня со своим синдромом...
…извинившись, я жалобным голосом попросила закурить; доктор протянула мне пачку. Я с наслаждением затянулась. Кто Алка такая? Вопрос... Строго говоря, она актриса, во всяком случае, диплом ГИТИСа у нее где-то дома валяется. В последние годы было кочевание по каким-то студиям, которые росли, как грибы после дождя. Большинство из них, насколько я понимаю, теперь подохли от безденежья (эх, нам бы теперь те "три копейки с рубля", что отчисляли злокозненные коммунисты на культуру!)... Словом, теперь Алка развлекает по телефону онанистов – имея классическое театральное образование, это нетрудно.
– Значит, еще одна, – откликнулась доктор. – А звание у нее есть? Заслуженная? Народная?
– Как вам не стыдно, доктор, какие уж тут шутки.
– А я, милая моя, вполне серьезно, – она приподняла свои изумительные породистые брови. – У нас тут почему-то очень много актрис бывает... – она умолкла, разминая в пальцах вертикально – свечкой – поставленную сигарету и разглядывая завивающийся в спираль дымок. – В последнее время все чаще привозят интеллигентных людей. Странно.
Она распустила пальцы; благородный "Ротмэнс" солдатиком нырнул в российскую лужу и возмущенно зашипел.
– Хотя ... – раздумчиво произнесла она, – ничего странного. Ровным счетом ничего.
С утра я отправилась в милицию делать заявление о том, что Иван Францевич Криц, бывший учитель математики, а ныне пенсионер, проживающий в Агаповом тупике, в Доме с башенкой, пропал без вести. Красноглазый сыскарь, скорее всего, посчитал меня сумасшедшей – хотя на прощанье я ведь ему объяснила, что я не психопатичка, а всего-то-навсего сочинительница комиксов... Из милиции я побрела в сторону Алкиного дома.
Больную я застала сидящей на кровати в домашнем халате.
Алка вцепилась скрюченными пальцами в растрепанную шевелюру, раскачиваясь из стороны в сторону и выла:
– Ох-ох-ох-ох! Что ж я маленьким не сдох!
В такие минуты я ловлю себя на мысли, что Алке надо было бы поискать других родителей; где-нибудь среди евреев, например, – наверняка же есть у нас, на Огненной Земле, какие-нибудь несчастные люди с темными красивыми глазами по фамилии Зельцер...
...а это неплохая идея, подумала я.
В самом деле, здорово: похмеляться не пивом, а поправлять голову – самим собой .Черт, везет же евреям! Я метнула на стол тяжелый, как кирпич, том:
– Давай, приступай!
После загулов Алка в самом деле накладывает на себя епитимью: ложится на диван и приступает к чтению "Улисса". Она уже одолела семьдесят три страницы И утверждает: такого рода чтение морально очищает человека гораздо лучше, чем вериги или власяницы.
Про Ивана Францевича она ничего не знала. Зато подсказала, где надо искать детей, собиравшихся когда-то в Доме с башенкой за круглым столом: Сенька торчит на Арбате и малюет картинки; Вадик безвылазно сидит на даче – дорогу туда я должна помнить. А как же, помню.
Я отвела ее к месту искупления грехов, то есть уложила на диван, раскрыла книгу на нужной странице, вставила в дрожащие руки.
– Может, не надо? – взмолилась она.
Надо, Алка, надо! Давай, очищай совесть, а я пойду водить.
Застегнуть джинсовую куртку на все пуговки, поднять воротник, втянуть голову в плечи, сжаться, скомкаться – и идти.
И вовсе не оттого, что стал накрапывать дождь: просто по дороге домой мне никак не миновать метро. Пристанционное пространство в радиусе метров пятисот настолько плотно нашпиговано торговлей – ларьки, деревянные тарные ящики, картонные коробки, суета, ругань, зазывные покрикивания, мельтешение денег в грязных толстопалых руках – что здесь трудно дышать; против торгашей я ничего не имею – "Торговля – двигатель прогресса!" – однако это уличное сословие распространяет вокруг себя некую ультрафиолетовую ауру, вызывающую у меня ассоциацию с озоновой дырой, этой злокачественной проплешиной у Антарктиды на самом затылке – в зоне действия ауры я инстинктивно сжимаюсь.
Очень болит голова.
Одно из двух: либо давление скачет, либо я от Алки заразилась – похмелье штука заразная... А с давлением на Огненной Земле и вовсе происходят странные вещи, редкий туземец от него не страдает; впрочем, это климатическое явление меня интересует с чисто идеологической точки зрения: отчего это до перестройки не было никакого давления, а теперь вдруг объявилось – и давит, давит...
Я бегло осмотрела витрину одного из ларьков и встретилась взглядом с бородатым, дремучим человеком; HERR RASPUTIN взирал на меня с голубой водочной наклейки:
– молвил старый распутник, и этот очередной приступ синдрома натолкнул меня на забавную мысль.
Пожалуй, вернувшись домой, я напишу письмо в ООН или ЮНЕСКО с требованием немедленно вручить какую-нибудь громкую премию автору идеи персонификации водки (или, скорее, надо Букеру написать; если они всерьез рассматривали Сорокинские крутые тексты, то почему бы им не присмотреться – к моему пожеланию номинатора?) Так вот, г-н Букер, автор персонифицированной водки совершил простую работу гения; он понял, что миллионы людей на Земном Шаре пьют в горьком одиночестве, и проблема только в том, чтобы составить им компанию.
Пить в компании Распутина, Горбачева или Ельцина уже не так тоскливо: можно с собутыльником перемигнуться, можно поплакаться в жилетку, высказать свои соображения о причудах в историческом развитии нашей Огненной Земли, в крайнем случае – набить ему морду или потоптать ногами.
"Не пей, Григорий, с князем Юсуповым в другой раз!"
"Миша, Миша, проморгал страну-то..."
"А ты, Борис, куда руку за стаканом тянешь – нельзя тебе, в народе верно говорят: тяжело с похмелья управлять страною!"
Кстати, ларьки, набитые "именными" водками, есть живой упрек вождям; у всех папуасов есть вожди, на Огненной Земле, естественно, тоже имеются; однако наши, огнеземельные, все никакие могут хорошенько раскинуть мозгами и попусту тратят огромные деньги на создание имиджа, предвыборные кампании, бурные встречи с избирателями, теледебаты, газетные интервью и тому подобные бессмыслицы... Поступать надо проще:
а) выпустить "именную" водку с собственным портретом на наклейке;
б) выставить ее на каждом углу как сугубо демпинговый товар наподобие:
и дело с концом; можно обмеривать собственные чресла и прикидывать, как они уместятся в президентском кресле – потому что десятки миллионов голосов автоматически потекут в твой карман вместе с божьей слезой... Я заглянула за угол ларька.
Там, прижавшись к металлической обшивке, сидел Ванька-Встанька. Съежившись, он тщетно старался уместить половину человеческого тела в том узком пространстве под козырьком ларька, куда не долетал дождь.
Ваня – коренной житель здешнего торгового пятачка; у него заросшее всклокоченной щетиной, вечно в кроваво-грязной коросте лицо, перманентно мутный, как пивной осадок на дне бутылки, взгляд, хрупкая цыплячья шея и гипертрофированные, огромные, мощные руки – благодаря рукам Ванька-Встанька и передвигается в пространстве; отталкиваясь от асфальта, он приводит в движение свою низенькую тележку на колесиках, в которую врастает обрубками ног.
С год назад он продал по пьяному делу свою квартиру. Жил он в старом, еще дореволюционном, но крепком доме у нас тут, в Агаповом тупике, на первом этаже - давным-давно, еще под нашим старым добрым небом приятели смастерили в парадном наклонную площадку из досок, чтобы Ваня мог подкатываться к своей двери. Так вот; как-то с год назад он привычно мучился с перепоя, и на торговом пятачке к нему подкатились два интеллигентных молодых человека; поправили ему здоровье, потом еще поправили, добавили, Ваня по доброте душевной пригласил их к себе; они пили три дня, а потом выяснилось, что Ваня подмахнул какую-то бумагу, получив в обмен на свою комнату сколько-то там тысяч рублей.
Теперь Ванька-Встанька – вольная птица; живет под открытым небом и целыми днями шуршат его подшипники на торговом пятачке.
Приставка к имени объясняется тем, что иногда Ваня валится со своей тележки. Однажды я имела несчастье это наблюдать: в двух шагах от подземного перехода, совершенно оглохшего в соседстве с ларьком, торгующим звукозаписями, где динамики круглые сутки нечеловечески вопят, как перед большой бедою, они пили с приятелем пиво; Ваня был уже крайне неустойчив; я видела, как он, с чудовищной медлительностью и как бы хватаясь жалобным взглядом за ворот моей куртки, заваливался на бок; я чуть было не потеряла сознание, дернула плечом, надеясь стряхнуть этот кошмарный взгляд.
Он лежал на спине, выставив свои обрубки: оторванные от опоры и выставленные напоказ – они производили шоковое впечатление.
Так он лежал и покачивался – как плоскодонный кораблик пресс-папье.
Теперь он сидел, скорчившись, у стенки ларька и смотрел в небо.
Эта поза и этот взгляд были мне откуда-то знакомы... Да, есть хрестоматийная фотография времен войны: дети (то ли испанские, то ли польские), прижавшись к стене дома, с предсмертными какими-то лицами, глядят в небо, откуда на них сыпятся фашистские бомбы.
Я вернулась к витрине, постучала в окошко, сунула деньги. Хозяин, ветчиннолицый молодой человек (господи, отчего у них, у всех без исключения, такие лица?) выставил передо мной бутылку пива.
– Спасибо вам, – поблагодарила я. – Дай вам бог здоровья.
– Оттягивайся! – улыбнулся он. – Открыть?
Он подцепил пробку, я постучала ногтем по дымящемуся горлышку: да я не об этом, господин хороший...
– За благотворительность вам спасибо. Чем больше у нас богатых людей, тем богаче каждый из нас, все мы, верно?
Он распахнул рот в чудовищных размеров зевке... Не знаю, доводилось ли ему слышать откровения наших по уши засевших в дерьме профессоров ("Чем больше у нас богатых людей..." – и прочая ахинея в таком духе) – однако я с работником прилавка солидарна: ничего, кроме зевоты, велеречивость нашей туземной профессуры у меня не вызывает.
– Ты ж дал кров калеке! – настаивала я. – Не будь твоей палатки, мок бы он под дождем.
Зевота выдавила у него сочную, спелую слезу; он поманил меня согнутым пальцем, я с трудом просунула голову в окошко.
– Слушай, – он очень старательно артикулировал, как будто сдавал экзамен по фонетике, – мне кажется, тебя очень-очень давно никто не трахал. Заходи, – и бросил короткий кивок в сторону бронированной двери, – я тебя так оттрахаю, что мозги у тебя моментально встанут на место.
– Заманчиво, – согласилась я. – А выпить накатишь? Только учти, я пью очень редкий напиток – боюсь в твоей лавке он не сыщется.
– Какой?
– "Агдам"... – я обвела взглядом ящики с бутылками и сигаретами и поморщилась:
– Забирай свое пиво и катись, – ласково попросил он.
Бутылку я поставила на землю перед Ваней. Он зло на меня зыркнул и ничего не сказал.
Кофе привел меня в чувство, однако не вполне; хотелось спать.
Полночи провозилась с Алкой. А в шесть утра меня поднял с постели Ломоносов.
Настоящую его фамилию теперь если кто-то и помнит, то, скорее всего, такие старожилы, как Ванька-Встанька или баба Тоня. Имя – Ломоносов – пристало к нему, наверное, по двум причинам. Во-первых, когда-то в нашем старом добром небе он в самом деле отличался сходством с Михайлой Васильевичем; а во-вторых, у него два образования: Бауманское училище плюс какой-то гуманитарный факультет университета, который он окончил то ли заочно, то ли экстерном. От нашего Ломоносова исконный Михаил Васильевич отличался тем, что, возможно, в молодые годы и не прочь был пропустить рюмку (или из чего в те дремучие времена пили меды и браги?), однако знал меру и умел вовремя остановиться.
А наш – не умел.
Наш был завсегдатаем скверика, куда дети приходили целоваться, укрывшись в кустах сирени, пил он, кажется, немного, зато регулярно и последовательно – ровно столько пил, чтобы взбадривать вдохновение для восхитительных рассказов о том, как он решил теорему Ферма.
И решил.
Рассказывал детям не только интересно, но и потрясающе артистично: у него широкий, хорошо поставленный, сугубо театральный жест, глубокий (у Качалова позаимствованный) голос. Пару раз рыжая девочка по. прозвищу Белка составляла его компанию под сиреневыми кустами, и ей представлялось, будто она коротает время с кем-то из мхатовцев – из тех, прежних, которые давно вымерли.
В шесть меня разбудило стеклянное треньканье – я выглянула во двор.
Это был Ломоносов. Установив бутылку на кирпичный бастион помойки, он терпеливо сливал в нее – по капельке, по капельке! – остатки из бесчисленных посудин; спросонья мне стало дурно:
...сглотнув горькую слюну, я присмотрелась: он нацедил таким образом добрых поллитра... Я вспомнила: когда-то ведь была у него жена. Она уже давно ушла от Ломоносова – я ее понимаю. К помойке лениво подошла грязно-желтая уличная псина; Ломоносов, отвлекшись от своих трудов, долго и скорбно взирал на нее сверху вниз, потом порылся в контейнере, нашел съедобный кусок и покормил собаку с руки.
На Старом Арбате (где вы в этой идиотской, замызганной, заплеванной, вдрызг изнасилованной торгашней, туземной улице видите – старый?) со мной случаются рецидивы "горняшки".
"Горняшка" – это болезнь высоты, испытать мне ее довелось лишь однажды; у Панина в Терсколе масса друзей; как-то летом мы с его приятелями-альпинистами хорошо посидели в Приюте Одиннадцати, и кому-то из них (кажется, это был Володя Лукьяев, балкарец, успевший поработать спасателем на Чегете, лавинщиком, закончить в Москве ИнЯз и опубликовать в журнале "Юность" массу хороших очерков про горы) – пришло в голову "сбегать" (так они выражаются) на Эльбрус, чтобы оттуда махнуть на лыжах. На седловине, на высоте 5200 метров, я рухнула и попросила, чтобы Каманча (такое у Володи прозвище) меня пристрелил. Стрелять он не стал, а просто погнал вниз, дав в попутчики кого-то из компании.
Если меня спросят, какими ощущениями чревата "горняшка", то я объясню примерно так. Представьте себе, что у вас раскалывается голова, что вы с чудовищного похмелья, вас тошнит, хочется писать, а также хочется какать – и все это одновременно. Именно так Действует на меня Арбат – симптомы я почувствовала уже на выходе из метро: решила побродить у станции подышать, собраться с силами.
В одном из ларьков мое внимание привлек предмет сочно-телесного цвета, размеры и общие кондиции которого вполне укладываются в характеристику: "В природе такого не бывает!" – в природе HOMO SAPIENS, во всяком случае. Предмет царственно возвышался на полке, заваленной "Сникерсами", "Марсами", сигаретными пачками, зажигалками и прочими стеклянными бусами, на которые туземцы Огненной Земли выменивают у богатых европейских конкистадоров свое золото. Розовощекий и самодовольный, предмет – в силу чисто дизайнерского решения витринной полки – откровенно господствовал на конфетно-целлулоидной мелочовкой и как бы – ростом, осанкой – утверждал себя в качестве сюзерена.
Я наклонилась к окошку, и, откинув руку вверх и в сторону – чтобы хозяин мог безошибочно догадаться, к какому из многочисленных продуктов относится мой живой интерес, спросила:
– Это съедобно?
Хозяин (естественно, у него щеки – из ветчины) поперхнулся.
– Нет, серьезно, это надо есть или курить?
– Скорее, первое... – улыбнулся он; я рассматривала это лицо и прикидывала про себя: сколько отборного сала можно натопить из такого рода понимающей улыбки.
– А где же тогда толстый-толстый слой шоколада? Он вздохнул и объяснил, не размягчив (в отличие от предыдущего палаточника) эту фразу вопросительной интонацией.
– Тебя давно не трахали.
Надо же, второй раз за последние пару часов мне преподносят такой сомнительный комплимент, – это не к добру.
Я отступила на три шага и приняла позу завсегдатая вернисажа.
Краем глаза я заметила, что за мной украдкой наблюдает интеллигентного вида дядечка лет пятидесяти в старомодном кожаном черном пиджаке – его можно было принять за представителя какой-нибудь из "вольных" профессий.
– Впечатляет, да?
Он сконфузился и предался созерцанию собственных ногтей – характерный для застигнутого за подглядыванием жест.
– А чего тут стесняться? – весело сказала я. – Эта штука называется – эвфемистически – "массажер". А по-простому – мастурбатор.
– Дичь, конечно, – тихо и будто бы с чувством вины произнес он.
Ну отчего же, милый друг? Чем дольше я созерцаю этот предмет, гордо взметнувшийся в витрине, тем явственней в зерне эстетического впечатления прорастает сугубо философская тема; в бескрайнем разнообразии товарного рынка Огненной Земли именно этот предмет выступает как товар первейшей необходимости: без него не обойтись ни в средней школе, ни в прокатном цехе, ни в университетской аудитории, ни в парламенте, ни на театральных подмостках, ни в научной лаборатории – процесс повседневной жизнедеятельности населения Огненной Земли, если разобраться, есть самозабвенное занятие именно тем, для чего и предназначен этот целлулоидный монстр.
– Ибо...
"Ибо" – ах, до чего милое, раритетное слово, как изысканно округла его форма – такие слова теперь можно раздобыть разве что в антикварной лавке... Ибо ни одной идеи, способной оплодотворить эту жизнь и придать нашим текстам хоть легкий налет пристойности, в последние годы не было высказано. И значит нам – каждому по отдельности и всем вместе – суждено умереть в горьком одиночестве.
– У нас нет никакого будущего...
– Возможно, – согласился он.
Да я не об этом, милый мой хлебопашец вольный, перебивающийся на скудных вольных хлебах... Мы бездетны. Десять лет ежедневной мастурбации – в экономике и философии, искусстве и литературе, политике и законодательстве – чреваты клинической импотенцией и мучительным бесплодием.
Он положил мне руки на плечи, долго, внимательно изучал мое лицо.
– Ну, зачем вы так... – мягко произнес он. – Вы же с виду интеллигентный человек... Ох, извините, Христа ради, если я вас обидел, но что ж вы плачете?
Милый вы мой человек, как бы вам объяснить? Белка – зверек хрупкий и беззащитный, а в лесах у нас на Огненной Земле нравы сами знаете каковы; но все живое хочет жить, и белка тоже, и значит, ей надо обороняться – хамством, скабрезностью, отбиваться лапами передними и лапами задними; белка, к примеру, совершенно не выносит ничего инфернального, и тем не менее матерное слово запросто слетает с ее языка; поймите, это оборона и ничего больше – иначе туг же попадешься в силки; или рыси в когтистые лапы; или под удар ястребиного, кривого, как ятаган, клюва, – извините, такое с белками случается, сейчас пройдет.
Он отечески привлек меня к себе, гладил по волосам, – ладонь у него теплая и мягкая, успокаивающая.
– Извините, всю жилетку вам вымочила.
– Ничего, – улыбнулся он, – на то она и жилетка. Высохнет.
– Что они пялятся?
На нас в самом деле пялилась сладкая парочка: худющий тинэйджер и низкорослая девочка, явно предрасположенная к полноте; облачены они были в фирменные доспехи всемирной котлетной империи Макдональдс, и, как я догадалась по транспаранту на длинном древке, относились к разряду "человекореклам": транспарант сообщал, что империя захватила очередную колониальную территорию (где-то здесь поблизости) и приглашает в гости.
Худое, костлявое лицо молодого человека выражало крайнюю степень безразличия ко всему, что дышит и шевелится вокруг; у девочки была рыхлая нездоровая кожа и глупые желтоватые глаза, плавающие в порочной влаге.
Когда человек со спасительной утешающей ладонью ушел, я пересекла пристанционный пятачок; мне хотелось спросить у ребят, каково им день-деньской торчать вот так в людном месте в роли человеко-рекламы, однако Сергей Сергеевич Корсаков вытолкнул из меня:
- на что девчушка, пульнув сквозь зубы острый плевок, прошипела:
– Сгинь, Кампучия!
До чего же точен бывает иной раз наш туземный язык; мозги этой дурехи наверняка уместятся в скорлупе лесного ореха, однако как гениально она ассоциирует!.. Наверное, я в самом деле произвожу впечатление Кампучии – нищей, растерзанной, расстрелянной, тотально репрессированной, изможденной, питающейся тропическими листьями, кореньями, ящерицами и насекомыми.
Роскошный ньюфаундленд просил милостыню под фонарем – экземпляр явно королевских кровей, мощный, рослый – тем ужасней был его взгляд профессионального нищего; собаку опекала девчушка лет четырнадцати с худым серым лицом фланирующая мимо публика кидала в картонный ящик купюры, и "ньюф" благодарно кивал породистой красивой головой. Время от времени собака отрывалась от работы и косилась на звук, автор которого, похоже, отбивал у нее хлеб; это был мальчик; он сидел на раскладном стульчике и играл на баяне; он старательно (сказать бы – тщательно...) играл на своем баяне – и за этой тщательностью скрывался чисто ремесленнический навык: тему уличный музыкант выводил аккуратнейшим образом, избегая помарок и тем более описок, однако изощренная каллиграфичность этого письма иссушала музыку – правильность при полном отсутствии живого начала.
Семена я у Вахтанговского, где свили себе гнездо художники, не нашла.
Последний раз мы виделись года четыре назад – случайно. Я шла по Тверской и обратила внимание на жиденькое сборище бородатых людей с транспарантами – тяжелая длань отца-основателя города парила над их всклокоченными головами... Сеня сидел на гранитном парапете и очень живописно курил. Медленно и плавно отводя руку от лица, подолгу задерживал дым во рту. Мы поболтали.
Оказалось, что они тут сотрясают основы нынешней власти. Они давным-давно, когда эти подонки (кивок в сторону Моссовета) еще по своим партсобраниям заседали, прежний идиотизм расшатывали на своих полуподпольных вернисажах; хорошо расшатывали, так что этим подонкам (кивок – туда же) власть сама в руки упала, а теперь эти подонки в порядке благодарности отбирают у художников их подвалы; им, подонкам, выгодней, чтоб в мастерских не картины писали, а торговали барахлом и водкой...
Ну, ясно: бородатая богема в очередной раз разыгрывает под патронажем Юрия Долгорукого вечную драму российской интеллигенции...
– Что за драма? – спросил Сеня.
О, этот спектакль у нас идет с огромным успехом с тех самых пор, как на Руси возникла словесность и прочие художества; называется он "За что боролись, на то и напоролись".
Больше мы не виделись.
Значит, за прошедшие годы совсем опустился и малюет уличные портреты. Жаль...
Разматывай эту жалость, белка, в обратном направлении; скачи от серых колонн Вахтанговского в сторону Агапова тупика, туда, где пыхтит заводик пищевых концентратов, отравляя запахами гнилого борща школьный двор; взберись по старому клену наверх, скакни на шершавый от голубиного помета карниз и загляни в окошко: видишь, дети рисуют, сидя за партами? Смотри; за второй партой сидит мальчик и пишет акварельное яблоко. Яблоко покоится на стуле, водруженном на учительский стол, – чтобы все дети ясно видели объект. Видят его все. Но положить на бумагу это восхитительно дышащую форму никому из них не дано; никому – кроме мальчика со второй парты; ах, как легко он пишет, и как точно! Пройдет время; он поступит в Строгановское училище, вы станете реже видеться; до тебя долетят слухи о каких-то эпатажных выходках мальчика: Измайловский парк, картины, погибающие под гусеницами бульдозеров; потом однажды он затащит тебя на "квартирную" выставку; старый дом, темная арка, шагом марш налево, угловой подъезд, – но в прокуренной комнате тебя неприятно поразит то движение вспять, какое чувствуется в самой технике исполнения его холстов; от твердой школы – к примитиву, от точной линии – к случайному, рассеянному мазку, от естественного цвета – к придуманному...
Один из здешних художников – на вид лет сорок, впалые, изношенные щеки, глубокая морщина раскалывает лоб, пегие нечистые волосы туго стянуты на затылке и собраны в жиденький хвостик, прихваченный черной резинкой – сказал, что Сеня тут давно не появляется, но он знает, где его искать, и на клочке бумаги начертил подробный план.
Творения человека с хвостиком были развешаны на фанерном щите: карикатурные, топорно исполненные портреты – гипертрофированно-огромные носы, вспухшие губы, надувшиеся лбы, выпученные глаза, саблеобразные зубы.
– Нравится? – спросил он, и, наблюдая за моей реакцией, сам же и ответил: – Нет, не нравится. И правильно... Тем не менее мой жанр глубоко реалистичен.
– Да-да, это невооруженным глазом заметно...
– Да вы не смейтесь, не смейтесь... Человек по природе своей ба-а-а-а-льшая скотина. Я просто показываю ему, насколько же он скотина. Всегда был – а теперь особенно.
Я собиралась, было, дать этому чудному портретисту дельный совет:
...однако что-то сбило меня с толку... Что-то меня здесь, среди мольбертов и картонов, все время отвлекало...
Да: бесконечное однообразие мелодии. Мальчик ни разу не сменил тему, он старательно выгачивал на своем баяне один и тот же музыкальный текст – это была тема из "Крестного отца".
Минут пять я стояла перед приземистым зданием с коротким козырьком и приходила в себя.
Четко следуя плану, начертанному арбатским портретистом, я быстро нашла этот домик.
Это был больничный морг.
Наконец я собралась с силами, поднялась по ступенькам, прошла в притененный холл, заполненный молчаливыми людьми с каменными лицами. В углу, на лавочке, в деревянной позе сидела средних лет женщина в черном, с воспаленными сухими глазами, ее мертвые руки лежали на коленях, а взгляд был направлен в никуда.
Справа дверь. Оттуда вышел молодой человек в строгом черном костюме, пересек "зал ожидания", осторожно коснулся плеча женщины, что-то шепнул ей на ухо. Она почти не шелохнулась, только тенью кивка обозначила, что сообщение дошло до нее.
За дверью – тесный коридор, он вывел меня в сумрачное помещение с низким потолком. Пахнет сыростью, цементом и еще – едва-едва слышится странный, совершенно неуместный в этих стенах запах... Такие водятся в общественных туалетах.
В центре зала на постаменте открытый гроб, возле него суетится пожилая женщина в грязном халате, ее действиями руководит мужчина в ярком цветастом свитере. Он стоит спиной ко мне.
– Бушку ему, бушку поверни!
Наверное, он почувствовал постороннее вторжение в "обитель скорби", зыркнул через плечо, огрызнулся:
– Ну, что еще! Русским же языком...
– Здравствуй, Сеня! – сказала я.
– Привет, – прохладным тоном откликнулся он.
– Что это ты – при мертвых?
А он изменился: аккуратная короткая стрижка, здоровый цвет лица, располнел – сказывается, наверное, добротное питание.
– Работаю, – пояснил он. – Извини, мне некогда.
Я вышла на улицу. Сыпал мелкий дождь. Я вернулась под козырек и закурила. Минут через десять он вышел.
Иван Францевич? Ну, мать, – вспомнила бабушка, как девушкой была! Нет, не заходил, не видел, не слышал. И не хочет – заходить, видеть, слышать. И не надо вот этого, не надо! Закатывать глаза, обмирать, выкобениваться! Нормальная работа; очень, кстати, полезная – похоронный агент избавляет людей от множества тяжких хлопот; гробы заказывать, цветы, венки, панихиды – для скорбящих это слишком тяжело; похоронный агент, в конце концов, есть носитель милосердия – своим трудом отодвигает, отстраняет скорбящих от этой мороки.
Подошел водитель катафалка, пожилой, сухопарый, опрятный мужичок в кожаной шоферской куртке, попросил сигарету. Под мышкой он держал книжку "Сборник анекдотов"; вернувшись за баранку, закурил, раскрыл книгу, углубился в чтение.
– Ты целкой-то не прикидывайся, – мрачно пробубнил Сеня. – Я же знаю, о чем ты думаешь.
Да никем я не прикидываюсь и ни о чем не думаю, я просто вспоминаю: арка, шагом марш налево, угловой подъезд, темная лестница, сигаретный дым в квартире, где по стенам до самого потолка картины взбираются, а на кухонном столе стоит стеклянная литровая банка, набитая окурками, – вот именно эту запыленную банку я почему-то и вспоминаю.
– Так вот, я тебе объясню, – Сеня сплюнул в лужу и глянул на часы: – Есть еще время, еще там батюшка кадилом машет – это теперь модно... Так вот, слушай. Все это, – он утяжелил слово и подчеркнул его паузой, – ты понимаешь, о чем я говорю, так вот всему этому цена – дерьмо. Я просто вовремя понял. Чего и тебе желаю.
Шофер за баранкой шумно расхохотался.
Понесли гроб, Сеня приступил к исполнению обязанностей:
– Да не так! Ногами же вперед надо! Вот... Теперь проталкивайте его в салон.
Я отошла к воротам.
Когда катафалк тронулся, я подняла руку; любитель анекдотов притормозил, открыл переднюю створчатую дверь. Г-н похоронный агент, занимавший положенное ему боковое кресло рядом с водителем, высунулся и вопросительно поглядел на меня.
– Сень, я тебя застукала. Палочки-выручалочки.
Он махнул шоферу рукой и наградил меня напоследок откровенно инфернальным взглядом.
Везет же мне на попутчиков.
На этот раз в электричке со мной соседствовал хиппи.
Это был настоящий хиппи, лет никак не меньше тридцати пяти, матерый, закаленный в долгой борьбе за идею человек с узким, вытянутым лицом и прохладными латунными глазами. Он занимал место как раз напротив меня, спиной по ходу поезда. У него был удивительно плавный, заторможенный жест, имевший какую-то очень мягкую – то ли пластилиновую, то ли восковую – основу. Мы ехали уже минут двадцать, и все это время попутчик пристально наблюдал за мной. Наконец, он встал, снял с крючка свою холщовую суму с длиннющей лямкой (наверное, в рабочем состоянии она болтается у него в районе коленей), откинул потертый клапан, извлек из сумы апельсин, наклонился вперед и медленно, торжественно поднес его мне.
Я энергично отпиралась от подношения.
И тут он изрек:
– Все люди братья, а все бабы – сестры!
Вот уж воистину: умри, а лучше не напишешь! – после такого глубочайшего философского откровения не принять подарок я никак не могла.
В гости к Вадику на дачу я собралась через несколько дней после посещения Арбата.
Позвонила Панину, доложила о результатах своего выезда "на натуру", Панин прицепился ко мне с расспросами о черной собаке, выпрашивающей у прохожих деньги. Потом старательно снимал с меня показания относительно мальчика с аккордеоном: а какое у него лицо? а поза? Я не запомнила ничего оригинального – разве что этот мальчик был обрит наголо и тупо, не мигая, глядел в одну точку. Помнится, когда я проследила его взгляд. Гравитационный центр, магически притягивавший взгляд, располагался, если не ошибаюсь, в маленькой кафешке, накрытой прозрачной стеклянной конструкцией, удивительно напоминавшей огородный парник. Внутри, среди живой пышной зелени, в кошмарной тесноте цвели и распускались граждане отдыхающие. С краю, едва не выдавливая хрупкую прозрачную стенку, расслаблялись три мальчика лет тринадцати, очень прилично, дорого одетые, – таких теперь много завелось у нас тут, на Огненной Земле... Они шумно общались, широко и вызывающе жестикулировали. Компанию им составляла их ровесница, наружность которой выглядела бы совершенно ординарной, если бы не губы: пухлые, пунцовые, несусветно порочные. Они пили шампанское и алчно жрали шоколад.
Баянист смотрел именно туда – прямо им в измазанные толстым слоем шоколада рты.
– Ну вот! – восторженно выкрикнул Панин, - А ты говоришь!
Ничего я не говорю и вообще не понимаю, что за охота ему пришла тянуть из меня жилы.
По своим старым каналам (года три назад Панин, насколько я знаю, активно общался с усопшими, поскольку работал в морге) он выяснил: нет, в эти заведения пожилой человек с изуродованной ногой не поступал. Разузнать это оказалось делом непростым: морги битком забиты стариками, которых родные и близкие или не хотят хоронить или о которых просто позабыли.
Напоследок – в связи с эпизодом, в котором я плакалась в жилетку человеку в кожаном пиджаке – Панин меня пожурил.
– Рыжая, – сказал он. – А что ты так настаиваешь на своем детском дворовом прозвище? Ты же впадаешь в грех вторичности!
Ну, этот упрек я быстренько отбила, сообщив, что в свое время именно я позировала Анатолию Киму, – это с меня он писал свою белку.
Ехать мне оставалось еще минут двадцать. Там маленькая станция и дощатый продувной павильон; бежать от станции недалеко и, главное, удобно: сразу за бетонной платформой начинается плотный лес – тебе не надо будет рисковать, преодолевая в опасном прыжке значительные пространства, как это случается в сосновом лесу, когда приходится скакать с ветки на ветку; так что давай, белка, поспешай в гости к мальчику с явным поэтическим талантом, пугающим, как ты много позже поймешь, своей зрелостью и совершенно недетской точностью и легкостью: в интонации, умении проникнуть в ту сугубо настроенческую плазму, доступ к которой закрыт простым смертным, поскольку они смертные, в своем порыве к запретному вечно натыкаются на частокол устойчивых добротных рифм вроде "море – горе"; ах, как этот мальчик легко преодолевал препятствия; как без видимых усилий перемахивал через ограды; летел, вот именно, поверх барьеров - вперед, белка, соскочи с опасного шаткого куста сирени прямо на веранду, насквозь солнечную, – там ты найдешь себя, раскачанную в плетеном кресле на круглых ногах; ты покачиваешься в качалке, тебя убаюкивает чей-то монотонный голос; поскрипывает в такт ритмично шагающим фразам твое кресло; лицо мальчика строго и как-то пусто; его взгляд бродит где-то в саду; он читает что-то свое, а тебе почему-то хочется плакать... В поздние времена он остыл к плавному слову; писал что-то рваное, жесткое (несколько его рассказов попались на глаза в журналах), потом пропал и вынырнул на сценарном факультете в том недоступном смертным институте, где учатся прекраснолицые люди... Через некоторое время вы встретитесь случайно на каком-то суматошном междусобойчике; там будут много пить, галдеть и кривляться; и девушка в тяжелом черном свитере будет играть на гитаре: грудным, со слезой, цыганским голосом она будет умолять Моцарта не оставлять стараний и не убирать ладоней со лба.
От мальчика с солнечной веранды почти ничего не осталось.
Я помню его меловое лицо, нездоровую, резкую пластику движений, внезапные вздрагивания без видимых на то причин (потом девушка в черном свитере на кухне мне сообщила: он покуривает...)
– А куда вы едете? – спросила я у хиппи. Он развел сложенные на груди руки в стороны и стал похож на какого-то индийского бога:
– А никуда...
Ну что ж, в этом тоже есть большой смысл.
– Все люди братья, все бабы – сестры? Я запомню, – сказала я попутчику на прощанье.
В воздухе висела водяная пыль. Любителей полуденного променада не видно – ни на станции, ни на аллеях старого дачного поселка...
Предполагала – предчувствовала! – увидеть этот старый поселок: с дощатыми облупившимися домами и замшелыми крышами; безалаберные участки захламлены штабелями досок подводного какого-то цвета; бузина на воле шляется вдоль заборов, старые пенсионные яблони извиваются в конвульсиях – и на тебе, предчувствие обманчиво, не доверяй ему... Новые времена – новые песни (монументальные, кантатно-торжественные, для хора с симфоническим оркестром); на месте старых домов основательно звучат крепкие кирпичные особняки.
В знакомом доме надстроен второй этаж, солнечная веранда ликвидирована. Все окна глухо зашторены чем-то плотным и темным.
Похоже, Алка меня дезориентировала.
Перегнувшись через калитку, я отодвинула щеколду, прошла к дому, проформы ради дернула дверь... Хм, не заперто.
Я очутилась в узком коридоре; по правой стороне должны быть две двери. Есть, сохранились – заглянула в комнаты: ветхие диваны, хромоногие стулья, столы, страдающие склерозом. В конце коридора лестница наверх – прежде ее не было.
На крохотной площадке второго этажа перед обшитой пухлым дерматином дверью я остановилась перевести дух. Вошла, оказалась в обшитом жженым деревом помещении, очень напоминающем банную раздевалку.
Оглядевшись, я убедилась, что первое впечатление дне обмануло: кое-какая одежда (кое-что из женского нижнего белья) вяло свисало с крючков, вбитых в голые стены.
Странно; что-то я не припомню, чтобы бани устраивали на втором этаже.
– О, у нас гости!
Я обернулась на голос, возникший в правом углу предбанника, замкнутого маленькой дверцей.
Меня приветствовала девушка лет двадцати двух; качественная блондинка с огненно-красными губами.
Она слишком густо кладет помаду, отметила я в первую очередь; а во вторую отметила, что она голая. Если не принимать за одежду черные чулки и черный пояс туго стягивающий талию.
В целом черный шелк и атлас смотрятся на бледном телесном фоне очень аппетитно, особенно учитывая то обстоятельство, что деваха отменно сложена.
– Привет! – сказала она и повела плечами, приводя пышную грудь в то восхитительное движение, от которого всякий мужик, будь он на моем месте, наверняка бы застонал...
Жаль, что я не мужик.
– Заходи! – она посторонилась, освобождая проход в узкий коридорчик, выводящий к какому-то обширному помещению, где полыхал неестественный галогенный свет.
Обстановка тут была роскошная, если считать за обстановку огромных размеров белоснежную кровать в углу, очень удачно вписанную в некое подобие зимнего сада, укомплектованного тропическими широколистными растениями, степенными и вальяжными, – они плавно покачивали своими торжественными опахалами, освежая участников сцены, происходящей под пристальным наблюдением софитов.
Участников было, если не ошибаюсь, четверо. Ошибиться немудрено: их руки, ноги, спины и прочие части тела переплетались в настолько причудливый гимнастический узор, что с ходу определить число участников в самом деле было непросто.
Многоногий монстр, прерывисто дыша, ритмично, сосредоточенно шевелился под сенью пальмовых листьев.
– Садись, перекурим, – пригласила меня блондинка, похлопывая ладошкой по канапе; она забросила ногу на ногу, и подперев скулу рукой, тоскливо созерцала постельную сцену. – У меня перекур.
– Как это? – удивилась я, присаживаясь.
– Да так... Сейчас Катя отработает, отснимут этот дубль, и мы сменимся. Они на меня полезут.
– Как, сразу втроем? – присвистнула я. – Отважный ты человек.
– Нормаа-а-а-льно, – потянулась она и сладко зевнула. – Жеребцы у нас теперь новенькие, непрофессионалы, им интересно, говорят: ну, кайф! На девушек целый день лазить – и еще за это деньги получать, вот это жизнь... Непрофессионалы.
– Черт бы вас! – истерично выкрикнул человек, стоящий за камерой. – Кого тут еще носит!
– Привет, Вадик, – подала я голос с канапе. – Извини, что помешала творческому процессу.
Должно быть, от переизбытка галогенного света у него устали глаза, или это просто я так изменилась и постарела – узнал он меня не сразу.
– Кадр не разрушать! – скомандовал Вадик.
– Вадик, – сказала я, – по-моему, у Кати есть все основания пожаловаться на тебя в профсоюз.
В паузе они отдыхали – Катя и три мальчика. Ближний к камере молодой человек обернулся и вопросительно посмотрел на оператора. Дальний использовал паузу, чтобы поковырять в носу. Чем занималась Катя в минуту отдыха было непонятно – настолько ребята ее облепили. Последний участник творческого процесса (уж не знаю, как определить его местоположение), свернув голову, с тоской глядел мне в глаза; я поперхнулась дымом:
...справившись с кашлем, я сказала:
– Кажется, он ужасно хочет закурить. Можно, я дам ему затянуться?
Вадик помассировал уставший от общения с видоискателем глаз, отмахнулся и опять приник к камере; восьминожка, как по команде, зашевелилась, задышала, заерзала. Я спустилась на первый этаж.
Он пришел через полчаса, уселся на круглый стол напротив меня.
– Сильная сцена, – оценила я, припоминая увиденное в зимнем саду. – Что-то в ней есть эйзенштейновское... Я думала, ты сценарист, а, оказывается, ты еще и оператор.
А вообще, интересно, как выглядят сценарии в таком кино...
"Он приходит к Ней. Он ее раздевает. Она его раздевает. Они ложатся в постель. Они предаются любовным утехам..."
И это все? Кажется, у меня хорошо получается - изящно, жизненно и психологически точно – надо бы попроситься к Вадику в сценаристы.
Он закурил и пустил пальцы в ритмичный перепляс, высекая ногтями дробные кавалерийские звуки – как будто крохотный всадник скакал по столешнице.
– Я еще и режиссер и продюсер, – развил он мою мысль.
Я присмотрелась к Вадику; выглядел он неплохо по сравнению с нашей последней встречей: поправился, приобрел нормальный здоровый цвет лица (скорее всего, бросил курить всякую дурь); вот только глаза усталые – наверное, много работает... Интересно, он в состоянии после такой работы лечь с женщиной в постель?
– И давно ты этим занят?
Он – давно; поначалу зарабатывал очень прилично, но в последнее время доходы жиденькие; наше туземное кино такого плана, конечно же, не в состоянии конкурировать с тамошним; там у них специальная аппаратура, оснащение ("Какое еще оснащение? – подумала я. – Кровати, что ли, какие-нибудь специальные?"), там "порно" прочно поставлено в ранг искусства – однако на их изысканность и утонченность у нас есть свой ответ Чемберлену...
– Это, – Вадик поднял палец, указывая в потолок, – будет помечено пятью звездочками.
Понимаю... Как хороший выдержанный коньяк: крепко, терпко, пьянит и валит с ног.
– "Пять звездочек" – продолжал Вадик – это значит очень круто; настолько круто, что это "порно в квадрате" почти везде в мире запрещено; вот мы и закрываем эту брешь в кинорынке, к тому же "пять звездочек" неплохо расходится у нас – в среде восточных ребят.
– Восток – дело тонкое, – заметила я, оглядывая знакомую комнату; здесь ничего не изменилось, только обои сильно выцвели и мебель состарилась.
– Тонкое, – согласился Вадик. – Настолько тонкое, что, если у тебя в кадре нет анального секса, с тобой никто и разговаривать не станет... – он посмотрел на часы. – У тебя дело или ты просто проветриться заехала?
Я покачала головой, поднялась с дивана, уселась в старое кресло-качалку, забросила руки за голову, прикрыла глаза...
– Брось ты! – скептически отозвался на мой намек Вадик. – Все это мы давно проехали, это не имеет никакого смысла. Ты ж неглупый человек, должна понимать.
Он проводил меня до калитки. Я погладила шершавый воротный столб, шепнула:
– Палочки-выручалочки, Вадик! – и окинула взглядом старый участок, дом, на втором этаже которого теперь вовсю работает специфический кинопавильон; я прощалась – со старыми яблонями, кустом сирени возле несуществующей веранды – больше я сюда не вернусь.
Он не расслышал.
– Что?
Я рассказала ему про Крица – ради проформы; на то, что Вадику хоть что-то известно, я не надеялась.
Тем не менее, тем не менее!
Он видел Ивана Францевича. Я вцепилась в друга детства и вытрясла из него всю информацию.
Рассказанное Вадиком в голове у меня не укладывалось.
Да, он видел. Был по делам в столице Огненной Земли, зачем-то заворачивал в Агапов тупик, проезжал мимо сквера и видел.
В сопровождении какого-то мордастого молодого человека он шел от Дома с башенкой к машине.
Вадику показалось, что Криц был вдребезги пьян. Он едва волочил ноги; молодому человеку приходилось поддерживать его. Вадик торопился и останавливаться не стал.
У Роджера я спросила, не звонил ли в мое отсутствие Зина.
Что он ответил сквозь смех, я не разобрала. Тогда спросила у телефона. Успех тот же. Мой старый черный друг, доносящий вести из различных концов Огненной Земли, сделан из толстого эбонита (названьице же у этого материала!), он вислоух и похож на спаниеля года рождения эдак пятьдесят девятого; из рассказов бабушки мне известно, что прежде в наборный диск была вставлена металлическая пластинка с надписью "Будь бдителен – враг подслушивает!" Естественно, эбонитовый спаниель никакой памятью не обладает, – не то что новейшие поколения аппаратов.
Надо бы Панину позвонить; я обещала держать его в курсе моих зарисовок.
Он терпеливо выслушал мой отчет, внимательно посмотрел – кадр за кадром – очередной отрезок комикса, и – странно – не проявил особого интереса к тому кадру, где пышет жаром восьминожка под сенью пальмовых листьев – значит, старый стал.
– А когда твой поэтический дружок видел Францыча пьяным?
Когда... Вадик же говорил. Ах, да, это было как раз накануне денежной реформы, в четверг или пятницу.
– Ты уверена, что он был именно пьян?
Я тяжко вздохнула: ну конечно, конечно, если человек шатается из стороны в сторону и едва волочит ноги, значит он перед этим выпил бутылку кефира или отведал что-нибудь вроде:
...интересно, кстати, что это за продукт такой – жидкий, твердый или сыпучий?
Панин молчал.
– Серега, ты в своем уме? – грустно спросила я. – Ты полагаешь, что мой учитель накурился? Или... как это принято выражаться... наширялся?
Я повесила трубку и подумала, что хорошо бы принять ванну.
Разделась, долго стояла перед большим зеркалом, вделанным в дверцу шкафа, изучала обнаженную натуру... Живота нет – это очень хорошо. Грудь маленькая, уместится в ладошку – это кому как, на любителя; Панину, допустим, всегда нравилось, он не любит грудастых; интересно, каковы в этом отношении вкусы у Зины? А что – "лицо женщины" (так, кажется, мужики между собой называют ту часть тела, на которой люди сидят)? Нет, "лицо" маловыразительно: бледновато, худовато, не впечатляет; эх, мне бы да какое-нибудь кубинское лицо! Сочное, тугое, тропически- пышное – такое, чтоб у них кровь пенилась и глаза вылезали б из орбит; говорят, кубинцы своих девочек заставляют спать на животе, чтоб сохранялось и не мялось "лицо", – понимают кубинцы толк в этом деле.
От созерцания обнаженной натуры меня отвлек телефон.
Это был Зина.
Чем я занимаюсь? Да так, стою голая перед зеркалом и пробую оценить состояние собственных телес.
Последовала короткая пауза, потом я услышала приглушенные щелчки – ногтем по трубке постукивает, догадалась я.
– Тук-тук, войти можно?
А-а, ладно, заходи Зина, садись на диван, будь как дома: я бегло посвятила Зину в тайны зеркала, не утаив сообщение о маловыразительности "лица".
Зина сдавленно простонал на том конце провода.
– Я сейчас заеду!
– Мне одеваться или так стоять?
– Постой так, я быстро!
Черт с ним, будь что будет, сказала я девушке из зеркала; давай, охотник, бери добычу, тебе даже не понадобится двухстволка; вот она, белка, сбежала по стволу на землю, сидит в траве, завернувшись в собственный хвост, и сама просится в руку; что-то мне и в самом деле не по душе намеки толсторожих пареньков из коммерческих палаток.
Я еще немного повертелась перед зеркалом и в очередной раз пожалела, что не уродилась.
Да уж, не повезло девушке. Во-первых, ей стоило бы уродиться мальчиком; очень хорошо быть мальчиком и не иметь никаких проблем с гинекологией. И во-вторых, уж если не мальчиком, то, во всяком случае, еврейкой: волосы, конечно, были бы не рыжие, глаза не мутновато-серые, а темные, бархатные, и плюс к тому была бы талантливой, на скрипке бы играла, или б сделалась писательницей-сатириком, в КВНе бы участвовала... Хотя нет, ну их, скрипку и сатиру! Пошла бы в мединститут и выучилась бы на дантиста.
Зина страшно смутился, сконфуженно увел глаза в потолок.
– Я ж пошутил... – он тщательно, старательно откашлялся в кулачок, потом украдкой глянул на меня и улыбнулся: – С тобой не соскучишься!.. – обнял, поцеловал в висок. – Давай, одевайся. Мы едем в театр.
Как это мило – в театр. А что такое – театр? Кажется, это заведение, где пиво в буфете дают, больше я про театр ничего не помню; хотя нет: говорят, там, кроме пива, есть еще вешалка.
Я выбрала длинную черную юбку из жатой материи просторную белую кофточку и широкий пояс. Если эти наряды и были в моде, то лет десять назад, однако других у меня нет.
На улице лило как из ведра.
– Наша погода порабощена ходом жизни, – оценила я состояние климатических условий, когда мы, слегка вымокнув, уселись в машину. – Сегодня никакого дождя синоптики не обещали, и вон как льет – все как в жизни. С утра не знаешь, что случится днем. В обед боишься, что не доживешь до ужина. Ложась спать, я опасаюсь, что проснусь в какой-нибудь другой стране. Природа не выдерживает такого непостоянства и подчиняется.
– Точно, – Зина промокнул лицо платком, включил зажигание. – Если Майклу Джексону придется отплясывать в Лужниках в овчинном тулупе ввиду обильных сентябрьских снегопадов, я не удивлюсь.
Джексон? Это, кажется, кто-то из эстрадных попрыгунчиков?
– При чем тут этот гуттаперчивый парень?
Зина покосился на меня. Наверное, так смотрят на человека, неосторожно свалившегося с Луны, который ходит по улицам и удивляется, отчего эти люди в нашем городе не носят скафандров.
– Ты в самом деле ничего не знаешь?
Я закурила и вместе с никотином впитала занятную информацию о визите в столицу Огненной Земли суперзвезды; о том, что гуттаперчивый мальчик, возможно, имеет склонность развлекаться с малолетними; и о том, какие разборки происходят в шоу-мафии в связи с тем, что кто-то у кого-то подло перехватил права на организацию вояжа...
Значит, кого-нибудь обязательно пристрелят, и я впишу свежий эпизод в сагу о "новых русских"... Почему, кстати, их называют русскими; русских в этой среде, по моим подсчетам (если, конечно, можно считать корректным подсчет, основанный на анализе национального состава убиенных), наберется от силы десять процентов.
– Этот Джексон не производит впечатления живого, – я неосторожно упустила обвалившийся с сигареты пепел на единственное относительно пристойное "свадьбишное" платье. – Он сделан из чего-то искусственного, синтетического; скорее всего, его вырастили в пробирке. А певец он нулевой.
– Зато великий танцор, – отметил Зина. – Не прожгла платье?
Бог миловал. Вот было бы занятно: явиться в театр с дырой на самом интересном месте.
Дождь молотил по крыше так, как будто хотел разнести ее в клочья, "дворники" едва успевали справляться с потоком воды, плотным чулком обтягивающим стекло.
– А что мы, собственно, едем смотреть? – поинтересовалась я, когда мы встали на светофоре.
Вид у Зины был такой, как будто его стукнули пыльным мешком по голове; скорее всего, он не знал ответа на этот вопрос; сосредоточенно глядел в зеркальце заднего обзора, покусывал губу; о том, что нам дали "зеленый", он, кажется, догадался исключительно благодаря истеричному вою клаксонов.
Мы стояли, клаксоны завывали. Я воспользовалась его задумчивостью и левой рукой включила заднюю передачу.
– Газуй, Зина, дай ему багажником между глаз, чтобы не нервничал! – я обернулась, пытаясь рассмотреть через мутное стекло: кто это там пристроился нам в хвост такой нервный.
...удивительно, но на этот раз вещество современной культуры, вытолкнутое из меня привычным синдромом, оказалось точным по смыслу: это были ярко-красные "жигули"; Зина усмехнулся и резко рванул с места.
Потом – когда мы сделали круг по знакомой площади, удачно припарковались неподалеку от входа и сидели в машине, наблюдая, как убывает дождь, – я поймала себя на мысли, что впервые приезжаю в этот театр на машине.
Всю жизнь добиралась на метро. У эскалатора продиралась сквозь толпу жаждущих лишнего билетика и бежала через дорогу; "нечего лениться!" – пеняла про себя жаждущим и была права в этом упреке, поскольку сама, чаще всего, выстаивала тут ночь у касс за заветным билетиком, за сладким чувством восторга от вхождения в этот тесный крохотный мир, где солдат у входа накалывает на штык кусочек бумаги, доставшийся тебе с таким трудом, и пропускает внутрь – прямо под обстрел пристальных портретных взглядов, бьющих тебя навылет со стены... Теперь в этих стенах, насколько я знаю, царит привычная наша туземная жизнь, и бесконечно происходит какая-то жуткая, жутчайшая склока с ругательными разборками в судах.
– Мы кого-то ждем? – спросила я, глянув на часы, встроенные в приборный щиток; до начала оставалось пятнадцать минут.
Подъехал какой-то чудовищно расфуфыренный "кадиллак"; под дождь выскочил молодой человек с двумя зонтами. Зонты он взорвал у задней дверцы и сопроводил господ в смокингах до театрального входа.
Впопыхах – пока нервничали, дожидаясь билетершу, нарочито медленно надрывавшую билеты, бежали в раздевалку, а потом меж кресел, по ногам! – добирались до своих мест – в каком-то из отрезков этого бега мне удалось краем глаза зацепить афишный лист и слизнуть с него взглядом увесистое основательное слово.
Стриндберг.
Что ж, пусть будет – плэй Стриндберг! – я успокоилась. Очень хорошо, что не Погодин, не Шатров или Розов; значит, на сегодняшний вечер мы избавлены от туземного драматического занудства или занудного драматизма – не знаю уж, чего в пьесах, сделанных на материале Огненной Земли, больше...
Стриндберга представляли люди с какими-то восточными лицами; тронув соседку за острый локоть, я поинтересовалась на этот счет, и мадам шепотом объяснила мне, что это какая-то немосковская труппа (кажется, из братской и солнечной Армении), что мы смотрим "Ночь невинных забав" и что дети до шестнадцати лет не допускаются.
Ну, теперешние дети и не такое видали... Молодой человек в плебейской одежде (белые джинсы, безрукавка) и молодая мадам (роскошное темное платье, водопад жемчуга на шее и бриллиантовые вспышки в ушах), похоже, собирались предаваться любовным утехам.
– У вас нет бинокля? – спросила соседка. Вот уж не думала, что шведская драматургия настолько мелка, что шведский половой акт следует рассматривать через увеличительное стекло.
– Похоже, он ее – прямо тут? – шепнула я соседке.
– О да! – восторженно выдохнула она. – Имеет. И причем в натуральную величину.
Сославшись на головную боль, я собралась на выход. Зина молча кивнул. Лицо его было слегка развернуто в сторону от сцены. Он пристально наблюдал – однако не вполне за половым актом; кажется, его явно интересовало что-то, происходящее в первых рядах слева от сцены.
Но там ничего не происходило. Первые ряды были настолько скованы, настолько бездыханны, что создавалось впечатление, будто созерцание коитуса повергло зрителей в глубочайший катарсисный шок.
Я в одиночестве побродила по холлу; одиночество продлилось недолго; народ потянулся на выход – наверное, актеры уже отыграли сцену оргазма, а больше в туземном театре, как известно, смотреть не на что.
Прошла мимо преклонных лет и интеллигентной наружности пара; они смотрели себе под ноги и явно боялись поднять взгляд – так ведет себя человек, застигнутый врасплох за неприличным занятием. Следом за ними процокала еще парочка. Он – высокий, прямой, жгучий брюнет, одет с иголочки; она – крашеная блондинка в черной мини-юбке, размеры которой и плотность сидения на чреслах заставляли предположить, что это не юбка вовсе, а обычные дамские трусики; у нее были чудовищно толстые ноги в черных чулках, в тает походке она ритмично двигала слишком длинными руками – наверное, ее папа или, в крайнем случае, дедушка был чистокровный питекантроп. Далее следовали уже знакомые мне господа в смокингах, доставленные в театр на "кадиллаке". Холеный, вельможного вида человек лет пятидесяти... Будь я мастером художественного слова, сказала бы так; "Его виски осыпаны серебряным инеем" – однако поскольку я не отношу себя к мастерам этого цеха, то придется выразиться по-простому, по рабоче-крестьянски: седой красивый мужик.
Этот седой красивый мужик аккуратно вел под локоток, как бы прогуливая, великолепно сложенного молодого человека. Процессию замыкал Зина; это был прежний Зина – совсем не тот, что сидел в темном зале, напряженный, натянутый, как струна. В его лице стояло выражение беспомощности – такое отпечатывается в детских мордашках в моменты покаянные, когда ребенок немо просит простить его за шалость.
– Слишком большая концентрация сексуальных впечатлений за один день, – я кивнула на дверь зала. – Интересно, чем бы такой день мог закончиться, а, Зина?
В машине я рассказала ему о посещении дачной киностудии; он едко поморщился: знает он эти "пять звездочек", как-то в одной компании имел удовольствие видеть.
– И как впечатление?
– Пошел в туалет и засунул два пальца в рот.
– Видишь, какая могучая у искусства сила! Недаром классик говорил, что кино для нас – важнейшее из искусств.
Я закурила, постучала костяшкой пальца в стекло.
– Палочки-выручалочки! – сказала я на прощанье дому, где когда-то стояли на часах люди в военной форме времен гражданской войны и накалывали на штык твой маленький пропуск туда, под наше старое доброе небо.
...резко обернувшись, я пыталась рассмотреть, что же происходит у бетонной стены, которую мы только что миновали.
– Да уж... – согласился Зина. – Чикаго тридцатых годов.
Мы не спеша ехали темным переулком где-то в Марьиной Роще, далеко впереди вдруг вспыхнули стоп-сигналы какой-то машины. Когда мы поравнялись с ней, я почувствовала, что там творится неладное: дверца распахнута, водительское место пусто.
Зина резко затормозил, развернулся, включил дальний свет и на бешеной скорости понесся в обратном направлении. Я отдала должное его водительскому навыку: он придавил тормоз строго в тот момент, когда это было необходимо; нас протащило юзом и мы едва-едва не заехали бампером в лоб брошенному автомобилю.
Колесный визг стоял страшный.
В сочетании с мощным светом наш маневр выглядел очень эффектным.
У бетонной стены (интересно, есть ли на Огненной Земле хоть одна улица без подобного строительного ограждения?) двое били ногами третьего. Они его уже раздели до рубахи и теперь били.
Зина вышел из машины и медленно двинулся вперед. Я пошарила под сидением, нащупала что-то тяжелое и холодное (монтировка?) и ринулась следом.
Мое холодное оружие пустить в дело не пришлось: визг тормозов плюс яркий свет избавили меня от необходимости опять убеждаться в истинности народной мудрости, утверждающей, что против лома нет приема. Убивцы выпрямились, застыли и разинули рты. Это были совсем молодые ребята. Они тут же бросились наутек.
Я помогла человеку подняться. На вид ему было лет пятьдесят. У него была сильно рассечена бровь. Уперев руки в поясницу – точно его хватил приступ ревматизма – он сдавленно мычал и растерянно хлопал глазами.
– Видите ли... – тихо произнес человек. Если он присовокупит к сему слово "коллега", я побожусь, что передо мной стоит какой-нибудь старорежимный профессор Императорского Университета; профессура старой школы всегда обращалась к студенту подчеркнуто демократично – "Видите ли, коллега..." – и вот его какими-то ураганными ветрами выдуло из прошлого века, донесло через социализм опять до знакомого капитализма, однако он стоит туг, вымазанный в грязи, и ни черта не может узнать вокруг – ну ничегошеньки (ах, профессор, вас не в Россию закинуло, а на Огненную Землю!).
– Вы профессор? – строго спросила я. Он недоуменно округлил глаза, взгляд его соскользнул с моего лица и опустился к руке, сжимавшей монтировку, и опять к лицу вернулся.
– Видите ли... Да. Откуда вы знаете?
– А мы все знаем. Потому что мы работает в фирме "РЭМ":
...я протянула ему выпачканные в грязи плащ и пиджак.
– И приглашает! – добавил подошедший Зина. – Вам надо прийти в себя. Возможно – немного выпить.
Профессор стал медленно пятиться, с ужасом глядя на монтировку.
– Да не бойтесь вы, – успокоил его Зина. – Девушка прихватила инструмент на всякий случай: вдруг у вас что-то с машиной? Она у нас очень хороший автомеханик. – Зина кивнул мне: – Дорогу найдешь? Тут недалеко; два квартала и направо. Довези профессора.
– Что они от вас хотели? – спросила я, когда наша процессия тронулась.
Он пожал плечами. Ехал себе, никого не трогал; кто-то метнулся наперерез из темноты – он едва успел затормозить. Его вытащили из машины и тут же, без предварительных выяснений отношений, стали молча и сосредоточенно бить.
Значит, эти пареньки хотели, скорее всего, не плащ, а машину. Хорошая у профессора машина; интересно, какой марки.
– Это "СААБ", – пояснил он, промакивая платком разбитую бровь.
Мы поставили автомобиль на охрану и направились к подъезду, где нас дожидался Зина. Профессор передвигался с легким скрежетом, придерживая ладонью поясницу и как бы подталкивая себя вперед.
– Зина, – сказала я, – звони скорее мистеру Холмсу. Оказывается, мы поймали Мориарти. Только профессор каких-то очень крутых мафиозных наук может себе позволить кататься на "СААБе". И давай сейчас устроим шведский стол.
– А с вами не скучно, молодые люди, – кряхтя, заметил наш новый знакомый. – Я, правда, не совсем понял, при чем тут шведский стол... – он кашлянул, будто бы извиняясь неизвестно за что, и добавил: – Видите ли.
Я объяснила: сперва мы попадаем на шведа Стриндберга, потом берем на абордаж шведский "СААБ". По логике вещей закусить мы должны именно за шведским столом. А потом предадимся шведской любви.
– Вот какая у нас получилась шведская вечеринка!
– Знаете, – улыбнулся Зина, помогая нашему другу выйти из лифта, – чем прекрасна эта женщина?
– Догадываюсь... – ответил он столь же мягкой улыбкой.
– Эй, вы! – заорала я. – Если вам известен ответ, то это еще не значит, что известен мне!
Зина прислонил профессора к стене, подошел, поцеловал меня в висок.
– Тем, что у нее все не как у людей. А совсем даже наоборот.
При случае я ему замечу, что эти вошедшие у нас в традицию поцелуи в висок очень и очень опасны. Не знаю, как там у других девушек, а у меня именно в этом месте находятся не только мозги, но и кое-какие зоны, отвечающие за порывы, ничего общего с процессами мышления не имеющие.
Я помогла ему умыться. Свернув голову набок, он внимательно исследовал раненую бровь.
– Придется записываться на прием, видите ли... К самому себе... – он поморщился, двинув бровью. – Я вообще-то врач. И в самом деле профессор. Косметолог.
– А-а, понятно:
...вот уж не думала, что в косметических салонах работают мужчины, причем в ранге профессора. Хотя... На Огненной Земле профессура кем только ни трудится – даже дворниками трудится.
– Вы меня не совсем, видите ли, поняли. Речь идет не о косметических масках. Строго говоря, это называется репродукция. Изменение человека. Его внешности. У меня свой салон.
Тогда понятно, откуда "СААБ". А все-таки жаль профессора: принимать у себя всех этих чудовищно распухших теток в полтора центнера живого веса, а также всех этих патологически-худых плоскогрудых истеричек, которые заявляют, что они жены самых генеральных из всех генеральных директоров концернов, и потому – будь любезен, дружочек! – сделай из меня нечто среднее между Мерилин Монро и Барбарой Стрейзанд...
Будь я профессором репродукции, я делала бы из этих теток Чиччолину – до чего же все-таки противная, отвратительная баба; это с ее подачи мужики полагают, что у всех у нас вместо мозгов – детородный орган.
Бедный вы, бедный – щупать все эти сальные животы и коровьи ляжки, оттягивать из них жир, вставлять в груди упругие протезы – и все ради того, чтобы господ генеральных директоров не тошнило, когда они ложатся со своими благоверными в постель... И алхимничать с транссексуальными трансформациями, и "репродуцировать" ночных бабочек, крылья которых поизносились от порханий по интуристовским номерам...
Я прошлась по дому. У Зины милая двухкомнатная квартира, не отличающаяся ничем сверхъестественным, за исключением поразительной чистоты и опрятности...
И еще деталь – тут повсюду развешаны зеркала. К чему бы это?
В гостиной мы выпили вермута со льдом. Профессор пришел в себя. Он оказался говоруном. Рассказывал, что в узком смысле он специалист по, так называемой, эстетической хирургии, то есть, в принципе, занимается пластическими операциями. Я тут же попросила сделать из меня восточную женщину: по моим подсчетам где-то к концу года Огненную Землю окончательно поработит кавказская мафия – вот я и буду "своей среди своих". Профессор откланялся в третьем часу ночи. На прощанье он сунул мне визитку.
– Да я пошутила, профессор... Мне не нужно новое лицо, – и хотела сунуть визитку в карман его пиджака.
Он мягко отвел мою руку.
– Не зарекайтесь, девочка, не зарекайтесь... – шагнул за порог, обернулся. – Спасибо вам, ребята.
– Один совет, профессор...
– Если вам опять кто-нибудь встанет поперек дороги – жмите на газ и давите.
Он тяжело вздохнул.
– Вы полагаете?
Это однозначно, милый мой профессор, иначе вам не выжить на Огненной Земле.
Заперев дверь, я вернулась в гостиную. Прошла в смежную комнату, совмещавшую в себе функции спальни и кабинета, выглянула в окно, дождалась, пока габариты "СААБа" скроются за поворотом на выезде из двора.
Пришел Зина. Он встал у стола и занялся сосредоточенным покусыванием губы.
Я погладила его по щеке:
– Не терзай губы, они нам еще пригодятся, – поднялась на цыпочки, поцеловала его в губы; потом пошла в ванную, приняла душ, обмоталась просторным махровым полотенцем, вернулась, сбросила полотенце и забралась под тощее солдатское одеяло.
Зина смотрелся в зеркало, висевшее в проеме между (окнами – долго смотрелся, никак не меньше минут пяти – в мужчинах такой повадки я прежде не встречала. Потом он испустил тяжелый вздох – очень горький – вышел, вернулся минут через пятнадцать в роскошном махровом халате – сине-бело-красном; цветовая гамма идеально точно воспроизводила национальный французский флаг. Он присел на край кровати, положил мне руку на плечо и неуверенно произнес:
– Ты мне нравишься...
Ах, не то, охотник, не то! Я спихнула его с кровати, скинула одеяло.
Вот интересно, что должен испытывать мужчина, когда голая девушка волочит его от постели, прислоняет к стене, отступает на три шага, становится по стойке смирно, берет под козырек и, задрав подбородок, во весь голос начинает петь "Марсельезу"?
Некоторое время он ошалело смотрел на меня, потом отслоился от стены, подошел к зеркалу и – догадался.
– А ч-ч-ч-ч-ерт! – сочно, азартно расхохотался Зина, ринулся ко мне, и что грянуло вслед за этим – не произошло, стряслось, случилось, свершилось, приключилось, сделалось – а именно грянуло, я плохо помню, вот разве что: высокий полет его халата, халат парит, нелепо размахивая руками под самым потолком, и падает, и, наверное, разбивается насмерть.
Я знала, что будет трудно; в каком-то отрезке ночи этот разговор неминуемо должен возникнуть. Я собралась с силами, сходила в комнату, налила немного вермута, выпила, покурила, вернулась в спальню-кабинет, перелезла через Зину, который лежал, забросив руки за голову и смотрел в потолок, устроилась на своем месте у стены.
Он ждал.
Я знаю, чего ты, охотник, ждешь; ну, так пойдем со мной, не отставай – белка шустрый зверек; ты следи за ее рыжим хвостом, знай-поспевай и прибавь шагу – из твоей разбойной Марьиной Рощи мы доберемся по холодному и безжизненному в этот поздний час проспекту до Савеловского вокзала; побежим, понесемся вдоль трамвайных путей в сторону центра, углубимся в переулки, размотаем их запутанный клубок и выпрыгнем прямо под наше старое доброе небо. Смотри, видишь; во дворе щуплый чернявый мальчик, он производит впечатление зажатого, затертого; в дворовых играх он остается в тени – слишком он застенчив и плохо координирован для подвижных забав мальчиков; да и чисто классово он им в какой-то степени чужд: живет в кооперативном доме, папа его певец, солист какого-то воинского ансамбля песни и пляски.
Он учится на три класса старше тебя, белка, и ты его совершенно не замечаешь... Потом будет случайная встреча – у нас там, в Агаповом тупике, неподалеку от булочной; ты бежала на заседание кафедры (первый год аспирантуры – прогуливать эти глупые никчемные ритуальные заседаловки было нельзя!), он окликнул тебя, и ты едва вспомнила, кто же это с тобой хочет заговорить на улице... Узнала, наконец; школа, славное было время, дети бегали в сквер целоваться под сиренью; как же, как же... но извини, Федя, я очень тороплюсь, позвони вечером, вот мой телефон...
Он сказал: не надо, я знаю твой телефон...
Да? Как это мило, ну, тогда до вечера. И он, конечно, позвонит; однажды, будто бы невзначай, зайдет в гости с пышным букетом и бутылкой коньяка – вид у него загнанный, под глазами лиловые круги. Налаживает кооператив, объяснит, страшная морока, все кругом всего боятся и палки суют в колеса, приходится вертеться по шестнадцать часов в сутки...
– Можно я закурю, Зина? Спички там, на тумбочке, осторожней впотьмах, там зеркало твое стоит....
Ты поспеваешь за мной, охотник? Это хорошо, ты опытный охотник, чуткий, внимательный, тренированный; умеешь ходить по нашей тайге, жить у костра, ну так слушай: его визиты продолжаются примерно полгода, а потом я впервые заявляю милому другу Сереже Панину, что не поеду с ним в горы. Почему? Потому что выхожу замуж... Будь ты не охотник, а охотница, ты б меня понял... Я жутко, нечеловечески устала от Панина; он милейший человек, лучше в жизни я не встречала, с ним очень легко, просто и весело; с ним хорошо пить, бывать в компаниях, кататься на лыжах, говорить про книжки, лежать в постели – собственно, из этого долгое время и складывались наши отношения – но жить с ним нельзя.
Я опытная белка, если какая-нибудь молодая белка придет ко мне и заявит, что собирается с Паниным вступить в законный брак, я посоветую ей: милая, видишь вон ту высоченную сосну? Полезай на самый верх, на шаткую макушку, и кидайся вниз, чтобы разбиться насмерть... А с Федором Ивановичем можно было главное – жить. Эту жизнь питала – жалость; знаешь, нам, белкам, иной раз бывает ужасно жаль вас, охотников: я знаю массу браков, которые стартуют с этой линии. Она очень невнятна, почти невидима, но она есть; момент жалости поначалу крохотен, он размером с булавочную головку, однако со временем энергия его растет, расширяется, и это клейкое вещество затекает во все углы твоего дома; ты незаметно прилипаешь: к грязным его воротничкам, идиотской привычке выдергивать волосинки из носа, манере в пылу полемики едко морщить нос и приподнимать верхнюю губу, отчего в лице прорастает выражение мелкого грызуна.
Помнится, Серега был тогда дома, в квартире кавардак, на полу: лыжные ботинки, свитеры, носки, пуховые жилеты, отвертки, крепления, очки, лыжи, палки, перчатки, много портвейна – и все в кучу; узнав, почему я даю отбой, Панин долго молчал, открыл любимый им "Агдам", влил в себя стакан, утер рот ладонью и заявил, что я сошла с ума. Я рехнулась, потому что Катерпиллер (таково дворовое прозвище моего мужа) – полный ноль, пустое место: "Ну-ка, давай, махни портвейну и беги домой паковать рюкзак, завтра мы стартуем первым рейсом в Минводы; менять Терскол на Катерпиллера – это совершенный идиотизм!" Панин улетел один, билет я так и не сдала, он до сих пор хранится у меня дома; иногда я достаю его из стола, подолгу разглядываю и думаю: а если б этот билет был использован? Нет, охотник, судьбу не обманешь, билет таким и должен оставаться – чистым, не тронутым пометкой аэропортовской контролерши.
– Я налью себе немного, а? Не бойся, Зина, я не алкоголичка... Ты думаешь, мне легко – все это?..
– Да что ты, конечно... – он поцеловал меня в щеку. – Налей. И мне тоже чуть-чуть принеси.
Вот и хорошо, охотник, белки любят сладенький вермут, он успокаивает... Нам надо успокоиться, потому что путь наш теперь лежит на Пироговку. Почему туда? Там в клинике у меня работала хорошая приятельница, устроила мне консультацию у какого-то профессора; консультация была необходима, потому что через какое-то время у нас должен был появиться бельчонок... Когда впервые об этом зашел разговор, Федя просто поджал губы.
Не удивляйся, милый, что я так нагружаю эти слова, надо знать человека; порой один его жест или какая-то ужимка означают гораздо больше, чем миллионы слов; нет, он не возражал, не пытался спорить, устраивать скандал – он просто поджал губы; я понимала, что означает этот плотно стиснутый рот: делай, как знаешь, однако – без меня. Потом мы долго стояли в сквере на Пироговке; было холодно, меня знобило; профессор перед этим долго меня смотрел, потом наорал на меня; где ты делала аборты, дура!
У повивальной бабки, что ли? И сказал: это твоя последняя возможность, странно, что ты вообще забеременела; но запомни: если не теперь, то значит вообще – никогда! А я уже была не в том возрасте, когда белка может целыми днями носиться по веткам, летать с дерева на дерево, парить, карабкаться по стволам; мне надо было что-то решать раз и навсегда... И еще профессор сказал; при твоей комплекции, скорее всего, никак не обойтись без Кесарева...
– Зина, дай руку, дай – чувствуешь? Это шрам почти уже изгладился, но на ощупь его можно различить, чувствуешь?
– Да, – сказал он, приподнялся на локте, навис надо мной. – Слушай, Белка, может, не надо? Потом как-нибудь, в другой раз...
Да нет, охотник, нам надо торопиться; возможно, другого раза у нас с тобой не будет... И все у нас вышло интеллигентно, без скандалов, Федор Иванович просто поджал губы и отошел в сторону – не только там, в сквере на Пироговке, – он вообще отошел в сторону; несколько раз я потом его видела, случайно, мельком, мы кивали друг другу, произносили пару каких-то необязательных слов и расходились в разные стороны; я плохо знаю, как у него складывалась жизнь, говорят, он очень много работал. А бельчонок был очень слабенький – очень многие "кесаревы" бельчата слабее своих нормальных собратьев; весил он всего ничего, маленький был, худой; на третий месяц у меня кончилось молоко, он почти весь год болел и все время кричал по ночам – странно, что я не сошла с ума от этого крика; заседаловки на кафедре, естественно, прогуливала, просто не было сил дотащиться туда через весь город, из отдела аспирантуры названивали: "Что ж это вы, милочка, у нас уже и "первогодичники" по паре глав представили, а вы? Нет-нет, милочка, академический отпуск продлить нет никакой возможности" – ну и оставили двух белок подыхать с голоду. Они и так-то питались скверно, как в лютую зиму, когда запасенные с осени орехи да грибы все вышли; на аспирантскую сотню рублей не сильно разгуляешься... Эй, охотник, охотник! Ты что?! Отпусти, отпусти, мне больно, ты мне плечо сломаешь!
– Где ребенок? – он буквально выдернул меня из постели, впечатал в стенку. – В детдом сдала? Подкинула? Завернула в одеяло и подбросила на чей-нибудь порог?
– Отпусти, Зина, мне больно...
Господи, что это с ним? Лицо мертвое, глаза дикие, а в руке железо – наверное, в самом деле сломал мне ключицу.
– Ну? Подкинула?
Никуда я его не подкинула; белка – существо природное, языческое, дикое – это да, но кукушечьи повадки ей не свойственны, она детенышей своих в чужие гнезда не кидает... Я же говорила тебе, охотник, бельчонок был слаб, а зима стояла в самом деле лютая, в гнезде нашем батареи взорвались, и вся стена была во льду – такое на Огненной Земле часто случается. На кухне с ним жили, газовой плитой отапливались – однако что это за тепло? Словом – пневмония. Стремительная какая-то, быстротекущая. За две ночи он и сгорел. А потом... Что потом? Из отдела аспирантуры еще пару раз звонили – я их в конце концов отослала, не стану говорить – куда. Случайно забрела в библиотеку у нас там, в Агаповом тупике, это оказалась профсоюзная библиотека, хранилище профсоюзной мудрости всех времен и народов. Ничего, привыкла. Там, на стенах, под самым потолком, портреты гигантов духа в лепных рамах: воспаленные чахоточные глаза Белинского, пухлые детские щечки Добролюбова и многих других. Мой стол был прямо под Сан Санычем Фадеевым; вечерами я его спрашивала: ну что, Сан Саныч, это и есть то светлое будущее, за которое ты насмерть с белой костью бился? – а он на меня в ответ глядел демонически и молчал. Что молчишь, охотник? Не сиди так, обхватив колени, не молчи, я не слышу твоего дыхания.
– Как ты выжила? – очень тихо спросил он наконец.
На то оно у нас и было, наше старое доброе небо, под ним можно было выжить. Прямо с кладбища меня за руку увел Панин. Или унес – не помню уже, очнулась я у него дома; усадил на стул, опустился передо мной на колени и сказал: постарайся понять...
Жизнь, сказал он, нечто большее, чем свод сентиментальных правил. Мне знаком один человек, который, узнав о смерти жены, провел ночь в публичном доме. Проститутки спасли его, а с попами ему было бы худо. Это можно понимать или не понимать. Объяснять тут нечего.
Наверное, он кого-то цитировал... Не знаю кого, знаю только, что очень по делу. Он взял меня за руку, и мы поехали к его другу Юре Бугельскому, куда-то в Замоскворечье, в маленький двухэтажный особняк в тихом переулке. Всех жильцов там уже выселили, жизнь теплилась в одной из четырех квартир – были прежде дома всего-то с четырьмя квартирами: две на первом этаже и две на втором. Хотя "теплилась" – не то слово, там все полыхало; мужиков я всех знала: терскольская компания – Илюшок Толстой, Ваня Куницын, Юра, хозяин дома, ну и Панин впридачу. Они купили пять ящиков "Рымникского" – было прежде такое винцо – и на четверых вызвонили себе по телефону ровно шестнадцать девушек. Я была ни в счет. Когда мы вошли, то застали очаровательную сцену: Илюшок пытался охватить вниманием сразу всю полагавшуюся ему долю женского общества; он сидел на диване, одна девушка висела у него на шее, две сидели по бокам, и он их обнимал, а четвертую девушку, расположившуюся на полу, Илюшок гладил босой ногой по ляжке. Со мной, наконец, случилась истерика; кое-как ребята меня успокоили, и, знаешь, охотник, позже я поняла, что эта развеселая квартира, где уже вовсю полыхал камин в голубых пасторальных изразцах, оказалась именно тем единственным местом, где можно было выжить. Мы провели там дней пять. Потом я ушла. По дороге домой встретила своего школьного учителя, Ивана Францевича Крица; он молча взял меня под локоть и отвёл в Дом с башенкой, с неделю я прожила у него под расписным потолком, а сам Иван Францевич перебрался на кухню; там у него стояла маленькая узкая лежанка. Он ни о чем меня не спрашивал. Иногда что-то читал вслух – как читал когда-то детям, собиравшимся за круглым столом...
– Он куда-то пропал.
– Как это? – не понял Зина.
Расскажу при случае. Не теперь, охотник, смотри, уже светлеет за окном; тебе скоро уходить, у нас так мало времени, и не заставляй меня опять вскакивать, брать под козырек и петь "Марсельезу", у меня совсем нет музыкального слуха.
– Да, – улыбнулся Зина. – Поешь ты, сказать по правде, отвратительно.
– Мерза-а-а-а-вец! – заорала я, повисла у него на шее, повалила на спину, уселась ему на грудь. – Сдавайся, охотник!
Сдавайся, сдавайся, тебе некуда деваться; этой ночью я завела тебя слишком далеко – в самую чащу, где нет ни просек, ни тропок; тебе отсюда уже не выбраться без моей помощи, а я пока не собираюсь выпрыгивать у тебя из-за пазухи; за пазухой у тебя тепло, покойно и слышно, как ритмично пульсирует сердечный механизм.
– Сдаюсь! – он широко раскинул руки и прикрыл глаза.
С утра перечитала "Женитьбу Фигаро" – однако грусть не поборола.
Две недели без Зины бездарно отлетели за спину. Он уезжал в командировку, в Тверь, по своим экологическим делам. Где он работает, я узнала только в день отъезда, когда провожала его на вокзал – какая-то фирма, связанная с экологическими проблемами. Наверное, это иностранная фирма: на Огненной Земле никто и никогда всерьез о состоянии окружающей среды не задумывался... Вернувшись, Зина позвонил из дома – только за тем, чтобы в телеграфном стиле передать: он тут же уезжает опять, да, в командировку, едва успел принять душ, взять свежее белье и вот опять стоит в дверях. Надолго? Трудно сказать; все так неясно в этой жизни и туманно.
На днях я наведывалась в дом с башенкой, сделала влажную уборку, выкинула из холодильника испортившиеся продукты. Потом забежала в милицию. Красноглазый сыскарь с трудом узнал меня: а-а, это вы, девушка, нет, новостей никаких, да и кто сейчас станет заниматься подобными делами, когда тут...
– Что значит – тут! – вскинулась я. – Человек пропал!
– Де-вуш-ка, – четко, будто шаг печатал, отчеканил он. – Скажите, вы в самом деле немного... – и выразительно почесал висок, – не в себе? Или прикидываетесь? Не знаете, что у нас тут? На Баррикадной – что? В Белом доме – что?
– На Баррикадной? – пожала я плечами. – А как же, знаю. "Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой". Я, кажется, читала про это в школьном учебнике. Первая русская революция. А потом должна наступить столыпинская реакция. Или я что-то путаю?
– Нет, не путаете... – он помассировал воспаленные глаза. – Так вы действительно не в курсе?
Я пожала плечами и глупо улыбнулась. Он медленно, со скрипом поднялся из-за стола, подошел ко мне.
– Девочка, можно я тебя поцелую?
– С какой это стати?! – я инстинктивно отшагнула назад.
Он невесело усмехнулся, посмотрел в окно, разлинованное стальными прутьями, и с отеческой теплотой в голосе произнес:
– Выходит, ты единственный нормальный человек в этом городе.
– А как с моим делом?
Он развел руки и сокрушенно покачал головой.
Ладно, черт с вами со всеми; "вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана" – раз уж мне выпало водить, то доиграю до конца... Последний, кто должен получить конверт с приглашением на НАШ день – это Митя. Митя, насколько я знаю, директор книжного магазина, у Мити крохотная жена с темными глубокими глазами, в которых стоит вся скорбь и печаль еврейского народа, и еще двое детей. Живем мы почти по соседству, пара остановок на трамвае, но видимся редко Надо бы съездить к нему в магазин; это в Замоскворечье; чудесный магазин, старый-старый, а в директорском сейфе хранятся "Книги жалоб и предложений" еще с тридцатых годов.
Вчера в платяном шкафу, в ящике, служащем складом для грязных колготок, я наткнулась на бумажный пакет: подарок Зины, шампанское.
Вот что значит плохо знать классику: я перепугала порядок действий.
Сперва – откупори шампанского бутылку, а уж потом – перечти "Женитьбу Фигаро" – подожди, брат Моцарт, не оставляй стараний и не убирай ладоней со лба, сейчас мы растворим нашу грусть. Прихватив шампанское, я отправилась к Панину. Я шла через двор и потому воспользовалась "черной лестницей".
Дверь в квартиру была нараспашку.
Панина я обнаружила в компании Музыки на кухне. Они мрачно сидели за столом друг напротив друга – как Карпов и Каспаров в матче за чемпионский лавровый венок – и время от времени делали прямолинейные ходы.
Фигур на столе было всего три: две стограммовые зеленые пешки и зеленого оттенка тура ("Ройял", естественно). Учитывая, что оба они играли белыми, зеленой туре приходилось туго: ее загнали в угол и давили.
– Вам не хватает ферзя! – я водрузила на игровое поле свою роскошную бутылку.
Панин молча поднялся, достал из мойки относительно чистый стакан, сунул мне в руку и вернулся на свое место. Они выпили.
Они выпили, не чокнувшись, это мне не понравилось.
Я постучала костяшкой пальца по дверному косяку:
– К вам можно? Или мне подождать в приемной?
Музыка поднял на меня влажные воспаленные глаза, Панин тем временем налил.
– Ломоносов... – хриплым, загнанным в чрево голосом произнес Музыка. – Садись, помянем.
– Господи! – я тяжело опустилась на табуретку и указала взглядом на зеленую бутыль. – Что, по этому делу?
– Нет, – отрицательно качнул головой Панин.
Музыка коротко рассказал: попал под поезд, где-то у черта на рогах, в Солнцево. Что Ломоносов там делал – последние лет двадцать он никуда за пределы Агапова тупика не удалялся, это всем известно - непонятно.
Бедняга... Жил один-одинешенек на этом свете, не стало человека – никто и не вспомнит. Кроме нас... Ладно, пусть ему земля будет пухом!
– В том-то и дело, – буркнул Панин.
– В чем, – переспросила я.
В том-то и дело, пояснил Панин, что, оказывается, были родственники. Уже появлялись в РЭУ оформлять какие-то документы, связанные с правами на жилплощадь.
– Да не было у него никого! – выкрикнул Музыка. – Я-то знаю! Ни племянников, ни деверей. Жена была – да, давно. - Ну так и умерла она три года назад, мне Ломоносов сам говорил.
Музыка заплакал – ни с того ни с сего, без подготовки; лицо его было неподвижно – наверное, именно так, без всхлипов и стонов, льют иногда с тоски большие каменные слезы гигантские серые изваяния на острове Пасхи. Панин отвел его в комнату, уложил и вернулся к шахматному полю; двинул вперед свою пешку, вопросительно посмотрел на меня.
– Нет... Я сегодня разыгрываю глухую сицилианскую защиту. А ты решил поставить себе мат?
Он повертел стопку в пальцах, вернул ее на стол.
– Ладно, тайм-аут...
Он принял душ, поджарил яичницу, поковырял вилкой, есть не стал; спросил, как поживают мои комиксы.
А-а, комиксы, любимый жанр туземцев Огненной Земли... я немного о них забыла – влюбленность отвлекает, сам знаешь, милый мой друг детства.
– Давай-давай, трудись, не оставляй стараний, маэстро! – напутствовал меня на прощание Панин.
Не оставляю, милый друг, ладонь моя по-прежнему на лбу, а правая рука все что-то чертит на листе бумаги: профили и анфасы, кружочки, квадратики, ромбики, игрушечные домики с трубой, дымы в трубе, цветочные головки, собачьи мордочки, самолетики, пистолетики – бессмысленный набор фигур и контуров; однако законы жанра мне ведомы: придет момент, и рука вычертит на бумаге нужную фигуру, а Сергей Сергеевич Корсаков вытолкнет из меня какой-то пароль времени и эта реплика закончит композицию, установится в белом, напоминающем крошечное облачко, поле пустоты ("пузырь" – кажется, так называется графическое оформление пространства реплики), и к губам какого-то тайного пока для нас персонажа протянется похожий на бесконечно вытянутую запятую соединительный знак.
Я выглянула в окно. Стоял совершенно желтый вечер, беззвучный и бесшумный – такие прячет под своим подолом бабье лето.
В дневном небе не различимы Млечные Пути, однако они наверняка стояли на своем высоком месте, и высыпали на меня свою белую мелкую крупу. Что же это было? Да, первое инстинктивное желание: рвануться, бежать и скрыться в пещерах, а камням, падающим с неба, прокричать: падите на меня и сокройте меня!
Зина, наконец, позвонил, сказал, что вернулся, очень устал, сейчас заедет, и мы отправимся куда-нибудь "проветриться". Зная, что за этим "проветриться" может скрываться бездна вариантов, я спросила совета относительно характера туалетов: мы на светский раут? или едем грабить банк? Он пробубнил что-то маловразумительное.
Он запаздывал, я решила подождать на улице.
Середина дня, в окрестных конторах обеденный перерыв. Хуже нет – ждать и догонять. Чтобы отвлечься, я принялась рассматривать публику. Девяносто процентов граждан выглядели "фирмачами" – ну что ж, это не более чем оттиск того особого социального устройства, которое установилось в последние годы на Огненной Земле, где не осталось больше ни рабочих, ни крестьян, ни сдавленной этими тяжелыми классовыми глыбами "прослойки"; теперь абсолютное большинство туземцев либо сотрудничает в фирмах, либо этими фирмами владеет.
Мое внимание привлекла женщина средних лет, в длинном кремовом кожаном плаще – упругая, энергичная походка, осанка, выражение лица говорили о что она из разряда тех, кто "владеет". Ни с того ни с сего она вскрикнула, взметнула руки – точно хотела вспорхнуть с тротуара – и медленно, закручиваясь винтом, стала оседать на асфальт.
Было впечатление – из нее что-то выпало.
Это был камень. Это был булыжник размером с кулак, гладкий и серый. Со всех сторон закричали. Я подтолкнула взгляд вбок через улицу – он едва не угодил под проносящуюся мимо красивую серую машину, напоминавшую в своем стремительном движении какую-то хищную рыбу. На спине у серой рыбины вздулось некое подобие нарыва. Автомобиль резко вильнул и правым бортом протаранил обрубок мощного тополя. На крыше его виднелась внушительная вмятина.
Кто-то прицельно метал камни – в людей и машины. Я подняла глаза и встретилась взглядом со снайпером. Он сидел на крыше четырехэтажного дома, уютно оседлав крохотную избушку чердачного выхода; у него было характерное заскорузлое лицо человека "без определенного места жительства". Да и одежда – засаленная солдатская шинель – выдавала в нем городского странника. Впрочем, от братьев по крови и образу жизни он разительно отличался – ясным, осмысленным, прохладным – с примесью надменности – взглядом. Прищурившись, он смотрел на меня; рука его опускалась в серый холщовый мешок, висевший на лямке через плечо.
Какой-то древний, первобытный дремучий инстинкт скомандовал мне:
– В пещеру! В ущелья гор!
Я кинулась в подъезд; в тот момент, когда дверь с грохотом встала на место (у нас в парадном очень тугая и звонкая пружина) мое пристанище сотряс жуткий удар.
Боевые действия на улице, похоже, разворачивались; слышался грохот обвалившегося стекла, чьи-то истошные вопли, визги тормозов, завывание сирен: то ли милицейских, то ли пожарных... Когда уличная какофония пошла на убыль, я рискнула приоткрыть дверь. Карета "скорой помощи"; милицейские машины – две легковые и "воронок", куда уже заталкивали камнеметателя. Собралась приличная толпа.
– Псих! – уверенно прокомментировал кто-то за моей спиной.
Голос принадлежал полнолицей женщине, явно относящейся к торговому сословию.
– Сомневаюсь! – возразила я, – во-первых, человек бродит по Агапову тупику и собирает в холщовую сумку камни, причем не все подряд, а только те, которые увесисты и хорошо ложатся в руку, во-вторых, он находит способ пробраться на чердак, выбирает оптимальную боевую позицию; в-третьих, я прекрасно помню его глаза. Сомневаюсь.
У нее были чудовищно вульгарные руки, украшенные двумя невероятных размеров кольцами, на изготовление которых ушло не меньше трети национальных запасов серебра Огненной Земли; серебро оплетало грязно-палевые, в мелкой коричневой искре, камни; наверное, она кормит с руки перепелок, и те вьют у нее на пальцах гнезда – именно два "перепелиных яичка" лежали на ладони в серебряном густом мху; я слишком была шокирована, чтобы сопротивляться очередному рвотному позыву:
...работница прилавка медленно отступала, инстинктивно загораживая лицо руками, пятилась, а потом побежала.
Я подобрала камень, который предназначался мне:
Кирпич – это был в самом деле обломок кирпича – я завернула в носовой платок и положила в сумку.
Зина спокойно наблюдал за мной.
– Это, милый мой, пуля, – объяснила я. – Моя. Кровная. Каждому из нас положена своя отдельная пуля. Это у русских людей на роду написано, – я почувствовала, как он напрягся, тем не менее продолжала. – Поскольку на каждого из нас положен свой отдельный рабочий. Знаешь, такой невысокий, старый, веки у него красноватые и взгляд покорный... Стоит перед горном раскаленным и пули льет... А куда мы направляемся?
Кажется, я застала его врасплох. Он притормозил у продовольственного магазина – извини, нужно сделать звонок! – прошел в будку; разговор длился не более минуты. Он почти ничего не произносил в трубку, а только кивал – утвердительно или отрицательно.
– Ты любишь пиво? – спросил он, трогая.
– Это немилосердно! – грустно ответила я.
Ничего... Я живо представила себе, как мы будем лежать в постели и в самый интересный момент извиняться: прости, но мне нужно выйти сделать пи-пи.
– Очаровательно! – крикнула я, когда мы припарковались у центрального входа ВДНХ. – А в какой мы пойдем павильон? "Коневодство" или "Культура"?
Кстати, разница между ними у нас тут, на Огненной Земле, несущественна, и даже в "Коневодстве" человек чувствует себя комфортней: не так воняет, и никто не закатывает у тебя над ухом оглушительных истерик – кони существа смирные и душевные, в отличие от деятелей культуры.
Сто лет не была в этих помпезных интерьерах... Когда-то под нашим старым добрым небом дети частенько приезжали сюда: бродить по аллеям, каменеть перед торжественными зданиями, обмирать от восторга у фонтана; здесь можно было провести весь день и не заметить, как на купола здешних дворцов и храмов медленно опускается бордовый отблеск закатного солнца...
Сбоку от касс стоял нищий с безумным и дремучим лицом, плечо и рукав его пиджака были чем-то перепачканы; приглядевшись, я определила, что это сырое яйцо; наверное, какой-нибудь молодой веселый туземец подошел да и кинул яйцо в этот впалый, предсмертно потный висок старика – что ж, такие милые невинные забавы вполне в духе наших литературных текстов... Меня чуть не стошнило: аппетитное зрелище в качестве аперитива перед заходом в пивную.
– Как это мило с твоей стороны, – сказала я, когда мы остановились перед павильоном с вывеской "Бавария", – пригласить меня на выставку достижений народного германского хозяйства!
Зина пожал плечами и смутился; в моменты смущения в лице его особенно отчетливо проступает детское начало, и он в самом деле походит на маленького Оливера Твиста из мюзикла; его хочется по-матерински прижать к груди, гладить по голове и целовать в макушку.
Мы оказались в чистеньком (немцы же!) просторном зальчике, уставленном деревянными столами. Народу хватало. Мы составили компанию угрюмому человеку с огромной головой и неземным лицом – возможно такие лица встречаются в иных цивилизациях, но у нас я такое вижу впервые. Оно было грубо – тяп-ляп ~ слеплено скверным ремесленником, наметившим, набросавшим все присущие человеческому лицу черты, однако совершенно не утрудившимся их обработать, сгладить линию и подточить углы. Кроме того, этот ремесленник имел весьма отдаленное представление о таком понятии, как масштаб. Все было огромно, все вне масштаба: выдающийся вперед гранитный уступ лба, марианские какие-то глазные впадины, нос, широко раскинувший крылья, квадратный подбородок, в котором костного и мышечного материала было столько, что классическими геройскими подбородками можно было оснастить, как минимум, трех голливудских актеров.
Он сосредоточенно жевал и обильно заливал пищу черным пивом.
Я осторожно, точно ребенок, собирающийся нашкодить, бросила взгляд на Зину; он был отвлечен наблюдением за кем-то, закусывающим в другом конце зала, – я уже привыкла, что в общественных местах он впадает в какую-то прострацию, природа которой мне совершенно неясна; возможно, на него плохо действует толпа; сейчас он опять забыл о моем существовании, и я решила рискнуть.
– Послушайте, – шепнула я, перегнувшись через стол. – Вы давно не видели Виктора?
Сосед по столику сказал, что не видел Виктора – голос у него густой и гулкий; наверное, в грудной клетке этот человек носит, на всякий случай, китайский гонг,– какого Виктора?
– Какого, какого... Гюго.
Зина сдавленно застонал, но было уже поздно.
– Витек такой... – продолжала я наступать- – Он еще романы пишет; в одном романе у него есть парень – просто ужасно на вас похожий, я подумала, это вы автору позировали.
Сосед поднял глаза в потолок, сортируя свою умственную картотеку и, наверное, перебирая в памяти всех, кто в разное время лежал с ним на нарах, и, наконец, отрицательно покачал головой: нет, с таким Витьком он на карах не лежал.
Я осмотрелась. Чисто, опрятно, какая-то пивная геральдика на стенах.
Я не очень люблю пивные заведения, хотя с одним из них у меня связаны приятные воспоминания. Было это давно; кажется, я училась тогда на первом курсе, Панин, как старший товарищ и наставник (он учился на четвертом), потащил меня как-то в "Яму" – была такая пивнуха в подвале на Пушкинской. По дороге мы зашли в магазин "Дружба"; мне нужно было для домашнего чтения найти какой-то роман Карпентьера – однако кубинский отдел разнообразием не отличался. Панина я обнаружила в монгольском отделе: он уже пробивал в кассе три рубля.
– Дайте нам, пожалуйста, товарища Софокла в количестве десяти штук! – попросил Панин.
Девочка-продавщица – в ее лице чувствовалось что-то буратинное, жесткое, из дерева выструганное – перегнулась через прилавок и, приставив полукруг ладошки ко рту и почему-то при этом воровато озираясь по сторонам, трагически зашептала:
– Но ведь он на монгольском языке!
– Я знаю! – гордо ответил Панин и обнял меня. – Мы с девушкой коренные монголы, разве не видно?
Мы взяли десять экземпляров книги, на обложке которой стояло: "ЭДИП – ХААН", и отправились в "Яму".
Выпив пару кружек пива, Панин протянул мне книгу и сказал, что сейчас мы будем представлять "Царя Эдипа" по ролям; это нетрудно – монголы же пользуются кириллицей, правда, не вполне чистой, а с какой-то своей бусурманской примесью, но это не беда: прочесть можно; мы стали разыгрывать по ролям настолько успешно, что постепенно к нашему столу собралась вся пивная.
– Ты не собираешься попробовать пива? – оторвал меня Зина от воспоминаний.
Нет, стану есть. Буду есть этот чудный овощной салат под каким-то неземного оттенка соусом, сосиски с квашеной капустой, эту сочащуюся соком отбивную с крендельком, а потом, конечно, эскалоп в вине – я буду есть долго, со смаком, потому что вдруг вспомнила про "брата Йоргена"; к торжественному моменту Конца Света хорошо бы прийти с полным желудком – помирать натощак очень грустно.
Наконец, я насытилась, промакнула салфеткой рот и предупредила Зину, что теперь самое время спеть хорошую песню.
– Мама дорогая! – сокрушенно выдохнул он. – А что мы будем петь?
– Как это что? Хорст Вессель.
Он ни с того ни с сего заторопился. Быстро расплатился, нетерпеливо поглядывал на меня. Сосед покосился на мой пивной бокал, к которому я едва притронулась; мне стало не по себе:
...отдышавшись, я подняла бокал, поболтала, насладилась хороводами пенных пузырьков и выпила до дна.
– Потому что – ну очень смешные цены, – извинилась я перед насупленным соседом по столику.
Цены, скорее, действительно такие, что обхохочешься – Зина расплачивался зелеными деньгами и сунул сдачу в кошелек не глядя.
Мимо нас к выходу шел какой-то светловолосый молодой человек в светлом изящном пиджаке. Лицо его я рассмотреть не успела. Однако эта его слишком манерная – раскачанная, типично бабская – походка была мне почему-то знакома.
Похоже, мы совершаем кругосветное путешествие, не покидая просторов Огненной Земли, заметила я, испрашивая у Зины разрешения выйти на свежий воздух и немного подышать.
Из Баварии мы прямым ходом перекочевали в далекий индийский город – название этого большого города как раз и носило казино, куда он меня привез. Если следовать географической логике наших передвижений, то завтра придется позавтракать в "Будапеште", выпить аперитив в "Белграде", пообедать в "Пекине", а что касается вечернего разгула под аккомпанемент бабского визга и разлетающихся вдребезги зеркал, то лучше всего этим заняться в "Праге".
Зина согласился: мысль очень продуктивная, завтра же приступим к ее осуществлению.
В игровом зале я моментально скисла. Вряд ли это было следствием обжорства; скорее, было просто скучно среди Ladis, не умеющих скрыть в экстатическом порыве азарта свои природные генетические ухватки базарных торговок, и Gentlemans с лицами выпускников мясо-молочного техникума. Что-то сокрушительно потешное было в том, как эти люди изнемогают под тяжким бременем светских манер – все на Огненной Земле, конечно же, делается через то место, на котором принято сидеть, – и даже казино тут не исключение.
Я прошла в беседку, стоящую неподалеку от входа, и сразу догадалась, хотя и темно было, что я тут не в одиночестве. Компанию мне составлял не слишком обременяющий себя заботой об опрятности человек, смутно мне знакомый. Порыскав в памяти, я догадалась, что нас однажды – раз и навсегда – отрекомендовал друг другу Врубель.
Только я не предполагала, что Пан окажется любителем пива. Он жевал бутерброд, прихлебывал из банки и рассматривал меня.
– Сыграйте мне что-нибудь, – попросила я. – Доставайте вашу свирельку и сыграйте.
Он усмехнулся, вытер ладонью пот.
– Вообще-то меня все здесь зовут Мавр.
– Ну надо же, какое совпадение! – воскликнула я – А меня – Дездемона... Пожалуй, лучше я пойду. Хотя... Может, прежде чем вы меня задушите, покурим?
Он принял от меня сигарету, внимательно ее обнюхал, вставил за ухо – так бухгалтер в старом кино вставляет за ухо свой обслюнявленный химический карандаш.
В дверях показался мужчина в смокинге, который был ему явно мал, и прямым ходом направился к нам. Он отдал Мавру пиво и бутерброд. Они о чем-то пошушукались, человек в смокинге кивнул и, торопливо откланявшись, побежал обратно в казино.
– Он хотел знать число, – пояснил Мавр.
– Какое число?
– Как какое? На которое сейчас выпадет.
– Так вы что же... Знаете заветное число?
– Скорее, я его вижу, – просто ответил он, полез в черную матерчатую авоську внушительных размеров достал банку, открыл, пригубил пиво.
Интересно, сколько таких банок в течение "рабочего дня" может скопиться в этой авоське... А хорошее же занятие: сидеть тут и в обмен на пиво да копченых куриц прорицать – сегодня, завтра, послезавтра, всю жизнь.
– А вы философ, мистер Мавр, – сказала я с искренней завистью в голосе. – Вы тут каждый день?
Нет, объяснил он, не каждый, в такой работе часто необходим отдых, видеть число очень трудно. Оказывается, когда он возвращается домой, то ложится пластом на диван и не может пошевелиться; эта работа хуже, чем у шахтера в забое. Кроме того, он умеет лечить от всех болезней...
Я опустилась перед ним на корточки, положила руки ему на колени:
– Полечите меня, а Мавр!
Нет, у меня не желудочные хвори, не костные или какие-то еще, простудные; скажем, там – я кивнула на освещенный вход – сидит один человек, он и есть источник моей сердечной болезни.
Мавр поднял лицо к небу, как бы испрашивая совета у своих языческих богов; он долго медитировал, потом наклонился и шепнул мне на ухо число.
Зину я нашла у столов, где резались в "блэк Джек"; мне показалось, он был увлечен игрой. Я умолила его сделать ставку. Он нехотя согласился – переспросив, на что надо ставить, – и двинулся в глубь зала. Я пошла к выходу.
Мавра я на месте не застала; скорее всего, он ушел домой: лежать пластом, как шахтер после смены в забое.
Я закурила и стала ждать.
Мимо прошли какие-то люди. Двое. Потом еще двое. Потом трое. Одного из них я сразу узнала в темноте – по светлому пиджаку.
Да и в облике второго – следовавшего как бы под прикрытием передовой "двойки" и замыкающей "тройки" – было что-то до боли знакомое.
Хлопнули дверцы автомобилей.
Минут через десять появился Зина.
Проехав метров пятьсот, он затормозил, включил свет в салоне, расслабил галстучный узел, наклонился вправо, извлек из "бардачка" мою сумочку.
– Хочешь ограбить бедную несчастную девушку! – выкрикнула я, наблюдая за его решительными действиями.
– Именно! – он что-то сунул мне в сумку и вернул ее на место:
– заметил Зина, уточнив задним числом, верно ли он произносит рекламный пароль магазинов системы "Олби -Дипломат".
– Ты ограбил казино!
В сумке лежала плотная пачка банкнот. Я в жизни не держала в руках столько денег.
– Я просто поставил на подсказанное тобой число, – объяснил Зина.
Придется на днях сюда опять наведаться, привезти Мавру хорошего пива и – чем черт не шутит! – возможно, он сыграет мне что-нибудь на свирельке.
Клянусь вам всем дорогим, что у меня есть, бабушкой клянусь, которая давно спит на Ваганьковском, Паниным и Зиной клянусь... Впрочем, Зина сам видел; это был медведь.
Всякое бывает на Огненной Земле – но медведей в городе я давненько не встречала.
Наткнулись мы на этого человека в пяти минутах езды от дома Зины. Ехали тем же маршрутом, что и в прошлый раз, когда подобрали в переулке профессора косметологии. Строительная площадка, огороженная забором, заканчивалась своего рода поселением: строительные домики, балки, хозяйственные сарайчики, гигантские бобины с толстым черным кабелем, груды кирпичей, бетонные блоки, обломки арматуры, кучи строительного мусора – словом, пейзаж для нашей Огненной Земли достаточно типичный.
Зина едва успел затормозить – человек полз прямо по проезжей части.
– Приятное место для поздних встреч, – Зина отдышался и тыльной стороной ладони вытер пот со лба.
Я выскочила на улицу. В свете фар было хорошо видно: человек основательно разодран, распотрошен и, кажется, вдобавок к тому, изломан. Я наклонилась и спросила, что с ним. Говорить он не мог – был в шоке и жутко выл. Подошел Зина.
– Надо бы "скорую" вызвать.
Вызывать не понадобилось: в конце переулка вспыхнули яркие огни – скорее всего, кто-то из ближнего дома уже позаботился. Впрочем, это была милицейская машина: по всей видимости, человек мешал людям спать своими звериными завываниями.
Со стороны поселения донеслись какие-то неясные звуки, там кто-то ворочался и ворчал. Мы с Зиной двинулись на этот ночной голос.
За третьим домиком мы наткнулись на подобие загона, сооруженного на живую нитку из решеток строительной арматуры. В загоне сидел медведь и, склонив голову набок, печально смотрел на нас.
– Ваш зверь? – строгим деловым тоном поинтересовался подошедший милиционер; он был молод, и в повадках его угадывалось что-то от глуповатых инспекторов Скотланд Ярда из классических английских детективов.
– Да, наш, наш! – сказала я. – Вообще-то мы его держим дома, а по ночам выходим погулять. Он не виноват. Человек сам на него напал. Даже медведям опасно ходить ночью по улицам.
Служитель порядка ответил мне свирепым взглядом, Зина, извинившись перед молодым человеком в форме, потащил меня к машине.
Подъехала "скорая". Изломанного человека укладывали на носилки и загружали в машину. Я подумала, что, скорее всего, он сам виноват: возможно, был навеселе и решил поговорить по душам с печальным зверем – животные, как известно, плохо переносят общество пьяных.
Я посмотрела в небо; где-то там, в черном холодном космосе, рассыпана крупа Млечного Пути; теперь его не видно, зато отчетливо слышно: все правильно, не только голодом и мором нас умерщвляют, но и зверями земными.
До чего же все-таки лжива и продажна буржуазная пропаганда, подумала я, когда мы поднимались в лифте; прежде все писали про медведей на наших улицах, а теперь совсем не пишут.
Прятки – игра простая только по внешнему рисунку; на самом деле ее механика сложна, путана, нелогична, и потому так зыбко, безопорно игровое поле; здесь все лишено устойчивых оснований, это мир без фундамента, живущий по законам неполных смыслов; тут не сыскать однозначного цвета, и звук, как правило, половинчат, насыщен диезами и бемолями; предметы распознаются не в материальных их воплощениях, и запахи не имеют источника, и всякое внешнее движение есть лишь смутный оттиск чьего-то неосторожного жеста; вот куст шевельнулся – и поди ж ты, разбери: то ли его ветер в бок пихнул, то ли кто-то там прячется. Птица вспорхнула – самой ей вздумалось, или стронуло с места чье-то приближение? Старая женщина на лавочке, бессознательно, ритмично покачивающая коляску, вдруг обернулась – а ее-то что встревожило? Да, мир игрового поля вторичен, он, созданный из намеков, отголосков, полутонов и распавшихся долей смысла, есть просто отражение некоей реальности; и значит прав Панин, наказывая двигаться в этом игровом поле строго в рамках жанра.
Осторожно, чтобы не потревожить Зину, глубокое и ровное дыхание которого говорило о здоровом сне, я выбралась из постели, подошла к окну и долго вглядывалась в исходный материал, окрашенный неживым синтетическим светом неоновых светильников.
Какой-то припозднившийся китчмен, пошатываясь брел по проезжей части; где-то вдали, будто бы на дне желудка у квартала, утробно бабахнул выстрел... Разглядывая темные глыбы домов, кое-где простреленные навылет светом из окон полуночников, я подумала, что этот город тихо и тайно, с тупым упорством самоеда истребил в себе все прежние направления в искусстве одолел антику, прожевал все ренессансы и возрождения, вытер грязные подметки о романтизм, высморкался в критический реализм, сморгнул импрессионизм и с утра, точно с перепоя, проблевался сюрреализмом; потом утер задницу множеством "измов", относящихся к началу века; что касается гиперреализма, то он был определенно использован в качестве презерватива – очень прочно и надежно, тысячекратно надежней лучших образцов Баковского завода резиновых изделий! – и так, проделав в самом себе за какие-нибудь семь-восемь лет гигантскую очистительную работу, исторгнув из себя все злокачественные и болезнетворные интеллектуальные шлаки, он опохмелился пивом и, наконец, выздоровел... Так что, любимый город может спать спокойно, и видеть свои китч-сны и зеленеть среди весны.
Вернувшись под одеяло, в тепло, в мягкие уютные запахи постели, я свернулась калачиком. Зина не спал.
– Что ты? – тихо спросил он.
Что? Не знаю... Инстинкт водящего подсказывает мне, что пока я движусь в поле притяжения заветной стенки, о которую нужно ударить ладошкой, – такое кружение поблизости от заветного "выручательного" места есть один из способов существования водящего. Он. далеко не отходит... Он удаляется ровно настолько, чтобы успеть добежать до места, откуда стартует игра. Но есть еще способ вести игру – водящий покидает поле притяжения стенки, он стряхивает с себя все прежнее, сковывающее его движение – страх, ожидание подвоха, дурные предчувствия, обрывки снов и воспоминаний – и удаляется, удаляется, удаляется, и не надеется вернуться.
– Он в самом деле пропал, Зина...
– Как, разве он не вернулся еще домой?
Нет, не вернулся, все где-то бродит: сытый, довольный, с кучей денег в кармане и вдребезги пьяный...
Я рассказала, что знаю. И – что знала прежде: несчастный, он появился на свет с врожденным пороком, и с детства носит этот тяжелый бесформенный ортопедический ботинок... Он из немцев, из тех еще, первых, кого к нам с Лефортом занесло; предки его аптечным делом занимались, а отец был первым директором "красной" аптеки. Почему "красной"? Когда у нас стали все людей отнимать, отец передал свою аптеку трудовому народу – вот его и назначили "красным" директором. А перед войной их всех, немцев, в одну ночь погрузили в товарные вагоны и отправили куда-то в семипалатинские степи. Францыч тогда учился в университете, бабушка мне рассказывала, у него были потрясающие математические способности... Были... Работал счетоводом в какой-то заготконторе. Отец в Казахстане и умер, у него была астма, а Францыч вернулся, стал детей в школе математике учить; последние лет десять был на пенсии, перебивался кое-как...
Поднялась я с тяжелой головой. Меня подзнабливало. Наверное, простыла, пока коротала время в беседке с Мавром – придется опять навестить нашего районного терапевта.
Нечто вялое, анемичное, съежившееся, хлюпающее носом – такой я и досталась участковому врачу, с которым уже имела случай беседовать в этом кабинете. Простуда... Он выписал мне бюллетень. Я уже брезгливо держалась за дверную ручку двумя пальцами (брезгливость продиктована страхом: тут повсюду – на стуле, на банкетке, крытой отвратительно-холодной рыжей прорезиненной простыней, на дверной ручке – притаились пучеглазые бациллы, пялятся на меня, ждут, пока я протяну им руку!), но он меня окликнул.
Это ведь вы будто бы заходили не так давно, интересовались пожилым человеком? Ну, я...
– Знаете... – доктор задумчиво покусывал колпачок шариковой ручки, – а вы не первая им интересовались.
Я резко обернулась.
– Что вы сказали?
Тут, – он постучал пальцем по рыжему переплету знакомой мне тетрадки, – тут у меня собраны наши районные старики, вернее сказать, данные о них: возраст, состояние здоровья, адреса, результаты посещений.
– Каких посещений?
Он смутился. Он, оказывается, их иногда навещает; старики зачастую сами не в состоянии добраться до кабинета, и приходится их – в порядке самодеятельности, так сказать, – проведывать. Давление смерить, кое-какие дешевые лекарства будто бы забыть на тумбочке. Нет, это не оплачивается и никакими сверхурочными не учитывается, это сугубо частная инициатива.
– Доктор, так вы, оказывается, павиан!
Мне достался угрюмый, коктейльного свойства взгляд исподлобья: укоризна плюс недоумение плюс усталость; смесь обильно заправлена льдом.
Вы меня не поняли, милый мой человек, я хотела сказать о том, что социальное поведение павиана совершенно чуждо нравам и устоям Огненной Земли, вообще нашему мироощущению. Согласно этому ощущению мы, молодые, сильные и богатые, должны делать все возможное для уничтожения старых, больных и бедных и спокойно смотреть на то, как они побираются, голодают и тихо умирают в своих холодных домах. Несколько иначе выглядит ситуация в природном языческом мире, не обремененном такими излишествами, как способность к логическому мышлению, совестливость и порядочность, – в частности, в среде павианов. Еще в те времена, когда наше старое доброе небо было на месте и дети сбегали с уроков, чтобы пройтись по зоопарку, я обратила внимание на то, как трепетно относятся молодые павианы к своим одряхлевшим сородичам, как за ними ухаживают, кормят с руки (или с лапы? нет, все-таки – с руки...) и предпринимают массу других благотворительных акций, которые туземцам по ту сторону решетки, конечно же, кажутся совершенной дичью: ну обезьяны же, что с них возьмешь?
– Ну, если в этом смысле... – оттаял доктор. – Пусть так, пусть буду павиан, так вот...
Так вот, выясняется, что наш участковый павиан знает почти всех старых павианов Агапова тупика, и Ивана Францевича Крица, естественно, тоже... А как же: у него такая странная квартира и восхитительный потолок, расписанный масляными красками, – девушка видела эту странную фресковую композицию?
Видела девушка, видела, но сейчас разговор не об этом.
– Что значит – не первая интересовалась, а доктор?
А то и значит. Примерно с полгода назад, сюда, в этот кабинет, заходил молодой человек, ссылался на нездоровье, слабость, головные боли; слово за слово – завязался разговор. Молодой человек производил исключительно приятное впечатление; кивнул на дверь и озабоченно заметил, что уж больно много старых людей дожидается в коридоре. Доктор согласился: ничего удивительного, район сам по себе старый, вплотную прижат к Садовому кольцу, в здешних домах много сохранилось "ровесников века", так сказать. Молодой человек заинтересовался: а кто? а что? а как? Доктор извлек свою тетрадку из стола, принялся рассказывать. Собираясь откланиваться, молодой человек вскользь, между делом, осведомился – нельзя ли с тетрадки снять ксерокопию. Просьба доктора озадачила; впрочем, пациент развеял его сомнения: в целях сугубо благотворительных... Одно товарищество с ограниченной ответственностью намеревается открыть столовую с бесплатным питанием, и в порядке маркетинга хорошо бы иметь представление о контингенте...
– И вы дали тетрадку?
Доктор отрицательно покачал головой.
– Почему?
Он откинулся на спинку, стула, уложил туго сжатые кулаки на стол и стал напоминать профессора Павлова с хрестоматийного живописного полотна... Я терпеливо ждала.
– Он предложил мне деньги...
Стоп, милый мой павиан, стоп! Деньги? За что? За эти измочаленные тетрадные листы, красная цена которым – ломаный грош?
– Очень приличные по тем временам деньги, – пояснил доктор. – Я не отдал... – он растер в пальцах пустоту, точно пытаясь в пустоте нащупать характер своих тогдашних предчувствий, – Что-то здесь не то понимаете?
– Как он выглядит?
Врач задумался. Как? Обычно. Очень симпатичный молодой человек, интеллигентное лицо, аккуратная стрижка, прилично одет.
М-да, исчерпывающая характеристика.
– Вообще-то, все это, – он помахал тетрадкой, – можно взять и в другом месте, в РЭУ, например. За исключением чисто медицинских аспектов, естественно. И вот еще что... – он увел взгляд в потолок. – Этот парень очень похож на одного молодого человека, что-то рекламирующего по телевизору... То ли компьютеры... То ли какие-то информационные системы...
– выскочило у меня, и доктор мелко закивал: вот именно, именно, только этот – нетелевизионный – ярко выраженный блондин.
Я скомкала бумажку с рецептом и бросила ее в пластиковое ведерко, стоящее под рукомойником; если мне впредь понадобится вылечиться от простуды, я не стану пить аспирин, а просто выйду во двор и закричу: я иду искать, и я не виновата, что обаятельный плейбой с ямочкой на щеке не спрятался.
Чтобы добраться до РЭУ из поликлиники, надо пересечь Агапов тупик по диагонали, миновать Пряничный домик, свернуть во двор, по центру которого стоит огромная лужа; в среднем подъезде пятиэтажного казарменно-унылого дома и располагается заведение, аббревиатурное наименование которого дешифровать я не в состоянии.
Пряничный домик – еще одна из достопримечательностей Агапова тупика. Это крохотный двухэтажный особнячок, настолько миниатюрный и уютный, что всякий раз, проходя мимо, я мечтаю стать великаном: чтобы погладить его по головке, как маленького ребенка. В последние годы он явно запаршивел и обветшал. Тем разительней перемены, произошедшие с домиком в течение нынешнего года.
Сюда въехала какая-то коммерческая контора.
Первым делом эти ребята счистили многослойные коросты штукатурки, обнажили красный кирпич и тщательно его отчистили шкуркой. Заменили рамы, вставили новые стекла, одели оконные впадины в намордники ажурных медных решеток. Нахлобучили на подъезд длинный, как у бейсбольной шапки, козырек.
В Пряничном домике всю жизнь обитала наш дворник Рая. Она равнодушно взирала на усилия коммерсантов, поскольку сама – по современным правилам, неизвестно как, скорее всего, в страшной неразберихе, возникшей сразу после разрешения на приватизацию жилья, – она успела прибрать квартиру к рукам и получить свидетельство о передаче ее в полную дворницкую собственность.
Фирма с козырьком предлагала Рае деньги и квартиры в других районах, однако наш дворник на переговоры не идет, ссылаясь на то, что "она в своем праве" – это во-первых; а во-вторых, она где родилась, там и умрет; в-третьих, она завещала квартиру дочери.
Раина дочка –пугливое, бессловесное создание лет восемнадцати – работает как раз в РЭУ, где занимает какую-то пыльную второразрядную должность.
Раза два в жизни мне приходилось попадать в эти узкие коридоры, согласно казенному вкусу отделанные лакированной фанерой, и однажды привелось видеть Раину дочку, забившуюся в угол у окна; в ее больших черных глазах стояли ужас и тоска – коллега, дебелая девка с крашеной шевелюрой и основательно заштукатуренным лицом, повествовала – сколько я могла разобрать по обрывку фразы: "...и вот когда он в седьмой раз на меня полез..." – о чем-то очень увлекательном.
Рая сидела на лавочке у своего личного суверенного подъезда (вход в ее квартиру отдельный, боковой). Я составила ей компанию.
– Вот говны! – глухим голосом открыла Рая беседу. Требовалось плавно войти в разговор, я кивнула в знак согласия:
– Точно, Рая, настоящие засранцы!
Рая, почувствовав во мне родственную душу, принялась что-то быстро и путано рассказывать. Ей в последнее время стали названивать – каждый день. Кто? А черт его знает. Советуют собирать манатки и сматываться, а то будет хуже. И вешают трубку.
– Ты к Гульке зайди, – посоветовала Рая, узнав о целях моего визита в РЭУ.
Гулька? Ах да, Гульнара, так звучит полное имя ее дочери.
В полутемном коридоре густо, сочно пахло чем-то искусственным, хлорвиниловым. Нужная мне дверь оказалась запертой. На стук открыла Гуля.
– Обед сейчас, – пояснила она и пригласила в комнату с пустыми канцелярскими столами.
Я рассказала.
– Светленький такой? – спросила она.
Да, да, и похож на телевизионного парня, который – "телемаркет – глобальная информационная система".
Точно, вспомнила Гуля, примерно полгода назад приходил. На каждый стол положил по шоколадке и всех очаровал. Потом она (Гуля покосилась на стол у двери, и я догадалась, что за "она": та крашеная, на которую по семь раз за ночь лезут...) всех выпроводила, заперлась с ним.
Больше Гуля толком ничего не знала.
– Эй! – окликнула она меня, когда я уже выходила в коридор. – Я его потом видела несколько раз, неподалеку тут, на большой улице. Там универмаг, а дальше, в том же доме, кафе. И тенты на улице. Знаете?
Знаю. Это самая сердцевина Большой улицы. Все лето перед входом в кафе стояли белые столики под яркими пляжными тентами. Там пиццерия. И ларек, раскрашенный в "национальные" цвета Пепси-Колы.
– Может, чаю попьем? – спросила Гуля.
– Не могу. Мне надо успеть добежать до города Тольятти.
И без того огромные темные глаза Гули расширились – я развела руками:
Вторую половину дня я провела у Панина, упершись в телевизор. Хозяин отсутствовал, в квартиру меня впустил Музыка. Я вертела программы, то и дело натыкаясь на знакомые голоса, живущие во мне самостоятельно, на уровне чистого звукового образа, так что совмещение звукового и зрительного рядов меня иногда озадачивало. Так, в целом сносный текст о нежнейшем суфле "Милки-уэй" оказался иллюстрированным совершенно идиотской сценой; я так и не поняла, в чем у них там "фокус". Отлично сделана "Смирновская" – просто потрясающий клип. Ваучерная тема чудовищно бездарно отработана – скорее всего, идиотизм воплощения диктуется лукавством самой посылки: "Впервые в истории России народ стал хозяином своей страны". Просмотрев рекламные ролики "Пэди Гри Пал", я на время оставила свое занятие и пошла на кухню. Музыка заседал там со своим приятелем, которого у нас в Агаповом тупике зовут, если не ошибаюсь, Костыль.
Панин мне как-то рассказывал о занятной идеологической эволюции, проделанной Костылем за время перестройки: от матерого антикоммунизма до той социальной доктрины, которая у нас вошла в моду с легкой руки Емельяна Пугачева: согласно этой доктрине всякого, кто тебе не по ноздре, непременно нужно подвесить на фонаре за детородный орган.
Я пригласила их к телеэкрану и сказала, что нет никакой нужды тратить средства на создание оппозиционных партий, издание газет и зубодробительных книжек – если кто-то и спровоцирует у нас социальную революцию, так это не коммунистическая партия, а компания "Пэди Гри Пал".
Костыль, сжав кулаки, угрюмо взирал на экран, где собака в один присест сжирала порцию сухого корма стоимостью, наверное, аккурат в размер его пенсии; затем он сделал резкое движение в сторону телевизора – возможно, намеревался вынуть собаку из экрана и подвергнуть ее известной экзекуции на фонарном столбе.
– Это же сука, а не кобель! – пыталась я остановить его порыв.
– Все они – суки! – уверенно ответил Костыль. – И все будут висеть!
Наконец, мне удалось дождаться. Пробил час информационной системы "Телемаркет" – я мысленно срисовала портрет парня и уложила его в память.
Пора было возвращаться домой. Вышли мы вместе с Костылем, добрели до перекрестка, где и распрощались.
– Куда вы? – спросила я; он направлялся в противоположную от своего дома сторону.
– Известно куда, – хмуро буркнул он. – На Баррикадную.
Уже второй раз мне твердят про это метро; сначала милиционер и теперь вот этот одноногий инвалид; что это они, сговорились?
Когда я мимо Дома с башенкой шла к себе, мне показалось, что на противоположном конце сквера мелькнул знакомый "литературный" оттенок: сиреневые сумерки. Зина? Что бы ему тут делать?
Должно быть, показалось.
Мы с Зиной становимся ночными птицами – как тать в нощи налетаем на заведения, где люди ведут светскую жизнь.
На этот раз он пригласил меня в ночной клуб. Догадываюсь, как выглядит наш простой советский "найт-клаб"; должно быть, укомплектован все той же публикой, страдающей комплексом пластической неловкости, который преследует всякого человека, слишком быстро переодевшегося из ватника в смокинг. Мы долго пробирались глухими окольными путями и, наконец, прибыли к музейного вида особнячку. Зина попросил подождать в машине, пропал за массивной дверью, вернулся минут через пять и галантно помог мне выбраться из машины. Миновав узкий коридор с интимной подсветкой, мы очутились в компактном зальчике с крохотной эстрадой, уселись за столик; он огляделся по сторонам и спросил, буду ли я пить.
Непременно, милый, в обязательном порядке – хочу в этот вечер почувствовать себя телевизионной девушкой: пусть официант несет мне на подносе "Смирновскую", которая обладает потрясающей способностью видоизменять и преобразовывать мир.
Глоток вкатился в меня с первыми тактами музыки; на эстраде возник светловолосый молодой человек – крашеный (соломенный оттенок на макушке перетекает в снежно-белый у висков) – в такт сопровождению он совершал какие-то змеиные телодвижения. Пока я медленно цедила водку, светлоголовый артист успел скинуть с себя просторные одежды.
Я оглядела зал. Если бы мы оказались в женском клубе, то такого рода представления были бы вполне уместны. Однако публика по половому признаку распределялась в пропорции "фифти-фифти".
Молодой человек был отменно сложен, мускулист, что называется, "накачан"; не знаю, возможно ли с помощью гимнастических тренировок накачать, подобно бицепсам и трицепсам, тот, скажем так, "мускул", который поверг в глубокий транс дам с ближнего к эстраде столика. Наверное, все-таки можно – во всяком случае, этот его "мускул" не выпадал из общего мышечного ансамбля; однако его плавное маятниковое покачивание, кажется, не сообщало публике настроения: раздались жиденькие аплодисменты, и танцор удалился.
Его сменил очередной исполнитель – хрупкий и субтильный; тем не менее, его искусство вызвало в зале куда более заметное ответное чувство – главным образом благодаря тому, что по ходу танца он ухитрился привести свои мужские причиндалы в "рабочее состояние": зал реагировал экспрессивно, и кто-то даже вякнул "браво!"
Сорвавший аплодисменты юноша, набросив на себя что-то вроде патрицианской туники, прошел в зал и уселся за столик, составив компанию седовласому мужчине с широкой, крепкой спиной – лица его мне видно не было.
В целом сценическое действие развивалось достаточно однообразно; юноши, потанцевав и поразвлекав публику "игрой мускулов", удалялись со сцены. Кое-кто из них растворялся в зале. Один из них расположился, за ближним к эстраде столиком; хозяйка стола сидела неподвижно, запрокинув голову и положив руку на то место, где были сконцентрированы "актерские таланты" молодого человека; вид у нее был настолько торжественный, что у меня возникли ассоциации с процедурой принесения клятвы в суде – именно так свидетель держит руку на Библии.
Впрочем, один из участников ансамбля меня заинтриговал: паренек лет двадцати с очень причудливой стрижкой; насколько я помню с детских времен, такой фасон у нас в Агаповом тупике называли "полубокс"; разнообразие в классическую парикмахерскую форму вносил разве что чубчик – завитый в несколько длиннющих спиралевидных кудряшек, он падал на лоб.
И еще – он был в серьгах.
Прелесть состояла не в том – что. А в том – где.
Сережками была украшена именно та часть тела, с помощью которой – если я правильно понимаю – мужчины осуществляют свои супружеские обязанности.
Я вцепилась в Зину: давай позовем его за наш столик, все растаскивают юношей, а мы что, рыжие? На вздорную эту просьбу (во мне плескались уже три стаканчика "Смирновской") Зина отреагировал крайне спокойно:
– Ты вообще-то в самом деле рыжая, но будь по-твоему.
Пить актер отказался. Он со скучающим видом взирал на сцену, где наконец-то воцарилась нормальная парочка и занялась тем, что мы уже видели в театре, когда ходили на Стриндберга.
Зина рассеянно достал бумажник и якобы что-то поискал в нем – этот жест не ускользнул от внимания молодого человека. Скорее всего, Зина просто намекал, что средствами располагает – в том числе и деньгами салатового оттенка. Молодой человек моментально разговорился.
Сережки? А что, нравятся? Они, между прочим, золотые. Один дружочек подарил, иностранец, из Голландии. Хорошее было время, и работа прилично оплачивалась, не то что здесь... Здесь ребята, в сущности, гроши зарабатывают, приходится консумацией заниматься.
– Чем-чем? – не поняла я.
Консумация... Грубо говоря, раскручивание клиента.
– Ну, так выпей с нами! – настаивала я, однако молодой человек вежливо отказывался: нет, спасибо, надо держать себя в форме, возможно, еще придется вернуться на прежнюю работу – если, конечно, удастся помириться с менеджером.
– На работу... – тупо повторила я – водка давала о себе знать. – К родному токарному станку.
– Верно, – живо откликнулся молодой человек, – именно к станку. К токарному? Что-то в этом есть, иной раз, в самом деле, чувствуешь, что тебя зажали во вращающийся механизм и снимают стружку. Черт с ней, со стружкой, лишь бы платили за ночь по полторы сотни баксов.
Я уже прилично выпила, метафорические ухищрения собеседника осваивала с большим трудом и потому простодушно поинтересовалась:
– Так ты в ночную смену трудишься? – и живо представила себе завывание заводского гудка, грохот стальных ворот Путиловского завода и череду сутулых силуэтов в бледном свете фонаря.
Когда как, охотно пояснял юноша, это как клиент захочет: в ночную, в утреннюю, в вечернюю или в дневную... Разный народ попадается, часто со странностями. Один турок взял нашего молодого человека на три дня и все три дня употреблял – стеариновой свечкой... А в целом народ, конечно, душевный. Как-то они с одним американцем проторчали в номере целую неделю безвылазно; завтрак им приносили в постель. Хозяин номера брал тарелку и удалялся в туалет, потом доставлял к столу основное блюдо.
Девушка на сцене прекратила свои обезьяньи ползанья по партнеру, уселась на нём, обхватив бедра молодого человека красивыми длинными ногами.
Соображала я все хуже и хуже... Что-то впервые мне приходится слышать про кухню, совмещенную с санузлом; этот американец – что? В туалете яичницу с беконом жарил? Или овсянку варил?
Возможно, откликнулся актер, только каждое утро он доставлял к столу не яичницу и не овсянку.
– Он приносил на тарелке дерьмо, – трогательно улыбнувшись, пояснил молодой человек, – Садился рядом и наблюдал. И обязательно требовал, чтобы я пользовался вилкой и ножом. И не очень налегал на гарнир.
– Какой гарнир?
– Обычный... Картошка жареная, зеленый горошек кусочек огурчика...
Я потянула Зину за рукав: где тут можно сунуть два пальца в рот?
Он проводил. Эстетическое впечатление оказалось настолько мощным, что я глубоко – буквально каждой клеткой тела – прочувствовала смысл выражения "вывернуться наизнанку". Вывернувшись, попила воды из-под крана и долго разглядывала в зеркало изнанку своего лица, подбитую бледно-салатовой подкладкой. Коротать время в обществе симпатичного поедателя экскрементов у меня охота отпала.
Однако он покидать нас, судя по всему, не собирался.
– Это так, детский сад, – мотнул он головой в сторону сцены. – Для детей пионерского возраста.
Интересно, как выглядят сюжеты для взрослых, подумала я.
Молодой человек, кажется, проник в тайны моих дум и охотно развивал эту мысль; оказывается, смысл в том, как подобран дуэт. Хорошо принимают номер, где девочка лет семнадцати общается со стариком – жирным, грязным и обрюзгшим. Или наоборот – юноша со старухой, у которой телеса волочатся по полу. Успехом пользуется дуэт, где девушку имеет инвалид с одной ногой. Однако лидирует в такого рода шоу-бизнесе на сегодняшний день Блю Джек.
– Мама мия! – утомленно выдохнула я. – А у него-то какой дефект? Чего не хватает? Головы? Джек – это ладно. Но почему – Блю?
– Порода такая...
– Порода? – Зина наконец заинтересовался нашей приятной беседой.
Именно порода, кокетливо двигая плечом, пояснял молодой человек: собаке положено иметь породу. Джек – он дог. Голубой. Потому и – "блю". Джек – это уникальный экземпляр, единственный в своем роде, трудно выдрессировать собаку так, чтобы она наскакивала не на брата по крови, а на девушку.
Мимо нас к выходу прошествовали двое. Я слишком погрузилась в состояние прострации, чтобы обращать внимание на публику – я уже ничего не соображала, абсолютно ничего: перед глазами стоял этот гениальный Блю Джек, пристроившийся сзади к какой-нибудь очаровательной девушке.
И тем не менее инстинкт водящего подсказал мне, что эту парочку я встречаю не впервые. Я смотрела им вслед и чувствовала, как вещество современной культуры потихоньку начинает бродить во мне – ну надо же, я думала, что исторгла его из себя полностью в туалете– но оно пенилось, булькало и двигалось наверх, к голосовым связкам.
...наконец я рискнула взглянуть на Зину и застала его за созерцанием пузырьков в стакане с газировкой.
– Боюсь, что эта парочка на вкус окажется не настолько сладкой, – тихо, разговаривая будто бы сам с собой, произнес он. – Хотя, посмотрим... Надо надкусить.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака бумажник, бросил на стол какую-то купюру, которая тут же исчезла под ладонью юноши.
Зина встал, сунул руки в карманы и долго, сосредоточенно рассматривал носки своих ботинок.
Утром, по дороге домой, я навестила Алку и потребовала вернуть мне Джойса: надо полечиться. Голова болит и совесть замучила, источила душу; точно молью душу побило – после отдыха в "найт-клабе" она у меня вся в мелких дырочках, прорехах, вот-вот пойдет по швам.
Алка отвела меня на кухню, выставила на стол бутылку ликера, коробку шоколадных конфет и рассказала о происхождении этих сладостей.
Два дня назад к ней на дом заявился ее клиент – тот, который "самая зануда из всех онанистов Земного Шара". Это был щуплый мужичонка со странным носом – наверное, ему в детстве прихватили нос прищепкой и заставили так проходить месяц. Нос сплющился, а речь подернулась характерным насморочным прононсом. По этому прононсу Алка его и распознала – это тот, который настаивает на ванной. Она встретила клиента в домашнем халате и с бигудями – я очень живо представила себе эту сцену и икнула:
Алка на эту невольную реплику откликнулась со свойственной ей энергичностью: еще как превосходит!
Гражданин совершенно окаменел на пороге ее дома – с бутылкой в одной руке и с конфетами в другой. Забрав у него горячительное и сладости, Алка тяжелым бытовым голосом протрубила: "Что, друг, пойдем приляжем?!" – клиент отшатнулся и едва не грохнулся с лестницы.
– Больше он не позвонит, – уверенно заявила по друга детства, подливая мне в рюмку какую-то ядовитую зелень. – Наверно, он до конца жизни останется импотентом.
Дома я тут же повалилась на кровать; очнулась толь ко во второй половине дня, сварила кофе, распечатала коробку конфет, которую мне Алка отписала широким жестом – у нее диета.
На обертках в золоченых овальных рамках были изображены портреты каких-то придворных людей – в серебряных париках и пышных камзолах; наверное, на фантиках отпечаталась династическая картинная галерея, а лэйбл – MADE IN AUSTRIA – позволял предположить, что это Габсбурги.
Закусив каким-то глуповатым наследным принцем, я подумала, что австрияки – даже голубых кровей – на вкус слишком постны, и отправилась водить.
В открытой кафешке, о которой говорила Гуля, царило запустение. Скоро пойдут унылые дожди, и эти столики вместе с веселенькими тентами будут свалены в чулане – адьё до лучших времен, теплых и солнечных.
Часы на фонарном столбе показывали начало седьмого, я закурила; что мне делать дальше, я представляла себе с трудом.
Неподалеку остановился ярко-красный спортивный автомобиль с хищной рожей, подал немного назад. Из окна высунулся мужчина, выражение лица которого в точности копировало агрессивную физиономию лимузина; бегло осмотрев меня, он спросил:
– Сколько?
– Двадцать минут седьмого! – задрав голову, я сверилась с часами.
– Ты что, на пень наехала?! – рявкнул он и сделал знак сидящему за рулем: трогай!
Машина медленно поползла вдоль тротуара.
– На два слова, – кто-то тронул меня за плечо.
Передо мной, заплетя ноги крестом и помахивая дамской сумочкой, стояла девчушка в черной кожаной юбке.
– Который год тебе, Лаура? – спросила я.
– Тебе-то что? – огрызнулась она, зло глядя вслед удаляющейся красной машине.
Я погрозила ей пальцем:
– Не то! Ты должна отвечать: осьмнадцатый.
Хотя, сомневаюсь, что она дотянула до этого возраста.
– Пошли, – властно потребовала Лаура. – Дело есть.
Мы свернули за угол дома, зашли во двор; Лаура огляделась, нашла, кажется, это место подходящим для беседы, коротко размахнулась и влепила мне пощечину.
Секунду я размышляла, что такое приятное начало беседы могло бы означать, и этой секунды оказалось достаточно; во мне пробудился коренной житель Агапова тупика. Потирая левой рукой щеку, я втянула голову в плечи, всхлипнула и всем своим видом продемонстрировала, что собираюсь зареветь.
Она купилась на эту уловку. Уперев руки в боки, она готовилась принять капитуляцию и потому не обратила внимания на то, что моя сумка медленно соскальзывает с плеча. А потом резко взлетает к ее лицу.
Такого эффекта я никак не ожидала – девчушка опрокинулась навзничь; я открыла сумку и лишний раз убедилась в том, какой сокрушительной мощью обладает настоящая литература. Оказывается, я забыла вынуть из сумки Джойса. Вообще-то "Улиссом" вполне можно нанести человеку тяжкие увечья, а если точно попасть в висок – то, возможно, и отправить на тот свет.
Лаура сидела на земле, прислонившись к сетчатой ограде детского садика, бледно светила нижним бельишком; ее бессмысленный взгляд был направлен в никуда.
Не дай бог, у нее обнаружится сотрясение мозга. Я подхватила ее под мышки, отволокла на лавочку. Понемногу она приходила в себя. Я дала ей закурить. Жадно затянувшись, она с уважением в голосе осведомилась:
– Чем это ты меня?
Я посчитала, что лекция о литературе ее вряд ли заинтересует; о чем говорить, я не догадывалась, однако добродетельнейший Сергей Сергеевич Корсаков вовремя пришел мне на помощь:
– А-а-а, – понимающе кивнула Лаура. – Понятно. Кушай картофель "Анкл Бенц", будешь сильным и здоровым.
Мы мило поболтали минут двадцать и прониклись друг к другу симпатией. Девочка сообщила мне много ценной информации. Перво-наперво: мне не стоит вот так торчать под часами – если я и впредь желаю оставаться "сильной и здоровой". Мое счастье состоит в том, что в нашей разборке не участвовали хозяева. Какие хозяева? Да те, кто владеет этой улицей. Это же "рабочая зона" – она поделена между чеченцами и дагестанцами, которые патронируют здешних "CAR-GIRLS"; так что девкам со стороны сюда лучше не соваться.
– А ты ничего, – рассмотрев меня хорошенько, отметила моя новая приятельница. – Только старовата немного. Хотя и на этот товар у нас есть охотники.
Я собиралась было повыспросить: а как устроиться на эту службу? Платят как? Премиальные и прогрессивки есть ли? – однако что-то меня сбило с толку.
Да! – ее "рабочая зона" располагается именно в том пространстве, о котором говорила Гуля.
– А, этот, – довольно быстро, благодаря моему подробному описанию, припомнила Лаура. – Он так себе, мелкая рыба. Последнее время не появляется. Вообще-то он промышлял отловом.
– Чем-чем?
Ну, отловом же: девахи ходят туда-сюда, а он их отлавливает; то да се, пожалуйте за столик, освежающих напитков не хотите ли? Самое смешное, что три четверти этих самых девах сами его ищут. В основном из других городов, не москвички. Куда им тут податься? Двигают сюда, а этот парень – он что-то вроде отдела кадров; на глаз определяет, кто сгодится, а кому надо пинком под зад.
– Где его искать?
Она не знает... Хотя... Да, неделю назад она ехала с клиентом, завернули в один кабак за жратвой и выпивкой, где-то на Каланчовке. Жратва оказалась вкусная, осетрина с грибами и сыром, это у них фирменное блюдо, – в честь него и кабак назван. Этот парень пил пиво. А клиент оказался с приветом: отдал сотню баксов и всю ночь просидел на краешке кровати, плакался, какой он одинокий.
– Ты не светись здесь лучше, – посоветовала она мне на прощанье. – Хозяева – народ крутой.
М-да, когда-то я считала эту большую улицу своей территорией.
– Это не твоя улица, – повторила девочка. – Запомни. Не твоя.
По дороге домой я размышляла о том, что тезис Панина о перепутанности пространств литературы и жизни заслуживает внимания, и бедный Иван Сергеевич Тургенев со стоном ворочается в гробу.
Этот кабак назывался – "ВИАРДО".
У Панина я выпрашивала машину и деньги. Совсем немного – чтобы хватило на кружку пива в дорогом кабаке. И еще - пусть побудет дома, не исключено, что при удачном стечении обстоятельств мы навестим его с приятелем.
– Он немного буйный... – заметила я. – Возможно, потребуется грубая мужская сила.
Денег у Панина обнаружилась целая куча. Объяснил этот немыслимый факт Панин тем, что в одном издательстве получил аванс. В подробности он не вдавался, да я и не настаивала; просто рассказала, что наши комиксы потихоньку начинают приобретать отчетливость, и я для полноты ощущений еду писать портрет одного из персонажей.
Когда я уходила, он рыскал в ящиках стола.
– Черт, где мой охотничий билет?!
Значения этой реплике я не придала.
Молодого человека с телевизионной внешностью я заметила сразу: он сидел в одиночестве за ближним к бару столиком и равнодушно следил за тем, как официант в белой рубашке с коротким рукавом и галстуке-бабочке устанавливал перед ним полную кружку пива взамен опустевшей.
Я прямиком направилась к столу, уселась на жестком и неудобном стуле без спинки, взглядом указала на кружку: то же самое! – официант кивнул и протер стол.
– Вполне тургеневское местечко, – я указала на бар, ярко освещенная витрина которого была укомплектована множеством бутылок. – Настоящее дворянское гнездо.
Он отхлебнул, облизал губы, подернувшиеся белой пеной.
Кажется, моя Лаура недалека от истины: у него взгляд типичного инспектора отдела кадров – строгий и холодный. С минуту он меня рассматривал, склонил голову набок и пожал плечами: увы и ах!
– Глупо! – возразила я, кокетливо поправляя прическу, и пустилась в объяснения: глупо, очень неразумно и недальновидно; современный клиент уже не тот, что прежде, он ищет свежих нетривиальных ощущений; девушка, свободно владеющая двумя иностранными языками, без пяти минут кандидат наук – помимо чисто профессиональных навыков – может быть исключительно приятна в том отношении, что способна вести беседу на любую тему; если клиент по ходу дела прослушает лекцию, ну, скажем, о творчестве Роа Бастоса, то получит такое эстетическое впечатление, которое неизбежно скажется на его моральном уровне; чем больше у нас в среде богатых будет интеллигентных людей, тем быстрее мы догоним и перегоним Америку.
– А зачем? – задал он логичный вопрос. – Мне и так нравится.
Пожалуй, ловец женских тел прав: американцы – хорошие ребята, деловые, энергичные и трудолюбивые, однако их гуманитарное убожество меня иногда просто шокирует; интересно, как бы я себя чувствовала в стране, где абсолютное большинство населения знает Донахью, однако понятия не имеет, что у них под боком живет некий Апдайк.
– Вообще-то у меня давно другая работа, – поморщился он. – Ну да черт с тобой, надо посмотреть, что к чему, – он покосился на мою кружку.
– Девушка за рулем! – улыбнулась я.
Нагрузился бывший кадровик прилично – мне пришлось поддерживать его за локоть; по дороге он нудно бубнил инструктивные правила, связанные с моей будущей работой: избегать анального секса, пользоваться презервативами в обязательном порядке и так далее – я не догадывалась, что этот простенький по внешнему впечатлению вид деятельности настолько четко регламентирован; что за проклятье висит над нашей Огненной Землей – даже для надзирания за половой жизнью у нас есть отдельный отряд бюрократов.
Гостя я уложила в "ложе прессы", зажгла настольную лампу; что предпринять дальше, я не знала.
– Чего стоишь столбом? – тоном утомленного странника произнес он. – Раздевайся.
Оседлав стул, служивший Панину в качестве прикроватной тумбочки, я коротко изложила ему характер своих интересов. Он изменился в лице, пришел в себя и двинулся на меня; он успел сделать пару шагов – а потом вспыхнул верхний свет.
– Присаживайся, – хмуро сказал Панин, переламывая свое охотничье ружье и загоняя в стволы патроны; приведя оружие в готовность, Панин помахал какими-то бумагами:
– Вот мой охотничий билет. А вот лицензия из охотхозяйства. Я как раз в ближайший уик-энд собирался на кабана. Как это удачно получилось: теперь нет нужды двое суток шляться по лесам.
Панин подошел к молодому человеку, стволом приподнял его подбородок, потом обошел его кругом, внимательно осматривая.
– Немного худоват, – доложил он мне результаты осмотра. – Ничего, и такой сойдет. Вырезку мы пожарим, из остального навертим пельменей. Ногу закоптим. И студень наварим. Девушка умеет варить потрясающий студень. Мы б тебя угостили, но, сам понимаешь, тебе будет трудно оценить ее кулинарные таланты... – плечом Панин подтолкнул меня к двери. - Оставь нас на минуту, когда его надо будет освежевать, я тебя позову.
Я уселась у телефонного столика и стала ждать.
Не прошло и десяти минут, как за дверью раздался истошный вопль моего милого друга детства. Я ринулась в комнату. Молодой человек стоял, широко расставив ноги, и неловко двигал бедрами, точно намереваясь выползти из брюк; Панин сидел на стуле, вцепившись в волосы растопыренными пальцами, и я догадалась:
– на что Панин скорбно кивнул: вот-вот, свежесть нам не помешает – твой приятель обкакался.
– Если ты думаешь, что я выражаюсь фигурально, – вздохнул Панин, – то сильно ошибаешься.
Варвара прохладно отнеслась к моей просьбе.
Посетить диетическую столовую? С какой стати? Мало того, что ее просто тошнит от постного, вареного без соли – у нее просто нет времени заниматься глупостями.
Варя, тебе это проще простого, умоляла я, ты располагаешь репортерским удостоверением, аккредитациями и другими бумаженциями, дающими право входа куда угодно. Посторонних они прогонят, а журналистов нет, они журналистов любят.
Скрепя сердце она согласилась; обещала позвонить вечером и доложить о результатах похода на презентацию благотворительной столовки.
Накануне я сделала Панину комплимент. Похоже, у нас в скором времени должно появиться ведомство наподобие гестапо – значит, он без куска хлеба не останется.
"Разговорил" он нашего гостя очень профессионально и в короткие сроки. Какие доводы вызвали в организме допрашиваемого эффект жидкого стула, я не знаю, однако факт есть факт: молодой человек физиологических эмоций не сдержал. После допроса Панин выдворил его на улицу, поймал какого-то шального частника, а потом мы обсуждали результаты дознания на кухне: комнату приходилось основательно проветривать.
Толком молодой человек почти ничего не знал. В поликлинику и в РЭУ он наведывался по просьбе своего приятеля работающего в каком-то благотворительном фонде. Он приятелю многим обязан – в порядке любезности и благодарности за услуги, оказанные в свое время, он и собирал данные. Списки с адресами передал приятелю; на этом его миссия была исчерпана, а больше он ничего не знает.
– Это похоже на правду, – подвел итог Панин. – Да, еще... Завтра у этих добрых самаритян торжественное мероприятие. Открытие столовки с бесплатными обедами для неимущих - догадываюсь, как это богоугодное дело будет обставлено: наприглашают журналистов, и эти педрилы распишут все в лучшем виде. А потом мастера страстного публицистического слова накачаются в отдельном кабинете водкой и с утра будут страдать запором.
– Это почему?
– От пережора, – со знанием дела пояснил Панин. – Такие объемы икры и копченостей человеческий организм переварить не в состоянии.
Варвара объявилась вечером – не по телефону, а лично. Милый друг детства, кажется, оказался прав: донести себя и не расплескать ей стоило большого труда.
Волосы ее потихоньку отрастали, и теперь она не производила впечатления постояльца холерного барака.
Варвара улеглась на диван, витиевато жестикулировала и бормотала что-то маловразумительное. Единственное, что мне удалось разобрать в этом горизонтально уложенном театре мимики и жеста – это сообщение о том, что ее муж "объелся груш", причем, к счастью, китайских; в начале недели он уехал в командировку к своим узкоглазым друзьям в Пекин, и потому Варвара будет ночевать у меня. С великими трудами я ее раздела и, накрыв пледом, оставила в покое. Утром сбегала в ближайший ларек за пивом и приступила к привычным реанимационным мероприятиям. Наконец, она смогла относительно связно изложить свои впечатления.
Мероприятие выглядело примерно так, как предрекал Панин, были даже телевизионщики; этот сюжет, наверное, вчера успел проскочить в вечернем эфире.
– И это все? – сурово спросила я. – Где твоя профессиональная совесть?
Нет-нет, это еще не все, возражала Варвара, время от времени бросая выразительные взгляды на кухонный шкаф, где среди коробок с горохом и вермишелью возвышалась бутылка с зеленой жидкостью – подарок самого занудного онаниста Земного Шара.
– Это ликер "Киви", – пояснила я. – Тебе киви порезать или так проглотишь?
Варвара сказала, что ни чистить, ни резать нет необходимости – я налила рюмку.
Не все, продолжала она, удалось разговорить верховного самаритянина; впечатления доброго он не производил, скорее напротив, однако то ли ему пришлась по душе экстравагантность прически, то ли еще что-то – так или иначе он потолковал с Варварой.
Их основная задача – опека неимущих; эта столовка – только начало, они планируют открыть целую сеть таких богаделен. Откуда у бедных добрых самаритян такая прорва денег? Ну, это, как вы догадываетесь, коммерческая тайна, кое-какими коммерческими операциями фонд занимается самостоятельно, однако этот бизнес, конечно же, не приносит тех средств, которые могут покрыть затраты. Естественно, поднять это дело было бы невозможно без спонсоров, это – стабильные, уважаемые компании.
Варвара полистала блокнот, вырвала страничку. Я пробежала глазами список из четырех наименований – названия мне ни о чем не говорили.
Варвара с виноватым видом пожала плечами: выходит, так. Я еще раз просмотрела список фирм, хотела было выкинуть его в помойное ведро, однако сочла этот жест в присутствии пострадавшей из-за меня подруги неуместным; свернула листок вчетверо и сунула в карман джинсов.
Проводив Варвару, я уселась за стол с намерением подвести предварительные итоги и прислушаться к себе, вернее сказать, к брожению вещества современной культуры в желудке – процесс шел слабовато. Я поискала – чего бы мне такого принять внутрь для стимуляции: марганцовки? протухшего кефира? заплесневелую корочку хлеба пососать? Эх, жаль, в доме нет стрихнина... Мой взгляд остановился на роскошной бутылке. Вот! От ликеров меня неизменно тошнит. Я выпила стакан зеленой жидкости, выкурила подряд три сигареты и почувствовала, что наконец-то меня начинает подташнивать. Принесла из ванной пластмассовый тазик, разместила его на столе среди бумаг и приступила к делу.
Мне даже не понадобилось совать пальцы в рот – процесс сам пошел.
Мясные деликатесы из Дании? Куриные окорочка? Сосиски из Голландии? Ножки Буу-у-у-ша... Нет, не то. Пепси-Кола, Херши-Кола, напиток Вимбильдан – который и есть именно то, что нужно женщине? Не похоже...
Водки. "Смирновская", "Распутин", "Кремлевочка" в маленькой бутылочке с красной головочкой?
Может быть – водка "Зверь"?
Нет, Иван Францевич и водка "Зверь" трудносовместимы.
Еще хуже совмещается обувь. "Монарх" – надеваешь с наслаждением и снимаешь с сожалением? Итальянская обувь – ручная работа... "Рибок", который владеет целой планетой, где жизнь прекрасна, розовощека и мускулиста? Нет, "Рибок" предназначен для занятий спортом, а наш Францыч хромой.
Я закурила и смотрела, как гнется струйка дыма из пепельницы. "АШ-БЭ" – нас знает вся Европа? На здоровье, пусть знает, однако вряд ли знает Криц: он не курит, не курил никогда в жизни.
Теперь сладости. Одна из них уже зафиксирована в наших комиксах; какая именно – думаю, безразлично. "Баунти" или "Милка", "Марс" или "Милки-Уэй" – все равно, важно, что эти конфетки стоят приличных денег а какие кокосы и орешки у них внутри – уже неважно!
Парфюмерия от "Кристиан Диор", а также все, что наворочено в поле наших игр мистическим Проктором и подельником его Гэмблом, тоже несущественно: когда я в последний раз была в Доме с башенкой, то в ванной нашла на полке под зеркалом одно-единственное гигиеническое средство: мыло, да и то – хозяйственное.
Меня тошнило еще примерно с полчаса.
Стало быть, внимания заслуживают:
"Медицинская техника завтрашнего дня – уже сегодня!"
"Даже в те времена, когда по земле бродили странствующие рыцари и поэты, людям очень и очень хотелось кушать".
"Батончик из молочного шоколада, жареный арахис и сладкая карамель..."
И любой алкоголь на выбор – "Ощутите разницу сами", "Если я дважды изображен на бутилка" – или что-то в этом духе.
Но все это упирается в деньги.
"Трастовая компания "Джи-Эм-Эм" – ваши деньги будут работать на вас круглосуточно"?.. Нет, кажется, эти "трастера" оперируют с валютой.
Я выплеснула тазик в туалет, сполоснула его в ванной и сама залезла под душ; минут двадцать принимала его горячие ласки, потом включила холодную воду, чтобы окончательно прийти в себя. От переохлаждения меня спас телефон: мой черный эбонитовый спаниель протяжно вякал; клацая зубами и оставляя на паркете влажные следы, я побежала в комнату.
Зина, заметив предварительно, что я замечательно отстукиваю зубами чечетку и с такими талантами мне надо бы выступать на эстраде, наказал одеваться "по-походному". Я натянула старые джинсы, легкий свитер, лыжную куртку и выбежала на улицу. Глянула на крышу противоположного дома – камнеметателя на месте не оказалось.
Напротив нашего подъезда стоял совершенно роскошный джип с широченными колесами, под лобовым стеклом его была укреплена внушительных размеров табличка.
Когда Зина прибудет, я поделюсь с ним одной коммерческой идеей относительно такого рода табличек.
– А-а, это, – сказал он, когда я уселась в машину и показала на джип. – Глупо. У нас джип почему-то в большом почете: некий признак хорошего тона и состоятельности, да? Хотя в Штатах, например, это в первую очередь профессиональный транспорт проституток– им на своих вездеходах удобней объезжать клиентов. Что касается широких колес, то это идиотизм вдвойне. Это пляжный вариант машины – чтобы ездить по песку.
– Как думаешь: если наладить серийное производство таких автомобильных плакатиков – мы не прогорим?
Зина достал из кармана куртки микрокалькулятор и разыграл на клавиатуре какую-то простенькую мелодию.
– Ни в коем случае. Даже если продавать продукцию по ценам ниже рыночных, нам гарантирована прибыль – спрос превысит предложение.
Я подумала, что, скорее всего, он прав в расчетах – так или иначе подобными табличками придется оснастить все "иномарки", бегающие по просторам Огненной Земли.
Текст таблички был короток и красноречив:
Опять мы пробирались какими-то окольными путями, пока не выехали на Ярославское шоссе.
Наверное, меня укачало или сказывалась слабость – творческий процесс тошноты отнимает много сил; выплыла я из легкого забытья только тогда, когда мы остановились на паркинге поблизости от какого-то лесного массива.
Опять пикник? Или просто побродим по опавшей листве? – прикидывала я про себя, осматривая автомобили. Один из них показался мне знакомым.
Мы двинулись к домикам на опушке. У одного из них нас встретил приятной наружности человек и вежливо осведомился, не желаем ли мы что-то вроде легкого брекфеста? Если не желаем, то можно сразу экипироваться, скоро начало.
– Начало чего? – тронула я Зину за рукав.
– Тебе понравится... Ты в детстве не играла в "Зарницу"?
Еще как играла! Дети под нашим старым добрым небом очень уважали эту свирепую военно-пионерскую игру: они азартно бились друг с другом в подмосковных лесах, отыскивая и захватывая "знамя противника". Я всегда выступала за "красных", а не за "синих". Красный - не только цвет секса, но и цвет равенства, труда и братства.
– Вот и теперь будем охотиться, – сказал Зина, пропуская меня в дом. – Только немного при этом постреляем.
Результаты экипировки превзошли все мои ожидания.
– Куда мы опять с тобой влипли! – воскликнула я, присматриваясь к участникам военно-пионерской игры, которые сосредоточились на полянке. – Что это вообще за камуфляж?!
Я как-то не сразу сообразила, что выгляжу точно так же, как и остальная публика.
В ту пору, когда мой Заслуженный деятель телевизионных искусств еще дышал, я многократно видела на экране подобные персонажи в репортажах о разборе американских рэйнджеров, вторгающихся на земли, населенные различными туземцами и другими свободолюбивыми народами... Во всяком случае, это сборище людей, одетых в маскировочные костюмы и попрятавших лица в широкие - чем-то напоминающие горнолыжные – маски, да еще снабженные забралом, прикрывающим нижнюю часть лица, – эта компания производила довольно жуткое впечатление.
К тому же все они были вооружены какими-то короткоствольными пистолетами.
– Мы будем охотиться на людей? – спросила я.
– Что-то в этом роде, – Зина помогал мне натянуть и приладить защитную маску. – Сейчас разделимся на две команды, разбредемся по лесам и будем друг друга отстреливать. Не бойся, эта пушка, – он вставил мне в руку пистолет или автомат или еще что-то огнестрельное, – палит безвредными шариками с краской. У кого на комбинезоне появится цветное пятно, тот "убит". Совсем как в "Зарнице". Тебе понравится. Только не стреляй, ради бога, в людей, одетых в желтую форму, это судьи.
После короткого инструктажа мы разбрелись по лесу... Чем дальше, тем больше эта охота на людей начинала меня увлекать: должно быть, во мне проснулся природный инстинкт игрока, мы лежали в засадах и совершали короткие перебежки, прятались за деревьями и падали в траву под обстрелом противника; я так увлеклась, что совершенно забыла обо всем на свете и потеряла ощущение времени; все отголоски внешнего мира и его оттиски – все шопены, брамсы и гершвины, все рембранты, сезанны и фальки – распались, растворились без остатка в инстинкте охотника, отлично понимающего, что в этой жизни ценен лишь один отголосок: шорох в кустах, и один оттиск: чей-то промельк меж деревьев... И обладатель этих ценностей прекрасно знает истину: главное – вовремя нажать на курок... И все-таки я старалась держаться поблизости от Зины.
Я отметила, что ведет он себя немного странно. Я палила направо и налево, успела подстрелить двух противников; оба, судя по характеру пластики и движений, были женского пола. Возможностей для точного выстрела хватало и у Зины.
Но его оружие молчало.
Так продолжалось до тех пор, пока в поле нашего зрения не попал какой-то плотный, спортивного вида человек.
Мы лежали в засаде в небольшой канавке, подкарауливая неосторожного игрока из враждебного воинства.
Перед нами простиралась достаточно обширная поляна, по которой были разбросаны островки чахлого кустарника; помеху он нам составить не мог – позицию мы выбрали очень удачно и могли простреливать практически все открытое пространство.
Я заметила шевеление высокой травы и тронула Зину за локоть.
Он не отреагировал: он и сам видел.
Над травой возникли голова и плечи. Игрок стоял на коленях и осматривался. До него было далеко, очень далеко.
Наше оружие, насколько я успела к нему "пристреляться", бьет от силы метров на пятьдесят. Сейчас между нами было метров сорок-сорок пять.
Зина отполз к кустарнику и медленно поднялся. Противник его не видел – зато сам был открыт.
Меня поразила поза Зины.
Он стоял, несколько ссутулившись, опустив дуло в землю и как будто глядя себе под ноги, точно дожидался сигнала. Не знаю, сколько времени это продлилось – наверное, довольно долго.
Боковым зрением я отметила: человек резко, пружинисто вскочил на ноги.
Мне трудно разложить во времени движения Зины; я видела их будто бы в старом, "скорострельном" кино, где кадры слишком спешат нестись друг за другом; резкий подскок человека и послужил сигналом, которого Зина дожидался, тупо глядя в землю.
Потом был взлет ствола и моментальный выстрел.
Человек вздрогнул и присел на корточки.
Зина вышел из укрытия и помахал ему своим ружьем.
Тот развел руки в стороны: что, мол, поделать, убит так убит.
Наблюдая за их жестикуляционными переговорами, я вдруг подумала: все произошло настолько стремительно – в течение доли секунды – что Зина чисто физически был не в состоянии прицелиться.
И тем не менее, он попал – на таком большом, практически предельном расстоянии.
Он повернулся и, забросив ружье на плечо, двинулся в чащу.
Я собралась его догнать, но что-то меня остановило.
Наш убитый противник уже выбрался из высокой травы на тропку и теперь хорошо был виден. На левой стороне груди горело яркое пятно краски. Впрочем, не столько феноменальная точность выстрела заставила меня призадуматься, сколько – походка человека.
Его лица под маской я, естественно, рассмотреть не могла.
Но с этой характерной, раскачанной – типично утиной – походкой я встречалась не впервые.
На обратном пути к лагерю мы набрели на забавное приключение: продравшись через плотный кустарник, мы обнаружили на крохотной тенистой и какой-то чрезвычайно уютной укромной полянке двух противников, мужчину и женщину.
Позабыв про честь и долг солдата, они занимались любовью.
– Может, пристрелим их? – спросила я, прицеливаясь и воображая, как очаровательно взорвется на бледной ягодице мужчины мой шарик с краской. – Или нет, давай их возьмем в плен. Под пыткой они нам покажут, где спрятано вражеское знамя.
– Я тебе потом объясню, что они нам покажут, – усмехнулся Зина и тихо ретировался.
Мы отказались от ленча, быстро переоделись и пошли к машине. Бойцы, перемазанные краской, стекались к лагерю и, наверное, вспоминали минувшие дни – "как вместе в атаку ходили они".
– Как эти игрища, кстати, называются? – спросила я, пока грелся двигатель.
Оказывается, это пейнбол – любимая забава трудолюбивого американского народа.
– Зина, – спросила я, потупив глаза, – можно я сейчас отдамся?
Он тяжело вздохнул.
– Да нет, не тебе. А – творческому процессу?
– Валяй, – со смехом разрешил он. – Только потом я этому процессу набью морду.
Я старательно откашлялась, попробовала голос, опятъ откашлялась:
– Отменно, – похвалил меня Зина. – И главное – за душу берет.
– Кстати, о душе... Ты начисто выбил ее из этого парня. Ты влепил ему пулю прямо в сердце.
Зина нахмурился и долго молчал.
– Мало ли какие бывают случайности, – тихо произнес он, когда мы уже вовсю неслись по шоссе.
Согласна, охотник: мало ли что тебя подстерегает за углом, когда играешь в прятки.
В последний раз подобное ощущение собственной крохотности, никчемности и мелкотравчатости я испытывала сравнительно давно и сравнительно далеко от Агапова тупика; это было в Терсколе, когда с утра пораньше нас с Паниным буквально сбросил с койки жуткий грохот.
Не знаю, существует ли в русском языке слово, способное его описать. Ужасный, кошмарный, могучий, раскатистый, оглушительный – в этих характеристиках рассыпаны зерна смысла, однако, даже ссыпанные в кучу, они не в состоянии точно и ясно передать впечатление.
Ближе к смыслу, пожалуй, стоит определение "гигантский"; да, один из сущностных признаков этого грохота составляла именно его огромность: он обнимал весь мир, и ты, волей случая размещенный внутри его, отчетливо чувствовал, как мгновенно леденеет твоя крохотная муравьиная душа.
Тогда в нас (мы с Серегой жили в бельевой подсобке гостиницы "Чегет" –чтобы не платить за номер) шарахнула большая лавина со склонов Когутая; воздушной волной повышибало стекла.
Теперь стекла пока не вылетали, но уже заметно подрагивали.
Я выглянула во двор. Стояло чудесное утро, прозрачное, солнечное и свежее; и странно, что единственным живым существом во дворе была Рая: опираясь на метлу, она стояла, задрав лицо к небу.
Я выбежала на улицу.
До Раи – она каменела неподалеку от детской игровой площадки – я добралась, что называется, "на полусогнутых", инстинктивно пригибаясь на ходу, и со стороны, скорее всего, походила на солдата, совершающего короткие перебежки под обстрелом противника.
И неспроста.
Что-то странное происходило с небом.
Небо разламывалось – и из этих разломов сыпался грохот.
Освоившись, я стала понемногу разбирать механизм этого явления природы. В какой-то момент небо мгновенно уплотнялось, делалось тугим, как резиновый шарик, твердело и, наконец, с треском крошилось где-то очень высоко и далеко, где-то там, где тянутся мои невидимые Млечные Пути.
Чуть пониже небо было простегано короткими стежками.
– Что это, Рая?
Она бросила на меня растерянно-тревожный взгляд и опять уставилась в небо.
Я попыталась вспомнить, какой у нас теперь месяц на дворе – ноябрь? двадцать четвертое ноября? уже так скоро?
– Совсем говно дело, – констатировала Рая, всматриваясь в небо. – Война... Слышь, из пушек палят? И из автоматов. Совсем говно дело, если война, – она забросила метлу на плечо и двинулась к помойке; она несла свой инструмент, как старый солдат тяжелую винтовку после долгого перехода.
Ни одна живая душа во дворе так и не появилась.
Я долго сидела на лавочке возле детской площадки – прислушивалась.
Пожалуй, первое впечатление меня ввело в заблуждение.
Небо время от времени в самом деле скатывалось.
Однако оно принимало не форму мячика.
Оно скатывалось в свиток и исчезало.
Алка орала по телефону.
Ты что, совсем дура старая, ты в какой стране, твою мать, живешь?! ты радио включаешь?! тут гульба-пальба всю неделю идет, а она – ни сном ни духом! напилась опять, что ли?!
Стоп. Я на время отключилась от Алкиных словоизвержений.
Все последние дни мы с Зиной ездим – "огородами и к Котовскому": пробираемся по каким-то окольным переулкам. Красноглазый милиционер хотел меня поцеловать, поскольку я единственный нормальный человек в этом городе... Костыль двинулся куда-то на Баррикадную, господи, и он – одноногий инвалид на костылях – и туда же?!
...у тебя под боком танки вовсю шмаляют, кровищи море, а ты, твою мать, лежишь на диване и все своего Джойса читаешь?
Джойса я не почитываю, я им дерусь – хотела, было, возразить я, но махнула рукой, повесила трубку, легла на диван и сунула голову под подушку.
Не знаю, сколько я так пролежала. Зато знаю наверняка: все это время у меня было ощущение, будто я в лавине; и этот гигантский поток снега тащит меня, крохотную белку, швыряет, кувыркает, подбрасывает, ломает – ты, белка, не первый год в горах, знаешь, что скоро это кончится: снег забьет тебе рот, перекроет дыхательные пути, ты тихо уснешь; а найдут тебя только по весне, когда плотный наст станет водой, утечет вниз, и обнажит на склонах реликтовые рододендроны.
Вот уж не думала, что меня так быстро отыщут и извлекут из лавины.
Звонок.
Телефон? Нет, звонок в дверь – кто-то нажал кнопку и забыл убрать палец: давит, давит, давит...
– Варвара?
Она смотрит на меня и не видит.
Я убрала ее руку от звонка – рука у нее холодная, неживая. Обняла ее, повела в дом. Варвара повиновалась мне, как манекен, если, конечно, существуют на свете подвижные манекены. Укладывая ее, я вспомнила: в прошлый раз она все августовские дни, "которые потрясли мир", провела где-то там, в лавине. Наверное, опять – оттуда.
Повертело же ее, потаскало, поломало: лоб рассечен, джинсы и куртка в грязи. Я намочила полотенце, протерла ей лицо, обработала перекисью водорода ссадину на лбу. Потом раздела ее, нашла синяки: на спине, на плечах, один очень большой – на ноге выше колена.
Я кинулась на кухню. Презентационный зеленый ликер кончился. В шкафу, за пачками вермишели, я нашла бутылку с короной – Панин когда-то приносил; я засунула куда подальше и забыла. Там всего на два пальца огненной воды – ничего, если развести, будет в самый раз.
Я приподняла Варвару, прислонила к диванной спинке, приставила стакан к ее рту – кое-как мне удалось влить в нее немного, остальное разлилось, замочило ночную рубашку, в которую я ее одела.
– Суки.
Наконец-то. В ней проснулся голос, это уже хорошо. Глядя в никуда, медленно и спокойно, очень точно формулируя фразы, она рассказывала – именно в медленности и подчеркнутой сухой правильности ее речи было нечто такое, что заставило меня похолодеть – я сидела рядом и молча холодела часа, наверное, два.
Два дня она пролежала на моем диване.
Мы ни о чем или почти ни о чем не говорили.
На третий день она пришла в себя, мы выпили кофе на кухне. Варвара засобиралась домой. Я дала ей старые джинсы Панина – он вечно разбрасывает вещи по просторам Огненной Земли, кое-что хранится у меня. Я страшно вымоталась: две ночи почти не спала, сидела у дивана, сторожила – настолько вымоталась, что даже не пошла ее проводить до дверей.
Она ушла, но через минуту вернулась, присела передо мной на корточки, долго глядела в глаза.
– Сейчас начнется полив, – сказала она. – Не верь ничему, что будут говорить об этих делах. Или писать. Или по телеку вещать. Не верь ни одному слову:
Я и не верю, милая Варя; радио у меня нет, из телека сыплется песок, а газеты я если и использую, то не как источник знаний, а как продукт спекуляции.
Еще и потому не верю, что такова уж доля водящего в прятках: пропускать мимо ушей подсказки, оставлять без внимания советы, все – кроме одного: всегда оставаться той белкой, которая сама по себе гуляет, ходит по улицам, глазеет по сторонам, прислушивается, водит.
Я проспала до самого вечера, приняла ванну, кое-как привела себя в порядок, отправилась к Панину.
"В живых" я их не застала.
Дверь нараспашку – такое в их коммунальном общежитии время от времени случается. Прошла в комнату.
Панин лежал поперек "ложа прессы". Как рухнул, так и остался лежать – в куртке, джинсах и кроссовках.
Музыка тоже спал – на кухне, обвалившись на стол, заставленный пустой и полупустой посудой.
Слух у Музыки музыкальный, точный, а сон чуток, как у всех стариков; его потревожило треньканье – я убирала со стола.
Он поднял голову, тупо поглядел на меня и очень внятно произнес:
– Костыля убили, – и опять рухнул на стол.
Господи, да что ж это такое, опять у них поминки, сначала Ломоносов, теперь – этот несчастный инвалид... Добиться от Музыки я ничего не смогла, он спал: тяжело, беспробудно, как камень на острове Пасхи, где стоят и глядят в океан похожие на него каменные истуканы.
Костыль, помнится, ушел на Баррикадную.
Значит – где-то там, в лавине. Затоптали. Или забили резиновыми дубинками – с одной ногой от этих сволочей не сильно-то побегаешь. Или застрелили. Или в клочья разорвали танковым снарядом.
Я взяла со стола бутылку водки, налила немного.
– Пусть тебе... – и осеклась на полуслове, подумав, что ведь не имени Костыля, ни фамилии его не знаю, – пусть земля тебе будет пухом.
Ни вкуса, ни запаха, ни крепости водки я не почувствовала.
Музыку я отволокла на кровать, с Панина стащила кроссовки, уложила, прикрыла пледом.
На обратном пути в широком витринном стекле я приметила нечто такое, что заставило меня остановиться.
Это была листовка.
Полурастворенная в нежно-голубом фоне, на меня взирала женщина в вычурных белых одеждах, фасон которых представлял собой немыслимую смесь монашеской рясы с бальным платьем времен Очакова и покоренья Крыма.
Листовка была очень тщательно, основательно вклеена в стекло на уровне двух человеческих ростов.
Я и прежде обращала внимание: такие "дацзыбао" висят, как правило, очень высоко – чтобы дворникам было не с руки их отдирать.
С минуту мы молча смотрели друг на друга; мне показалось, что слегка шевелятся ее два поднятые вверх пальца.
– Что ж ты, матушка, людей-то в заблуждение вводишь? – сказала я женщине, подняла осколок серого бордюрного камня, валявшегося возле урны, и запустила им – прямо в ее очень торжественное и очень красивое лицо.
С утра пришлось нанести визит в родную библиотеку. Бюллетень, выданный мне милейшим участковым павианом, закончился несколько дней назад.
Вместилище профсоюзной мудрости всех времен и народов было охвачено паникой: кто-то высадил булыжником витрину.
– Дикие люди, – заметила я, рассматривая груду стекла с обрывками голубой листовки; мысль о том, что предстоит принимать участие в уборке, меня совсем не грела; я сдала бюллетень и откланялась.
Мои добрые друзья ожили только на третий день. Панин выглядел на удивление неплохо, зато Музыка маялся и нервно слонялся по коридору. Панин спросил, нет ли у меня с собой денег: издательский аванс они весь просадили, а потом еще эти поминки.
– Брат Музыка помирает, – объяснил свою просьбу Панин, – ухи просит.
Я пошарила по карманам куртки, вывалила на стол мелкие ассигнации... Похоже, это все мои запасы. Придется опять ехать и спекулировать газетами. Хотя неизвестно, ходят ли электрички и выходят ли газеты.
Сунула руку в карман джинсов.
В заднем нашлось немного денег – я метнула их в общую кучу. Панин сортировал бумажки, раскладывая их по кучкам.
– Это что, твое? – спросил он, разворачивая блокнотный листок.
А-а-а, это... Это, сколько я помню, результат Варвариного хождения к добрым самаритянам: список контор, спонсирующих милосердие.
Панин неожиданно напрягся. Насупившись, он внимательно рассматривал листок, а потом погрузился в глубокую задумчивость – такое с похмелья бывает, подумала я.
Однако, чтоб человек так резко вскакивал с места и опрокидывал стул – такого с похмелья не бывает.
Я с интересом наблюдала, как он, вытащив из пазов ящики письменного стола, вываливает в "ложе прессы" их содержимое и что-то ищет.
Нашел.
Плотный квадратик картона, – визитка, наверное.
Визитку он отложил в сторону, распластал на какой-то книге блокнотный листок, отчеркнул строку ногтем и протянул мне Варварины записки вместе с визиткой.
– Ну и что? – спросила я.
Название фирмы в визитке совпадало с тем, что было отчеркнуто ногтем.
– Это контора твоего благоверного.
Интересно, что бы эти совпадения могли означать?
Панин перекрестил комнату задумчивым променадом, потом долго стоял у окна и глядел во двор.
– Одно я знаю наверняка, – тихо произнес он наконец. – Твой муж не занимается благотворительностью... Ты знаешь, чем он занимается?
Я поморщилась: не знаю и знать не хочу этого человека, который имеет обыкновение в решительные минуты поджимать губу и молча сообщать мне: поступай как знаешь, однако – без меня.
Дальнейшие действия Панина – молчаливые и уверенные – я понимать отказывалась: все эти его копошения в платяном шкафу, повизгивания в ванной (он освежался под ледяным душем), возвращение в комнату, верчение перед зеркалом (а хорош... отмылся, побрился, причесался, оделся во все лучшее) и убегание в коридор, откуда доносится жужжание телефонного диска.
– Лену, пожалуйста... Что, нет? Извините.
– Добрый день, будьте любезны Лену... Извините.
– Лену... А, любовь моя! Что пропал? Никуда я не пропадал. Был на Камчатке, да, с геологами, в партии... Да нет же, не в коммунистической, а в изыскательской. Ну как я тебе могу позвонить оттуда, сама подумай, там тайга кругом. А почему дома? Про-сты-ы-ы-ла? Значит, некому поднести стакан воды? А родители? В отпуске? Ну, так я сейчас буду. Да, со стаканом, ждите доктора в течение получаса. Все. Целую.
Вернувшись в комнату, Панин принялся считать деньги. Я внимательно следила за подсчетами и в нужный момент прервала их:
– Стоп! На бабоукладчик тебе уже хватает! Остальное пойдет на уху... Сам же говорил: брат Музыка помирает.
Панин, кажется, находился в легком замешательстве. Он мялся у двери и подкашливал в кулак.
– Возможно, тебе это будет неприятно... – свое роковое признание он предварил глубоким вздохом, – однако, как честный человек, я должен сделать следующее заявление... Я еду предаваться любовным утехам.
Я расхохоталась, поманила его пальцем; Панин подошел, присел со мной рядом на краешек "ложа прессы"; я погладила его по голове:
– Старый ты стал, дедушка Панин, а туда же...
В самом деле, милый друг детства, в последнее время ты если и приглашал меня занять это, слишком хорошо мне знакомое место в "ложе", то почему-то проделывал это несколько вяло и даже застенчиво, не то что прежде... Черт его знает, любила ли я тебя, наверное, все-таки нет. Равно, как и ты меня... Теперь я понимаю: не стягивал с тобой инстинкт. Какой инстинкт? Ну, конечно же, самосохранения – вдвоем легче перетерпеть усталость. Странная у нас у всех усталость, да? Она не имеет видимых причин, но это именно та усталость, от которой иногда – и совершенно неожиданно – рассыпаются прямо в воздухе на мелкие куски самолеты, сделанные из сверхпрочных материалов; говорят, этот эффект внезапного рассыпания специалисты называют "усталость металла" – ну, а мы-то и вовсе не железные, износ есть износ, мне сейчас легче – у меня влюбленность в охотника, а тебе наверняка труднее, так что иди со спокойной душой к своей Лене...
– А кто она такая, эта твоя Лена?
Ну-ну, оказывается, это секретарша моего бывшего мужа.
– Будь с ней поосторожней! – наказала я Панину, провожая его до двери. – Как бы тебя током не шибануло.
Информировать Панина о своей идиотской шутке с телефонным проводом я не стала, тем более что я не уверена, есть ли вообще у этих "хай-блэк-тринитрон" провода.
По всем признакам судя, друг детства отправился в дальнее "автономное плаванье"; пропадал он в объятиях Лены с прохладным голосом (если у нее все остальное настолько же прохладно, то я Панину не завидую) достаточно.
Ни к вечеру, ни на следующий день он не вернулся.
Я вспомнила про милиционера с красными воспаленными глазами.
Зайдя в отделение, собиралась было направиться в знакомый мне кабинет, однако что-то заставило меня остановиться на пороге и обернуться.
Не что-то, а кто-то.
Сбоку от сдавленного какими-то приборами и аппаратами милиционера, в узком загончике, огражденном высокими деревянными перилами, кто-то сидел.
С трудом, но все-таки я ее узнала.
– Рая! – позвала я.
Она никак не отреагировала.
– Рая! – крикнула я в полный голое. – Ты что здесь?
Милиционер нетерпеливым кистевым движением – проходите, проходите, гражданка! – отослал меня из коридора.
Новостей в знакомом кабинете, кажется, не было.
– Ищем, – неопределенно заметил страж порядка. – Хотя в такой ситуации, сами понимаете...
Понимаю: наворочали горы трупов на улицах – "в такой ситуации" не до хромого старика, пропавшего без вести, понимаю.
– А что это у вас в кутузке наш дворник сидит? Или как этот загончик с перилами называется?
– Эта женщина? – он помассировал усталые глаза. – Беда с ней. Добиться от нее чего-нибудь... С ума сойдешь. Ослепила человека. И будто в рот воды набрала.
Я пыталась сообразить, что бы это значило. Ослепила? Как это? Какого человека? За что? Она же добродушнейший человек!
– И совсем ничего не объясняет? – спросила я, присаживаясь на стул.
– Почти ничего, – интонационно он нагрузил это "почти".
"Почти" состояло вот в чем. К ней днем позвонили в дверь, она открыла. На пороге стоял какой-то молодой человек. "Тебя же предупреждали, дура старая, а теперь все, сейчас я с тобой разберусь" – вот и все, что он успел сообщить. Рая в тот момент мыла окна какой-то страшно едкой, кислотной жидкостью, в руке у нее была плошка с этой отравой. Без долгих разговоров она плеснула жидкость в лицо визитеру. Он сейчас в больнице, врачи говорят – безнадежно, видеть он уже не сможет. А у Раи могут быть неприятности.
– Но это же те подонки! – выкрикнула я.
Я рассказала, что знаю про Пряничный домик, про звонки, которыми Рае последние полгода надоедали.
Милиционер, подавшись вперед, внимательно слушал, время от времени делая пометки на листе бумаги.
– Вот, значит, как... – раздумчиво протянул он.
– Это вы к чему?
– Да, так...
Да так, неделю назад изнасиловали ее дочку.
– Гулю?!
Вот именно: Гулю, ее нашли утром неподалеку от железнодорожных путей, на откосе; она едва подавала признаки жизни. Сколько их было, трудно сказать, но, видимо, много. После всего ей запихнули электрическую лампочку...
Ну, не мнитесь, не мнитесь же, милый вы мой близорукий страж порядка, я ведь догадываюсь – куда.
– Ну вот, а потом ударили, скорее всего ногой. Сейчас она в реанимации. Мы их ищем...
Ищите, ищите. Возможно, и мне что-нибудь на эту тему попадется в нашем игровом поле, где водить все трудней и трудней.
С тыла здание, в котором размещается отделение милиции, подпирает пустырь, перерастающий в уютный скверик с тремя лавочками и клумбой. В просветах между кустами мелькнуло что-то знакомое... Автомобиль "литературного" оттенка?
Возможно, это наваждение. Хотя ведь не впервой мне мерещится неподалеку знакомый цвет сиреневых сумерек, видимо, я просто хочу, чтобы этот оттенок был где-то поблизости от меня, и воображение прописывает его в цветовой гамме этих улиц и дворов.
Панин показался на поверхности после своего автономного плавания в любовных морях только на третий день.
Он позвонил мне в библиотеку. Странно: крайне редко со мной пытаются связаться по служебному телефону, номер я практически никому не даю.
Он выглядел именно так, как и должен выглядеть мужик, три дня не выбиравшийся из постели, то есть был основательно потрепан: щеки ввалились, глаза мутноватые и сытые.
Сославшись на расстройство желудка, я отпросилась со службы; мы направились к Сереге.
– Это Ленка вынула из компьютера, – сказал мне друг детства, протягивая какой-то листок, простроченный бледным шрифтом.
Я пожала плечами: да мало ли в этой умной машине сидит информации – наверное, многие тонны (или в чем там измеряется объем информации).
– Ты прочти, прочти...
Это был какой-то список из восьми пунктов: имя, фамилия, отчество, год рождения, домашний адрес и еще какие-то данные, измеренные в квадратных метрах. Меня заинтересовала графа "год рождения": сплошь – первая четверть века.
В четвертой строчке стояло: Криц Иван Францевич.
– Ты что-нибудь понимаешь, а Панин?
– Пока я понимаю только, что нам пора ехать.
Мы проехали по трем адресам, разбросанным по разным уголкам Огненной Земли. Пожилые люди, помеченные в списке, проживали в домах преклонного возраста, однако еще крепких, основательных. В двух квартирах нам никто не открыл. В третьей встретил перемазанный в краске человек – то ли маляр, то ли штукатур.
Мы покурили на лестничной площадке. Маляр делает тут основательный ремонт. Хозяева? Какие старые, что вы?! Молодая пара, сейчас они на отдыхе, где-то за границей. Просили, чтоб к их приезду все в общих чертах было готово: побелка, обои, кафель в ванной, паркет – работы тут невпроворот, приходится вкалывать по шестнадцать часов в сутки.
:Над дверью висела табличка: изготовлена добротно, отпечатана типографским способом.
"Частная собственность. Просьба не беспокоить".
– А... это, – сказал маляр, заметив мой интерес к табличке. – Все верно, купили они эту квартиру. Мне хозяйка сама говорила перед отъездом.
Остаток дня я провела в библиотеке за своим рабочим столом. Собираясь уходить, развернула листок с фамилиями, разгладила его, перечитала список. Потом еще и еще раз.
Ничего нового. Пусто.
Свернула листок, сунула его в карман, откинулась на спинку стула и, кажется, задремала. Наверное, точнее это состояние сонной расслабленности передает слово "кемарить".
Я кемарила, уложив ладони на стол и похоронив под ними пустые квадраты своего глухонемого комикса – до тех пор, пока в одном из этих квадратиков не почувствовала (вот именно ладонью, кожной тканью!) едва слышную крохотную пульсацию тепла...
– именно, белка, именно!.. Это прозвучало во мне, когда я видела во дворе старуху в больничном халате.
Я вернулась к списку. Пункт номер восемь. Антонина Николаевна Томилина, год рождения, адрес...
Я понимаю, отчего не среагировала на этот адрес. Несколько переулков у нас в Агаповом тупике переименовали, когда началась на Огненной Земле разлюли-малина с возвращением улицам и площадям прежних имен: до сих пор в центре я ориентируюсь с великим трудом (особенно в метро) и прокладываю себе курс по прежним маякам: "Лермонтовская", "Кировская"...
Антонина Николаевна Томилина.
– Так это баба Тоня!
Живет она в отдаленном уголке Агапова тупика. Там сугубо петербургского фасона двор-колодец и арка, выводящая на улицу, прежде носившую имя одного очень и очень пролетарского писателя. Писателя списали в архив, улицу перекрестили.
Инстинкт водящего вытолкнул меня на улицу – беги, белка, торопись через двор наискосок, в арку, дальше мимо пустыря, с которого доносится истеричный собачий лай. Теперь метнись влево, проскочи мимо трансформаторной будки, обогни рассохшуюся, полуистлевшую беседку. Отсюда до цели уже два шага.
Три крутые ступеньки ведут к двери, над которой тускло горит слабая лампочка; в подъезде темно, пахнет кошками, жареной с луком картошкой и еще чем-то сугубо бытовым – именно такой запах стоял когда-то в подъездах нашего старого доброго неба, когда дети играли в прятки и скрывались в них от зоркого глаза водящего.
Перед дверью бабы Тони я остановилась в нерешительности.
Что-то надо было вспомнить – важное. Нечто существенное прозвучало в этот день – но только где, когда, при каких обстоятельствах?
Вот! Прощаясь со стражем порядка, я, указывая в сторону коридора, где молча сидела Рая, сказала ему:
– Глазной мазью намажь глаза твои, чтобы видеть!
Баба Тоня долго не отпирала. Приставив ухо к двери, я слушала: кто-то шаркает, подходит, возится с замком.
– Баб Тоня, это я... Не узнаете?
Она долго всматривалась в мое лицо; наконец ее тонкие бледные губы тронуло подобие улыбки – она вспомнила.
– А я думала – санитары...
– Какие санитары?
– Захворала я. А они звонили давеча, справлялись, как у меня и что. Сказали, санитаров пришлют. Должны уже подъехать.
Они – кто такие они?
Я взяла ее под руку, повела в комнату, усадила на тахту, помогла влезть в рукава кофты, застегнуться – пальцы у нее дрожат, пуговица никак не попадает в петельку... Со стариками только так и можно: потихоньку-полегоньку, не навязываясь с прямыми вопросами, не надоедая...
Я подожду.
Посижу у этого обшарпанного круглого стола под выцветшим и обветшалым матерчатым абажуром, буду ждать, пока баба Тоня не прояснит мне, кто же такие эти "они".
Оказывается, "свет не без добрых людей", последние полгода только на них и была надежда, а ты не смейся, девушка, не смейся, они наведывались, продукты привозили, и пенсию, большую пенсию...
Знаем мы эти пенсии; славное же на Огненной Земле существует государство; оно выдает старикам ровно столько, чтобы те тихо, мирно, без паники и истерик протянули ноги.
– Да что ты! – всплеснула руками баба Тоня. – Другая пенсия... Не на почте которая!
Стоп! Как это – другая? А где еще, кроме почты, выдают пенсии?
Баба Тоня открыла рот, но ее прервал звонок в дверь.
Скорее всего – санитары.
– Давай мы с тобой так, – сказала я, обнимая старуху. – Я на кухне тихонько посижу, а ты уж сама тут с ними, ладно?
Звонок опять нервно взвизгнул.
На цыпочках я прошла в кухню, прикрыла дверь, оставив щелку.
На слух я определила: санитаров было двое.
Потолкавшись в прихожей ("Ну, бабушка, как здоровьице? Неважно? Это ничего, сейчас в два счета вас отремонтируем, укольчик сделаем, – и все как рукой снимет!") они удалились в комнату, притворили дверь – я слышала скрип в сухих петлях.
В коридоре было темно. Переведя дух, я зачем-то перекрестилась, нащупала дверную ручку – она показалась мне ледяной, будто ее только-только вынули из морозилки. И рывком распахнула дверь.
В первое мгновение я ничего не видела – так бывает, когда из кромешной тьмы вываливаешься на яркий свет.
Едва способность видеть ко мне вернулась, я почувствовала слабость в коленках и секундой позже обнаружила, как бродит на губах чужой, явно не мне принадлежащий шепот...
...все правильно: погром забитого пивом и игристым винцом фургона на Садовом, заезд в переулок, где двое молодых людей коротают время в приятной беседе.
Это были именно они, кинг-конги из переулка.
Один, лениво забросив ногу на ногу, сидел под абажуром; другой стоял у тахты, помогая бабе Тоне засучить рукав.
Я вошла как раз в тот момент, когда он отступал назад и, испытывая иглу, выстреливал короткий проверочный плевок.
Опять шприц. Такой же, какой я нашла у Крица в коридоре.
– Здравствуйте, господа санитары! – приветствовала я общество совершенно чужим голосом.
Не люблю немые сцены – я сразу сломала ее застывшие формы, сделав два шага вперед.
– Да вы продолжайте... Только я не припомню, чтобы при легких простудах больным назначались внутривенные инъекции.
Пора было что-то предпринимать. Я закурила – ничего другого на ум не пришло.
– Это еще что за курица? – спросил санитар со шприцем у бабы Тони.
– Я – внучатая племянница Антонины Николаевны, – вставила я, опережая разъяснения, которые собиралась дать старуха.
Санитар сосредоточенно поскреб в затылке, опустил шприц, нахмурился и впился в бабу Тоню нехорошим взглядом.
– Старая ты перечница! Ты ж, вроде, одинокая была. Какая к черту племянница?!
Он смерил меня оценивающим взглядом и кинул шприц на тахту; кивком пригласил коллегу разобраться. Тот потянулся, зевнул и двинулся на меня. Я пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в стенку.
Чего можно ожидать от медбратьев с лицами кинг-конгов, я догадывалась.
Он был уже в двух шагах от меня.
Ни с того ни с сего медбрат как-то неловко и нелепо качнулся вперед – должно быть, по инерции – и замер на месте.
– К стене, – услышала я за спиной негромкий голос.
Знакомые интонации и знакомый тон, не терпящий возражений; пустынная дорога, поле, сосна вдали – и этот голос у меня за спиной: "На землю! Руки за голову! Лежать смирно!"
Зина?
– Руки на стену, шаг назад, ноги на ширину плеч!
Зина... Откуда? Как? Зачем?
Он. Держит в поле зрения санитаров. Боком, по стеночке, потом мимо ошалевшей бабы Тони он медленно движется по комнате, пока не оказывается у кинг-конгов за спиной.
Наконец, я вижу, что заставило медбратьев встать к стенке – пистолет.
Большой черный пистолет; Зина держит его на вытянутых руках, поводя дулом туда-сюда, от одного затылка к другому.
Потом я ловлю себя на мысли, что наблюдаю за происходящим как бы с другого уровня – снизу, от пола...Наверное, сползла по стенке. Так и есть – сижу на полу, поджав колени, обхватив их руками; хочется съежиться, уменьшиться, сунуть голову под подушку, исчезнуть, пропасть и не слышать, как сдавленно матерится медбрат, обещая гарантированно снести Зине бошку, а с остальных присутствующих снять скальп, запихнуть им в задницу лампочку и дать пинка.
Запихнуть лампочку... Дать пинка? Откуда это?
Гуля?
Действительно, похоже на сон. Похоже, что я вышла из своего онемевшего тела, отбежала в сторону и с ужасом наблюдаю, как вторая моя ипостась вскакивает и кидается на одного из кинг-конгов, но Зина успевает левой рукой отбить мою атаку, резко отталкивает в сторону. И я падаю.
Валюсь на тахту рядом с бабой Тоней, которая так и не может прийти в себя и, разинув рот, наблюдает, как Зина ощупывает карманы санитаров, достает из куртки одного из них черный предмет, и, не глядя, бросает мне:
– Лови! Очень удобный и полезный медицинский аппарат. Главное, очень эффективный.
Рукоятка, короткое дуло, барабан.
– Осторожней! – предостерегает Зина. – Он заряжен. Держи пока дулом вверх, – и, коротко замахнувшись, бьет одного из молодых людей рукоятью своего пистолета куда-то пониже уха. Тот валится на пол, как мешок с песком, и затихает.
– Зажги свет в коридоре!
Когда я возвращаюсь, Зина протягивает раскрытую ладонь, и я кладу в нее эту черную штуку с коротким стволом и барабаном.
– Понятно, – он возвращает мне пистолет и указывает на санитара, валяющегося на полу. – Если он оклемается и начнет шевелиться – стреляй. Прямо в голову. Не бойся, это газовый, – закончив инструктирование, он уводит медбрата.
Трудно сказать, сколько проходит времени, – десять минут? час? – пока они секретничают в коридоре. Баба Тоня начинает тихо, жалобно подвывать и теребить дрожащими пальцами подол.
Наконец, они возвращаются. Медбрат поднимает стонущего товарища по профессии, оттаскивает его к двери, оборачивается, кивает – кивок выглядит странно.
Так, слегка вытянув шею, легким наклоном головы официант выражает чувство искреннего расположения к клиенту, одарившему щедрыми чаевыми.
– Ну, что еще?! – резко спрашивает Зина. – Я же сказал – свободен. Гуляй отсюда.
Зина опускается перед бабой Тоней на корточки, берет ее за руку.
– Где у вас договор?
Договор? Баба Тоня – и договор? Эта полуживая старуха – и документ, регламентирующий права и обязанности сторон? Глупость какая, нонсенс.
Тем не менее баба Тоня послушно бредет к серванту, достает пухлую тетрадь, похожую на амбарную книгу, листает, вынимает какую-то плотную бумагу и протягивает ее Зине.
– Примерно так я и думал... – разговаривает он сам с собой, изучая документ, потом смотрит на меня, долго, грустно так смотрит: – Ты хорошо искала в квартире своего учителя?
Искала? А что там надо было искать? Пыль на стеллажах? Отпечатки пальцев? Старые газеты? Желтые от времени фотографии? Нет, милый мой охотник, я ничего не понимаю, ничегошеньки.
– Если хорошо поищешь... – ухватив бумагу за уголок, он покачивает ей перед моим носом, – то такой документ... Или примерно такой. Или какой-то похожий – ты обязательно у него найдешь.
Надо же, у вермута нет вкуса; алкоголь пока не в состоянии расшевелить мой мозг и заставить его работать в полную силу.
Зина привез меня к себе в Марьину Рощу, усадил за журнальный столик, достал бутылки, налил – все молча. Подошел к зеркалу, уставился в него и, по обыкновению, пропал, исчез в своих Зазеркальях; я уже привыкла к тому, что время от времени зеркало уводит его у меня.
Минут через десять он вернулся к столику, затушил мою сигарету, упавшую с ободка пепельницы, налил себе немного.
– Зачем ты их отпустил? Они же вернутся?!
– Вряд ли... Я их убедил не возвращаться, – он отпил, поставил стакан. – У нее в самом деле есть родственники или наследники?
Есть... Дочка и внучка. Какое это имеет значение? Я ни черта не могу понять, ни черта.
– В той бумаге оговорено, что она – одинокий престарелый человек. Одинокий, понимаешь? – он встряхнул меня за плечо. – Понимаешь? Это один из основных пунктов соглашения.
– Как ты там оказался? – зачем-то спросила я, пытаясь пальцем стереть с полировки след от моей сигареты.
Значит, вон что получается... Получается, что он с определенного момента за мной "присматривает". С какого момента? После того, как я рассказала про исчезнувшего учителя. Вернее сказать, про то, что его так и не нашли, а я занялась игрой в прятки. А я-то полагала, что мне только мерещится вечное мелькание за спиной "сиреневых сумерек".
– У меня сложилось впечатление, что ты ненароком ввязалась в не совсем безопасные игры.
Ты прав, охотник, прятки – рискованная игра, я давно знаю, еще с тех пор, когда все мы вместе проживали под нашим старым добрым небом...
– А-а, ч-ч-ч-ерт!
Впервые за время нашего знакомства он кричит на меня.
А, ч-ч-ч-ерт, да что же я за человек такой? Совсем не от мира сего? Это же элементарная схема, давным-давно отработанная, известная, скорее всего, всякому первокласснику; ну, неужели так трудно свести концы с концами? Фирма – как правило, ее интересы лежат в области операций с недвижимостью – заключает со стариками, не моложе, скажем, семидесяти лет, договор: мы, милый человек, беремся тебя опекать, поить-кормить, холить и лелеять, выплачивать тебе пожизненную пенсию, и все исключительно из человеколюбия (будь здоров, милый человек, и живи до ста лет!), и всего-то мы хотим получить взамен твою жилплощадь, когда ты, тихо и мирно, в довольстве и достатке, отдашь Господу Богу свою бессмертную душу.
Зина налил себе – чуть больше против прежней дозу – и залпом выпил.
– Ты думаешь, по теперешним временам это составляет большую проблему – помочь человеку стартовать в мир иной?
Нет, не думаю; население Огненной Земли на добрую половину состоит из кинг-конгов; они вышли из лесов, напялили на себя турецкую кожу, американские портки и итальянские ботинки – сидят друг на друге и друг дружкой погоняют; временами друг дружку расстреливают, поджигают или взрывают...
– Вот именно, – продолжал Зина. – Как же не помочь человеку – имея-то на руках бумагу, по которой его квадратные метры автоматически переходят в собственность компании... Ты что, спишь?
– Нет, я слушаю.
Я очень внимательно слушаю; мои прикрытые глаза и расслабленная поза – это как раз признак рабочего состояния – я ж сочиняю комиксы! Я создаю их днем и ночью, на улице и в трамвае, дома и на работе, в электричках и метро, за чтением книги или в угаре пьянки, сидя на фаянсовом унитазе или пиршествуя в дорогом кабаке, лежа в постели с тобой или обжигаясь утренним кофе; мой жанр прост и доступен широчайшим массам населения Огненной Земли, ибо он точно, как патрон в ствол, входит в современное направление туземного искусства; комикс!.. длинная серия статичных сценок, оживающих в прорывах фонтанирующего из меня китчевого материала, – я срисовываю их с натуры без особых усилий и творческих мук, я просто изымаю их из вещества жизни; и там, где они присутствовали, шевелились, представляя жесты и телодвижения персонажей, остаются зияющие пустоты. Из этих кадров и складывается наша комиксная "фильма"; нет, охотник, я слушаю, крайне внимательно слушаю: водящий в прятках зачастую ориентируется в пространстве исключительно по слуху... И значит, в финальном кадре нашей композиции должна прозвучать заветная реплика, должна, должна, извини, брат-охотник, мне что-то не по себе, мутит, крутит, я, пожалуй, побегу в ванную, не держи меня, не надо, а то я не донесу...
– и я слышу шум воды. Зина поставил меня под душ, а сам, бедный, наверное, убирается в комнате, протирает влажной тряпкой пол – я так и не донесла, меня вывернуло прямо в коридоре.
Через полчаса, укутавшись в его огромный махровый халат, я вернулась в комнату. Зина сидел за столом и пил мелкими глотками. Он убрался, протер пол, я извинилась, он махнул рукой: пустое, свои ж люди!..
Так, значит, в этом финальном кадре мы прорисуем Ивана Францевича Крица, преподавателя математики в школе, а ныне пенсионера, хромого старика, пропавшего без вести, – иди, Иван Францыч, устраивайся, будь как дома – мы все у себя дома в Агаповом тупике.
– ...Это же давным-давно накатанный бизнес с жильем, – доносится до меня голос Зины, – я не понимаю, как можно не иметь представления о таких элементарных вещах. Ну, скажем, вот алкаши. Этот контингент давно уже в деловом обороте: алкашу много не надо, налили стаканчик добрые люди...
Иди и ты в мою руку, Ваня, Ванька-Встанька, безногий, живущий под открытым небом у коммерческих ларьков, располагайся, занимай положенное тебе место...
– ...Можно и еще проще: пропадет куда-нибудь такой алкаш, а потом его в лесу откопают. Или под мостом найдут – а что? Упал человек по пьянке с моста.
И ты, значит, Ломоносов, заходи в наш кадр – вот твое место, на помойке, где ты сливаешь по капельке любимый туземным населением напиток "Роял"; тебя нашли под поездом в каком-то Солнцево, а в доме твоем обнаружились "родственники", которых у тебя в помине не было.
– ...Пойми простую вещь: им надо вытравить отсюда людей, по крайней мере из центра, обязательно вытравить, иначе негде будет громоздить супермаркеты и офисы. Это будет красивый город, очень красивый, современный, европейский вполне, но – без людей.
И вы заходите к нам на огонек, старая беспамятная женщина, заблудившаяся в трех соснах в пяти минутах ходьбы от своего холодного, без газа и воды, дома. И ты, Рая, отдохни, присядь на лавочку возле своего Пряничного домика... Нас надо вытравить – так гравер обтравливает едкой щелочью прорезанные острым инструментом клише, выжигая из бороздок пыль, мелкий сор и прочий мусор.
– Ты спишь?
– Нет, Зина, как же можно во сне работать, тем более – рисовать?.. А теперь давай немного помолчим.
Будем молчать всю долгую ночь, будем лежать, смотреть в потолок, а потом впадем в неистовство, отгоним раскаленным своим дыханием все неуместные слова, звуки и запахи – и не скоро устанем... Устанем – отдохнем, чувствуя плечом и бедром живое тепло, ты – мое, а я– твое; и это будет нечто такое, что не требует комментариев и пояснительных реплик, ибо это и есть то маленькое, размером в двухспальную кровать, пространство, которое изъято из материи современного жанра; это моя личная суверенная территория, которую я буду защищать и пестовать; я насажу здесь вишневые сады, буду возделывать пашни, чистить леса от завалов, а пруды от тины, я поставлю на этой земле крепкий сруб с русской печкой и баней, вымету пол, повешу на окна простые льняные занавески, заведу кошек от мышей, а собаку – от лихого человека, стану трудиться, наполняя закрома зерном, картошкой, соленьями и наливками, а вечерами буду ждать тебя, охотник. Ты вернешься с охотничей тропы вечером усталый – я встречу у порога; помогу снять рубаху, поднесу чан с водой, отойду в сторонку; фыркая и разметая по полу водяную пыль, ты умоешься, примешь из моих рук полотенце, дашь повести себя к столу, где дышит жаром и паром чугунок с картошкой в зеленой укропной патине; и я налью тебе стопку серебряной водки из хрустального графина, присяду на краешек лавки, буду смотреть, как насыщаешься ты, и наливается твоя детская и нежная, совсем как у диккенсовского мальчика, щека румянцем; а потом отойду неслышно в темный угол нашего дома, где за ситцевой занавеской в мелкий розовый цветочек ждет нас крепкая, из вечной дубовой доски, кровать; взобью подушки, вспеню пухлые перины, сяду и стану поджидать тебя, опустив уставшие руки на колени... И эту мою суверенную территорию я буду охранять, я буду за нее драться – всем, что под руку подвернется: заступом, топором, железным прутом – кусаться буду и царапаться своими острыми коготками, и это маленькое, размером в несколько квадратных метров, пространство есть абсолютно все, что уставшей белке – как и любой другой женщине – нужно, а больше ей не нужно в этой жизни ни-чер-та.
Только под утро он решился – напомнить.
– Тебе будет трудно понять это... И принять...
Понять и принять. Возможно... Однако не настолько трудно, как ты, охотник, думаешь. Моей языческой душой управляют предчувствия, сны, пророчества, инстинкты. А знание? Знание холодно, оно ничего не значит в моём мироощущении.
Я давно чувствовала.
Теперь – знаю.
– Францыча больше нет?
Нет. Существует, конечно, призрачная надежда, но она насквозь иллюзорна. Скорее всего, было так: ему сделали укол, отвезли за город, закопали где-нибудь в лесу.
Зина откинул одеяло, приподнялся, завис надо мной, опершись на локоть.
– Я кое-что выяснил. По своим каналам.
Добрые самаритяне – выяснил – скорее всего туфта, они вряд ли догадываются, какого рода игры ведутся вокруг их подопечных. Формально договорные отношения осуществляет одна средней руки фирма, впрочем, ее роль здесь скорее посредническая; за этой лавочкой наверняка кто-то еще стоит – очень солидный и респектабельный.
– Ты представить себе не можешь, какие деньжищи крутятся в этом деле. ..
Ну, почему же – "Московская недвижимость всегда в цене!" Если не ошибаюсь, один рубль, вложенный в эти кирпичи, западные аудиторы приравнивают к пяти долларам.
– Тебе надо отдохнуть, отключиться, выпасть из времени,– Зина сварил кофе, усадил меня, обложил подушками, поит понемногу, чем-то кормит – так когда-то дети, наигравшись в свои прятки, бежали в сквер и кормили белку с руки, а потом, задрав головы, следили, как она уносится по стволу наверх и летит с ветки на ветку – и вот совсем уже исчезает из поля зрения ее рыжий хвост и растворяется в нашем старом добром небе.
Выпала я из времени основательно; в таких случаях принято говорить – "всерьез и надолго". Всерьез – да. Что касается "надолго", то о размерах этой долготы я могу только догадываться. Пару раз мы бывали с Зиной в каких-то очень дорогих и очень вкусных кабаках, однажды он пробовал затащить меня в очередной "найт-клаб" – я отказалась... Что там, под покровом ночи? Женский бокс и голые девахи молотят друг друга по интимным местам, выбивают друг другу глаза и зубы, отрывают груди? А потом, наверное, служители, унеся окровавленных гладиаторш, посыпают ристалище песком и приглашают легендарного Блю Джека, который умеет на публике совокупляться с молоденькими девушками... Нет, с меня довольно.
Кстати. Прокрутив как-то в уме свои комиксы от начала до конца, я пришла к тревожному выводу – что-то мои кадры по большей части основательно пропитаны любовным потом... Что это за вселенский такой трах-перетрах – или я сексуальная психопатичка? Позвонила Панину, поделилась своими тревогами, он успокоил: мои комиксы строго следуют в духе художественной доктрины соцреализма о типических характерах в типических обстоятельствах.
– Блядство ж кругом сплошное... – пояснил Панин свои эстетические наблюдения.
Время от времени забегала на службу, составила для Варвары очередную главу "Саги о новых русских". Что-то меня задело в этой работе, напрягло: то ли мелкий и очень невзрачный факт, то ли незначительный эпизод современных боевых действий на Огненной Земле. Впрочем, работу я делала чисто механически; вдумываться, вслушиваться в себя охоты не было.
Чтобы развеяться, съездила к Мите – последнему из детей, нарисованных на потолке в комнате Ивана Францыча. Митя – человек сугубо книжный, его мама была директором книжного магазинчика в Замоскворечье, я так любила приходить сюда; я люблю этот пыльный воздух, запахи книжных переплетов, и здешних люблю детей – они часами способны стоять у стеллажей. Теперь там директорствует Митя.
Он встретил меня в своем кабинете, размеры которого меня шокировали: габариты этой клетушки позволяли разместить здесь только рабочий стол и один стул. Посетителю сидеть уже не на чем.
– Уплотняемся... – пояснил Митя, наблюдая, как я забираюсь на подоконник; стены толстые, можно откинуться, прислониться спиной и в целом разместиться неплохо.
Я попросила дать мне "Книги жалоб и предложений". О, вот это книги! Это книги – в самом прямом и точном смысле слова: пухлые тетради с предложениями товарищей покупателей хранятся здесь с тридцатых годов; есть что-то мистическое в этих пожелтевших листах, расписанных выцветшим фиолетом старых чернил... Мне кажется, я отчетливо вижу всех этих людей, слышу скрипы их перьев и догадываюсь, отчего так устойчивы и основательны их почерки.
Я рассказала про Крица, про рассыпающийся потолок. Мы долго молчали.
– Все верно, – сказал наконец Митя, перебирая рассыпанные на столе скрепки и выстраивая из них геометрические фигуры. – Только я не думаю, что это есть рассыпание среды обитания... Это сжимание. Среда подвержена эффекту шагреневой кожи.
Шагреневая среда? А что, пожалуй! Панин в чем-то прав; мы жили в ином мире, в том же Доме на набережной, в Котловане – много где жили, и это было гигантское пространство, в котором миллионы людей находили кров и пищу; не в своих пыльных, сонных конторах, а именно – там. Как, вы не читали последнюю книжку "Нового мира"? В Таганке на "Гамлете" не были? Ну, извините, милый друг, вы из другого детского садика! Среда в самом деле питала и выстраивала – образ мышления и поведения, стиль жизни и манеры, и делала она это по законам классических жанров. В один прекрасный день подавляющее большинство людей просто вышло на улицу и поняло, что лучше жить на Огненной Земле, чем на земле придуманной – оказывается, существует другая жизнь, и чтобы в ней нормально существовать, вовсе не обязательно читать книги.
– Я понимаю, Митя, понимаю. Но там, на улице – типичнейший, хрестоматийный китч. Боюсь, я долго в нем не протяну.
– Протянешь... Освоишься. Мутационные резервы человеческого организма неисчерпаемы. Чтобы там, – он бросил скрепку в стекло, за которым стоял молодой человек с короткой стрижкой и делал мне какие-то знаки, напоминающие игру дедушки и внучка в "козу" – там выжить, надо просто мутировать... О чем ты сейчас подумала?
Мне стало стыдно. Я думала о том, что, не будь Мити за столом, я стащила бы с себя джинсы и показала молодому человеку свое "лицо женщины" – в порядке намека на то, что его общество мне неприятно.
– Вот видишь, – улыбнулся Митя. – Сможешь, сможешь. Подумаешь – китч. В нем вполне можно освоиться. Живет же все цивилизованное человечество.
Молодой человек убрался.
– Не знаю, не знаю... У меня такое ощущение, будто меня медленно, но верно сживают со света. Вытесняют отсюда, понимаешь? Помнишь, мы во дворе в ножички играли?
Да, чертили на земле круг, бросали ножичек; я всегда проигрывала; соперники отрезали у меня территорию кусок за куском, кусок за куском – и в конце концов я оказывалась на крохотном пятачке, где едва можно было устоять на одной ножке, да и то, поднявшись на цыпочки... Кусок за куском: сквер с лепной вазой, где дети целовались под сиренью, – там теперь отель и какая-то дорого одетая мадам оглушительно портит воздух... Большая улица – там теперь вотчина CAR-GIRLS; под часами даже спокойно постоять нельзя.
Митя горько усмехнулся:
– А ты как думала? Это ведь война.
Я оторвалась от созерцания уличных сцен.
– Кого – с кем? А, Митя?
– Их – с нами. Они действительно потихоньку сживают нас со света; для этого вовсе не обязательно в нас стрелять. Достаточно просто укоренить этот образ жизни, – он собрал скрепки, ссыпал их в вазочку с карандашами. – Они в состоянии платить миллион за пачку пельменей, а я нет, – он указал на дверь. – И аренду за этот магазин я тоже платить не в состоянии.
Это я уже проходила: "Московская недвижимость всегда в цене!" Наверное, когда я приду сюда в следующий раз, то на стеллажах вместо книг найду валютные бутылки, ананасы и аппаратуру.
– Ты куда сейчас? – спросил он, провожая меня до выхода.
Я к бабушке. На кладбище. Настроение такое... Кладбищенское вполне.
До бабушкиной могилы я так и не добралась.
Такого количества роскошных автомобилей я в жизни у Ваганьково не видела.
Я уже привыкла к тому, что на Огненной Земле кладбища представляют собой что-то вроде площадки для аттракционов, где толпы зевак, которым совершенно наплевать на их неуместность среди этих могил, на то, что они тут посторонние, шляются у оград, разбрасывают бычки и конфетные фантики...
Однако публика, наводнившая Ваганьково, впечатления зевак с рыночной площади не производила.
Кое-как я протолкалась в плотной массе строго и очень добротно одетых людей, приподнялась на цыпочки, увидела человека в гробу.
Красивое и очень качественное лицо, интеллигентная седина.
Больше я ничего не помню.
Сколько длился антракт, сказать трудно. Занавес, наконец, отползает в сторону, и я слышу острый запах нашатыря.
Потом вижу: низкий потолок, матовые стекла, женское лицо – каштановые волосы выбиваются из-под докторской шапочки.
– Ну вот и хорошо, милая моя, вот и славно, – говорит доктор. – Ничего страшного, это просто легкий обморок. Полежите спокойно. Такое часто бывает на похоронах.
– Я его знаю.
– Естественно, знаете, раз пришли хоронить, – доктор ласково поглаживает меня по голове... – Что вы? Что вы там шепчете. Я не слышу...
Зато я слышу:
– Это у вас от нервного перенапряжения.
Нет, доктор, ошибаетесь, если бы вы только знали, как ошибаетесь; я догадалась, наконец, что же напрягло меня в работе над последней главой моей бессмертной "Саги о "новых русских"".
Это была пространная информация об убийстве очередного генерального директора очередного солидного акционерного общества. Не сенсация, конечно, – такое у нас на Огненной Земле случается каждый день. Тем не менее на событие откликнулись практически все крупные газеты; звучали прозрачные намеки, что убиенный – фигура очень заметная в официальном и цивилизованном бизнесе, однако кое-что он значил и в теневом – иными словами, был, возможно, не последним мафиози. Одна газетка бульварного толка утверждала, что он педик – не исключено, что убийство совершено на почве ревности, поскольку педики и лесбиянки просто дуреют и теряют над собой контроль, если им изменяет возлюбленный или возлюбленная. Впрочем, все эти подробности меня мало интересуют.
Его убили в лесу, в ходе игры в пэйнбол.
В рощице, где это произошло, было достаточно много людей. Они не могли не слышать звука выстрела.
Тем не менее – никто ничего не слышал. Его хватились только тогда, когда публика, набегавшись по лесам и настрелявшись вдоволь, приступила к ланчу.
Работа была исполнена филигранно: пуля вошла точно в сердце, смерть наступила мгновенно, покойник не мучался.
– Я его знаю, доктор, видела много раз.
Эта характерная, раскачанная, типично утиная походка человека в защитном комбинезоне с ярким пятном на левой стороне груди... Он идет по тропке и сокрушенно разводит руками: мол, убит так убит.
Да, китайский ресторанчик в гольф-клубе, мы сидим на открытой веранде, пьем "Шабли" и наблюдаем за человеком, пересекающим зеленое игровое поле.
Да, театральное фойе, "сладкая парочка", седой мужчина учтиво прогуливает молодого человека педерастической наружности.
Да, этот же молодой человек шествует между столиками в пивном ресторанчике на ВДНХ, а потом я его вижу – в обществе все того же седого господина – покидающим казино.
Да, в ночном порно-клубе за столиком та же самая парочка: педик-стриптизер и седой.
Теперь солидный человек с холеньм, "качественным" лицом лежит в гробу, принимая последние знаки внимания публики, забившей шикарными лимузинами все подходы и подъезды к Ваганьково.
– Ну вот вы и в порядке, – доктор помогает мне подняться с лежанки в карете "скорой помощи", выводит на воздух. – Сами доберетесь? Это у вас от нервного перенапряжения.
Я пожимаю ей руку, бреду к выходу, оборачиваюсь – она смотрит мне вслед.
– Нет, доктор, нервы тут ни при чем. Просто мы играем в прятки.
Я полагала, что мы поставили точку в этой игре; попрятавшиеся найдены и "застуканы" – водящий может отдохнуть.
При одном условии.
Если б не суждено ему было водить сразу в двух игровых полях одновременно.
Ну, вот и хорошо, ты дома, иди в комнату, свет не зажигай, встань на колени и скажи:
– Господи!
Не то, белка, не то – ты существо языческое, в Бога единого не веруешь; да и как веровать, когда ты клинический атеист, безбожник в третьем... В третьем ли?.. Да, точно, в третьем поколении; вещество безбожества в крови у тебя, в генах, и тем не менее находишь ты мерзким, отвратительным поведение царьков твоей Огненной Земли – безбожников не меньших, нежели ты, а стократно больших – вторгающихся в храм и деревянно торчащих там по православным праздникам под обстрелом телекамер – на то они и царьки, им все можно, даже храм осквернять своим присутствием... Так что вставай, белка, скакни на подоконник, уцепись своими острыми коготками за раму, выбирайся через форточку из дома, прыгни на карниз, а с него, по водосточной трубе, сползи осторожно к земле – твои боги здесь: слышишь, ветер завывает? Он твой братец – что ты, братец, этой ночью голосист? Дождь сыпется – что сыпешься, братец, шуршишь, шепелявишь? Кошка в подъезд метнулась – ты куда, сестренка? Беги, белка, беги, брат старый тополь подвинется, посторонится, освободит тебе место – встань на колени, подними лицо к небу, видишь, сестрица луна у братца неба на плече сидит? Вот твоя икона – молись на нее, завой, как воет братец волк в ледяной тайге...
Что же ты, сестрица луна, с бедной белкой делаешь, зачем навела на охотника, зачем обрекла водить в двух игровых полях зараз – он же подстрелил меня, охотник; да, он метко стреляет, и рука у него твердая – послал мне пулю прямо в глаз, он знает дело, надо в глаз бить – чтоб беличью шкурку не попортить.
До чего земля холодная... Так уж пора, скоро снега лягут.
Как бы не застудиться. Я поднялась, отряхнулась, поглядела в небо, где бледная лента Млечного Пути стелется. Что-то с луной происходит, странный какой у нее этой ночью оттенок...
Да, луна была как кровь.
Пора идти к Панину. Он тоже охотник, летом часто ездит куда-то в подмосковные угодья, работает в охотхозяйстве, заготавливает корм для кабанов на зиму. Я всегда плохо понимала смысл этих заготовительных трудов – все равно рано или поздно этот несчастный кабан на панинскую пулю наткнется, и если даже Серега промажет, все равно кто-нибудь из охотничьей братии подстрелит...
Хотя вряд ли Панин часто промахивается – он же стреляет с детских лет, когда-то под нашим старым добрым небом я даже однажды ездила на соревнования и хорошо помню, как он стоял на огневом рубеже, ссутулившись, глядя на кончик ствола; долго стоял, потом бросал какую-то короткую, упругую реплику, кажется – "Дай!" – и вскидывал ружье, а я, проглотив от восторга дыхание, следила, как разлетаются в клочья летящие где-то очень далеко и очень высоко тарелочки... Если мне не изменяет память, он дострелялся до какого-то разряда.
Охотничья литература хранится у него на верхней полке стеллажа: Сабанеев, масса других книжек, книжонок, брошюрок в дрянных бумажных переплетах, справочники, каталоги...
Я забралась на стул, стала перебирать книги.
– Ты поточней не можешь сказать, что тебе нужно? – спросил он. – Охота – слишком широкое понятие. Необъятное. Может, тебе для начала "Записки охотника" дать? Ты хоть помнишь, кто автор этой повести?
– Конечно, – ответила я, листая Сабанеева. – Гоголь.
– Тоже мне, филолог с высшим образованием! – саркастически усмехнулся Панин. – "Записки охотника" написал Мусоргский. Хоть он и был, кажется, придворным живописцем, однако все же наш человек, много пил.
– Серега, давай мы об этом в другой раз.
Панин тонкий человек – он моментально догадался, что мне не до шуток.
– Что тебе нужно? Конкретней!
Я ищу книжку с картинками, на них изображены охотничьи ружья, много всяких-разных; помнится, на этой полке была такая книжка, однажды я ее листала.
– Так бы и сказала... Вон она, слева.
Нужного мне ружья в книжке не нашлось. Панин указал на зеленый глянцевый переплет:
– Порыскай там... Это элитное оружие, очень дорогое. Такие ружья дарят царям, президентам и премьер-министрам.
В элитном семействе нужного мне ружья тоже не оказалось.
– Как хоть примерно оно выглядит? – спросил Панин. – Стволов сколько? Два?
Я прикрыла глаза. В памяти отпечаталось: ствол, упирающийся пареньку с большой дороги куда-то пониже уха – я хорошо вижу ружье, которое Зина в тот день таскал под плащом, и вижу – целиком.
– Нет, ствол один... Вообще это очень небольшое ружьишко. Компактное и очень прикладистое. Оно производит впечатление – легкого.
Панин закурил. Затянувшись пару раз, он уложил сигарету в пепельницу и забыл о ней – не к добру; когда он так сидит и мрачно смотрит на дымящуюся сигарету – это определенно не к добру; последний раз помню его таким, когда он похоронил бабушку. Он подошел к письменному столу, достал какую-то книгу, протянул мне – роскошное издание, мелованная бумага, отличные иллюстрации, текст на французском языке. Ружье, с которым Зина прогуливался по подмосковным перелескам, я нашла почти сразу.
– Да вот же оно! – я ткнула пальцем в картинку. – А ты говорил!
Панин, сказать по правде, ничего не говорил.
– Серега, а на кого охотятся с этой пушкой? – спросила я, усаживаясь за стол и подвигая раскрытую книжку Панину. – На куропаток? На кабанов? Или на медведей?
Он опять закурил и опять забыл про сигарету – на этот раз она застряла у него между пальцев.
– Слушай сюда, – он постучал пальцем по картинке – хоботок пепла обломился, рассыпался серой пыльцой по глянцевой странице. – Эта штука называется "С – ССР". Производство – Финляндия. Калибр – семь-шестьдесят два. Длина ствола – четыреста миллиметров. Ствол покрыт специальным шумопоглотителем: звук от выстрела точно такой, как от духовушки в тире. Отдача не превышает трех килограммов. Может быть, оснащена оптическим прицелом. Устойчивое поражение цели на очень большом расстоянии, метров до девятисот... А, ч-ч-ч-ерт!
Сигарета прогорела, огонек лизнул ему палец.
– Куропатки, говоришь? – усмехнулся Панин, посасывая обожженный палец. – Кабаны?
Мы долго смотрели друг другу в глаза.
– С этой штукой, в самом деле, очень удобно охотиться. Она невелика, легка, крайне удобна, прикладиста, как ты выразилась. Догадываешься – на какую дичь?
Я молчала.
– С ней охотятся на людей.
Панин захлопнул книгу, откинулся на спинку стула и добавил:
– Это – профессиональный инструмент профессионального киллера.
Дома – для начала – зажечь настольную лампу. Расчистить стол: смести бумаги, записные книжки, спичечные коробки, пепельницы, вазочку со скрепками и карандашами, пузырек с чернилами – аксессуары бестолкового и бездарного умственного труда валятся на пол; наверное, с грохотом. Но я не слышу – тупо смотрю, как покачивается осколок фарфоровой вазочки в чернильной луже.
К делу. К барьеру.
К барьеру, господа "новые русские",– все ваши предсмертные хрипы и вопли под пытками собраны у меня в специальной папке; я разложу эти материалы на чистом столе и стану водить в кровавом поле, буду искать – в грохоте рвущейся взрывчатки и треске автоматных очередей – нечто такое, что расставит точки на "i" в наших играх.
Буду искать – одиночный выстрел.
Пока не знаю, зачем. Просто инстинкт игрока подсказывает мне, что этот легкий – точно от духовушки в тире звук – я слышу не впервые.
Их было всего четыре за последние четыре года.
Лесок на пэйнбольной площадке – это последний, свеженький, с пылу с жару.
Кроме того, одиночный выстрел грохнул в Сочи, Екатеринбурге, в Подмосковье.
Все происходило при свете дня и, главное, – на людях. Присутствовавшие ничего не могли понять: человек вздрагивал, валился на землю и тут же испускал дух. Звука выстрела никто не слышал. Никто в первые минуты суматохи не мог определить, откуда он произведен.
Собрав свои записки сумасшедшего, я вернулась к Сереге.
Он бегло просмотрел материалы и уселся за стол. Теперь, насколько я понимаю, он вчитывался. Потом долго сидел и смотрел в черное окно, за которым вовсю веселился ветер – что за ветер такой сегодня: свирепый, окаянный?
– Притащи телефон из коридора, – попросил он.
Извинившись за беспокойство в столь поздний час, он попросил какого-то Толю. Толя еще не уехал в свой Свердловск? Завтра? Какая удача, будьте любезны его к телефону.
У Толи он долго выспрашивал про какую-то площадь. Высотная гостиница, трамвайные пути, через дорогу вокзал... Слева сквер? Сколько метров от входа в гостиницу? Что – дом? Старый дом, сейчас на ремонте? Сколько от него метров до паркинга?
Так, поехали, сказал Панин, повесил трубку, положил сбоку мою информацию об убийстве какого-то биржевого воротилы и, время от времени сверяясь с текстом, стал вычерчивать на чистом листе бумаги какие-то схемы.
– Теперь Сочи! Этого генерального директора грохнули, насколько я понимаю, в летнем театре... – Панин углубился в текст. – Он произносит речь по случаю открытия какого-то рок-н-рольного шоу, которое спонсирует его фирма... – он задумался. – Знаю я этот маленький театрик... Ракушка над сценой, зал. Справа – кирпичная стена. За ней гостиница, точная копия "Чегета" в Терсколе. По два номера в секции. Если он засел, предположим, на шестом этаже... – Панин задумчиво потер пальцем переносицу, – то вполне мог достать. Так, теперь займемся этим загородным кабаком. Как он там называется?
Я подсказала название.
Оно мне откуда-то знакомо, где я могла его слышать?
Не слышать, а видеть! Голубой указатель на шоссе: "Посетите наш ресторан!" – я пришпориваю Гактунгру, проношусь мимо, притормаживаю, чтобы сбегать в кусты... А потом вижу Зину – он пытается опустить стекло в машине... Я помню этот фрагмент своей саги: какого-то крупного коммерческого деятеля застрелили рано утром на выходе из ночного кабака.
– Слушай, рыжая... – Панин, наконец, оторвался от своих схем и посмотрел на меня так, будто видит впервые. – Подари мне этот сюжет. Я этого парня сочиню. Если тебе нужно отыскать этого стрелка, то лучшего способа не найти. На все про все уйдет... – он задумался, – месяца два. Ну, два с половиной. За это время я успею накатать роман. И мы его вычислим.
Панин вернулся за обеденный стол, разложил передо мной свои графические модели одиночного выстрела.
– Это работа высочайшего класса. Я знаю только двух людей, способных ее выполнить. Одного зовут Леон Боначеа, а другого Чарльз Колтроп. Первый застрелил Кеннеди, второй едва не убил де Голля... Выпить не хочешь?
Я молча отодвинула рюмку с водкой: нет, не сейчас. Я плохо понимала, о чем толкует друг детства: какой де Голль? При чем тут Кеннеди?
– "Сицилийский специалист" Льюиса и "День шакала" Форсайта, – пояснил Серега. – Вообще-то снайперы такого класса водятся только в романах... И еще – он наверняка профессионально занимался спортивной стрельбой. Так что, отдашь мне этот персонаж?
– Нет... Дай ключи от машины...
Просто так Панин не отдал. Предварительно накачал меня чудовищно крепким кофе; в другой раз от напитка такого качества сердце заходило бы в груди маятником – теперь оно даже не шевельнулось: наверное, мой охотник меня в самом деле убил наповал.
– Я его уже сочинила сама, Серега, – я поцеловала Панина, сунула ключи в карман. – Теперь надо просто повидаться с героем моего романа.
– Осторожней! – крайне серьезным тоном предостерег меня друг детства. Я задержалась у двери.
– Эти игры, – пояснил он в ответ на мой взгляд, на кончике которого, наверное, стоял большой и жирный знак вопроса, – штука непредсказуемая. Персонаж может не вполне соответствовать оригиналу. Даже если это персонаж комикса.
Нет, милый друг, Зина – из какого-то другого жанра.
О чем-то он догадывался с первой минуты. Несмотря на поздний час, не спал, встретил меня с улыбкой, однако одного взгляда на мумию, стоящую на пороге, ему было достаточно, чтобы смахнуть улыбку с губ.
Скрестив руки на груди, он спокойно наблюдал, как я молча иду к столику и хватаю славного парня из Кентукки по имени Джим Бим ("Джим Бим" – лучший виски из Кентукки!"); в два приема мне удалось этого Джима прикончить – я швырнула бутылку на пол, откинулась в кресле, забросила ноги на столик и закурила.
С кроссовок потекла на полировку грязная жижица.
Сил на сопротивление у меня оставалось чуть-чуть. Последний миллиграмм этой энергии утек вместе с сигаретным дымом. Я заплакала.
Зина, плакала я, за что ж ты меня? Что я тебе сделала плохого? Если тебе приспичило в очередной раз выйти на охотничью тропу, то почему ты выбрал меня в попутчики? Я понимаю: угодья лучше обходить в компании с дамочкой, чтобы зверье раньше времени охотника не учуяло и не дало бы деру в чащу, но почему – я? Обратился бы в какое-нибудь бюро экспортных услуг – там тебе выдали бы какую-нибудь хорошо натасканную легавую суку с во-о-т такой задницей; таскал бы ее по кабакам, выслеживая своего седовласого кабана, – а я всего лишь белка, маленький рыжий добродушный зверек; со мной не ходят на охоту, напротив, – охотятся как раз на меня; ты подстрелил меня, охотник, ударил точно в глаз.
– Ах ты киллер! – завыла я. – Ах ты сицилийский специалист!
Я выла – горько, предсмертно, так бабы воют над гробом усопшего мужа; киллер, киллерюга!, выла я, размазывая слезы по щекам, почем тебе платят за живую душу, и как платят – сдельно или аккордно? или ты на ставке стоишь?
Он, кажется, меня ударил. По лицу? Да. Потом еще раз... Что ж, давай, бей меня, охотник, мне все равно, мертвым не больно; голова моя мотнулась, как у матерчатой куклы, я медленно сползла с кресла под столик.
– Извини, – упираясь руками в подлокотники, он нависал надо мной, как коршун над зайцем. – У тебя истерика. Я не знал другого способа ее остановить...
Он встряхнул меня так, что внешний мир вздрогнул – точно под дых ему вкатился нокаутирующий удар землетрясения.
– Сейчас я попробую говорить на твоем наречии, сейчас...
Откачало, отдрожало, успокоилось: я сижу на стуле прямо, точно отличница за первой партой, – осанку выпрямляют его руки, вцепившиеся мне в плечи; я вижу его близкое лицо: глаза прикрыты, желвак ритмично работает под кожей:
Сиди и слушай историю маленького Оливера Твиста – мальчик очень похож лицом на персонаж известного мюзикла; и если бы только лицом... Кто бы знал, что мрачные фантазии писателя дотянутся через пространство и время до крохотного годовалого существа, находящего себя замотанным в какие-то тряпки на пороге чужого дома. Ему холодно, он очень голоден и потому заходится в истошном крике – это крик звереныша, которому инстинкт подсказывает: нельзя погибнуть! – и этот крик станет тем знаком, с которого человек будет вести отсчет себя самого. И потому всю жизнь его будет преследовать тяжкий синдром; он возник из ничего – и потому даже в относительно зрелые годы он не сможет преодолеть мучительную тягу к зеркалу, в которое может вглядываться часами, пытаясь понять, кто он такой и откуда взялся... Числящийся по бумагам сиротой, он никогда себя таковым не ощущал: даже сирота имеет начало, понимает, что где-то когда-то жили люди, произведшие его на свет, – а подкидыш лишен даже этой хрупкой опоры; его произвели на свет ночь, сырой от дождя и жесткий порог какого-то чужого дома и собственный истошный крик... Люди добрые отнесут его в приют, и он станет повторять путь диккенсовского мальчика – с поправкой на местный колорит; и не раз и не два позавидует своему литературному братцу: в старой доброй Англии детей не заставляли сутками стоять в холодном коридоре за малейшую провинность... Однажды этот мальчик решит убежать из детского дома – это решение он примет после того, как воспитатель едва не убил его; дело было в столовке, где воспитатели, нажравшись до икоты из детского котла, приступили к развлечениям: им бывало скучно коротать время просто так. Один из них взял мальчика за ноги и стал крутить над головой, предупредив зрителей, что сейчас этого щенка он шмякнет башкой о стенку... Наверное, он так бы и поступил, но у мальчика пошла кровь из носа, и воспитатель просто швырнул его на пол. Он убежал и некоторое время жил на свободе: воровал, побирался; перезимовал на чердаках, весной его поймал милиционер, привел в отделение; мальчику очень повезло, что милиционер был в валенках. В валенках не так больно – милиционер бил его ногами в живот, чтобы не сбегал впредь. За время отсутствия мальчика в детском доме произошли перемены – появился новый воспитатель, дети дали ему прозвище дядя Степа – он был очень высокий, длиннорукий, огромный. Дядя Степа был по профессии строителем; казалось странным, что человек с такой хорошей профессией поменял стройку на ночные дежурства в детдоме – однако недолго так казалось: дядя Степа уводил по ночам мальчиков в туалет и насиловал; не избежал этой участи и мальчик, похожий на Оливера Твиста. Он изнасиловал много детей; слухи о его наклонностях просочились за стены дома, и дядя Степа исчез, его убрали, а дело тихо замяли. Летом мальчик убежал опять – он не хотел попасть в психушку. Перед каникулами детей сортировали: кого послать в пионерлагерь, а кого в психушку; путевок в общество пионеров было раз-два и обчелся – зато психушка принимала всех желающих. Приятель рассказывал мальчику: там три раза в день делают уколы, после которых не можешь ни сесть, ни встать, и мозги делаются каменные. Мальчик опять убежал. Погулял недолго. Через неделю после побега он побирался у гостиницы, клянчив у людей жвачку, и вдруг почувствовал на плече чью-то твердую руку. Человек был не в форме милиционера – это обстоятельство мальчика успокоило. Человек отвел мальчика домой, ногами в живот бить не стал – вымыл в ванне, накормил, уложил в постель. Мальчик решил, что немного поживет здесь, а потом, конечно, убежит, но на третий день человек его куда-то повез на электричке. Они приехали к деревянным строениям, возле которых бродили люди с ружьями. К его попечителю все здесь относились подчеркнуто уважительно и называли его Дед. Дед ушел в дом и вернулся с ружьем. Потом он долго стоял на краю поляны, наконец крикнул: "Дай!" – и два раза выстрелил; мальчик видел, как взорвались тарелочки, летящие высоко над землей... И понял, что от Деда не уйдет. Он научится так же стрелять, а потом вернется в детский дом – с ружьем... Дед оказался тренером по стрелковому спорту; мальчик стал жить в его квартире, пошел в нормальную школу, Дед вечерами просиживал с ним за столом, помогал с уроками, и через год они "подтянулись" до нормального уровня. На среднем уровне мальчик и продолжал учиться. На стрельбище он прогрессировал куда быстрее, чем в классе: стрелял все лучше и лучше, выполнял нормативы, "рос". Так и вырос в мастера спорта. Наверное, это обстоятельство и сыграло роль в дальнейшем образовании – его буквально за уши протащили в институт связи; учился он средненько, массу времени отнимали разъезды и тренировки, но диплом он все-таки получил. Спортивная его карьера оборвалась резко и – как говорили коллеги – бессмысленно. Умер Дед. Он вдруг почувствовал, что не в состоянии поехать на стрельбище. Его пытались вернуть – уговорами и даже силком: привозили, выталкивали на огневой рубеж – но он уходил. В конце концов ушел совсем. На спорте он поставил крест, надо было работать, впрягаться в какое-нибудь дело... Года четыре назад к нему пришел человек; сказал, что наслышан о его снайперских талантах и предложил, как он выразился, выполнить штучную, "ручную" работу. Не вполне понимая, чего от него хотят, он согласился продолжить разговор в ресторане, закрытом для посторонней публики; они сидели за столиком, вкусно ели – вдруг работодатель напрягся и, глядя в тарелку, тихо сказал: "Вот этот человек". Он обернулся: в зал входили четверо; трое явно эскортировали четвертого... С трудом, но все-таки можно было в нем узнать – дядю Степу... Ну, вот и вся история, а теперь вставайте, девушка, уходите – уже два часа ночи, вам пора домой.
– Нет, Зина, никуда я не пойду.
Буду лежать, глядеть в потолок – здесь моя суверенная территория; пусть нивы повыгорели, вишневые сады порублены на дрова, а дом сгорел – ничего, будем жить. Сложим новый дом, сложим печь – это перво-наперво: зима обещает быть свирепой, и очень важно, чтобы в доме было тепло; а что закрома пусты – это не беда, нам не привыкать; засыпят нас снега, будем лежать, слушать потрескивание лучины и греться теплом: ты – моим, я – твоим, иди, подвинься ближе, обними меня и помолчи. Нет, еще не весна, не оттепельная вода пролилась на подушку, это я просто плачу.
Я ни разу в жизни не стрелял в людей, говорил он в темноте, ни разу; это – не люди; я долго ходил вокруг каждого из них, присматривался – нет, это не люди. Кабаны, говоришь? Пожалуй, дикие свиньи – на них столько крови на каждом, что им не отмыться... Да, заказ на них мне оформляли точно такие скоты. Что ж, таковы у нас законы охоты. Но те четверо получили то, что заслуживали. В стрелковом спорте есть такая дисциплина, называется "Бегущий кабан": мишень быстро движется в створе тира, и ты должен успеть с ней разобраться, пока "кабан бежит"; все как в жизни, с той лишь разницей, что в жизни тебя могут поддеть клыками... От последнего "заказа", говорил Зина, я думал отказаться: этот седовласый кабан ничуть не хуже и не лучше других; но перед поездкой за город на площадку для пейнбола я кое-что выяснил... Он педик. Черт с ним, это его проблемы. Но он оказался педиком с причудами: разнообразия ради он иногда покупал детей. Как покупал? Да очень просто – сейчас масса беспризорных пацанов шляется повсюду. Ему их отлавливали. Я знаю, как это выглядит, и потому там, на опушке, он перестал быть для меня живым человеком... Когда он поднялся, я видел перед собой только плоскую мишень. Мне стало не по себе...
– Они же убьют тебя!
Нет, спокойно возражал он, они меня не тронут. Инстинкт, толкающий поддеть клыками кабана из соседнего стада, в них неистребим, он в них живет настолько же естественно, как инстинкт продолжения кабаньего рода. И, значит, они меня не тронут. Пока... Пока есть потребность в штучной ручной работе. Я им необходим. Им без меня пока не обойтись. Снайпер – это не более чем профессия в длинном ряду рыночных профессий; не совсем обычная, редкая профессия – однако без нее наш капитализм пока существовать не может.
Я поднялась засветло, осторожно выбралась из постели и босиком, на цыпочках, совершила разбойный рейд по квартире.
Зеркала, которые можно было снять со стен, тумбочек, столов, я спрятала в шкаф, встроенный в стенку в прихожей.
Сварила кофе, села на кухне; смотрела в окно, как ночь медленно перетекает в утро.
Он сразу заметил пропажу.
– Теперь будешь смотреться – в меня, – сказала я.
Зина усмехнулся и сокрушенно покачал головой: пусти девушку в дом... За завтраком он вдруг спросил: а как у нас там дела, в Доме с башенкой? Я сходила в прихожую, принесла куртку, достала из кармана листок из Варвариного блокнота, еще раз отчеркнула нужную строку ногтем.
– Это уже похоже на правду, – задумчиво произнес Зина. – Тут должен быть замешан кто-то солидный. Тебе что-нибудь известно про эту фирму?
– Все. И – ничего.
– Хороший ответ...
– В этой лавочке заправляет мой бывший муж.
Я рассказала, что знаю сама. Поделилась сведениями, относящимися к поздним временам – их я почерпнула в романе Панина.
– Какой матерый человечище! – с оттенком восхищения оценил Зина моего бывшего мужа. – Настоящий кабан!
Смысл этой реплики дошел до меня с некоторым опозданием. Некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза. Наконец, Зина бросил вилку, которой рассеянно ковырял заботливо приготовленную мной яичницу, – взвизгнув, вилка соскочила со стола на пол.
– Вряд ли этот твой Федор Иванович сам принимал решения. Вожаков играет стая. Он просто подтягивал под себя недвижимость; детали – что? откуда? за счет чего? – его наверняка не интересовали, скорее всего, он даже не знает о существовании этих несчастных стариков – не тот уровень; его дело – стратегия, остальное выполнит стая, сатрапы...
Именно так, Зина, именно! Федор Иванович в нужный момент просто умолкнет и подожмет губы: делайте как знаете, однако – без меня. Я слишком хорошо его знаю: сам он ни в чем не участвует. Он человек молчаливых решений.
А сатрапы отлично умеют читать по глазам.
Взгляд у Зины был тяжелый, с примесью какого-то холодного, но жидкого металла – наверное, ртути. Не стоило касаться этой темы. Человек, преследуемый чувством, что он взялся из ничего, гораздо глубже, чем остальные, должен понимать, что значит уйти в никуда, пропасть без вести и не иметь даже такой малости, как холмик за кладбищенской оградой.
– Так, говоришь... – тон его заставил меня похолодеть, – кабан, говоришь?
Он встал, прошелся по кухне, вернулся на свое место, сложил руки на груди.
– Будем считать, что мы оформили этот заказ.
Я сдавила ладонями виски.
Нет, охотник, я всего лишь белка, маленький зверек с пушистым хвостом; я питаюсь орехами и сушеными грибами – вкус человеческой крови мне неведом; у меня острые коготки, иногда я пускаю их в ход, но сабельно-кривых клыков у меня нет, – такие клыки положены тем, кто привык вспарывать брюхо себе подобным; оставим этот инстинкт им, у нас другая порода; сочинять так сочинять: мы будем следовать строго в русле избранного жанра и завершим этот сюжет согласно фирменному лозунгу компании "Рэн Ксерокс"
– Что ты задумала? – спросил Зина после паузы; глянул на часы, поморщился – наверное, опаздывал на работу и вот уже окончательно опоздал. – Я поеду с тобой.
Нет, охотник, это мое сугубо личное дело, и, кроме того, я хочу сейчас взять у тебя клятву: ты больше никогда не выйдешь на свою охотничью тропу, никогда, а твой замечательный "С – ССР" калибра "семь-шестьдесят два" мы во что-нибудь переплавим и перекуем на орала.
Я позвонила Панину, спросила, где искать контору Федора Ивановича. По дороге заехала к косметологу – профессор отнесся к моему предложению с некоторым недоумением, однако после недолгих переговоров ответил согласием.
В офис я проникла без особых проблем: Панин связался со своей пассией из приемной, поэтому мы обошлись без формальностей.
– Панин очень хороший человек, – сказала я ей. – С ним легко и просто – кататься на лыжах, лежать в постели и ходить по компаниям. Но жить с ним трудно.
Она улыбнулась и облизала кончиком языка верхнюю губу:
– Я знаю...
Дверь плавно отворилась – в приемную выглянул Федор Иванович; кажется, он собирался о чем-то перемолвиться с секретаршей, но тут заметил меня и метнул свирепый взгляд на сотрудницу.
Та отыграла роль на "пять": сделала глупое лицо, извинительно повела плечом, заглянула в свой блокнот:
– Сказали, что дело архисрочное, не терпит отлагательств и касается лично вас... Я просто не успела доложить.
В ответ она получила энергичный взмах руки ("Черт бы тебя!"), мне достался сдержанный кивок ("Заходи, раз пришла!") – на то он и человек молчаливых решений, чтобы изъясняться на языке мимики и жестов.
Он уселся за рабочий стол, габаритами напоминавший средний танк, откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе.
Я подошла вплотную, пальцем коснулась его верхней губы.
– Вот этого не надо, Федор Иванович! Не надо поджимать губы – этот номер у тебя, наконец, не пройдет. – Я отступила на шаг, оглядела кабинет. – А где тут у тебя коньяк? Панин меня уверял, что ты поишь коньяком всяк сюда входящего.
Он не пошевелился, нисколько не переменился в лице, посмотрел на часы.
– К делу.
К делу, так к делу: я вынула из сумочки несколько листов бумаги, где были изложены обстоятельства, сопутствующие одиночному выстрелу. Он бегло просмотрел, вернул мне, отвернулся к окну. Вид у него был отсутствующий.
– Я, кажется, знаю этого парня... – он разговаривал сам с собой. – Наслышан, как же... Странно, что он никогда не стреляет в голову, хм... Снайпер, как правило, бьет в висок, в лоб...
– Кабанов никогда не бьют в голову, – вставила я, – У них череп просто каменный. И мозги крошечные. Пули отскакивают ото лба, как от стенки.
Он вспомнил о моем присутствии в этом просторном кабинете.
– Все это очень интересно. Спасибо. Ты меня немного развлекла. А теперь извини, у меня дела.
Я перегнулась через стол и тихо сказала:
– А ты не по-о-о-нял... Следующий на очереди кабан – это ты.
Я ожидала какой угодно реакции, кроме этой: он включился в работу, мгновенно собрался и начал функционировать – ритмично, четко, как часовой механизм, не требующий подзаводки.
– Чем гарантирована эта информация?
Ну и нервы у этих кабанов... Ему сообщают, что его хотят пристрелить, а он требует гарантий. В таком случае – мной гарантирована: какой-никакой, а все-таки он был мне муж.
– Всегда можно договориться, – спокойно функционировал он. – Всегда можно заплатить больше, чем стоит заказ.
– Нет, – покачала я головой. – Он отступного не берет.
– Ты не понимаешь! – отмахнулся он и принялся исполнять какую-то тонко пищащую мелодию на клавиатуре телефона. – Кто оформил заказ, ну? Зенатуллин? Гурко? Сидоркин? Кто? Ну же... Алло, алло, господина Зенатуллина, пожалуйста!..
Он так уверенно и четко функционировал, что совсем не обращал на меня внимания; он просто не видел, как я обхожу стол и встаю у него за спиной. Только когда я вырвала у него телефонную трубку, этот живой механизм дал сбой.
– Идиотка! – выкрикнул он. – У тебя крыша поехала!
Я присела на массивный подлокотник кресла, наклонилась, услышала запах хорошего одеколона; некоторое время мы так и сидели, нос к носу; он раскаленно сопел, а я вдумчиво теребила пуговицу его рубашки.
Кажется, он начал догадываться.
И все-таки я прошептала ему на ухо:
– ЭТОТ ЗАКАЗ ОФОРМИЛА Я.
Трудно сказать, сколько времени занял этот разговор. Вернее сказать, говорила только я, он слушал. Я представила ему свой длинный комикс, как можно подробней, особенно тщательно прорисовала финальный кадр, где собрались все наши старики.
– Чего ты хочешь? – с мрачной отрешенностью спросил, он после долгого молчания.
Я достала из кармана список с адресами, положила перед Федором Ивановичем.
– Выведи мне этот текст на монитор... Это не так трудно, там файл проставлен.
Он развернул кресло – компьютер стоял рядом, справа от стола – порыскал по файлам, нашел, в экране встали зеленые строки. Я вытолкала его из кресла. Опустила точку правки на уровень восьмого пункта. Вместо данных бабы Тони я набила имя, фамилию, год рождения...
– Какой у тебя сейчас адрес? – спросила я. – Хотя это неважно. Адрес тебе больше не понадобится. Ты с этого момента – человек без адреса.
Он тупо смотрел в монитор, где светилась его фамилия.
– Не понял.
А тут и понимать нечего, Федор Иванович; ты включен в список пропавших без вести; ты просто примеришь на себя шкуру этих стариков, исчезнешь отсюда, уйдешь в никуда. Чисто физиологически ты будешь существовать – возможно, даже лучше прежнего – однако твое "Я" будет стерто: в этом кабинете, на этой улице, в этом городе. То есть, ты вернешься в свою исконную ипостась, будешь кабаном, сильным, свирепым, мощным – однако уже не будешь претендовать на приставку к твоему роду – "SAPIENS". Живи с миром. Возможно, ты сумеешь подняться, опять заработаешь кучу деньжищ – скорее всего, так оно и случится; у тебя в этом деле талант. Однако это будет уже другой человек с другим лицом. Федора Ивановича больше не существует.
– Ты пропал без вести, Федя. Тебя будут искать, но не найдут.
Я набрала номер косметического центра и сказала профессору, что запамятовала спросить о размерах гонорара... Записала цифру на листке бумаги.
– Сейчас ты возьмешь столько долларов, сколько здесь обозначено, а потом мы поедем к моему хорошему знакомому в центр эстетической хирургии, и он сделает тебе другое лицо. Вот и все. Потом можешь идти на все четыре стороны.
– А если?..
Ну какие "если", какие могут быть "если"! Пойми, с этого момента ты – мишень. Ты быстро движешься в створе тира, очень быстро... Но он тебя достанет. Ты же понимаешь; он в самом деле настоящий сицилийский специалист. Не сегодня достанет, так завтра, не завтра, так через год – но обязательно достанет. Охрана – да хоть ты все КГБ найми – тебе не поможет... В свое время его родной братец всадил четыре пули в Кеннеди, а двоюродный – едва не подстрелил де Голля... И знаешь, почему де Голль уцелел?
Нет, Федор Иванович не знает.
– Я тебе объясню... Дело было на площади, где генерал встречался с ветеранами войны против немцев. Снайпер выстрелил ему точно в висок. Но пуля прошла в миллиметре от головы. Знаешь, почему? Де Голль в момент выстрела наклонился. Догадываешься, почему?
Федор Иванович молчал.
– Он наклонился, чтобы поцеловать какого-то старика в щеку. А тебе это никогда не придет в голову – вот так наклониться, никогда.
Толково, расценил Зина мой план и спросил, когда я этот творческий замысел собираюсь претворять в жизнь. Прямо сейчас? Если так, то он поедет со мной – он не уверен, что все сойдет гладко.
– Нет, Зина, не сейчас. Позже... Мне надо дочитать до конца еще один текст.
Просто у меня есть подозрение, что я водила не в двух игровых полях, а сразу в трех.
На Сергея Панина я собираюсь подавать в суд: в конце концов Огненная Земля – это цивилизованная страна, мы не так давно подписали Бернскую конвенцию по авторским правам – и, значит, Панину не отвертеться.
Агапов тупик – Марьина Роща – Агапов тупик: таков маршрут моих перемещений в пространстве; желтое бабье лето – серые ветры конца сентября – ноябрьский снег, холода в десятых числах: приметы движения во времени.
Втроем – Панин, Музыка и я – мы собирались на "сорок дней". Когда убили Костыля – третьего или четвертого – выяснить так и не удалось, поэтому мы просидели за столом два дня, четверг и пятницу, одиннадцатого и двенадцатого.
Дня через три я нашла в Доме с башенкой бумагу, о которой говорил Зина. Это был стандартный договор: пожизненная пенсия в обмен на жилплощадь. Там, кстати, оговаривалось, что расходы по похоронам тоже берет на себя фирма. Прочитав этот пункт, я подумала, что в ходе нашей предстоящей беседы с Федором Ивановичем буду настаивать на еще одном параграфе соглашения: пусть хоть наизнанку вывернется, но отыщет через своих сатрапов тех обезьян, которые сделали Францычу последний укол; и пусть те укажут место, где они старика зарыли, извлекут его останки из земли, и Федор Иванович оплатит похороны.
Взяв договор, я отправилась к Панину и застала его за неожиданным занятием: он исступленно долбил на машинке; никакого внимания на меня не обращал, отмахнулся: ой, уйди ради бога, у меня работа горит!..
На столе уже возвышалась приличная кипа исписанной бумаги.
От нечего делать я взяла пару листков...
Потом схватила всю кипу и стала читать. Добравшись до середины повествования, я уже хорошо понимала, что к чему.
– Мерзавец! – закричала я. – Ты захапал мои комиксы!
Панин оттолкнул от себя пишущую машинку. Вид у него был крайне виноватый. Некоторое время он собирался с силами, прежде чем приступить к объяснениям.
Оказывается, один знакомый – милейший человек, критик, хорошие книжки про Шукшина прежде писал, – отвел его в одно издательство; там их приветливо и тепло встретили, чаем с баранками поили... Очаровательные такие женщины – спокойные, тактичные и внимательные... Ну, словом, Панин подписался быстро накатать роман и даже аванс получил – на эти деньги я, кстати, пиво пила в кабаке с поэтичным названием "ВИАРДО". Теперь надо рукопись сдавать, сама понимаешь, запарка, то да сё...
Нет, милый друг детства, я понимать ничего не хочу, это мои тексты, мои кровные комиксы, ты их просто обработал, но автор их – я, а ты – так себе, аранжировщик.
– Я на тебя в суд подам, Панин.
Ах, мерзавец... Панин обладает потрясающей способностью: он умеет в нужный момент произнести именно то, что необходимо для разрядки ситуации...
Это был именно тот случай.
Он поднялся, подошел, обнял меня, поцеловал в щеку и шепнул на ухо:
– Ты ж понимаешь, гонорар... Если, конечно, мне дадут какой-нибудь гонорар... Так вот, если мне дадут гонорар, то мы, естественно, просадим его с тобой в Терсколе... Зима ж на носу, ты чего, рыжая, пора точить канты на лыжах!
И я растаяла.
Напоследок я спросила его: как хоть это издательство замечательное называется, где тебе предлагают такие славные проекты и даже поят чаем с баранками.
– "Амальтея" называется, – бодро отозвался Панин. – Насколько я помню мифологию, это корова, которая выкормила Зевса.
Милый друг детства, ты был очаровательным наставником – в любовных утехах, горных лыжах, питейном деле... А что касается античной литературы и мифологии – так себе, посредственный ты был наставник; я всегда это знала, но только не говорила, жалела твое самолюбие.
– Это не корова, Панин, а коза... Смотри, не ляпни там им про корову.
Ладно, пусть строчит – недели две я милого друга детства не беспокоила. Потом все-таки не выдержала и навестила как-то с утра пораньше.
Панин лежал в "ложе прессы" с "Иностранкой" в обнимку: ей-богу, вид у него был такой, как будто он делил ложе не с толстым журналом, а с женщиной. Я наклонилась, заглянула в журнал, увидела имя автора...
– Как тебе не стыдно, Панин, спать с чужими девушками?
Он оторвался от чтения и поинтересовался:
– Это с какими такими девушками?
– Ну как – с какими? С "девушками французских лейтенантов"!
Панин поманил меня пальцем, приглашая занять место в "ложе прессы".
– Что у тебя с волосами?
Я схватилась за голову: ничего, на месте мои волосы.
– Я думая, ты рыжая... А оказывается – серая.
Я выхватила журнал у него из рук. М-да, роман-то новый, отстала я, выходит, от жизни.
Я оставила друга детства в одиночестве на необъятной лежанке, прошлась по комнате и – заметив, чтоб Панин поберегся, поскольку я сейчас буду творить – набрала полные легкие воздуха:
Панин, кряхтя, поднялся с кровати, вышел в коридор, вернулся с большой зеленой канистрой. Нес он ее с трудом.
– У меня в машине бак пустой, – объяснил он. – До Кащенки бензина не хватит. Пошли, я тебя подброшу по старой дружбе.
Нет, милый друг, у нас сегодня другой маршрут – мы держим курс на Дом с башенкой; сейчас купим водки, рис и немного изюма у меня с собой, наварим кутью – мы ж так и не помянули нашего Францыча.
Я сразу отправилась на кухню готовить. Рис без соли варить, но, кажется, недоваривать. Подмешать немного изюма... Мед туда нужно класть? Кажется, нет – медом будто бы смазывают постные блины. Блинов не будет: с тестом морока, обойдемся и так.
Потом я протерла от пыли круглый стол, поставила две тарелки, стопки. Панин, задрав голову, изучал потолочную живопись, частично обвалившуюся.
– Вообще-то... – задумчиво произнес он, – будь этот сюжет не в твоих бездарных руках, способных только китч месить, а в моих... Я заставил бы эту прелесть,– он послал детям, разбегающимся по полянке, приветствие, – заставил бы эту прелесть медленно осыпаться, понимаешь? Главное – медленно. По ходу развития коллизии, понимаешь? Чтобы существовал в тексте такой скрытый, подспудный план медленного распада. Как это было бы изящно и красиво!
– На то ты и графоман, – грустно ответила я.
Панин уже смотрел в рюмку, шумно втягивал носом воздух, набирая его побольше в легкие, – чтобы потом было что выдохнуть.
Рука его повисла в воздухе. Моя – тоже.
Мы оба услышали звук.
Транскрибировать его можно примерно так: "кряк!"
Именно такой звук издает снежная доска на склоне, когда собирается треснуть, обломиться и с грохотом уйти вниз.
Мы оба слишком хорошо знали этот звук. Услышав его, надо бежать куда глаза глядят.
Секунду мы пребывали в состоянии оцепенения. Секунды нам хватило. Панин подал сигнал мне, а я – Панину.
– Ат-т-т –а-а-а-с! – заорали мы хором.
Только потом я по достоинству оценила сноровку и реакцию Панина – он принял единственно верное решение: схватил меня за шкирку, выдернул из-за стола и увлек в левый, ближний к окну угол, закрыл голову руками.
Придя в себя, – после того, как отгрохотало – мы первое время ничего не видели: облако белоснежной штукатурной пыли еще долго клубилось и шевелилось в комнате.
– А еще говорят, что беллетристика не способна влиять на окружающую жизнь, – отметил Панин, глядя в потолок, ритмично разлинованный тонкими несущими реечками, обнажившимися на месте нашего старого доброго неба. – Нет, литература все-таки заметно видоизменяет формы жизни, точно так же, как "Смирновская водка" – видела этот замечательный клип по телеку, а рыжая?
– Это все ты! – кричала я, тряся Панина за плечо; пыль из него летела густо, как из ковра, ни разу в жизни не битого палками во дворе. – Это ты сочиняешь путаные романы, в которых ни черта понять невозможно! Это все твои графоманские штучки!
Комната производила жуткое впечатление; разгром царил такой, будто в Дом с башенкой заглянуло на минуту землетрясение – прошлось, прогулялось и тихо удалилось громить наш Агапов тупик дальше.
Кое-как мы навели порядок. Панин стаскивал куски штукатурки на кухню, я подметала. Когда он нес очередную порцию строительного мусора, я случайно глянула на его часы: огромный циферблат, рядом с "тройкой" – окошко, в котором стоит цифровой знак дня.
– Какой сегодня день? – внутренне похолодев, спросила я.
– Да, вроде, среда... – ответил Панин, сверившись с часами, и вдруг умолк. – Слу-у-у-шай! Такое дело надо отметить! По полной программе.
В запасе у нас оставалось не более двух часов – если, конечно, "брат Йорген" чего-то не напутал.
"Полная программа" вылилась в то, что мы потратили все имевшиеся у нас средства до последней копейки, накупили напитков и разных вкусностей, заскочили домой, прихватили пуховики. Пока Панин искал надувной матрац и плащ-палатку, я дозвонилась Зине и умолила его сбежать с работы. Пусть ждет нас на улице у метро "Кропоткинская" – кажется, его экологическая контора расположена в том районе.
Очень хорошо, что, покидая Дом с башенкой, я прихватила с собой остатки кутьи. Кастрюлю с постным рисом, тарелки, столовые серебряные приборы, продукты и напитки я упаковала в большую теннисную сумку – гулять так гулять.
Я села за руль – друг детства принял рюмку еще дома. Вместе с сумкой он зачем-то прихватил пишущую машинку и усиленно продолжал "принимать" по дороге. Зину он моментально приобщил к этому занятию. Виделись они всего один раз и то мельком – когда Серега чинил подъемный механизм в дверце Гакгунгры. Теперь они очень быстро прониклись друг к другу искренней симпатией – еще бы: расположились на заднем сидении и с промежутками в пару минут поднимали тосты за Любимый Праздник населения Огненной Земли.
Прелесть этого праздника, подумала я на выезде из столицы нашей родины, состоит как раз в том, что он всегда с тобой.
– А куда это мы? – спросил Зина, когда мы сворачивали с трассы на проселочную дорогу. – На пикник?
Впрочем, мы уже приехали. Я поставила машину на прежнее место, за кустами бузины.
– Удачное место для пикника, – оценил Панин, обходя дозором кладбище.
– Помнишь, да? – я тронула Зину за локоть; он стоял, привалившись к березе, и смотрел на трассу.
Он кивнул, обнял меня.
До чего же уныло кладбище в ноябре... Как хорошо было здесь поздним летом; тихо, покойно и благостно – а что теперь?.. То ли это ветра свист, то ли падает последний лист, то ли другой украл поцелуй с любимых губ.
– Место выбрано прекрасно, – Панин уже накрыл "стол" на плащ-палатке и теперь сидел, скрестив ноги по-турецки на надувном матраце. – И главное, что потом далеко ходить не надо. Тут и устроимся, – он повертел головой, обозревая черные кресты, обступившие наш трапезный стол. – Когда у нас должен грянуть праздник?
– В двенадцать, – ответила я. – Так мне "брат Йорген" сказал. В полдень.
– Пять минут осталось, – возвестил Панин, глянув на часы, и достал из сумки бутылку шампанского. – Просалютуем в честь праздника.
Я подумала, что шампанского всего большого мира не хватило бы на это салютование: приходилось бы нам все последние десять лет стрелять из бутылок – просто каждую минуту палить. Зина уселся за "стол", я опустилась на корточки, прислонилась щекой к березовому стволу, сырому и шершавому, прокрутила в памяти свои комиксы – что-то в них есть от тяжкой сердечной болезни; да, Панин прав, говоря о саморазрушении этого текста, где каждый кадр переживает что-то вроде микроинфаркта – и вот теперь этот сюжет в целом шарахнет инфаркт миокарда, обширный и смертельный; и вот произойдет великое землетрясение, и вышел дым из кладезя, как из большой печи, и помрачилось солнце и воздух, звезды небесные пали на землю, как смоковница, небо свернулось в свиток и исчезло, а луна сделалась как кровь – ну же, всадники небесные, скачите, ваш пришел черед; ты, всадник на коне белом – подними свой лук; и ты, на коне рыжем, взмахни своим мечом; и ты, на коне вороном – крепче держи свою меру в руке; и ты, на коне бледном – приступай, умерщвляй мечом и голодом, мором и зверями земными.
Грохнуло.
Значит – двенадцать.
Я упала ничком на землю и прикрыла голову руками.
Не знаю, сколько я так пролежала, укрывшись, спрятавшись – в себе самой: когда приходит этот Праздник, иного укрытия человеку не дано.
Наконец, я рискнула поднять голову.
Бутылка из-под шампанского дымилась в руке Панина, из горлышка вяло выползала белая пена и осыпалась в плошку с кутьей.
С минуту мы все втроем тупо глядели на это горлышко.
Потом оно начало описывать дугу – медленную, широкую и плавную; размахнувшись, Панин зашвырнул бутылку в кусты, вцепился скрюченными пальцами в волосы.
– Какая бездарность! – выл Панин, ритмично раскачиваясь. – Какая же чудовищная бездарность! Даже этот текст мы не в состоянии отработать по-человечески! – откачавшись, Панин поднял лицо – глаза у него были свирепые и совершенно трезвые; милый друг детства умеет в нужный момент трезветь, совершенно трезветь, кристально. – А ты-то что, ты-то! – заорал он на меня. – Что ты свои Млечные Пути-то через сито просеиваешь?! Что ты дергаешь-то, что дергаешь... Надергала и рада... Солнце стало мрачно, как власяница... Звезды небесные пали... Луна сделалась, как кровь... Да пойми ж ты! – он встал из-за "стола", подошел к березе, поднял меня, поставил на ноги. – Пойми, рыжая, людей убивают и жрут, последний классик прав – есть такой обычай у туземцев Огненной Земли. Поодиночке убивают, как нашего Францыча, и толпами – вон, Белый дом трупами упаковали по самую крышу... Только это важно. А все твои апокалиптические прожилки в тексте – это полная...
Он огляделся и проглотил слово. Впрочем, я догадываюсь, что именно он намеревался произнести, однако вовремя прикусил язык, чтоб лишний раз не тревожить прошлых людей, которые чутко спят под своими холмиками и все слышат.
– Серега, но ведь так было... Я все это видела собственными глазами.
– Точно? – деловым тоном спросил Панин.
– Клянусь!
– Тем лучше! – Панин заметно приободрился. – Значит, будем жить. Нет на свете ни одной территории, кроме Огненной Земли, где люди полностью адаптировались к ситуации пост-цивилизации. Зина, за это надо выпить!
– Нравитесь вы мне, ребята, – усмехнулся Зина, разливая водку по рюмкам: эти бабушкины рюмки, тонкие, изящные, из благородного дореволюционного хрусталя я прихватила с собой – помирать, так с музыкой, под тонкое пение настоящего хрусталя. – Ей-богу, нравитесь. Давайте, переезжайте ко мне жить. В тесноте, да не в обиде – разместимся как-нибудь... А ваши апартаменты за доллары сдадим – у нас их с руками отхватят, это же центр.
Я вспомнила про Андрюшу Музыку – придется его взять с собой.
– Это крайне опасно, – хмуро изрек Панин. – Он же старик. Согласно нашим обычаям, его обязательно кто-нибудь захочет убить и сожрать.
– Панин, – четко произнес Зина, и что-то в его тоне меня насторожило. – Ты, насколько я знаю, на стенде дострелялся до первого разряда? Ну вот, а я – мастер спорта международного класса... Ничего. Отобьемся. Отстреляемся.
– Зина! – закричала я. – Ты мне поклялся!
Ты же поклялся мне, охотник, больше никогда не выходить на охотничью тропу, у нас другая порода, нам ни к чему острые клыки, чтобы жить и выживать, мы питаемся орехами, грибами сушеными и другими дарами природы.
– Ой, ребята, – вздохнул Зина. – Вы все тень на плетень наводите! Тень жары там... А теперь какую будете тень наводить? Без вести пропавших тень? – он сделал резкое движение – рюмки повалились на плащ-палатку. – Поймите вы, кабан – существо страшное, особенно, если его разозлить. Мы встанем у них за спиной... – Зина картинно, как уездный трагик, жестикулировал. – Они поймут... Они почувствуют... И сойдут с ума... Да ни черта они не поймут и не почувствуют! Ты, Панин, своими "Едоками картофеля" им хоть все стены сплошь завесь – от пола до потолка – они и глазом не моргнут, – он провел пальцем по ладони, исследуя на ощупь линии судьбы и жизни. – Предоставьте это мне. Я этот ваш сюжет сумею Дописать как надо. И сделаю это очень профессионально.
– Зина! – истерично выкрикнула я. – Ты мне поклялся!
Он махнул рукой: ладно, поступайте как знаете...
Панин ушел в машину. Через минуту мы услышали стрекот пишущей машинки. Панин крикнул, чтоб ему не мешали некоторое время; ему сегодня рукопись в издательство сдавать, надо дописать последние несколько страниц.
– Ты что, милый друг? – спросила я, заглядывая в машину; Панин в самом деле самозабвенно долбил по клавишам. – Сегодня же Конец Света. Вряд ли твое издательство работает.
Наблюдая за его трудами, я подумала, что скверные же настали времена, если даже богов надо выхаживать и выкармливать козьим молоком.
– Работает, работает, – отмахнулся Панин.
Когда он закончил, я приказала ему садиться на переднее сидение: путь мне во мраке указывать.
– А куда мы путь держим? – спросили они хором.
Известно, куда... В Замоскворечье – там есть один симпатичный особняк, в особняке есть офис, а в сидит в кабинете генерального директора, поджав губы, один человек, которому я хочу сказать, что пришло время платить долги.
– Ты хоть придумала, с чего начнешь разговор? – спросил Панин.
И придумывать нечего, буду говорить по писаному, сказано же однажды и навеки: ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг.