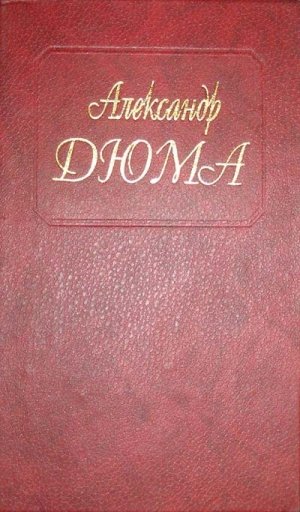
I
5 мая 1637 года.
Прекрасная голубка с серебристым оперением, с черным ожерельем, с розовыми ножками, тебе невыносимо заточение, ты бьешься о прутья решетки, и я возвращаю тебе свободу.
Ты, без сомнения, покидаешь меня только оттого, что любишь кого-то сильнее, чем меня, что хочешь к кому-то вернуться, и мне необходимо оправдать твое недельное отсутствие.
Я свидетельствую, что вечным заточением ты должна была бы оплатить оказанную тебе услугу; вот до чего эгоистично человеческое сердце — ничего не дает оно безвозмездно, а часто требует двойную цену.
Лети же, милая вестница, возвращайся к тому или к той, кто зовет тебя издалека, кого ты ищешь глазами вдали; передай ему или ей мои извинения. Эта записка, которую я привяжу к твоему крылу, — свидетельство твоей верности.
Еще раз прощаюсь с тобой; окно открыто, перед тобой небо… Прощай!
II
6 мая 1637 года.
Кем бы Вы ни были, благодарю Вас, Вы вернули мне мою единственную подругу, но, как видите, Ваше святое дело не осталось без награды: прелестная вестница как будто поняла, что я должна поблагодарить Вас, но не знаю, где Вы живете, и боюсь, что Вы обвините меня в холодности; та же тревога, что охватила ее у Вас, теперь снедает ее здесь.
Вчера, когда она вернулась, радость от нашей встречи безраздельно владела ею, но сегодня утром — видите, какая она непостоянная! — ей мало того, что она со мной: она бьется клювом и крыльями — нет, не о прутья решетки, у нее никогда не было клетки — об оконные стекла; она больше не хочет быть только моей, она хочет принадлежать нам двоим.
Пусть будет так; в отличие от многих, я считаю: разделив то, что имеем, мы удваиваем это. Теперь у нас две Ириды, и заметьте: я назвала ее Иридой, как будто предвидела, что когда-нибудь она станет нашей вестницей. Ваша Ирида будет носить Вам мои письма, а моя — приносить мне Ваши: я надеюсь, что Вы захотите рассказать мне об услуге, какую Вы оказали ей, и о том, как она очутилась у Вас.
Может быть, Вас удивит, что я так сразу вверяюсь Вам, незнакомцу или незнакомке. Но Вы добры, раз вернули мне мою голубку; записка, которую она принесла, говорит об уме и благородстве ее автора; все возвышенные души — сестры, все высокие умы — братья, так будьте мне братом или сестрой, потому что мне необходимо назвать так кого-нибудь: я еще никому не давала такого имени.
Ирида, милая моя подружка, ты вернешься туда, откуда прилетела, и скажешь тому или той, кто послал или послала тебя, что я отпускаю тебя к нему или к ней; прибавь к этому, что я предпочла бы «ее», а не «его».
Отправляйся, Ирида, и помни, что я жду тебя.
III
В тот же день, перед «Анжелюсом».
Сестра моя,
Вы ведь не сердитесь ни на Ириду, ни на меня, не правда ли? Меня не было в комнате, когда она прилетела, но окно было открыто навстречу вечерней прохладе; Ирида впорхнула в него и — как будто милая крошка понимала, что должна передать письмо и унести ответ — терпеливо ждала моего возвращения, а когда я вернулся, взлетела с подоконника и уселась на мое плечо…
Увы! В моем падении с вершин земной славы мне пришлось пережить на этом пути множество счастливых или горестных мгновений. Но никогда меня не охватывала такая печаль, как в тот раз, когда, отсылая к Вам голубку, еще не зная ее имени (предопределенного ей, как Вы сами сказали), я думал, что расстаюсь с ней навеки; никогда я не испытывал большей радости, чем та, что я испытал, когда, расставаясь с ней навсегда, я вновь увидел ее у себя и почувствовал на щеке ветерок от ее крыла, пока она устраивалась на моем плече.
Боже мой! Для человека, этого вечного раба всего, что его окружает, ты создал относительные радости и печали. И тот, кто не плакал, теряя почти что королевство, кого не заставил вздрогнуть свист топора, сносившего головы вокруг, — тот заплачет, увидев, как улетающая птица теряется в пространстве, тот вздрогнет, почувствовав трепет легкого пера голубки! Это одна из твоих тайн, Господи, и ты знаешь, преклоняется ли кто-нибудь столь же смиренно и ревностно перед Божьими таинствами, как тот, кто простерся в эту минуту у подножия креста Сына Божьего, чтобы прославить и благословить тебя!
Вот и все, что я сказал себе, снова увидев бедняжку-голубку, с которой простился навсегда, еще до того, как прочел принесенную ею записку.
Прочитав ее, я глубоко задумался.
«Зачем, — спрашивал я себя, — мне, несчастному, погибшему человеку, когда я уже примирился с бурей и побратался со смертью; зачем мне, затерянному в беспредельности Океана, хвататься за этот обломок, быть может, от такого же разбитого судна, как мое, что толкает в мои руки скорее случай, чем Провидений? Давая увлечь себя надежде, не поддаюсь ли я искушению? Не зацепилась ли незаметно для меня самого пола моей одежды за косяк двери, ведущей в мир, и справедливо ли я считал до сих пор, что окончательно расстался с земной суетой и иллюзиями?»
Как видите, сестра моя, мне было о чем грезить и о чем размышлять: Бог над моей головой; пропасть у моих ног; мир вокруг меня невидимый — ибо я закрыл глаза, неслышимый — ибо я заткнул уши; однако я, как прежде, услышу его шум, снова увижу его кружение, если по неосторожности открою глаза и уши.
Но, может быть, мое воображение уносит меня за пределы реальности, может быть, случай, лишенный силы и значения, я вознес до события?
Вы ждете от меня простого рассказа, сестра моя, — Вы услышите его.
Неделю тому назад, сидя в саду, я читал. Хотите ли узнать, какая книга была в моих руках, сестра моя? Это была сокровищница любви, религии и поэзии — «Исповедь» святого Августина. Я читал, и мысли мои слились с раздумьями этого блаженного епископа, сына святой, ставшего святым в свой черед.
Вдруг я услышал шум крыльев над головой и поднял глаза: к моим ногам бросилась голубка — она искала у меня защиты от преследовавшего ее ястреба и несколько перышек ее уже осталось в когтях и в клюве хищной птицы.
Господь так велик, что для него упавший воробей равен рухнувшей империи; не он ли внушил бедняжке, что я ее защитник, как ястреб ее враг?
Как бы там ни было, я поднял ее, дрожащую и слегка окровавленную, и спрятал на груди; она съежилась, закрыв глаза, с сильно бьющимся сердцем; затем, увидев, что ястреб уселся на верхушку тополя, я унес ее в свою келью.
В течение пяти или шести дней ястреб не улетал со своего наблюдательного поста, разве что на несколько минут, и я днем и ночью видел его на сухой ветке, где он, неподвижный, подстерегал свою жертву.
Голубка, несомненно, угадывала его присутствие, потому что все это время, печальная и как бы безропотно покорившаяся, она даже не приближалась к окну.
Наконец, позавчера ястреб улетел, и инстинкт подсказал пленнице, что враг ее сдался; она почти сразу устремилась к прозрачному стеклу, и так резко, что едва его не разбила.
Теперь я был не защитником ее, а тюремщиком; комната моя теперь стала не убежищем, а тюрьмой. Целый день я старался помириться с голубкой, целый день удерживал ее, а она вырывалась. Вчера, наконец, я сжалился над ней: написав то письмо, которое Вы получили, со слезами на глазах я открыл окно, и она исчезла, как мне казалось, навсегда.
С тех пор я часто думал о ястребе, неподвижно высматривавшем голубку с самой высокой ветки, и в нем я нашел символ врага рода человеческого, которого мы не видим, хоть и слышим, как он ревет, и который беспрестанно кружит около нас, quaerens quem devoret («ища, кого поглотить»).
А теперь, если бы я не боялся того удовольствия, которое испытываю, видя эту голубку и получая Ваши письма, я попросил бы Вас: расскажите мне, сестра моя, как покинула Вас Ирида, — теперь, когда я поведал Вам о том, как она оказалась у меня.
Завтра первый луч солнца найдет мое окно открытым, и с этим первым лучом наша вестница улетит, неся Вам мой ответ.
А пока пусть крылатые младенцы, которые зовутся снами, почтительно склонятся к Вашему ложу и освежат Вам лоб взмахами своих крыльев!
IV
10 мая, после заутрени.
Как видите по дате на моем письме, я три дня не решалась Вам ответить, это оттого, что Ваше письмо не позволяло усомниться: я надеялась назвать Вас сестрой, а теперь должна или отказаться от переписки с Вами, или назвать Вас братом.
Вы боитесь, сказали Вы, что пола Вашей одежды зацепилась за косяк двери, ведущей в мир. Значит ли это, что Вы удалились от мира?
Вы говорили еще о том, что, падая с вершин земной славы, пролетели долгий путь. Стало быть, Вы занимали самую высокую ступень в обществе?
Вы потеряли почти что королевство, и Вы не вздрогнули от свиста топора, сносившего головы вокруг Вас, пишете Вы дальше. Значит, Вы жили среди высокородных людей, участвовали в борьбе между принцами?
Как же Вы хотите, чтобы я увязала все это с Вашим возрастом — ведь Вы молоды, с Вашим смирением — ведь Вы говорите, преклонив колени?
Но Вам незачем обманывать меня. Вы меня не знаете, Вам неизвестно, госпожа я или служанка, молода или стара, хороша собой или безобразна.
Впрочем, Вас не больше интересует, кто я, чем меня — кто Вы. Мы два чужих друг другу существа, обособленных друг от друга, незнакомых друг с другом, и никакая сила не сможет заставить нас соприкоснуться.
Но, помимо чувственного союза, существует близость мысли, вне осязания и телесного зрения существует родство душ, тайная вечеря, где вкушают из одной чаши слово Господне и пламенные лучи Духа Святого.
Вот и все, что я хочу получить от Вас, все, что Вы можете ожидать от меня.
Это решено. И если есть между нами духовная близость, родство душ, что ж плохого в глазах Господа, если дух и души наши будут сноситься через пространство, как лучи двух дружественных звезд, встретившихся в одиночестве небесного эфира?
Теперь я расскажу Вам о том, каким образом бедняжка Ирида покинула мою комнату.
Накануне того дня, когда Вы спасли ей жизнь, я молилась, стоя на коленях. Лампа стояла рядом с занавесями моей постели. Около полуночи я заснула за молитвой. Прошло, наверно, минут десять, и моя дверь, неплотно закрытая, распахнулась от ветра, занавеси заколыхались, накрыли лампу и загорелись. В миг огонь охватил всю мою маленькую комнатку и стало невыносимо жарко. Я проснулась почти задохнувшаяся. Бедная моя голубка билась среди дыма о потолок. Я подбежала к окну и открыла его. Как только оно отворилось, она устремилась на волю, и я слышала, как в темноте она натолкнулась на ветки так хорошо знакомых ей деревьев, среди которых она каждый день порхает.
Надеясь, что она вернется на рассвете, я оставила окно открытым, но день пришел и ушел, а ее все не было. Напуганная пожаром, она, наверно, летела, пока крылья несли ее. На следующий день, возвращаясь, она была настигнута ястребом, от которого искала защиты у Вас. Вы подобрали ее и оставили у себя, и я уже считала, что навсегда утратила ее, как вдруг услышала биение крыльев о стекло. Я отворила окно: это была беглянка, несущая с собой свое оправдание, но и без того заранее прощенная.
Вот история бедняжки Ириды. Все ли это, что Вам хотелось узнать? Вам больше не о чем спросить меня? В таком случае наша посыльная вернется без письма и без записки. Я буду знать, что это означает, и скажу Вам: «Прощайте, брат мой, да хранит Вас Господь!»
11 мая, на рассвете.
Ирида вернулась без письма и без записки. Бедная малютка выглядела очень грустной оттого, что лишилась звания вестницы; она приподнимала крыло, как будто спрашивала меня, что это означает.
Это означает, милая Ирида, что ты принадлежишь мне одной, что луч, блеснувший на нашем темном небосводе, погас, что брат оказался чужим, друг — равнодушным.
Все это, милая крошка, я пишу для себя самой. Эта жалоба моей души, плачущей в одиночестве, не дойдет до него. Это тебе я признаюсь, что мне больно, тебе признаюсь, что плачу, тебе признаюсь, что несчастна.
Увы! Увы! Не ошибается ли иногда Божье правосудие, не поражают ли удары, предназначенные виновным, но отклоненные каким-то невидимым и недобрым ангелом, — не поражают ли они невинных? Горести этой жизни ведут к блаженству иной, говорят нам, но за что страдает та, что, может быть, и совершила ошибку, но не виновна в преступлении? Почему Иисус простил Магдалину? Почему Христос отпустил грехи прелюбодейке? И почему такая суровость ко мне одной, Господи?
Я любила, это правда, но я отвечала взаимностью на любовь другого, я была рождена для мирской жизни, а не для затворничества. Любя, я исполняла закон, данный тобою животным, людям и растениям. Все любит в этом мире, все стремится соединиться и раствориться в едином существовании: ручьи сливаются в потоки, потоки — в реки, реки впадают в Океан. Звезды, пересекающие по ночам небесный свод, прочерчивающие на нем золотые линии и исчезающие в невидимой стороне, гаснут в лоне другой звезды; наши души, эти отголоски твоего божественного дыхания, не ищут ли они друг друга на земле только для того, чтобы было кого любить, и, когда они покинут наше тело, чтобы вместе улететь и раствориться в тебе, кто есть всемирная душа и беспредельная любовь?
Ну что ж, Господи, минуту я тешила себя надеждой, что на моем горизонте появилась незнакомая, но родная душа, родная по страданию, ибо с первых жалобных слов я поверила: это стонет сердце. Отчего, бедная страждущая душа, ты не хочешь взять часть моей скорби, как я взяла бы часть твоей печали? Разделенный груз всегда легче, и тяжесть, которая может раздавить несущих ее поодиночке, иногда кажется совсем легкой, если они объединят свои силы.
Вот уже звонят к службе. Ты призываешь меня, Господи, и я иду к тебе, иду с уверенностью в своей чистоте, с открытым сердцем, в котором ты можешь читать, и, если каким-нибудь своим поступком или упущением я оскорбила тебя, о Господь мой, дай мне знак, мысль, откровение, я склонюсь перед твоим алтарем и буду, лежа во прахе, простирать к тебе руки, пока ты не простишь меня.
А ты, милая голубка, будь верной хранительницей этих тайн моего слабого сердца, этих порывов моей несчастной души! Укрой своими крыльями листок бумаги, который я сложила, чтобы спрятать его от всех глаз, и который будет ждать меня, как ждет чаша, наполненная лишь наполовину, что в нее дольют остаток обещанного ей горького напитка.
V
11 мая, в полдень.
Вы угадали, бедная скорбящая душа, я в самом деле решил не писать Вам больше: к чему, лежа в могиле, упрямо тянуть руки из склепа, если не для того, чтобы поднять их к Богу? Но нечто похожее на чудо изменило мое решение.
Это письмо, что Вы писали только для себя и где Вы изливали Вашу душу у ног Господа, это письмо с доверенными ему Вашими мыслями, эту чашу, до половины наполненную горечью, которую после Вашего возвращения из церкви должны были переполнить Ваши слезы, — это письмо, не прикрепленное Вами под крылом, Ирида, на этот раз неверная, сама принесла мне в клюве, словно голубка ковчега — зеленую ветвь в ознаменование того, что воды потопа отступают с лика земли, как высыхают наконец слезы на лице прощенного грешника.
Ну что ж, пусть будет так! Я принимаю на себя труд, который Вы мне поручаете, — нести часть Вашей боли, ибо я также больше не принадлежу себе, и силы, оставленные мне Богом, должен использовать как рычаг для облегчения чужих страданий.
С этой минуты моя душа освобождена от моих собственных бед и Вы заполните ее Вашими, Вы ручеек, ищущий реку, в которую мог бы влиться, Вы метеор, ищущий звезду, в лоне которой мог бы погаснуть.
Вы спрашиваете, отчего страдаете безвинно. Берегитесь! Вы требуете ответа у Бога, а от такого вопроса до богохульства один только шаг: падение совершается мгновенно.
Наша гордыня — наш главный враг в этой жизни. Говорят, один нынешний философ сводит все мироздание к вихрям. По его мнению, каждая неподвижная звезда — это солнце, центр такого же мира, как наш, и все эти миры, подчиняясь законам равновесия, кружатся и притягиваются в пространстве, каждый около своего центра, не сталкиваясь и не смешиваясь один с другим.
Не правда ли, вот схема, возвеличивающая Господа, но умаляющая человека?
Так, наш бедный мир делится на миллионы миров. Наша гордыня заставляет нас верить, что каждый из нас — солнце, центр мироздания, в то время как мы всего лишь атомы, пылинки, поднятые Господним дыханием; миллионы их кружатся вокруг сверкающих — ярче или слабее — солнц, что называются королями, императорами, принцами, героями — иными словами, сильными мира сего, которым Господь вручил как знак их могущества скипетр или посох, тиару или меч.
Но кто сказал Вам, что отвлеченные понятия не уравновешиваются так же, как материальные тела? Кто сказал Вам, что горести одного мира не ведут к счастью в другом? Кто сказал Вам, что закон нравственной природы заключается не в том, что половина сердца должна погрузиться в слезы, чтобы вторая половина радовалась, подобно тому, как половина земли погружается во тьму, чтобы другая была освещена?
Расскажите же мне о Ваших несчастьях, бедная измученная душа! Уверен: что бы ни произошло с Вами, Вы не так несчастны, как я. Говорите: у меня найдется утешение для каждой из Ваших жалоб, бальзам для каждой Вашей раны.
Но Вы, с Вашей стороны, умоляю Вас об этом, пейте из ручья моих слов, не доискиваясь источника, поступайте подобно черным эфиопам и бледным сынам Египта, которые утоляют жажду водами Нила и считают, что совершили бы святотатство, поднявшись по реке до ее истоков.
Вы думаете, будто прочли мою прошлую жизнь в нескольких вырвавшихся у меня словах: Вы произвели меня в сильные мира сего, Вам кажется, что за мной, в моем падении, тянулся огненный след, что я пал с небес на землю, подобно поверженному ангелу.
Прежде всего разуверьтесь в этом: я смиренный монах, носящий скромное имя и забывший свое прошлое — безвестное или блестящее, скромное или горделивое. Не будучи ясновидцем в жизни, в отличие от древнего философа, бывшего ясновидцем и в смерти и помнившего, как в прежнем своем воплощении он сражался у стен Трои, сегодня я не вспоминаю вчерашний день, а завтра забуду о сегодняшнем.
Так я хочу шаг за шагом двигаться в вечности, стирая за собой следы, чтобы в день моей смерти предстать перед Господом моим таким, каким вышел из чрева матери: solus, pauper et nudus — одиноким, нищим и нагим.
Прощайте, сестра моя. Не просите у меня большего, чем я могу Вам дать, чтобы я мог давать Вам утешение постоянно.
VI
12 мая.
Да, Вы все поняли верно: пока я лежала, простершись у ног Господа, требуя у него отчета в его суровости, вместо того чтобы молить о прощении за то, что сомневаюсь, Господь сотворил нечто похожее на чудо, послав мне утешение, которого, как я думала, лишилась: наша посланница, изменившая мне от чрезмерной преданности, по своей воле отнесла Вам этот избыток мыслей, или, вернее, чувств, выплеснувшийся на бумагу.
Вы хотите остаться неузнанным? Пусть будет так! Пусть солнце прячется в облаках, пусть огонь скрывается за дымом, раз сквозь дым или облака луч одного освещает меня, а пламя другого согревает. Бог тоже невидим и непознаваем, но менее ли для нас ощутима из-за этого Господня длань, простертая над миром?
Не стану говорить Вам, что я смиренная женщина, скажу лишь: была знатна, была богата, была счастлива, от всего этого ничего не осталось. Я всем сердцем любила человека, который также любил меня; этот человек мертв. Ледяная рука скорби совлекла с меня мирские одежды и одела в монашеское платье — промежуточное одеяние, погребальный убор, который носят те, кто еще не умер, хотя уже не живет.
Теперь я обнажаю перед Вами свою рану.
Я стала монахиней, чтобы забыть ушедшего и помнить только Бога, но иногда я забываю о Боге, чтобы вспоминать только умершего.
Вот отчего я плачу, вот на что жалуюсь, вот отчего кричу, обращаясь к Господу: «Господь мой, сжалься надо мной!»
О, скажите мне, как Вам удалось освободить Вашу душу от заполнявшей ее боли? Вы наклонили ее, как наклоняют чашу? Я тоже изливала свою печаль в молитвах, и после каждой молитвы душа моя все более наполнялась земной любовью, как, если бы, вместо того чтобы расплескивать свое горькое питье, она, наклоняясь, лишь черпала новый напиток из пылающего озера.
Ваш ответ будет прост, я заранее слышу его: «Я никогда не любил».
Но раз Вы никогда не любили, по какому праву кичитесь своими страданиями?
Надо было с этого начать и сказать мне: «Я никогда не любил».
И я не стала бы искать у Вас ни помощи, ни утешения и не только смирилась бы с Вашей отстраненностью от меня и Вашим молчанием, но прошла бы мимо Вас, как мимо глыбы мрамора, которой ваятель придал человеческие формы, но в груди которой никогда не билось сердце.
Если Вы никогда не любили, тогда я скажу Вам: не отвечайте мне, мы не принадлежим к одному миру, мы прожили разные жизни. Я ошиблась в Вас, и незачем дальше обмениваться пустыми словами. Вы не поймете меня, а я не пойму Вас. Мы будем говорить на разных языках.
О, но если Вы, напротив, любили, расскажите мне — где, поведайте — кого, объясните — как, или, если не хотите поделиться со мной этим, говорите о самых незначительных вещах, о чем хотите: мне все интересно, ничто не будет излишним; опишите мне свою комнату и поведайте, куда смотрят ее окна — на восход или на закат, на юг или на север. Напишите, приветствуете ли Вы солнце, когда оно появляется, прощаетесь ли с ним, когда оно заходит; среди пламенных лучей, слепящих Вам глаза, стараетесь ли Вы разглядеть Божий лик в его неугасимом сиянии.
Опишите мне все это, а затем расскажите еще о том, что Вы видите из своего окна: равнины или горы, вершины или долины, ручьи или реки, озеро или океан. Опишите мне все это, и я займу свой ум таинственным делом: превращать силой желания незнаемое в видимое, и, быть может, мое сердце, развлеченное мыслью, сумеет хоть на мгновение забыть…
Нет, нет, нет, ничего мне не рассказывайте: я не хочу забывать!
VII
13 мая.
Тот, кого Вы любили, мертв — вот отчего Вы еще можете плакать; та, которую любил я, изменила мне — вот отчего высохли мои слезы.
Говорите со мной о нем сколько хотите, но не требуйте, чтобы я говорил с Вами о ней.
Четыре года, как я в обители, но все еще не монах!
«Почему?» — спросите Вы меня. Я отвечу Вам.
Когда я потерял ее любовь — последнее, что привязывало меня к жизни, — я был в таком отчаянии, что не было бы заслуги в том, чтобы вследствие такого горя посвятить себя Господу.
Тогда я решил подождать, пока боль утихнет, чтобы Господь принял меня не так, как пропасть принимает слепого или безумного, кидающегося в нее, но как радушный хозяин принимает усталого странника, ищущего приюта на ночь после трудного перехода, в конце долгого дня.
Я хотел вручить ему горячее, а не разбитое сердце, живую плоть, а не труп.
И вот уже более четырех лет, как я, затворившись в одиночестве, очищаюсь молитвой, но все еще не готов сменить одежду послушника на монашескую рясу. Столько во мне еще от прежнего человека, что я счел бы святотатством после того, как я столь всецело отдавался творению, столь мало отдаться Творцу.
Теперь Вам известно о моей прошлой и внутренней жизни все, что я мог рассказать. Теперь о том, что я могу Вам сообщить о своей нынешней и внешней жизни.
Мое жилище не монастырь, а скит, построенный на склоне холма, комната с выбеленными стенами, единственные украшения которой — портрет особо чтимого мною короля и подаренное мне моей матушкой распятие слоновой кости — образец искусства XVI века.
Мое окно, обрамленное громадным кустом жасмина, ветки которого, отягощенные цветами, проникают в мою комнату и наполняют ее благоуханием, смотрит на восток — возможно, в Вашу сторону: я вижу нашу голубку летящей по прямой издалека, и исчезает она в том же направлении; я могу следить за ней, парящей в воздухе, пока она не удалится примерно на четверть льё; затем все уменьшающаяся точка, в которую она превратилась, растворяется в лазурном сиянии или в сером облаке, смотря по тому, чистое или пасмурное в этот день небо.
Рассвет для меня полон совершенно особенного очарования, которое придает ему открывающийся моему взгляду вид. Попытаюсь описать Вам его.
На юге горизонт для меня ограничен высокой цепью Пиренеев с их лиловыми склонами и снежными вершинами, на востоке — грядой холмов; постепенно поднимаясь, эта гряда присоединяется как дополнительный горный отрог к главной цепи; наконец, на севере, так далеко, насколько видит глаз, лежит равнина, усеянная оливковыми рощицами и изрезанная мелкими ручейками, среди которых, подобно властелину, взимающему дань со своих подданных, величественно катит свои воды одна из самых больших рек, орошающих земли Франции.
Лежащее предо мной плоскогорье наклонено с юга на север, с гор к равнине.
Утром, днем и вечером оно представляет собой три совершенно различных вида.
По утрам солнце встает из-за гряды холмов на востоке. За десять минут до его появления я вижу розовую дымку, которая поднимается, медленно, но победоносно захватывая все небо. На ее фоне черные силуэты холмов кажутся еще чернее. Постепенно ярко-розовый цвет дымки переходит в желтый; ее, словно стрелы, прорезают несколько лучей, предваряющих солнце, которое продолжает медленно подниматься за холмами, и их очертания золотятся в его первых лучах. Вскоре на двойной вершине, самой высокой в цепи, разливается подвижный огонь, пока не появится само светило — великолепный, сияющий, струящий пламя неугасимый кратер божественного вулкана. И, по мере того как оно поднимается, все земное возрождается к жизни: вершины Пиренеев, до тех пор тускло-белые, становятся ярко-серебряными, их темные склоны понемногу светлеют, из черных становясь лиловыми, из лиловых — голубыми; свет, стекая с вершин, заливает всю равнину; ручейки превращаются в серебряные нити, атласной лентой струится и вьется река; птицы начинают петь в зарослях олеандров, среди гранатовых и миртовых деревьев; орел царственно кружит в вышине, описывая в своем широком полете круг более чем в льё, и я вижу, как он то появляется, то исчезает.
В полдень вся эта чаша наполняется жаром, обнажаются склоны гор, освещенные сверху донизу, проступает гранитный остов земли, лучи солнца ломаются и отражаются от сверкающей поверхности скал; ручьи и реки напоминают потоки расплавленного свинца; цветы вянут, листья опускаются, птицы умолкают. В сверкающих ветвях олив и в растрескавшейся коре сосен стрекочут невидимые цикады. Кроме них, лишь два существа оживляют эту знойную пустыню: зеленая ящерка, взбирающаяся по переплету моего окна, и крапчатый уж, что, свернувшись клубком, заглатывает приоткрытой пастью, в глубине которой дрожит безобидное черное жало, оказавшихся поблизости мошек.
Вечером жизнь ненадолго возрождается, как разгорается на мгновение огонь в лампе перед тем, как она погаснет. Цикады одна за другой умолкают, их треск сменяется жалобной и однообразной песней сверчка; ящерицы прячутся; ужи скрываются; кусты дрожат от суетливых движений птиц, ищущих приюта на ночь. Солнце опускается за невидимый для меня горизонт, и, пока оно опускается, снега Пиренеев из нежно-розовых становятся пурпурными. Тени, рождаясь в глубине долины, поднимаются по ступеням гигантской лестницы, преследуя отступающий свет, пока, повинуясь законам природы, весь мир не достанется им. Тогда умолкают все звуки, гаснут все земные огни, в небе тихо загораются звезды, и среди ночной тишины пробуждается единственная мелодия: пение соловья, возлюбленного звезд, певца ночи.
Вы спросили меня о том, что видно из моего окна, я ответил Вам. Займите этими тремя пейзажами Ваши мысли, Ваш ум, чтобы развлечь сердце. Ваше спасение в этом и в ином мире заключено в одном слове:
«Забудьте!»
VIII
13 мая.
Вы велите мне забыть!
Послушайте же, что со мной происходит.
Как только стемнеет, тогда — представьте себе это ужасное, неслыханное, противоестественное явление, — пока я сплю, умерший перестает быть мертвым, усопший возвращается к жизни! Он здесь, рядом со мной, это его длинные черные волосы, его бледное, мужественное, дышащее благородством лицо. Он здесь, я говорю с ним, протягиваю к нему руки, восклицая:
— Но ты жив! Любишь ли ты меня по-прежнему?
И он отвечает мне: да, он все еще жив и любит меня.
И то же видение, постоянное, неотвратимое, почти осязаемое, является каждую ночь, исчезая лишь с первыми утренними лучами.
Ах, Боже мой, чего я только не делала, чтобы это видение — без сомнения, дело рук ангела тьмы — перестало истязать меня!
Я покрывалась освященными веточками самшита, обвивала четками шею и запястья, клала на грудь распятие и засыпала, соединив руки на подножии креста божественного мученика — все было тщетно, бесполезно, бесплодно: день возвращает меня Богу, а ночь — ему, умершему; так та царица, о которой нам поведал Гомер, каждую ночь распускала сотканное ею за день.
Если не станет ночи — не станет снов, не станет видений, — может быть, я забуду о прошлом.
Можете ли Вы добиться от Бога такой милости для меня?
IX
14 мая.
Всего, что только можно выпросить у Бога в молитвах, я добьюсь для Вас, потому что Вы действительно ранены, и рана Ваша глубока и кровоточит.
Будем молиться.
X
15 мая.
Не знаю, стала ли я спокойнее с тех пор, как переписываюсь с Вами, но Ваши письма облегчают мою душу.
В мою жизнь вошла большая радость. У меня не было родных, я была одинока и в духовном, и в телесном мире; то склоняясь над могилой, то плача, я постоянно пребывала в отчаянии, и вот я неожиданно обрела брата.
Мне кажется, что Вы для меня брат, что я прежде не знала этого брата, покинувшего Францию еще до моего рождения, но постоянно искала и ждала его. Теперь он вернулся, теперь, не появляясь передо мною, он со мной говорит. Не видя его, я внимаю ему. Не прикасаясь к нему, я слышу его.
Вы не представляете себе, насколько занимает мои мысли этот пейзаж, так блестяще изображенный Вашим пером. Пусть не оспаривают люди тайны второго зрения: оно существует. Усилием своей воли я перенесла к себе воссозданный Вами вид, он отражен в моем воображении как в зеркале. Я вижу все — от розовой утренней дымки, подымающейся за холмами, до сгущения серых теней вечера; я слышу все — от шороха раскрывающейся чашечки цветка, пьющего утреннюю росу, до соловьиного пения, длящегося в одиночестве и безмолвии ночи.
И вижу все это так ясно, что, окажись я внутри круга, обнимаемого Вашим взглядом, я могла бы сказать: «Вот облитые пламенем холмы, вот снежные горы, вот серебряные ручьи, вот атласные реки, вот гранатовые деревья, олеандры, мирты! Это здесь, здесь!»
Еще я вижу Ваш скит, виднеющийся из-за стен сада, окно, затененное жасмином и виноградом; вижу Вас в белой келье: вы преклонили колени перед Вашим прекрасным распятием и молитесь о себе, а еще более — обо мне.
Скажите мне, кто тот король, чей портрет Вы храните в своей келье, кто тот король, кого Вы особенно почитаете? Я тоже повешу у себя его портрет, и у нас появится общая святыня.
А еще я хотела бы увидеть Вас… О, не бойтесь — только мысленно. Вы сказали мне, что прошедшее для Вас не существует и что я могу спрашивать только о настоящем и о будущем.
Оставим прошлое небытию, и скажите мне, сколько Вам лет? Из каких черт сложить мне похожее на Вас изображение? Скажите мне, давно ли Вы в Вашей обители? И когда собираетесь окончательно проститься с мирской жизнью?
Я хотела бы знать еще, далеко ли Вы от меня, можно ли вычислить это расстояние?
Вы кажетесь мне таким добрым, что я не боюсь наскучить Вам. Вы кажетесь мне таким сведущим, что я могу спрашивать Вас о чем угодно.
Я буду думать о том, что прочту в Вашем письме, а когда получу его, буду думать о том, что в нем прочла.
Лети, милая голубка, лети и возвращайся скорее!
XI
15 мая, ровно три часа пополудни.
Как видите, я сумел не только дать работу Вашему уму, но и на мгновение развлечь Ваше сердце.
Душу можно врачевать так же, как лечат тело: заставьте больного забыть на минуту о его страданиях, и в течение этой минуты он не будет страдать.
Вы хотите, чтобы я рассказал Вам о себе, хотите знать, есть ли в физическом и духовном облике живого и незнакомого Вам человека что-то от любимого Вами мертвого — что ж, слушайте.
Я родился в Фонтенбло 1 мая 1607 года, стало быть, сейчас мне тридцать лет и четырнадцать дней.
У меня темные волосы, бледное лицо, высокий лоб, голубые глаза; я высокого роста.
Удалившись от мира 17 января 1633 года, я дал обет, если мою участь не изменят некоторые обстоятельства, посвятить себя Богу по истечении пяти лет моего затворничества.
Из мира я ушел вследствие большой политической катастрофы, погубившей самых близких моих друзей, из-за разбившей мне сердце душевной боли.
Монарх, чье изображение я храню в своей келье и которого особенно чту, — король Генрих IV.
Вы хотите узнать, далеко ли мы друг от друга? Сейчас без нескольких минут три часа; я помечу письмо тремя часами ровно, и в это время выпущу голубку.
Голуби пролетают от пятнадцати до шестнадцати льё в час, (у меня был случай узнать это, прибегнув к их услугам). Заметьте час, когда Вы получите это письмо, и сосчитайте.
Не отвечайте мне прежде двух или трех дней, употребите это время на то, чтобы строить химеры или осознавать действительность. Затем излейте на бумагу, бедная затворница, все, что произведет Ваш ум, и пришлите мне плод Ваших поисков, порождение Ваших грез.
Да пребудет с Вами Господь!
XII
15 мая, через два часа после получения Вашего письма.
Послушайте! Послушайте! Я должна ответить Вам не через два, не через три дня, а немедленно.
Боже мой! Какая безумная мысль завладела моим разумом, моим сердцем, моей душой! Что, если мой любимый не умер? Если Вы — тот, кого я люблю, кого зову, кого я ищу, кто каждую ночь является ко мне!
Вы родились 1 мая 1607 года — он тоже! Вы высокого роста — он тоже! У Вас темные волосы — у него тоже! У Вас голубые глаза, бледное лицо, высокий лоб — то же и у него!
Теперь вспомните слова, написанные Вами прежде в другом письме ко мне, они живы в моей памяти: Вы падали с вершин земной славы, Вы не дрогнули от свиста топора, сносившего головы вокруг Вас, в своем падении Вы потеряли почти королевство.
Не знаю, насколько все это применимо к Вам, но все это — Боже мой! Боже мой! — сказано словно о нем.
Вы храните в своей келье портрет почитаемого и любимого Вами короля. Это изображение Генриха IV! А он — он был сын Генриха IV!
Если Вы не Антуан де Бурбон, граф де Море, которого считали убитым в битве при Кастельнодари, тогда кто же Вы?
Ответьте! Во имя Неба, ответьте!
XIII
16 мая, на рассвете.
Если Вы не Изабелла де Лотрек, которую я считал неверной, то кто же Вы?
Я Антуан де Бурбон, граф де Море, которого считали убитым в битве при Кастельнодари, но который все еще жив, хотя и не милостью, а отмщением Господним.
О, если все так, как я опасаюсь, горе нам обоим!
Голубка ночью заблудилась или, может быть, устала и принуждена была остановиться.
Она прилетела только с первыми лучами солнца.
XIV
16 мая, семь часов утра.
Да, да, да, несчастный! Да, я Изабелла де Лотрек!
Вы считали меня неверной, меня! Как? Почему? За что? Я больше не защищаюсь, я обвиняю.
Знаете ли Вы, что голубке достаточно двух часов, чтобы попасть от Вас ко мне или от меня к Вам? Знаете ли Вы, что, стало быть, нас разделяют всего тридцать льё?
Теперь скажите, каким образом я обманула Вас? В чем мое предательство? Говорите, говорите!
Лети, голубка, ты несешь мою жизнь!
XV
16 мая, одиннадцать часов.
Обманули ли меня одновременно мои глаза, мое сердце и моя душа?
Была ли та, которую я видел входящей в кафедральный собор Баланса 5 января 1633 года, Изабелла де Лотрек?
Не было ли на ней подвенечного платья? И не следовал ли за ней в одежде жениха виконт Эмманюэль де Понтис?
Или все это внушено было мне злым духом?
Никаких сомнений, никаких колебаний, никаких недомолвок!
Молчание или доказательства!
XVI
16 мая, три часа пополудни.
Доказательства? Что ж, мне легко дать их Вам.
Все, что вы видели, казалось правдой, и все же то, что представилось Вашим глазам, правдой не было.
Но мой рассказ будет долгим. Что ж, тем лучше! Наша бедная голубка совсем измучена и нуждается в отдыхе.
У нее ушло четыре часа вместо обычных двух на то, чтобы вернуться.
Я буду писать часть ночи.
Господи Боже мой! Помоги мне немного успокоиться: моя рука так дрожит, что я не могу держать перо.
Боже мой! Благодарю тебя за то, что мой возлюбленный жив!
Шесть часов вечера.
Три часа я молилась, став на колени, прижав пылающий лоб к ледяным плитам, и теперь немного успокоилась.
Я снова обращаюсь к Вам.
Позвольте мне рассказать Вам все — начиная с той минуты, как мы расстались с Вами в Балансе, и до той, когда я, несчастная, произнесла свой обет.
Это было — Вы ведь прекрасно помните, не правда ли? — это было 14 августа 1632 года. В этот день мы разлучились. Вы прострись со мной, не сказав, куда отправляетесь.
Я была полна мрачных предчувствий и никак не решалась выпустить из рук край Вашего плаща. Вы обещали вернуться через несколько дней, но мне казалось, что наша разлука будет вечной.
Часы на городской церкви пробили одиннадцать вечера. Вы сели на белого коня, на Вас был темный плащ. Сначала Вы ехали медленно и трижды возвращались, чтобы проститься со мной. Вернувшись в третий раз, Вы заставили меня войти в дом, сказав, что, пока я стою на пороге, Вы не в силах уехать.
Почему я ушла в дом? Зачем Вы уехали?
Я ушла в дом, но сразу же выбежала на балкон моей комнаты. Вы оглядывались назад, Вы видели, как я машу платком, насквозь промокшим от слез, Вы приподняли шляпу с развевающимися перьями, и ко мне донеслось на крыльях ветра Ваше прощальное слово, издалека прозвучавшее слабо и жалобно, словно вздох.
Большая черная туча быстро плыла по небу навстречу луне. Я протянула к ней руки, желая остановить ее, ведь она должна была погасить серебристое сияние, при свете которого я все еще видела Вас. Наконец небесное чудовище приблизило свою отверстую пасть, поглотило бледную богиню, и она скрылась в его темной утробе. Тогда я опустила глаза с небес на землю и тщетно Вас искала: еще слышен был стук подков о мостовую, удалявшийся в сторону Оранжа, но Вас уже не было видно.
Внезапно молния расколола тучу и при ее свете я снова увидела Вашего белого коня. Ваш темный плащ сливался с мраком ночи, и казалось, что конь удаляется без седока. Блеснули еще две молнии, показав мне белевшую, словно призрак, лошадь, которая продолжала быстро удаляться. Уже несколько секунд я не слышала стука копыт. Сверкнула четвертая молния, прогремел гром, но светлое видение исчезло: Вы скрылись за поворотом дороги или были уже слишком далеко.
Всю ночь рокотал гром, всю ночь в мои окна стучались ветер и дождь. На следующее утро вся природа, жалкая, растрепанная и томная, казалось, вместе с моим сердцем облачилась в траур.
Я знала, что происходило там, в Лангедоке, куда Вы умчались. Правивший там де Монморанси, Ваш друг (как говорили, он принял сторону изгнанной королевы-матери и Месье, только что проехавшего всю Францию, чтобы присоединиться к герцогу), поднял в провинции восстание и собирал войска, чтобы выступить против короля и против г-на де Ришелье.
Находясь на службе у одного своего брата, Вы должны были сражаться против другого. Вы рисковали головой, обнажив шпагу — что было куда опаснее! — против грозного кардинала де Ришелье, который снес уже столько голов и сломал столько шпаг!
Как Вы знаете, мой отец был в Париже, при короле. Я уехала с двумя служанками, сказав, что хочу навестить тетушку, настоятельницу монастыря в Сен-Понсе, но на самом деле для того, чтобы быть ближе к театру событий, на котором Вы собирались выступать.
Расстояние от Баланса до Сен-Понса я преодолела за неделю и прибыла в монастырь 23 августа.
Монахини не имеют обыкновения вмешиваться в мирские дела, но разыгравшиеся рядом с ними события были настолько серьезны, что служили постоянным предметом всех разговоров, и монастырские служители были непрестанно в поисках новостей.
Вот что они узнали.
Говорили, что брат короля, его высочество Гастон Орлеанский, объединился с маршалом-герцогом де Монморанси и привел ему две тысячи человек, набранных в Трирском княжестве. Вместе с четырьмя тысячами, что были у г-на де Монморанси, это составляло шеститысячную армию.
С этими шестью тысячами он удерживал Лодев, Альби, Юзес, Алес, Люнель и Сен-Понс, где я находилась. Ним, Тулуза, Каркасон и Безье, хотя и населенные протестантами, отказались присоединиться к нему.
Еще говорили, что против армии герцога де Монморанси выступили две армии. Одна из них шла через Пон-Сент-Эспри под командованием маршала де Шомберга.
Кроме того, кардинал считал необходимым присутствие Людовика XIII вблизи театра военных действий. Уверяли, что король уже прибыл в Лион. В письме, полученном мной из Баланса, эта новость подтверждалась; кроме того, в нем сообщалось, что мой отец, барон де Лотрек, был при его величестве.
Это письмо было от моего отца, сообщавшего мне, что он и его давний друг, граф де Понтис, решили еще более укрепить узы родства и дружбы, связывающие наши семьи, обвенчав меня с виконтом де Понтисом. Помните, я говорила Вам прежде об этом задуманном браке, и Вы тогда ответили мне: «Дайте мне еще три месяца. За это время могут произойти важные события, измениться многие судьбы. Подождите еще три месяца, и я буду просить Вашей руки у барона де Лотрека».
Таким образом, к моим испытаниям — знать, что Вы среди тех, кого мой отец называл мятежниками, — прибавился страх увидеть рождение взаимной ненависти между Вашим домом и домом моего отца. Отец был до того предан королю, что поклонялся не только ему, но и кардиналу. Он каждый день повторял то, что король произносил раз в неделю: «Кто не любит господина кардинала, тот не любит короля».
23 августа герцог де Монморанси был лишен всех прав состояния, его имущество было конфисковано, и Тулузскому парламенту был дан приказ начать против него судебный процесс.
На следующий день распространился слух, что та же участь ожидает и г-на де Риё, и Вас, хотя Вы сын короля.
Судите сами, как терзали мое сердце все эти слухи!
24 августа через Сен-Понс проехал тайный агент кардинала: по слухам, он должен был предложить мир герцогу де Монморанси.
Я уговорила тетушку предложить ему подкрепиться. Он принял приглашение и на минуту остановился в монастырской приемной. Я видела его и говорила с ним. Слухи подтвердились. У меня появилась надежда.
Эта надежда еще больше укрепилась, когда я узнала, что архиепископ Нарбонский, личный друг г-на де Монморанси, приезжал в Каркасон с той же целью — добиться, чтобы маршал-герцог сложил оружие. Предложения, которые он уполномочен был передать губернатору Лангедока, были вполне приемлемыми для чести г-на де Монморанси и даже выгодными для его состояния.
Вскоре распространился слух, что маршал-герцог на все предложения отвечал отказом.
Что же касается Вас, то Вы, конечно, понимаете: о Вас говорилось много, и это было для меня источником и радости и страха. Рассказывали, будто кардинал лично писал к Вам, но Вы ответили ему, что давно дали слово Месье и только Месье может вернуть Вам его.
Увы! Месье, трус и себялюбец, не вернул его Вам.
29 августа мы узнали, что войска г-на де Шомберга и г-на де Монморанси стоят друг против друга.
Старый маршал все же помнил о том, что г-н де Ришелье всего лишь министр и может потерять свой пост, что король только человек и может умереть. Тогда королем Франции станет наследный принц — Месье, против которого он сейчас выступает. Шомберг сделал последнюю попытку мирно договориться с Месье и направил к нему г-на де Кавуа.
Все это было нам известно. Я жила только надеждой, которую черпала у Небес, и в тревоге ожидала окончательного ответа г-на де Монморанси.
Не знаю, что им двигало: высокомерие или отчаяние, но ответ этого несчастного Вам известен: «Сразимся, а после сражения начнем переговоры».
С тех пор исчезла всякая надежда на примирение, и, поскольку единственным Вашим спасением была бы победа герцога де Монморанси, я, забыв о дочернем долге и о долге подданной, молилась, простершись у алтаря, чтобы Бог воинств бросил благожелательный взгляд на героя Веллано и сына героя Иври.
С тех пор я ждала только одного известия: о начале битвы.
Увы! Первого сентября в пять часов вечера мы получили страшную, роковую, безнадежную весть.
Сражение было проиграно, маршал-герцог был взят в плен, а о Вас одни говорили, что Вы получили смертельное ранение, другие — что Вас нет в живых…
Я больше ни о чем не спрашивала, а послала за садовником, с которым договорилась заранее, велела ему достать двух лошадей и с наступлением темноты ждать меня у ворот сада.
Как только стемнело, я вышла. Мы сели на лошадей. Двигаясь вдоль цепи гор, мы пересекли два или три горных ручья, оставили слева деревушку Ла-Ливиньер и около восьми часов вечера остановились в Коне.
Моя лошадь поранила ногу и захромала: пришлось заменить ее свежей; пока ее седлали, я осведомилась о новостях.
Мне сказали, что г-н де Монморанси убит, так же как и г-н де Риё. О Вас известия все еще оставались неясными: или Вы смертельно ранены, или убиты.
Умирающему я хотела закрыть глаза, убитого — завернуть в саван.
Мы выехали из Кона в половине девятого вечера и напрямик, без дороги, направились в Монтольё (садовник был из Сессака и хорошо знал эти места).
Погода была совершенно такая же, как в ту ночь, когда мы расстались: по небу неслись большие черные тучи, в ветвях олив свистел грозовой ветер — горячий, душный, тяжелый. Время от времени ветер прекращался и с неба отвесно падали крупные капли дождя. За Кастельнодари гремел гром.
Не останавливаясь, мы проехали Монтольё. Перед этим городком нам встретились первые посты г-на де Шомберга.
Возобновив свои расспросы, я узнала, что бой завязался в одиннадцать часов утра и длился около часа. Убитых было не более ста человек.
Я пыталась узнать, не найдено ли Ваше тело. Один разведчик рассказывал, что видел, как Вы упали. Я попросила позвать его. Он действительно видел, как упал офицер, но не был уверен в том, что это были именно Вы. Я хотела взять его с собой, однако он был в карауле и не мог пойти.
Он рассказал садовнику все, что ему было известно. Именно граф де Море начал сражение и, если он был убит, то капитаном стрелков по имени Битеран.
Все эти подробности я слушала охваченная ледяной дрожью; мне так теснило грудь, что я не могла говорить, и большие капли пота, смешиваясь со слезами, текли по моему лицу.
Мы снова двинулись в путь. За пять часов мы проделали двенадцать — тринадцать льё; сменив лошадь в Коне, я могла добраться до Кастельнодари, а если бы пала лошадь под садовником, он продолжил бы путь, держась за гриву моей.
Покинув Монтольё, мы въехали в охраняемый лес, назвали свои имена часовым, и они отвели нас к берегу речки Вернасон. Мы перешли ее вброд, а также еще два ручья, встретившиеся потом на нашем пути.
Между Ферралем и Виллеспи конь под садовником упал и не смог подняться, но, к счастью, мы почти добрались до места: были видны биваки королевской армии и блуждающие огни на равнине, где произошла битва.
Мой спутник сказал мне, что эти огни, без сомнения, факелы солдат, готовящихся хоронить убитых. Я попросила его сделать последнее усилие и не отставать от меня, вонзила шпоры в бока моей лошади, готовой упасть, и вскоре последний костер лагеря остался позади.
Только мы проехали деревню Сен-Папуль, оставив ее справа, как моя лошадь встала на дыбы.
Я наклонилась и увидела на земле бесформенную груду: это был убитый солдат.
Наткнувшись на первый труп, я соскочила с коня и отпустила его.
Мы были на месте.
Садовник побежал к ближайшей группе солдат с факелами; я осталась ждать его, сев на пригорке.
Небо все еще было затянуто черными тучами, гром все рокотал на западе, молнии время от времени озаряли поле битвы.
Садовник вернулся с факелом и в сопровождении нескольких солдат.
Он застал их за рытьем большой ямы, куда они собирались сбросить все трупы, но пока еще не сбросили ни одного.
Здесь я получила более верные сведения.
Господин де Монморанси, хоть и получивший двенадцать ран, не убит, а только взят в плен. Его отнесли на ферму, расположенную в четверти льё от места сражения; он исповедался священнику г-на де Шомберга, затем полковой лекарь легкой конницы перевязал его и на носилках отправил в Кастельнодари.
Господин де Риё убит, тело его найдено.
Вас видели, когда Вы падали с коня, но никто не мог сказать, что с Вами стало потом.
Я попросила точно указать место, где Вы упали. Солдаты ответили, что это было там, где устроили засаду, и в свою очередь спросили, кто я.
«Посмотрите на меня, — ответила я, — и вы догадаетесь».
Рыдания душили меня, по моему лицу струились слезы.
«Бедняжка, — сказал один из них, — она его любит».
Я схватила этого человека за руку и готова была расцеловать его.
«Пойдем со мной, — попросила я его, — и помоги мне его найти, живого или мертвого».
«Мы поможем вам», — сказали двое или трое других.
Затем они велели одному из них идти вперед.
Тот, кого они выбрали нашим проводником, взял факел и стал нам светить.
Я шла за ними.
Один из них предложил мне опереться на его руку.
«Спасибо, — ответила я, — у меня достаточно сил».
В самом деле, я не чувствовала никакой усталости, мне казалось, что я могла бы идти на край света.
Мы прошли три сотни шагов, и через каждые десять шагов лежали мертвые тела, у каждого я хотела остановиться, чтобы посмотреть, не Вы ли это, но солдаты тянули меня вперед, говоря:
«Это было не здесь, сударыня».
Наконец мы подошли к дороге в овраге, над которым поднимались верхушки олив; по дну его бежал ручей.
«Вот здесь», — сказали солдаты.
Я провела рукой по лбу; у меня подкосились ноги, и мне казалось, что я вот-вот упаду без чувств.
Мы начали свои поиски сверху; там была дюжина трупов. Я взяла факел из рук того, кто его нес, и склонилась к земле.
Один за другим я осмотрела все трупы. Двое лежали вниз лицом. Один из них был офицер, у него были черные волосы, как у Вас, и я попросила перевернуть его на спину, отвела ему волосы от лица: это были не Вы.
Вдруг я закричала: наклонившись, я узнала Вашу шляпу и подняла ее. Ошибки не могло быть: перья на ней в свое время были прикреплены мною.
Вот здесь Вы упали, но я все еще не знала, убиты Вы или ранены.
Сопровождавшие меня солдаты тихо переговаривались между собой. Один из них показал рукой на ручей.
«О чем вы говорите?» — спросила я.
«Мы говорим, сударыня, — ответил этот солдат, — что раненые, особенно если рана огнестрельная, обычно просят пить. Если граф де Море только ранен, он, может быть, пытался напиться из ручья, который течет в глубине этого оврага».
«О, вы дали мне надежду! — воскликнула я. — Идемте!»
И я побежала через оливковую рощу.
Спуск оказался крутым, но я этого не замечала. Церера, с факелом в руке искавшая Прозерпину, хоть и была богиней, не могла бы двигаться быстрее и увереннее, чем это делала я.
В один миг я оказалась на берегу ручья.
В самом деле, несколько раненых попытались добраться до него. Один умер по дороге. Второй дотянулся до ручья рукой, но дальше двигаться не смог. Третий лежал головой в ручье: он умер, уже когда начал пить.
Один из них еще дышал.
Я поспешила к нему. Это был тот человек, что дотянулся рукой до воды, но не смог напиться. Он был без сознания.
Свежесть ночи, а может, чудо привели его в себя.
Я опустилась на колени, посветила ему в лицо своим факелом и не удержалась от крика: это был Ваш слуга Арман.
Услышав крик, он открыл глаза и растерянно стал смотреть на меня.
Мое лицо, видно, казалось ему знакомым.
«Пить!» — попросил он.
Я зачерпнула воды Вашей шляпой и протянула ему. Один из солдат остановил меня.
«Не давайте ему пить, — сказал он мне на ухо. — Иногда раненые, начав пить, умирают».
«Пить!» — повторил умирающий.
«Сейчас вы получите воду, — сказала я ему, — только расскажите мне, что стало с графом де Море».
Он посмотрел на меня еще пристальнее, чем раньше, и узнал меня.
«Мадемуазель де Лотрек!» — пробормотал он.
«Да, Арман, и я ищу вашего господина. Где он, где же он?»
«Пить», — слабеющим голосом просил раненый.
Вспомнив, что у меня в кармане есть флакон с мелиссовой водой, я достала его и смочила умирающему губы.
Казалось, он немного ожил.
«Во имя Неба, скажите, где он?» — спросила я.
«Я не знаю».
«Вы видели, как он упал?»
«Да».
«Он убит или ранен?»
«Ранен».
«Что с ним сделали?»
«Его унесли».
«Куда?»
«В сторону Фандея».
«Люди короля или люди господина де Монморанси?»
«Господина де Монморанси».
«Что было дальше?»
«Больше ничего не знаю. Сам я был ранен, мой конь убит, и я упал. Когда стемнело, я пополз сюда, потому что хотел пить, у ручья потерял сознание, не добравшись до воды. Пить! Пить!»
«Теперь дайте ему воды, — сказал солдат. — Он сказал все, что знал».
Солдаты приподняли раненому голову; набрав воды в Вашу шляпу, я поднесла ее к его губам. Он жадно глотнул три или четыре раза, затем откинулся назад, вздохнул и вытянулся.
Он был мертв.
«Видите, вы правильно поступили, — сказал солдат, — заставив его говорить прежде чем дали ему воды».
Он выпустил из рук голову Армана, и она тяжело ударилась о землю.
С минуту я стояла неподвижно, в беспамятстве ломая руки.
«Что нам теперь делать, сударыня?» — спросил меня садовник.
«Знаешь ли ты, где находится Фандей?»
«Да».
«Идем в ту сторону».
Затем, обернувшись к солдатам, я спросила, кто из них хочет пойти со мной.
«Мы!» — в один голос ответили все трое.
«Идемте же».
Мы поднялись по склону оврага и вышли на поле.
Офицер и дюжина солдат делали обход. Мои спутники переглянулись и тихо о чем-то зашептались.
«О чем вы говорите?» — спросила я.
«Мы считаем, что этот офицер может дать вам сведения».
«Который?»
«Вот этот».
И они указали мне на капитана, который вел дозор.
«А почему именно он?»
«Потому что он здесь сражался».
«Тогда подойдем к нему».
И я быстро пошла в его сторону.
Один солдат остановил меня.
«Но, — сказал он, — дело в том…»
«Почему вы не пускаете меня?» — спросила я.
«Вы хотите любой ценой раздобыть сведения?»
«Любой ценой».
«Все равно от кого?»
«Да».
«Тогда я позову капитана».
Подойдя к капитану поближе, он его окликнул:
«Капитан Битеран?»
Офицер остановился, всматриваясь в темноту.
«Кто меня зовет?» — спросил он.
«С вами хотят поговорить, мой капитан».
«Кто хочет?»
«Дама».
«Дама! В такой час, на поле боя?»
«Почему бы и нет, сударь, если эта женщина пришла искать на месте сражения своего возлюбленного, чтобы выхаживать его, если он ранен, или похоронить, если он убит».
Офицер подошел. На вид ему было лет тридцать. Он снял передо мной шляпу, и я увидела спокойное и благородное лицо, обрамленное светлыми волосами.
«Кого вы ищете, сударыня?» — спросил он меня.
«Антуана де Бурбона, графа де Море», — отвечала я.
Офицер посмотрел на меня с еще большим, чем прежде, вниманием. Затем, слегка побледнев, он изменившимся голосом спросил:
«Графа де Море? Вы ищете графа де Море?»
«Да, графа де Море. Эти славные люди сказали мне, будто вы лучше кого-либо другого знаете, что с ним случилось».
Он посмотрел на солдат, и его глаза под сдвинувшимися бровями сверкнули как две молнии.
«Но, мой капитан, — сказал один из них, — кажется, это жених этой девушки, и она хочет узнать, что с ним стало».
«Сударь, во имя Неба! — воскликнула я. — Вы видели графа де Море, вы что-то знаете о нем, скажите мне все, что вам известно».
«Сударыня, я расскажу вам все, что мне известно. Я был послан с ротой легкой конницы прикрыть засаду в овраге. После первого залпа мы должны были отступить, завлекая врага в ловушку. Господин граф де Море, желавший проявить свою храбрость, поскольку это было его первое сражение, бросился вперед и для начала выстрелил из пистолета в… право же, сударыня, не вижу, к чему мне это скрывать… выстрелил в меня. Пуля срезала перо с моей шляпы. Я ответил, и, к несчастью, мой выстрел был более метким.
У меня вырвался крик ужаса.
«Это вы?» — я отступила на шаг.
«Сударыня, — сказал капитан, — это был честный бой. Я считал, что передо мной всего лишь простой офицер армии маршала-герцога. Конечно, если бы я знал, что это принц, к тому же сын Генриха Четвертого, я скорее позволил бы ему распоряжаться моей жизнью, чем покушался бы на его жизнь. Но только когда он упал с криком “Ко мне!”, я понял, что произошло большое несчастье».
«О да! — воскликнула я. — Большое несчастье. Но скажите мне, он умер?»
«Не знаю, сударыня, в это время завязалась перестрелка. Мои конники, исполняя полученный приказ, начали отступление. Я отступал вместе с ними и видел, как уносили графа — окровавленного и с непокрытой головой».
«Вот его шляпа!»
И я горячо поцеловала ее.
«Сударыня, — с непритворной болью сказал капитан, — располагайте мной. Став причиной такой беды, как могу я — нет, не искупить свою вину — хотя бы принять участие в ваших поисках? Прикажите, и я все на свете сделаю, чтобы помочь вам».
«Благодарю вас, сударь, — ответила я, стараясь сохранить спокойствие, — но мне ничего от вас не надо, только покажите, в какую сторону унесли графа».
«В сторону Фандея, сударыня. Чтобы не ошибиться, пройдите четверть льё по дороге, которую увидите справа через сто шагов. Там вы найдете дом, где сможете получить сведения».
«Хорошо, — сказала я и обратилась к садовнику: — Вы все поняли?»
«Да, госпожа».
«Идемте!».
«Я могу дать вам лошадей», — несмело предложил капитан.
«Благодарю вас, сударь, — ответила я. — Я узнала у вас все, что хотела знать, и вы оказали мне все услуги, какие могли оказать».
Я разделила между тремя солдатами горсть луидоров.
Двое из них ушли, но третий непременно хотел проводить меня до указанного дома.
Быстро направившись к нему, я все же не смогла воспротивиться желанию в последний раз поклониться земле, освященной Вашей кровью, и, обернувшись, увидела, что капитан, не в силах сдвинуться с места, стоит там, где мы расстались, и смотрит мне вслед.
Мы подошли к дому. Вдоль дороги лежали трупы, но я уже привыкла к такому зрелищу и шла твердо, почти не обходя их. Окровавленная трава доходила мне до колен.
Мы вошли в дом: он был занят ранеными обеих воюющих сторон; все они лежали на разостланной соломе. Оказавшись в этой юдоли скорби, я стала расспрашивать умирающих и всматриваться в мертвых. В ответ на мои настойчивые просьбы один из раненых приподнялся, опираясь на локоть.
«Граф де Море?» — переспросил он. — Я видел, как его увезли в карете Месье.
«Мертвого или раненого?» — спросила я.
«Он был ранен, — сказал умирающий, — но, как и я, ничем не лучше мертвого».
«Господи! — воскликнула я. — Но куда его повезли?»
«Не знаю, я услышал только имя, которое он назвал».
«Чье имя?»
«Госпожи де Вентадур. Карета свернула на проселочную дорогу».
«Да, понимаю: он попросил отвезти его к госпоже де Вентадур, в аббатство Пруй, вот что это значит. Спасибо, друг мой».
Я оставила рядом с ним несколько луидоров и вышла, сказав садовнику:
«Идем в аббатство Пруй».
До этого аббатства было примерно два льё. Конь садовника пал от усталости, мой остался на поле сражения. Карету или хотя бы повозку достать было невозможно, впрочем, поиски отняли бы много времени. Я не чувствовала усталости, и мы отправились пешком.
Не прошли мы и четверти льё, как начался дождь и разразилась собиравшаяся до тех пор гроза. Но я была с Вами: не замечала дождя, не слышала грома и продолжала путь среди потоков воды, при свете молний, иногда сверкавших так, что все кругом было видно словно днем. Мы прошли мимо большого дуба. Садовник уговаривал меня остановиться ненадолго и переждать грозу в укрытии, под этим дубом. Я только покачала головой, не отвечая, и продолжала идти. Минутой позже в дуб попала молния, превратившая его в груду обломков, а затем испепелившая их.
Я только показала садовнику на это рукой.
«Да, сударыня, — сказал он, — само Небо охраняет вас, раз Бог дает вам силы, идемте».
Мы шли еще около часа и вскоре увидели при свете молний стены монастыря. Я ускорила шаг, и вот мы на месте.
В монастыре все спали или делали вид, что спят. Позже мне стал казаться подозрительным такой глубокий сон привратницы, сестер и самой настоятельницы.
Наконец, с тысячью предосторожностей, мне открыли. Конечно, они слышали, как мы стучим, но боялись, что это окажется какой-нибудь заблудившийся отряд или банда грабителей. Я поспешила представиться и осведомиться о Вас.
Сестра-привратница меня не понимала. Она уверяла, что не только не видела Вас, но даже не знала, что Вы ранены.
Я попросила разрешения говорить с г-жой де Вентадур.
Меня привели к ней.
Я застала ее на ногах: она поспешила одеться, чтобы узнать причину шума, вызванного нашим приходом. Мне показалось, что она бледна и дрожит.
Она объяснила эту бледность и эту дрожь испытанным ею страхом, когда, услышав стук, она решила, что пришли солдаты с недобрыми намерениями.
Успокоив ее, я рассказала ей обо всем: как покинула Сен-Понс, как пришла на место сражения, как отыскала место, где Вы упали; показала ей Вашу шляпу, которую все еще сжимала в руке; повторила ей то, что услышала от умирающего, и умоляла во имя Неба сообщить мне все, что ей известно о Вас.
Она ответила, что меня, должно быть, обманули, а может, карета с раненым, не доехав до аббатства, свернула с дороги вправо или влево; сама она Вас не видела и ничего о Вас не знает.
Уронив руки, я опустилась на стоявшую рядом кушетку: силы оставили меня вместе с надеждой.
Настоятельница позвала своих служанок; с меня сняли прилипшее к телу мокрое платье. Мои туфли застряли в грязи на дороге, и, не заметив этого, я больше льё прошла босиком. Мне приготовили ванну, и я почти в беспамятстве погрузилась в нее.
Я пришла в себя, услышав, что говорят о какой-то карете, свернувшей после сражения к Мазеру. Сведения эти были получены от крестьянина, который вечером принес в монастырь молоко.
Настоятельница предложила мне свою карету и своих лошадей, чтобы я могла, если хочу, продолжить поиски.
Я согласилась.
Тогда мне принесли одежду: уже светало, и я хотела, не теряя ни минуты, продолжать путь. Было вероятным предположение, что Вы приказали везти Вас в Мазер, поскольку этот укрепленный замок, как говорили, был на стороне г-на де Монморанси.
Госпожа де Вентадур отпустила со мной своего кучера, и мы уехали.
По пути мы осведомлялись о Вас в Вильнёв-лё-Конта, в Пера, в Сент-Камеле, но во всех трех деревнях не только ничего не видели, но даже не слышали о сражении при Кастельнодари.
Тем не менее мы продолжили путь до Мазера, где можно было узнать что-то определенное: ворота там охранялись, и это была стража г-на де Монморанси, стало быть, незачем было скрывать присутствие графа де Море в крепости.
Мы приблизились к воротам и узнали, что здесь никакой кареты не видели, никто не знал, что граф де Море был ранен и вообще первое известие о битве при Кастельнодари принесли мы.
Вскоре мы смогли убедиться в правдивости этого ответа: прискакавший во весь опор офицер объявил от имени Месье, что все потеряно, г-н де Монморанси в плену, г-н де Риё ранен, и теперь каждый должен сам заботиться о себе.
С этой минуты никому не было дела до нас и на наши вопросы больше не отвечали.
Я безнадежно потеряла Ваш след! Мы стали вести свои поиски наугад, описав большой круг около театра военных действий, как делают охотники, выслеживая дичь. В Бельпеше, Каюзаке, Фанжо, Альзоне, Конке, Перьяке — ни в одном из этих мест не удалось отыскать следов Вашего пребывания. Ваша карета, подобно видению, растаяла на пути от Фандея в аббатство.
В Перьяке я встретила управляющего нашим домом в Балансе. Мой отец сообщал, что собирается провести в замке два-три месяца. Меня начали искать, умоляли вернуться.
Через три недели поисков, потеряв всякую надежду найти Вас, я вернулась в замок.
Мой отец приехал туда на следующий день. Я была при смерти.
Все в замке так оберегали меня, что по приказу управляющего никто и словом не обмолвился о моей поездке.
Мой отец пришел ко мне, сел на кровать. Вы знаете, какой это строгий и суровый человек. Он знал о моей любви к Вам, о Вашем обещании жениться на мне. Породниться с Вами было для него такой высокой честью, что ради этого он пожертвовал своей мечтой увидеть меня женой виконта де Понтиса, сына своего старинного друга. Но Вы умерли, и эта мысль снова завладела его умом.
Впрочем, Людовик XIII упрекал его в том, что его дочь любит мятежника; ярость короля против Вас усиливало то обстоятельство, что Вы приходились ему братом. Ваше имущество было конфисковано, и, если бы Вы не считались умершим, Вас судили бы так же, как г-на де Монморанси, хотя Вы и сын короля.
Так что Вам посчастливилось пасть в бою!
Капитан, которого я видела и расспрашивала о Вас, этот проклятый мною убийца, чье бледное лицо не однажды являлось в моих снах, — этот убийца спас Вас от плахи.
Я слушала слова отца со скорбью и отчаянием: было видно, что он принял решение. Господин граф де Понтис, сражавшийся под началом маршала де Шомберга, был в почете. Против меня на стороне моего отца были король и кардинал.
И тогда я тоже приняла решение: попросив у отца три месяца отсрочки, пообещала по истечении этого срока, если о Вас не будет известий или если подтвердятся слухи о Вашей смерти, предстать перед алтарем с виконтом де Понтисом.
30 октября был казнен герцог де Монморанси.
Я почти благословляла Вашего убийцу: я умерла бы, если бы Вам пришлось страдать так, как несчастному герцогу.
Сомнений больше не оставалось, все считали Вас убитым. Я овдовела, не успев стать женой!
Три месяца прошли. В последний день данной мне отсрочки мой отец появился в замке с виконтом де Понтисом.
Мне была известна пунктуальность отца и потому не хотелось заставлять его ждать: я встретила его в подвенечном платье.
Пробило одиннадцать; священник ждал нас в церкви. Я встала и взяла отца под руку.
Граф де Понтис с сыном следовали за нами.
За ними шли пять или шесть наших общих друзей, человек двенадцать знакомых и несколько слуг.
Мы направились к церкви.
Отец не говорил со мной, он лишь смотрел на меня, заметно удивляясь моему спокойствию.
Мое лицо, словно у мучеников, идущих на казнь, светлело по мере приближения к месту пытки.
Входя в церковь, я была бледна, но улыбалась: истерзанная бурей, потерпев кораблекрушение, я видела гавань.
Священник ждал нас; мы приблизились к алтарю и опустились на колени. На мгновение я испугалась, что не смогу довести до конца то, что задумала, но всем сердцем возблагодарила Господа, почувствовав себя достаточно сильной.
Священник спросил г-на де Понтиса, берет ли он меня в жены.
«Да», — ответил тот.
Он задал мне тот же вопрос: беру ли я в мужья господина де Понтиса.
«Мой супруг в этом и в ином мире, — ответила я, — это божественный Спаситель Иисус, и у меня никогда не будет другого супруга».
Мой ответ был произнесен спокойно и твердо — так, что каждое слово было услышано всеми присутствующими.
Испуганный г-н де Понтис смотрел на меня как на безумную.
Мой отец сделал шаг вперед.
Я прошла за решетку, отделявшую алтарь, и громко воскликнула, подняв руки к Небу:
«С этой минуты я принадлежу Богу и никто другой не смеет предъявить на меня права!»
«Изабелла! — вскричал мой отец. — Неужели вы посмеете ослушаться меня?»
«Есть власть, более высокая и святая, чем ваша, отец, — почтительно ответила я, — власть того, кто ниспослал мне веру на моем скорбном пути. Отец, я больше не принадлежу земному: молитесь обо мне. Я же стану молиться за всех вас».
Мой отец хотел войти ко мне за решетку и оттащить меня от алтаря, но священник остановил его.
«Горе тому, — сказал он, — кто принуждает в чем-то ближнего или мешает его призванию! Эта девушка посвятила себя Богу, я принимаю ее в доме Божьем как в неприкосновенном убежище, откуда никто, даже ее отец, не вправе увести ее силой».
Может быть, отца не остановила бы эта угроза, но граф де Понтис увлек его за собой. Виконт и все остальные вышли, и дверь за ними закрылась.
Священник спросил меня, куда я хочу удалиться. Я просила отвести меня к урсулинкам.
Мой отец сразу же уехал в Париж, где находился кардинал. Но он смог добиться только отсрочки принятого мною обета на год.
Год прошел. Через год и один день я стала монахиней.
С тех пор минуло четыре года.
За эти четыре года не прошло ни одного дня, чтобы я не молилась за Вас, целуя перья Вашей шляпы, подобранной на поле битвы в Кастельнодари, — единственной памяти о Вас.
Теперь Вы знаете все.
Теперь Ваша очередь: говорите, расскажите мне обо всем подробно. Поведайте, какому чуду Вы обязаны жизнью, объясните, где Вы, как мне увидеть Вас. Рассказывайте скорее или я сойду с ума!
17 мая, четыре часа утра.
XVII
Шесть часов утра, тотчас же по прочтении Вашего письма.
Господь на мгновение отвратил от нас свой взгляд, и в это мгновение темный ангел, пролетая над нами, задел нас крылом.
Теперь Ваша очередь слушать.
Вам известны мои прежние обязательства по отношению к брату Гастону. Впрочем, я считал, что, служа одному брату, помогаю и другому. Мне казалось, что министр давит на короля еще более, чем на всех нас.
Сыновья Франции не могли дольше терпеть это принуждение: кардинал постоянно насиловал волю короля, распоряжался без спроса его печатью, командовал войсками, не считаясь с ним. Содержание его дома за один день обходилось в шесть раз дороже, чем тратили на подобные нужды все дети Генриха IV, вместе взятые, включая того, кто был на троне.
И в то время как он один поглотил больше двухсот миллионов, едва ли треть жителей Франции имела обычный хлеб, еще одна треть довольствовалась овсяными лепешками, а последняя треть, подобно стаду нечистых животных, кормилась желудями.
Ему принадлежало в королевстве не меньше городов и крепостей, чем королю. У него были Бруаж, Олерон, Ре, Ла-Рошель, Сомюр, Анже, Брест, Амбуаз, Гавр, Пон-де-л’Арш и Понтуаз, так что он подступал к воротам Парижа. Он хозяйничал в провинции и в крепости Верден. Помимо войск, стоявших в этих городах и цитаделях, у него был флот. У него были гвардейцы. Все ключи Франции находились в его руках.
Вся Франция не смогла бы, объединившись против него, выставить достаточно сильную армию. В тюрьмах, как в склепах, погребены были истинно преданные королю люди. «Оскорбление величества» означало теперь не преступление против короля или государства, но недостаток усердия и слепого повиновения королевскому министру в исполнении его желаний и замыслов.
Это то, что я должен был сказать Вам прежде всего остального, в этом мое оправдание, только поэтому я оставил Вас ради того, кто позднее отрекся от всех нас, от живых и от мертвых.
Все решил суд над старым маршалом де Марийяком и его казнь. Я переписывался с братом Гастоном и с королевой Марией Медичи (она всегда хорошо относилась ко мне) и решил связать с ними свою судьбу.
Помните ли Вы, как я был печален, как волновался и как прерывался рыданиями мой голос в тот день, когда я говорил Вам о своем будущем, менее надежном, чем у листка, только что появившегося на том дереве, под которым мы сидели, и когда я просил у Вас три месяца отсрочки прежде чем назвать Вас своей женой, хотя день нашей свадьбы должен был стать счастливейшим в моей жизни.
Мне уже были известны все планы моего брата Гастона, и я выступал посредником между ним и несчастным Монморанси.
Вы просите меня рассказать все до мельчайших подробностей. О, мне слишком важно оправдать себя в Ваших глазах, чтобы я мог забыть или пропустить хоть что-нибудь.
Нашими союзниками должны были стать испанцы и неаполитанцы.
После того как Монморанси выступил, неаполитанцы подошли с моря к Нарбону, но не решились высадиться. Что касается испанцев, то они дошли до Урхеля, но не пересекли границу.
Вы видели, как вокруг нарастает возмущение, Вы слышали мятежные крики в Баньоле, Люнеле, Бокере и Алесе. Однажды утром я — и сердце у меня при этом сжалось, ибо это означало нашу разлуку — показал Вам манифест, в котором мой брат Гастон объявил себя главным наместником королевства.
Вскоре Ваш отец получил от короля письмо: ему было приказано вернуться в Париж; из этого письма Вы узнали, что Гастон вернулся во Францию с восемнадцатью сотнями конников, что он сжег предместье Сен-Никола в Дижоне и дома членов парламента, подписавших смертный приговор Марийяку.
Я тоже получил письмо. Мой брат писал мне из Альби и требовал, чтобы я исполнил данное ему обещание.
В тот день, 14 августа 1632 года, я покинул Вас. Это роковая дата, глубокая и страшная отметина и на моем, и на Вашем сердце.
О, в Вашем письме все подробности моего отъезда верны, картина этой ночи правдива.
Только я видел Вас дольше, чем Вы меня: Вы стояли на балконе Вашей освещенной комнаты, я же удалялся в сторону темневшего горизонта.
Но наступила минута, когда за поворотом дороги я перестал Вас видеть.
Тогда в сомнении я остановил коня: не лучше ли мне забыть все свои обещания, все принятые на себя обязательства, принести честь в жертву любви и вернуться к Вам?
Но Вы уже закрыли окно, свет в нем погас, и мне показалось, что Господь велит мне продолжать путь. Я вонзил шпоры в бока моего коня, накинул на голову плащ и устремился в темноту, крича самому себе, чтобы забыться:
«Вперед! Вперед!»
Через день я был в Альби, у брата. Он оставил меня там с пятью сотнями поляков, а сам двинулся к Безье.
29 августа, получив приказ маршала-герцога присоединиться к нему, я выступил с моими людьми, и 30-го вечером мы соединили свои войска.
31 августа состоялось совещание. Мы получили сообщение, что г-н де Шомберг двигается к Кастельнодари, и решили выступить навстречу ему, но он опередил нас, завладев домом, стоявшим всего в десяти минутах пути от нас, и устроил в нем пост.
Это произошло 1 сентября в восемь часов утра.
Узнав о случившемся, маршал-герцог с пятью сотнями человек двинулся в сторону армии маршала де Шомберга, подошел к тому дому на расстояние выстрела и обратил в бегство тех, кто в нем находился.
Господин де Монморанси оставил в доме сто пятьдесят человек и вернулся к нам, окрыленный первым успехом.
Мы собрались вместе в доме на окраине деревни — мой брат Гастон, г-н де Риё, г-н де Шодбонн и я.
«Сударь, — сказал герцог, приблизившись к моему брату, — сегодня вы одержите победу над всеми вашими врагами, соедините сына и мать. Но для этого, — добавил он, обнажив свою окровавленную шпагу, — ваша шпага к вечеру должна стать красной по рукоятку, как моя стала еще утром».
Мой брат не любит обнаженных шпаг, тем более покрытых кровью, и он отвел глаза.
«Сударь, — сказав он, — неужели вы никогда не утратите привычки к бахвальству? Вы давно обещаете мне громкие победы, вынуждая довольствоваться надеждами».
«Во всяком случае, — ответил маршал, — если даже предположить, что вы правы и я даю вам лишь надежды, это все же больше, чем дает король, ваш брат, который только отнимает их, даже надежду сохранить жизнь».
«Сударь, — продолжал Гастон, пожав плечами, — неужели вы считаете, что жизнь наследного принца может подвергнуться опасности? Что бы ни случилось, я всегда смогу обеспечить безопасность себе и еще трем особам».
Маршал горько усмехнулся и, не отвечая больше принцу, направился к нам.
«Ну вот, — сказал он, — еще ничего не началось, а он уже струсил. Он намерен бежать вместе с нами в качестве четвертого. Но ни вы, господин де Море, ни вы, господин де Риё, ни я не собираемся сопровождать его».
Мы поддержали его решете.
«Что ж, — продолжил маршал-герцог, — присоединяйтесь ко мне, а его надо было заранее связать обещанием, чтобы в конце концов заставить обнажить шпагу».
В эту минуту нам сообщили, что войска маршала де Шомберга, выйдя из леса, двинулись к нам.
«Итак, господа, по местам! — сказал маршал-герцог. — Час настал».
Нам надо было перебраться через реку по небольшому мосту; маршал де Шомберг мог бы загородить нам дорогу, но ему это не пришло в голову. Напротив, его план заключался в том, чтобы завлечь нас в засаду, устроенную им в том самом овраге, где Вы нашли моего бедного слугу.
Перейдя мост, я занял свое место на левом крыле, которым должен был командовать.
Это было, как Вам и сказали, мое первое сражение. Я спешил показать, что, хотя в моих жилах течет та же кровь, что и у Месье, у меня она куда горячее. Увидев одиночный отряд легкой конницы, я бросился вперед.
Мое внимание привлек тот офицер, с которым Вы встретились на поле сражения.
Он держался с достоинством, сохраняя под огнем спокойствие, словно был на параде. Я направился прямо к нему и выстрелом из пистолета, как он и говорил Вам, срезал перо с его шляпы. Он ответил. Почувствовав как бы удар кулака в левый бок и не поняв, что это, я приложил туда руку и отнял ее всю в крови.
Боли не было, но в ту же минуту что-то подобное красному облаку застлало мне глаза и земля ушла из-под ног. Не сумев ни сдержать своего коня, ни удержаться на нем, я почувствовал, что начал сползать с седла, и с криком «Ко мне, Бурбону!», с мыслью о Вас стал терять сознание.
Закрывая глаза, я, как мне казалось, слышал оживленную перестрелку и видел перед собой огненную завесу.
Меня, несомненно, унесли мои поляки, но с этой минуты и до той, как я очутился в карете моего брата, примерно в полульё от места сражения, я ничего не помню о том, что со мной было.
Нестерпимая боль привела меня в чувство. Я открыл глаза: вокруг моей кареты, оживленно переговариваясь, толпились любопытные. Нетрудно было понять, что решается, куда меня отвезти.
Вспомнив, что настоятельница одного монастыря неподалеку — сестра г-на де Вентадура, моего близкого друга, я собрал силы, просунул голову в дверь и приказал везти меня к г-же де Вентадур.
Как видите, удивительная преданность точно вела Вас по моим следам, и не Ваша вина в том, что Вы меня не нашли.
Боль вывела меня из забытья, но от этой же боли я снова потерял сознание.
Не знаю, кто привез меня к г-же де Вентадур, но очнулся я на превосходной постели, хотя и устроенной в подвале. Около меня был монастырский лекарь, а в проходе за кроватью стоял какой-то человек; увидев, что я очнулся, он прошептал: «Не называйте себя».
С Вами было связано мое последнее воспоминание, и первая моя мысль тоже была о Вас. Я оглядывался и искал Вас среди окружавших меня людей, но видел лишь незнакомые лица; у одного из них были закатаны рукава, а руки испачканы кровью. Это и был монастырский лекарь, только что сделавший мне перевязку.
Я снова закрыл глаза.
В ту самую ночь Вы приходили в монастырь, но из страха перед кардиналом Вам солгали, сказав, что меня никто не видел.
Так Вы не узнали о том, что я жив, так я не узнал о Вашем приходе. Мы были совсем рядом, невидимые друг другу.
Следующих двух недель я не помню. Это не было выздоровлением, это была остановка на краю могилы.
Наконец молодость и сила характера победили. Когда по моему слабому и воспаленному телу разлилась свежесть, лекарь объявил, что я спасен.
Но на каких условиях! Я должен молчать, мне нельзя подниматься с постели и связываться с внешним миром, то есть я выживу только при условии, что не буду жить месяц или полтора.
За это время состоялся суд над маршалом-герцогом, и он был казнен. Эта суровая расправа удвоила страх приютивших меня бедняжек-сестер.
Без сомнения, если бы только стало известно, что я остался в живых, со мной поступили бы не лучше, чем с г-ном де Монморанси. Разве не был он в свойстве с Марией Медичи?
Считалось, что я мертв, и все, кто был в этом заинтересован, распространяли слух о моей смерти.
Через два месяца я смог встать. До тех пор я не покидал подземелий монастыря; теперь для моего выздоровления необходим был свежий воздух. Стоял уже ноябрь, но теплая зима Лангедока позволяла совершать ночные прогулки, и мне разрешили по ночам выходить в монастырский сад.
Вместе с мыслями, с ощущениями (не могу сказать, что вместе с силами: я был еще до того слаб, что не мог подниматься и спускаться по лестницам) вернулась и вся моя любовь к Вам, до сих пор находившаяся в смертельном оцепенении: только о Вас я говорил, только к Вам стремился.
Как только я оказался в силах держать перо, я попросил разрешения написать Вам; мне дали все необходимое. Гонец повез письмо у меня на глазах, но, так как письмо могло выдать меня (а то обстоятельство, что я жив, для г-жи де Вентадур означало тяжелые последствия: преследование, тюрьму и, может быть, смерть), гонец оставался поблизости в течение двенадцати или пятнадцати дней и вернулся с известием, что отец увез Вас в Париж. Письмо, по его словам, он вручил самой преданной, на его взгляд, из служанок.
С тех пор я немного успокоился: Ваша любовь сулила мне скорый ответ.
Месяц прошел в ожидании письма; каждый ушедший день разрушал мою веру в Вас, уносил с собой еще один клочок надежды.
Со дня сражения при Кастельнодари прошло три месяца. Мне хотелось узнать о событиях, касавшихся меня. Я был ранен в самом начале развязанного мною самим боя и не знал его исхода. Мне не решались сообщать об этом, и я пригрозил, что сам добуду сведения.
Тогда мне рассказали все: о поражении, о бегстве Гастона четвертым, как он говорил, и его примирении с врагами, о суде над г-ном де Монморанси и его казни, о конфискации моего имущества и о лишении меня всех прав состояния.
Эти известия я принял более мужественно, чем ожидали. Конечно, смерть несчастного маршала была для меня жестоким ударом. Но, после смерти г-на де Марийяка, г-н де Монморанси и я готовы были разделить ту же участь.
Что касается утраты титулов, званий и имущества, то эту новость я встретил презрительной улыбкой. Люди могли отнять у меня то, что дается ими же, но они вынуждены были оставить мне то, что дано было Богом, — Вашу любовь.
С этой минуты только она стала моей единственной надеждой. Одна звезда сияла для меня на небе будущего, таком же темном, каким светлым был небосвод прошлого.
Посланный не нашел Вас — я решил сам стать своим гонцом. Не получив Вашего ответа, я решил сам отправиться за ним.
Покинуть монастырь было не таким уж легким делом. За мной следили, опасаясь, что меня могут увидеть, могут узнать. Я стал говорить не о том, что покину обитель, но о том, что уеду из Франции.
Для настоятельницы это мое намерение было самым желаемым из всех возможных.
Я должен был ехать в Нарбон, где рыбаки возьмут меня на борт. Путь от монастыря до Нарбона я проделаю в монашеском платье, в карете и с упряжкой, принадлежащей настоятельнице.
Впрочем, все были настолько уверены в моей смерти, что у меня не было никакой вероятности быть узнанным в этих краях, где я был впервые.
Добрая настоятельница раскрыла передо мной свои сундуки, но я, поблагодарив ее, отказался: когда я был ранен, при мне было около двухсот луидоров, они остались в моем кошельке, к тому же у меня было на десять тысяч ливров колец и застежек с бриллиантами.
Вы были богаты, разве нужно было быть богатым мне?
В начале января я покинул монастырь, исполненный признательности за оказанное мне там гостеприимство.
Увы, я еще не знал, что оно так дорого обойдется мне.
До Нарбона оставалось двадцать восемь льё. Я был еще так слаб, что приходилось двигаться короткими переходами. Впрочем, я старался казаться еще слабее, чтобы никто не догадался о моих намерениях.
В первый раз мы ночевали в Виллепинте, во второй — в Барбера, на третий день приехали в Нарбон, а на следующий день меня должны были переправить в Марсель. Я выдавал себя за чахоточного прелата, которому предписано жить в Йере или Ницце.
Отдохнув один день в Нарбоне, я отправился дальше. Ветер был попутным, и через двое суток я высадился в Марселе.
Заплатив перевозчикам, отпустив сопровождающих меня двух слуг настоятельницы, я обрел полную свободу.
Я сразу же нанял карету, чтобы доехать до Авиньона, и лодку, чтобы подняться по Роне от Авиньона до Баланса.
Меня выдавала военная выправка, и пришлось переодеться в форму гвардейца кардинала: никто не решился бы остановить меня в этой одежде.
От Марселя до Авиньона я добрался за три дня. В Авиньоне с моря дул ветер, благоприятный для плавания, и я доверился Роне. Когда ветер ослабевал, приходилось впрягать лошадей, и они тянули лодку на канате.
Каждый день, едва рассветало, я начинал искать глазами Ваш замок: Вы были там, Вы ждали меня; или, если мне сказали правду и отец действительно увез Вас в Париж, я мог там хоть что-то узнать о Вас.
Я хотел сойти на берег: лодка двигалась так медленно! К несчастью, я все еще был слишком слаб.
О, если бы у меня был один только лишний час! Если бы мы встретились! Но этому не суждено было сбыться, мы были обречены…
Я больше не мог бездействовать и, не доехав до Баланса пол-льё, сошел на берег. Мне еще трудно было быстро ходить, но все же я двигался намного быстрее, чем лодка.
Впрочем, надежда увидеть Вас придавала мне сил. Давно уже мне был виден Ваш балкон, на котором Вы стояли, прощаясь со мной, когда я свернул за поворот дороги. Но сейчас балкон был пуст, ставни закрыты. Во всем облике замка, куда я так стремился, было что-то угрюмое и безжизненное, леденившее мне душу.
Вдруг я увидел, что главные ворота открылись и выпустили процессию: повернув в сторону города, она скрылась из вида.
Мне оставалось пройти менее четверти льё. Я почувствовал, не зная причины этого, что сердце у меня сжимается и силы оставляют меня.
Прислонившись к придорожному дереву, я вытер пот со лба, затем продолжил путь.
Мне встретился слуга.
«Друг мой, — спросил я у него еле слышным голосом, — что, госпожа Изабелла де Лотрек больше не живет в этом замке?»
«Живет, господин офицер, — ответил он, — только через полчаса ее будут называть по-другому».
«По-другому! И как же ее станут называть?»
«Госпожа виконтесса де Понтис».
«Почему госпожа виконтесса де Понтис?»
«Потому что через полчаса она станет женой моего хозяина, господина виконта де Понтиса».
Я почувствовал, что смертельно побледнел, и закрыл лицо платком.
«Значит, — спросил я, — эта процессия, которая только что вышла из замка…»
«Это свадебный кортеж».
«И теперь?»
«Они в церкви».
«Но это невозможно!»
«Невозможно! — повторил слуга. — Ей-Богу, господин офицер, если хотите, вы еще успеете увидеть все своими глазами. Если пойдете короткой дорогой, то подойдете к церкви в одно время с ними».
Я не заставил его повторять это дважды и поспешил своими глазами удостовериться в страшной правде, так как не мог верить словам этого человека. Не зная, какая причина заставила его так нагло солгать мне, я был уверен в том, что он лжет.
В свое время я жил в Балансе три месяца, и мне там было известно все, поэтому перейдя через мост, я направился прямо к церкви самой короткой дорогой. Впрочем, можно было бы идти на громкий звон колоколов.
Соборная площадь была заполнена людьми. Но ни звон колоколов, ни многолюдная толпа, заполнившая площадь, не могли убедить меня: я говорил себе, что это не Вас, а другую ведут к алтарю, что тот слуга или ошибся, или обманул меня.
Но все же, смешавшись с толпой, я не решался вести расспросы.
Не будь я одет гвардейцем кардинала, мне, конечно, не удалось бы пробиться в первый ряд сквозь огромную толпу людей, но перед моей формой все расступались.
Тогда… О, и сегодня еще мне приходится собирать все свои силы, чтобы описать Вам эти ужасные подробности. Вчера, когда я еще не знал, что это Вы мне пишете, я не смог бы подвергнуть себя этой пытке, не растравив смертельной раны… О, Вы оплакивали всего лишь мою смерть — я же страдал от Вашей измены!
Простите, простите меня, Изабелла, теперь я знаю, что это была лишь видимость измены, но для меня — о, для меня, несчастного, — это была действительность!
Я видел Вас как бы сквозь облако, подобное тому, что прошло перед моими глазами, когда, раненный тем офицером, я упал с коня на землю. Это было то же ощущение, еще более болезненное: в первый раз удар пришелся в бок, на этот раз — в сердце.
Я увидел Вас: Вы были бледны, но почти улыбались, Вы шли через площадь решительно и, казалось, спешили войти в церковь.
Закрыв глаза рукой, согнувшись, задыхаясь, я вполголоса бормотал, к удивлению стоявших рядом:
«Господи, Господи, это неправда! Господи, это не она… Господи, зрение, слух, все мои чувства лгут мне!.. Одна она, одна она не обманывает меня, одна она не может меня обмануть».
Вы прошли в десяти шагах от меня; я стоял безмолвный, все еще надеясь, что Вы не дойдете до церкви, что Вы остановитесь на полпути, скажете, что Вас принудили, обратитесь ко всем женщинам, скажете о Вашей любви, — и тогда я брошусь вперед и, рискуя жизнью, воскликну:
«Да, я люблю ее! Да, она любит меня! Да, я граф де Море, умерший для всех, кроме Изабеллы де Лотрек, моей невесты, в этой и в иной жизни… Дорогу мне и моей невесте!»
И я увел бы Вас на глазах у всех, я никого не боялся, потому что чувствовал в себе исполинскую силу.
О Изабелла, Изабелла, Вы промолчали и не остановились, Вы вошли в церковь. Крик, давно поднимавшийся у меня в груди, раздирая ее, вырвался наружу в ту минуту, когда Вы перешли паперть. Пока никто не успел спросить о причине моего крика, я, оттолкнув стоявших рядом, выбрался из толпы и скрылся.
На берегу реки я нашел свою лодку, кинулся к своим матросам, схватился за голову, крича:
«Изабелла! Изабелла!»
Они переждали этот взрыв отчаяния, затем спросили меня, куда плыть.
Я велел им плыть по течению. Они отвязали лодку, и Рона понесла нас.
Что мне еще сказать Вам? Конечно, я существовал эти четыре года, раз сегодня я жив и люблю Вас. Но я не жил.
Я ждал истечения назначенного мне срока, чтобы принять обет. Вы приблизили этот день: благодарю Вас! Теперь, когда я знаю, что Вы не изменили мне, что Вы по-прежнему любите меня, мне легче будет смириться со своей участью и я спокойно посвящу себя Господу.
Молитесь за Вашего брата… Ваш брат будет молиться за Вас.
Три часа пополудни.
XVIII
В тот же день, в половине шестого.
Я не понимаю, что Вы такое говорите. Вы нашли меня, Вы убедились, что я верна Вам, Вы уверены в моей любви — и это, говорите Вы, приближает срок Вашего обета, это облегчает Вам уход из мира, дает Вам спокойствие, чтобы посвятить себя Господу!
О Боже! Неужели Вы не расстались со страшным намерением уйти из мира?
Выслушайте же меня внимательно. Господь справедлив. Когда я предалась ему, я была уверена в Вашей смерти. Вы живы: Господь не мог принять обета, продиктованного отчаянием, раз причина этого отчаяния не существовала в действительности. Значит, я свободна, свободна, несмотря на свой обет.
Да! Да! Да! Вы пишете мне, как мы почти соприкоснулись на мгновение в этом монастыре и ничто не подсказало нам, что мы так близко друг от друга. Я ошиблась, я неблагодарна по отношению к собственному сердцу. Голос его кричал мне: «Настаивай, не уходи, останься: он здесь!»
Да, я понимаю: бедная настоятельница боялась за себя, она боялась, что гостеприимство погубит ее.
О, почему не я Вас нашла? Я была бы горда, если бы Бог доверил мне спасти сына Генриха IV. Я ничего не побоялась бы, чтобы с гордостью и честью сказать: «Когда весь мир от него отвернулся, я одна его приняла, одна защитила его».
Как я глупа! Сказав это, я выдала бы Вас, и Вы погибли бы, как погиб маршал-герцог.
К счастью, настоятельница скрыла Ваше существование даже от меня, и Вы живы: пусть лучше я буду страдать, пусть буду несчастна, пусть даже умру.
Но почему я должна быть несчастна? Зачем мне умирать? Вы не дали обета, а я считаю свой недействительным. Уедем, отправимся в Италию, в Испанию, на край света. Я все еще богата, да и что нам богатство? Вы любите меня, я люблю Вас! Уедем! Уедем!
О! Ответьте мне. Да, скажите мне, где Вы, скажите, куда прийти за Вами.
Подумайте, Вы меня подозревали — меня, Вашу Изабеллу! — в измене, и теперь Вы должны искупить этот грех.
Я жду, жду!
XIX
Пять часов утра.
Ваше письмо затронуло самые тайные струны моего сердца.
Что за судьба у нас! Вы предлагаете мне долгожданное счастье, которое я искал, которого желал всю свою жизнь, а я не могу принять этот дар.
Изабелла! Изабелла! Вы дворянка, и я дворянин. Простое обещание, данное человеку, обязало бы нас, а тем более — клятва, данная Богу.
Не пытайтесь обмануть себя. Вы приняли обет, и Бог не допускает таких хитростей.
Для нас остается только одно будущее — то, что уготовано нам несчастьем. Вы указали мне святой путь, первой вступив на него. Я следую за Вами, мы вместе приблизимся к цели, ибо цель у нас одна. Я буду молиться за Вас, Вы станете молиться за меня. Каждый из нас вложит в свою молитву жар, которого недостало бы для себя, и вечная жизнь с вечной любовью будет дана нам Господом вместо преходящей любви, вместо смертной жизни.
Не думайте, что я говорю Вам это оттого, что люблю Вас меньше, нежели Вы любите меня. Нет, я люблю Вас — не сильнее, я знаю это, — но со страстью человека, который упал с высоты большей, падение которого было глубже, который прикоснулся рукою к смерти и вынес из могилы бледный лик, свойственный тем, кто познал откровения иного мира.
Поверьте мне, Изабелла, чем больше я люблю Вас, тем сильнее буду настаивать на своем. Не рискуйте вечным спасением, занимаясь софистикой. Жизнь на этом свете относится к вечности, как секунда относится к веку. Один миг мы живем на земле, а к Господу уходим навечно.
Впрочем, выслушайте меня внимательно, моя невеста в этой и в будущей жизни. Тот, в чьей власти связать, может освободить: так дано от Бога для того, чтобы сердце, обманутое, подобно Вашему, не отчаялось. Сейчас папа римский — Урбан VIII, а у Вашей семьи в Италии могущественные связи. Добейтесь Вашего освобождения от обета. В этот день, Изабелла, Вы скажете мне: «Я свободна!..» И тогда, тогда… О! Я не решаюсь помыслить о том неземном счастье, о той безоблачной радости, что нас ожидает.
XX
Два часа пополудни.
Да, Вы правы, наше счастье не должно быть ничем омрачено. В наших сердцах не должно быть ни страха, ни сожалений, наш темный и грозовой небосклон должен смениться чистым, усеянным звездами небом. Да, тот, к кому я обращусь, услышит меня. Да, он непреклонен, но он сжалится надо мной. Да, я прошу Вас подождать три месяца, пока я не стану свободной, и если через три месяца наша голубка не принесет Вам освобождающую меня буллу, значит, на земле для нас нет надежды.
Тогда вверьтесь Богу, как я, свяжите себя с ним нерасторжимыми узами.
О, я слишком буду завидовать Вам, если Вы останетесь свободным, когда я скована.
Завтра я еду.
XXI
Половина пятого пополудни.
Отправляйтесь — и да хранит Вас Господь!
1 июня 1638 года.
Сегодня исполнился ровно месяц с того дня, как я получил от Вас последнее письмо; месяц, как я не видел нашей голубки; месяц, как мне не с кем поговорить о Вас, кроме как с моим сердцем.
Нельзя впустую тратить время. Но минуты стали часами, часы — днями, дни — годами. Смогу ли я так ждать еще два месяца?
Да, потому что до последнего дня не перестану надеяться.
Я пишу это письмо, не зная, получите ли Вы его когда-нибудь, но я пишу его, чтобы в день, который разлучит или соединит нас, Вы знали, Изабелла, что каждое биение моего сердца — это мысль о Вас.
XXII
22 июня 1638 года.
Лети, милая голубка, лети к моему дорогому воскрешенному, скажи ему, что его молитвы хранили меня, скажи ему, что я свободна, скажи ему, что мы счастливы!
Свободна! Свободна! Свободна!
Дай мне рассказать тебе все, любимый мой!
Не знаю, с чего начать, я потеряла рассудок от счастья!
Ты знаешь, что в тот самый день, как я написала тебе последнее письмо, была официально распространена радостная весть о беременности королевы. По этому случаю по всей стране должны были состояться пышные празднества, а король с кардиналом собрались раздавать помилования.
Я решила броситься в ноги к кардиналу, которому дана Римом власть решать все вопросы, связанные с религией.
Вот почему я просила у тебя только три месяца.
В тот же день, написав тебе, я попросила настоятельницу отпустить меня и уехала.
Моя соседка по келье обещала присмотреть за нашей голубкой. Я полностью доверяла ей и была спокойна.
Я выехала. Но, как я ни спешила, до Парижа я добралась только на семнадцатый день.
Кардинал был в своей резиденции в Рюэе. Я немедленно отправилась туда.
Он был болен и не принимал посетителей. Я поселилась в деревне и, назвав свое имя отцу Жозефу, стала ждать. На третий день отец Жозеф пришел лично сообщить мне, что его высокопреосвященство может меня принять.
Услышав это, я встала, но снова, смертельно побледнев, упала на стул: сердце мое готово было разорваться, колени подгибались.
Говорят, что отец Жозеф не слишком мягкосердечен; но, увидев, что я едва жива при мысли предстать перед кардиналом, он, как только мог, ободрял меня. Если я хочу о чем-то просить его высокопреосвященство, сказал он, время теперь подходящее: кардинал давно так хорошо себя не чувствовал.
О, вся моя жизнь, вся Ваша жизнь зависели от моей встречи с этим человеком!
Я шла за отцом Жозефом и ничего не видела вокруг себя. Мои глаза были прикованы к нему, я следовала за ним так, как будто он управлял моими движениями.
Мы прошли через деревню в парк, потом проследовали по аллее, среди больших деревьев. Я замечала, как пейзаж вокруг меняется, но подробности от меня ускользали.
Наконец издалека я увидела в беседке из жимолости и ломоноса человека, полулежавшего на кушетке. Он был в белом подряснике, с красной камилавкой на голове — знаком кардинальского достоинства. Я протянула к нему руку, и отец Жозеф ответил на мой невысказанный вопрос:
«Да, это он».
Рядом со мной оказалось большое дерево, я прислонилась к нему, потому что боялась упасть: ноги не держали меня.
Кардинал увидел мое замешательство, заметил движение, выдававшее мою слабость, и приподнялся.
«Подойдите, не бойтесь», — сказал он.
Не знаю, какое чувство заставило его смягчить свой обыкновенно суровый голос, но этот голос подал мне надежду.
Я собралась с силами и почти побежала к нему, чтобы броситься ему в ноги.
Жестом он приказал отцу Жозефу удалиться. Тот повиновался, отойдя на такое расстояние, чтобы видеть нас, но не слышать нашего разговора.
Я склонила голову и протянула к кардиналу-герцогу обе руки.
«Чего вы ждете от меня, дочь моя?» — спросил он.
«Монсеньер, монсеньер, я прошу о милости, от которой зависит не только моя жизнь, но и мое вечное спасение».
«Как ваше имя?»
«Изабелла де Лотрек».
«Вот оно что! Ваш отец верно служил королю. Это редкость в такое мятежное время, как наше. К несчастью, мы потеряли его».
«Да, монсеньер. Значит ли это, что я могу обратиться к вам в память о нем?»
«При его жизни я дал бы ему все, чего он мог пожелать, кроме разве того, что во власти одного Бога, а я всего лишь его простой наместник. Скажите, о чем вы просите».
«Монсеньер, я постриглась в монахини».
«Я помню это, поскольку по просьбе вашего отца я противился этому как мог и, вместо того чтобы приблизить ваше пострижение, как вы просили, назначил год отсрочки. Значит, несмотря на отсрочку, вы все же дали обет?»
«К несчастью, монсеньер».
«Да, и теперь вы раскаиваетесь в этом?»
Я предпочла отнести свое раскаяние на счет своего непостоянства, чтобы не оправдывать его своей верностью.
«Монсеньер, — сказала я ему, — мне было всего восемнадцать лет, и я лишилась рассудка, потеряв любимого человека».
Он улыбнулся.
«Да, а теперь вам двадцать четыре года и вы стали рассудительны».
Я восхищалась удивительной памятью этого человека, который помнил, в каком году произошло такое несущественное для него событие, как уход в монастырь незнакомой ему девушки.
Со все еще сложенными руками я ждала.
«А теперь, — продолжал он, — вы хотите нарушить обет, потому что женщина одержала победу над монахиней, мирские воспоминания преследовали вас а вашем убежище, потому что вы предались Богу телом, но душа — не правда ли? — душа осталась на земле. О, слабость человеческая!»
«Монсеньер, я погибну, если вы не сжалитесь надо мной!»
«Но вы выбрали монашество свободно и добровольно».
«Да, да, свободно и по доброй воле, но, повторяю вам, монсеньер, я была безумна».
«А как вы оправдаетесь перед Богом в вашем непостоянстве?»
Мое оправдание хорошо известно Господу, сохранившему Вам жизнь, возлюбленный мой, но сказать этого, не погубив Вас, я не могла. Я промолчала, только новый стон вырвался у меня.
«Вам нечем оправдать себя», — сказал он.
Я заломила руки от боли.
«Ну что ж, значит, это я должен найти вам оправдание, и, быть может, оно будет немного светским».
«О, помогите мне, монсеньер, и я буду благословлять вас до последнего вздоха!»
«Пусть будет по-вашему. Как министр короля Людовика Тринадцатого, я не хочу, чтобы честное и прекрасное имя, которое вы носите, исчезло бесследно. Ваше имя составляет истинную гордость Франции, и оно дорого мне».
Затем, пристально глядя на меня, он спросил:
«Вы полюбили?»
Я склонилась до земли.
«Да, так и есть, — продолжал герцог, — я угадал, вы кого-то полюбили. Тот, кого вы любите, свободен?»
«Да, монсеньер».
«Ему известно о предпринятом вами ходатайстве, и он ждет?»
«Он ждет».
«Хорошо. Пусть этот человек, кто бы он ни был, прибавит к своему имени имя Лотрек, чтобы память о герое Равенны и Брешии не стерлась, — и вы свободны».
«О монсеньер!» — воскликнула я, припав к его ногам.
Он поднял меня, задыхавшуюся от радости, и вновь жестом велел отцу Жозефу приблизиться.
«Отведите обратно мадемуазель Изабеллу де Лотрек, — сказал кардинал, — и через час вручите ей буллу, освобождающую ее от обета».
«Монсеньер, монсеньер, как мне благодарить вас?»
«Это очень легко: когда вас станут спрашивать, что вы думаете обо мне, отвечайте, что я умею наказывать и воздавать по заслугам. Я наказал предателя Монморанси при его жизни, я наградил честного Лотрека посмертно. Идите, дочь моя, идите».
Еще десять раз поцеловав ему руки, я ушла вслед за отцом Жозефом. Через час мне была вручена булла, освобождающая меня от принятого обета.
В ту же минуту я выехала, спрятав на груди драгоценную бумагу, преданная Господу, как никогда прежде, после освобождения меня от данного ему слова.
Обратный путь занял всего тринадцать дней, и вот я снова здесь и пишу Вам, любимый мой, — нет, не все, что мне надо сказать Вам, иначе вышел бы целый том и Вы еще неделю не узнали бы о том, что я свободна, как люблю Вас и как скоро мы будем счастливы.
Спешу закончить, чтобы Вы минутой раньше узнали радостную весть.
Лошадей даже не станут выпрягать, и, как только вернется голубка, я еду.
Только скажите мне, где Вы, и ждите меня.
Спеши, моя голубка, никогда еще мне не были так нужны твои крылья. Лети и возвращайся!
Понял ли ты меня, мой любимый: ничего другого не пиши, скажи только, где тебя найти. Я не хочу, чтобы ты и на минуту отдалил нашу встречу, пусть даже для того, чтобы написать эти три благословенных слова: «Я люблю тебя!..»
Через десять минут.
О! Несчастье! Несчастные мы!.. Этот человек снова роковым образом преследует нас, любимый мой!
О, слушай, слушай, хоть ты и не можешь услышать меня, слушай, пусть даже ты никогда не узнаешь того, что я скажу тебе сейчас.
Слушай!
Как всегда, я привязала письмо к крылу нашей голубки, — письмо, в котором рассказала тебе все, письмо, которое раскрывало перед тобой будущее, полное счастья. Я отпустила бедняжку Ириду и следила глазами, как она поднималась в небо. Вдруг из-за монастырской ограды послышался выстрел, и я увидела, как наша голубка, остановленная в своем полете, закружилась и упала.
О! У меня вырвался безумный крик боли: казалось, что моя душа отлетает от тела вместе с ним.
Потом я сразу бросилась прочь из монастыря до того обезумевшая, что меня даже не пытались задержать, так как поняли: со мной произошло несчастье.
Увидев, в какой стороне упала голубка, я побежала туда и в пятидесяти шагах от стены обнаружила охотника, который только что подстрелил голубку. Он держал ее в руках, с удивлением и раскаянием глядя на привязанное к ее крылу письмо.
Я бежала к нему, протянув вперед руки. Я не могла говорить и только кричала:
«О, горе, горе, горе мне!»
В нескольких шагах от него я остановилась, побледневшая, пораженная в самое сердце: этот человек, этот охотник, только что ранивший нашу голубку, был тот самый капитан, которого я встретила ночью в Кастельнодари, на месте сражения. Это был Битеран — тот, кто выстрелил в Вас и сбросил с коня.
Мы узнали друг друга.
Уверяю Вас, он побледнел почти так же сильно, как я: увидев меня в монашеском платье, он понял, что явился виновником моего преображения.
«Ах, сударыня, — пробормотал он, — мне действительно не везет».
Он протянул мне нашу бедную голубку, и она, вырвавшись из его рук, упала на землю.
Я подняла ее. К счастью, у нее было перебито только крыло.
Но она знала тайну Вашего жилища, любимый мой. Она унесет эту тайну с собой. Где я найду Вас и как найду, если она больше не сможет полететь к Вам?
Полететь, чтобы сказать Вам, где я, сказать Вам, что я свободна, сказать Вам, что счастье ожидает нас!
О! Несомненно, у бедного маленького создания есть душа. Если бы Вы видели, любимый мой, как она смотрела на меня, пока я несла ее в монастырь, а ее убийца, неподвижный и безмолвный, смотрел мне вслед, как тогда, когда я шла по окровавленной траве луга, ставшего полем битвы.
Не знаю, сможет ли этот человек когда-нибудь искупить причиненное нам зло, но, если этого не случится, я прокляну его в свой последний час!
Я уложила голубку в корзину, которую поставила себе на колени. К счастью, голубка почти не пострадала, лишь край ее крыла был перебит.
Только что я отвязала от ее бедного крылышка окровавленное письмо. Господи! Господи! Если бы не это внезапное несчастье, Вы вскоре получили бы его!
Где Вы? Где Вы? Кто мне это скажет?
Вот идет монастырский лекарь, за которым я послала…
Четыре часа.
Лекарь — добрый, превосходный человек; он понял, что в некоторых исключительных случаях жизнь голубки становится не менее драгоценной, чем жизнь короля.
Он понял это, увидев мое отчаяние.
Он понял это, увидев окровавленное письмо.
Сам по себе перелом не был опасным, голубка поправилась бы за три дня, если бы я позволила отрезать крыло.
Но я воспротивилась этому; встав перед лекарем на колени, я сказала ему:
«Моя жизнь держится на этом крыле, которое вы хотите отнять: голубка должна, должна полететь!»
«Этого гораздо труднее добиться, — сказал он мне, — и я не могу вам обещать, что она полетит, но я сделаю все, что в моих силах. Во всяком случае, она полетит не раньше, чем через две-три недели».
Пусть через две-три недели, но она полетит! Она полетит!
Вы понимаете, друг мой, как я на это надеюсь.
Ей привязали крыло к спинке. Похоже, что бедняжка все понимает: она не двигается, только смотрит на меня.
Я поставила перед ней зерно и воду. Впрочем, я кормлю ее из рук.
Что мне делать, как сообщить Вам о случившемся? Какой гонец сможет найти Вас? В какую сторону послать сигнал бедствия, как это делают потерпевшие кораблекрушение посреди океана?
Почему этот капитан не сломал мою руку вместо ее крыла?!
Июнь.
Да, ты был прав, возлюбленный мой: я чувствую, что, если бы я не добилась освобождения от обета, наше счастье постоянно омрачалось бы раскаянием или, скорее всего, мы не были бы счастливы, если Бог не благословил бы нас.
Когда я говорила тебе: «Я свободна, уедем вместе и будем счастливы», я хотела забыть, что в глубине моей души стенал голос, заставлявший иногда умолкнуть голос моей любви, как бы громко он ни звучал.
Сегодня я очень несчастна, потому что не знаю, как найти и где снова увидеть тебя, но совесть моя спокойна, и теперь, повторяя: «Люблю тебя, мой жених», — я больше не чувствую той острой боли в сердце, которая не утихала даже в те минуты, когда я говорила тебе: «Не беспокойся, любимый мой, мы будем счастливы».
Я выхаживаю нашу бедную голубку, словно больную сестру. Она очень страдает и время от времени закрывает глаза из-за боли; тогда я капаю ей на крыло ледяную воду: кажется, это приносит ей облегчение.
Она гладит меня своим розовым клювиком, будто благодарит.
Бедная голубка! Она и не подозревает, сколько себялюбия в моих заботах о ней.
Но ты, что ты можешь подумать, Боже мой!
XXIII
1 июля 1638 года.
Прошло два месяца, а известий нет. Мои глаза устают напрасно всматриваться в небо, когда я ищу на нем нашу милую голубку.
Каждый раз, завидев темную точку, я говорю себе: «Это она!», но в следующее мгновение я вижу, что ошибся, и из груди, затрепетавшей в надежде, вырывается вздох.
Все равно я все жду, надеюсь, что ты жива, что ты любишь меня, и не отчаиваюсь.
Но время идет. Уже два месяца, как Вы уехали. Если я правильно сосчитал, Вы должны были вернуться восемь или десять дней назад.
Боже! Боже! Неужели кардинал, это холодное сердце, откажет?
Но ведь говорят, что он любил, этот человек!
Господи Боже мой, не оставляй нас!
XXIV
5 июля.
О, если бы ты только знал, бедный возлюбленный моего сердца, сколько всего я написала тебе за две недели! Это целый мир мыслей, желаний, надежд, сожалений и воспоминаний.
Если нам суждено когда-нибудь увидеться, — дай-mo Бог, я прошу об этом днем и особенно ночью, я жарко об этом молюсь! — если мы когда-нибудь увидимся, ты прочтешь все это, и только тогда, тогда, клянусь тебе в этом, ты узнаешь всю силу моей любви к тебе!
Если мы не увидимся… О! В этом страхе заключены все муки ада… Что ж, тогда я буду перечитывать эти письма, каждый день прибавляя к ним еще более безнадежный, чем все предыдущие, листок, и умру над последним, написав: «Я люблю тебя!»
Я думала, что исчерпала для тебя все тревоги и все радости сердца. О, я чувствую, что в будущем меня ждут такие бездны радости или боли, в какие я и не заглядывала!
Завтра! Почему на этом слове так задрожала моя рука?
Завтра решается моя судьба, завтра я увижу, сможет ли голубка взлететь. Уже три дня, как она покинула свою корзинку, она расправляет крылья, пробует перелетать по комнате от двери к окну, словно понимает, бедная малютка, как важно для нас двоих, чтобы ее крыло обрело силу.
Завтра! Завтра! Завтра!
Я напишу очень короткую записку, чтобы не обременять бедняжку лишним весом. Я объясню тебе все в нескольких словах.
До завтра, любимый мой! Я проведу ночь в молитвах и даже не буду пытаться заснуть: все равно мне это не удастся.
Господи Боже мой, хотела бы я знать, что делаешь ты! Понимаешь ли ты, как я люблю тебя, как страдаю?
6 июля.
Вот и рассвело, любимый мой; как и думала, я не спала ни минуты и всю ночь молилась.
Надеюсь, что Господь услышит меня и сегодня ты узнаешь, где я, узнаешь, что я свободна и жду тебя.
Голубка охвачена тем же нетерпением, что и я: она стучит в окно клювом и крыльями.
Сейчас я выпущу тебя, бедняжка! Дай Бог твоему крылу достаточно силы, чтобы ты смогла проделать этот путь!
Я прерываю письмо, чтобы написать тебе записку, которую голубка отнесет или — увы! — может быть, лишь попытается отнести тебе.
Четыре часа утра, 6 июля.
Если голубка доберется до тебя, любимый мой, прочти это письмо и, не теряя ни секунды, спеши ко мне, как спешила бы я, зная, где тебя найти.
Я свободна, я люблю тебя, и я жду тебя в монастыре, в Монтольё, между Фуа и Тарасконом, на берегу Арьежа.
Позже ты узнаешь, отчего я не пишу подробнее, почему моя записка так коротка и так тонка бумага.
Ты узнаешь все это и о всех наших несчастьях, наших тревогах, наших надеждах, если милая вестница долетит до тебя, потому что, как только она до тебя долетит, ты немедленно — не правда ли? — отправишься в путь.
Я жду тебя, любимый мой, как слепой жаждет увидеть свет, как умирающий стремится к жизни, как умерший ждет воскресения.
Лети, милая голубка, лети!
6 июля, пять часов утра.
На нас лежит проклятие!
О мой любимый, что с нами будет? Мне остается только умереть в отчаянии и слезах.
Она больше не может летать: через сто шагов ее крыло обессилело. На пути ее оказалась верхушка тополя; она хотела над ним пролететь, но зацепилась за ветку и стала падать с одной ветки на другую, пока не оказалась на земле.
Протянув руки, с разбитым сердцем, не переставая кричать от боли, я побежала к ней и подобрала ее. Немного отдохнув, она снова попробовала взлететь, но снова упала!
Я упала рядом с ней и, в отчаянии катаясь по земле, стала руками и зубами рвать траву.
Боже! Боже! Что со мной станет! Я была слишком горда своим счастьем, слишком спокойна за него; оно было в моих руках, но рок разжал их, и бесценное сокровище выпало.
Господи! Господи! Неужели ты не пошлешь мне озарения, света, огня?!
Господи, Господи, помоги мне! Господь мой, пожалей меня! Господи, Господи, я схожу с ума!..
Подожди, подожди.
Господь милосердный, я была услышана, и молитва моя исполнилась.
Послушай, послушай, любимый, в моем сердце снова зародилась надежда; вернее, эта надежда, это озарение посланы мне свыше.
Послушай! Из своего окна я так часто следила глазами за полетом нашей голубки, когда она покидала меня, что могу без ошибки пройти два или три льё в этом направлении. Она пролетала над истоком широкого ручья, возле Фуа впадающего в Арьеж. Она должна была лететь над леском Амуртье, над рекой Сала между Сен-Жироном и Устом.
Вот что я сделаю.
Я снова надену платье странницы и пойду искать тебя. Я дойду до деревушки Рьёпреган — голубка всегда исчезала в той стороне — и, пройдя ее, снова обращусь к голубке за помощью. Каждый раз она сможет пролетать расстояние примерно в сто шагов. Пусть так! Она пролетит сто шагов, отдохнет, затем пролетит еще сто шагов, указывая мне путь. Я буду следовать за ней, как евреи шли за огненным столпом по ночам и за облачным столпом при свете дня; как они, я тоже буду искать землю обетованную и найду ее или умру в пути от усталости и боли.
Увы, я знаю: путь будет долгим. Прости мне, бедная голубка, те страдания, что я причиняю тебе, кроткая мученица нашей любви! Бедняжка не сможет делать больше одного или двух льё в день, но меня это не остановит, любимый мой: даже если мне придется потратить на поиски всю мою оставшуюся жизнь… О да! Я буду искать тебя до своего последнего дня.
Итак, я отправляюсь в путь. Я выхожу сегодня же, не медля ни минуты.
Я все рассказала нашей настоятельнице — все, не назвав только твоего имени. Эта святая и благородная женщина разделила со мной мою боль, и мы такали вместе. Она предложила взять кого-нибудь в провожатые, но я отказалась: мне нужно было быть одной; то, что мне предстоит совершить — область инстинкта, тайна Неба и наша; однако я обещала написать ей, если найду тебя. Не получив письма, она поймет, что меня уже нет в живых: безумная и отчаявшаяся, я умерла где-нибудь в лесу, у дороги, на берегу неизвестной реки.
Я ухожу; возьму с собой все мои письма к тебе, которые ты не получил и, может быть, не получишь никогда. О! Если бы я могла когда-нибудь сложить их к твоим ногам, сказав: «Прочти! Прочти, мой любимый!» В этот день ты узнал бы о моих страданиях, в этот день я была бы счастлива!
Я выхожу. Сейчас три часа пополудни, я надеюсь сегодня же добраться до Рьёпрегана.
Ночь 7 июля.
Перед тем как уйти, я пошла в церковь, простерлась перед алтарем, лбом касаясь камня в том месте, где высечен крест, и помолилась, чтобы Господь не оставил меня.
О, это правда, что молитва исцеляет. Молитва — это зеленый холм, где отдыхаешь от трудного пути. Молитва — это прохладный ручей в песках пустыни.
Выйдя из церкви, я была исполнена сил и надежды, мне казалось, что Господь дал мне крылья одного из своих ангелов: молитва поднимала меня над землей и уносила к Богу.
Не правда ли, Господи, что это всего лишь испытание? Не правда ли, Господи, ты не осудил меня? Не правда ли, Господи, что он ждет меня в конце пути, на который я сейчас вступаю?
Жди меня, любимый, жди меня, я клянусь тебе, что рано или поздно найду тебя.
Я ненадолго оторвалась от письма, чтобы посмотреть в окно, из которого видна деревня Буссенак.
Эта деревня лежит у меня на пути, и завтра я через нее пройду, если голубка не уведет меня в сторону. Жалобно завыла собака: она заблудилась в лесу, темнеющем справа от меня.
Я сказала себе: «Если собака прекратит выть — это хороший знак, я найду его».
Собака замолчала.
Как мы суеверны, когда нам плохо, бедный мой возлюбленный! Знаешь ли ты об этом, страдаешь ли и ты?
Боже мой, какая чудесная ночь! Я представила себе, что ты, может быть, тоже стоишь у окна, смотришь в мою сторону, как я смотрю в твою, что ты думаешь о Боге и обо мне, как я думаю о тебе и о Боге.
Заметил ли ты эту прекрасную звезду, что прочертила на небе огненный след? Сколько льё пролетает она за секунду?
О, если бы я могла, подобно ей, в один миг перенестись к тебе, даже угаснув как она.
Я согласилась бы на вечную ночь, если бы ей предшествовала эта ослепительная секунда счастья.
До завтра, мой любимый. Я надеюсь, что завтрашний день приблизит меня к тебе.
9 июля.
Я остановилась в маленькой деревушке Сулан. Господь милосердный, какая гроза! Чем провинилась земля, что Бог говорит с ней таким страшным голосом?
Потоки воды переполнили реку Сала, брод исчез, и мне придется идти в Сен-Жирон, где есть мост, а это значит потерять два дня.
Меня уверяют, что завтра я смогу продолжить путь: река вернется в свои берега.
О потерянный день! День, когда — я уверена — ты ждешь меня; день, когда, может быть, ты меня обвиняешь…
Вечер 12 июля, деревня Ало.
Один крестьянин согласился проводить меня, и я перебралась через реку на его муле. Река чуть было не унесла всех нас, треть пути мул не касался дна.
Я возвела глаза к небу, сложила руки на груди и сказала: «Если я умру, Господи, ты знаешь — это ради него».
Вот увидишь — мы встретимся, раз я не умерла.
15 июля.
Я снова иду пешком, наша голубка по-прежнему ведет меня. Тринадцатого я дошла от Ало до Кастильона; это был тяжелый день для бедной малютки. Надо было пощадить ее, но я прошла не меньше трех льё.
На следующий день, четырнадцатого, я искупила свою жестокость тем, что мы едва прошли льё, и сегодня, пятнадцатого, я достигла Сен-Лари, по другую сторону безымянного ручейка, впадающего в реку Сала.
Я уверена, что не сбилась с пути. Голубка ни секунды не сомневается, ни на миг не уклоняется в сторону. Она без колебаний летит вперед.
Но время идет — а ты ждешь, время идет — а ты назначил срок.
О, не спеши исполнить свой обет, любимый! Верь в меня, верь в твою Изабеллу.
Ты на миг усомнился в ней, и мы оба дорого заплатили за это.
18 июля.
Вот уже три дня, как я иду почти наугад, огибая леса, идя вдоль ручьев. Увы! Земля подставляет мне препятствия, которых нет в воздухе. Голубка пролетает свободно там, где мне приходится иногда останавливаться.
Признаюсь тебе в этом, о мой возлюбленный, в таких случаях силы и смелость разом оставляют меня и я ложусь под каким-нибудь деревом полумертвая, отчаявшаяся.
Вот уже одиннадцать дней, как я иду к тебе, но едва прошла пятнадцать или восемнадцать льё, которые голубка пролетала за час, когда служила вестницей нашей любви; она стрелой проносилась над этими жалкими созданиями, что мнят себя царями всего сотворенного, но не наделены инстинктом птицы и тратят одиннадцать дней на тот путь, который голубка проделывает всего за час.
Скажи мне, как это вышло, что жалкая намагниченная иголка знает, где север, а я — живое, мыслящее, деятельное существо, созданное по образу и подобию Бога, — не знаю, где ты?
Каким образом судно, идущее с одного края света на другой, находит остров посреди океана, а я не могу найти тебя, до которого рукой подать?
О Господи, я понимаю, если хочу его найти, то не к нему, а к тебе должна простирать руки.
Боже мой, поддержи меня! Боже мой, укажи мне путь! Господь мой, веди меня!
29 июля.
Я пришла в себя, вернулась к свету, к жизни.
Я едва не умерла, любимый мой, и чуть было не узнала, наконец, где ты: ведь мертвым известно все. Еще немного, и ночью, в час, когда являются призраки, в твою келью вошла бы тень твоей Изабеллы.
Это заставляет меня пожалеть о том, что я осталась в живых. Увидев мой призрак, ты понял бы, что я умерла; но не видя ни меня, ни моей тени, ты можешь подумать, что я забыла тебя, изменила тебе. Не возражай мне: увы! однажды ты в это поверил.
О, я не изменила тебе, не забыла тебя, я люблю, люблю, просто случилось так, что я чуть не умерла.
Помнишь того раненого, который хотел напиться из ручья, дополз до него, теряя в пути последние капли крови и испуская из груди последние вздохи, дотянулся до воды — и умер, сделав первый глоток? Со мной было то же самое.
Я долго блуждала в лесах — в лесах Молеона, как мне сказали, — и наконец, совсем задохнувшись, набрела на родник. Он бил из земли, вода была ледяная. Я надеялась, подкрепив этой водой свои силы, продолжить путь. И в самом деле двинулась дальше, но не прошла и ста шагов, как остановилась, дрожа в ознобе, и упала без чувств на тропинку.
Не знаю, что последовало за этим обмороком. Знаю только, что вчера я очнулась обессилевшая и, оглядевшись, увидела, что нахожусь в довольно чистой комнате. В ногах моей постели сидела незнакомая женщина; у изголовья была наша голубка, гладившая мою щеку своим бедным сломанным крылышком.
Эта женщина шла из Молеона, вместе с ней возвращались с рынка двое мужчин, которые заметили, что я еще дышу, сжалились надо мной и перенесли туда, где сейчас нахожусь.
Как мне сказали, это маленькая деревушка неподалеку от Нестье. Комната, где я лежу, наверно, расположена довольно высоко, потому что с моей постели ничего не видно, кроме неба.
О Небо, Небо! Только оттуда я жду помощи.
Вчера спросила, какое было число, и мне ответили — 28 июля. Увы! Вот уже больше двадцати дней, как я в пути и бреду наугад. Где я? Далеко ли от тебя или совсем рядом?
Я попросила бумагу, перо и чернила, но едва смогла написать несколько букв: у меня закружилась голова и пришлось остановиться.
Сегодня вечером мне уже лучше: почти не устаю, когда пишу, и всего три раза отдыхала, пока написала тридцать или сорок строк этого письма.
Я поблагодарила добрую женщину, которая ухаживает за мной. Мне больше не нужна сиделка: я здорова. Сегодня ночью попробую встать, а завтра уйти.
Я умру, если буду бездействовать в то время, когда ты ждешь меня. Ведь ты ждешь меня; не правда ли, возлюбленный моего сердца, ты ждешь меня?..
Голубка тоже окрепла; надеюсь, что она сможет делать более долгие перелеты, а значит, я смогу скорее встретиться с тобой.
Собиралась писать всю ночь, но переоценила свои силы и должна проститься с тобой: у меня звенит в ушах, все кругом качается, и мне кажется, что мое перо чертит огненные буквы.
Ах!..
Девять часов утра.
Я проспала около двух часов до того беспокойным сном, что он походил на беспамятство. К счастью, открыв глаза, я увидела, что уже светает.
О мой любимый, как прекрасно рождение дня, если бы только ты был рядом со мной, если бы мы вместе считали гаснущие звезды, которые ты знаешь по именам и которые тают и растворяются в небе за несколько мгновений до того, как солнце, прогнав их, явится на их место.
Я только что отворила окно: мне кажется, что за ним бескрайний простор. Увы, тем легче мне затеряться в этом просторе.
Боже мой! Неужели прекрасная легенда о Тесее и Ариадне всего лишь сказка и моя глубокая, жаркая, постоянная молитва не заставит твою благословенную десницу послать мне с каким-нибудь ангелом нить, ведущую к моему возлюбленному?
О, я слушаю, я смотрю, я жду.
Ничего, ничего, Господи, кроме солнца, Божьего лика, которое, не показавшись еще из-за цепи гор, окрашивает в розовый цвет обвевающий ее воздух…
Какое чудесное зрелище для безмятежного сердца!
Как красивы и изысканны голубые очертания холмов, вырисовывающиеся на фоне золотых лучей! Как величественна и прекрасна эта горная цепь, замыкающая горизонт, с ее снежными вершинами, серебром сверкающими в лучах божественного светила! Как ровно, величаво катит свои воды ко мне эта большая и глубокая река, прочертившая равнину! Как… О Боже мой!
Боже мой! Я не ошиблась! Боже мой! Этот ангел, которого я умоляла послать мне, которого ждала, он здесь, невидимый, но существующий! Боже мой! Эти холмы, из-за которых встает солнце; эта двойная вершина, где оно задержалось на секунду; эти снежные горы, кажущиеся серебряными колоннами, которые поддерживают купол неба; эта большая река, что течет с юга на север, принимая в себя соседние ручьи, словно королева, собирающая дань со своих подданных… Это те самые холмы, те самые горы, та река, о которых он писал мне и которые видны из его окон. Я вижу то же, что и он! Боже мой! Ты дал мне сбиться с пути, чтобы вернее привести меня к нему? Ты закрыл мне глаза, чтобы, открыв их, я увидела свет?
Господи! Господи! Твое милосердие беспредельно!
Ты велик, ты свят, ты добр, с тобой подобает говорить только преклонив колени.
Так на колени, лишенное веры сердце, усомнившееся в доброте Господа, на колени! На колени! На колени!
Четыре часа утра.
Возблагодарив Господа, я иду дальше. О, вместе с верой ко мне вернулись и силы. Я была слаба лишь до тех пор, пока отчаивалась.
В последний раз оглянусь.
О мой любимый, как верно ты все изобразил! Художник, как прекрасно ты увидел! Поэт, как прекрасно ты описал!
Вот вершины Пиренеев из тускло-белых становятся ярко-серебряными, вот их темные склоны понемногу светлеют, из черных становясь лиловыми, из лиловых — голубыми; свет, стекая с вершин, заливает всю равнину; ручейки превращаются в серебряные нити, атласной лентой струится и вьется река; вот и птицы начинают петь в зарослях олеандров, среди гранатовых и миртовых деревьев; вот и орел, что царственно кружит в вышине.
О мой любимый, мы уже объединены взглядом, я вижу то же, что видишь ты.
Вот только откуда ты видишь это?
Подожди, подожди, вот твое письмо. О, я ни на миг не расстаюсь с твоими письмами и, умирая, буду прижимать их к сердцу — пусть их положат в мою могилу, и святотатством будет нарушить это завещание.
Откуда ты это видишь?
Боже мой! Я сейчас не могу читать. К счастью, я знаю наизусть твои письма, и если утрачу их, то смогу восстановить вновь все от первой до последней строчки.
Я так часто перечитывала твои послания!
«Мое окно, обрамленное громадным кустом жасмина, ветки которого, отягощенные цветами, проникают в мою комнату и наполняют ее благоуханием, смотрит на восток…»
Это здесь, здесь!
Солнце только что взошло слева от меня; ты справа.
«Лежащее предо мной плоскогорье наклонено с юга на север, с гор к равнине».
Это здесь.
Да, вот, вот там, на горизонте, — благодарю тебя, Господи, за то, что этот день так ясен! — на том плоскогорье построен скит.
О почему до него еще так далеко, почему взгляд человеческий так слаб? Я вижу сотни белых точек, разбросанных среди зелени деревьев, но какая из них твое жилище?
Милая голубка, любимая голубка, дочь неба, голубка, подскажи мне это!
Я иду, любимый мой, иду: каждая минута промедления похищена у твоего и у моего счастья, терять ее означает искушать Бога.
Не оттого ли ты потерял меня, что опоздал на одну минуту?
Лети, голубка! Да, да, не правда ли, завтра, а может быть, сегодня вечером мы найдем его?
31 июля.
Ночь прервала наши поиски, любимый мой, но я надеюсь, надеюсь!
Я расспрашивала всех подряд, и мне показали стоящий на склоне горы монастырь камальдулов, и рядом с ним маленький домик, по описанию очень похожий на твой. Я видела, как он белеет в лазурной вечерней дымке; может быть, ты был там и смотрел в окно, не зная, что, пока невидимое тебе, в поле твоего зрения попадает несчастное создание, которое живет лишь тобой и умрет без тебя.
Я написала тебе, что расспрашивала всех, и мне ответили, что в домике живет отшельник, мудрец, праведник, еще молодой, красивый.
Этот человек — ты, любимый мой; не правда ли, не правда ли, что это ты?
Если это так, то не был ли ты сегодня в деревне Камон, где я остановилась на ночь?
Ты навестил бедного плотника, который сломал ногу, упав с крыши, перевязал его, лечил, а уходя, сказал провожавшей тебя коленопреклоненной семье:
«Вот вы и успокоились: молитесь об утешившем вас».
О, это, конечно, был ты, я узнала тебя по этим горестным словам. Ты ждешь меня и страдаешь, не зная ничего обо мне.
Ты страдаешь оттого, что не уверен во мне. О, человеку свойственны сомнения, только я не сомневалась, когда считала тебя умершим.
Подумать только, приди я двумя часами раньше, может быть, мы встретились бы с тобой!
Я говорю «может быть», потому что, если бы знаю точно, что это действительно был ты, в ту же минуту, несмотря на усталость, я отправилась бы дальше, взяла бы проводника и велела бы нести себя. Но что, если я ошиблась и это был не ты? О, инстинкт голубки надежнее всего, он ни разу не подвел. Это не ей, а мне недостало сил.
Где ты сейчас, что делаешь, любимый мой? Если только мыслями ты не с Богом, я надеюсь, что ты вспоминаешь обо мне.
О, думая о тебе — я думаю о Боге; думая о Боге — я думаю о тебе.
Уже одиннадцать часов вечера. До завтра! До завтра! Огромная надежда, слишком сильная, чтобы идти не от Неба, говорит мне, что завтра мы встретимся.
XXV
31 июля, одиннадцать часов вечера.
Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь, возлюбленная моего сердца; но спеши, спеши, бьет полночь, истекает последний день моей мирской жизни.
Завтра тот день, что назначен для моего пострижения; полный благочестия, я ждал, пока истекли три месяца, но я не могу бесконечно нарушать данное Господу обещание. Господь говорит со мной, потому что ты молчишь. Господь призывает меня, потому что ты меня оставила.
О, как больно мне отказаться от надежды, которую ты на короткий срок вернула мне!
Телом и душой я возвратился в прошлое и был счастлив; лишиться этого счастья мне будет тяжелее, чем было бы расстаться с жизнью.
Что бы об этом ни говорили, монастырская жизнь не означает ни смерти тела, ни смерти души. Я часто рассматривал мертвые тела, мои глаза останавливались на их бледном и безжизненном челе: это была разрушающаяся материя, только и всего. Никакая мечта не трепетала в навсегда уснувшем мозге, никакая физическая, никакая душевная боль не трогала навсегда спущенные струны.
Я часто наблюдал и эти живые трупы — монахов; но их лоб, бледнее и безжизненнее чела мертвеца, все же другой, непохожий; слезы, бесконечно струящиеся из их сердца, как из глубокого и неиссякаемого источника, углубили глазницы и проточили на щеках тот горький след, по которому Господь узнает избранников страдания, чтобы сделать их — по крайней мере, я надеюсь на это — избранниками своей любви.
Их скорчившиеся тела постоянно била нервная дрожь, которая свидетельствовала о боли и указывала на присутствие жизни. Это не была безмятежность, но не был и покой склепа. Это была медленная, изнуряющая, пожирающая их агония, она вела из этого мира в иной, влекла от жизни к смерти, сводила с ложа в могилу.
Что же, Изабелла, я не скрываю от себя этого и опускаюсь в бездну, измерив ее глубину; я готов испытать эту агонию, лишь бы она скорее привела меня к смерти!
Прощай, я буду всю ночь молиться. С двух часов ночи начнут звонить колокола в монастыре, чтобы объявить, что душа, но не тело, оставляет земную жизнь ради Неба.
В девять часов утра те, что станут моими братьями во Господе, придут за мной.
1 августа, пять часов утра.
Только что я в последний раз увидел восход солнца. Никогда еще оно не было таким сияющим, таким прекрасным, таким величественным. Что ему страдания того жалкого, маленького мира, который оно освещает? Что ему мои слезы, смочившие бумагу? Оно выпьет их за десять минут, подставь я письмо под его лучи, как выпивает каплю росы, дрожащую на конце травинки или скатившуюся, подобно алмазу, в чашечке цветка.
Я больше не увижу его. Предназначенная мне келья выходит на двор, обнесенный высокой стеной, через прорези мне будет виден лишь уголок кладбища. Я попрошу, чтобы этот уголок отвели для моей могилы.
Надо держаться поближе к тому, чего хочешь скорее достичь.
Помолимся!
Девять часов утра.
Пение приближается: монахи идут за мной.
Я не хочу, чтобы эти люди вошли сюда. Не хочу, чтобы они увидели Ваши письма и то, которое я пишу сейчас. Не хочу показывать им мои слезы.
Я встречу их на пороге. Душа останется с Вами, они получат бездыханное тело.
Прощайте!
Смерть Бога исторгла стон из глубины каждой живой души, но и этот стон не мог быть таким жалобным, таким мучительным, как тот, которым я оплакиваю гибель нашей любви.
Прощайте! Прощайте! Прощайте!
XXVI
Десять часов.
Ваша пустая келья! Ваше письмо, мокрое от слез!.. Ваше последнее прости!..
Я опоздала на полчаса.
Но если Вы еще не произнесли обета!
Господи! Господи! Дай мне сил!
О голубка, голубка, если бы у меня были твои крылья, пусть даже перебитые!..
XXVII
(Обрывок письма, найденный в архивах монастыря урсулинок в Монтольё; начало письма отсутствует).
… На рассвете я покинула деревню Камон, где, как я говорила Вам, дорогая матушка-настоятельница, он, скорее всего, побывал днем.
Я расспрашивала о нем семью бедного покалеченного плотника, и узнала бы его по описанию, если бы мое сердце не сказало мне еще раньше, что это был он.
Впрочем, слова, произнесенные им перед уходом («Вот вы успокоились: молитесь об утешившем вас»), могли исходить только из этой скорбящей и готовой предаться Богу души.
Я черпала силы в надежде встретиться с ним; если бы я наняла лошадь или повозку, мне пришлось бы в объезд добираться до этого домика, белой точкой видневшегося рядом с темным и громадным монастырем камальдулов, из которого, хоть он и был в трех льё птичьего полета, доносился на крыльях ветра звон колоколов.
Выходя из деревни, я отпустила голубку: бедная малютка совершила один из самых долгих своих перелетов, около двухсот шагов, направляясь к домику, который я пожирала взглядом. Сомнений не было; близость цели ей, как и мне, придавала сил.
К несчастью, дороги не было: пришлось идти по склону горы, изрезанному ручьями и оврагами, поросшему лесом, в который я не решалась входить из страха заблудиться.
Я шла без остановки три часа, но из-за того, что шла в обход, продвинулась всего на два льё.
Часто я переставала видеть домик и, не будь со мной моей милой голубки, сбилась бы с пути. Я подбрасывала ее в воздух и шла в направлении, указанном ее полетом.
Наконец мне показалось, что дорога стала менее трудной. Я слышала, как в деревушке пробило восемь; не знаю почему, но звон этих часов был печален, и у меня сжалось сердце. Казалось, каждый удар, пролетая мимо на бронзовых крыльях, говорил мне: «Спеши! Спеши!»
Я спешила, и вскоре смогла рассмотреть маленький домик. Приближаясь, я узнавала его по описанию: окно, из которого он видел, как восходит солнце; затенявший окно жасмин, который издалека казался мне зеленой завесой.
На мгновение мне показалось, что он стоит у окна, и я с криком протянула руки к этому то ли видению, то ли человеку.
Увы! До него было больше четверти льё: он не увидел и не услышал меня.
Колокола в монастыре все еще звонили, я невольно вспомнила непрекращавшийся ночной звон перед моим пострижением, и ужасное подозрение пронизало мне мозг и сердце: это по моему любимому звонят колокола.
Но, качая головой, я говорила себе: «Нет, нет, нет!»
Я продолжала идти, и вскоре увидела длинный ряд монахов; эта процессия двигалась по направлению к маленькому белому домику, а затем повернула к монастырю.
Зачем они приходили в этот дом?
За живым или за усопшим?
Вскоре мне предстояло это узнать, потому что меня отделяли от маленького дома всего несколько сотен шагов, но стремительный поток, глубокий, полный скользких камней, преградил мне путь; я даже не пыталась перейти его вброд и бегом, несмотря на усталость, стала подниматься к его началу. Я знала, что доберусь до этого дома, но там, вероятно, эти призрачные силы оставят меня.
Через четверть часа я увидела дерево, переброшенное с одного берега потока на другой. В иное время я не осмелилась бы ступить на этот шаткий мост, но тогда, спокойно оглядев его, уверенно и решительно перешла ручей.
Дальше препятствий не было, появилось подобие тропинки. Я бежала все быстрее по мере приближения к цели.
И вот желанная цель достигнута. Я вошла в открытый дом, увидела справа от себя лестницу, молча, никого не окликая, взлетела по ней вверх и, едва дыша, коснулась двери комнаты, уверенная, что в ней никого нет.
И действительно, комната была пуста, окно открыто, на столе лежало мокрое от слез письмо.
Это письмо, о матушка!.. Это письмо, последние строки которого были начертаны всего полчаса назад, было его окончательным прощанием со мной.
Я опоздала на полчаса: он был в церкви, обряд уже совершался.
Мне почудилось, что пол закачался у меня под ногами, все закружилось перед глазами. Я закричала так, что, казалось, этот вопль прекратится лишь с моим последним вздохом; но вдруг пришла мысль: быть может, жертва еще не принесена, обряд не совершился?
Я выбежала из дома, по пути безотчетно подхватив голубку, усевшуюся на освященной веточке букса.
Монастырь был примерно в ста шагах, но у меня не было сил дойти до церкви. Я почти потеряла рассудок и едва дышала.
Я слышала, как монахи пели «Magnificat»[1].
Я слышала, как орган играл «Veni Creator»[2].
Боже мой! Боже мой! Оставалось всего несколько секунд.
Несчастная я, трижды несчастная! Я подошла к церкви со стороны апсиды, вход же был с противоположной стороны.
Окно посередине было открыто, но не было надежды, что мой голос перекроет гул органа и пение монахов.
Я попытаюсь закричать, но лишь глухой стон вырвался из моей груди.
В такие мгновения кажется, что все потеряно безвозвратно.
Я почувствовала, как мысли мои мешаются, все во мне рушится, но вдруг среди этого хаоса промелькнула вспышка пламени, свет озарил мое сердце.
Я бросила свою голубку в открытое окно — и упала без чувств.
Небо смилостивилось: я очнулась в объятиях моего возлюбленного.
Он был уже в монашеской рясе, с выбритой тонзурой, но все же он был мой! Мой! Мой!
Он принадлежал мне навеки!
Голубка, влетевшая в солнечном луче подобно Духу Святому, помешала ему произнести клятву.
Милая голубка, ты будешь изваяна на нашей гробнице, ты уснешь в наших сплетенных руках!
Я обещала написать Вам, если найду его, святая мать. Господь, в беспредельном своем милосердии, позволил мне его найти, и я пишу к Вам.
Ваша почтительная и благодарная дочь, Изабелла де Лотрек, графиня де Море.
Счастливое Палермо, 10 сентября 1638 года.
Комментарии
Повесть Дюма «Голубка» («La colombe»), или «История голубки» («Histoire d’une colombe»), опубликованная впервые в газете «Век» («Le Siècle») в номерах с 22.10.1850 по 9.11.1850, примыкает по содержанию к роману «Граф де Море» («Красный сфинкс»). Написанная на 15 лет раньше романа, она рассказывает, тем не менее, о дальнейшей судьбе его героев — графа де Море и его возлюбленной Изабеллы де Лотрек.
Время действия: 5 мая 1637 г. — 10 сентября 1638 г.
Первая книжная публикация во Франции: Cadot, Paris, 1851, 8vo, 2 v.
Перевод выполнен А. Васильковой специально для настоящего Собрания сочинений и сверен с оригиналом Л. Чурбановым.
Это первая публикация повести на русском языке.
… я назвала ее Иридой, как будто предвидела, что когда-нибудь она станет нашей вестницей. — Ирида — вестница богов у древних греков; символом ее была радуга.
… В тот же день, перед «Анжелюсом». — «Анжелюс» — в католичестве особая молитва, обращенная к Богоматери и начинающаяся со слов «Angelus Dei» (лат. «Ангел Божий»), во французском произношении «Анжелюс»; читается трижды в день — в 6 утра, в полдень и в 6 вечера (из текста видно, что здесь подразумевается вечерний «Анжелюс»). Тем же словом обозначается особый колокольный звон, подающий сигнал к этой молитве.
… Это была сокровищница любви, религии и поэзии — «Исповедь» святого Августина. — «Исповедь» (ок. 400 г.) — автобиографическое произведение святого Августина (354–430), величайшего из отцов западной христианской церкви, который впервые привел в систему всю совокупность верований христианства; в его учении о благодати исключительное значение придается предопределению; в самом искании правды, согласно святому Августину, содержится счастье (блаженство), к которому стремится душа человека. Святому Августину принадлежат 93 труда в 232 книгах. В «Исповеди» он рассказывает о том, как к нему пришло решение об обращении в христианство: в то время как его разум уже был готов принять крещение, ветхая природа, запятнанная грехом, нуждалась в помощи свыше; в нем боролись две воли: старая, плотская, злая, а также новая — духовная, добрая; в минуту наивысших душевных терзаний он услышал нежный детский голосок, напевавший необычайные слова: «Возьми, читай!» Августин почувствовал знамение Божье, открыл Писание на Послании апостола Павла к Римлянам и прочел: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Римлянам, 13: 14); вера в благодатное действие Провидения дала ему силу побороть грех, и он, просветленный, радостный, решил войти в лоно истинной веры и церкви; это произошло в 387 г.
… этого блаженного епископа, сына святой, ставшего святым в свой черед. — Мать святого Августина — Моника (331–387), святая католической церкви; вела благочестивый образ жизни и усердно посещала церковь; сыграла важную роль в обращении сына к Евангелию, что привело его к крещению.
Quaerens quem devoret («ища, кого поглотить») — слова из Первого послания святого апостола Петра («Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» — 5: 8).
…Вы… участвовали в борьбе между принцами? — Речь идет о борьбе против кардинала Ришелье, которую долгие годы вели Гастон Орлеанский и королева-мать Мария Медичи.
… Почему Иисус простил Магдалину? — Имеется в виду сюжет из Нового завета: Иисус Христос простил и излечил грешницу Марию Магдалину от страшного недуга («семи бесов»), наставив ее на путь веры и благочестия; он простил ее, потому что она сразу и безоговорочно поверила в него; Мария Магдалина стала преданнейшей последовательницей Иисуса Христа, одной из жен-мироносиц..
… Почему Христос отпустил грехи прелюбодейке? — Имеется в виду евангельский рассказ о прощении Иисусом неверной жены, которую по закону Моисееву следовало побить камнями. Христос обратился к обвинителям: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». А когда они устыдились и разошлись, он сказал женщине: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Иоанн, 8: 7, 11).
… принесла мне в клюве, словно голубка ковчега — зеленую ветвь… — Имеется в виду библейский сюжет о голубке из Ноева ковчега, которая принесла Ною в клюве свежесорванный масличный лист, что свидетельствовало об окончании всемирного потопа.
… один нынешний философ сводит все мироздание к вихрям. — Имеется в виду Рене Декарт (1596–1650) — французский философ, математик, физик и физиолог, автор теории, объясняющей образование и движение небесных тел вихревым движением частиц материи («вихри Декарта»).
… поступайте подобно черным эфиопам и бледным сынам Египта, которые утоляют жажду водами Нила и считают, что совершили бы святотатство, поднявшись по реке до ее истоков. — Нил считался у египтян священной рекой, и эти представления до определенной степени заимствовали у них греки и римляне. Суеверное отношение к проблеме поиска его истоков объяснялось пережитками древнейших верований: Нил вообще не имеет истоков, а представляет собой замкнутое кольцо, нижняя часть которого протекает по земле, а затем поднимается из Средиземного моря, проходит по небу (солнце днем путешествует по небесному Нилу на ладье) и снова опускается на землю в районе неких Лунных гор, находящихся где-то на юге. Ученые считают, что Лунными горами в древности называли Эфиопское нагорье, где находится озеро Тана, из которого вытекает Голубой Нил, сливающийся с Белым Нилом в собственно Нил близ нынешней столицы Судана — Хартума. Белый Нил, являющийся основой собственно Нила (от его истоков вычисляется длина этой великой африканской реки), вытекает из озера Виктория, как это было установлено английским путешественником Джоном Хеннингом Спиком (1827–1864) во время его экспедиции 1860–1863 гг. (т. е. в 1850 г., во время написания «Голубки», Дюма еще не мог об этом знать).
… древнего философа… помнившего, как в прежнем своем воплощении он сражался у стен Трои… — Подразумевается знаменитый греческий философ-математик Пифагор (ок. 580–500 до н. э.), создавший, в частности, теорию перевоплощения души (посредством ее многократного переселения), что, по его убеждению, безусловно свидетельствовало о ее бессмертии.
Труды самого Пифагора до нас не дошли, и о нем еще в древности слагалось множество легенд; по словам Пифагора, как их пересказывает Диоген Лаэртский (VIII, 4–5), его душа неоднократно воплощалась в разных людей, в том числе в троянца Эвфорба, который поразил ударом в спину греческого героя Патрокла и сам был убит Менелаем («Илиада», XVI, 806–815; XVII, 9—81).
… катит свои воды одна из самых больших рек, орошающих земли Франции. — Имеется в виду Гаронна — река во Франции (в основном) и Испании; длина — 647 км, истоки в Испанских Пиренеях, впадает в Бискайский залив.
… так та царица, о которой нам поведал Гомер, каждую ночь распускала сотканное ею за день. — Имеется в виду Пенелопа — персонаж поэмы «Одиссея», жена Одиссея, которая хранила верность своему странствовавшему супругу и умело уклонялась от многочисленных навязчивых женихов; она объявила им, что выйдет замуж лишь тогда, когда кончит ткать саван на случай смерти ее свекра Лаэрта, но ночью распускала каждый раз все сотканное за день, и так в течение трех лет, пока не возвратился Одиссей (XIX, 139–156).
Гомер (соврем, датировка его творений — вторая пол. VIII в. до н. э.) — легендарный древнегреческий эпический поэт; по преданию, слепой бродячий певец, которому со времен античности традиция приписывает авторство поэм «Илиада» и «Одиссея».
… Я родился в Фонтенбло 1 мая 1607 года… — Фонтенбло — город во Франции (в соврем, департаменте Сена-и-Марна), приблизительно в 70 км к юго-востоку от Парижа, в настоящее время — в департаменте Сена-и-Марна; там находится замок, построенный Франциском I и являвшийся его летней резиденцией; в этом замке родился Людовик XIII.
… Монарх, чье изображение я храню в своей келье и которого особенно чту, — король Генрих IV. — Генрих IV Бурбон (1553–1610) — король французский (он же Генрих III, король Наваррский); сын Антуана де Бурбона, герцога Вандомского, первого принца крови, и Жанны III д’Апьбре, королевы Наваррской; глава протестантской партии во Франции (официально — с 1569 г., реально — со второй половины 1570-х гг.); с 1589 г. — король Франции (не признанный большей частью подданных); утвердился на престоле после ряда лет упорной борьбы: военных действий, политических и дипломатических усилий (в т. ч. перехода в католичество в 1593 г.); в 1598 г. заключил выгодный для страны мир с Испанией и издал Нантский эдикт, обеспечивший французским протестантам свободу совести и давший им ряд политических гарантий; после расторжения в 1599 г. его брака с бездетной Маргаритой Валуа женился на Марии Медичи, племяннице великого герцога Тосканского, и имел от нее шесть детей: Людовика XIII, Елизавету (ставшую женой Филиппа IV, короля Испании), Кристину (вышедшую замуж за Виктора Амедея I, герцога Савойского), Никола, герцога Орлеанского (ум. в 1611 г.), Гастона, герцога Анжуйского (затем Орлеанского), и Генриетту (будущую супругу Карла I Английского); в 1610 г. накануне возобновления военного конфликта с Габсбургами был убит католиком-фанатиком Равальяком. Один из самых знаменитых королей Франции, он добился прекращения почти сорокалетней кровавой гражданской войны, обеспечил экономическое и политическое возрождение страны, укрепил королевскую власть и повысил международный престиж своего государства; во многих аспектах своей внутри- и внешнеполитической деятельности явился непосредственным предшественником Ришелье.
… Антуан де Бурбон, граф де Море, которого считали убитым в битве при Кастельнодари… — Море, Антуан де Бурбон, граф де (1607–1632) — побочный сын Генриха IV от Жаклин де Бёй, графини де Море; был узаконен отцом-королем в 1608 г.; получил образование в Клермонском коллеже; его сводный брат Людовик XIII избрал графу де Море духовную карьеру, пожаловав ему многочисленные аббатства, однако тот предпочел встать на путь дворцовых интриг; он стал сообщником Гастона Орлеанского, другого своего сводного брата, в борьбе против Ришелье и его политики; в 1631 г. он был объявлен государственным преступником, а его имущество было конфисковано; вместе с Гастоном Орлеанским бежал из Франции и с ним же в 1632 г. вернулся туда во главе армии мятежников; 1 сентября 1632 г. в сражении при городке Кастельнодари (недалеко от франко-испанской границы) с королевской армией командовал левым флангом мятежников и был смертельно ранен; позднее появилась версия, согласно которой ему якобы удалось выжить, после чего он как будто бы вел жизнь отшельника в своем владении Гардель, в провинции Анжу, где и умер в возрасте 85 лет; впрочем, эта романтическая версия, частично использованная Дюма в повести «Голубка», почти ничем не подтверждается.
Кастельнодари — населенный пункт в 36 км от города Каркасона (соврем, департамент Од) на юге Франции, где 1 сентября 1632 г. произошло сражение мятежников с королевской армией.
… видел входящей в кафедральный собор Баланса… — Баланс — город на юге Франции, на реке Рона, в соврем, департаменте Дром.
… удалявшийся в сторону Оранжа… — Оранж — город на юге Франции, в 21 км к северу от Авиньона, в средние века — центр небольшого княжества (Оранское княжество, или Орания), с 1530 г. принадлежавшего семейству графов Нассау-Дилленбург, вассалов Империи; к этому роду принадлежал Вильгельм Оранский. В 1702 г. Оранская ветвь рода Нассау пресеклась, на княжество претендовали разные князья и государи, в том числе король Прусский, но в 1713 г. Орания отошла к Франции; ныне — в департаменте Воклюз.
… Я знала, что происходит там, в Лангедоке… — Лангедок — историческая провинция в Южной части Франции; главный город Тулуза; в настоящее время составляет департаменты Верхняя Гаронна, Тарн, Од, Эро, Гард, Ардеш, Лозер и Верхняя Луара.
… Правивший там де Монморанси… принял сторону изгнанной королевы-матери и Месье, только что проехавшего всю Францию, чтобы присоединиться к герцогу… — Генрих II де Монморанси (1595–1632) — сын Генриха I де Монморанси, коннетабля Франции, и его второй жены Луизы де Бюдос, брат Шарлотты Маргариты, принцессы де Конде; крестный сын короля Генриха IV; адмирал (1612); губернатор Лангедока (1614); маршал Франции (1630); участвовал в антиправительственном заговоре Гастона Орлеанского, за что и был казнен в Тулузе.
Изгнанная королева-мать — это Мария Медичи, высланная сыном-королем из Парижа после «Дня одураченных», а затем бежавшая в июле 1631 г. из Франции в Испанские Нидерланды; Месье — Гастон Орлеанский, тогда же тайно бежавший из Франции и объявившийся вскоре в контролируемой испанцами провинции Франш-Конте, на границе с Швейцарией (соврем, департаменты Верхняя Сона, Ду и Юра).
«День одураченных» — Имеются в виду события 10–11 ноября 1630 г., когда «в дураках» остались противники кардинала Ришелье, поспешившие объявить о его опале, но обманувшиеся в своих расчетах.
В этот день королева-мать, Месье, Анна Австрийская и ряд королевских приближенных собирались убедить короля отстранить ненавистного министра, однако они напрасно прождали монарха в Люксембургском дворце в Париже. Ришелье, заранее узнавший об этом, задержал короля на день в Версале, где тот охотился (знаменитый дворцовый комплекс в Версале был построен позднее, в описываемое время гам находился лишь охотничий домик Людовика XIII), и сумел поговорить с ним без помех, убедив слабовольного монарха подтвердить все полномочия кардинала-министра и удалить от двора сторонников Марии Медичи.
Месье — титул младшего (следующего за королем по времени рождения) брата короля во Франции; в данном случае речь идет о Гастоне Орлеанском.
Гастон Жан Батист Французский, герцог Орлеанский (1608–1660) — третий сын Генриха IV и Марии Медичи; первоначально носил титул герцога Анжуйского; в 1626 г., после заговора Шале, женился на Марии де Бурбон-Монпансье (умершей от родов в 1627 г.); овдовев, возымел намерение жениться на Марии Гонзага, дочери герцога Неверского, но Людовик XIII и королева-мать воспротивились этому; будучи в Лотарингии, влюбился в Маргариту, дочь лотарингского герцога Франциска II, и женился на ней в 1632 г. (Людовик XIII долго отказывался признавать этот совершенный без его согласия брак, но Гастон проявил необычную настойчивость, и незадолго до своей смерти король уступил); был причастен ко всем интригам и заговорам против Ришелье; в малолетство Людовика XIV стал генеральным наместником королевства, участвовал в военных кампаниях 1644–1646 гг.; в период Фронды (антиабсолютистского движения 1648–1653 гг., направленного против регентши Анны Австрийской и ее фаворита кардинала Мазарини) первоначально был на стороне королевы Анны и ее министра, потом примкнул к оппозиции; после поражения фрондеров был сослан в свои владения; последние годы жизни провел в замке Блуа. В историографии XIX в. оценка личности и деятельности Гастона однозначно отрицательна (что, несомненно, сказалось на трактовке его образа в настоящем романе); в современной исторической науке эта оценка значительно более глубока: обращается внимание на объективные трудности положения герцога Орлеанского в царствование Людовика XIII, на отдельные его попытки защитить некоторых своих сообщников, на одобрительные отзывы о нем ряда современников, а также его, по-видимому, искреннее сочувствие простому народу, акты меценатства и т. д.
… поднял в провинции восстание и собирал войска, чтобы выступить против короля и против г-на де Ришелье. — Гастон Орлеанский формировал армию на испанские деньги для похода на Париж; Монморанси, королева-мать и Месье согласовали свои действия в борьбе против ненавистного им кардинала Ришелье, ибо устранить его было их заветной мечтой.
Ришелье, Арман Жан дю Плесси, герцог, кардинал де (1585–1642) — третий сын Франсуа дю Плесси де Ришелье (1548–1590), главного прево Франции, и Сюзанны де ла Порт; с 1607 г. епископ Люсонский; в 1616–1617 гг. государственный секретарь по иностранным делам; с 1622 г. кардинал; с 1624 г. фактически первый министр Людовика XIII; один из крупнейших государственных деятелей Франции, много сделавший для укрепления абсолютной монархии, усиления внутреннего единства и мощи французского государства, роста его роли в Европе; в своей деятельности постоянно сталкивался не только с оппозицией в различных общественных слоях, но и с враждебностью почти всех членов королевской семьи и ближайшего окружения Людовика XIII — представителей высшей аристократии и придворных кругов, что требовало от него постоянной борьбы за влияние на государя и контроля над всеми приближенными к нему лицами и вызывало в нем неуверенность в прочности собственных позиций, объяснявшуюся отчасти и тем, что его личные отношения с королем были непростыми, а чувства, испытываемые к нему монархом, — весьма неоднозначными.
… хочу навестить тетушку, настоятельницу монастыря в Сен-Понсе… — Сен-Понс (точнее: Сен-Понс-де-Томьер) — город на юге Франции, в Лангедоке (соврем, департамент Эро), в долине реки Жор, притоке реки Орб.
… привел ему две тысячи человек, набранных в Трирском княжестве. — Трирское княжество — в описываемое время духовное княжество (т. е. такое государственное образование, в котором духовный глава епархии является также светским правителем) в составе Священной Римской империи, с центром в городе Трир на реке Мозель (ныне город и территория бывшего княжества находятся в германской земле Рейнланд-Пфальц); архиепископ Трирский был одним из курфюрстов Империи.
… он удерживал Лодев, Альби, Юзес, Алес, Люнель и Сен-Понс… — Речь идет о городах провинции Лангедок, контролировавшихся мятежным губернатором Генрихом де Монморанси.
Лодев — город в Лангедоке, на реке л’Эрг (в соврем. департаменте Эро).
Альби — город в Южных Пиренеях, на реке Тарн; административный центр соврем. департамента Тарн.
Юзес — город на юге Франции, на реке Альзон (в соврем, департаменте Гар).
Алес — город на реке Гардон-д’Алес в соврем, департаменте Гар.
Люнель — город на одноименном канале в соврем, департаменте Эро.
Сен-Понс — см. примеч. выше.
… Ним, Тулуза, Каркасон и Безье, хотя и населенные протестантами, отказались присоединиться к нему. — Здесь названы города провинции Лангедок, являвшейся традиционным очагом протестантского влияния во Франции наряду с Ла-Рошелью; в настоящее время Ним находится в департаменте Гар, Тулуза (историческая столица Лангедока) — в департаменте Верхняя Гаронна, Каркасон — в департаменте Од, Безье — в департаменте Эро.
… Одна из них шла через Пон-Сен-Эспри под командованием маршала де Шомберга. — Пон-Сент-Эспри — город в соврем, департаменте Гар (округ Юзес), у места впадения в Рону реки Ардеш.
Шомберг, Анри де (1574–1632) — граф де Нантёй, маршал Франции с 1625 г.
… кардинал считал необходимым присутствие Людовика XIII вблизи театра военных действий. — Людовик XIII Справедливый (1601–1643) — король Франции с 1610 г., старший сын Генриха IV и Марии Медичи. После убийства своего супруга Мария Медичи была объявлена регентшей при малолетнем сыне; стремясь к сближению с Испанией, она заключила с ней договор о двойном бракосочетании: Людовика XIII с инфантой Анной Австрийской и его сестры, принцессы Елизаветы, с инфантом Филиппом (наследником короля Филиппа III); несмотря на женитьбу Людовика (1615) и окончание официального срока регентства, Мария Медичи сохраняла всю полноту власти, все больше подпадая под влияние супругов Кончини, своих фаворитов, и совершенно ингнорируя взрослеющего сына; в результате этого король и его ближайшее окружение составили заговор; Кончини, получивший ранее титул маркиза д’Анкр и маршальское звание, был убит, его жена предана суду и казнена, Мария Медичи отправлена в изгнание в Блуа (1617). В первые годы самостоятельного правления Людовика XIII реальная власть принадлежала его фавориту, герцогу Люиню, с которым тщетно пыталась бороться королева-мать, дважды поднимавшая восстание против сына; после смерти Люиня (1621) король сблизился с матерью, чьим главным советчиком являлся в тот период Ришелье; после долгих поисков человека, с которым он мог бы разделить тяготы государственного управления и который мог бы стать ему опорой, король остановился, наконец, на Ришелье (1624); этому выбору он, несмотря на множество сложностей и преград, остался верен до конца жизни, даже после смерти кардинала сохранив в неприкосновенности основные направления политики и управленческий персонал, избранный покойным министром. Сложившийся еще при жизни обоих взгляд на их отношения как на полное подчинение слабого, безвольного короля властному тирану-министру, превратившему своего государя в марионетку, столь распространенный затем в XVII–XIX вв., полностью пересмотрен историками и биографами XX в., сделавшими акцент на партнерском характере союза «король — кардинал» и подвергшими переоценке характер и политическую роль самого короля.
… Уверяли, что король уже прибыл в Лион. — Лион — главный город исторической области Лионне; расположен при слиянии рек Рона и Сона; ныне административный центр департамента Рона.
… Тулузскому парламенту был дан приказ начать против него судебный процесс. — Кроме Парижского парламента, являвшегося верховным королевским судом, существовали также подчиненные ему провинциальные парламенты, осуществлявшие королевское правосудие на местах; полномочия Тулузского парламента распространялись на провинцию Лангедок.
… архиепископ Нарбонский, личный друг г-на де Монморанси… — Имеется в виду Клод де Ребе (ум. в 1659 г.) — архиепископ Нарбонский с 1628 г.; ему удалось уйти от наказания после провала авантюры Гастона Орлеанского.
… направил к нему г-на де Кавуа. — Кавуа, Франсуа Ожье, Сьёр де — капитан гвардейцев кардинала Ришелье; убит в 1641 г.
… чтобы Бог воинств бросил доброжелательный взгляд на героя Веллано и сына героя Иври. — Бог воинств — одно из имен Бога; в греческом и славянском переводе Писания это имя (по-древнееврейски — Яхве Цаваот) передано как личное имя Бога — Саваоф; под «воинствами» в Писании понимаются упорядоченные по иерархическому принципу и объединенные в акте славословия Господу все небесные силы: Солнце, Луна, звезды и ангелы небесные. Со времен средних веков в рыцарском, милитаризованном обществе это имя Божье трактовалось как «помогающий в битвах».
Герой Веллано — Генрих II де Монморанси, отличившийся в битве при Веллано против пьемонтцев в 1630 г.
Герой Иври — Генрих IV, одержавший победу при Иври, отец графа де Море.
… оставили слева деревушку JIa-Ливиньер и около восьми часов вечера остановились в Коне. — Кон (Кон-Минервуа) — городок в соврем, департаменте Од (округ Каркасон), в 10 км к западу от селения Ла-Ливиньер.
… напрямик, без дороги, направились в Монтольё (садовник был из Сессака и хорошо знал эти места). — Монтольё — селение в соврем, департаменте Од (округ Каркасон), в 25 км к западу от Кона.
Сессак — город в соврем, департаменте Од, в 6 км к северо-западу от Монтольё.
… они отвели нас к берегу речки Вернасон. — Вернасон — небольшая река, протекающая в 3 км к западу от Монтольё; на ней стоит Сессак.
… два ручья, встретившиеся потом на нашем пути. — Скорее всего, имеются в виду речки Лампи и Тантен к западу от Вернасона.
… Между Ферралем и Виллеспи конь под садовником упал… — Ферраль — замок в 12 км от Монтольё, на реке Тантен.
Виллеспи — деревушка в 2 км к югу от Ферраля и в 12 км к востоку от Кастельнодари.
… мы проехали деревню Сен-Папуль, оставив ее справа… — Сен-Папуль — селение в соврем, департаменте Од (округ Каркасон), в 6 км к западу от Виллеспи.
… Один из них показал рукой на ручей. — Видимо, это речка Фрекель, огибающая Кастельнодари с северо-востока.
… Церера, с факелом в руке искавшая Прозерпину… — Имеется в виду сюжет из античной мифологии: Церера, богиня земледелия и плодородия, с факелом в руке отправилась в подземное царство на поиски своей похищенной дочери Прозерпины, которая стала богиней подземного царства.
… у меня в кармане есть флакон с мелиссовой водой… — Мелиссовая вода — эфирное масло из лимонной мяты, употребляемое в виде настоя для укрепления нервной системы.
… в сторону Фандея. — Фандей — селение в 5 км к югу от Кастельнодари.
… попросил отвести его… в аббатство Пруй… — Это аббатство находится в 18 км к юго-востоку от Кастельнодари, рядом с городом Фанжо.
… говорят о какой-то карете, свернувшей после сражения к Мазеру. — Мазер — селение в соврем, департаменте Арьеж (округ Памье), в 25 км к западу от Кастельнодари.
… мы осведомлялись о Вас в Вильнёв-лё-Конта, в Пера, в Сент-Камеле… — Скорее всего, здесь опечатка и имеется в виду не Вильнёв-лё-Конта (Villeneuve-le-Comtat), а Вильнёв-ла-Компталь (Villeneuve-la-Comptal) — селение в 5 км к юго-западу от Кастельнодари.
Пера (Пера-сюр-л’Эр) — селение в 12 км к юго-западу от Кастельнодари.
Сент-Камель — селение в 14 км к юго-западу от Кастельнодари.
… В Бельпеше, Каюзаке, Фанжо, Альзоне, Конке, Перьяке — ни в одном из этих мест не удалось отыскать следов Вашего пребывания. — Бельпеш — селение в 25 км к юго-западу от Кастельнодари.
Каюзак — селение в 20 км к юго-западу от Кастельнодари.
Фанжо — город в 18 км к юго-востоку от Кастельнодари.
Альзон — городок в 16 км к юго-востоку от Кастельнодари.
Конк (Конк-сюр-Орбьель) — городок в 15 км к востоку от Альзона.
Перьяк (Перьяк-Минервуа) — городок в 15 км к востоку от Конк-сюр-Орбьеля.
… Я просила отвести меня к урсулинкам. — Имеется в виду женский монашеский орден, основанный в 1537 г. и названный в честь святой Урсулы (V в.), королевской дочери, отказавшейся от замужества и посвятившей себя Христу; Урсула вместе с десятью девушками-христианками из благородных семей на обратном пути из паломничества в святые места была убита гуннами в районе Кёльна; созданный в память о святой Урсуле и ее погибших спутницах орден урсулинок посвятил себя заботам о бедных и воспитанию девушек.
… Сыновья Франции не могли дольше терпеть это принуждение… — Сыном Франции именовался сын короля; соответственно дочерью Франции — дочь короля.
… У него были Бруаж, Олерон, Ре, Лa-Рошель, Сомюр, Анже, Брест, Амбуаз, Гавр, Пон-де-л’Арш и Понтуаз… — Бруаж — населенный пункт, входящий в состав коммуны Йер-Бруаж на западе Франции, на побережье Атлантического океана (в соврем, департаменте Приморская Шаранта); в XIV–XVII вв. важный порт европейского масштаба, связанный с производством и экспортом соли.
Олерон, Ре — Речь идет о двух островах на ближайших западных подступах к Ла-Рошели; они были отбиты у гугенотов в ходе осады Ла-Рошели в 1628 г..
Лa-Рошель — крепость и морской порт на Атлантическом побережье Франции, ныне административный центр департамента Приморская Шаранта; с сер. XVI в. один из важнейших укрепленных центров французских протестантов (гугенотов), сохранявших фактическую независимость от центральной власти в Париже. Лишь в октябре 1628 г. после многомесячной осады, которой лично руководил кардинал Ришелье, установивший полную блокаду крепости с суши и моря, Ла-Рошель была взята правительственными войсками и с опасным очагом смуты было, наконец, покончено.
Сомюр — город на реке Луара (в соврем, департаменте Мен-и-Луара).
Анже — город на реке Мен, прежняя столица исторической области Анжу; ныне административный центр департамента Мен-и-Луара.
Брест — город и порт на северо-западе Франции, на полуострове Бретань (соврем, департамент Финистер), на берегу Брестской бухты Атлантического океана.
Амбуаз — город на реке Луара в Турени (ныне департамент Эндр-и-Луара).
Гавр — город в Нормандии (в соврем, департаменте Приморская Сена), крупный порт в устье Сены.
Пон-де-л’Арш — город на Сене, в соврем, департаменте Эр. Понтуаз — город на реке Уаза, центр соврем, департамента Валь-д’Уаз.
Ришелье пользовался доходами с этих городов и назначал там командиров гарнизонов.
… Он хозяйничал в провинции и в крепости Верден. — Верден — город на северо-востоке Франции на реке Мёз (Маас); в средние века представлял собой духовное княжество в составе Священной Римской империи, в 1552 г. был захвачен Францией, но международное признание этот факт получил лишь в 1648 г.; ныне входит в департамент Мёз.
… «Оскорбление величества» означено теперь не преступление против короля или государства… — «Оскорбление величества» — термин римского права, обозначавший разного рода посягательства на величие римского народа, а позднее — римского императора. В старом французском праве существовали две разновидности этого понятия: «оскорбление божественного величества» — святотатство, богохульство, ересь и т. п.; «оскорбление земного величества» — любые покушения на особу государя и на безопасность государства (в известной степени соответствовало понятию «государственная измена» и допускало самые расширительные толкования).
… Все решил суд над старым маршалом де Марийяком и его казнь. — Марийяк, Луи де (1572–1632) — брат канцлера Марийяка; французский военачальник, маршал Франции с 1629 г., участник осады Ла-Рошели, участник похода в Пьемонт; в конце 1630 г. был неожиданно арестован и заключен в тюрьму. По мнению и современников и историков, вина его заключалась в том, что он принимал участие в готовящемся заговоре Марии Медичи против Ришелье и должен был силой захватить министра-кардинала. Однако по политическим соображениям на следствии и в суде об этом ничего не говорилось, и он был приговорен к смертной казни «по причине мздоимства и казнокрадства при исполнении обязанностей командующего армией в Шампани». Маршал категорически отвергал эти обвинения, за него ходатайствовала его родня и королева-мать, но Людовик XIII наотрез отказался помиловать Марийяка, и тот был обезглавлен.
… неаполитанцы подошли с моря к Нарбону, но не решились высадиться. — Нарбон — город на юге Франции на расстоянии приблизительно 10 км от побережья Лионского залива Средиземного моря; в описываемое время входил в провинцию Лангедок, ныне — в департамент Од.
… Что касается испанцев, то они дошли до Урхеля, но не пересекли границу. — Сео-де-Урхель — город в Испании, в Каталонии.
… Вы слышали мятежные крики в Баньоле, Люнеле, Бокере и Алесе. — Баньоль-сюр-Сез — город в соврем, департаменте Гар.
Люнель — см. примеч. к гл. XVI.
Бокер — город на Роне, в соврем, департаменте Гар.
Алее — см. примеч. к гл. XVI.
… Гастон объявил себя главным наместником королевства. — Речь идет о должности фактического правителя государства, которую мог занять лишь первый принц крови (в данном случае младший брат короля) в случае, если король по тем или иным причинам не был в состоянии исполнять свои обязанности или если он назначал наместника особым эдиктом; в этом смысле акция Гастона Орлеанского была лишена всяких законных оснований.
… он сжег предместье Сен-Никола в Дижоне… — Дижон — прежняя столица Бургундии; расположен на Бургундском канале; ныне административный центр департамента Кот-д’Ор.
… Мой брат писал мне из Альби… — Альби — см. примеч. к гл. XVI.
… Он оставил меня там с пятью сотнями поляков… — В 1629 г. после прекращения шведско-польской войны при посредничестве французов ряд поляков поступил на службу Франции; это было столь необычно, что все источники, посвященные мятежу Гастона и участию в нем графа де Море, упоминают о поляках и оставляют почти без внимания наемников-швейцарцев или немцев.
… а сам двинулся к Безье. — Безье — см. примеч. к гл. XVI.
Шодбонн, Клод Дюрр дю Пюи Сент-Мартин, сьёр де (ум. в 1648 г.) — офицер свиты герцогини Орлеанской (первой жены Гастона).
… сестра г-на де Вентадура, моего близкого друга… — Возможно, имеется в виду Вентадур, Анри де Леви, герцог де (1595–1680) — наместник Лангедока, каноник собора Парижской Богоматери.
… Разве не был он в свойстве с Марией Медичи? — См. примеч. к гл. XVI.
… В первый раз мы ночевали в Виллепинте, во второй — в Барбера… — Виллепинт — селение в 10 км к юго-востоку от Кастельнодари.
Барбера — селение недалеко от Каркасона, в 40 км к востоку от Виллепинта.
… на следующий день меня должны были переправить в Марсель. — Марсель — древний (известен с 600 г. до н. э.) город на юге Франции, в исторической провинции Прованс; один из главных французских средиземноморских портов; ныне — административный центр департамента Буш-дю-Рон.
… выдавал себя за чахоточного прелата, которому предписано жить в Йере или Ницце. — Йер — город в соврем, департаменте Вар (округ Тулон); зимний курорт.
Ницца — город и порт на Средиземном море; прежняя столица графства Ницца, ныне административный центр департамента Приморские Альпы; зимний курорт.
… нанял карету, чтобы доехать до Авиньона… — Авиньон — город на юге Франции на Роне, ныне административный центр департамента Воклюз. В 1308 г. в результате конфликта между римскими папами и французским королем Филиппом IV папская резиденция была под его давлением перенесена из Рима в Авиньон, формально неподвластный французской короне, но окруженный ее владениями; переезд состоялся в 1309 г. В 1348 г. папы выкупили Авиньон у владевших им графов Прованских. В 1378 г. часть кардиналов избрала одного папу в Риме, часть — антипапу в Авиньоне; раскол в католической церкви продолжался до 1417 г., пока не был избран единый папа с местом пребывания в Риме, но Авиньон оставался анклавом Папского государства до 1791 г., после чего был присоединен к Франции (папы и европейские державы признали это лишь в 1797 г.).
… и лодку, чтобы подняться по Роне от Авиньона до Баланса. — Расстояние между этими городами по реке ок. 120 км.
… Сейчас папа римский — Урбан VIII… — Речь идет о папе римском Урбане VIII (Маффео Барберини; 1568–1644), происходившем из знатной флорентийской семьи Барберини; до избрания папой в 1623 г. одно время был папским нунцием в Париже и поддерживал тесные контакты со своей соотечественницей Марией Медичи; его правление было отмечено, в частности, осуждением Галилея и янсенистов.
… если… наша голубка не принесет Вам освобождающую меня буллу… — Булла — первоначально обозначение коробочки для печати, потом самой печати и, наконец, тех грамот, к которым печать привешивалась; известны Золотые буллы императоров от привешиваемой к ним золотой печати, а также папские буллы (грамоты).
… была официально распространена радостная весть о беременности королевы. — Факт беременности королевы в монархической Франции всегда публично оглашался и сопровождался пышными празднествами, особенно в тех случаях, когда ожидался наследник престола (дофин), как это было в данном случае; Анна Австрийская родила будущего короля Людовика XIV пятого сентября 1638 г.
… Кардинал был в своей резиденции в Рюэе. — Рюэй — местечко в соврем. департаменте Ивелин, в 13 км от Версаля, где до сих пор сохранился красивый замок, принадлежавший кардиналу Ришелье.
… назвав свое имя отцу Жозефу, стала ждать. — Имеется в виду Жозеф Франсуа де Клер дю Трамбле (1577–1638), ближайший соратник кардинала Ришелье, монах-капуцин, прозванный за свое влияние на политические дела «серое преосвященство».
… с красной камилавкой на голове — знаком кардинальского достоинства. — Камилавка — головной убор духовенства; цвет ее зависит от положения священнослужителя в церковной иерархии; кардиналы носят камилавку красного цвета.
… прибавит к своему имени имя Лотрек, чтобы память о герое Равенны и Брешии не стерлась… — Речь идет об Оде де Фуа, виконте де Лотреке (1485–1528), французском военачальнике, прославившемся в Итальянских войнах, в частности при взятии Равенны (1512) и Брешии (1516).
… в Монтольё, между Фуа и Тарасконом, на берегу Арьежа. — Монтольё — здесь: селение в 5 км к югу от Фуа.
Фуа — город на реке Арьеж, ныне административный центр департамента Арьеж на юге Франции, близ границы с Испанией.
Арьеж — река, истоки которой находятся на границе Франции и Андорры; орошает соврем, департаменты Арьеж и Верхняя Гаронна; впадает в реку Гаронна.
Тараскон — городок в 14 км к югу от Фуа.
… Она пролетала над истоком широкого ручья, возле Фуа впадающего в Арьеж. — Возле Фуа в Арьеж впадает река Арже.
… Она должна была лететь над леском Амуртье, над рекой Сала между Сен-Жироном и Устом. — Сала — левый приток Гаронны, длиною в 75 км.
Сен-Жирон — городок в 30 км к западу от Фуа, на реке Сала.
Уст — селение в 15 км к югу от Сен-Жирона, на реке Сала.
… Я дойду до деревушки Рьёпреган… — Вероятно, имеется в виду селение Рьёпрегон близ горного перевала, в 18 км к юго-западу от Фуа.
… буду следовать за ней, как евреи шли за огненным столпом по ночам и за облачным столпом при свете дня… — Во время исхода евреев из Египта в Землю обетованную и сорокалетнего странствования в пустыне под водительством Моисея главным святилищем евреев был особый переносной шатер — скиния собрания, — которая была сделана по переданному через Моисея повелению Господа. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполняла скинию… Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое; если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их» (Исход, 40: 34, 36–38).
… окно, из которого видна деревня Буссенак. — Буссенак — селение в 10 км к западу от Рьёпрегона, на берегу реки Арак.
… Я остановилась в маленькой деревушке Сулан. — Сулан — селение в 10 км к западу от Буссенака.
Ало — деревня на берегу одноименной реки, в 10 км к западу от Судана, между Сен-Жироном и Устом.
… я дошла от Ало до Кастильона… — Кастильон-ан-Кузран — городок в 10 км к западу от Ало.
… достигла Сен-Лари, по другую сторону безымянного ручейка, впадающего в реку Сала. — Сен-Лари — деревня в 10 км к западу от Кастильона, на берегу реки Буижан.
… долго блуждала… в лесах Молеона… — Имеется в виду селение Молеон-Барус в соврем, департаменте Верхние Пиренеи (округ Баньер-де-Бигор), древняя столица владения Барус; расположено на берегу реки Урс, в 30 км к западу от Сен-Лари.
… маленькая деревушка неподалеку от Нестье. — Нестье — селение в 20 км к северо-западу от Молеона, на берегу реки Нест, левого притока Гаронны.
… прекрасная легенда о Тесее и Ариадне… — Тесей — герой древнегреческих мифов, сын афинского царя Эгея и Эфры, царь Афин; победитель амазонок, участник похода аргонавтов, освободитель богини плодородия Персефоны из подземного мира; античная традиция относит его царствование к XIII в. до н. э. (впрочем, скорее всего, это чисто мифологическая фигура) и приписывает ему преобразование Афин в демократическом духе, а также начало той политики, которая превратила Афины в культурный центр Эллады и одно из могущественных ее государств.
Ариадна — героиня древнегреческих мифов, дочь царя Крита Миноса и Пасифаи; влюбившись в Тесея, помогла ему при помощи клубка ниток выбраться из лабиринта на острове Крит после того, как он убил Минотавра — страшное чудовище, пожиравшее людей.
… мне показали стоящий на склоне горы монастырь камальдулов… — Монашеский орден камальдулов основал в городе Камальдоли (итальянская провинция Тоскана) в 1012 г. святой Ромуальд (ок. 950—1024) по бенедиктинскому уставу, ужесточив его.
… монахи пели «Magnificat». — «Magnificat» — начальное слово латинского текста хвалебной молитвы Пресвятой Деве Марии («Magnificat anima mea Dominum» — «величит душа моя Господа»; Лука, 1: 46), послужившее названием всей молитвы.
… орган играл «Veni Creator». — «Veni Creator» — первые слова гимна «Veni, Creator spiritus» («Приди, Дух животворящий»), которым церковь призывает Святой Дух в день Пасхи, а также по другим торжественным случаям.
… подошла к церкви со стороны апсиды… — Апсида — полукруглая (иногда многоугольная) выступающая часть здания, имеющая собственное перекрытие.
… Счастливое Палермо… — Палермо (город и порт на северном побережье острова Сицилия) называют «Счастливым» из-за его исключительно удачного местоположения в плодородной долине между гор, которые защищают город от неблагоприятных ветров, что создает в нем уникальные климатические условия.