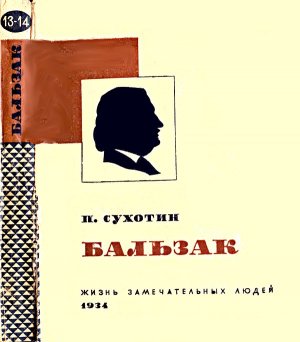
Посвящаю мою работу театру имени Вахтангова
В Париж! В Париж!
Поэты родятся в провинции, а умирают в Париже
Альфонс Карр
Только в конце жизни познается человек со всеми его достоинствами и пороками. Только в конце жизни (а после смерти еще крепче) за гением утверждаются новым поколением его права. Однако, бывают случаи когда почтенный мэтр, пользуясь властью, данной ему неписанным законом, судить и миловать, судит и не всегда милует «племя младое, незнакомое», не замечая того, что в коллективном зерне его зреет новый гений, — и тогда на такой неправедный суд уходящего мы часто слышим столь же несправедливый отклик тех, за кем будущее, кто смеет в детской резвости колебать треножник кумира. Отложим в сторону книги тех, кто по той или иной причине мог быть недоволен мэтром, и послушаем лучше то, что говорит о гении другой гений, его современник и без малого однолеток, что говорит об Оноре де Бальзаке Виктор Гюго[1]. У последнего была столь блестящая слава! Нет оснований заподозрить его в зависти или в преднамеренном желании преувеличить силы своего друга по ремеслу.
«Я позвонил. (Улица Фортюне, дом 14, в квартале Божон.) Месяц светил сквозь тучи. Улица была пустынна. Никто не вышел. Я позвонил еще раз. Дверь отперлась. Появилась служанка со свечой.
— Что угодно, сударь?
Она плакала. Я назвал себя. Меня впустили в гостиную, которая находилась в первом этаже и в которой на консоли, против камина, стоял огромный мраморный бюст Бальзака работы Давида Анжерского[2]. Горела свеча на богатом, стоявшем посредине гостиной, столе, ножки его представляли собой шесть позолоченных статуэток самого утонченного вкуса. Вошла другая женщина. Она тоже плакала.
— Он умирает, — сказала она. — Мадам ушла к себе. Доктора еще вчера потеряли надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь. Доктора не знают, что делают. Они говорят, что водянка — жировая, мясо и кожа как бы просалены, и потому невозможно делать прокол. В прошлом месяце мосье, ложась спать, зацепился за резную мебель, кожа разорвалась, и вся вода, которая была у него в теле, вытекла. Доктора сказали: «Вот так штука!» Это их удивило, и с того времени они стали делать ему проколы. Но на ноге образовалась язва. Его оперировал господин Ру. Вчера сняли повязку. Рана, вместо того чтобы гноиться, стала красная, сухая, воспаленная. Тогда они сказали: «Он погиб!». И больше не возвращались. Ходили еще к четырем или пяти. Все они отвечали, что сделать ничего нельзя. Ночь была плохая. С девяти часов утра мосье не говорит Мадам посылала за кюре. Он пришел и соборовал мосье. Мосье подал знак, он понимал, что происходит. Через час он протянул своей сестре, мадам Сюрвиль, руку. С одиннадцати часов он хрипит. Он не переживет ночи. Если хотите, я позову мосье Сюрвиль, он еще не ложился…
Женщина ушла. Я ждал несколько минут. Свеча едва освещала обстановку гостиной и висевшие на стенах чудесные картины Порбуса[3] и Гольбейна[4]. Мраморный бюст маячил в полутьме, как призрак человека, который сейчас умирает. По дому распространялся трупный запах. Вошел господин Сюрвиль и подтвердил мне все, что говорила служанка.
Мы прошли коридор, поднялись по лестнице, застланной красным ковром, тесно уставленной статуями, вазами, увешанной по стене картинами, эмалевыми блюдами. Потом был опять коридор, в нем я увидел открытую дверь. Я услыхал громкое, жуткое хрипение. Я вошел в комнату Бальзака. Посреди нее стояла кровать красного дерева с брусьями и ремнями в головах и в ногах, — приспособление, чтобы поднимать больного. Голова Бальзака лежала на груде подушек, к которым прибавили еще диванные подушки, крытые красным дамасским шелком Лицо его было лиловое, почти черное, склоненное на правую сторону, небритое. Волосы седые, коротко остриженные. Глаза открытые и неподвижные. Я видел его в профиль и так он был похож на императора. Старушка-сиделка и слуга стояли по обеим сторонам постели. Одна свеча горела за его головой на столе, другая — на комоде у двери. На ночном столике стояла серебряная ваза. Мужчина и женщина молчали в каком-то ужасе и прислушивались к громкому хрипу умирающего. Свеча на столе ярко освещала висевший над камином портрет румяного, улыбающегося юноши. От постели исходило невыносимое зловоние. Я поднял одеяло и взял руку Бальзака. Она была потная. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие.
В этой же комнате я был у него месяц назад. Он был весел, полон надежд, не сомневался в своем выздоровлении, смеясь, показывал на свою опухоль. Мы много разговаривали и спорили о политике. Он попрекнул меня моей «демагогией». Он был легитимистом. Он сказал мне: «Как могли вы так весело отказаться от звания пэра Франции, — самого прекрасного звания после короля Франции?» И еще он сказал мне: «У меня дом господина Божона, только без сада, но зато с часовней к маленькой церкви на углу! У меня в комнате есть дверь, ведущая в церковь. Поворот ключа — и я на мессе. Мне это гораздо дороже сада». Когда я от него уходил, он проводил меня до лестницы, с трудом ступая, потом указал мне на дверь и крикнул жене: «Главное, покажи Гюго все мои картины!»
Сиделка сказала мне: «На рассвете он умрет». Я сошел вниз, унося с собой в памяти этот поблекший образ. Проходя через гостиную, я снова увидел бюст, неподвижный, бесстрастный, надменный, озаренный смутным светом, и сравнил смерть с бессмертием.
Возвратившись домой, я нашел у себя — было воскресенье — несколько человек гостей, которые меня ждали, среди них Риза Бей, турецкий уполномоченный, испанский поэт Наваррете и итальянский эмигрант граф Арривабене. Я сказал им:
— Господа, Европа теряет сейчас великого человека.
Он умер в ночь. Ему был 51 год. Похоронили его в среду».
Так писал Гюго о 18 августа 1850 года. В его воспоминаниях рассказана не только точная история болезни, сведшей в могилу Бальзака. Перед нами его портрет. Изумительный рисунок пером — лаконичный и четкий. «Он весел, полон надежд, смеясь, показывал на свою опухоль…» Это — жизнерадостность и румяность Оноре. Попрекнул «демагогией» и сказал: «Как могли вы так весело отказаться от звания пэра Франции?…» Это — заветнейшая мечта Бальзака-политика. И тут же постоянная его суета-сует, расточительность на пустяки и наивное тщеславие — «Главное, покажи Гюго мои картины!». Но вот само величие: профиль императора. Величие на смертном одре. От постели исходило невыносимое зловоние, переходившее в какой-то общий мрачный средневековый фон: рядом часовня, поворот ключа — и месса… На рассвете гениальный человек умер. Смерть и бессмертие — неподвижный, бесстрастный бюст, озаренный смутным светом одинокой свечи.
На этом замечательном портрете мы находим подпись художника: «Возвратясь домой, я нашел у себя — было воскресенье — несколько человек гостей, среди них Риза Бей, турецкий уполномоченный, испанский поэт Наваррете и итальянский эмигрант граф Арривабене…» Это уже сам Виктор Гюго. Блестящий француз в ореоле славы. Кокетство эмиграцией, упоение салоном. Если бы Бальзак и Гюго в данном случае поменялись ролями, Оноре не преминул бы написать: «Дома меня ожидали маркиза де Кастри и герцог Фиц-Джемс[5]…»
Таковы были люди, такова была эпоха, наполненная отзвуками блестящего прошлого французской аристократии накануне победоносного восшествия на престол финансовой буржуазии, образы которой предвосхитил Бальзак в своих замечательных романах. В этом отношении Карл Маркс настолько ценил Бальзака, что думал даже, — как утверждает Франц Меринг, — написать о нем критическую статью, но великий революционер не оставил нам этого критического наследия, и лишь кое-где мы имеем его краткие и случайные высказывания о Бальзаке. По мнению Маркса, «Бальзак был не только бытописателем своего времени, но также творцом тех прообразов-типов, которые при Людовике-Филиппе[6] находились еще в зародышевом состоянии и достигли развития уже впоследствии, при Наполеоне III». Да и сам Бальзак говорит о таком своем предвиденьи в предисловии к «Крестьянам»: «Руссо[7] предпослал своей «Новой Элоизе» следующие слова: «Я видел нравы моего времени, и напечатал эти письма». Разве не могу я сказать, подражая великому писателю: я изучаю ход моей эпохи и печатаю этот труд… Речь идет о том, чтобы объяснить законодателя не сегодняшнего, а завтрашнего дня…».
И не этими только типами-прообразами богата портретная галерея Бальзака. Начало сознательной жизни его относится к буйным годам европейской истории, когда перекраивались географические карты государств, рушились надежды, зажженные Великой французской революцией, и целые народы, как итальянцы, были повергнуты в полное порабощение.
Не было в Европе страны, где бы реакция не искала своих жертв. Люди далекого прошлого, вчерашние победители, а сегодня — побежденные, люди, прошедшие с фантастической быстротой карьеру с метлы конюха до жезла маршала, мелкие лавочники, разбогатевшие на спекуляциях, — вот каково было окружение Бальзака в доме его отца, и нет сомнения, что история жизни многих из них послужила материалом для его произведений.
Салон отца Бальзака являл собою необычайно пеструю смену лиц, званий, титулов, рангов и положений. Назовем друга семьи генерала де Поммерейля, офицера артиллерии старой королевской армии, человека очень образованного, сотрудника «Энциклопедии» префекта департамента Эндр-э-Луар (1800–1805) впоследствии государственного советника и главного директора королевской типографии и библиотеки. 29 июля, 1815 года он был выслан из Франции и вернулся только в 1819 году. Граф Клеман де Рис — сенатор Империи, пэр Франции с 1814 года. Де Савари — богатый помещик в Вуврее, его зять де Маргонь, который жил в своем замке в Саше, на берегах Эндра, когда семья Бальзака жила в Туре. Имя последнего в связи с Бальзаками произносилось шепотом и с коварной улыбкой, намекающей на его «близкие» отношения с матерью Бальзака.
Барон Маршан — главный комиссар-распорядитель по военным делам и главный интендант наполеоновской армии, пожалованный в бароны Империи в 1813 году. Полковник д'Утремон, после смерти Маршана женившийся на его вдове, урожденной де Ла рот де ла Рибельри. Барон Мале де Трюмильи, бывший эмигрант. Дворянин де Вилье де ла Фэ, манеры которого отличались изяществом дореволюционного времени. Супруги д'Эрвильи, супруги Мессимье, проживавшие на острове Сен-Луи. Кастран де Воморель, господин Теодор Даблен, владелец оптовой скобяной торговли на улице Сен-Мартен, 201, Пепен-Леаллер — богатый фабрикант военного снаряжения. Доктор Накар, бывший военным врачом в эпоху консульства; в 1803 году он поселился в Париже и в 1808 году напечатал «Трактат о новой физике мозга или изложение доктрины Галля». Накар был близким другом и врачом Бальзаков и жил в Париже неподалеку от них — на улице Сент-Авуа, 39.
Но среди всех этих людей самым оригинальным человеком был отец Оноре Бальзака — Бернар Франсуа Бальзак. Филибер Одебран в своих «Воспоминаниях прохожего» пишет:
«Не помню уже, кто говорил о Жарди, об этом загородном доме романиста, оползавшем после дождя и не имевшем лестницы. По этому поводу рассказывали всякие небылицы — как Оноре де Бальзак собирался разводить там ананасы и как он заставлял своих гостей платить за поданный к столу салат. (Ни на чем, не основанное утверждение Гозлана[8].) Как вдруг из общего хора болтовни выделился один голос:
— Бальзак — эксцентрическая личность? Бальзак — оригинал? Конечно, конечно! Но что бы вы сказали, если бы знали его отца?
Эта сцена происходила в конце правления Людовика-Филиппа, на великолепных антресолях, выходивших на улицу Вивьен, в редакции журнала «Корсар-Сатана», и об отце Бальзака вспомнил Ле Пуатвен Сент-Альм, или попросту «папаша Альм», — семидесятилетний редактор журнала.
По словам «папаши Альма» отец Бальзака был человеком, «отлитым в превосходную форму, и сделан был из лучшего материала». Последователь Жан Жака Руссо, он запасся силой от пребывания на свежем воздухе и от умеренного образа жизни — он любил женщин весьма осмотрительно. Все это способствовало тому, что он прожил до 80 лет. У него была страсть совершать прогулки пешком. Самыми счастливыми людьми, по его мнению, являются крестьяне, потому что они меньше, чем кто бы то ни было, отступают от законов природы.
— Что может быть глупее современного богача? — восклицал Франсуа Бальзак. — Он строит себе дворец из зеленого мрамора только для того, чтобы заточить себя в тюрьму. Если он выходит, то на какой-нибудь час, и то забивается в карету. Четыре времени года проходят мимо него, он их не видит. Он превращает ночь в день и день в ночь, так как считает хорошим тоном поздно ложиться и поздно вставать. Ни один парижский миллионер не дышит живительным утренним воздухом. Пища его должна быть прежде всего изысканной, а не здоровой, — утонченность, специи, пряности, — все, что нужно для гастрита. Тонкие вина, которые ему подают к столу, — приятные яды или зелья, одурманивающие разум. Все прочее — политика, дела, процессы, обманутое честолюбие — это какой-то кипящий котел. И посмотрите на эту преждевременную дряхлость! Парижский богач в сорок лет изможден, лыс, у него старческая походка и одышка. Я не говорю уже о бледных отпрысках, которых он производит на свет. Боже мой! Это какие-то пигмеи или привидения!
— Понимаете ли вы, что такое наши законодатели? Они составляют законы, в силу которых подвергают медицинскому осмотру молодых людей, вступающих в ряды армии. По-видимому, нужно обладать отличным здоровьем, чтобы дать себя убить. Что же касается юношей, которых женят, то есть предназначают для продолжения рода, то их никакому официальному осмотру не подвергают. Если они недоразтвиты, золотушны, чахоточны или страдают идиотизмом, — все равно: для женитьбы их признают годными. Вот почему французская порода вырождается».
Вероятно, тут многое присочинено, и не все так, как говорил старик Бальзак, но вообще это великолепно в смысле определения бытовых черт эпохи. Произносить такие рацеи, мог, конечно, приверженец и ученик Руссо, и все-таки это еще не стиль Бернара Бальзака. Образ его гораздо своеобычнее и ярче.
Отец Бальзака — Бернар Франсуа Бальзак. Портрет художника Годфруа
Бернар Франсуа Бальзак родился 22 июля 1746 года в Лангедоке, в маленькой деревушке Нугериэ. «Слово «Нугериэ» на местном наречии означает местность, засаженную орешником, — пишет Октав Гальтье («Иллюстрасьон» 4/Х1 1933 г.). — Деревушка когда-то состояла из четырех дворов. Сейчас осталось только два жилища, из которых одно довольно хорошо сохранившееся, принадлежало некогда семейству Бальза. Это очень скромная ферма, построенная на засушливом плоскогорье над прохладными берегами Виара. Его светлые воды текут по извилистой ложбине под сенью ольх и тополей. Если свернуть с большой дороги, то в конце тропинки, вьющейся в зарослях боярышника и ежевики, ютится Нугериэ. Отсюда в нескольких минутах ходьбы две деревни: Каньзак — колокольня над несколькими крышами; и Лапрадель — несколько домиков вокруг школы. Нугериэ принадлежит к общине Монтира (Тарн), расположенной по соседству с Кармо и Корд.
Общий вид фермы Бальза не изменился с восемнадцатого века. Дом — старый, готовый вот-вот развалиться, давно запущенный, но в нем есть какое-то благородство. Большие, темные камни стен увенчиваются шиферной крышей, разъеденной лишаем. Ветхость его волнует. Дверь в кухню и вход в хлев сплошь увиты виноградом. Наверху две комнаты с двумя окнами без ставней, над ними несколько щелей для голубей, а на крыше — слуховое окно, через которое складывалось на хранение зерно и сено. Навеса над этим окном во времена Бальза не существовало.
При входе в маленький дворик на куче мусора разрослась огромная бузина. За домом раскинулись ветви очень старых орешников. Все дорожки вокруг дома заросли крапивой. На склонах холмов зеленеют пастбища, где протекают ручейки. Посевы кукурузы, пшеницы, картофеля. Несколько участков занято коноплей и льном. Повсюду разбросаны кряжистые орешники, каштаны, вязы и дубы. Перед глазами развертывается спокойный, ровный пейзаж, залитый легким и немного грустным светом. Кругом тишина. Вблизи нет железной дороги. Нигде не видно фабричного дыма. Поле безлюдно, в лугах не пасутся стада. Какое уединение! Редко-редко прощебечет птица. С давних времен здесь — ничто не изменилось».
В акте о крещении Бальзака-отца значится: «Бернар-Франсуа Бальза(Balssa) сын Бернара Бальза, земледельца, и Жанны Гранье, повенчанных в Нугериэ, в приходе Каньзак, родился 22 июля тысяча семьсот сорок шестого года, около шести часов вечера, и крещен в тот же день в церкви означенного Каньзака; восприемники: Франсуа Гранье, дед, и Жанна Нувиаль, бабка новорожденного, из Праделя, неграмотные. — Священник Вьялар».
Архивариус департамента Тарны Порталь, просмотревший все записи рождений, свадеб и смертей семейства Бальза с 1693 по 1717 год, по поводу фамилии Бальзаков говорит следующее:
«1. Настоящая фамилия предков Оноре де Бальзака — Balssa или Balsa. Первым из них, прибавившим на конце букву «c», был отец романиста.
2. Все эти Balssa или Balsa были крестьяне, земледельцы, иногда даже простые батраки, т. е. поденщики».
В эпоху заката не только французской аристократии, но и аристократии других стран, усиленно развивается тщеславие и родовая кичливость, а потому орфографии фамилий придавалось сугубо серьезное значение. Филибер Одебран пишет: «Оноре де Бальзак, его сын, ушибленный знатным происхождением, — как это видно во всех его произведениях, — говорит, что он ведет свой род от семьи Анриеты де Бальзак». Еще при жизни его отца безжалостные исследователи, библиотечные и архивные крысы (намек на Сент-Бёва[9]) произвели раскопки с целью доказать, что эти претензии ни на чем не основаны. Если верить им, то автор «Эжени Гранде» не только не имел никакого права на частицу «де», но и превысил власть (!), когда писал свою фамилию через «z», которым он так гордился.
Марсель Бутерон, становясь в этом случае на защиту Оноре, говорит, что если кто и «узурпировал» эту частицу «де», то не он, а его отец, который приставил ее к своей фамилии в пригласительном билете на свадьбу своей младшей дочери Лоранс.
Защищая свое «де» и «z» Бальзак неистово фантазировал: «Если мое имя, — пишет он в предисловии к «Лилии в долине», — принадлежит древней галльской семье, то это не моя вина, но мое имя де Бальзак — родовое, — преимущество, коим не обладают многие аристократические семейства, которые назывались Оде, прежде чем называться Шатильон[10], Рике, — прежде чем называться Караман[11], Дюплесси — прежде чем Ришелье[12], и которые от этого не менее знамениты… Если мое имя слишком хорошо звучит для некоторых ушей, если ему завидуют те, которые недовольны своим, — я не могу от него отказаться… Мой отец занимал положение, достойное своего рода, и получил доступ в «Сокровищницу грамот»… Он гордился тем, что принадлежал к побежденному роду, к семье, которая пережила завоевание Оверни и из которой вышли д'Антрэги. Он нашел в «Сокровищнице грамот» жалованную грамоту на землю, пожертвованную в V веке Бальзаками для основания монастыря в окрестностях городка Бальзака; копия с этой грамоты была, — как я слышал, — зарегистрирована по его ходатайству в парижском парламенте…».
Однако, когда появились разоблачения Сент-Бёва, Оноре продолжал настаивать на том, что он происходит из знатного рода Бальзаков д'Антрэг, прославившихся во времена Генриха IV, и всюду изображал их герб: на карете, на чемоданах и на других вещах, а за публичное разоблачение этого «узурпаторства» грозился проткнуть Сент-Бёва гусиным пером.
Была еще одна попытка затуманить «низкое» происхождение отца Бальзака, сделанная безвестным автором рукописи, которая была найдена Одебраном у букиниста, под названием «Несколько слов об отце О. де Бальзака», где наивно сказано: «Семья его… жила в буржуазном доме, стоявшем среди голого поля, но именно по этой причине, и потому, что на нем был флюгер, дом называли в бедной округе «замком». Этот апокриф интересен в другом смысле и мы еще будем о нем говорить, но «низкое» происхождение Бернара-Франсуа Бальзака очевидно: он был крестьянином из Лангедока.
Как сообщает Гальтье, «отец Б.-Ф. Бальзака, родившийся 15 января 1716 года, женился первым браком 13 июня 1744 года на Мари Бланке. Овдовев через несколько месяцев, он повенчался 4 октября 1745 года с Жанной Гранье, 23 лет. У них было несколько клочков земли, но каменистая почва родила плохо, и им было трудно прокормить свой муравейник ржаным хлебом, каштанами, бобами и салом. Поэтому в зимние вечера мать сучила пеньку, а отец занимался ткацким ремеслом, изготовляя грубый, как кора, холст.
Их первенец, Бернар-Франсуа (всего было 11 детей), семилетним мальчиком пас стадо на берегах Лезера. Но его все же послали в школу. Там он выдвинулся среди сверстников умом и сметливостью, что заставило родителей учить его дальше. Он пел в церковном хоре соседнего села Каньзака. В мальчике принял участие священник Вьялар, который научил его основам латыни, грамматики и закона божья. Затем господин Альбар, нотариус Каньзака, взял его к себе в контору, где он постиг начала юриспруденции и судейский жаргон, — все это с необыкновенной легкостью. Такой быстрый успех заставил его уверовать в свои силы и поселил в нем желание отправиться в Париж — единственный во Франции город, который мог удовлетворить его честолюбивые стремления.
В конце ноября 1765 года Бернар-Франсуа Бальза, девятнадцати лет, держал путь на Париж, уверенный, что он идет к славе. Какого упорства ему стоило убедить своих родителей, чтобы они отпустили его в такое далекое путешествие и дали ему с собой горсточку тяжелым трудом накопленных грошей! Выехав из Альби, нужно было две недели трястись в почтовой карете, чтобы добраться до столицы. Поразительная отвага со стороны этого писца, мир которого до сих пор ограничивался представлением об изъеденной червями школьной скамье, ветхой часовне жалкого села и замшелой конторе нотариуса!
Он едет в столицу, без покровителя, почти без образования и без денег, имея приблизительное понятие о стоимости путешествия и о нескольких формулах обычного права, но он говорит с апломбом и смотрит на все сметливыми, решительными глазами. Этот молодой крестьянин, в грубошерстной одежде и, наверное, в деревянных башмаках, — первый герой бальзаковской эпопеи, отправляющийся завоевывать Париж: он сумеет пробиться, и в тридцать лет будет заседать в секретариате королевского совета. Это чудо было необходимо для того, чтобы в будущем веке была написана «Человеческая комедия».
Поступив на службу к одному парижскому прокурору, Бернар завоевывает его симпатии и быстро накапливает деловой опыт.
Существует анекдот о том, как Бернар Бальзак в первый раз обедал у своего начальника. К столу подали куропаток. Хозяйка спросила, умеет ли он разрезать птицу. Не будучи знаком с кулинарной анатомией, Бернар смело приступил к операции и с такой силой орудовал ножом и вилкой, что раздавил тарелку, разрезал скатерть и повредил дерево стола. Рассказчик анекдота, Теофиль Готье[13], добавляет: «Прокурорша улыбнулась, и с этого дня с молодым канцеляристом в доме стали обращаться очень ласково». Разумеется, операция Бернара была сделана с той неловкостью, которая производит более выгодное впечатление, чем «хорошие манеры».
«Иногда, — продолжает Гальтье, — посмеивались над выспренными выражениями и южным акцентом этого писца, но его отличали за тонкость и быстроту, с которыми он толковал дух законов. Он усердно трудится, зарабатывает себе отличия, оказывает услуги и приобретает связи. В 1776 году мы находим его сидящим в канцелярии совета Людовика XVI. Не совсем в качестве секретаря, как пишет его дочь, госпожа Сюрвиль, а в качестве первого канцеляриста штатного секретаря. Бальза принимал участие в составлении королевских приказов об арестах. Должность его, хотя и не высокая и не внесенная в королевские альманахи того времени, все же хорошо оплачивалась, была на виду и придавала ему авторитет. Он пробыл в ней долгие годы, но Великая французская революция лишила его этого места.
Тогда он открывает «кабинет юриста» на улице Фран-Буржуа, 19, примиряется с новым режимом и становится в 1793 году членом генерального совета коммуны, по отделу прав человека. В качестве такового он фигурирует в «Национальном альманахе» на этот год. Но его лояльность и деятельность показались подозрительными. Лучше было уйти с этого места. При поддержке одного члена конвента он уезжает в Валансьен, как поставщик фуража для Северной армии».
В предисловии к «Лилии в долине», — о котором мы уже упоминали, — Бальзак следующим образом описывает фигуру своего отца на фоне политических событий: «Мой отец был при Людовике XVI секретарем Верховного совета, в котором он ведал арестами. Кардинал Роганский[14] и господин де Калонн[15] приняли в нем сердечное участие; а впоследствии он разделил судьбу со своим другом де Бертран-Мольвилем[16].
Не будь революции, он составил бы себе большое состояние при старой монархии, свидетелем падения которой ему пришлось быть. Если он скромно закончил свою жизнь, начатую с некоторой надеждой, то это потому, что, разбитый революцией, он отошел от дел и очутился на более низкой должности, в 1814 году был уже стариком и был отвергнут вместе с господином де Мольвилем, который пытался отсоветовать Людовику XVIII вводить хартию.
В шестнадцать лет я писал под их диктовку длинную памятную записку, в тот самый момент, когда господин де Полиньяк[17] и господин де Виллель[18] отказались признать хартию. И я слышал, как господин де Бертран, высокий старик, поседевший в революциях воскликнул:
— Конституция погубила Людовика XVI, хартия убьет Бурбонов[19]! Сейчас ее можно не дать; впоследствии будет небезопасно взять ее обратно. Это долго не продлится; умрем спокойно, дорогой друг: мы видели начало, наши дети будут свидетелями конца!»
Здесь нелишне вспомнить о рукописи «Несколько слов об отце О. де Бальзака», о которой мы говорили выше. Следует с уверенностью оказать, что она написана если не знакомым семьи Бальзаков, то во всяком случае человеком, разделявшим ее традиции, и это можно усмотреть как раз в тех местах рукописи, где она совершенно невразумительна и далека от истины. Вот что говорит она о возвращении Бернара Бальзака в Париж в 1814 году: «Отец О. де Бальзака возвратился в Париж, но только для того, чтобы жить несчастно. Ведь старый король, которого вернули в Тюильри, не мог обогатить всех, а кое-кого нужно было особенно пригреть. В один день к нему поступило 6 тысяч прошений от мужчин и женщин, уверявших, что у них есть права на его милость. Произвели отбор и оставили пятьсот прошений. Остальные бросили в огонь. И почему было прошению Бальзака-отца не оказаться именно в числе этих остальных?».
Разве это не желание изобразить Бернара Бальзака честным роялистом, которого время до Реставрации повергло в нищету и несчастье? А на самом деле он вернулся в Париж в полном финансовом вооружении для благополучного чиновнического житья с большой семьей и вложил в государственную ренту порядочную сумму. Деньги эти были скоплены им в пребывание на должности заведующего поставкой провианта 22-й дивизии в Туре, где он прожил 17 лет, с 1797 по 1814 год.
В среде дельцов провиантского мира Бернар Бальзак имел связи ранее своего назначении на службу в Тур, ибо перед самым отъездом туда женился на Анне-Шарлотте-Лауре Саламбье, дочери бывшего торговца сукнами, вышивками и позументами на улице Сент-Оноре, который во время революции ликвидировал свое дело и сделался сперва начальником провиантского ведомства, а затем — начальником парижской городской больницы.
Л.-Ж. Арригон так говорит об этом менее всего известном периоде жизни Бернара Бальзака: «Революционная буря выбросила его в сорокапятилетнем возрасте из судейской среды, и начался период его жизни, полный приключений. Отдался ли он революционному опьянению? Увидел ли он в активном участии в революции хороший способ «преуспеть»? Или же он скрывал под маской ярого демократа свое истинное лицо роялистского агента? Как бы то ни было, он, член Парижской коммуны, связанный с многими актерами, которые играли первые роли или были статистами в великой драме, без сомнения скомпрометировал себя в 1793 году в каком-то грязном деле».
Думается, что политическая физиономия человека, выброшенного революцией из судейской среды и попавшего в среду бывшего торговца сукнами, вполне ясна. Роль члена Парижской коммуны была сыграна плохо, но, как человек изворотливый и умный, Бернар спохватился и почел за лучшее сменить место второстепенного участника драмы на первые роли в провинции, оставив в Париже защитником своих интересов своего же тестя Саламбье, умевшего носить маску и скрывать под ней свое истинное лицо врага революции.
Но вот отшумели революционные бури. Тенью Цезаря[20], искаженной в зрачке испуганного транзальпинца, маячит на пространстве от Египта до снегов Москвы фигура великого корсиканца — малорослая, с красивой головой и взором хищника. «Мы ставим во главе варваров представителя итальянского рода. Это будет нашей местью галлам», решает конклав, не предвидя страшного возмездия. И оно пришло — развенчанный император Наполеон I по воле европейских монархов удален от мира на остров святой Елены. Однако в то время, когда человечество, — как определил эту эпоху Оноре де Бальзак, — было залито кровью по щиколотку, — туреньский чудак никак не изменял образа своей жизни. «В отце было что-то от Монтеня[21], и от Рабле[22], и от дядюшки Тоби — по философии, оригинальности и доброте», — вспоминает дочь, Лаура Сюрвиль. «Его оригинальность, вошедшая в Туре в пословицу, проявлялась как в его рассуждениях, так и в действиях. Он ничего не делал и не говорил, как другие. Гофман[23] сделал бы из него персонаж какого-нибудь фантастического произведения… Семидесяти лет, встретившись с другом детства, он заговорил. С ним, нисколько не запинаясь, на диалекте своей родины, где он не был с четырнадцатилетнего возраста…».
Восходя все выше и выше по ступеням службы и обывательского почета, в стороне от политических сквозняков, в тишайшем Туре, «поклонник сельских нег и сельской простоты» предается вольтерьянским размышлениям или, беседуя с друзьями, читает проповеди в духе Руссо. Одаренный большой жизнеспособностью, честолюбивый, подвижной, тщеславный, любящий прихвастнуть, общительный и болтливый, грубоватый, охотно пересыпающий свою речь крупной солью простонародных ругательств, — Бернар Бальзак становится в городе первым человеком.
С 1804 по 1808 год он — второй помощник мэра, с 1804 по 1812 год — управляющий главной больницей. Ему предлагают избрание на должность мэра, но он отклоняет это предложение, не желая менять своей карьеры, укрепленной важным предстательством в парижских ведомственных сферах по продовольственному делу. Он прочно оседает в городе Туре и покупает себе дом на улице Арме-д'Итали, № 29 (теперь № 53-бис по улице Насьональ). На этой же улице он живет со дня своего приезда в № 25, где и родился его сын Оноре.
В смысле культурного багажа буржуа-вольтерьянец Бернар Бальзак был энциклопедистом, и это сказалось в его литературных трудах. Он выпускает брошюры по самым разнообразным вопросам. «Отец Бальзака, — утверждает доктор Кабанес, — был не только гигиенистом, — он затронул также самые главные проблемы социологии, предвосхитив Фурье[24] и Сен-Симона[25]». Такое утверждение надо принимать с большой осторожностью, и не в этом главная ценность произведений Бернара Бальзака.
Страстная любознательность, стремление к реформам, обуреваемость самыми фантастическими планами, в том числе и планами к обогащению, совершенно неожиданное пристрастие к Китаю, который восхищает Бернара Бальзака тем, что люди этой страны подолгу живут (Бальзак собирался прожить дольше ста лет) — все это изобличает в авторе брошюр те свойства, которые унаследовал сын его Оноре де Бальзак, тоже немалый чудак.
Немецкий биограф Оноре де Бальзака специально ездил в Тур и ознакомился со всеми брошюрами его отца, изданными в этом городе, но, к сожалению, он излагает их содержание скупо и бегло. Брошюра «О позорном беспорядке, причиняемом молодыми девицами, обманутыми и брошенными в полной нужде, и о мерах использования части населения, потерянной для государства и весьма угрожающей общественному порядку» (апрель 1808 года), — это ни что иное как памятная записка, участливо описывающая судьбу обманутых девушек и предлагающая основать приюты для «девушек-матерей».
«История бешенства» (1809 год) утверждает, что за две тысячи лет от укусов бешеных собак умерли миллионы людей, и по этому вопросу было написано триста книг. С этой болезнью отец Бальзака предполагает бороться специальными законами и налогом на собак.
Трактат «О двух великих обязанностях, стоящих перед французами», ратует об увековечении памяти основателя французского государства Генриха IV и Наполеона. «Письменные свидетельства преходящи, — замечает отец Бальзака. — Вековечнее гигантские сооружения вроде китайской стены и египетских пирамид. На пяти печатных листах автор прославляет Наполеоновские походы, кодексы законов, налоговые кадастры, военные школы, церковную политику.
В память императора должна быть воздвигнута гигантская пирамида с лестницей внутри, ведущей в богато украшенные покои. Памятник должен увенчиваться бронзовой статуей на мраморном постаменте. В своем величии этот памятник должен быть символом огромных достижений гения, который, по мнению автора, дал человечеству лучшие блага. Местом сооружения должен служить двор между Лувром и Тюильри, либо Марсово поле, или Нейи. Этот план по своему колоссальному размаху далеко превосходит Триумфальную арку, которая была закончена только при Людовике-Филиппе.
«По словам эрудита господина де Монмерне, — замечает по этому поводу Кабанес, — первая идея Триумфальной арки также принадлежала отцу Бальзака». Не к тому ли порядку мыслей относится статья «О предполагаемом разрушении памятника герцогу Беррийскому», помещенная 31 марта 1832 года в легитимистском журнале «Реноватер» и написанная великим романистом Оноре де Бальзаком? Если мы подойдем к проекту Бернара Бальзака не с одной только точки зрения прожектерства, а его главной сущности, то перед нами встанет напыщенная фигура с косичкой одописателя XVIII века. Его перо воспевало политическую погоду, пользуясь приемами установленного временем канона, и в этом смысле отец и сын росли от одного корня, — помимо физиологического сходства Оноре унаследовал типичнейшие черты своей среды.
Каких-либо новых политических веяний не могла внести в воспитание сына и мать — Анна-Лаура Саламбье. Мадам Бальзак получила образование в монастыре Дам Сен-Жерве, она была вольтерьянкой, как и ее муж, и пересыпала свои письма и разговоры выпадами против попов.
Мать Бальзака, урожденная Анна-Шарлотта-Лаура Саламбье
Живая, умная, фантазерка, быстрая и точная в суждениях, обладающая врожденной культурой парижанки, она пишет очень приятные письма, высказывая в них здравые и разнообразные мысли, в выражениях, напоминающих мольеровских мещанок. Но эти блестящие качества портит неуравновешенность характера и болезненная подозрительность. В быту она мелочна, обидчива, суетлива и придирчива. К этому надо прибавить преувеличенное представление о своей болезненности.
Во всяком случае такой мы застаем ее в Туре 1799 году, и в этом отношении она является полной противоположностью супругу своему — туреньскому философу, моложе которого, кстати сказать, она была на 32 года. «Что касается папы, то это египетская пирамида, незыблемая среди землетрясений, молодеющая и т. д. и т. д., — пишет Оноре де Бальзак своей сестре Лауре из Вильпаризи, — ну, а мама, постоянно порхающая в Париж, покрывает своей живостью папину неподвижность…» Бернар и Анна Бальзак — в этой противоположности, может быть, и заключена некая разгадка будущего явления, которое представляет собою человек и писатель — Оноре де Бальзак. Порождая гения, природа совершает высочайшее напряжение, и в усиленном комплексе характерных черт, выработанных общественной средой и унаследованных от родителей, дает новое и замечательное сочетание.
По стопам Наполеона
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А. Пушкин
Как Цезарь из Рима в Галлию, Наполеон переметнулся из Парижа в Египет, под предлогом того, что им выполняется великая миссия, которую Франция унаследовала от Людовика Святого, попавшего в плен в Египте 550 лет тому назад. Однако, под маской этой исторической задачи скрывалось лицо великого честолюбца.
Он ушел, чтобы прийти и сказать метавшейся в предсмертных судорогах Директории: «Один я все нес на своих плечах, с моим уходом все пошло прахом». И действительно — предсказания Бонапарта оправдались: Суворов во главе войск второй коалиции завоевывал то, что закрепил за Францией ее будущий властитель.
Страна была объята пожарищем мятежей. «Сухая гильотина» — ссылка — не щадила ни белого, ни красного, якобинец и роялист были равно повинны, и правых не было. Богатая аристократия покидала Клиши[26] и свои замки и бежала за границу. Таких было до ста тысяч человек. Баррас[27], Массена[28] и Моро[29] явно сочувствовали монархистам, делая вид, что блюдут интересы конституции. Революция стала лакомым блюдом дипломатических кабинетов европейских держав, и сама Франция жаждала узреть своего спасителя и его скрижали.
Но были люди, которые и тогда проводили свои дни вдали от мира правителей и политики, пользуясь в то же время обильными плодами пышно расцветшей спекуляции на военных поставках. Таким мирным обывателем города Тура и поставщиком на армию оказался Бернар-Франсуа Бальзак. Когда Сийес[30], бывший аббат, викарий епископа Шартрского, а потом член Учредительного собрания, якобинский оратор и друг Робеспьера[31], бежавший из Парижа во времена террора, был кем-то спрошен: «Что он делал?» — ответил: «Жил». Точно так же мог сказать Франсуа Бальзак, добавив: «… и плодился».
В 1799 году, 20 мая, жена принесла ему ребенка — сына Оноре. Крепкая натура крестьянина-гасконца и молоко крестьянки-кормилицы, которой сейчас же после рождения был отдан Оноре, обеспечили ему крепкое здоровье. Надо полагать, что и сама природа тишайшего Тура сыграла в этом не последнюю роль.
«Если вы хотите видеть природу (Турень), — пишет Бальзак («Лилия в долине»), — прекрасную и девственную, как невеста, пойдите туда в весенний день; если вы хотите утишить кровоточащие раны вашего сердца, вернитесь туда в последние дни осени. Весною там любовь парит в ясном небе, осенью думается там о тех, кого уже нет на свете. Больные легкие вдыхают там живительную свежесть, взгляд отдыхает на золотистых деревах, на душу сходит безмятежный покой. В это мгновение мельницы, стоящие на склонах Эндры, наполняли долину трепещущими звуками, качались, смеясь, тополя, на небе не было ни облачка, птицы пели, стрекотали сверчки, — все было одной мелодией. Больше не спрашивайте меня, почему я люблю Турень; я люблю его не так, как любят свою колыбель, и не так, как любят оазис в пустыне; я люблю его, как художник любит искусство… без Туреня я, наверное, не мог бы жить…
Вообразите себе три мельницы, расположенные среди красиво очерченных островов. Они стоят, увенчанные группой деревьев, на водной равнине. Какое другое имя дать этим водяным растениям, таким жизнерадостным, таким ярким? Они как ковром покрывают поверхность воды, волнуются вместе с нею, подчиняются ее причудам и клонятся под напором реки, которую хлещут мельничные колеса. Кое-где виднеются груды гравия, о них разбивается вода, образуя бахрому, в которой переливается солнце. Амарилисы, ненюфары, водяные лилии, камыши покрывают берега своими великолепными коврами. Шаткий мост из прогнивших балок, быки его заросли цветами, а покрытые вьющимися растениями и бархатистыми мхами перила склоняются к самой воде и все еще не падают; старые лодки, рыбачьи сети, однообразная песня пастуха, утки, плавающие среди островов или охорашивающиеся на песках, которые наносит Луара; подмастерья мельника, в колпаках набекрень, грузящие своих мулов, — все эти подробности придавали этому зрелищу удивительную простоту.
Представьте себе по ту сторону моста несколько ферм, голубятню, около тридцати хижин, меж ними сады, изгороди из жимолости и жасмина, кучи навоза перед каждой дверью, кур и петухов на дорожках: вот село Пон-де-Руан, село красивое, увенчанное старинной церковью, церковью времен крестовых подходов, каких ищут живописцы для своих картин. Окружите все это рамкой из старых орешников, молодых тополей с бледно-золотыми листьями, разбросайте изящные здания фабрик по обширным лугам, в которых теряется взор под горячим, знойным небом, — и вы будете иметь представление об одном из тысячи уголков этой прекрасной земли». Вот где родилась краснощекость молодого Бальзака. — Надо полагать, что в одном из домиков этого села Пон-де-Руан и проживала та женщина, которой суждено, было вскормить своей грудью великого писателя Франции. История не сохранила нам ее имени. Известно только то, что Оноре до четырех лет пробыл у своей кормилицы, потом был взят в родительский дом и его стали водить в экстернат Легюэ, считавшийся тогда лучшим детским садом в Туре, где он обучался до семилетнего возраста. После пансиона Легюэ его отдали в знаменитое в то время Вандомское училище, принадлежавшее монахам-ораторианцам. Поступил он в училище 22 июня 1807 года. В книге училища сохранилась запись:
«Оноре Бальзак, 8 лет и 5 месяцев, перенес оспу без последствий, характер сангвинический, вспыльчив, подвержен нервной раздражительности, поступил в пансион 22 июня 1807 года. Обращаться к господину Бальзаку, его отцу, в Туре».
Вандомское училище
Очень часто биографы впадают в ошибку, основывая свои догадки не на материалах, а на художественных произведениях писателя, в чем следует упрекнуть Рене Бенжамена («Необычайная жизнь Оноре де Бальзака»), но в таких романах, как «Лилия в долине», «Луи Ламбер», «Шагреневая кожа» и «Погибшие мечтания» столь явно проглядывают автобиографические черты, что мы не можем обойти их вниманием и не раз будем возвращаться к ним и, отсеивая то, что создано художественным вымыслом, черпать в них краски для образа живого Бальзака. Кстати сказать, на автобиографичность этих произведений указывают Теофиль Готье, другие друзья и знакомые Бальзака и его сестра — мадам Сюрвиль.
Вот как вспоминает Оноре о своем пребывании в Вандомском училище в романе «Лилия в долине»: «Как только я научился читать и писать, мать отправила меня в Пон-де-Руан, училище, содержавшееся ораторианцами, которые принимали детей моего возраста в класс, называвшийся классом «латинских шагов» (pas latins), где оставались также ученики, запоздалое развитие которых не позволяло им усвоить начатки знаний. Я пробыл там восемь лет, ничего не видя и влача жизнь пария. Вот как это случилось и почему. Мне давали только три франка в месяц на мои скромные развлечения — сумма, которой едва хватало на перья, — перочинные ножи, линейки, чернила и бумагу, которыми мы должны были сами обзаводиться. Я был изгнан из общих игр, так как не имел возможности покупать ходули, веревки и другие вещи, необходимые для школьных развлечений. Чтобы быть принятым в игры, я должен был подлизываться к богатым или льстить сильным. Малейшая из этих низостей, которые так легко позволяют себе дети, заставляла мое сердце обливаться кровью. Я проводил время, сидя под деревом, погруженный в жалостные мечтанья, я читал там книги, которыми ежемесячно снабжал нас библиотекарь. Сколько горестей было скрыто в глубине этого чудовищного одиночества, какие ужасы порождала моя заброшенность!»
Внутренний облик мальчика-Бальзака нарисован самим Бальзаком с присущей ему правдивостью. Это подтверждается словами о нем директора Вандомского училища: «В первые два года от него ничего нельзя было добиться. Его противодействие всякой задаваемой ему школьной работе было непобедимо. Эти годы он провел частью в своей комнате, частью — в карцере, помещавшемся в дровяном сарае. Он слыл (по крайней мере в Вандоме) за изобретателя трехконечного гусиного пера, которым он писал свои штрафные работы. Потом ему пришло в голову опередить свой класс, и он стал писать сочинения, подражая второклассникам и риторам. Начиная с четвертого класса, его парта всегда была полна его писаниями, прозвище «поэта» дали ему воспитанники его класса и младшие, старшие же ученики его не признавали и охотно повторяли корявый стих из начатой им эпической поэмы:
Рассказчик в романе «Луи Ламбер» признает себя автором этого стиха и добродушно над ним смеется».
Из этого описания школьных лет Бальзака становится ясно, почему в анналах Вандомского училища значится: «характера сангвинического, подвержен нервной раздражительности». Надо думать, что страдания одинокой и крайне впечатлительной детской души выражались у Оноре в резкой вспыльчивости, в быстрых переходах от грусти к веселью, от ласковости к грубым поступкам и, наконец, это одиночество породило в Бальзаке ту страсть, которая сделалась основой всей его жизни: страсть к труду, к упоению трудом. «Занятия для меня, — пишет Бальзак, — сделались страстью которая могла оказаться роковой, заключив меня в тюрьму в ту пору, когда молодые люди должны предаваться опьяняющим проявлениям своей весенней природы». «В толстом, щекастом мальчике с красным лицом, зимою с отмороженными руками и ногами» рано окрепла воля и воспитала в нем то упорство, с которым он устремлялся к намеченной цели.
Можно без преувеличения сказать, что первым местом самовоспитания для Оноре была тюрьма — иначе Вандомское училище назвать нельзя. Вот как он описывал свою alma mater в романе «Луи Ламбер»: «От испарений, которыми был заражен воздух, смешанных с запахом класса, всегда грязного и заваленного остатками наших завтраков и полдников, страдало обоняние… При наших классах имелись чуланчики, куда каждый прятал свою добычу — голубей, убитых для праздничного обеда, и блюда, похищенные из столовой.
В нашей жилой комнате находился громадный камень, на котором всегда стояло два ведра с водой (нечто вроде водопоя), куда мы каждое утро подходили сполоснуть лицо и руки по очереди, в присутствии надзирателя. Оттуда мы переходили к столу, где нас причесывали и пудрили женщины. Наша комната, которую убирали один раз в сутки, перед вставанием, всегда была неопрятна, — несмотря на множество окон и высоту двери, воздух в ней был тяжел от испарений прачечной, вони отхожего места и от пыли, которая летела, когда чесали парики… Этот училищный навоз, постоянно смешиваемый с грязью, которую мы приносили со двора, издавал невыносимое зловоние…
К трудностям душевного порядка, которые испытывал Ламбер, привыкая к училищу, присоединялось еще не менее суровое испытание, через которое мы прошли все: телесные страдания, выражавшиеся в самых разнообразных формах. Детская нежная кожа требует тщательного ухода, особенно зимой, когда дети переходят из ледяной атмосферы грязного двора в жарко натопленный класс. Лишенные материнской заботы «младшие» и «самые младшие» покрывались волдырями, кожа их трескалась.
Во время перемены им приходилось делать перевязки, но производилось это плохо, ввиду большого количества больных рук, ног и пяток… Его нежное, как у женщины, лицо, его уши и губы покрывались трещинами при малейшем холоде. Его руки, такие мягкие, такие белые, краснели и распухали. У него постоянно был насморк… Итак, Луи был объят страданиями до тех пор, пока не привык к вандомским нравам…»
Бальзаку было 14 лет, когда по просьбе директора училища господина Марешаля-Дюплесси мать приехала в Вандом, чтобы взять его домой. «На него, — вспоминает сестра, — нашло какое-то оцепенение. Учителя думали, что это не следует приписывать его умственному переутомлению, ибо он был в разряде ленивых и нерадивых учеников, но сам Бальзак впоследствии говорил, что у него тогда был своего рода застой мыслей, вызванный неумеренным чтением. Он прочел значительную часть богатой школьной библиотеки. Вернулся он домой похудевший и истощенный и напоминал лунатика, спящего с открытыми глазами. Он не слышал вопросов, с которыми к нему обращались, и не находился, что ответить, когда его внезапно спрашивали: О чем ты думаешь? Где ты витаешь?»
Бальзак проучился в Вандоме семь лет. Оттуда его взяли из второго класса и через некоторое время отдали экстерном в Турский лицей. Но там его пребывание было коротко. В конце 1814 года отец Бальзака получил назначение в Париж на должность заведующего поставкой провианта 1-й дивизии, и вся семья переехала в Париж и поселилась в квартале Маре.
«В эпоху Реставрации квартала Маре еще не коснулись перестройки и прокладки новых улиц, которые впоследствии совершенно изменили его лицо, — пишет Л.-Ж. Арригон. — Со своими старыми домами XIV и XV века, увенчанными башенками, со своими особняками времен Людовика XIII, замысловато сложенными из камня и кирпича, со своими величественными зданиями с фронтонами и коринфскими колоннами XVII и начала XVIII века, — он представлял собою живописный музей различных возрастов Парижа, был как бы живым свидетелем эволюции нравов и обычаев столицы. Он сохранял еще если не аристократический характер, то во всяком случае буржуазную добропорядочность. Несмотря на то, что мало-помалу (это движение началось уже во второй половине XVIII века) мелкий люд начал проникать в самые узкие его улицы, в гнусные и грязные дома, несмотря на то, что многие из бывших барских домов были уже преобразованы в рабочие жилища, там жили в большом количестве судейские чиновники и адвокаты, нотариусы и поверенные охотно открывали там свои конторы».
Все это было уже не то, что видел и мог увидеть Оноре в первый свой приезд в Париж, куда его возила мать на показ деду и бабке в 1804 году. Тогда Париж был особенно праздничен; поездка вероятно пришлась на летнее время (зимой вряд ли удобно было везти ребенка). В этом году пожизненный консул Бонапарт принял титул императора Наполеона I и «правление республики доверялось императору», как гласил об этом сенатус-консульт (постановление сената). Правда, волю народа опросили потом, но веселились все — одни, желая извлечь выгоду и обеспечить себе положение, другие — по трусости и лицемерию.
Тогда Париж показался пятилетнему мальчику сказочным видением. Теперь же, в 1814 году, это было первыми уроками красочной, шумной, соблазнительной и, внутри своих подвалов и чердаков, страшной и темной жизни. Бальзак окунулся в мир дельцов и сутяг, согбенных над своими конторками, биржевых спекулянтов и торгашей краденым провиантом от военных поставок, парфюмеров — изобретателей головных мазей и эликсиров красоты, фантастически вырастающих в богачей с жирным животом и бычьей шеей и, наконец, рабочих, которые после 14-часового труда несут в свои холодные норы жалкие куски пищи.
«Это было время, — говорит Энгельс, — когда чистоган стал, по выражению Карлейля[32], единственным связующим элементом этого общества. Количество преступлений вырастало с каждым годом. Если пороки феодальной эпохи, прежде выставлявшиеся напоказ, теперь хотя и не были уничтожены, но все же были отодвинуты на задний план, зато тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, прежде робко скрывавшиеся во тьме. Торговля все более и более проникалась мошенничеством. Революционный девиз «братства» осуществился в плутнях и зависти, порождаемой конкуренцией. Подкуп заменил грубое насилие, и вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. «Право первой ночи» перешло по наследству от феодалов к фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров, и даже самый брак остался, как и прежде, признанной законом формой, официальным прикрытием проституции…».
Вот та общественная и политическая трагикомедия, зрителем которой оказался пятнадцатилетний Оноре после тихих и ласковых пейзажей прекрасного Туреня и мирных картин патриархального быта Пон-де-Руана. Нет сомнения, что уже с этой поры начинают западать в память будущего творца «Человеческой комедии» те образы, которые с такой беспощадной реальностью нарисованы им в этой серии романов.
Уклад семейной жизни Бальзаков в Париже ничуть не изменился. В течение своей служебной карьеры Бальзак-отец научился ценить связи. Для того, чтобы обеспечить себе на случай нужды полезную опору, семья его привыкла сохранять и расширять круг знакомств. Связи были очень разнообразны, пестры: разбогатевший коммерсант соседствовал с новой знатью, дворянин старого режима — с бывшим офицером армии Республики или Империи.
Отметим, что многие знакомые Бальзаков принадлежали к миру, за которым, с 1792 по 1815 год, в течение долгих лет войны, удерживались разные должности на службе военных снабжений, — оригинальный мир, где встречались люди, пробившиеся из самых низов, с прошлым, часто сильно запятнанным, и другие, которые потеряли во время революции ранг и положение, то-есть «подозрительные», находившие здесь убежище, и революционеры, искавшие случая «обеспечить себя», — мир, где аппетиты были большие, а честолюбие — жадное до скорого осуществления, где делали себе состояние, смело искушая судьбу и часто рискуя головой.
Многие из этих связей восходили к давним временам. Так было с семьей Думерк. Даниэль Думерк, родившийся в 1738 году в Монтобане, в самом начале революции, в 1791–1792 годах, занимал должность начальника провиантского ведомства в Париже. С этого самого времени, а может быть и раньше, он был знаком с Б.-Ф. Бальзаком. Находившийся под угрозой ареста во время террора, потом выбранный депутатом в Совет пятисот, сосланный после 18 фруктидора, он в конце концов занял большой пост на службе военных снабжений, основав в 1814 году фирму, которая монополизировала на пятилетний срок поставку продовольствия и фуража для армии.
Без сомнения, его связи способствовали назначению в том же году Б.-Ф. Бальзака в Париж. Даниэль Думерк умер в 1816 году, но господин Бальзак поддерживал знакомство с его сыновьями, с госпожой Думерк и особенно с его дочерью, госпожой Деланнуа, вдовой богатого поставщика мясного провианта. Госпожа Деланнуа блистала, как и другие жены и дочери многочисленных нуворишей, в салонах Сегенов и Энгерлотов. Барон Жуанвиль, интендант 10-й дивизии, считался также в числе старых знакомых отца Бальзака, который во времена революции поддерживал связь с его семьей.
Как только Бальзаки переселились в Париж, Оноре сперва отдали в пансион Лепитра, улица Сен-Луи, 9, затем в пансион Ганзе и Безелена, улица Ториньи, 7, и, наконец, его послали в Школу права. Одновременно его определили канцеляристом сначала к поверенному, господину Гильоне-Мервилю, где он оставался до конца 1817 года, а может быть и до начала 1818 года, потом к нотариусу Пассе.
«…Мой отец, — говорится в романе «Лилия в долине», — стал сомневаться в пользе ораторианского воспитания и поместил меня в Париже в заведенье, находившееся в квартале Маре. Мне было пятнадцать лет. Огорчения, которые я испытывал в семье, школе, училище, стали преследовать меня в новом виде во время моего пребывания в пансионе Лепитра. Отец не давал мне денег. Раз родители знали, что меня будут кормить, одевать, забивать мне голову латынью и греческим — все было кончено. В школьные годы мне пришлось сталкиваться приблизительно с тысячью товарищами, и нигде я не видел примера такого безразличия…Господин Лепитр счел своим долгом исправить забывчивость моего отца, но сумма, которую он выдавал мне ежемесячно, была ничтожна…».
Тяжелый характер мадам Бальзак не преминул сказаться на самочувствии сына. Ее причуды доходили до того, что однажды Оноре и сестра его заподозрили у нее душевную болезнь и спросили доктора Накара: не больна ли она? «Ах, — ответил он, — она вовсе не сумасшедшая, а просто злюка». К тому же и присутствие в доме третьего лица — «матушки», госпожи Саламбье, не способствовало семейному согласию. Еще более взбалмошная и более грубая, чем ее дочь, она не жалела горьких слов по адресу своего зятя. У взрослых в семье Бальзаков только на одном сходились мнения — на вопросе о будущем детей.
Две дочери были совершенно различного характера: Лаура, грациозная и очаровательная, самая рассудительная и уравновешенная, и Лоранс, романтическая, пылкая, мечтающая о женихе и о любви, но в то же время любящая заниматься самыми скромными домашними делами: стиркой, шитьем, варкой варенья, приготовлением блюд. Для них все мечты были устремлены на блестящую или во всяком случае выгодную партию. Анри был еще мал, а для старшего Оноре прочили самое солидное положение, какое может себе представить буржуазная фантазия — профессию, одновременно прибыльную и почетную для семьи.
Сестра Бальзака Лаура в детстве
Кто знает, может быть в один прекрасный день Оноре сделается преемником своего патрона — нотариуса Пассе? Поэтому образ жизни юного Бальзака подвергается деспотически строгому контролю матери, время его строго распределено, и он покидает контору на улице Тампль, чтобы спешить в Школу права. Иногда только удается ему вырваться в Сорбонну, послушать лекции Вильмена[33] или Кузена[34].
Воспоминания о школьных годах, начиная с Вандома и кончая парижскими пансионами, говорят не только о косности и жестокости средневекового воспитания, — они примечательны еще и в том смысле, что в них уже ясно звучит тот лейтмотив, который становится главенствующим в гениальной симфонии Бальзака, если так можно назвать его жизнь и темы его произведений. Этот лейтмотив — деньги! деньги! деньги! И в этом отношении Бальзак от самых истоков своих является истинным сыном своей эпохи, когда главным социальным фактором жизни становятся деньги.
В конце 1818 года контора господина Пассе помещалась на улице Тампль, в доме № 40, на углу улицы Пастурель, — красивый дом, трехэтажный, с мансардами, высокие и широкие окна которого, числом пять, выходили на улицу Тампль, а четыре — на улицу Пастурель. Старшим письмоводителем там был некий господин Жанвье, человек замечательный как своими способностями по службе, знанием права, так и своим остроумием и бесконечными каламбурами.
Его обычно ставили в пример другому канцеляристу, далеко не столь ревностному, — который не приходил в восторг при виде контрактов и ликвидации и который слишком часто, бросив писанье бумаг, погружался в чтение какой-нибудь растрепанной книжки, никакого отношения к нотариальной конторе не имевшей, или, что было еще более предосудительно, принимался кропать стишки.
Этот ротозей и лентяй был юноша девятнадцати лет, среднего роста, коренастый, довольно нескладный, — в шутку его прозвали «слоном», — с полными, чувственными губами, едва оттененными пробивающимися усиками, скрывавшими уже гнилые зубы.
Его костистое лицо, с тою худобой, которая бывает у юношей, ведущих уединенную и сидячую жизнь, было увенчано густой, черной, непослушной шевелюрой и освещалось глазами, хотя и небольшими, но красивого коричневого цвета с золотыми крапинками.
Веселый, оживленный, увлекающийся, даже бурный, нисколько не застенчивый, уверенный в себе, очень разговорчивый, не стесняющийся в выражениях, любящий меткое словцо — таков внешне был Оноре, но никто еще не знал о его заветных мечтаниях. Противопоставляя им окружающую обстановку канцелярской гнили и крючкотворства, он не мог не испытывать ужаса перед тем будущим, которое уготавливали ему родители: сперва должность канцеляриста, потом заведующего конторой нотариуса, наконец, самого нотариуса, что сулило к почтенным годам судьбу идеального человека: рантье.
Оноре, конечно, видел, что есть в жизни другое дело и люди, которые ему служат; по молодости лет идеализировал их и по молодости и природному честолюбию прельщался тем блеском, каким мог его ослепить праздный, веселящийся, поющий и танцующий Париж, Париж не квартала Маре, а Клиши и Сен-Жерменского предместья, не тот Париж, который собирает и накапливает по грошам, а тот, который фантастически богатеет.
Об этой жизни он знал и раньше от подруги своей бабушки, мадемуазель де Ружмон, которая гащивала в их семье. Мадемуазель де Ружмон, замечательная рассказчица анекдотов из времен Людовиков XV и XVI и Революции, была близко знакома с автором «Севильского цирюльника». Бомарше[35], литератор и делец, бесстрашный авантюрист, отчаянно гонявшийся за богатством, изобретательный аферист — образ, который вызывал родственные ему вожделения у самого Бальзака.
Надо было иметь силу воли, чтобы не обнаружить перед другими своего душевного состояния и с таким упрямством ждать того времени, когда можно будет раскрыться. Время это приспело: ученье подходило к концу, и к тому же служебному положению отца внезапно был нанесен удар, и его материальное благополучие было сильно урезано.
Правда, некоторые неудачные спекуляции и до этого еще случая нанесли ущерб состоянию Бальзаков, но все же семья жила в большом достатке. Должность, занимаемая отцом, давала с 1817 года восемь тысяч франков в год: к этой сумме надо прибавить доходы от капиталовложений и, главным образом, с знаменитой тонтины Лафаржа — «общество пожизненных рент», — основанной в 1791 году. Не думая о своем возрасте, а ему было уже семьдесят два года, — которого он не замечал, Б.-Ф. Бальзак считал себя еще способным на деятельную жизнь в течение многих лет. И вот внезапно, 6 декабря 1818 года, граф Дежан, начальник провиантского ведомства военного министерства, препровождает приказ подать Бальзаку в отставку с 1 апреля 1819 года.
Старик был потрясен. Все дни проводил он в хлопотах, добиваясь разных документов для получения пенсии, осаждая своих прежних начальников просьбами об отзывах по службе. Это время совпало с окончанием курса наук сыном Оноре. 4 января 1819 года он сдал первый экзамен на бакалавра прав, а 10 апреля того же года закончил десятый семестр в Школе прав.
Было ли это то же самое десятое число апреля или какое другое, но столь же памятное, как день освобождения от науки прав, когда в неожиданном ратоборстве выступили отец и сын.
Оноре заявил, что он хочет сделаться литератором — homme de lettres. Л.-Ж. Арригон описывает эту сцену так:
«Господин Бальзак (отец), раскрасневшийся, с горящими глазами, почти в ярости, беспокойными шагами ходит взад и вперед по комнате.
— Ты хочешь писать? — восклицает госпожа Бальзак, — и это ради такого неопределенного будущего ты отказываешься от почетного и обеспеченного положения?
— Ты хочешь писать? — говорит в свою очередь господин Бальзак, ядовито усмехаясь и ускоряя шаги. — Ах! Ведь это прямо смешно! Разве ты не думаешь, что ты должен составить себе состояние? Неужели ты не знаешь, что писательство — самое худшее ремесло, что нужно быть королем среди писателей, иначе будешь меньше, чем ничем? Я предпочел бы для тебя какое угодно занятие, которое дало бы тебе возможность вести достойную жизнь, но только не карьеру писателя без денег. Тебе нужно зарабатывать себе на жизнь, а когда приходится жить своим пером, угождать вкусу публики, писать, чтобы ей нравилось и чтобы она покупала, — тогда нельзя сделать ничего серьезного и большого, и не можешь быть уверен даже, что тебя станут уважать
— Все дело в том, чтобы иметь талант, — возражает Оноре. — Печать призвана править миром, и те которые так или иначе примут в ней участие, будут людьми влиятельными, ты знаешь это лучше меня.
— А как ты попадешь в мир печати, ты, у которого нет никаких знакомств и никаких связей?
— Мне предстоит сделать многое, я это знаю, у меня есть сила воли, энергия и мужество.
— Твоя уверенность пугает меня, бедный мой сын, — говорит госпожа Бальзак. — Сколько разочарований тебя ожидает!
Спор был яростный и бурный».
Из всей этой странички верно только то, что у отца Бальзака, был вид взбешенного человека, и спор был яростен, а все прочие рацеи и убеждения придуманы, и неудачно.
Не таковы были родители Оноре, особенно мать, чтобы убеждать сына, да и весь семейный уклад не только Бальзаков, а всякой буржуазной семьи, зиждился на безусловном повиновении младших старшим, на жестоких мерах взыскания, на приказах, на авторитете долгих прожитых лет, и когда дети восставали против отцов и дедов, то в доме начинался не спор, как мы его понимаем, — а то, что попросту называется скандалом и шумом, после чего обычно наступало грозное молчание.
Оноре было не так легко добиться своей самостоятельности, как это изображает Арригон, забывая, что «с горящими глазами и почти в ярости» не беседуют столь приятно. Ярость отца, шагающего взад и вперед по комнате, вопли истерической «злюки» — мадам Бальзак, патриархально стонущая бабушка, полное безмолвие жантильной и, как говорят, «воспитанной» дочери Лауры и упорное отсиживание на своей позиции сына Оноре, которую он прочно укрепил с тех пор, как предугадал всей своей замечательной натурой путь, по которому должен идти, — вот что представляла собой картина семейной распри Бальзаков в апреле 1819 года.
Позже в письме к сестре Лауре Оноре дает весьма откровенную характеристику своей матери и бабушки и тому тону семейного быта, который был установлен этими женщинами в доме старика Бальзака: «Скажу тебе под страшным секретом, что бедная мама скоро сделается такой же нервной, как бабушка, а может быть и хуже. Вчера я слышал, как она причитала, совсем как бабушка, хлопотала над канарейкой, совсем как бабушка, придиралась к Лоранс и к Оноре, настроение ее менялось с быстротой молнии и так далее — совсем как у бабушки.
Может быть все это мне кажется, потому, что я боюсь за маму, во всяком случае я искренне желаю другого как для нее, так и для нас. Что мне больше всего не нравится, так это болезненная подозрительность, которая, царит в нашем доме. Мы четверо — маленький городок, и следим друг за другом, как Монтекукули[36] и Тюрень.
Как-то на-днях я вернулся из Парижа совершенно разбитый и забыл поблагодарить маму за то, что она заказала мне черный костюм; в моем возрасте от таких подарков уже не приходят в восторг; но мне нетрудно было бы представиться очень тронутым ее вниманием, тем более, что это с ее стороны была жертва, но я попросту забыл. Ну, и обиделась же на меня мама! А ты знаешь, какое у нее бывает лицо в таких случаях. Я как с неба свалился и стал думать: что же я такое сделал? К счастью, Лоранс предупредила меня, и две-три тонких фразы разгладили мамино лицо. Это — пустяк, капля, но это дает тебе понятие о наших нравах». (Июнь 1820 г.)
Это была первая победа Оноре, и не такая легкая, как нам ее изображают. Родители сдались и потребовали компенсации, которая свидетельствует о их лицемерии и страхе перед тем, что скажут люди — они потребовали арбитра. Арбитр (говорят, это был торговец скобяными товарами) выразился так:
— Этот мальчик, очевидно, не призван к великим делам. Он не желает быть нотариусом, — ну, что ж! У него хороший почерк, пусть будет писцом. Мы найдем ему место…
Такое решение было подсказано арбитру тем обстоятельством, что у молодого бакалавра прав Бальзака брали уроки чистописания, так как у него была, что называется, «четкая рука».
Торговец оказался плохим арбитром, и родители окончательно сдались. На семейном совете будущему писателю дали два года на испытание. В течение этих двух лет он сможет располагать их средствами только на самое необходимое. Но можно ли было признаться друзьям и знакомым, не краснея, что сын Бальзака бросил контору господина Пассе, чтобы сделаться литератором?
Поэтому придумана сказка: Оноре устал и болен, он покидает Париж и едет в Альби к кузену, чтобы восстановить здоровье. На самом же деле он должен был, тайно от всех, поселиться в какой-нибудь комнатушке в Париже и в одиночестве попытаться стать литератором. Родители сильно рассчитывали на жизненные неудобства, лишения и суровость такого существования и хотели этим отвратить сына от намерения быть homme de lettres.
Однако, этим не кончились тревоги и несчастия злополучного 1819 года. Бальзаку отказали в пенсии, а компания, основанная покойным другом семьи, Думерком, в предприятия которой была вложена большая часть капиталов, находилась накануне ликвидации. Для сокращения расходов решено было переехать в Вильпаризи. Кузен госпожи Бальзак, Мари-Клод-Антуан Саламбье, купил там дом и сдал его в аренду Бальзакам. Дом был большой, двухэтажный, со службами и садом. Вильпаризи находился на расстоянии 23 километров от Парижа. Сообщение со столицей в то время было удобное — по нескольку дилижансов в день. Уезжая в Вильпаризи, мадам Бальзак сняла для сына комнату в мансарде дома № 9 по улице Ледигьер.
Оноре остался в Париже один, почти без средств, но молодой, полный сил и энергии, с тем «простеньким цветком» в душе, о котором он говорит в своей повести «Неведомый шедевр»: «Есть во всех человеческих чувствах простенький цветок, взращиваемый благородным порывом, постепенно хиреющий, когда счастье становится только воспоминанием, а слова — ложью».
Оноре Бальзак, как некогда отец его, Бернар-Франсуа Бальзак, пришел завоевывать Париж.
Мансарда
Думал ли когда-нибудь архитектор Франсуа Мансар[37], создавая чертежи своих высоких крыш и слуховых окон, что с этими чердаками, названными его именем, будет связано столько вольного и невольного одиночества, страшной нищеты и прекрасной бедности, в которую повергали себя поэты и прозаики, мастера кисти и резца — служители всех муз, равно как и служители всех человеческих пороков?
В этих окошках, с нависшими над ними козырьками, которые воруют у них дневной и лунный свет, необузданная фантазия открывала целые миры, и оттуда развертывались такие умопомрачительные дали, о каких даже и вообразить себе не мог создатель Эйфелевой башни, жалко карабкающейся к небу.
Искусства и науки, загнанные на мансарды нуждой и королями, творили там свое великое дело. Таким немилостивым королем для Оноре Бальзака в его юные годы оказались деньги. Есть некоторые данные полагать, что нужда приводила его к намерению броситься «в холодные простыни Сены», но он этого не сделал, так как был очень здоровым человеком: жизнь и только жизнь, а смерть, как утверждение жизни. Он ушел на мансарду, чтобы взять в руку перо и не расставаться с ним ни днем, ни ночью, в течение тридцати лет.
В ранние годы сознательной жизни каждый человек, если только духовный рост его не обременен тяжкими запасами заранее и на всю жизнь заготовленных правил, всегда носит в себе тот образ, которым он восхищен, которому он хотел бы подражать и который возвысил бы его над средой. Кто же был для Бальзака таким чарующим образом, жизни и поведению которого он хотел бы подражать и стать таким же на своем поприще? Это был сын корсиканского дворянина Карло-Мария Буонапарте — император Франции, Наполеон. В этом отношении Бальзак не представлял исключения среди современной ему молодежи, выросшей под грохот орудий «рокового корсиканца».
«Во времена войн Империи, — говорит А. де Мюссе, — тревожные матери производили на свет поколение горячее, бледное, нервное». Но среди всех эпитетов, какими определяет он людей этого поколения, только одно можно отнести к натуре Оноре: он был горяч, но не был нервен и не был бледен — он был подвижен, и краснощек. Это дало ему возможность возложить на себя бремя лишений и колоссального труда, примеров которому не найти ни в одной литературе. Поселившись на мансарде, Бальзак стал готовиться к бою под Аустерлицем. Увлечение молодого Оноре фигурой Наполеона интересно как знак времени, как указание на его личное качество: «Сделать все, потому что хочу всего». С таким законом для своей воли он впервые поднялся на мансарду на улице Ледигьер.
Там он оказался в полном одиночестве, и адрес его был известен только некоей старушке и Даблену. Старушка, тетушка Комен, которую он прозвал Иридой, вестницей богов, появлялась у него на мансарде раз в неделю. Она служила связью между Парижем и Вильпаризи и вероятно выполняла роль приходящей прислуги, а Даблен — «папеньки», советника и утешителя. Даблен не одобрял того пути, который избрал себе Оноре, но уж раз совершилось, трудно было другу семьи Бальзаков вычеркнуть из памяти, что где-то на холодной и грязной мансарде обитает юноша, еще не знающий самостоятельной жизни.
Из двух писем Оноре (сентябрь и ноябрь 1819 года) к Теодору Даблену совершенно ясно, каковы были их отношения: «Вероломный папенька, я не видел вас уже целых шестнадцать дней. Это плохо. У меня только и утешения, что вы. Собственно говоря, это хуже всего. Но не будем ссориться, и я жду вас в воскресенье утром. Вы должны рассказать мне подробности о выставках картин, и я буду вас о них спрашивать. Вы думаете, что я живу далеко, но это философическая ошибка: прочтите Ньютона[38], и вы увидите, что я живу от вас в двух шагах. А латынь, предатель? Жду вас, чтобы опять за нее засесть. Прощайте». И другое: «Мне хотелось бы иметь полную Библию, латинскую, если возможно, с французским текстом en regard[39]. Нового Завета мне не нужно, он у меня есть».
Бальзак изучает латынь, интересуется выставками картин, куда не смеет показать носу, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь из знакомых семьи, — и тут помогал ему Даблен книгами и своими рассказами. Также на обязанности Даблана была доставка Оноре вновь вышедших пьес и билетов в театры, куда уж он никак не мог удержаться, чтобы не пойти, хотя и рисковал открытием своего инкогнито.
О том, какова была его тогдашняя жизнь, Бальзак рассказал нам в «Фачино Кане»: «В то время я жил на маленькой улице, которую вы, конечно, не знаете, на улице Ледигьер; она идет от улицы Сент-Антуан, против фонтана площади Бастилии, до улицы Серизе. Любовь и наука забросили меня на мансарду, где я работал ночью, а день проводил в соседней библиотеке. Я жил скромно и умеренно, вел чисто монашеский образ жизни, что так необходимо для тружеников. В хорошую погоду я гулял по бульвару Бурбон.
Помимо моих научных занятий меня увлекала одна страсть: страсть к наблюдениям. Я наблюдал нравы предместья, его обитателей и их характеры. Так как я своей одеждой не отличался от рабочих и был равнодушен к своей внешности, то они не обращали на меня никакого внимания, не остерегались меня, и я мог вмешиваться в их группы, присутствовать при их сделках, спорах и ссорах. Уже тогда я получил способность, наблюдая какое-нибудь лицо, проникать в его душу, не пренебрегая его телом, или, вернее, схватив внешние подробности, жить его жизнью, становиться на его место, вполне отожествляться с ним, подобно дервишу сказок «Тысяча и одной ночи», который, после известных заклятий, принимал душу и тело людей.
Вечером, встречая между одиннадцатью и двенадцатью часами рабочего, возвращающегося с женой из театра Амбигю-Комик, я шел вслед за ними, прислушиваясь к их разговорам. Сначала они говорили о виденной пьесе, потом мало-помалу переходили к своим личным делам…
Супруги считали деньги, которые должны были получить завтра, собирались издержать их на двадцать ладов. Тут уж начинались хозяйственные подробности: жалобы на дороговизну картофеля, на слишком большую продолжительность зимы, на недоступность топлива, высчитывалось то, что они должны булочнику, наконец разгорался спор, в котором каждый из них обнаруживал свой характер в образных словах и выражениях.
Слушая, я входил в их жизнь до того, что ощущал на своей спине их рубища, а на ногах их дырявую обувь, их желания и потребности переселялись в мою душу. Это был сон наяву. Я заодно с ними негодовал на начальников мастерских за их притеснения или на дурных заказчиков, заставлявших по нескольку раз напрасно ходить за деньгами.
Все мое развлечение тогда заключалось в том, чтобы забывать свои привычки, делаться совсем другим человеком. Чему я обязан этим даром? Ясновидение ли это? Не одно ли это из тех качеств, которое ведет к безумию? Я никогда не доискивался до причины этой силы. Я обладаю и пользуюсь ею, вот и все. Скажу только, что с того времени я разложил разнородные элементы массы, называемой народом, анализировал ее, чтобы иметь возможность взвесить ее хорошие и дурные стороны. Я понимал, какую пользу вынесу из изучения этого предместья, рассадника революций, заключающего в себе героев, изобретателей, ученых, людей практических, мошенников, негодяев, добродетели и пороки, сдавленные нищетой, заглушенные нуждой, потопленные в вине, истощенные крепкими напитками.
Вы представить себе не можете, сколько забыто интересных историй, сколько драм — в этом городе скорби! Сколько ужасных и прекрасных вещей! Воображение всегда окажется ниже правды, скрывающейся в нем, правды, которую никому не удастся обнаружить. Надо спуститься слишком низко, чтобы увидеть эти сцены, трагические или комические».
Бальзак вскрывает нам здесь, с редкой для него откровенностью, тот метод, каким он пользовался, изучая «город скорби» и его героев, а нам следует из этого заключить, насколько серьезны были первые шаги молодого человека, пришедшего сюда, чтобы покорить мир своим пером. И вот, когда он разложил разнородные элементы массы, называемой народом, и произвел анализ его, он воскликнул: «Это был сон наяву».
Замешавшись в жизнь предместья, как соучастник ее, он увидел то, чего не мог видеть раньше. Замкнутый в крепкие тиски школьной морали, он должен был знать только равных себе по социальному положению и ни в коем случае тех, кто ниже.
Но, робко наблюдая за тем, что творится за пределами дозволенного, Бальзак, движимый страстью заключенного в нем гения, решается на подвиг, спускается в низы и, независимо от своих политических убеждений, чутьем художника угадывает ту подпочву, в которой таятся источники будущих революций. Париж — город скорби — с этих дней, но еще не ведомо для него, становится его главным героем.
Однако «дервишское» приятие в себя тела и души людей этого страшного города, а проще говоря творческая память, долго еще не получит своего художественного воплощения.
Он не мог еще освободиться от тех литературных традиций и вкусов, которые унаследовал от семьи и школы.
Эпиграфы его ранних романов дают нам точное представление о его литературной пище того времени. Над главами романов мелькают имена Лабрюера[40], Шекспира, Корнеля[41], Виргилия[42], Тибо, Лафонтена[43], Ларошфуко[44], евангелистов, Расина[45], Вольтера[46], Боссюэ[47], Малерба[48], графа Максима Одена, Перро[49], Ронсара[50], Жан-Батиста Руссо[51], Фомы Аквинского, Ротру[52] и Дюрье[53], Гомера[54], Горация[55], Плавта[56], Тейлора[57], Клеман Маро[58] и других.
Этот пестрый перечень имен говорит о том, что строгой системы в чтении не было. Оноре был жаден до любой книги, также как это было в Вандомском училище, где он читал все, что попадется под руку: историю, магию, философию, путешествия, античную, средневековую и более позднюю литературу. Но он совершенно незнаком еще не только с великим литературным переворотом, который подготовлялся, но и с писателями-новаторами и предшественниками романтической школы.
Читал ли Бальзак Шатобриана[59]? Читал ли мадам де Сталь[60]? Читал ли он «Адольфа» Бенжамена Констана[61], вышедшего в 1816 году, и первую книгу Ламенне[62] «О равнодушии», напечатанную в 1817 году? 1819 год — год появления «Манфреда» Байрона, которым были опьянены Жорж Санд[63] и Мишле[64]. Отшельник с улицы Ледигьер по-видимому не заражен эти восхищением.
Из трагиков он знает и ценит Корнеля, Расина и Вольтера; с Шекспиром он знаком по скопческим переводам Дюси[65], пристрастен к Бомарше, знает Мольера и Реньяра[66], Бальзак высоко ценит Ричардсона[67], а Руссо «Новой Элоизой» его совершенно очаровывает. Он находит в Руссо и пищу для своего воображения, и зеркало для своей чувствительности, и образец для своего стиля. Стерн[68], который стал переводиться во Франции с 1787 года, тоже принадлежит к его любимым авторам, и эта симпатия по-видимому внушена ему отцом: подробное изображение реалистических мелочей, юмористическое многословие и нелепые теории автора «Тристрама Шенди» — в стиле отца Бальзака.
Неизвестно, познакомился ли он с Рабле, а если и познакомился, то очень поверхностно. Наконец, в поэзии он застрял на Вольтере, Делиле[69], на холодных и скучных версификаторах XVIII века, к которым можно отнести «Поэмы Оссиана» Макферсона[70], переведенные в 1771 году и переложенные в стихи в 1801 году Баур-Лормианом, и, может быть, читал Парни[71].
Пока он еще как будто не знает «преромантиков»: Мильвуа[72], Фонтана[73], Андре Шенье[74]. Однако стихотворения последнего, изданные Латушем[75] в 1819 году и прочитанные Бальзаком несколько позже, произвели на него глубокое впечатление, о чем он рассказал в «Погибших мечтаниях». Из всего этого видно, чти Бальзак с улицы Ледигьер весь еще в XVIII веке.
Поэтому-то, когда он воспламенился намерением обрести славу писателя, то в выборе своей темы он останавливается на Кромвеле[76], то есть пишет то, что должен был бы писать молодой человек, мечтающий накануне Великой французской революции сравняться с каким-нибудь Мармонтелем[77]. Пять месяцев он работает над планом «Кромвеля» и только в сентябре 1819 года приступает к его написанию.
Мадам Бальзак, посетившая сына на улице Ледигьер в начале декабря этого года, пишет о своих впечатлениях: «Если тот, на кого я больше всего рассчитывала, потерял в несколько лет большую часть своих сокровищ, которыми одарила его природа, то это потому, что меня не послушали — его изнежили удовольствиями, тогда как он должен был идти по трудному и утомительному пути, ведущему к успеху, выйти в люди и стать старшим письмоводителем… А ему ничего не нравилось, кроме названий театральных пьес, имен актеров и актрис… О, как была бы я несчастна, если бы могла в чем-нибудь упрекнуть того, от кого я ожидала столько будущих благ! Увы! Он уже достаточно наказан, и я должна помочь ему, как будто бы он оправдал мои большие надежды. Все старшие письмоводители; в Париже имеют перед собой открытую карьеру, но у них когда-то были удовольствия, соответствовавшие их возрасту».
Мать права: блистательной карьере письмоводителя Оноре предпочел вот какую жизнь: «Новости о моем житье-бытье, — пишет он сестре в октябре 1819 года, — очень печальны, и труды мои вредят опрятности. Этот мерзавец Я-Сам все больше и больше распускается. Он ходит за покупками только раз в три-четыре дня, ходит к самым скверным торговцам, которые ближе всего живут, хорошие лавки далеко, и паренек экономит свои шаги; получается из этого то, что твой брат (которому суждена такая слава) питается совершенно как великий человек, то есть умирает с голоду.
Еще одна печальная вещь: кофе отчаянно расплескивается по полу, и требуется много воды, чтобы убрать это безобразие; но поскольку вода не поднимается естественным образом на мою небесную мансарду (она только спускается туда, когда идет ливень), то после покупки рояля придется подумать об устройстве гидравлической машины, если кофе будет убегать в то время, как слуга и хозяин считают ворон.
Вместе с Тацитом[78] не забудь мне прислать одеяло для ног. Если бы ты могла присоединить к нему какую-нибудь наистарейшую шаль, она очень бы мне пригодилась. Ты смеешься? Как раз этого мне не хватает для ночного костюма. Сначала приходится подумать о ногах, которые больше всего страдают от холода; я заворачиваю их в туреньский каррик[79], сшитый блаженной памяти Гуньяром. Означенный каррик доходит мне только до середины туловища, и остается верх, плохо защищенный от мороза, которому нужно проникнуть только через крышу и фланелевую телогрейку, чтобы вцепиться в мою братскую кожу, увы, слишком нежную, чтобы его переносить.
Для головы я рассчитываю на дантовскую шапочку— только тогда она может храбро бороться с аквилоном. Экипированный таким образом, я буду с большой приятностью проводить дни в своем дворце… Флюс мой нынче утром благополучно прорвался. Увы, может быть, через несколько лет я буду питаться одним хлебным мякишем, кащей и прочей пищей стариков, мне придется натирать редиску на терке, как бабушке. Тебе хорошо говорить: вырви! Лучше предоставить природу самой себе. Разве у волков есть зубные врачи?»
Свидетель пребывания Бальзака на этой мансарде, Жюль де Петиньи, описывает его так: «…прекрасным летним вечером я прогуливался по бульвару Тампль, как вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Я обернулся и узнал Бальзака, или, вернее сначала не узнал его, так он изменился. Лицо его, обычно очень румяное, было бледно и расстроено, глаза впалые, щеки небритые, одежда в беспорядке. Как будто он выскочил из больницы или из мелодрамы в театре Гэтэ.
Не дав мне раскрыть рта, он отвел меня в сторону и сказал многозначительно: «Мое теперешнее существование — тайна для всех, даже для моей семьи. Но от вас у меня нет секретов; вы узнаете место моего пребывания. Приходите ко мне завтра в полдень, и вам все откроется».
На этом он покинул меня, оставив мне свой адрес — на какой-то уличке в квартале Сент-Антуан. Господин Баше напомнил мне, что это была улица Ледигьер. Найдя указанный номер дома на этой уединенной улице, которая была заселена исключительно рабочим людом, я подумал сначала, что сделался жертвой мистификации. Однако я стал решительно подниматься по узкой и темной лестнице, и напрасно стучал в несколько дверей: все жильцы были на работе.
Одна женщина, у которой я спросил о господине де Бальзаке, подумала, что я смеюсь над ней; другая посмотрела на меня искоса и приняла за агента полиции.
Наконец я поднялся на самый последний этаж, под крышей, и в полном отчаянии, толкнув ногой последнюю дверь, состоявшую из плохо сколоченных досок, я услышал мужской голос. Это был голос Бальзака.
Я вошел в тесную мансарду, обставленную рваным стулом, колченогим столом и скверной кроватью, наполовину закрытой двумя грязными занавесками. На столе была чернильница, толстая тетрадь, исписанная каракулями, кувшин с лимонадом, стакан и горбушка хлеба. В этой каморке была удушающая жара, и воздух, казалось, был полон заразы, холеры… Бальзак лежал в постели, в коленкоровом колпаке сомнительного цвета.
— Видите, — сказал он, — жилище, которое я за два месяца покинул только один единственный раз — в тот вечер, когда вы меня встретили. Все это время я не вылезал из постели, где я работал день и ночь над великим произведением, ради которого я осудил себя на отшельническую жизнь и которое я, к счастью, кончил, ибо силы мои пришли к концу. Я давно уже мечтал о деле, которое я наконец сделал, но я понял, что серьезная работа невозможна среди светских развлечений и деловой беготни. Поэтому я разорвал все связи, соединявшие меня с общественной жизнью, бежал от рода человеческого и похоронил себя заживо. Теперь, когда мое дело сделано, я воскресаю и возобновляю мои сношения с людьми. Очень рад начать с вас.»
И вот этот юноша с гнилыми зубами, мечтающий, как бы только укутаться от холода и укрыться от капели и призывающий на защиту старенький каррик и прабабкину шаль, садится за первое свое творение, ибо «в голове одного бедного юноши, — как он пишет сестре, — загорелся пожар, и пожарные не могли его потушить. Его зажгла прекрасная женщина, которой он не знает. Говорят, что она живет на улице Четырех народов, в конце моста Искусств, и зовут ее — «Слава».
Кроме этого пожара, какие же имелись основания, чтобы сесть за поэму-трагедию? Всего лишь 34 стиха первой песни «Людовика Святого», поэмы в духе Вольтера, которая ведется от лица некоего аббата Сиротена, 26 стихов «Роберта Нормандского», да 22 стиха «Книги Иова», потом замысел трагедии «Сулла» и незаконченный и сохранившийся только в отрывках текст к комической опере «Корсар» — вот и все.
Еще не зная романтиков, Оноре смутно чувствовал, что античные сюжеты не в духе времени. Была мода на английскую историю. В марте 1819 года Вильмен выпустил в двух томах «Историю Кромвеля». Напрашивалась соблазнительная для роялиста-Бальзака параллель казни Карла I[80] с казнью Людовика XVI.
Выбор сделан, и Оноре упорно трудится. Работая над «Кромвелем», он открыто заимствует целые строки из разных книг, иногда просто выписывая их, иногда переиначивая и приспосабливая к своему плану. Так он использует Виргилия, Корнеля, «Ифигению» Еврипида[81], речь Боссюэ над гробом Генриетты Английской, «Ифигению» Расина, а главное «Цинну» Корнеля, из которого берет целыми кусками, и к весне 1820 года трагедия была написана. Жюль де Петиньи, которого Бальзак заставил прослушать трагедию, отзывается о ней так:
«Произведение это, которое так дорого стоило автору, было ни больше ни меньше как трагедия в пяти действиях, в стихах, и мне пришлось прослушать ее от начала до конца. Сюжетом была смерть Карла I. Бальзак вложил туда все свои роялистские чувства.
Пьеса мне показалась безукоризненной в смысле классических правил. Стихи были правильны, три единства тщательно соблюдены. Кое-где были вспышки гения, несколько глубоких проникновений в человеческое сердце, особенно в отношении Кромвеля, но все вместе было холодно и достаточно сухо. Он, конечно, по моему лицу заметил, какое впечатление произвела на меня эта пьеса, и остался мною весьма недоволен. Тем не менее он сообщил мне, что намерен прочесть пьесу комитету Французского театра».
Закончив свой первый труд, Бальзак в начале апреля 1820 года покидает свою мансарду и едет отдохнуть и погостить в Лиль-Адан к другу семьи, господину Вилье де-ла-Фе, довольно образованному, живому и остроумному старичку. У него Оноре отдохнул и поправился, и к 18 мая был уже в Вильпаризи, спеша на свадьбу сестры Лауры.
Тут, на семейном совете, должны прослушать его первый шедевр. Оноре весел, потому что надеется быть триумфатором. Он хочет, чтобы на чтении присутствовали кое-какие друзья, а особенно Даблен.
«Друзья собираются, — рассказывает Лаура, — начинается торжественное испытание. Энтузиазм чтеца постепенно охлаждается, когда он замечает, что впечатление плохое, а лица окружающих удивленные, застывшие».
Трагедия никуда не годится. На общем совете решено направить ее на суд профессора словесности Андрие[82], тоже писателя. Андрие пишет мадам Бальзак: «Я далек от того, чтобы отнять у вашего сына охоту писать, но я думаю, что он с большей пользой мог бы употребить свое время, чем на писание трагедий и комедий. Если он сделает мне честь и посетит меня, я скажу ему, как, по моему мнению, следует рассматривать изучение изящной литературы и какие преимущества можно и должно из нее извлекать, не делаясь профессиональным поэтом». Свидание Оноре с Андрие не состоялось, и уроки словесности были отложены навсегда.
Но урок первой неудачи не ослабил рвения ледигьерского отшельника, он продолжает свои творческие опыты в самых тяжелых семейных условиях. Оноре пишет Лауре Сюрвиль в Байе, куда она уехала сейчас же после замужества: «Если ты хочешь знать нашу жизнь, представь себе сначала папу, расхаживающего по комнате после прочтения газеты, затем маму в постели, еще не оправившуюся после мнимого воспаления легких, возле нее Лоранс и, наконец, твоего дорогого брата, пишущего перед камином, на маленьком столике, где стояла когда-то твоя чернильница…». К этому постоянному напряжению, которое могло в один миг вылиться в семейный скандал, надо еще прибавить новые заботы женской половины дома Бальзаков: заневестилась Лоранс. «Трубадур приходит завтракать, обедать и усиленно ухаживает, однако, признаюсь тебе, что во всех его улыбках, словах, поступках, жестах и т. д. я не вижу ничего, что напоминало бы любовь, как я ее понимаю».
«Подарки, подношения, безделушки… Я не мог ни думать, ни работать, а мне нужно писать, писать каждый день, чтобы завоевать себе независимость, в которой мне отказывают. Пытаться стать свободным при помощи романов, и каких романов!.. Если я не начну быстро зарабатывать деньги, снова появится призрак должности. Во всяком случае, я не сделаюсь нотариусом, потому что господин Т. умер. Но мне сдается, что господин Г. тайно подыскивает мне место. Какой ужасный человек! Считай же меня мертвым, если мне нахлобучат на голову этот колпак, — я сделаюсь манежной лошадью, которая делает свои тридцать или сорок кругов в день, ест, пьет, спит по расписанию. И это механическое круговращение, это постоянное возвращение одного и того же называется жизнью!»
В семье Бальзака то извергаются вулканы женских истерик, то водворяются серые монотонные будни, то вдруг дом приобретает мещански праздничный вид со всеми этими жениховскими безделушками, подношеньями и улыбками, за которыми чуется скука механического круговращения, и наконец, и что самое ужасное для Оноре, встает призрак колпака нотариуса, от которого он бежал и спасался на мансарде.
Все это конечно не благоприятствует творческим замыслам молодого писателя и повергает его в тоску, но в этой тоске и томлении есть одна замечательная черта: «а мне нужно писать, писать каждый день». Это уже говорит о той дисциплине, которую успел выработать в себе будущий мастер и которая дала возможность страстной галльской натуре Оноре вынести феноменальный труд.
Неудача «Кромвеля» не сломила Бальзака, и он пробует свои силы в другой области. Он садится за чтение и проглатывает колоссальное количество романов Ретиф де-ла-Бретона[83], Себастьена Мерсье[84], Дюкре-Дюминиля[85] и Пиго Лебрена[86], романов, весьма посредственных, конца XVIII и начала XIX века, в которых вялая и несносная сентиментальность чередуется с пошловатой нескромностью. Он читает также иностранные романы: «Клариссу Гарло» Ричардсона, «Векфильдского священника» Гольдсмита[87], «Калеба Вильяма» Годвина[88], произведения немецкого романиста Августа Лафонтена[89], полные мещанской чувствительности, переводы которых издавались в 1818–1820 гг.; особенно увлекается чтением Анны Радклифф[90], Льюиса[91] и Матюрена[92] и наконец открывает Вальтер Скотта[93], известность которого достигла Франции, и восторгается «Кенильвортом».
Французская публика в те годы зачитывалась романами, хотя они и считались еще «низшим жанром» в литературе. Количество выходивших романов возрастало с каждым годом. Почему и Бальзаку не заняться этим делом? И вот, в 1820 году он задумывает роман «Фальтурно», действие которого происходит в Италии (от него дошло до нас только несколько глав). Начинает роман в письмах «Стенио, или философское заблуждение» — здесь чувствуется влияние Руссо, причем первое письмо содержит описание, очень неплохое, Тура и его окрестностей, в котором уже чувствуется будущий Бальзак.
В этот период, посещая Париж и в самом Вильпаризи, Оноре завязывает личные связи с людьми от литературы. В конце 1820 года он знакомится с Огюстом ле-Пуатвен де-л'Эгревилем, известным под псевдонимом ле-Пуатвен Сент-Альм. Он был на несколько лет старше Бальзака и родился в 1792 году. Бальзак излагает ему свои планы: написать две-три больших пьесы в духе Бомарше и затмить славу автора «Фигаро». Через нового приятеля Бальзак попадает в круг молодых журналистов и писателей — правда, довольно посредственных.
Весною Оноре начал работать. В феврале 1821 года выходит роман «Два Гектора или два бретонских семейства». Возможно, что в написании этого романа принимал участие и Бальзак, во всяком случае уговор был — писать вместе. В июне Оноре едет в Париж. Он не хочет больше оставаться в родительском доме и намерен снять себе комнату в Париже, ибо уже целиком погрузился в литературные пучины.
«Анри (младший брат Оноре) вырос за четыре месяца на 15 линий[94]. Оноре не растет — увы, — пишет он Лауре из Вильпаризи в 1822 году. — Но его известность растет не по дням, а по часам, о чем можно судить по следующему обзору:
«Наследница Бирагского замка» продана за 800 франков;
«Жан-Луи» — 1300;
«Клотильда Люзиньянская» — 2000.
Милая сестра, я буду работать, как лошадь Генриха IV, когда она не была еще отлита из бронзы, и в этом году я надеюсь заработать 20 тысяч франков, которые послужат основой моего состояния. Мне нужно написать: «Арденнского викария», «Ученого», «Одетту де Шандивер» (исторический роман) и «Семейство Р'оон», и еще кучу театральных пьес.
Скоро лорд Р'оон будет модным мужчиной, самым плодовитым, самым любезным писателем, и дамы будут лелеять его, как зеницу своего ока. Тогда плутишка Оноре будет ездить в коляске, задирать голову, глядеть гордо и набивать себе желудок; при его появлении будет раздаваться льстивый шепот идолопоклонной публики: «Это — брат госпожи Сюрвиль». Мужчины, женщины, дети и зародыши будут прыгать до небес…».
Эта похвальба, молодой задор и мечты однако не соответствовали художественной ценности упомянутых им в письме романов. Это были слабые вещи и успеха они не имели. Правда, в них уже чувствуется некоторый навык технически располагать сюжет, отмечать в пейзаже типичность красок и рисунка, но все же они еще только лепет гения — наследника всех литературных болезней прошлого времени.
Вместе с тем характерно и то, что с творческими помыслами Бальзака неразрывно связаны помышления о благополучном существовании рантье, и тогда, когда литература не оказалась столь тучной дойной коровой, Бальзак вступил на путь авантюрных предприятий, и гению Бальзака явился его главный заказчик — деньги. Однако не следует делать заключение, что этот заказчик и в то же время «заимодавец жадный» мог безвозвратно увлечь Бальзака от литературы на путь делячества, так как в конце концов его писательские устремления шли не от того, что нужно ради наживы, а от тех внутренних творческих порывов, которыми одарен всякий талант.
Теофиль Готье говорит следующее о Бальзаке: «Не было человека менее корыстного, чем автор «Человеческой комедии», но его гений заставил его предугадать огромную роль, которую суждено было сыграть в искусстве новому герою — золоту, более интересному для современного общества, чем все Грандисоны, Легрие, Освальды, Вертеры, Малек-Адели, Рене, Лары, Веверлеи, Квентин-Дорварды и прочие.»
Надо думать, что опьянение от заработков, которые грезились Оноре в будущем, передалось и родителям, — во всяком случае мать в восторге от его работ, и Оноре получает относительную независимость и семейное признание в роли писателя. Сохранилась рукопись «Кромвеля», переписанная рукою мадам Бальзак — это ли не признание после заветных мечтаний о сыне-нотариусе?
К этим большим и малым радостям присоединилось новое чувство, которое до сих пор еще было как будто неведомо Оноре — в Вильпаризи он встретил женщину, полюбил ее, и эта любовь в судьбе Бальзака была очень значительна.
Краснощекий Оноре
«Первая женщина, которую встречаешь, полный иллюзий молодости, — это нечто высокое и священное». Этот эпиграф к своей, а думается, и ко всякой первой любви начертан Бальзаком в письме к Ганьской через тринадцать лет после первой встречи с мадам де Берни, тогда, когда он, уже умудренный опытом жизни, узнал, что «впоследствии мы любим в женщине — женщину, тогда как в первой любимой женщине мы любим все: ее дети — наши дети, ее дом — наш дом, ее интересы — наши интересы, ее горе — наше самое большое горе, мы любим ее платье и мебель, нас больше огорчает порча ее хлебов, чем потеря собственных денег, мы готовы разбранить гостя, который переставляет наши безделушки на камине. Эта святая любовь заставляет нас жить в другом, но потом — увы — мы втягиваем в себя другую жизнь, требуя, чтобы женщина обогатила своими юными чувствами наши оскудевшие способности».
Бальзак. 22 года. Рис. сепией Девериа.
Дочь музыканта-арфиста Людовика XVI (фамилия его была Гиннер) и камеристки Марии-Антуанетты Лаура де Берни родилась в 1777 году и провела, свою раннюю молодость при дворе. Отец ее умер в 1784 году, и мать вторично вышла замуж в 1787 году; за шевалье де Жарже, помощника начальника главного штаба, доверенного королевы, пытавшегося помочь ей бежать из тюрьмы: его имя встречается во всех мемуарах той эпохи. В самый разгар террора, 8 апреля 1793 года, дочь Гиннера стала госпожою де Берни.
По утверждению Аното и Викер, она была крестницей короля и королевы, была воспитана в кругу их приближенных. Свидетельница последних королевских торжеств и казни королевской четы, она держала в своих руках письма, серьги и прядь волос Марии-Антуанетты, которые прислала королева с эшафота ее отчиму. Мадам де Берни была не только живой книгой событий Великой французской революции, но и, частично, со стороны замужества, ее жертвой. Революции столь же неожиданно соединяют людей, сколь и разъединяют.
Мы мало что знаем о господине де Берни, но в период встречи Бальзака с его женой это был человек сварливый, болезненный и малоприятный. Он прижил с ней девятерых детей, но вряд ли можно считать, что большое чувство к Бальзаку вытеснило большое чувство к мужу из сердца мадам де Берни. Рисуя портрет Анриетты де Морсоф («Лилия в долине»), прообразом которому послужила мадам де Берни, Бальзак бросает такой штрих: «Ее маленькие, красивой формы уши были, по ее собственному выражению, ушами рабыни и матери».
Мы знаем яркие примеры того, как мать семейства долгие годы и даже до преклонных лет остается для мужа женой-любовницей, но Лаура де Берни была только рабою мужа и матерью девятерых детей, в выращивание которых вложила все свои лучшие чувства и способности. Ни один женский портрет не написан Бальзаком с такой любовью, с какой написан портрет Морсоф-Берни:
«Я могу набросать вам карандашом основные черты, по которым всякий мог бы узнать графиню, но самый точный рисунок, самые теплые краски ничего не могут передать. Лицо ее — из тех, которые требуют несуществующего художника, умеющего изобразить отражение внутреннего огня и передать этот светящийся пар, который наука отрицает, который слово бессильно передать, но который видит влюбленный…
Ее закругленный, выпуклый, как у Джоконды, лоб, казалось, был полон невыраженных мыслей, сдержанных чувств, цветов, потопленных в горьких водах. Ее зеленоватые глаза, усеянные коричневыми точками, были всегда бледны, но если дело шло о ее детях если у нее вырывались живые порывы радости или горя, столь редкие в жизни сдержанных женщин, то ее глаза излучали нежный свет, который, казалось, загорался в истоках ее жизни и должен был иссушить их…
Греческий нос, как бы изваянный Фидием[95] и соединенный двойной дугой с изящно изогнутыми губами, одухотворял ее продолговатое лицо, кожа которого, подобно лепесткам белых камелий, окрашивалась на щеках в нежные розоватые тона. Ее полнота не вредила ни изяществу ее талии, ни округлости, нужной для того, чтобы ее формы оставались прекрасными, хотя и развитыми…
На затылке ее не было тех впадин, которые делают шеи некоторых женщин похожими на древесные стволы. Мускулы не образовывали никаких узлов, и все линии закруглялись, — это было отчаянием для взора и для кисти. Еле видный пушок покрывал ее щеки и выпуклость шеи, задерживая на них свет, который становился шелковистым. Ее маленькие, красивой формы уши были, по ее собственному выражению, ушами рабыни и матери…
Руки у нее были красивые, кисти их с изогнутыми пальцами были длинны и, как на античных статуях, кожа тонкой пленкой находила на ногти… У нее была нога благородной женщины, нога, которая мало ходит, быстро утомляется и радует взор, когда виднеется из-под платья. Несмотря на то, что она была матерью двоих детей, я никогда не встречал женщины, более похожей на девушку. Вся ее внешность выражала простоту, соединенную с чем-то запретным и мечтательным, что привлекало к ней, как живописец привлекает нас к лицу, в котором его гений выразил целый мир чувств.
Ее видимые качества можно описать только при помощи сравнений. Вспомните чистый и дикий запах вереска, который мы сорвали, возвращаясь с виллы Диодати[96], — этого цветка, который так понравился Вам черными и розовыми тонами, — и Вы поймете, как эта женщина могла быть элегантна вдали от света, естественна в своих выражениях, изысканна в вещах, с которыми она сроднилась, — розовая, с черным. Ее тело обладало той свежестью, которая пленяет нас в только что распустившихся листьях.
Ее ум был глубок, как у дикаря, она была ребенком по чувству, серьезной в своих страданиях — помещица и подросток. Она нравилась безыскусственной манерой садиться, вставать, молчать или вставлять свое слово. Обычно сдержанная, бдительная, как часовой, от которого зависит спасение всех и который подстерегает бедствие, она иногда позволяла себе невольные улыбки, которые выдавали в ней природную смешливость, скрытую под житейскими условностями.
Ее кокетство сделалось тайной, она заставляла мечтать, вместо того, чтобы вдохновлять на любезную внимательность, которой требуют женщины, и давала угадывать ее первоначальную природу из живого огня, — ее первые голубые сны, как небо, голубеющее сквозь тучи. Скупость ее движений, а особенно взглядов (кроме детей, она ни на кого не смотрела), придавала необычайную торжественность всему, что она делала и говорила, когда она делала и говорила что-нибудь с тем видом, который умеют принимать женщины в то мгновенье, когда они роняют свое достоинство признанием…»
Эта страница написана пятнадцать лет спустя после того дня, когда юноша-Оноре впервые увидел мадам де Берни. «В тот день на госпоже де Морсоф было розовое платье с тысячей складок, воротничок с широким рубцом, черный пояс и полусапожки того же цвета. Ее волосы, просто заложенные на голове, были заколоты черепаховым гребнем».
Пылкий юноша угадал ее сны, голубеющие сквозь житейские тучи, угадал запретное и мечтательное, и она как нежный плющ обвилась вокруг его страстной могучей натуры, лаская и матерински затеняя его от губительного зноя жизни, который иссушает человеческое сердце. Такова была любовь мадам де Берни, и недаром Оноре называл ее своей матерью: «Я ее ребенок, потому что она спасла меня от неудач и крушений, чуть не погубивших меня в юности. Я живу только сердцем, и она дала мне жизнь».
Но с первого же дня, который соединил их как любовников, перед мадам де Берни, которой было тогда уже 44 года, встает грозный призрак старости. Об этом знал Оноре: «Да позволено мне будет ей сказать, — пишет он Ганьской, — вы хотели найти себя самое двадцатилетней, чтобы лучше меня любить и давать мне даже радости тщеславия». Вот что было для нее навеки запретным и мечтательным. Но она еще борется, пока не иссякло женское обаяние и свежесть. Потом, когда в воспоминаниях вставали былые радости, Оноре должен был признаться: «Только последняя любовь женщины может удовлетворить первую любовь мужчины». («Герцогиня Ланже»).
Поэтому можно себе представить, что испытывал Бальзак наряду со своими литературными удачами весною 1821 года. «Любовь, — говорит он, — этот тройной порыв сердца, ума и тела, этот полный обмен жизнями, это совершенное слияние всех точек сердца во всякую минуту, этот божественный восторг друг перед другом, этот культ всех красот, это бесконечное наслаждение самым малым, это удовлетворение, которое дает удачный выбор и которое отражается в зависти других…».
Правда, именно такой-то любви он будто бы и не нашел в мадам де Берни, — как он признается Ганьской спустя много лет, — но этому не следует верить. Он нашел такую любовь, когда «ангел явился», и потерял ее тогда, когда ангел поблек и он «страдал у него на груди, скрывая от него мечту о молодой и красивой женщине».
Итак, сделаны первые шаги к славе, в будущем — деньги, не ради денег, а как средство стать независимым от родительских подачек, и, наконец, любовь. Оноре мечется между Вильпаризи и Парижем, и давно переехал бы туда совсем, если бы не мадам де Берни. Об отношениях с ней Бальзака в Вильпаризи зашипели сплетни. Родителям этот роман конечно пришелся не по нраву, и может быть этим надо объяснить внезапный отъезд Оноре в Байе к семейству Сюрвиль. Оттуда он тайно переписывается с мадам де Берни, а из дому получает родительские письма с бесконечными и скучными советами — житейскими и литературными (даже бабушка пытается критиковать его в писания).
Ранние романы Бальзака, выпущенные им под псевдонимами лорда Р'оона, А. де Вьеллергле и Ораса де Сент-Обена, почти совершенно забыты. Сам он не считал их достойными своего имени. Исследователи творчества Бальзака о них серьезно не говорят, и большинство французских критиков отзывается о них пренебрежительно.
Современник Бальзака Альфред Неттеман[97] писал: «…едва выйдя из детского возраста, этот плодовитый ум стал нагромождать в невероятном изобилии сочинения, осужденные на забвение. Можно подумать, что до того, как начать творить что-либо связное, у него была потребность освободиться от излишков энергии, и он как бы производил отсев. Если память не изменяет нам, автор издавал под вымышленными именами этих нелепых недоносков, эти беспорядочные произведения, которые были плодом преждевременных родов».
Злейший враг Бальзака, Сент-Бёв, который написал о нем в 1834 году критический очерк, доставивший много огорчений прославленному тогда писателю, ядовито рассказывает, как он перерыл библиотеку для чтения с каталогами в руках, разыскивая плоды юношеского творчества Бальзака. Коварный критик прочел все эти романы (а заодно и романы Пуатвена, написанные без участия Бальзака) и в заключение замечает: «Признаемся, что мы мало были вознаграждены за наши нескромные изыскания, пробегая эти тома господина де Вьеллергле, которые тогдашний «Мируар» относил по выбору сюжетов к романам Пиго и Ретифа, а книгопродавец Пигоро помещал в разряд «веселых романов» в противоположность романам «черным» — историям о преступниках и привидениях. И это все, что можно о них сказать».
Сам Бальзак был не особенно высокого мнения о своих первых произведениях. В 1822 году он писал сестре: «Я не прислал тебе «Наследницы Бирагского замка», потому что это настоящее литературное свинство… В «Жане-Луи» ты найдешь несколько довольно забавных острот, но никуда негодный план. Единственное достоинство этих двух романов, дорогая моя, — это тысяча франков, которые они мне дадут».
И действительно, похоже на то, что молодой Бальзак смотрел на эти романы как на коммерческое предприятие, как на средство получить материальную независимость для серьезной работы. Он очень следил за тем, как идут его романы, и поручал сестре и ее мужу спрашивать их в книжных лавках и рекомендовать знакомым. В этом отношении он очень близок Некрасову, начавшему свою литературную карьеру с того, что теперь называется у нас халтурой.
Биограф и исследователь Бальзака А. Бельэссор поражен: «Это — пример, который кажется мне единственным в литературе. Было бы естественно, если бы он занялся издательским делом, стал писать исторические компиляции, поваренные книги. Но то, что он относится как к коммерческому предприятию к жанру, в котором мечтает обессмертить свое имя, — это по меньшей мере странно». Наконец, госпожа Сюрвиль, выпустившая для реабилитации памяти брата книжку воспоминаний о нем, и вовсе стыдится упоминать об этих романах «Я остерегусь назвать хотя бы одно заглавие из этих первых произведений, повинуясь его воле — никогда не признавать его их автором…». Но этот отказ от авторства для нас необязателен. Литературный путь Бальзака очень интересен и своеобразен, и нельзя отмахиваться, как от какого-то недоразумения, от восьми больших романов, написанных романистом в четыре года. Вопрос этот еще ждет своего исследователя.
К тому времени, когда Бальзак засел за писание своего первого романа «Наследницы Бирагского замка», во Франции романа, как серьезного литературного жанра, еще не существовало. То, что носило название романов в «высокой» литературе — «Рене» Шатобриана, «Коринна» и «Дельфина» госпожи де Сталь, «Адольф» Бенжамена Констана — было скорее лирической исповедью, изображением внутреннего мира одного героя, оторванного от среды и эпохи.
Впоследствии Теофиль Готье писал в своей большой статье о Бальзаке: «До него роман ограничивался изображением одной единственной страсти — любви, но любви в идеальной сфере, вне нужд и невзгод жизни. Действующие лица этих чисто психологических произведений ничего не ели, не пили, нигде не проживали и не имели счета у портного. Они вращались в абстрактной среде, как в трагедии. Если они собирались путешествовать, они, не выхлопотав себе паспорта, ссыпали в карман несколько горстей бриллиантов и расплачивались ими с почтальонами, которые на каждом перегоне, как водится, загоняли лошадей; замки неопределенной архитектуры принимали их в конце путешествия, и они собственной кровью писали своим прекрасным возлюбленным бесконечные послания, помеченные «Северной башней». Героини, столь же нереальные существа, напоминали акватинты Анжелики Кауфман[98]: большая соломенная шляпа, длинное платье из белой кисеи, стянутое на талии лазурным шарфом».
Такова была «изящная литература» во Франции в начале XIX века. Но широкий читатель, выдвинутый Французской революцией, жадно поглощал другую литературу — «низкого жанра», литературно неполноценные и часто безграмотные сюжетные романы, неправильно названные «народными», которые при всех их недостатках — неправдоподобии, сентиментальности — обладали одним неизменным достоинством: от них нельзя было оторваться. Это были романы Ретиф-де-ла-Бретона, Пиго Лебрена и Дюкре-Дюминиля. Они полны приключений и препятствий и неизменно кончаются свадьбой; в них нередко являются героями люди «из народа».
Наряду с народным романом появилась и народная драма — то есть мелодрама. Королем мелодрамы был драматург Жильбер де Пиксерекур[99]. Он царствовал на бульварном театре около сорока лет, с 1799 по 1834 год. По собственному его признанию, он написал 120 пьес, причем каждая из них выдержала в среднем 500 представлений, но «Трехликий человек» шел 1022 раза, «Собака Монтаржи» — 1158 раз, «Троемужница» — 1346 раз, а «Белый плащ» — более 1500 раз. В это же время, в конце XVIII и начале XIX века, во Франции стали усиленно переводить английские «романы ужасов» — Анны Радклифф, Льюиса и Матюрена, стоявшие выше аналогичных французских.
И вот, французские читатели, не находившие пищи для своего воображения в высоких литературных жанрах, прятавшие под подушку истрепанные толстые томики бульварных романов, получили Вальтер Скотта. «Это было больше, чем успех, — пишет Луи Мегрон, — это была всеобъемлющая страсть. Целое поколение было потрясено и очаровано. Модистки и герцогини простой народ и верхушка интеллигенции — все подпали под его чары. Ни один иностранец никогда не пользовался у нас такой популярностью, скажем больше — с 1820 по 1830 год ни одно французское имя не было так известно и прославлено во Франции».
Секрет успеха исторических романов Вальтер Скотта заключался в том, что в них хороший литературный стиль сочетался с занимательностью, они были сюжетны и в то же самое время серьезны. А главное в них люди начали жить в окружающей среде, герои приобрели характерную внешность, оделись в подобающее платье, окружены были обстановкой и вещами, заговорили настоящим бытовым языком — словом, зажили полнокровной жизнью.
Романы Скотта породили целый поток подражании и просто плагиатов, и в этот литературный поток, вместе с Нодье[100] и другими, влился и молодой Бальзак. Что это была до некоторой степени спекуляция на модном жанре, — Бальзак не скрывает («Погибшие мечтания»), с другой же стороны, это был инстинкт, толкнувший юного писателя на правильный путь.
У Вальтер Скотта было чему поучиться и Бальзак, пройдя эту учебу, многое из нее вынес. Впоследствии он признался что каждый роман он писал с определенной целью — на одном он научился искусству строить сюжет, на другом — изображению характеров и т. д.
С 1822 по 1825 год бальзак написал восемь романов (остальные, приписываемые ему, по всей вероятности, не принадлежат ему в большей своей части). Это — «Наследница Бирагского замка» (1822), «Жан-Луи и найденная дочь» (1822), «Клотильда Люзиньянская или прекрасный еврей» (1822), «Столетний старик или два Бирингельда» (1822), «Арденнский викарий» (1822), «Последняя фея или новая волшебная лампа» (1823), «Аннета и преступник» («Пират Арго — 1824) и «Джен Бледнолицая» («Ванн-Хлор» — 1825).
Все эти романы сыры недоработаны, написаны небрежным языком, но они увлекательны, как и многие другие «народные» французские романы и исторические романы Вальтер Скотта. В них уже много настоящих бальзаковских черт и сестра Бальзака правильно сказала, что «он судил себя слишком строго; эти произведения, правда, содержали только зародыши его таланта, но он делал такие успехи от одной книги к другой, что мог бы выпустить последние из них под своим настоящим именем, не боясь повредить своей будущей славе».
Так как эти романы никогда не выходили в русском переводе, интересно вкратце рассказать содержание хотя бы одного из них, чтобы дать некоторое представление об этих «нелепых недоносках», из которых постепенно выкристаллизовался великий романист.
Возьмем самый первый роман, написанный Бальзаком в сотрудничестве с Пуатвеном. Полное его название «Наследница Бирагского замка. Повесть, извлеченная из рукописного наследия Дона Раго бывшего настоятеля бенедиктинского монастыря, изданная двумя его племянниками, господином А. де Вьеллергле и лордом Р'ооном». Роман претендует быть историческим, но истории в нем, — как мы увидим, — меньше всего. Внешне он сделан по образцу Вальтер Скотта — разделен на главы, и над каждой главой один или несколько эпиграфов. На этом романе, пожалуй, больше чем на каком-нибудь другом, сказалось влияние английского романиста.
Действие происходит в царствование Марии Медичи[101] (первая половина XVII века). В своем Бирагском замке в Бурггундии живет Матье LXVI, граф де Морван, со своей супругой Матильдой и молодой, прекрасной дочерью Алоизой. Отец графа погиб на море. Рассказывали что отец был против женитьбы графа на Матильде, дочери незнатного и разорившегося дворянина Шанкло и что граф отпраздновал свадьбу тотчас же после смерти отца.
Граф Матье мрачен, как будто у него на душе тяжкий грех. Матильда имеет любовника, итальянского маркиза Виллани, авантюриста, за которого хочет выдать свою дочь Алоизу. Но Алоиза любит своего двоюродного брата, шевалье д'Ольбрез, и отец ее очень одобряет этот союз. Одно из самых важных лиц в замке — и в романе — старый управляющий Робер XIV, последний представитель длинной династии управляющих Роберов, верный и преданный слуга. Особенно любит он наследницу — Алоизу.
В Бирагском замке готовится большой праздник. Съезжаются гости, в том числе отец Матильды, капитан де Шанкло, со своей младшей дочерью. Костюмированный бал. Веселье в полном разгаре. Бьет полночь. В зал медленно входит неизвестный — старик в черном костюме судьи. Он говорит на ухо Алоизе, что ее ждут большие испытания, но она не должна отчаиваться, потому что у нее есть могучий покровитель, неустанно следящий за ее судьбой. Сказав мимоходом несколько неприятных слов маркизу Виллани, таинственный старик приближается к хозяевам замка и намекает на какое-то преступление, совместно ими совершенное. При общем смятении старик исчезает. Виллани велит своему слуге разыскать старика и убить его.
Старик идет по большой дороге. Слуга маркиза, итальянец Жеронимо, подстерегает его и ранит кинжалом в грудь. Ехавший той же дорогой капитан де Шанкло распарывает итальянцу брюхо шпагой, привязывает его к дереву и берет раненого старика к себе в замок. Старик, очнувшись, просит оставить его в покое, но добрый капитан все же привозит его к себе и зовет врача.
У старика оказывается фальшивая борода и много денег. Недели две он лежит в замке Шанкло. Когда он излечивается от раны, капитан, прежде чем отпустить гостя, хочет узнать его имя, но старик говорит, что настоящее его имя — тайна, а известен он под именем Жана Паке. Он просит капитана принять от него деньги, уверяя, что он очень богат и знатен, и обещает ему свое покровительство.
Пока старик гостит еще в замке, возвращается домой младшая дочь капитана; ее провожают Алоиза и ее отец. Граф Морван видит незнакомца ночью в саду, падает в обморок, а очнувшись, седлает коня и мчится без оглядки домой. Дома он рассказывает жене, что неизвестный старик, очевидно, знает о их преступлении.
Маркиз Виллани догадывается, что у Морванов есть какая-то преступная тайна, и ключ от этой тайны — у таинственного старика. Виллани выгодно узнать эту тайну, чтобы получить руку Алоизы и приданое. Граф Морван решительно против брака дочери с маркизом, и между родителями идет борьба. Управляющий Робер советует Алоизе пойти в полночь помолиться в семейную часовню. Девушка видит там седого старика, который благословляет ее и дает ей четки. Если ей будет очень плохо — пусть она бросит четки в бассейн, и он придет ей на помощь.
Тем временем графиня Матильда, желая удалить свидетеля преступления, пишет письмо в город к сенешалу[102] и просит посадить в тюрьму разбойника Жана Паке, скрывающегося в замке ее отца. Старика арестовывают, везут в город и сажают в тюрьму. На другой день он посылает письмо сенешалу, сенешал сам приходит в тюрьму и велит его освободить.
Сенешал (брат графа Морвана) приезжает в Бирагский замок говорит с графом, и назначается свадьба Алоизы и ее двоюродного брата. В замке появляется таинственный старик — Жан Паке. Матильда, боясь его, ночью пробирается с факелом в подземелье, чтобы уничтожить следы преступления (можно уже догадаться, что граф и его жена убили отца Морвана). Она находит скелет, собирает кости в шарф, поджигает факелом, и кости быстро сгорают (!). Но Виллани, следивший за Матильдой, поднимает и прячет выпавший у нее из волос гребень. Наутро назначена свадьба, гости уже собрались. Виллани входит к Матильде, показывает ей гребень и говорит, что он все знает и будет молчать, если свадьба не состоится. Свадьбу отменяют.
Матильда устанавливает строгий надзор за дочерью. Бедная девушка идет объясняться с отцом, и отец просит ее пожертвовать собой — выйти за маркиза. Опять назначается ее свадьба — уже с Виллани. За несколько часов до назначенного срока Алоиза бросает в бассейн четки.
Свадебное шествие направляется в церковь. В церкви Алоиза видит за колонной красивого, седого старика в богатой одежде, который протягивает ей кольцо; она должна дать это кольцо своему отцу, когда начнется обряд обручения. Увидев кольцо, граф Морван отменяет свадьбу. Это было кольцо его отца. Робер, очевидно, все знает, но ничего не говорит. Весь замок принимается искать незнакомца, но его нигде не находят, и в сутолоке чуть не убивают Виллани, который все же остается в живых.
Съездив в город, Виллани возвращается в замок и предлагает Матильде бежать с ним в Италию. Алоиза получает письмо от неизвестного, в котором говорится, что завтра в полночь в часовне состоится ее свадьба с двоюродным братом. Граф Морван, войдя ночью к спящей дочери, прочел это письмо. Прочла его и служанка графини, так что о свадьбе узнали все.
Виллани отправился ночью в подземелье, увидел там, как ему показалось, незнакомца, и пронзил его кинжалом, но это был граф Морван. Виллани и Матильде остается только бежать. Их преследует Робер. Виллани и его новый слуга душат Матильду и убивают ее служанку, а сами успевают спастись от Робера, захватив драгоценности. Погоня. В это время раненного графа находит в подземельи таинственный старик. Рана графа смертельна — она нанесена отравленным кинжалом. Перед смертью он, наконец узнает в незнакомце своего отца и умирает прощенный и примиренный. Оказывается, старого графа нашел в подземельи Робер и выходил его. С тех пор он жил вне мира и его занимала только внучка, которой он тайно покровительствовал через Робера.
После смерти сына старый граф закалывается в постели. Роберу удалось поймать Виллани и его слугу, которого он и подговорил убить своего хозяина, а потом повесил, после чего извлек из него проглоченный им фамильный бриллиант. Роман кончается благополучной свадьбой Алоизы и ее двоюродного брата, шевалье д'Ольбрез.
Мы опустили много второстепенных лиц и комических сцен, оживляющих эту фантастическую фабулу с вечным дедушкой и расстроенными свадьбами. Очень хороши бытовые фигуры Робера, слуг, капитана Шанкло и его неизменного собутыльника, Вьель-Роша. Главные персонажи — ходульны. Во многих местах обстановка описывается совсем по-вальтерскоттовски.
Остановимся вкратце на следующих романах. «Жан-Луи или найденная дочь» — бытовая, но фантастическая повесть о том, как силачу и красавцу-угольщику Жану-Луи Гранивелю злые люди и обстоятельства мешали до самой последней страницы сочетаться законным браком со своей Фаншеттой, которая дважды оказывалась дочерью богатых и знатных родителей. В этом романе, который именно может быть отнесем к разряду «веселых» (хотя там есть жуткий и бесчеловечный муж, медленным ядом отравляющий свою молодую жену), есть много блестящих наблюдений, бытовых подробностей из жизни рабочего люда, яркие типы мелких чиновников, и, главное, первый набросок Растиньяка — конторщик Куроттен, «арривист», в конце романа делающийся видным адвокатом.
«Клотильда Люзиньянская, или прекрасный еврей» (другое заглавие — «Сын Израиля»), «рукопись, найденная в архивах Прованса», повествует о любви Клотильды, дочери бывшего короля Кипра и Иерусалима, к прекрасному еврею, который оказывается (на самой последней странице) Гастоном, графом Провансальским. Действие происходит в XV веке. Очень забавно изображены сцены осады крепостей, сражений, пыток и прочих ужасов. В этой книге Бальзак пробует писать языком «Озорных сказок», вставляя в наиболее лирических местах отрывки из будто бы найденной им старой рукописи.
«Столетний старик, или два Берингельда» — почти плагиат с «Мельмота-скитальца» Матюрена. Герой, прожив сто лет в средние века, сделался вампиром и продлил свою жизнь до эпохи Империи, когда он встретился со своим потомком. Этот роман изобилует ужасами.
«Арденский викарий» — во-первых, история молодого викария, влюбившегося в родную сестру, которая потом оказывается ему не сестрой, и некой маркизы, влюбившейся в того же молодого викария, который оказывается потом ее незаконным сыном (в образе ее много от мадам де Берни), и, во-вторых, история бунтаря-матроса Арго, похищающего девушек и таинственно отравляющего высоких особ. В этом романе хороши первые главы, описывающие нравы провинции.
«Последняя фея, или новая волшебная лампа» — история юноши, соблазненного молодой англичанкой, которая явилась к нему под видом феи и увезла его к себе в замок, а потом бросила; бывшая его невеста, простая девушка, выходила юношу и вернула к жизни.
«Пират Арго» (другое заглавие — «Аннета и преступник»), пожалуй, лучший из этих первых романов Бальзака. Здесь есть прекрасные портреты судейских чиновников, хорошо сделанные образы женщин, наброски провинциального быта — все это переплетено с байроническими похождениями пирата и его невесты. Построен роман очень занимательно.
Над последним романом, «Джен-Бледнолицая» («Ванн-Хлор»), Бальзак работал целых два года и относился к нему, как к серьезному литературному произведению, поэтому рассмотрим его подробнее. Сюжет его несложен.
Типичный молодой человек начала XIX века, Орас Ландон, в юном возрасте встретил девушку поразительной красоты, англичанку Джен, бледную, «как мраморная богиня», и полюбил ее. Вскоре ему пришлось уехать на фронт, письма невесты стали приходить все реже и реже, делались все холоднее и холоднее, и наконец он узнал, что она изменила ему. В отчаянии он поселился в первом попавшемся провинциальном городке, и там на него обратила внимание юная Эжени. От разочарованности он женился на ней и, сделавшись герцогом, увез ее в Париж. У них должен был родиться ребенок, когда Орас встретил своего давнишнего друга, тоже любившего англичанку Джен, в ужасном состоянии. Друг признался ему, что из ревности писал ему на фронт письма от имени Джен, а что Джен ему не изменяла, любит его по-прежнему и живет в Туре около монастыря, оплакивая вероломство Ораса и все-таки надеясь, что он к ней вернется. Сделав это страшное признание, преступный друг умер, а Орас помчался в Тур. Там он нашел свою возлюбленную и повенчался с ней по старым документам. Около полугода проживали они, предаваясь радостям любви, как вдруг приехала в Тур Эжени с новорожденным ребенком, нанялась к ним в прислуги, отравила им жизнь и свела Джен в могилу. Сюжет наивен и смешон, но в романе есть много правдивых черт, изобличающих наблюдательного мастера; типы — матери Эжени, служанки и лакея — прекрасно изображены.
За период написания первых романов внешне жизнь Бальзака ничем не разнится от обычной жизни молодого человека, посвятившего себя служению музам, которая так замечательно изображена в романе «Погибшие мечтания», и надо сказать, что в образе героя этого романа, поэта Люсьена, возведенного в типическое явление, есть множество автобиографических черт.
В начале ноября 1822 года семья Бальзаков приехала в Париж на зимнее пребывание, и Оноре поместился вместе с ней. Денежные дела отца процветали, но, не желая зависеть от родителей, Оноре уговорился с отцом выплачивать ему по сто франков в месяц за свое пропитание и квартиру, не считая освещения, отопления и стирки белья. Совместное житье не наладилось, и после одного из очередных скандалов сын покинул родительские пенаты и нанял себе отдельную комнату.
Но тут уже начинается иная жизнь — Оноре больше не отшельник, он — литератор, к славе сделаны первые шаги, и со всей горячностью, своейственной его натуре, он ищет поля для своей писательской деятельности. Вероятно, через Пуатвена завязывается знакомство с Орасом Рессоном[103], Этьеном Араго[104], Пьером-Жозефом (Джемсом) Руссо и Жаном Томасси. С последним знакомство вскоре переходит в тесную дружбу. Молодые люди писали пьески для бульварных театров, и Бальзак не оставался в долгу — он сочиняет мелодрамы «Негр» и «Лаццарони», но увидеть сцену им было не суждено. Возможно, что в это же время Бальзак сотрудничал в сатирических журналах «Пилот», «Корсар» и других.
Но заветная мечта Бальзака — стать поэтом, и он штудирует Ламартина[105] и Шенье, составляет план эклоги «Пленники», персидской легенды «Иднер», «Оды к року или к жизни», набрасывает отдельные стихи и заканчивает оду «К смерти», или «Умирающий поэт», где неудачно подражает Ламартину. Тогда же возникает мысль о греческой трагедии «Альцеста».
Гостя летом 1823 года в Турене у господина де Савари, он задумал большую поэму «Феодора». Сюжет ее весьма любопытен: Феодора — русская графиня, молодая, красивая, богатая вдова. После смерти мужа она остается девственницей… Вся Москва сравнивает ее с кивотом завета, приближение которого приносит смерть. От этой поэмы до нас дошел только прозаический план и несколько плохих строф.
Жану Томасси не нравилась деятельность Бальзака, он полагал, что ему следует обратиться к публицистике в духе правоверного роялизма. Сам Томасси, довольно образованный историк, по убеждениям был роялистом. Однако, считать его единственным демоном-соблазнителем Оноре Бальзака, — как это делает Л.-Ж. Арригон, — неверно. Либерально-вольтерьянский дух, царивший в доме Бальзаков, под влиянием которого Оноре в своем романе «Жан-Луи» изобразил некоторые эпизоды 1793 года, изъятые из этого произведения книгоиздателем Юбером, уже не властвовал над ним.
Первым учителем реализма для Оноре была мадам де Берни: крестница королевы много раньше постаралась внушить ему свои заветные мысли и мечты. Ни Бальзак, ни Томасси в этом отношении не представляли собой исключения среди великосветской и или полувеликосветской богемы, в которой они вращались. Оноре окружали представители знатных, но обедневших родов старой Франции, мечтавшие о большой чиновнической карьере и богатых любовницах, и отпрыски новых хозяев страны — богатых буржуа и финансовых дельцов, для которых подножье королевского трона являлось последней и самой высокой ступенью земного счастья и упоенного тщеславия.
Найти себе богатую любовницу и выезд — значит можно с честью носить свой титул; появиться у «итальянцев»[106] в ложе какой-нибудь графини — значит быть замеченным в свете и лелеять мечты о титуле барона.
Вот чем взволнованы были молодые умы сверстников Бальзака, а поэтому нет ничего странного в том, что в 1824 году выходит в свет его брошюра, без имени автора, под названием «Право первородства», крайне роялистского направления. Оноре послал эту брошюру Сюрвилям, и она долго валялась у них на столе. Наконец она попалась на глаза отцу, приехавшему погостить к дочери и он прочел ее, возмутился всем своим вольтерьянским духом, составил на нее возражение и дал прочесть Лауре, которая много смеялась, открывши отцу имя автора брошюры. За ней через два месяца следует вторая брошюра, «Беспристрастная история иезуитов», которую ультрароялистская пресса приняла очень хорошо и поместила о ней объявление в газете «Белое знамя». На этом пока кончаются политические выступления молодого Бальзака, захваченного мутными волнами парижской журнальной богемы.
В литературных кафе 20-х годов «Вольтер» и «Минерва» — как он сам описал себя в «Непризнанных мучениках» в лице героя Рафаэля, — «можно было видеть молодого человека, с лицом, пышащим здоровьем, черноволосого, с живым взглядом… с грудным замогильным голосом, одетого зимою в панталоны из мохнатого сукна, синий жилет с металлическими позолоченными пуговицами, коленкоровую рубашку, черный галстук, ботинки со шнуровкой, шляпу, блестящую от дождя, оливковый сюртук, а летом в длинные нанковые брюки».
Вся эта наружность говорит о том, что материальные дела молодого человека не блестящи. Он пытается через Рессона, дельца журналистики и спекулянта получить заказ на книгу «Кодекс честных людей или искусство не оставаться в дураках», сотрудничает в «Литературном фельетоне», — но ни денег, ни славы нет.
Старик Бальзак, не желая признаться в том, что его сьн — неудачник, пишет двоюродному брату: «Оноре удалился от мира, чтобы жить на пятом этаже, где он работает в одиночестве и спокойствии, как в пустыне… Оноре прилежно занимается литературой, пишет милые и интересные вещи, которые хорошо продаются». Наконец, роман «Джен-Бледнолицая» написан и сдан книгоиздателю Юрбену Канелю зимой 1824/25 года. Эта последняя ставка Бальзака на литературу была столь же неудачной, как и все другие.
Но вот среди посетителей литературных кафе появляется некий д'Ассонвилье де Ружмон, человек деловой в самом дурном смысле этого слова. Быстро завязывается знакомство, и опытный глаз и собачий нюх Ружмона точно определяют, чем можно соблазнить юношу: он советует Бальзаку испробовать себя в издательском деле. Как раз в это время Канель в компании с Делоншаном задумали издавать полные однотомные собрания сочинений Мольера и Лафонтена, в два столбца мельчайшего шрифта; дело представлялось очень выгодным, но не было на это денег.
Заработать деньги и потом спокойно трудиться над романами — так решил Бальзак и немедля сообщил о своей идее родителям, которые ухватились за эту мысль с тайным намерением увлечь Оноре на путь настоящего серьезного человека. Все-таки одного одобрения было мало, и тут явился «ангел» в лице мадам де Берни. Она дала Бальзаку денег и несомненно одобрила его планы, ибо женщина она была практическая и сама имела склонность к коммерции. «Господин С. клянется, — писал Оноре, — что госпожа Б. стала торговать овсом, отрубями, пшеницей и фуражом, потому что, после сорокалетних размышлений, она поняла, что деньги — это все…».
Много лет спустя Бальзак вспоминал: «Милая госпожа де Берни всегда была божественно одета и тратила на свой туалет всего-навсего 800 франков в год…». Материальное положение Оноре было далеко небезразлично для мадам де Берни, все время пытавшейся перевоспитать этого необузданного, неряшливого (Бальзак иногда не мылся по нескольку дней), бурного, невоспитанного, дурно одетого молодого человека и обратить его на путь аристократического времяпровождения, зная, что путь этот украшают хорошие манеры, всегда изящный костюм, свежие галстухи и перчатки. Но, увы, пока этого ей сделать не удалось, хотя и был заключен «выгодный» договор на издания Мольера и Лафонтена.
Дальновиднее всех сказалась в данном случае сестра Бальзака, Лоранс, которая писала ему: «Твои кое-какие коммерческие предприятия, милый Оноре, не выходят у меня из головы. Писателю вполне достаточно его музы. Ты связался с людьми, которые будут представлять тебе вещи в самом прекрасном свете, воображение твое воспламенится, ты возмечтаешь о тридцати тысячах ливров ренты, а когда в дело вмешивается ум и начинает строить тысячи прожектов, то здравый смысл и рассудок отступают на задний план.
У тебя есть доброта и прямота, которые никогда не оградят тебя от подлости других, которых ты будешь считать такими же честными, как ты, и такими же порядочными. Только интерес к тебе заставляет меня высказывать эти соображения, милый Оноре, и мне гораздо больше хотелось бы видеть тебя зарывшимся в рукописи, пишущим серьезные сочинения, без гроша в кармане, на четвертом этаже, в комнате художника, чем состоятельным человеком с блестящими предприятиями». Лоранс не суждено было увидать таким своего брата — она вскоре умерла.
Издание Мольера и Лафонтена Бальзаку обходится в 10 тысяч франков, но книги не расходятся даже по 20 экземпляров в год. Госпожа Слава с улицы Четырех народов исчезает, не оставив своего адреса — роман «Джен-Бледнолицая», вышедший в сентябре 1825 года, проходит незамеченным.
Силы Бальзака не выдерживают: он заболевает и в октябре отправляется с матерью в Турень. Вернувшись в Париж, он все же берет в руки перо и своим упорством приводит отца в полное восхищение — «Если бы я был Геркулесом, я едва ли взялся бы за труды, которые он предпринял. Боже меня сохрани когда-либо его разочаровывать».
Помимо написания романов, — возможно, «Исповеди Руджиери» и «Мученика-кальвиниста», опубликованных позднее, — он сотрудничает в газетке «Фигаро» которую издает Пуатвен, но самые высокооплачиваемые сотрудники газеты могут получать только 50 франков в месяц, на что, конечно, не смел рассчитывать Бальзак.
К этому времени издательское дело распадается, компаньоны его разбегаются, и на шее Оноре повисает долг в 15 тысяч франков: 9 тысяч мадам де Берни и 6 тысяч франков Ружмону. Чтобы поправить свои дела, он — вероятно по совету той же Берни — покупает типографию на улице Маре-Сен-Жермен (теперь улица Висконти) и там же поселяется сам Руководство технической частью он поручает бывшему фактору[107] Барбье, а на себя берет только отчетность, к которой он вдруг почувствовал особое призвание. В типографии было 30 рабочих и 7 станков. Она была оборудована по последнему слову тогдашней техники.
Через два года актив типографии составлял 67 тысяч франков, а пассив — 113 тысяч франков. Тогда опять появляется ангел-утешитель. «Я был бы очень несправедлив, если бы не сказал, что с 1823 по 1833 год в этой ужасной борьбе поддерживал меня ангел. Госпожа де Берни, хотя и была замужем, была для меня богом. Она была матерью, подругой, семьей, другом, советником. Она создала писателя, она утешила юношу, она привила ему вкус, она плакала, как сестра, она смеялась, она приходила каждый день, усыпляла мое горе, как благодатный сон. Она сделала больше — завися от мужа, она нашла средство дать мне взаймы 45 тысяч франков, и я ей вернул последние 6 тысяч в 1836 году, — конечно, с прибавкой 5 процентов. Но она никогда не напоминала мне о моем долге, и без нее я наверное бы погиб. Она часто догадывалась, что я не ел несколько дней, она предусматривала все с ангельской добротой, Она поддерживала во мне гордость, охраняющую человека от всякой низости, и в которой теперь упрекают меня мои враги, называя ее глупым самодовольством…».
Нельзя лучше, чем это делает замечательное признание самого Бальзака, охарактеризовать отношение к нему мадам де Берни. Она — мать и сестра, когда он беспомощен, она — советник, когда он непрактичен, она — семья и друг, когда он одинок и голоден, и она — стареющая женщина, когда он — юноша, с которым она смеется, и, увы, она — коммерсант, когда получает с него 5 процентов.
Лаура де Берни. Портрет неизвестного мастера
И на этой медали с двумя профилями, вычеканенной в память знаменательной связи, еще резче вырисовывается образ человека, который так же необузданно жил сердцем, как и умом.
Это участливое отношение женщины поддерживало человека, но никак не могло поддержать типографского дела. Напрасно Бальзак печатал исторические романы, мемуары для издателей Канеля, Сотле и Бодуэнов, а также каталоги торговых фирм, медицинские книги: «Руководство к лечению новорожденных детей» (с приложением атласа патологической анатомии в красках), «Руководство для сестер милосердия: лечение от всех болезней», «Ежегодник Парижского медицинского общества» и фармацевтические проспекты. «Сокровище легких» и «Пилюли долгой жизни». печатание этих книг приносит только убытки.
Бальзак все же не падает духом, берет себе компаньона, Лорана, и присоединяет к гибнущей типографии словолитню. Однако заказов мало, клиенты платят плохо, кредиторы бунтуют, касса пустует, в обмен на товары заставляют брать векселя трех совершенно разорившихся фирм книгопродавцев или полные собрания сочинений Павзания[108], Колен д'Арлевиля[109], Жильбера[110], Колардо[111].
Компаньоны разбегаются опять, и летом 1828 года среди страданий, — которых он не забыл десять лет спустя, когда писал «Цезаря Биротто» — Бальзак видит себя полным банкротом, если никто не придет ему на помощь. И на помощь пришла его мать. В конце концов, по ликвидации дела мадам Бальзак теряет 45 тысяч франков, и Оноре такую же сумму остается должен мадам де Берни.
Но силы писателя-Бальзака не только не иссякли — они накануне полного расцвета, ибо за эти годы его жизненный опыт обогатился, у него накопилась масса наблюдении и впечатлений, он видел столько людей, — да и к тому же крепко задуман исторический роман, посвященный движению шуанов[112], материалы о котором он тщательно изучает.
Книжных материалов недостаточно, нужны были живые свидетели. Правда, в этом ему посчастливилось: многое знал старик-бальзак и многое Рессон от своего отца, служившего во времена этого движения в тайной полиции под началом Фуше[113], но надо еще что-то узнать. И он едет в Фужер к другу семьи Бальзаков, генералу барону Поммерейлю. В воспоминаниях жены его, старушки-баронессы, записанных одним бальзаковедом, сохранился яркий портрет Оноре 1828 года: «Это был низенький человек с толстой фигурой, которую плохо сшитое платье делало еще более нескладной; руки его были великолепны; на нем была отвратительная шляпа, но как только он ее снял, все остальное исчезло. Я смотрела только на его голову… Вы не можете себе представить этот лоб, эти глаза, — вы, который их не видели: огромный лоб, отражавший свет, и карие глаза, полные золота, выражавшие все так же ясно, как слово. У него был толстый квадратный нос, громадный рот, который все время смеялся, несмотря на скверные зубы; он носил густые усы, и его длинные волосы были откинуты назад; в то время, особенно по приезде к нам, он был скорее худ и показался нам изголодавшимся… Он прямо уписывал, бедный мальчик…
Словом как бы вам сказать? Во всем его облике, в жестах, в манере говорить, держаться было столько доброты, столько чистосердечия, столько прямоты, что невозможно было знать его — и не любить. И потом что в нем было замечательнее всего, так это его постоянная жизнерадостность, которая прямо била из него ключом и заражала. Несмотря на пережитые им невзгоды, он не пробыл с нами и четверти часа и мы не успели еще показать ему его комнату, как он заставил нас с генералом смеяться до слез…».
Париж побежден
«Однажды утром, когда Латуш, подвязавшись фартуком, стоял на лестнице и с восторгом предавался своей страсти клеить обои, к Бальзаку пришла дама (мадам де Берни), больше уже не принадлежавшая к числу друзей автора «Фраголетты» (Латуша).
— Вам повезло, — сказала дама после обычных приветствий, — что вы нашли рабочих. Дайте мне, пожалуйста, адрес вашего обойщика. Мой уже две недели обещает отделать мне квартиру, и не является. Какой хороший рисунок обоев! Не всем дано удачно выбирать обои для своей квартиры. Это был один из главных талантов бедного Латуша, если не сказать — единственный. Кстати, — вы что-нибудь слышали о нем?
— Да, — ответил Бальзак, бросая смущенный взгляд на обойщика, который спокойно продолжал свое дело, — он недавно был у меня.
— Говорят, что он сошел с ума?
— Он?
— Он самый. Причина его болезни, как говорят, свистки, которыми была встречена «Испанская королева». Рассказывают забавные вещи, например…
— Боюсь, что вам может сделаться дурно от запаха краски, — прервал ее Бальзак, — пройдемтесь по саду, там нам будет удобнее разговаривать.
Он встал и предложил даме руку; ей волей-неволей пришлось его послушаться. Через десять минут проулки по саду, в течение которых гостья дала волю своим дурным чувствам к Латушу, в тот самый момент, когда злословие ее было в полном разгаре, она на повороте аллеи лицом к лицу столкнулась с человеком в подвернутом фартуке и с фригийской шапочкой в руке, который сказал ей с изысканной вежливостью:
— Сударыня, я только что слышал, как вы жаловались на небрежность вашего обойщика. Вот мой адрес, и если вам понадобится мастер, то я к вашим услугам.
Дама покраснела, узнав Латуша, и, видя, что он все еще стоит перед ней с колпаком в руке, рассмеялась:
— Вы здесь? — воскликнула она. — В качестве обойщика?
— Потерпев поражение в литературе, я занялся этой профессией, к которой, сознаюсь, у меня всегда лежало сердце. Можете, если хотите, судить меня сами.
— Хорошо, жду вас завтра.
— Буду точен.
— Надеюсь. — И, протянув ему руку, добавила: — В особенности не забудьте захватить с собой ваше остроумие и ваш горшок с клеем!»
Эта сценка из «Воспоминаний господина Жозефа Прюдома», написанных художником Анри Монье[114], не вполне точна, ибо действие происходит в 1828, а «Фраголетта» Латуша вышла только в 1829 году и «Испанская королева» была освистана в 1831 году Однако нельзя ею пренебречь, — она очень занятно рисует нам первые шаги Бальзака по устройству своего творческого гнезда на улице Кассини, куда он переехал после полного краха коммерческих предприятий и решил сесть за написание своего исторического романа «Шуаны». К тому же небезынтересна и сама фигура Латуша, друга и литературного наставника юного Бальзака.
Гиацинт-Жозеф-Александр Табо де Латуш, родившийся 3 февраля 1785 года в Шартре, принадлежал к весьма почтенной семье. Табо занимали в XVIII веке высокие посты. Трое из них были казначеями Франции и передали своим потомкам наследственное дворянство. Отец Латуша заведывал лотереей в Орлеане и мало интересовался судьбою сына, а потому, когда после какой-то большой провинности пришлось юношу взять из гимназии в Пон-Левуа, он, не считаясь с литературными наклонностями сына, отправил его в Париж изучать право.
Имея достаток и досуг, Латуш берется за перо и набрасывает сцены трагикомедии «Денис в Коринфе или тиран — глава школы», в которой отказывается от обычных канонов драматургии — от единства места и времени. Но пьеса ему не удалась. Он решает опробовать свои силы в стихе и пишет на конкурс Академии стихотворение на тему «Смерть Ротру».
Мильвуа получает премию, а Латуш — почетный отзыв. После этого он опять возвращается к драматургии, но пьеса «Благоразумные намерения», поставленная в Одеоне, имеет сомнительный успех, и автор ее уезжает в трехлетнее путешествие по Италии, живет в Риме, Неаполе, посещает салон госпожи Рекамье[115], студию Кановы[116], изучает итальянский язык и набирается впечатлений для будущих работ.
По возвращении в Париж Латуш получает от Наполеона назначение на должность помощника префекта в Тулоне, но битва при Ватерлоо проиграна раньше, чем Латуш доезжает до места своей службы, и отныне его административная карьера кончается. Он целиком отдается литературе, сочиняет комедии и драмы, но главная сила его была не в этом роде творчества.
«У Латуша темперамент журналиста, — говорит Фредерик Сегю, — преобладает над темпераментом драматурга. Он был нашим первым «репортером» и писал обо всем, что могло захватить внимание публики». Громкое судебное дело Фюальдеса[117], выставка картин Давида[118], чума в Барселоне, гибель французских врачей, «Монморанси — путешествия и анекдоты», и, наконец, «Живописные биографии депутатов», появившиеся в 1820 году году — сатира, в которой остроумно высмеиваются противники либеральной политики, — вот темы Латуша-журналиста.
Кроме этого он издает бумаги Андре Шенье, собирает народные предания, издает перевод «Марии Стюарт» Шиллера[119] и «Маленького Петра» Шпица[120], а также пересказ новеллы Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» и участвует в борьбе между приверженцами классической школы и сторонниками литературной революции. Между романтиками-роялистами и классиками-либералами Латуш — романтик-республиканец — занимает особое место, становится другом Беранже[121] и открыто идет против «князей поэзии, которые сговорились цитировать друг друга».
«Таков был человек, — говорит Сегю, — с которым Бальзак познакомился в 1825 году. Автор известных комедий, искусный репортер, блестящий журналист, опасный памфлетист, возбудитель плодотворных мыслей, своеобразный ум, от которого многое можно было ожидать, — господин де Латуш (на четырнадцать лет старше Бальзака) должен был казаться действительно мэтром южному уроженцу Туреня, литературные дебюты которого были трудными и неудачными».
Нет сомнения в том, что Латуш разгадал в Бальзаке его огромную творческую силу и уже в 1825 год так писал о романе «Ванн-Хлор» («Джеи-Бледнолицая»): «Он (Бальзак) принадлежит к талантам самым замечательным и к гениям самым мощным, бросающим, так сказать, случайно мысли и произведения, которые они часто не считают нужным совершенствовать и отделывать. Одна из драм Гете[122] («Стелла»), патетическая по сюжету, красноречивая в некоторых подробностях, нелепая во многих других, несомненно подтолкнула автора на мысль написать роман «Ванн-Хлор», который по выполнению стоит выше драмы немецкого Вольтера».
И ради этой мощи зреющего гения, изучая его характер и приспособляясь к нему, Латуш окружил Оноре заботами старшего друга и наставника, чтобы оберечь его от падении с высот всяческих фантазий. Вот что он отвечает Бальзаку на предложение вместе поселиться где-то на даче: «Отвечаю на ваши воздушные замки, руководствуясь здравым смыслом: берегитесь упасть! Кто будет покупать провизию на двух человек, обитающих в лесу, кто будет стелить труженикам постели, готовить им завтрак и обед? Уж не вы ли? Да вам дня не хватит, чтобы справиться с хозяйством! Да еще такой человек, как Оноре, который не умеет даже пыль стереть со своего письменного стола!
Господи, ведь мы же на другой день выцарапаем друг другу глаза! Вы однажды сказали мне (даже написали, что еще лучше), что вы большой эгоист и что мы поссоримся. Постараюсь предотвратить второе несчастье, поскольку против первого бессилен. И потом — рю д'Анфер, Фужер, Версаль, Ольне — сколько передвижений, черт побери! Вас бы изгнали из кочевого племени за непоседливость, сам Вечный жид не пожелал бы иметь вас своим спутником!»
Бальзак в 30 лет. Портрет Луи Буланже
15 января 1829 года Бальзак заключает с Латушем и Канелем договор, по которому он передает им право на издание и распространение его книги «Последний шуан или Бретань в 1800 году», за что получает наличными деньгами тысячу франков, и с этого дня начинаются терзания Латуша, неприятные разговоры о векселях и недоразумения с печатанием романа.
Латуш пишет (январь 1829 года): «Вот уже две недели, как вы находитесь в руках наборщиков. Я уже выплатил 150 франков за проделанную работу. Она составляет около двух томов. А вы возвратили полосы, испещренные поправками на три листа. Прекрасно! Поздравляю!». 26 февраля: «Из-за вас мы теряем две стопы бумаги… Вы настолько перегружаете свои полосы исправлениями, что расходы увеличиваются на сто экю. Заплатите ли вы их? Хорош мальчик! Я буду вашим другом, но вашим издателем — слуга покорный…»
И еще: «Вот это дело! Вторая корректура гораздо больше перегружена исправлениями и глупостями, чем первая… Кого вы заставите поверить, что когда два человека ведут беседу, то только об одном можно сказать: «продолжал он», «прервал он», не будучи обязанным упоминать о «разговоре»? Возможно, что это более точно грамматически, но какое это имеет значение для хода событий в романе? Разве это дидактическое сочинение? Разве я должен быть таким точным и поэтому тяжеловесным? Как! «Он пробормотал» — не так ясно, как «сказал он, бормоча»? Какого дьявола вы забиваете себе голову?»
Успех «Шуанам» был подготовлен: 24 экземпляра романа были разосланы по редакциям газет и журналов, на объявления было истрачено сто франков. Бальзак ходил к критикам и к влиятельным редакторам. Ему обещали статьи и похвалы, но критика была не столь благодушна, как надо было ожидать, и в общем роман охаяли, и лишь один «Фигаро» отозвался о нем восторженно.
Автором статьи был редактор — Латуш. Он указывает и на недостатки романа: рассуждения, задерживающие действие, длинноты в описаниях, но все это искупается, по мнению Латуша, огромными достоинствами: «…масса правдивых характеров, люди, которых мы все где-то видели, лицо и манеры которых мы ясно себе представляем, местные подробности, которые запечатлеваются в памяти, манера описывать вещи и изображать действующих лиц, в которой есть что-то новое и совершенно своеобразное, тонкий, остроумный и живой диалог, картины такой правдивости, что она даже пугает вас, сатирическое воодушевление, напоминающее Калло[123], когда нужно схватить смешную сторону или нарисовать гротеск…».
Этому впечатлению надо верить, и недаром Латуш сказал про себя в письме к кузену: «Я никогда не отказываюсь от своих впечатлений, для меня литература — религия, и я скорее двадцать раз отправлюсь на каторжные работы, чем перестану быть откровенным; наконец я всегда больше буду любить искусство, чем художника».
Если Латуш был единственным литератором, который выступил в печати с похвалами «Шуанам», то публика оценила роман по его достоинствам, и Бальзак мог справедливо гордиться первым крупным успехом в литературе.
«Шуаны» понравились именно теми чертам, которые отметил в них Латуш, и впоследствии (в 1843 году) сам Бальзак, подготовляя третье издание этого романа прочел его, как читатель, и дал ему правильную оценку: «Безусловно, это — великолепная поэма; я никогда ее не читал. Десять лет прошло с тех пор, как я правил ее и выпустил вторым изданием. Наконец я испытал удовольствие прочесть мое произведение и могу судить о нем. В нем — весь Купер[124] и весь Вальтер Скотт, и еще страсть и ум, которых нет ни у того, ни у другого. Страсть в нем прекрасна… Местность и война описаны с таким совершенством и так удачно, что я поражен. В общем я доволен.»
«Шуаны» однако плохо раскупаются, но Бальзак упоен успехом, а потому, не стесняясь в выражениях, атакует своего издателя, и тот вынужден в очень деликатной форме послать ему отповедь: «Пусть вы будете изобретателем физиологического романа, пусть вас ждет море, чтобы быть описанным, и пусть Купер будет по сравнению с вами плохим художником, — пусть, я буду рад, но если бы вы были немножко добрым товарищем, — это, право, не испортило бы дела…».
На этой почве в конце концов происходит ссора, но и та и другая сторона не забывают доброго старого времени, и когда у Бальзака заболевает и умирает (19 июня 1829 г.) отец, Латуш соболезнует ему в письмах. Бальзак же, в свою очередь, помещает хвалебную статью на роман Латуша «Фраголетта».
В 1829 году романтические бои были в самом разгаре. Молодая романтическая школа, которой суждено было сломать традиции дворянского классицизма в искусстве и расчистить путь буржуазному реализму, стала выступать на театре. В этом году в Париже была представлена первая романтическая драма — «Генрих III и его двор» Александра Дюма[125], полная бурных страстей и исторической бутафории, а за нею последовали «Венецианский мавр» Виньи[126] (переделка шекспировского «Отелло») и «Марион де Лорм» Гюго. Романтики, пестрые по своему социальному составу, различные по политическим убеждениям, были тогда объединены одной целью: расширить сферу искусства, создать ему новые формы для нового содержания, которого требовала стоявшая уже накануне захвата власти буржуазия. В азарте борьбы с классической традицией романтизм принимал уродливые формы, доходил в своих проявлениях до крайностей. Поэты, художники, драматурги хотели во что бы то ни стало быть оригинальными, вплоть до одежды и прически.
«Скрижали романтизма» — предисловие Виктора Гюго к его драме «Кромвель», вышедшей в 1827 году, — сводились в основном к требованию свободы в искусстве и к отказу от классических традиций строго ограниченных тем, жанров и правил. Романтики во главе с Гюго требовали свободы для своей необузданной фантазии, свободы для выражения своих личных чувств, для изображения того прекрасного и уродливого, что они видели в жизни или, вернее, хотели в ней видеть. А многого они и вовсе не хотели видеть в жизни, ибо отживающее дворянство не хотело быть свидетелем близкого торжества лавочников и банкиров, а мелкобуржуазная интеллигенция была разочарована падением своих демократических идеалов, которые завещала ей Великая французская революция. Поэтому романтика предпочитали брать материал для своего творчества вне окружавшей их действительности — в средних веках, в далеких странах.
К тому времени романтики создали уже свой второй кружок, оставив в нем одних подлинных романтиков (в первый кружок входили и те, которые еще не совсем порвали с классическими традициями), и определились как литературная школа. В этих боях, которые давали романтики классикам на страницах «Глоб», в своих манифестах и на театре, Бальзак участия не принимал, — он не принадлежал ни к какой школе и никогда не пытался теоретически обосновать свои взгляды на искусство. Он только инстинктивно чувствовал, что с ними ему не по пути, и в романтическом движении видел только его отрицательные стороны: чувствительность, неестественность. Ему, видевшему живую жизнь и стремившемуся ее отобразить, было непонятно как можно уходить от нее в далекое прошлое или в экзотику.
Типичный романтик-парнассец Теофиль Готье, самый «аполитичный» из своей школы, так пишет о Бальзаке и о себе. «Он (Бальзак) мог мысленно перенестись в маркиза, в финансиста, в буржуа, в человека из народа, в светскую даму, в куртизанку, но тени прошлого не повиновались его призыву: он никогда не умел, как Гете вызвать из глуби веков прекрасную Елену и поселить ее в готическом доме Фауста. За исключением двух-трех вещей, все его творчество современно; он сжился с живыми и не воскрешал мертвых… В музее античного искусства он смотрел на Венеру Милосскую без особенного восторга, но парижанка, остановившаяся перед бессмертной статуей, завернутая в длинную кашемировую шаль, которая без единой складочки спускается от затылка до каблуков, одетая в шляпку с кружевной вуалеткой, в узкие перчатки от Жувена, выставляющая из под рубца своего платья с воланами лакированный кончик скрипящего башмачка — она заставляла его глаза блестеть от удовольствия… Это имеет свою прелесть, но на наш вкус Венера Милосская лучше».
Французские романтики тоже, как и Бальзак, брали за образец Вальтер Скотта, только они заимствовали у него его романтические черты, а Бальзак взял от него то, что было в нем здорового и жизнеспособного.
И вот будучи в историческом романе учеником Вальтер Скотта Бальзак перерос своего учителя «декоратора и костюмера, к которому он пошел в обучение», и блестяще завершил круг французских исторических романов. Многие критики сожалели, что Бальзак не захотел стать французским Вальтер Скоттом, не учитывая того, что влияние английского романиста было уже исчерпано, и вскоре стали раздаваться все более трезвые голоса в оценке общего значения его творчества. А в 1840 году Стендаль[127] писал Бальзаку. «Проза Вальтер Скотта неэлегантна и в особенности претенциозна. Виден карлик, не желающий потерять ни одного сантиметра роста». Вслед за карликом шествовал гигант. «Шуаны» описывали эпоху, памятную тогда еще многим и переход от истории к современности был сделан. Отныне Бальзак пойдет новым своеобычным путем.
К 1829 году личная жизнь Бальзака укладывается в такие формы, отклонений от которых почти не было до самой смерти: ночная работа с крепчайшим кофе, малый сон и досуги, посвященные посещению театров, выставок и салонов, где устанавливались новые знакомства с представителями литературы и высшего света.
В 1828 готу он познакомился в Версале с герцогиней д'Абрантес и воспылал к ней страстью, но страсть эта была непродолжительна и, судя по письмам Бальзака к герцогине, носила характер великосветской интриги. Однако, он не переставал с ней встречаться: интерес заключался в том, что эта салонная чародейка была богатым источником сведений о Фракции времен Наполеона и его двора.
Герцогиня д'Абрантес. Акварель Гаварни
Герцогиня д'Абрантес[128] родилась на Корсике и с детства была близка с семьею Бонапартов. При содействии Наполеона она вышла замуж за Жюно[129]. Жюно изменял жене, и она стала искать утешения на стороне. Самой длительной связью ее был Меттерних[130], тогда австрийский посланник в Париже. Мемуары герцогини д'Абрантес, изданные в 1830 году, ни одним словом не упоминают об этой истории, и вот как объясняет это Робер Шантемесс:
В 1810 году произошел великосветский скандал, в котором были замешаны супруги Жюно, Меттерних и Каролина Мюрат[131]. О деле этом по воле Наполеона было запрещено говорить настолько, что сама Жюно-д'Абрантес в своих восьми томах мемуаров ничего об этом скандале не упоминает. Однако, наряду с официальными мемуарами, она писала интимные исповеди своим друзьям.
Первая исповедь была написана для маркиза де Балинкура, которого герцогиня называла своей «утехой любви». Вторая, составленная в 1829 году, посвящена Бальзаку, в чьих бумагах ее и нашли. Возможно, что Бальзак воспользовался этим материалом для своей «Покинутой женщины», посвященной, как известно, герцогине д'Абрантес.
Эту именно неизданную часть и опубликовал Шантемесс в «Нейе фрейе прессе» в январе и феврале 1934 года и предпослал этим мемуарам вступление, где дает очень яркую характеристику супругам Жюно, Меттерниху, его окружению, то есть тому людскому материалу, который под пером Бальзака ожил в художественных образах его романов в той или иной ситуации. Эти фигуры интересуют нас не как история, а как атмосфера тех салонов, в которых вращался Бальзак, и потому мы останавливаем на них свое внимание.
«… И наконец сама богиня дома — Лаура Жюно. Она — маленькая, бледная, с блестящими глазами, немного по-азиатски раскосыми: Ее «романские» зубы освещают лицо, как белая молния, тяжесть иссиня-черных волос давит ее хрупкую головку, длинный нос придает ей сходство со зверьком лаской. Но тайна ее очарования, ее изящество, ее совершенство — это шея. Она покачивается, меняет положение, она — само благородство. Голос своеобразный, уже немного грубый. Говорит она очень быстро, выкидывая слова, словно стрелы, внезапно прерывает себя и смеется, чтобы показать зубы. Ее острого язычка боятся и не доверяют ее обращению с людьми и вещами. Ей завидуют, и с основанием.
Ей двадцать три года. Молодость у нее была очень бурная. Мать ее, наполовину корсиканка, наполовину гречанка, авантюристка, заставляла много о себе говорить. Она называла себя Комнен[132], отпрыском восемнадцати королей, держала себя как принцесса и придворная дама в Пале-Рояле. В своем кругу, состоявшем исключительно из корсиканцев, она принимала семью Бонапартов и сумела их обязать. Говорят, что сам Наполеон добивался ее руки, полагая, что она богата, но она жила на случайные средства, которые ей откуда-то перепадали.
Ее дочери Лауре было шестнадцать лет, когда она познакомилась с генералом Жюно, тогда генерал-адъютантом первого консула, и вышла за него замуж. Он был веселый парень, и ему везло. С Тулона он на жизнь и на смерть связал свою судьбу с судьбою Бонапарта. Жюно держался крепко и плыл по течению. Робер де Флер сказал о нем зло: «Человек редкой храбрости, раненый во многих боях, Жюно обязан своим престижем лишь в незначительной степени уму».
Придет еще время, когда император будет говорить жестокие вещи о своем «любимце» Жюно — «своем горячо любимом Жюно», как пишет один современник. На острове св. Елены из уст Наполеона только и слышится: «Дурак Жюно, простофиля Жюно, этот хвастун, этот ловелас…», но на пороге Империи говорилось иное.
Дождь благодеяний изливался на него и его близких. Все их родственники и знакомые получали места, титулы, ренты и отличия. Самим супругам император подарил дворец во вкусе эпохи, в своем роде чудо искусства. Итак, они сделались владельцами замка, помещиками, у них были прежние королевские земли под Парижем и рента в полтора миллиона франков. Жюно был генерал-майором гусарского полка, военным сановником Империи, первым генерал-адъютантом и кроме того еще губернатором Парижа и командующим 16 тысячами штыков в самом сердце Франции.
29 июля 1805 года император, отправляясь в Иену, назначил Жюно губернатором Парижа… Париж был фактически отдан во власть двух людей: министра полиции Фуше и военного губернатора. Если бы случай захотел смерти императора на поле битвы, путь претенденту был бы свободен… Но император вернулся с победой. Нужна была жертва — Жюно заплатил за всех и отправился в Португалию.
Жюно завоевал Португалию одним ударом меча, и с тех пор в его доме на улице Елисейских полей стали появляться редкостные дары из Лиссабона: ящики, полные золота, ломившиеся под тяжестью монет. Бывали дни, когда через двор провозили до 400 тысяч франков… Притекали нашлифованные алмазы, один из которых, говорят, был сделан в виде кубка, нитки жемчуга, десятки картин, сотни драгоценных ваз и столько серебра, что его негде было хранить. Кроме всего прочего, 15 января Андош Жюно был пожалован титулом герцога д'Абрантес…».
А вот о салоне Лауры д'Абрантес: «…Медленно поднимается он (Меттерних) по широким, украшенным поддельным порфиром, ступеням. Швейцар приветствует его, ударяя алебардой по каменным плитам, потом перед ним открывается длинный вестибюль с окнами, черные рамы которых усеяны мелкими, шафранного цвета треугольниками — копия со старинной модели, доставленной Милленом[133]. Он проходит большую галерею, которую вечер уже наполняет мягким светом. Сверкающее волшебство, рай красок, сливающихся друг с другом, благовоний, летящих ему навстречу. Раздаются звуки арфы, нанизываются друг на друга, как капли металла.
Место действия — маленькая гостиная между голубой комнатой с фресками, изображающими знаменитых женщин, и библиотекой, где на большом четыреугольном столе разложены самые редкие в мире книги. Недавно Жюно заплатил 30 тысяч франков за «Дафниса» с иллюстрациями Прудона. Общество в полном сборе. Вскоре подают чай в севрских чашках амарантового цвета с золотым дном — цвета дома. Время — около десяти часов, гости пьют и играют в вист».
Надо полагать, что этот салонный изыск, — эта смесь подлинного искусства с причудами дурного вкуса, — сохранился еще в ту пору, когда бывшие наполеоновские маршалы ушли на покой, а на смену им пришли бывшие интенданты-поставщики наполеоновских армий, а теперь — бароны, стремящиеся во всем подражать аристократическому духу.
Именно такие салоны с величайшим упоением посещал Бальзак, стараясь и при убранстве своего дома подражать им. И тут он оставался истинным сыном своей эпохи: подлинное рядом с подделкой, взлеты восхищения перед настоящим искусством и кичливость лавочника, ставшего у власти.
«Чай у м-м Жирарден». Карикатура Гранвиля
Любопытно еще и то, что сами мемуары д'Абрантес изложены в подобающем для всего этого стиле. Так, например, она рассказывает Бальзаку о своей связи с Меттернихом: когда Жюно узнал об этом, он бросился ее душить, потом нанес ей несколько ран золотыми ножницами в грудь… и кинулся со страху к жене Меттерниха, умоляя спасти Лауру.
По словам Лауры д'Абрантес, это был первый припадок сумасшествия Жюно. Описание событий сделано нарочито, с альковными подробностями, с явным намерением пококетничать перед Бальзаком ревностью мужа, рискованностью положения и необычайной тонкостью причуд своего любовника-дипломата с браслетом на руке из волос возлюбленной, любовника, научившего всех придворных дам «языку цветов». Этот язык выражался в том, что дама подбором цветущих растений, украшавших ее дом, должна была сообщить Меттерниху о своем душевном состоянии и чувствах к нему.
В те годы, когда Бальзак встретился с герцогиней д'Абрантес, эта женщина уже потеряла свое живое очарование. Она сохранила красивую осанку и благородные манеры, но с возрастом лицо ее покрылось красными пятнами, голос сделался хриплым, как у торговки, но и разоренная и несколько опустившаяся, она все же сохранила блестящее имя и титул, столь импонировавшие Бальзаку.
Денег у нее не было, и она вздумала зарабатывать литературным трудом — писала романы и мемуары. Бальзак помогал ей устраивать ее произведения, и в частности в 1830 году очень выгодно продал ее мемуары за 70 тысяч франков. Конец этой женщины был печален: она умерла в бедности, среди голых стен, потому что обстановку у нее описали и вывезли за долги. «Она кончила, — сказал Бальзак, — как кончила Империя».
В этих фешенебельных замках, несмотря на страстное к ним тяготение, Бальзак чувствует себя неловко, — он неуклюж, у него долги и ни копейки в кармане. В июле 1829 года он едет в Немур погостить у мадам де Берни. Любовь его к ней идет на убыль — ей пятьдесят два года, Бальзаку — тридцать.
Разрыв Берни с мужем кончился разделом имущества, и она сняла себе домик Булоньер в тихой сельской местности под Немуром. Там ее изредка навещают Оноре и два ее сына, Александр и Антуан, и там был написан Бальзаком «Мир домашнего очага», — повесть, вошедшая в первый цикл «Сцен частной жизни».
По возвращении в Париж Бальзак продолжает литературную деятельность. Осенью 1829 года он занят написанием «Физиологии брака» и «Сцен частной жизни» и задумывает «Историю Тринадцати». Но денег у него мало, и он ищет более доходной работы. В то время была мода на апокрифические мемуары. Бальзак готов и на этом заработать. Он предлагает книгоиздателю Маму написать за четыре тысячи франков мемуары палача Сансона[134], казнившего Людовика XVI. К составлению их он привлекает весьма подозрительного литератора Леритье, редактировавшего мемуары Видока[135].
Том первый, написанный Бальзаком, вышел в феврале 1830 года. Мемуары оказались настолько убедительными, что стали утверждать, будто Бальзак посещал Сансона, обедал у него и вел с ним беседы, но этого, конечно, быть не могло, так как Сансон умер в 1806 году. Бальзак мог встречаться только с его сыном, тоже палачом.
Прочитав анонс об этой книге, Пушкин также думал в ней найти подлинные мемуары и писал: «Французские журналы извещают нас о скором появлении Записок Сансона, парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений. После соблазнительных Исповедей философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения.
Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных, с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы[136] и Современницы.
Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился и, к стыду нашему, скажем, что успех его Записок кажется несомнительным.
Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно безграмотного Сансона. Но признаемся же и мы, живущие в веке признаний, — с нетерпеливостью, хотя и с отвращением, ожидаем мы Записок парижского палача. Посмотрим, что есть между ним и людьми живыми. На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сие творение, внушившее графу Мейстру столь поэтическую, столь страшную страницу? Что скажет нам сей человек в течение сорока лет кровавой жизни своей присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных и священных, и ненавистных? Все, все они — его минутные знакомцы — чередою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль.
Мученики, злодеи, герои — и царственный страдалец, и убийца его, и Шарлотта Корде[137], и прелестница Дюбарри[138], и безумец Лувель[139], и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравлявший своих ближних, и Папавуань, резавший детей: мы их увидим опять в последнюю, страшную минуту. Головы, одна, за другою, западают перед нами, произнося каждая свое последнее слово… И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках, в ожидании ученых справок будущего историка» («Литературная газета», 1830).
Кстати, ни один из комментаторов Пушкина не указал, что здесь идет речь о книге Бальзака.
В декабре 1829 года выходит «Физиология брака», без имени автора. Книга имеет успех скандала, благодаря своему цинизму, и вызывает яростные нападки, особенно со стороны женщин. Пресса тоже относится к ней недружелюбно. Единственную хвалебную статью напечатал «Меркурий XIX века». Редакторами журнала были Амедей Пишо[140] и Лакруа.
Бальзак обратился с просьбой поместить статью сначала к Пишо, но тот согласился сделать только анонс. Бальзаку показалось это недостаточным, и однажды он явился к Лакруа как раз в то время, когда тот работал над романом «Два безумца» и никого не принимал. Бальзак поднял такой шум, что растерявшийся слуга впустил его в гостиную. Бальзак начинает спорить с Лакруа и требовать от него статьи. Наконец они решают что статью напишет… сам Бальзак. И статья, очень хвалебная, была напечатана. Скандальный успех книги раскрыл перед Бальзаком двери редакций.
В конце эпохи Реставрации французская пресса преображается. До 1828 года существовало только два вида газет: солидные — либо исключительно политические, либо политико-литературные, как «Глоб», и мелкие газетки, настроенные крайне агрессивно, как «Корсар» и «Фигаро». Тираж тех и других был очень ограничен. Попытки создать газету с большим количеством подписчиков кончались неудачей.
Но в 1828 году некий молодой человек вступает в газетный мир и производит в нем переворот. Это — Эмиль де Жирарден[141], «Наполеон парижской прессы», даже чертами своего лица напоминающий императора. Это сходство он старается подчеркнуть прядью волос, спадающей на лоб. Он задается целью не защищать какие-нибудь идеи, а процветать, как всякое коммерческое предприятие.
В 1828 году Жирарден основывает вместе со своим другом Лотур-Мезере[142] «Вора» — орган, состоящий главным образом из перепечаток. В июне 1829 года он принимает участие в создании еженедельника «Силуэт» и, наконец, в октябре того же года, вместе с тем же Лотур-Мезере, начинает издавать «Моду» — журнал мод и светской жизни.
Впоследствии Жирарден не только создал громадное количество периодических изданий, но главным образом перевел их на основу чисто коммерческих предприятий и был родоначальником той французской буржуазной прессы, которая существует и по сие время и блестяще изображена Бальзаком в «Погибших мечтаниях» и в «Монографии парижской прессы».
Имя Жирардена и до сих пор, а в особенности за последнее время, не сходит с газетных столбцов. Так, например, 20 апреля 1934 года некий французский журналист пишет: «Этот необыкновенный человек оставил в своей эпохе такой глубокий след, что не заметить этого — значит ничего не понимать в нашей эпохе. Не будь его, наша повседневная жизнь не была бы теперь тем, что она есть. Каждый раз, как мы развертываем газету, там незримо присутствует Эмиль де Жирарден со своей вольтеровской улыбкой, скупой и иронической…»
Бальзак поддается очарованию этого человека и соглашается с ним вместе работать. Он дебютирует в «Силуэте». Это — сатирический еженедельник, на обложке которого изображена молодая женщина в романтическом костюме, рисующая на листке бумаги силуэт денди.
«Силуэт» страстно либерален и яростно романтичен. Он осыпает насмешками «иезуитов», издевается над министрами кабинета Полиньяка; напротив, Виктор Гюго и Александр Дюма провозглашаются великими людьми. Начиная с 9 января Бальзак печатает в «Силуэте» «Очерки нравов по перчаткам», и с тех пор регулярно появляются его статьи, сатирические портреты и юморески. Сотрудничает он также и в «Воре» и в «Моде». В редакции последней он знакомится с художником Гаварни[143]. Именно там завязывается тесная дружба с Жирарденом, и 26 февраля Жирарден, Бальзак, журналисты де Варень и Ипполит Оже основывают акционерное общество с капиталом в сто тысяч франков для эксплуатации «Фельетона политических газет».
По плану Бальзака это должно быть нечто вроде библиографического обзора новейшей литературы. Разумеется, Бальзак не вкладывает туда никаких капиталов. Первый номер этого журнала выходит 3 марта 1830 года; в нем помещена статья Бальзака о «Трактате о свете» астронома Гершеля. В следующих номерах Бальзак с такой же легкостью разбирает сочинение: «Кровавая рубашка», история дофина» А. Баржине, «Поземельный кредит, каков он есть и каким должен быть» Л. Гастальди, «Объяснения к посланиям святого Павла» Р. П. Бернардена де Пекиньи и «Инструкция по упражнениям и маневрам кавалерии от 6 декабря 1829 года». Он разбирает книги путешествий по Испании, Англии и России, статью об уголовном законодательстве и французско-алжирский словарь, новые химические исследования и новую беллетристику, — словом, интересы его так же всеобъемлющи, как заглавие одной из рецензированных им книг: «Энциклопедическая пчела или умственный обзор всех человеческих знаний».
По разносторонности тем этих рецензий и по той жадности, с какой читается каждая книга (а Бальзак читал жадно), его позволительно сравнить с Пушкиным, который хотел бы знать обо всем — от небесных планет до ископаемых земли. Бальзак часто страдал зубной болью, не мог работать, и только в это время успевал читать.
Бальзак не ограничивается рецензиями на книги и пишет статьи на литературные темы: под заглавием «Романтические литании» — пародию на модный стиль, и две статьи по поводу драмы Виктора Гюго «Эрнани», в которых решительно заявляет, что «все пружины этой пьесы — избиты, сюжет — недопустим, характеры — неправдоподобны, поведение действующих лиц противоречит здравому смыслу». Он издевается над романтической драмой, — этой кашей из 1800 плохих стихов, 200 антитез, 100 фальшивых мыслей, 300 плагиатов и 400 реминисценций. Субъективизм и лиризм мешают романтикам стать драматургами. Им недостает изобретательности, дара создания характеров, умственного проникновения в проблемы эпохи. «Они всегда говорят только о своих собственных радостях, о своих, собственных горестях и о таинственных событиях своей жизни». Они «делают страсть». Их герои «не пробуждают никаких мыслей», являются «увеличенными индивидуальностями, которые возбуждают только мимолетное сочувствие, они не связаны с крупными жизненными интересами и потому ничего собой не представляют».
С пренебрежением Бальзак говорит о людях, которые «от отсутствия выдумки рассказывают о своих собственных горестях». Против эстетической программы и против настроений романтиков были направлены его «Сатирические жалобы на наше время», появившиеся также в 1830 году. Литературная молодежь, — говорит он, — заражает Францию своего рода моральным и политическим протестантизмом, в котором гибнет вкус и остроумие. Абсолютная свобода искусства приводит к маразму. Если бы Шекспир жил в наше время, он бы должен был связать себя правилами. Забавный рассказ требует неизмеримо больше таланта, чем кладбищенские размышления, оды, трилогии, которыми пичкают сейчас публику.
Счастливое исключение составляют, по мнению Бальзака, «Камарго» Мюссе[144] и «Театр Клары Газуль» Мериме[145]. Он предсказывает реакцию против романтизма, который является нелепым понятием. Франции нужен смех. Публика устала от искусства катакомб. Из этого ясно, что к тому времени Бальзак внутренне определил свое отрицательное отношение к романтической школе, и хотя в своих высказываниях и не противопоставляет ей некую стройную литературную теорию, но безусловно романтикам противопоставляет самого себя как писателя, который пошел по своему собственному пути, продолжая традиции классического реализма.
Журнальная деятельность, большие заработки и сознание того, что он уже — известное имя, дают возможность Бальзаку запросто посещать литературные салоны барона Жерара[146], Софии Гэ[147] и ее дочери Дельфины де Жирарден[148]. Эта «прекрасная Дельфина» быта не только женой своего талантливого мужа и хозяйкой салона — она была, кроме того, видной журналисткой. Ее остроумные фельетоны — «шедевры прозы, как называет их Ламартин, — печатавшиеся ежедневно в «Прессе» создали этой газете большую популярность. Об обстановке ее дома Теофиль Готье рассказывает так: «Вся квартира была обтянута бумажной материей цвета морской воды, зеленоватый тон которой, напоминавший грот нереиды, могла вынести только блондинка с безукоризненным цветом лица, брюнетки же, попадавшие в эту зеленую пещеру, казались там желтыми как айва, или покрывались цветными пятнами».
В остальном у госпожи де Жирарден было очень просто. Она принимала своих друзей у себя в спальне, где кровать была скрыта за занавеской. К ней обычно приезжали после Оперы или Буффа, или же до выезда в свет, то есть между одиннадцатью часами и полночью. Бальзак встречался там с Ламартином, Виктором Гюго, Альфонсом Карром[149], Эженом Сю[150], Теофилем Готье, Жюлем Жаненом[151], Лотур-Мезере и Альфредом де Мюссе. Среды же у художника барона Жерара собирали в его четырех комнатах общественную знать: Институт, Сорбонну, литературу, науки и искусства. Не было ни одного иностранца, сколько-нибудь замечательного, который, попав в Париж, не захотел бы представиться Жерару. К нему также приезжали «по-итальянски», то есть между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи.
Ламартин, носивший свою славу уже с тем привычным довольством, с каким человек носит хорошо сшитое платье и элегантные ботинки, вот как описывает Бальзака на одном из вечеров у Жирарденов: «Я приехал очень поздно… и забыл обо всем на свете, увидев Бальзака. В нем не было ничего современного. При виде его можно было подумать, что очутился в другой эпохе, в обществе тех двух или трех бессмертных людей, центром которых был Людовик XIV и которые были у него, как у себя дома, на одном уровне с ним при этом не поднимаясь и не опускаясь: Лабрюйер, Буало[152], Ларошфуко, Расин и особенно Мольер; он носил свою гениальность так просто, что ее не чувствовалось. Я сказал себе: вот человек, родившийся два столетия назад; рассмотрим его хорошенько.
Он стоял перед мраморным камином… Он не был высок, но сияние, исходившее от его лица, и его необычайная подвижность не позволяли заметить его рост; тело его волновалось, как его мысль; казалось, что между ним и полом есть свободное пространство; то он нагибался до самой земли, как бы для того, чтобы поднять сноп мыслей, то поднимался на носки, чтобы следовать за полетом своих идей в бесконечность.
Он прервал свою речь только на мгновение, чтобы поздороваться со мной; он был увлечен разговором с господином и госпожой де Жирарден. Он бросил мне живой, торопливый, ласковый взгляд, полный необычайной благосклонности.
Я подошел к нему, чтобы пожать ему руку; я увидел что мы понимаем друг друга без слов, и между нами все было сказано; он был увлечен; у него не было времени остановиться. Я сел, и он продолжал свой монолог, как будто бы мое присутствие ему не помешало а, наоборот, вдохновило его. Внимание, с которым я его слушал, позволило мне наблюдать за ним в постоянном движении.
Он был полный, плотный, квадратный снизу и в плечах; мощная шея, грудь, корпус, бедра, все члены; много той обширности, которой обладал Мирабо[153], но никакой тяжеловесности; в нем было столько души, что она носила все это легко, весело, как тонкую оболочку, а совсем не как бремя; этот груз, казалось, придавал ей силы, а не отнимал ее.
Его короткие руки непринужденно жестикулировали, он говорил, как оратор. Голос у него был громкий от несколько дикой энергии его легких, но в нем не было ни грубости, ни иронии, ни гнева; ноги его, на которых он немного переваливался, легко носили его тело; его жирные и большие руки выражали движениями все его мысли. Таков был этот человек в его крепко слаженной оболочке. Это говорящее лицо, от которого нельзя было оторвать глаз, очаровывало и захватывало вас целиком.
Волосы спускались на лоб крупными прядями, черные глаза пронизывали как стрелы; они доверчиво погружались в ваши, как друзья; щеки были полные, розовые, очень яркие; нос красивой формы, хотя несколько длинный; губы изящного рисунка, но большие, с приподнятыми углами; зубы неровные, выщербленные, почерневшие… голову он часто склонял набок, а когда оживлялся в споре, то вскидывал ее с героической гордостью.
Но главной чертой его лица, — даже больше чем ум, — была заразительная доброта. Он очаровывал ваш ум, когда говорил, и даже когда молчал, он очаровывал вам сердце. На этом лице не могла отразиться никакая ненависть или зависть: ему было невозможно не быть добрым.
Но это не была доброта безразличия или неведения, как на эпикурейском лице Лафонтена, — это была доброта любящая, очаровывающая, сознательная, которая возбуждала благодарность и привлекала к нему сердце и которая не позволяла не любить его. Таков был в точности Бальзак.
Я уже любил его, когда мы сели за стол. Мне казалось, что я знаю его с детства: он напоминал мне милых сельских священников дореволюционного времени, с несколькими завитушками волос на шее… Жизнерадостная детскость — вот что было главное в этом лице; душа в отпуску, когда он оставлял перо, чтобы забыться со своими друзьями; с ним невозможно было не веселиться. Его детская ясность смотрела на мир с такой высоты, что он представлялся ему какой-то шалостью, мыльным пузырем, созданным фантазией ребенка».
Слава
Герцог Беррийский[154] — сын графа д'Артуа, будущего короля Франции — при выходе из театра 13 февраля 1820 года был настигнут Лувелем и смертельно ранен ударом ножа. Этот удар был роковым сигналом для всей династии Бурбонов. Убийца, седельный мастер Пьер-Луи Лувель, ненавистник абсолютизма, выполнил волю пославшего — в его лице мелкая буржуазия и мелкобуржуазная интеллигенция Франции мстили своему официальному врагу, в то время как в тени королевского трона Людовика XVIII таился истинный хозяин страны — имущая буржуазия и отчасти придворная знать, еще не потерявшая своих имущественных наследий.
Смерть молодого члена династии, от которого зависело ее продолжение (у его брата детей не было), потрясла королевский двор, и под влиянием ультра-роялистов Людовик должен был расстаться со своим фаворитом министром Деказом[155], которого обвинили измене. Лувель был казнен, и первым делом нового министерства было ограничение свободы прессы и закон о предварительном трехмесячном заключении в тюрьму подозрительных лиц. Новый избирательный закон дал в палате громадный перевес ультра-роялистам и крупным собственникам.
При дворе печаль сменилась радостью и торжеством — у вдовы, герцогини Беррийской, родился сын. Дитя назвали «чудесным мессией легитимности», мать, сравнивали с девой-Марией, писатель Шатобриан привез для крещения ребенка воды из Иордана.
Реакция с каждым годом усиливалась, началась эпоха заговоров, с заговорщиками расправлялись беспощадно. Членов оппозиции в палате стали называть «освобожденными каторжниками», духовенство высоко подняло голову и получило под свой контроль Парижскую академию, лицеи и школы. Действия инсургентов в Испании привлекли внимание французских роялистов, и на Веронском конгрессе Франции разрешено было державами вмешаться в дела Пиринейского полуострова. Герцог Ангулемский[156] с 55-тысячным войском явился на помощь королю Фердинанду, восстание было жестоко подавлено и вождь инсургентов Риего[157] казнен. В 1824 году палата была распущена, а во «вновь найденной палате» («шамбр ретруве») оппозиция сократилась с 110 до 19 членов. Даже палата пэров, это «кладбище сухих останков монархии, революции и империи», была напугана всесильным министром Виллелем, но смерть Людовика в мае этого же года и временные послабления его преемника Карла X вносят некоторое успокоение в оппозиционные круги и их прессу. Однако, торжественное коронование нового короля с помазанием священным елеем и его тронная речь рассеяли всякие надежды на изменение правительственного режима.
Политика Карла Х — политика феодала. Закон о выдаче эмигрантам, пострадавшим от революции, миллиарда франков хотя и повышает стоимость национальных имений, но в то же время ведет к окончательному обнищанию третье сословие и пролетариат. Законы о печати вынуждают Ройе-Колара[158] сказать, что «теперь не будет ни писателя, ни печатника, ни журнала — таково будет положение прессы». Законы о майоратах и закон, карающий смертной казнью за святотатство, создают привилегии дворянам и духовенству, а сжигание вредных книг воистину покрывает Францию дымом инквизиторских костров.
Феодальный режим Карла X приводит к тому, что даже умеренная оппозиция, бессильная в палате, начинает выносить свои протесты на улицу при встречах и похоронах выдающихся людей: Ройе-Колар в надгробной речи генералу Фуа[159] называет правительство Франции гнусной шайкой, которая не скрывает своих намерений и идет с развернутыми знаменами. Ее не следует спрашивать, куда она идет, ибо на всякий вопрос она солжет. А на параде национальной гвардии раздаются при проезде короля крики: «Да здравствует хартия, долой Виллеля!» Придворная партия в тревоге, и король под ее влиянием жертвует Виллелем, — его кратковременно сменяет Мартиньяк[160]. Перед уходом Виллель чувствуя свой конец, восстанавливает цензуру периодической печати, которая временно была отменена, но тотчас же образуется «общество друзей свободы печати».
Виллель распускает палату, но на новых выборах под руководством Гизо[161] объединяются все элементы оппозиции под девизом «береженого бог бережет», и министерство терпит поражение — оппозиция выиграла 180 мест.
Умеренное министерство Мартиньяка не привело к успокоению ни ту, ни другую сторону, короля раздражали уступки, и к власти вскоре же был призван Полиньяк — старый шуан, мистик, руководившийся в своей политике указаниями божьей матери. Действия Полиньяка отражали непримиримость позиции короля, тон его тронной речи был грозен: «Я объявил свои решения, они неизменны. Интересы народа воспрещают мне уклоняться от них».
Департаменты послушно выполняли указания из столицы. Всесильное чиновничество укрылось под защиту министров. Деревня спала мертвым сном, там процветало невежество и суеверие. Нищее крестьянство страдало от запретительных мер высокопоставленных магнатов, и, устремляясь на заработки в столицу, встречало не менее ужасные условия эксплуатации. Французская интеллигенция, вследствие высокого ценза, не имела места в палате депутатов, мысль и слово ее были задушены цензурой и денежными взысканиями, и она в особенно резкой оппозиции находилась к буржуазно-аристократическому блоку, состоявшему из дельцов, набивших свои кошельки во время революции и наполеоновских войн. Пролетариат являл собою только еще эмбрион организованного класса, хотя и был объединен союзом «компаньонаж». Таким образом, одна только крупная буржуазия, под защитой протекционизма, обогащенная открытием заводов и фабрик, спекулировавшая на бирже и участвовавшая в избирательной борьбе, особенно чувствовала свою силу.
Очень характерен для того времени герой пьесы Скриба[162], поставленной в 1827 году, банкир Дорбеваль, по адресу которого говорится в пьесе: «Важнее ума — деловой ум». Дорбеваль даже и во сне занимается спекуляциями, помогает друзьям, умножает через них капитал и пользуется всеобщим уважением.
Однако политика Полиньяка не пощадила и буржуа. Воодушевленный взятием Алжира французскими войсками и видением девы-Марии, Полиньяк, опираясь на 14 статью хартии, составляет пять указов, по которым восстанавливается предварительная цензура, распускается палата, число депутатов ограничивается и коммерсанты и промышленники лишаются права голоса.
Буржуазия в остервенении, и рента летит вниз. 26 июля 1830 года редакторы всех газет, руководимые Тьером[163], подписывают протест против нарушения свободы печати. «Правительство нарушило закон, мы не обязаны более ему повиноваться… Мы будем стараться издавать газеты не спрашивая разрешения… Сегодня правительство утратило законность, которою приобретается повиновение. Мы будем ему сопротивляться…» Предложение Тьера ограничиться пассивным сопротивлением оказалось недействительным. Когда полиция насильственно попыталась закрыть газеты, на улицах начались волнения.
Полиньяк продолжал беседовать с видением пресвятой девы, а король благодушно охотился в Сен-Клу даже тогда, когда негодующая интеллигенция, рабочие, студенты, бонапартисты, карбонарии и республиканцы под водительством Годфруа Кавеньяка[164], присоединились к протесту прессы, но не пассивно, а выступив на улицы с готовностью сражаться на баррикадах. И только тогда командующий войсками Парижа, Мармон, сообщил королю: «Это уже не бунт, а революция». Но король был спокоен: «Полиньяк — говорил он, — видел пресвятую деву».
29 июля был занят восставшими Лувр, где засели королевские швейцарцы, Мармон отступил, и когда войско проходило по улице Риволи, открылось одно окошко, и в нем появилась голова Талейрана[165]: «Запомните, — сказал он, — сегодня, 29 июля 1830 года в 12 часов 5 минут дня, старшая линия Бурбонов перестала существовать во Франции».
Воспользовавшись стихийностью революционно настроенных масс, исполнительная комиссия по надзору за безопасностью лиц и имущества, собравшись в ратуше, передала военные полномочия Лафайету[166], еще сохранившему для парижских лавочников обаяние героя революции; на самом деле этот траченый молью старец в Июльскую революцию сыграл роль только речистого «генерала на свадьбе». Все было уже подготовлено в штабе банкира Лафита[167].
«Когда либеральный банкир Лафит, — говорит Маркс, — после Июльской революции торжественно провожал в рутушу своего кума герцога Орлеанского, он обронил слова: «С этого времени господствовать будут банкиры». «Королем Франции был провозглашен принц Орлеанский, Людовик-Филипп, с ограничением права изменять основные законы конституции, и к титулу «короля божьею милостью» было прибавлено: «и волею народа». На трон Франции взошел король-купец, но это была только декорация. «При Людовике-Филиппе господствовала… так называемая финансовая аристократия: банкиры, биржевые короли и часть объединившегося с ними землевладения: владельцы угольных копей, железных рудников и лесов. Она сидела на троне, она диктовала законы в палатах, она раздавала государственные должности, начиная с мест в министерствах и кончая местами в табачных бюро» (Маркс).
Вот тот исторический фон целого десятилетия, в течение которого из Оноре, юного писца у нотариуса, вырос замечательный писатель Франции Оноре де Бальзак. Естественно полагать, что в эти бурные и страшные годы должна была определиться его политическая физиономия, а поэтому кстати будет выслушать его политическое кредо, которое он излагает в самый яркий момент этого десятилетия, именно в 1830 году, в письме к Зюльме Каро, вероятно, вызванный ею на полемический тон:
«Франция должна быть конституционной монархией, иметь наследственную королевскую фамилию, исключительно мощную палату пэров, представляющую собственность и прочее, со всеми возможными гарантиями наследования и привилегиями, природа коих подлежит обсуждению. Затем второе собрание, выборное, представляющее все интересы промежуточной массы, которая отделяет высшие социальные слои от того, что называют народом. Большая часть законов и их дух должны стремиться к тому, чтобы возможно больше просвещать народ, людей, которые ничего не имеют, рабочих, пролетариев и т. д., с тем, чтобы довести возможно большее число людей до благосостояния, отличающего промежуточную массу, но в то же время надлежит держать народ под сильнейшим игом, чтобы люди из народа находили свет, помощь и защиту, но чтобы никакая идея, никакой распорядок, никакое соглашение не вызывали в нем беспокойства. Наибольшей свободой пользуется имущий класс, ибо у него есть нечто, что он должен сохранять, и, не желая потерять все, он никогда не возмутится.
Правительству — вся возможная власть. Таким образом правительство, богатые и буржуа заинтересованы в том, чтобы сделать низший класс счастливым и укрепить средний класс, на котором зиждется истинная мощь всякого государства. Если богатые люди, если владельцы наследственных состояний, сидящие в верхней палате, испорченные своими нравами, породят злоупотребления, — их все равно нельзя отделить от существования всего общества: надобно принимать их ради тех преимуществ, которые они дают. Вот мой план, моя мысль; она соединяет в себе хорошие и филантропические качества нескольких систем».
Это — скорее республиканско-империалистическая путаница, чем подлинный роялизм, роялизм активный, заставивший например Альфреда де Виньи в дни Июльской революции стать телохранителем экс-короля и сопровождать его в изгнание в Бельгию. Бальзак не мог не знать, какие серьезные события назревают в сердце Франции, и все-таки предпочел, выпустив «Сцены частной жизни», в мае 1830 года удалиться из Парижа в Турень, к мадам де Берни.
По своим политическим убеждениям Бальзак был типичным представителем буржуазии, который всегда стремился достичь аристократического положения и вульгарно говоря, не помешай ему писательский гений, он, быть может, в финансовом мире стал бы более громким именем, чем Ротшильд[168]. Типографские спекуляции — это было не простое увлечение, это был приступ деловой горячки, кризис которой всегда зависел от здоровой натуры его гения. Делая фантастические выкладки о своих будущих доходах с какого-нибудь спекулятивного предприятия, он мог вдруг залюбоваться прекрасным небом, бросить все и уехать в родной Турень, и оттуда бранить свою чернильницу и перо, за которое он брался иногда только ради денег.
Черт побери, — пишет он из Гренадьер Виктору Ратье[169], редактору «Силуэта», — мой добрый друг, мне думается, что литература в настоящее время — ремесло уличной девки, продающей себя за сто су: это не ведет ни чему, и у меня зуд пойти шляться по улицам, искать, делать из всего драму, рисковать жизнью, потому что не все ли равно — несколькими несчастными годами больше или меньше. О, когда видишь это прекрасное небо чудесной ночью, хочется расстегнуть штаны и помочиться на головы всех королевских величеств. С тех пор как я вижу здесь настоящее великолепие — красивый и вкусный плод, золотое насекомое, — я настраиваюсь крайне философически и поставив ногу на муравейник, говорю, как бессмертный Бонапарт: «Муравьи или люди… что они перед Сатурном или Венерой или перед Полярной звездой?»… И мне кажется, что океан, английский бриг или судно, которое надо потопить, рискуя утонуть самому, — это гораздо лучше чернильницы, пера и улицы Сен-Дени». Там же смиряются и его политические страсти, и в этом же письме, накануне революции, 21 июля, он пишет: «Я пришел к тому, что считаю славу, Палату, политику, будущее, литературу — всего-навсего пулями, которыми убивают бродячих и бездомных собак, и говорю: добродетель, счастье, жизнь — это рента в 600 франков на берегу Луары».
Сцены революции 1830 года
Бальзак накануне революции мечтает о ренте, а между тем мы знаем яркие примеры тому как другие писатели отнеслись к июльским событиям. Его же бывший друг Латуш, как только появился в газетах призыв прессы к неповиновению указам правительства, тотчас же покидает Ольне и едет в Париж, чтобы быть свидетелем событий, из которых, как он надеется, победительницами выйдут свобода и республика.
Обманутый в своих надеждах он пишет и выпускает в издании Леванесса «Баррикады 1830 года», где в восьми сценах, в сатирических тонах рассказывает о событиях 27 июля. Там есть сцены: в полицейской префектуре, в кафе у моста Сен-Мишель, на улице Сент-Оноре, на Монмартре, в гостинице на улице Сен-Доминик, где один рыцарь ордена святого Людовика предлагает снести все дома на улице Сен-Дени и в квартале Сен-Мартен, «чтобы устранить трудности».
В седьмой сцене Латуш, между прочим, набрасывает силуэт Бальзака и с некоторым коварством изображает его как человека, ничего не понимающего в трагических событиях, ищущего, за что бы более прочное и постоянное ухватиться, растерянного перед непостоянством идей и невразумительным брожением доктрин:
«— Что здесь такое происходит?
— Позвольте! Это господин… господин… ах, боже! Господин со второго этажа, который еще переехал, когда был такой сильный дождик. Вы же знаете, наш сосед, господин, господин…
— Этот маленький толстяк? У которого черные волосы и торчащий живот… Он дрессирует ласточку? Господин Бальзак!..
Бальзак вытирает лоб, держа в руке шляпу.
— Уф, какая жара! Ах, бедные жандармы! Вообразите, что я все видел: Пале-Рояль заперт с сегодняшнего утра, нет ни одной открытой лавки, забыли зажечь фонари, в окна стреляют из ружей, даже из пушек, по улицам бегают сумасшедшие, и со всех собак сняли намордники. Мы всё точно узнаем завтра утром, а пока я ложусь спать… Подумать только, что я нынче утром забыл налить ей воды в клетку!..»
Но это, конечно, только воображаемый портрет Бальзака на фоне июльских событий, а на самом деле в Париже в эти дни его не было. Бальзак отсиживается в тихом Турене, только осенью возвращается в Париж и почти исключительно посвящает себя журналистике. К этому времени начинает выходить основанная Шарлем Филиппоном «Карикатура», резко высмеивающая Людовика-Филиппа, который, с одной стороны, вынужден был внести в цензуру некоторые послабления, а с другой стороны, пытался обуздать прессу судебными процессами против редакторов, но это ему не удавалось. Вокруг «Карикатуры» сгруппировались лучшие молодые силы и между прочим замечательный художник Анри Монье. Текст первого номера, который появился 4 ноября 1830 года, целиком принадлежит Бальзаку, и так в каждом номере вплоть до февраля 1831 года.
Помимо сотрудничества в «Карикатуре» и в «Фельетоне политических газет», а также оставляя в стороне его крупные литературные произведения, Бальзак за 1830 и 1831 годы написал 105 больших статей и очерков. К числу их относятся юмористические очерки о жизни Парижа и его обитателей, зарисовки типов: мальчик-посыльный, гризетка, депутат, провинциал, банкир, клакер и другие; физиологии: туалета, гастрономии, должностей, сигары.
В 1831 году он много пишет на политические темы; последнее вызвано было не темпераментом политика, а простой заинтересованностью в том, чтобы в этом отношении на него было обращено внимание, на тот случай, когда он выставит свою кандидатуру в депутаты палаты, каковым он преднамерился стать для «положения в обществе». В этих статьях он старается доказать, что партийные раздоры расшатывают государственный организм, что Людовик-Филипп показал себя слабым правителем, и таким образом объявляет себя сторонником прежней династии. Он даже пишет с этой целью брошюру «О политике двух министерств». Брошюра имеет успех у журналистов, о ней появляются отзывы в газетах.
Свою кандидатуру в палату Бальзак решает выставить в Камбре, где у него имеется приятель Берту, владелец «Газетт де Камбре». Этот Берту, по просьбе Бальзака, поместил о нем статью в своей газете, но на всякий случай Бальзак пишет еще генералу де Померейлю, прося выставить его кандидатуру в Фужере. Генерал отвечает, что надежды на удачу очень мало. Бальзак пытается заручиться голосами в департаменте Эндр-э-Луар через знакомого адвоката в Туре, но и тут дело оказывается совершенно безнадежным. Старается его утешить один только Берту, который однако в решительный момент поддерживает в своей газете некоего негоцианта.
Наряду с журнальными статьями Бальзак печатает в «Ревю де Пари» и «Ревю де дэ монд» свои беллетристические вещи — «Эликсир долголетия» и некоторые новеллы, которые впоследствии вошли в «Тридцатилетнюю женщину». Работа часто заставляла Бальзака подолгу уединяться в квартире на улице Кассини, но он все же находил время появляться в свете. В этот период Бальзак нередко предавался рассеянию, даже беспутству — завтраки в кабачках, ночи, проведенные на балах в опере, оргии в обществе Акилин, Флорин и Корали. Фигура его становится заметной в театрах, в кафе, в модных ресторанах, на него указывают пальцами и называют его имя рядом с именами знаменитостей парижского Бульвара.
Несомненно, что материал для описания литературного пиршества в доме Тайльфер почерпнут им из собственных беспутных дней. «Взглянуть в этот момент на гостиную значило увидеть нечто, подобное Пандемониуму Мильтона[170]. Голубоватые огни пунша адским светом окрашивали лица тех, кто еще мог пить. Безумные танцы, одушевленные дикой энергией, вызывали хохот и крики, вспыхивавшие, как взрывы фейерверка. Будуар и малая гостиная, заваленные мертвыми и умирающими, являли вид поля сражения.
Атмосфера была горяча от вина, наслаждений и слов. Опьянение, любовь, бред, забвение мира были в сердцах и на лицах, были написаны на коврах, выражались в беспорядке, и на все взоры набросили они легкие покровы, сквозь которые можно было в воздухе видеть опьяняющие пары… Там и сям группы тел, брошенных одно на другое, сливались с белым мрамором, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнату…»
Такова была ночь, но и утро было не менее кошмарно: «…Наутро, около полудня, прекрасная Акилина поднялась, зевая, усталая, со щеками, испещренными отпечатками табурета с узорчатым бархатом, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движением, подруги, сразу вскочила и хрипло вскрикнула; ее миловидное лицо, такое белое, такое свежее накануне, было желтым и бледным, как у девушки, которая идет в больницу. Понемногу все гости зашевелились, испуская мрачные стенания: они чувствовали, что руки и ноги их окостенели…»
Эти строки взяты из романа «Шагреневая кожа», который появился в августе 1831 года и произвел в обществе впечатление разорвавшейся бомбы. Теофиль Готье, сам переживший это впечатление, пишет о романе: «Бальзак, чувствовавший действительность своим, глубоким инстинктом, понял, что современная жизнь, которую он хотел описать, управляется великим фактором — деньгами, и в «Шагреневой коже» он имел смелость вывести любовника, занятого не только тем, тронул ли он сердце любимой женщины, но и тем, хватит ли у него денег, чтобы заплатить за ее карету. Это было величайшей смелостью, которую себе позволили в литературе, и ее одной было бы достаточно, чтобы обессмертить Бальзака. Впечатление было потрясающее, и пуристы возмутились этим нарушением законов жанра, но все молодые люди, которые, отправляясь на вечер к своим дамам, в белых перчатках, вычищенных карандашной резинкой, проходили по Парижу как танцоры, на цыпочках, боясь комочка грязи больше, чем пистолетного выстрела, — эти молодые люди сочувствовали мучениям Валантена, так как сами их пережили, и живо заинтересовались его шляпой, которую он не может сменить на новую и охраняет с такой поразительной тщательностью.
В дни крайней нужды находка одной монетки в сто су, сунутой между бумагами в ящик стыдливым состраданием Полипы, производит гораздо более романтический театральный эффект, чем появление пери в арабских сказках. Кто из нас не обнаруживал, в момент отчаяния, в кармане брюк или жилета, благословенный экю, появившийся как раз кстати и спасающий нас от несчастья — которого больше всего боится молодежь — очутиться в глупом положении перед любимой женщиной из-за кареты, букета, скамейки для ног, программы спектакля, чаевых или других пустяков в том же роде?»
Готье совершенно правильно отмечает, что в «Шагреневой коже» величайшей смелостью было показать деморализующее влияние денег на личную жизнь молодого человека этой эпохи, не лишенного тех способностей, которые при иных условиях могли бы дать ценные результаты. Но Бальзак гораздо шире и глубже поставил проблему значения этого нового фактора жизни и показал нам воистину страшную картину не личного, а общественного разврата, который воцарился в Париже с победоносным пришествием на арену политической жизни финансовой буржуазии, в роли полновластного хозяина. Французский читатель тогдашних газет и журналов мог еще верить, что их витии рождаются искренними убеждениями и страстями, но, после того как появилась «Шагреневая кожа», для него стало ясно, что красноречие и вдохновение газетчиков зависят не от убеждений, а целиком от кошелька редактора, банкира, депутата, писателя или любого обывателя, и нет такой клеветы, которая не могла бы появиться в печати, если за нее платят большие деньги.
Таким образом и в литературном смысле «Шагреневая кожа» является первым замечательным произведением, в котором поставлена тема Парижа, «города скорби», скорбь которого угадал, подслушал и увидел еще юный Оноре с мансарды на улице Ледигьер. Эта тема в будущем объединяет почти все произведения Бальзака, и если он назвал их «Человеческой комедией», в соответствии с «Божественной комедией» Данте[171], то эта человеческая комедия происходит не где-нибудь, а в Париже: в предместье Сен-Жермен, на Шоссе д'Антен и в рабочих предместьях, так же как действие божественной комедии происходит в раю, в чистилище и в аду.
В успехе последних произведений Бальзака немалую роль сыграли и «Сцены частной жизни». Под этим названием были объединены рассказы из жизни самых обыкновенных людей. В то время как Гюго подготовлял к печати «Собор Парижской богоматери», где главным действующим лицом является средневековый собор, а человеческие добродетели облечены в безобразную маску Квазимодо, дианину красоту Эсмеральды и в аполлоново совершенство офицера Феба, Бальзак просто и бесхитростно изображал жизнь обыкновенных людей, которые проводят свои дни не в храмах, а в обыкновенных и порой довольно неопрятных жилищах, спят на непроветренных постелях, едят обыкновенную пишу, и если они радуются, страдают, ненавидят и любят, то все эти страсти Бальзак не возводит в степень страстей, которые должны потрясти весь мир. Этим изображением жизни своих героев Бальзак приближает к ним читателя. Героем литературы становится обыкновенный человек.
Внимание Бальзака к специфическим мелочам жизни замужней женщины, которой он отдает большое место в своих произведениях, послужило поводом к тому, что Бальзак стал получать анонимные письма от женщин с разными вопросами, упреками, восторгами и восхищениями. Одно из таких писем он получил от маркизы де Кастри, которая упрекала его за поругание женщины в «Физиологии брака» и восхищалась другими его произведениями. Письмо это она отправила ему, не будучи еще знакомой с писателем, тоже анонимно. Однако, инкогнито было вскоре раскрыто, и Бальзак стал бывать у маркизы. Кстати сказать, это была по-настоящему знатная дама, не в пример д'Абрантес, и это, конечно, импонировало Бальзаку.
Маркиза де Кастри
Клер-Клеманс-Анриэтт-Клодин, маркиза (потом герцогиня) де Кастри была дочерью Майе-де-ла-Тур Ландри и его жены, урожденной Фиц-Джемс, из дома Стюартов. Ее дядя, герцог Эдуард де Фиц-Джемс, состоял пэром Франции с 1814 года, а после Июльской революции, хотя и присягнул Людовику-Филиппу, продолжал оставаться сторонником Бурбонов и руководил партией роялистов. Двадцати лет, в 1816 году, маркиза вышла замуж за маркиза де Кастри, но брак ее оказался несчастливым, и она нашла утешение в Викторе Меттернихе, сыне знаменитого дипломата. Связь эта кончилась вдвойне трагически: однажды на охоте маркиза, зацепившись амазонкой за дерево, упала с лошади на спину и перебила себе позвоночник, а Виктор Меттерних вскоре после этого события умер от туберкулеза, оставив ей сына Роже, получившего впоследствии от австрийского императора титул барона Альденбурга.
На миниатюре того времени маркиза изображена с прической тридцатых годов в виде сложного сооружения из локонов, хорошенькая, улыбающаяся, несколько конфетная. «В двадцать лет, во всем великолепии своей свежести и красоты, она появлялась в салонах, в алом платье, спадавшем с плеч, достойных кисти Тициана[172], и буквально затмевала собою блеск свечей». В таких витиеватых выражениях Филарет Шаль[173] изображает эту красавицу, и тут же называет ее «элегантным полутрупом», то есть тем, что представляла собой маркиза к моменту знакомства с Бальзаком. Тогда она уже удалилась от света и по болезни, и отчасти из-за скандального прошлого.
Блеск титулов и гербов салона маркизы снова вызывает в Бальзаке приступы крайнего роялизма, — может быть, только ради угодничества перед маркизой, которое выражается в том, что он начинает печататься в альманахе «Изумруд» в декабре 1831 года, где опубликован отрывок «Отъезд» — отъезд Карла X в Шербург. Описание сделано в стиле Шатобриана, с восхвалением королевской власти.
Осенью этого года Бальзак на короткое время покидал Париж и жил в Саше. Там он блистал в местном обществе, волочился и даже подумывал о женитьбе на баронессе Каролине Дербук.
В декабре он возвращается в Париж; денег опять нет, и, также внезапно, как роялизмом, он снова заболевает приступами коммерческой болезни. Возникает очередной проект: издавать дешевую серию романов по 8 томов в месяц за 124 франка в год, крупным тиражом. Об этом проекте Бальзак рассказывает Жирардену, но тот его не одобряет. Тогда Бальзак едет в Ангулем и пытается склонить к своему предприятию своих друзей, супругов Каро, но и это ему не удается; он снова возвращается в Париж.
Литературная работа Бальзака в этом году направлена по линии новелл. Статьи в журналах становятся реже, только в «Карикатуре» и в начале 1832 года в новом журнале «Артист» печатается «Полковник Шабер». Интрига с маркизой де Кастри увлекает Бальзака. Он часто бывает у нее. Одно из этих свиданий он описывает так: «Он увидел свою воздушную сильфиду в коричневом кашемировом пеньюаре, который изысканно облекал ее своими пышными складками; она томно лежала на диване в темноте будуара. Госпожа де Ланже даже не встала ему навстречу, она приподняла только голову; ее небрежную прическу поддерживал вуаль. В дрожащем полусвете единственной свечи, поставленной вдали от нее, она дала ему знак сесть рукой, которая показалась де Монриво белой, как мрамор, и промолвила голосом столь же мягким, как и освещение: «Если бы это были не вы, господин маркиз… я бы не приняла вас».
Прообразом герцогини де Ланже, как известно, послужила маркиза. Маркиза принимала его так не только ради одного кокетства, но и потому, что действительно в то время долго не могла сидеть и быстро утомлялась. Впоследствии Бальзак беспощадно разоблачает холодное кокетство герцогини де Ланже-Кастри, поняв, что она смотрела «на страсть этого действительно большого человека, как на забаву для себя, как на заполнение своей незаполненной жизни». Но тогда Бальзак был искренно увлечен маркизой.
Бальзак находит время показываться в свете, где блистает своими разговорами или, вернее сказать, монологами. «Какой ум устоял бы перед обаянием его слов? Никто, кроме Бальзака, — вспоминает Теофиль Готье, — не обладал таким даром трогать, возбуждать и опьянять самые холодные головы, самые спокойные умы. У него было безудержное, бурное, увлекательное красноречие, которое захватывало кого угодно.
Бальзак не был тем, что называют «интересным собеседником» (causeur) — остроумно отвечающим, бросающим в споре меткое и решительное слово, перебрасывающимся в разговоре с одного предмета на другой, с легкостью касающимся всего и не заходящим дальше полуулыбки, — у него было неотразимое воодушевление и красноречие, и, так как каждый замолкал, чтобы его слушать, то с ним, ко всеобщему удовлетворению, беседа быстро переходила в монолог.
Точка отправления скоро забывалась, и он переходил от анекдота к философскому рассуждению, от наблюдения нравов к описанию местности; по мере того, как он говорил, краски на его лице оживлялись, глаза начинали сиять нестерпимым блеском, голос принимал различные оттенки, и иногда он принимался хохотать до упаду над смешными вещами, которые он видел, еще не описав их. Этим своеобразным трубным звуком он возвещал о появлении своих карикатур и шуток, и вскоре все присутствующие начинали разделять его веселье.
Несмотря на то, что это была эпоха мечтателей, растрепанных, как плакучая ива, слезливых юношей и разочарованных байронистов, — Бальзак обладал той мощной и грубоватой жизнерадостностью, которая, как говорят, была у Рабле и которую Мольер проявлял только в своих произведениях. Широкая улыбка, расцветавшая на его чувственных губах, была улыбкой добродушного бога, которого забавляет представление человеческих марионеток и который ничем не печалится, потому что понимает все и видит все вещи сразу с обеих сторон. Ни заботы, вызывавшиеся часто затруднительным положением, ни денежные неприятности, ни усталость от чрезмерной работы, ни монашеское уединение для трудов, ни отречение от всех радостей жизни, ни даже болезнь не могли победить этой геркулесовской жизнерадостности, — одной из самых замечательных черт Бальзака.
Кроме того, у Бальзака были все данные большого актера: он обладал полным, звучным, металлическим голосом богатого и мощного тембра, которым он умел владеть, делая его, когда нужно было, очень нежным, и читал он чудесно — талант, которого недостает большинству актеров.
Все, что он рассказывал, он играл, — с интонациями, с гримасами и с жестами, непревзойденными никем из известных мне актеров… Автор «Озорных сказок» был слишком пропитан Рабле и слишком пантагрюэлист, чтобы не посмеяться вволю; он знал хорошие анекдоты и сам придумывал их: его жирные вольности, изукрашенные крепкими словечками, шокировали бы потрясенного обывателя; но его улыбающиеся и болтливые губы были запечатаны, как гробница, когда заходил разговор о серьезном чувстве…».
Именно таким его можно было видеть в квартире Жорж Санд и Жюля Сандо[174], «любовников, живших на верхнем этаже на набережной Сен-Мишель, гордых и счастливых, с которыми пытается поссорить Бальзака Латуш — «самый злой из наших современников, бывший мой приятель, один из самых обворожительных, но самых скверных людей», как писал о нем Бальзак спустя год.
Одевается Бальзак шикарно — всевозможные жилеты и панталоны самых невероятных цветов; у него уже есть кабриолет и тильбюри и две лошади, Смоглер и Бритон, за которых он заплатил так дорого, что постоянно трясется над ними. Прислуга его многочисленна: кухарка Роза и два лакея, Паради и Леклерк.
Таким образом зависть к бухгалтеру газеты «Фигаро», который ездил на собственных лошадях и имел две прислуги; в то время как Бальзак ходил пешком, была изгнана навсегда из сердца знаменитого писателя. На лакеях были синие ливреи с галунами и пуговицами, на которых был уже изображен герб Бальзаков д'Антрэг, — Бальзак к этому времени прибавил к своей фамилии частицу «де».
По поводу этого вспоминаются слова Данте: «Достоинство происхождения можно сравнить с плащом, который изо дня в день укорачивается ножницами времени, если тот, кто носит этот плащ, ничего к нему не прибавляет от самого себя» («Рай», песня XVI). Можно сказать с уверенностью, что Бальзак накинул на себя плащ именитого дворянина, уже обрезанный временем выше колен.
Квартира Бальзака на улице Кассини становится настоящей бонбоньеркой. Жорж Санд вспоминает, что там «стены были обтянуты шелком и украшены кружевами, и всюду ковры». Почти каждый вечер Бальзак посещает театр. У него ложа у Итальянцев и в Опере, так называемая «инфернальная ложа», где собираются львы высшего света и Бульвара. В этой ложе все старались во что бы то ни стало быть оригинальными. Посетители этой ложи придумывают специальную манеру аплодировать и носят в петлице белую камелию, но ведут себя не особенно пристойно: хлопают дверями и громко разговаривают во время действия. О них даже распространили слух, что ими заказаны у инженера Шевалье лорнеты, увеличивающие в 32 раза и позволяющие видеть балерин насквозь.
В антрактах, а также и во время действия, все собираются в фойе, где мужчины встречаются с куртизанками, которые сравнительно недавно стали показываться в свете. После спектакля едут ужинать в ресторан. Бальзак веселится без удержу и за такое поведение получает письменный выговор от госпожи Деланнуа, своей благодетельницы, которой он постоянно был должен какую-нибудь порядочную сумму.
Эти увеселения воистину напоминали пир во время чумы, ибо в ту трагическую весну 1832 года в Париже царил террор.
Уже давно сообщали о приближении холеры. Она шла из Азии и России, и шла медленно — в ту эпоху плохой транспорт затруднял распространение эпидемий. Генрих Гейне[175], находившийся тогда в Париже, был свидетелем этого бедствия и описал его не как протоколист, а как художник, со всеми свойственными ему приемами мастера.
«… При огромной нужде, которая здесь царит, при колоссальной нечистоплотности, которую можно найти не у одних только беднейших классов, при чувствительности этого народа вообще, при его безграничном легкомыслии, при полном отсутствии средств сообщения и мер предосторожности, холера должна была распространиться здесь гораздо скорее и шире, чем где бы то ни было.
Ее появление стало официально известным 29 марта, и так как это был день масленицы и погода была солнечная и мягкая, то парижане весело высыпали на бульвары, и там можно было увидеть даже маски, которые в пестром и карикатурном виде высмеивали страх перед холерой и самую болезнь.
В тот вечер танцульки были полны народа; задорный смех заглушал самую громкую музыку, парижане воспламеняли себя канканом, танцем весьма недвусмысленным, и поглощали при этом мороженое и всякие холодные напитки; как вдруг самый веселый из арлекинов почувствовал в ногах чрезмерный холод, снял маску и перед пораженными взорами всех предстало лиловое, как фиалка, лицо. Вскоре поняли, что это не шутка, смех замолк, и в нескольких, битком набитых, каретах публика отправилась из танцульки в Отель-дье, центральную больницу, где все умерли на месте, как были, в своих маскарадных костюмах. Так как в первом смятении убоялись заразы и старожилы Отель-дье подняли отчаянный вопль, то этих мертвецов, как говорят, так поспешно похоронили, что даже не успели снять с них пестрой шутовской одежды, и они лежат в могиле такие же веселые, как и жили…
— …Скоро нас всех, одного за другим, зашьют в мешок» — со вздохом говорил мне каждое утро мой слуга, сообщая о числе умерших или о кончине какого-нибудь знакомого. И этот мешок не был словесным образом: скоро не хватило гробов, и большую часть покойников хоронили в мешках.
Когда я на прошлой неделе проходил перед одним большим магазином и увидел в громадном зале веселый народ, прыгающих, бодреньких французиков, миленьких болтливых француженок, которые, смеясь и шутя, делали закупки, то я вспомнил, что здесь во время холеры, высокой горой наложенные друг на друга, стояли сотни белых мешков с трупами, и здесь были слышны немногие, но зато роковые голоса — сторожей, которые с жутким равнодушием по счету сдавали свои мешки гробовщикам, а эти, грузя мешки на повозки, повторяли себе под нос число или же громко ругались, что им недоложили одного мешка, причем нередко возникала драка.
Я помню, как два маленьких мальчика с опечаленными лицами стояли возле меня, и один из них спросил, не могу ли я ему сказать, в котором мешке его отец?
…Внезапно распространился слух: все эти люди, которые так поспешно были похоронены, умерли не от болезни, а от яда. Яд, дескать, прибавляли ко всем продуктам, на овощных рынках, у пекарей, у мясников, у винных торговцев. Чем нелепее были эти россказни, тем с большей жадностью набрасывался на них народ, и даже скептики вынуждены были поверить, когда появилось сообщение полицейской префектуры.
Полиция рассчитывала отвратить народный гнев по крайней мере от правительства: достаточно того, что благодаря ее злополучному сообщению, в котором она ясно говорила, что напала на след отравителей, роковой слух официально подтвердился, и весь Париж охватило ужасающее смятение. Казалось, наступил конец света. В особенности на углах улиц, где стоят красные винные будки, люди собирались группами и совещались, и именно там обыскивали подозрительных людей, и горе им, если находили у них в карманах что-нибудь недозволенное. Как дикие звери, как сумасшедшие нападали на них люди.
На улице Вожирар, где убили двоих, имевших при себе белый порошок, я видел одного из этих несчастных; он еще дышал, а старухи скинули с ног деревянные башмаки и били его до тех пор по голове, пока он не умер…
…Куда ни глянешь на улицу, всюду видишь похоронное шествие или, что еще грустнее, гроба, за которыми никто не следует. Так как катафалков не хватало, то пришлось пустить в ход всякие другие повозки; покрытые черным сукном, они выглядели довольно странно. Под конец не хватило и их, и я видел гроба на извозчичьих каретах; их клали посредине, и оба конца торчали из боковых открытых дверок. Было ужасно смотреть, как большие мебельные фуры, предназначение для переезда с квартиры на квартиру, теперь приценялись в качестве омнибусов для покойников, — на них грузили, подбирая на разных улицах, гроба и дюжинами отвозили их на кладбище…».
Несмотря на такие ужасы, Бальзака не оставляет веселое расположение духа. К де Кастри он ходит чуть ли не каждый день. Чтобы понравиться своей возлюбленной, он усиленно подчеркивает свои легитимистские убеждения. Выходит еще один роялистский альманах «Сапфир», и в него Бальзак дает «Отаз, сцену из французской истории». В мае он печатает в «Реноватере» «Жизнь одной женщины», то есть герцогини Ангулемской, и ряд статей о положении партии роялистов — настоящее кредо легитимиста, где утверждает, что нужно принять две основных догмы: бога и короля.
Бальзак считает, что легитимисты не должны пользоваться восстаниями и гражданскими войнами, их орудие — пресса и трибуна. Роялистское рвение Бальзака поддерживают его новые друзья, маркиза де Кастри и ее дядя, герцог де Фиц-Джемс. Но, с другой стороны, мадам де Берни, больше из ревности, чем по убеждениям, и мадам Каро недовольны Бальзаком и шлют ему осуждающие письма.
Бальзак часто отлучается из Парижа и посещает Саше. «Саше, — говорит он, — остатки замка на Эндре, в одной из самых прелестных долин Туреня. Владелец его, человек пятидесяти пяти лет (господин де Маргонь), когда-то нянчил меня на своих коленях. У него есть жена, несносная ханжа, горбатая, неумная. Я езжу туда для него, и там я свободен. Меня принимают как ребенка; там я ничего собой не представляю и счастлив там жить как монах в монастыре.
Я всегда езжу туда, чтобы обдумать какое-нибудь серьезное произведение. Небо там так ясно, дубы так прекрасны, там такая огромная тишина! В одной миле оттуда находится прекрасный замок Азе, построенный Самблансе[176], одно из самых чудесных произведений нашей архитектуры. Дальше — Юссе, столь известный по роману «Маленький Жэан из Сантре». Саше расположен в шести милях от Тура».
В Саше летом 1832 года Бальзак усиленно работает над романом «Луи Ламбер», полагая, что пишет величайшее свое произведение. На самом деле это была одна из тех неудачных вещей, к которым относится большинство его так называемых философских произведений. «Луи Ламбер» ценен только в той части, где Бальзак очень точно и подробно описывает быт Вандомского училища.
Французская критика встретила эту книгу насмешками, и успех она имела только у глубокомысленных немцев. Впоследствии и сам Бальзак признал этот роман «самым жалким из недоносков», но писал он его мучительно и даже занемог от работы; у него, — по его словам, — открылись желудочные боли до судорог.
Во время отъездов из Парижа дом на улице Кассини ведет мать, и расходы там огромны. Мать пишет ему только о деньгах, и это ужасно его раздражает. Ему надоедает сидеть в Саше, и он собирается ехать в Экс, где находится маркиза. Но пока что он отправляется в Ангулем. Редакции и издатели денег не платят, и он просит мать сделать крупный заем. Деньги дает опять госпожа Деланнуа. Бальзак снова весел и всех веселит в Ангулеме.
К этому времени, невидимому, относится следующий рассказ. Бальзак одевается в длинную, широкую черную сутану, сжимает свою мощную шею воротничком из тонкого белого полотна, надевает на голову черную бархатную скуфью с тремя рогами. В этом костюме он играет на бильярде. Вдруг открывается дверь и входит гость. Увидя этот персонаж XVI века, с румяным, улыбающимся лицом, пришедший останавливается на пороге, потрясенный, и уходит, с шумом захлопнув дверь. Во дворе порохового завода он встречает господина Каро.
— У меня, — говорит он, — была сейчас странная галлюцинация: войдя к вам, я увидел Рабле, поглядевшего на меня с дьявольским смехом.
— Хотите посмотреть на него поближе? — спрашивает смеясь, Каро.
— Спасибо, идемте к вам в контору, — я ни за что на свете не войду к вам».
В Саше Бальзак пишет «Покинутую женщину», «Гренадьер», снова принимается за «Озорные сказки» и опять завязывает сношения с журналами «Ревю де Пари» и «Ревю де дэ монд», которые делают ему авансы, но только, увы, не денежные.
В августе 1832 года он отправляется, наконец, в Экс, в обыкновенном дилижансе. Маркиза сняла для него хорошенькую комнатку. Там тихо, кругом зелень. Бальзак набрасывается на работу и посещает герцогиню только вечером. О своей жизни в Эксе он пишет в полушутливом тоне Каро, дом которых в Ангулеме так недавно покинул: «…меня заставляют лазить по горам в Эксе, в Савойе, гоняться кое за кем, кто, быть может, смеется надо мной: за одной из тех аристократок, от которых вы, без сомнения, в ужасе, — этакая ангельская красота, которой приписывают прекрасную душу, настоящая герцогиня, очень недоступная, очень любящая, тонкая, остроумная, кокетливая, — ничего подобного я еще не встречал. Этакий ускользающий феномен. И она говорит, что любит меня, хочет спрятать меня в глубине дворца в Венеции и хочет, чтобы я писал для нее одной.
Одна из тех женщин, которых нужно непременно обожать на коленях, когда они этого хотят, и победить которых доставляет такое наслаждение, — женщина мечтаний, ревнивая ко всему на свете.
Ах, лучше было бы сидеть в Ангулеме, на пороховом заводе, очень благоразумно, очень спокойно, слушать, как вертятся мельницы, наедаться трюфелями, учиться у вас, как делать шар в лузу, и смеяться, и разговаривать… чем терять и время, и жизнь!».
Любовь к маркизе все больше и больше разгорается, а маркиза продолжает кокетничать. Бальзак очень заботится о своей наружности и просит мать присылать ему всякие духи и помады. Герцогиня подает ему надежды, они делают совместные длительные прогулки, и едва ли он много работает, хотя только и пишет матери, что о своих неустанных трудах. Он собирается ехать с маркизой и ее дядей в Италию, и действительно едет.
В начале октября они отправляются в Женеву. Там-то и происходит драма: маркиза вдруг делается холодной, у нее такой вид, как будто между ними никогда ничего не было. Бальзак отказывается ехать в Италию и возвращается не в Париж, а к мадам де Берни.
«Я ненавижу госпожу де Кастри, — писал впоследствии Бальзак, — потому что она разбила мою жизнь и не дала мне другой, хоть сколько-нибудь похожей на прежнюю, и не дала того, что обещала. Здесь нет ни тени оскорбленного самолюбия, а только отвращение и презрение». Но отвращение и презрение могли прийти только потом, а в тот день, когда он покинул Женеву, им могло владеть либо отчаяние из-за разбитой жизни, либо жажда мести за оскорбленное самолюбие. Отчаяния Бальзак никогда и ни в каких случаях жизни не испытывал, но самолюбив был до беспредельности, и признанию его не следует верить — художник Буланже в своем портрете не преувеличил гордости этого человека.
Уехав сейчас же после женевской катастрофы к мадам де Берни, Бальзак, видимо, искал покоя, но этот покой был чисто внешнего порядка — в этом покое таились новые бури и трагедии. «Я никогда не был счастлив, — говорит Бальзак, — ибо разве это счастье — видеть, как невыразимо страдает мадам де Берни от разницы наших возрастов и все время старается ее побороть?..»
В мадам де Берни он встретил всепрощающее чувство состарившейся любовницы, к плечу которой склонил голову молодой любовник, утомленный страстью и мечтающий о молодой, красивой женщине.
Труды и дни
Объявив себя, особенно решительно в 1831 году сторонником роялистов, Бальзак и тогда не оказался в числе их активных деятелей и все время держался в зоне сочувствующих этой политической касте, а в 1832 году его политические выступления в прессе идут уже на убыль, несмотря на то, что не только в Париже, но и отголосками по всей Франции, вновь начинали вспыхивать восстания, ибо политические страсти ни на минуту не утихали. Мы знаем например два описания холерных волнений в Париже: Генриха Гейне и австрийского посла Аппоньи, и ни в одном не находим политической окраски. А между тем даже и в этих бунтах, являющих собою картины животной паники перед страшным лицом грядущей смерти, можно было бы усмотреть, хотя и в гротескных чертах, исконную рознь классов.
Удар колокола в ночь на 1 января 1832 года на соборе Парижской богоматери дал сигнал к началу нового восстания. Но неудача его была предрешена, ибо у власти стоял министр Казимир Перье[177], член «партии сопротивления», который хотя и был прежде в оппозиции к клерикально-феодальному королю Карлу X, но в то же самое время нисколько не сочувствовал революции, и ее плодами воспользовался только в интересах буржуазии. Его цель была деловая — закрепить власть своего класса, положив конец демократическому движению, и сохранить мир с другими державами, отказавшись от поддержки зарубежных революций.
В стране наступило так называемое успокоение. Был закончен период беспрерывных войн и захватнических авантюр, и вся энергия устремлена к накоплению денег, а соответственно с этим, и к устройству материального быта и житейского уюта. И роялист Бальзак, будучи по своим политическим убеждениям врагом новой власти, не преминул, сам того не зная, косвенным порядком воспользоваться плодами политики своего классового друга, министра Казимира Перье, и устроил свою жизнь так, как этого требовали законодательные вкусы правящего класса.
Войдем в жилище Бальзака. «Главный вход закрыт железной решеткой, рядом с которой открывается маленькая калитка, как раз против ворот женского монастыря… Жилище Бальзака можно сравнить с домом провинциального буржуа; расположено оно между двором и садом. Два хорошеньких флигеля с окнами на запад, двухэтажные, с остроконечными крышами, выдаются на четыре метра в большой двор, отделенный от обширного сада низкой стеной, на которой расставлены горшки с цветами. От фундамента левого флигеля поднимается лестница, ведущая в первый этаж, в застекленную галерею, которая соединяет оба флигеля и служит прихожей или залой ожиданий. Галерея вела в маленькую гостиную, площадью в пять квадратных метров освещенную с востока окном, которое выходило во дворик соседнего дома. Напротив входной двери был камин из черного мрамора. Из этой маленькой гостиной вы проходили в рабочий кабинет. Рядом была спальня писателя; справа от гостиной находилась столовая, а из нее, по особой лестнице, можно было спуститься в кухню.
Таково было распределение комнат неправильной формы, из которых состояла эта странная и причудливая квартира… Теперь я попытаюсь, совсем как оценщик, описать всего две комнаты — рабочий кабинет и ванную; этого будет достаточно, чтобы составить себе приблизительное понятие о стиле меблировки остальных комнат. В гостиной, слева, между окном и стеной, скрывалась за занавеской маленькая потайная дверь, ведущая в ванную комнату, стены которой были выкрашены в белый цвет под мрамор. Там стояла белая мраморная ванна. Комната освещалась сверху большим окном, матовые красные стекла которого наполняли ее розоватым светом. Два стула с высокими спинками, обитые красным сафьяном, составляли единственную меблировку этой элегантной ванной, во всем достойной хорошенькой женщины.
Пройдем теперь, не останавливаясь, через рабочий кабинет, где мы отдохнем на обратном пути, и войдем в спальню молодого литератора, уже начинающего расправлять крылья в фантастической сфере роскоши и причуд. Войдя в эту спальню, вы останавливаетесь, пораженный. Два окна заливают ее морем света: одно выходит на юг, с видом на служебные помещения Обсерватории, а другое, на западе, открывается в огромный сад с цветами, фруктовыми деревьями и таинственной тенью. Эта комната была обставлена с тем вкусом, с тем богатством и роскошью, о которых можно составить себе представление, прочтя ниже описание рабочего кабинета писателя на улице Батайль, в Шайо. Достаточно сказать, что она была вся белая с розовым, наполненная ароматом самых редких, самых нежных цветов, вся залитая солнцем. Это была настоящая брачная комната пятнадцатилетней герцогини.
Прибавлю только, как верный и правдивый историк, одну подробность, очень характерную для автора «Озорных сказок»: в головах кровати, в густых складках розового и белого муслина, скрывалась еле заметная потайная дверца, выходившая напротив двери в столовую, которая, как я уже сказал, вела прямо в кухню, а оттуда во двор.
Пойдем теперь отдохнуть в рабочий кабинет нашего хозяина; его нет дома, и мы можем спокойно там посидеть… Этот кабинет представлял собой длинную комнату, площадью около шести метров на четыре; как и маленькая гостиная, он освещался двумя окнами, выходившими во двор соседнего владения, где был очень высокий дом, так что ни один солнечный луч никогда не проникал туда, и даже в самые ясные дни кабинет был погружен в полумрак. Против входной двери был небольшой мраморный камин. Справа — дверь в спальню. Меблировка была очень простая. Толстый, мягкий ковер, черный с голубым, покрывал паркет. Очень красивый книжный шкаф черного дерева, с большими панелями, украшенными зеркалами, с искусной резьбой, занимал все пространство между входной дверью и дверью в спальню.
Этот великолепный книжный шкаф содержал коллекцию редких и ценных книг, в роскошных переплетах из красного сафьяна, с гербами д'Антрэгов на крышках и корешках… Коллекция французских классиков, кое-какие латинские авторы и всего несколько разрозненных томов наиболее знаменитых из наших современных писателей. Там можно было заметить также любопытное собрание почти всех авторов, которые, как Сведенборг[178] (восторженным поклонником его объявлял себя Бальзак), писали о мистицизме, об оккультных науках и о религиозных верованиях всех народов. Напротив книжного шкафа, в простенке между окнами, возвышалась большая этажерка для бумаг, точно также из резного черного дерева, а в ней — папки из красного сафьяна с золотыми буквами. На этой этажерке стояла на высоком цоколе гипсовая статуэтка, около полуметра в высоту, изображавшая императора Наполеона I… На маленьком клочке бумаги, двух сантиметров в длину и одного в ширину, были написаны рукою неутомимого романиста следующие слова: «Чего он не мог завершить мечом, я осуществлю пером. Оноре де Бальзак».
На камине, украшенном зеркалом средней величины, стоял будильник из матовой бронзы и две фарфоровые вазы коричневого цвета. По обеим сторонам зеркала висели тысячи безделушек, целый арсенал нелепых, пестрых женских пустяков: вытертая перчатка, как будто снятая с детской руки, крохотный атласный башмачок, когда-то белый, который едва ли пришелся бы впору какой-нибудь андалузской маркизе; затем миниатюрный железный ключик, весь покрытый ржавчиной. Когда я спросил как-то Бальзака о его происхождении, он ответил мне, что это — его талисман, и он очень дорожит им. Была там, наконец, небольшая картина в рамке, где под стеклом был виден кусок коричневого шелка, на котором было грубо вышито сердце, пронзенное стрелой, с символическим девизом на английском языке: «От неизвестного друга»…Меблировку этой темной и уединенной комнаты довершало большое вольтеровское кресло, обитое красным сафьяном, совсем скромный — письменный стол, покрытый простеньким зеленым сукном, и четыре низких стула с высокими спинками, из черного дерева, обитые коричневым сукном с длинной шелковой бахромой того же цвета. Справа от двери, открывавшейся в гостиную, через галерею, находилась дверь столовой, веселой и очень хорошенькой комнатки».
Так описывает квартиру на улице Кассини Эдмонд Верде, издатель Бальзака, немало потерпевший от нравной натуры французского гения. Когда читаешь эти строки, невольно начинаешь припоминать, в каком произведении самого Бальзака и где именно встречается почти такое же описание внутренности дома, не потому, конечно, что Верде владеет тою же силой изобразительности, как и Бальзак, а потому, что самый стиль и сочетание описанных предметов воскрешает перед нами обиталище героев «Человеческой комедии».
Ванна с розовым светом и двумя креслами (непременно двумя), крытыми красным сафьяном, — разве это не та ванна, в которой проводила многие часы в дни своего величия великосветская куртизанка? А шикарная кровать рядом с потайною дверцей, скрытой за складками розового и белого муслина? Не есть ли это то самое томительное ложе юной герцогини, мечтающей сделаться супругой какого-нибудь барона де Растиньяка, этого лойяльного соучастника каторжника Жака Колена, который внушил ему, что для успеха всякой карьеры надо врываться в общество, как пушечное ядро или чума? А гербы на корешках и крышках сафьяновых переплетов, под которыми таились мистические вымыслы Сведенборга? Гербы предков, придуманных самим Бальзаком?
Квартира Бальзака — это стиль его произведений, стиль его героев, стиль эпохи, стиль буржуа, с одной только примечательной чертой, отличающей его от миллионов смертных: маленький клочок бумаги, прикрепленный к гипсовой статуэтке императора, и на нем: «Чего он не мог завершить мечом, я осуществлю пером». Это завет великого труженика, гиганта слова. Но и его не следует ставить в разряд чего-то невероятного. Разве мы не знаем еще примеров нечеловеческих усилий тех, кто с одним франком в кармане приходил в Париж побеждать мир и, победив его, умирал, оставив после себя сотни миллионов золота и груды бриллиантов Голконды и Виссапура? Эпоха Бальзака знала таких людей, в этом был знак и стиль эпохи, и в этом отношении гигантский труд Бальзака был ее же порождением.
И все-таки следует согласиться с Теофилем Готье в том, что в присутствии Бальзака нельзя было не повторить слов Шекспира: «Перед ним природа могла гордо подняться и сказать миру: вот человек». Этот человек «носил тогда вместо халата то самое монашеское одеяние из белого кашемира или фланели, со шнуром вместо пояса, в котором позднее его написал Луи Буланже… Это белое одеяние очень к нему шло. Он хвастался, показывая свои чистые обшлага, что никогда не нарушал их белизны чернильными пятнами, «потому что, — говорил он, — настоящий литератор должен работать аккуратно».
«Откинутый воротник его одежды обнаруживал шею атлета или быка, круглую, как обломок колонны, без мускулов, атласной белизны, резко выделявшейся рядом с яркой окраской лица. В то время Бальзак, в полном расцвете сил, обладал превосходным здоровьем, которое мало соответствовало тогдашней моде на романтическую бледность и зелень. Чистая кровь жителя Туреня пробивалась сквозь кожу его щек живым пурпуром и горячо окрашивала его губы, толстые и выгнутые, часто улыбавшиеся; небольшие усы и родинка подчеркивали их очертание. Нос с квадратным кончиком, разделенным на две половины, с широко раскрытыми ноздрями, был совершенно своеобразный — недаром Бальзак, позируя скульптору Давиду Анжер, говорил: «Берегитесь моего носа: мой нос — это целый мир».
«Лоб у него был красивый, большой, благородный, заметно белее остального лица, безо всяких складок, с одной только поперечной морщиной над переносицей; шишки «памяти на места» образовывали весьма значительную выпуклость над дугами бровей; густые, длинные, жесткие черные волосы были откинуты назад, как львиная грива… Таких глаз ни у кого не было: это были глаза, перед которыми орлы должны были опускать свои очи, глаза, которые могли видеть сквозь стены и сердца, могли испепелить взбесившегося зверя — глаза властелина, ясновидца, укротителя… Обычным выражением его лица была какая-то мощная радость, раблезианское и монашеское веселье. Разговаривая, Бальзак играл то ножом, то вилкой, и показывал руки, которые были редкой красоты, настоящие руки прелата, с розовыми и блестящими ногтями; он кокетничал ими и улыбался от удовольствия, когда на них смотрели; он считал их признаком расы и аристократического происхождения».
Таким мы видим Бальзака в 1832 году на улице Кассини, где он проживал под опекою тогда еще единственной служанки Розы, полной женщины с румяным и свежим лицом. Он приютил у себя своего друга, молодого художника Огюста Борже, который жил у него несколько лет. Итак, Бальзак не был одинок, а между тем он жалуется в своих тогдашних письмах: на одиночество и заброшенность, и, конечно, жалуется, кривя душой. К тому же и неизвестные поклонницы его не забывают и заваливают его стол восторженными посланиями.
И вот среди них в адрес издателя Госселена появляется письмо от некой Чужестранки. Чужестранки нередко писали ему, и особенно русские. В России, «в этой северной Франции», как называет ее Ловенжуль, «где нетронутым сохранился культ французского языка и искусства», многие дамы, русские и польские, жившие в своих имениях, вдали от «света», зачитывались романами Бальзака и, не зная его, по-институтски обожали.
Одна такая обожательница, не одобрившая «Шагреневую кожу», которая после «Сцен частной жизни» показалась ей слишком грубой, решила известить об этом Бальзака, не предполагая, что эта весть свяжет ее с ним на всю жизнь до самого последнего его вздоха. Эта чужестранка была графиня Евелина (Ева) Ганьска, урожденная Ржевусска. Родилась она в Киевской губернии, в Перебыще, по одним сведениям — 25 декабря 1803, по другим — 1805 года. Семья была большая — трое сестер и трое братьев, и все они впоследствии занимали видные места в свете как в России, так и во Франции. Денежные затруднения Ржевусских заставили искать для Евы богатого жениха, который не польстится на приданое, и Еву выдали замуж за Вячеслава Ганьского.
Он был старше ее на двадцать пять лет, человек необщительный, несмотря на то, что воспитывался в Вене, где общительность светского человека почиталась за добродетель. Большую часть своей жизни проводил в своем имении на Украине Вишховне. Земли у него было очень много, но из-за отсутствия дорог и рынков доходу она приносила мало, и граф не допускал каких-нибудь особенных роскошеств. С 1824 по 1831 год госпожа Ганьска родила пятерых детей, но четверо из них умерли вскоре же после рожденья, и осталась одна только дочь, Анна. Ей графиня отдала все свои заботы и не расставалась с ней ни на один день до самого ее замужества, — в 1846 году Анна была повенчана с графом Георгием Мнишеком.
Первое письмо Ганьской к Бальзаку, написанное ею через посредство гувернантки ее дочери, Анриетты Борель, попало к нему в руки 28 февраля 1832 года. Этого письма не сохранилось, но, вероятно, оно было написано незаурядно, ибо Бальзак, получавший немало дамских писем, обратил на него особенное внимание. Вообще из всех писем Ганьской сохранилось лишь два, да и то писанных не ее рукою, довольно скверным французским языком, и в них ничего примечательного нет.
В одном из них корреспондентка просит Бальзака дать ей знать, что он получает ее письма, поместив объявление в «Котидьен» — единственной французской газете, которая была разрешена к ввозу в Россию. И Бальзак такое объявление поместил, в номере от 9 декабря 1832 года: «Г-н де Б. получил посланное ему письмо; он только сегодня может известить об этом через эту газету, и весьма сожалеет, что не знает, куда ему адресовать ответ. Ч-ке — О. де Б.». Тогда этот способ сношения еще не был распространен, им почти никто не пользовался, и объявление могли принять за остроумную шутку. С тех пор Бальзак регулярно помещает в «Котидьен» извещения о выходе всех своих новых произведений, чтобы оповестить об этом Чужестранку.
Как бы очнувшись от своих тщеславных мечтаний о депутатском кресле, Бальзак возвращается к исконному труду. Он опять погружается в мир своих литературных замыслов, и даже темы его журнальных статей — в большинстве все в том же круге художественных зарисовок и наблюдений. Он подготавливает к новому изданию «Шагреневую кожу», но эта подготовка у него, как и всегда, выражается в коренной переработке крупных кусков текста, в добавлении целых глав и, главным образом, в искании стиля. Одновременно он пишет второй эпизод «Истории Тринадцати» и несколько «Озорных сказок». Эта работа заставляет его настолько крепко уединиться в своей квартире на улице Кассини, что он остается глух к событиям, происходящим в Париже весной и летом 1832 года.
В апреле этого года парижское общество было взволновано известием о том, что вдова герцога Беррийского со своими приверженцами высадилась неподалеку от Марселя с целью поднять восстание против Людовика-Филиппа в пользу сына своего, малолетнего Генриха V. Начать действия решено было в Вандее, в этой цитадели феодальных вожделений, но авантюра была во-время предупреждена, и сама герцогиня Беррийская арестована.
Заточение герцогини носило характер бутафорского пленения, так как никто из больших политиков не придавал особого значения ее замыслам, зная, насколько несерьезна и беспомощна была организация ее приверженцев — аристократов. Только на это событие еще отозвался Бальзак, и как «истинный карлист», через доктора герцогини Беррийской послал ей в заточение «живейшее восхищение поэта, приверженность роялиста, глубокое уважение француза и чувства частного лица».
В июне уже взволновали Париж более значительные происшествия, говорящие все о том же неуспокоении умов и неутихающем классовом борении. После подавления Июльской революции 15 сентября 1831 года, после восстаний, в Италии и Германии, также потерпевших неудачу, в Париж устремлялись многие эмигранты и именно те из них, для которых революционная деятельность не ограничивалась только территорией своей родины. По этой причине и за отсутствием средств к существованию они ютились в тех кварталах, где их деятельность скорее всего могла встретить сочувствие среди мелких буржуа, ремесленников и рабочих, подвергнутых в крайне тяжелое положение.
В начале 1832 года появляется много республиканских обществ, которые открыто выражают свое мнение в печати; участников этих обществ привлекают к суду, но обвинения в тайных заговорах оказываются несостоятельными, ибо подсудимые доказывают, что они выступали публично, и эти процессы только дают повод к новым публичным выступлениям против короля и правительства. «Да, мы хотим свержения этого слабого правительства, мы хотим республики», — заявляют республиканцы на суде. Таким образом можно себе представить, насколько была сильна революционная зарядка и как мало было нужно поводов к тому, чтобы она разрешилась в каком-либо внешнем проявлении. 1 июня умер генерал Ламарк, депутат-оппозиционер, а 5 июня на его похоронах в траурную колесницу, направлявшуюся в Пантеон, впряглись студенты и, встретив сопротивление воинского отряда, вступили с ним в стычку, о чем разнеслась весть по всему городу. И опять народ разбивал оружейные лавки, нападал на караулы, и вновь на улицах возникли баррикады. Восстание было подавлено, чрезвычайные суды готовили жестокие возмездия его участникам, но кассационная инстанция их не утвердила, и правительство должно было уступить. Обе стороны затаили взаимную ненависть. А 19 ноября Бержерон покушался на жизнь короля, направлявшегося на открытие новой сессии.
Король Людовик-Филипп давно уже перестал расхаживать по улицам Парижа в круглой шляпе и с дождевым зонтиком, сердечно пожимая руку каждому встречному лавочнику и ремесленнику, для чего, как говорили злые языки, он специально надевал грязные перчатки. Он засел в своем дворце в Тюильри и не казал оттуда носу. Печать тоже была резко настроена против него: «Трибюн», орган республиканской партии, ежедневно призывал к республике, «Насьональ» постоянно враждебно отзывалась о короле, юмористические журналы рисовали на него бесчисленные карикатуры.
Но буржуазный Париж продолжал веселиться, о чем свидетельствует описание Генриха Гейне: «В то время как различные затруднения и бедствия переворачивают внутренность государства, и внешняя обстановка все усложняется; в то время как все учреждения, даже самые высшие королевские, находятся под угрозой; в то время как политическая сумятица угрожает жизни всех — Париж этой зимой остается все тем же старым Парижем, прекрасным, волшебным городом, который так обворожительно улыбается юноше, так мощно вдохновляет мужа и так нежно утешает старца…
Франция похожа на большой сад, в котором сорвали все цветы, чтобы связать их в один большой букет, и этот букет называется Парижем. Правда, он распространяет сейчас не такой сильный аромат, как в те цветущие июльские дни, когда народы были одурманены этим благоуханием. Но все же он достаточно еще прекрасен, чтобы свадебно красоваться на груди Европы. Париж — столица не только Франции, но всего цивилизованного мира, и в нем собралась вся его духовная знать. Здесь собралось все, что велико любовью или ненавистью, чувством или мыслью, знанием или уменьем, счастьем или несчастьем, будущим или прошедшим. Если посмотреть на собрание знаменитых и замечательных людей, которые здесь встречаются друг с другом, можно принять Париж за живой Пантеон. Здесь создается новое искусство, новая религия, новая жизнь, и весело суетятся здесь творцы нового мира. Властители ведут себя мелко, но народ велик… Назревают великие дела, и скоро появятся неведомые боги. И при этом всюду танцуют, всюду цветет легкая шутка, веселая насмешка…»
Графиня Ева Ганьска, жена Бальзака
В январе 1833 года Бальзак получил от Чужестранки известие о том, что она скоро отправляется в путешествие и будет некоторое время жить недалеко от Франции. Супруги Ганьские ехали в Швейцарию. С конца января Бальзак стал отвечать на ее письма, но каким путем он ей их отправлял — неизвестно. Он выражает ей свою благодарность за удовольствие, доставляемое письмами, и многословно кокетничает: он-де, молод и одинок, никто его не понимает, в жизни у него были только одни огорченья, живет он в неустанных трудах, удалился от света, и единственная его отрада — это голос неведомой женщины, услаждающий его одиночество. И тут же облекается в рыцарские латы и потрясает мечом легитимизма и идет против своих врагов с открытым забралом, ибо он благороден, а его же за это бранят и ненавидят.
Первые письма Бальзака к Ганьской, несомненно, представляют собой наполовину вымысел, в той части, где они касаются его личной жизни и собственной особы, — в них он рекомендует себя не таким, каким был на самом деле, жалобит несуществующими невзгодами и старается в воображении Чужестранки нарисовать свой собственный образ как можно привлекательнее, за что впоследствии и получает возмездие — при первой их встрече Оноре де Бальзак производит неприятное впечатление. Он прав лишь там, где изображает свои непосильные труды по восемнадцать часов в сутки, очень сложную и кропотливую работу над рукописями и корректурами и над установлением своего собственного стиля, с подлинной и справедливой горечью замечая, что именно его-то и не признают современные критики. И, наконец, он по-бальзаковски великолепен там, где излагает свои планы и мысли о задуманных произведениях. Так, например, в одном письме он рассказывает о том, как хочет изобразить давно задуманную картину одной из наполеоновских битв:
«В ней я хочу приобщить Вас ко всем ужасам, ко всем красотам поля битвы; моя битва — это Эсслинг, Эсслинг со всеми его последствиями. Нужно чтобы равнодушный человек, сидя в своем кресле, видел бой, сражение, массы людей, стратегические планы, Дунай, мосты, чтобы он любовался подробностями и общей картиной этой борьбы, слышал артиллерию, интересовался ходом этой шахматной игры, видел все, чувствовал в каждом вздохе этого огромного тела — Наполеона, которого я покажу или дам увидеть только на одно мгновение, переправляющимся в лодке через Дунай. Ни одной женской головки: пушки, кони, две армии, мундиры. На первой же странице раздается пушечный залп и замолкает на последней. Вы будете читать, окутанная пороховым дымом, и, закрыв книгу, должны будете иметь перед глазами и вспоминать битву, как будто вы при. ней присутствовали».
Здесь чувствуется большой расчет художника и знание того, что иногда мимолетный показ какой-нибудь фигуры может произвести большее впечатление, чем ее тщательная и подробная выписка. Долгая и упорная устремленность Бальзака к батальным картинам и к военным сценам (которых было задумано до десяти — «Сцены из военной жизни») обнаруживает в нем очень характерную черту для писателя тогдашнего империалистического толка. Сюда же следует отнести и Стендаля, и Толстого, и Гюго.
Есть в этих письмах и еще нечто значительное, интимное — неудовлетворенность страстей и искание взаимного чувства молодой и красивой женщины. Жажда любви, взаимной и прекрасной, была настолько сильна, что Бальзак не стыдиться признаться в ней еще не ведомой женщине, хотя не исключена была возможность, что та могла бы и посмеяться над этим, превратив всю эту переписку в занимательную интригу. До сих пор любовный путь Бальзака пролегал по коротким или долгим этапам от одной стареющей женщины до другой: де Берни старше его на двадцать два года, д'Абрантес — на одиннадцать лет, де Кастри — на три года и инвалидка.
Следует поверить искренности таких излияний Бальзака: «Если бы Вы знали, с какой силой одинокая и никому не нужная душа рвется к истинному чувству! Я люблю Вас, неведомую, и это странное чувство — естественное следствие жизни, всегда пустой и несчастливой, которую я наполняю только мыслями и неудачи которой я смягчаю воображаемыми удовольствиями. Если такая любовь могла зародиться в ком-нибудь, то именно во мне. Я подобен узнику, заслышавшему в глубине своей тюрьмы чудесный голос женщины. Он всей душой отдается нежным и вместе мощным звукам этого голоса и после долгих часов мечтаний, надежд, после стольких порывов воображения прекрасная молодая женщина может принести ему смерть — так полно будет его счастье». И дальше, в очень простой и лаконичной фразе, звучит его жалоба: «А поседеть, не испытав любви молодой и красивой женщины — это грустно».
А между тем, каждый день довлеют заботы, и не всегда приятного характера: недоразумения с редактором Пишо и с издателями, кабальный договор с «Эроп литтерер», куда он должен был давать ежемесячно не меньше 8 колонок по 120 франков. К этому времени появился в печати «Феррагус» (первый эпизод «Истории Тринадцати»), который имел у публики очень значительный успех, не только во Франции, но и во всей Европе, не исключая России, где это произведение было отмечено нашим великим критиком Белинским, который, в разрез с прочими мнениями и первый из всех, почувствовал в Бальзаке необычайный талант.
«Посмотрите на Бальзака, — пишет Белинский в «Литературных мечтаниях», — как много написал этот человек, и несмотря на то, есть ли в его повестях хотя бы один характер, хотя одно лицо, которое сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал ли вас этот грозный и холодный обрах Феррагуса, не мерещился ли он вам и во сне, и наяву, не бродил ли за вами неотступной тенью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тем, в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимоходом, и заставлен людьми, на коих сосредотачивается главный интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателе столько участия и так глубоко врезывается в его воображение? Оттого, что Бальзак не выдумал, а создал его, оттого, что он мерещился ему прежде, нежели была написана первая страница повести, что он мучил художника до тех пор, пока тот не извел его из мира души своей в явление для всех доступное. Вот мы видим теперь на сцене и другого из Тринадцати; Феррагус и Монриво, видимо одного покроя: люди с глубокой душой, как морское дно, с силой воли непреодолимой, как воля судьбы; и однакож, спрашиваю вас: похожи ли они сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака, и между тем, повторил ли он себя хоть в одном из них?».
Особенно примечательны эти слова Белинского потому, что они являются первым серьезным отзывом, а тем более чужестранным, о произведениях Бальзака, в то время как в самой Франции отношение к нему критики, как к писателю, отличалось крайней поверхностностью, и к тому времени не появилось еще ни одного сколько-нибудь углубленного разбора его вещей.
Отзыв Белинского в смысле общей характеристики бальзаковского пера — явление замечательное, но наш критик не будучи еще знаком с постепенным ростом этого писателя, не мог усмотреть того, что именно в «Феррагусе» Бальзак уже более ясно и более полно, чем в ранее написанных вещах, определился как поэт Парижа. Этот Париж — не только панорама, официальный Париж, не только фон, на котором происходит действие и фигуры мелькают как на роскошной декорации. Урбанизм Бальзака — это вскрытие социального лица города, что и отличает его от описаний французской столицы, которые мы встречаем у иных авторов. Париж Бальзака — город религии наслаждения и эгоизма, город преступленьем нажитой роскоши и в подвалы брошенной нищеты, город социальных противоречий.
«Для других, — говорит Бальзак, — Париж всегда представляется одной и той же чудовищной диковиной, удивительным соединением движения, машин и мыслей, городом ста тысяч романов, головой мира». Но для любовников Парижа, к числу которых причислял себя Бальзак, «Париж — существо: каждый человек, каждая часть дома представляется им долей, входящей в клетчатку великой куртизанки». Надо было иметь такой зоркий и проницательный глаз художника, какой был у Бальзака, надо было много и долго бродить по улицам Парижа, «так хорошо изучить его физиономию, чтобы заметить на ней все бородавки, прыщи и пятна». Это дало возможность Бальзаку, взявши совершенно приключенческую фабулу, сбросить с себя плащ романтического гидальго и показать нам на груде золота нагое тело Парижа, изъязвленное социальными недугами.
В «Шагреневой коже» Бальзак еще не свободен от атлантических ухищрений и мистики, но здесь его реализм уже достигает совершенных форм. И недаром «Феррагусу» он предпослал предисловие, в котором снова старается отмежевать себя от романтической школы: «Отталкивающие кровавые драмы, комедии, исполненные ужаса, романы, в которых повествуется о тайно отрубленных головах, — все это было ему (автору) известно. Если кто-нибудь из читателей не насытился ужасами, с некоторого времени спокойно преподносимыми публике, автор может открыть ему страшные жестокости и захватывающие семейные драмы, пусть только будет выражено желание познакомиться со всем этим. Но здесь он предпочел выбрать самые нежные приключения, только те, в которых самые целомудренные сцены чередуются с бурею страстей и в которых женщина сияет добродетелями и красотой».
Не следует смущаться последней фразой Бальзака, — бросив тяжелый камень в лагерь романтиков, он не преминул поратовать за себя и пококетничать перед парижской читательницей, — вдохновения своего он не продал, но рукопись он всегда стремился продать подороже.
Усиленная работа, недосыпание, чрезмерное употребление кофе, настолько дурно отразились на его здоровьи, что доктор Накар решительно настаивает на отъезде Бальзака из Парижа на отдых, с приказом не заниматься никаким литературным трудом. Бальзак едет в Ангулем и действительно отдыхает, проводит дни в прогулках, лежа на диване, или в беседах с приятной и умной женщиной, госпожой Каро, у которой он гостил.
Госпожа Каро — молодая брюнетка, маленького роста, живая и подвижная, несмотря на легкую хромоту. Она одарена воображением и хорошим, ясным умом. Зюльма Каро — подруга сестры Бальзака, Лауры, и знают они друг друга с детства. У Бальзака к ней также дружеские и братские отношения, ибо «в ней нет этой женской мягкости, которая нравится. Это — античная честность, рассудительная дружба, у которой есть острые углы». Но эти острые углы скорее относятся не к рассудительности г-жи Каро, а к ее восторженному и влюбленному отношению к Бальзаку. Во всяком случае, он приятно проводит время в Ангулеме и приходит в веселое состояние духа, такое, что даже склонен на некоторые шутки. Однажды, под его диктовку, г-жа Каро написала письмо Чужестранке и вложила его в свой конверт, на котором была траурная рамка по случаю смерти какого-то родственника. Чужестранка приходит в негодование, и Бальзак, наивно извиняясь, отвечает ей, что он обладает самыми разнообразными почерками.
Около 20 мая Бальзак возвращается в Париж и со свежими силами садится за продолжение «Деревенского доктора». Переписка с Ганьской поддерживается аккуратно, и он сообщает ей всякие новости о себе и о парижской жизни. Хвастается, что старику Меттерниху понравился «Феррагус» и что получил о нем хвалебный отзыв от «царственной узницы» герцогини Беррийской. Есть в письмах просто сплетни о том, что Лакруа[179] («библиофил Жакоб») злостно обольстил хорошую женщину, а потом сам попался, сдуру женившись на какой-то актриске, которая взяла его под башмак, что Сандо в отчаянии от измены Жорж Санд уехал в Италию, что Жюль Жанен — «маленький, толстенький человек, который всех кусает», что Гюго, «женившись по любви, имея жену и детей, влюбился в актрису по имени Жюли, которая в числе прочих проявлений нежности послала ему счет прачки на семь тысяч франков, и Гюго вынужден был подписать вексель, чтобы оплатить это любовное послание», и, наконец, что Латуш — «это целый склад желчи», что Скриб болен от работы, и другие мелочи.
В начале сентября выходит «Деревенский доктор», и в сентябре же в «Эроп литтерер» начинает печататься начало «Эжени Гранде». В это же время приходит приглашение от Ганьской прибыть в Невшатель, самый ближайший город Швейцарии к французской границе. Бальзаку велено было держать свое путешествие в строгой тайне, дабы при его популярности и широких связях он не был опознан. Тогда Бальзак начинает распространять слух о том. что он вернулся к мысли об издании дешевой универсальной библиотеки современных писателей, в том числе и самого себя, и ищет для этого издания дешевую и хорошую бумагу, и что за этой именно бумагой он отправляется в Швейцарию. После такой плохо разыгранной увертюры Бальзак выезжает из Парижа 22 сентября и прибывает в Невшатель 25-го, где остается до 1 октября, а 4-го он уже опять у себя на улице Кассини.
О первой встрече Бальзака с Ганьской ходили всевозможные слухи; говорили, что, увидев Оноре, Ганьска хотела убежать, до того он ей не понравился, но единственное точное свидетельство мы имеем об этой встрече в письме самого Бальзака к сестре Лауре: «…Я должен рассказать тебе все мое путешествие. Я нашел там все, что может польстить тысячам тщеславий животного, именуемого человеком, самую тщеславную разновидность коего составляет, несомненно, поэт. Но что я говорю? Тщеславие! Нет, совсем не то. Я счастлив, очень счастлив, — в мыслях, ибо пока все обстоит по-честному. Увы! Проклятый муж пять дней не оставлял нас ни на секунду… Он переходил от юбки своей жены к моей жилетке. Городок маленький, и женщина, да еще знатная иностранка, не может сделать там ни одного шага, чтобы ее не видели. Я был, как на угольях. Сдержанность мне не к лицу.
Самое главное — это то, что нам двадцать семь лет, что мы восхитительно-прекрасны, что у нас самые красивые черные волосы в мире, нежная и очаровательно-тонкая кожа брюнетки, у нас обольстительная ручка и наивное двадцатисемилетнее сердце; настоящая госпожа де Линьоль, безрассудная до такой степени, что чуть было не бросилась мне на шею при всем честном народе. Не говорю тебе о колоссальных богатствах. Что значат они перед совершенством красоты, которую я могу сравнить с одной лишь княгиней Бельджойозо, только гораздо лучше? У нее томно-блуждающие глаза, а когда она смотрит в одну точку, они наполняются сладострастным блеском. Я опьянел от любви…
Так как мы долго еще не увидимся — ведь я наверное, отправлюсь в Нормандию и в Ангулем и вернусь еще раз в Женеву, чтобы повидаться с «ней», то я непременно должен был написать тебе несколько строк, сказать тебе, что, наконец, я счастлив. Я совсем как ребенок. Боже мой, как прекрасна эта долина Травер, как чудесно Бьенское озеро! Можешь себе представить — сидя там, мы услали мужа, чтобы он позаботился о завтраке; но мы были на виду, и вот, в тени большого дуба, она украдкой дала мне первый поцелуй любви. Потом, так как наш муж приближается к шестидесяти годам я дал клятву ждать, а она — сохранить для меня свою руку, свое сердце. Разве это не мило: вырвать мужа, который представляется мне похожим на башню, из Украины, и проделать шестьсот миль, чтобы соединиться с возлюбленным, тогда как он, чудовище, проделал всего сто пятьдесят?»
Через два дня по возвращении в Париж Бальзак сообщает Ганьской подробности того, как он доехал, причем уже называет ее на «ты», благодарит за волосы, из которых хочет сделать цепочку, и просит заказать хорошему художнику миниатюру и вделать ее в плоский медальон, — чтобы носил, на своей груди. «Моя дорогая Ева, итак, для меня началась новая, чудесная жизнь. Я тебя видел, я с тобой говорил; тела наши вступили в союз, как и наши души, я нашел в тебе все совершенства, которые любил; у каждого есть свои идеалы, и ты осуществила все мои мечтания… Теперь ты во всех моих мыслях, во всех строках, которые я напишу, во всех мгновениях моей жизни, во всем моем существе, и моих волосах, которые растут для тебя».
Из этого письма видно, что Бальзак не до конца был откровенен со своей сестрой, да и понятно это будет, если вспомнить еще одно признание, которое находится в том же письме к Лауре: «Я — отец, вот еще одна тайна, которую я хотел тебе поведать, и повинно в этом славное существо, создание самое наивное, какое только можно себе представить, упавшее, как цветок с неба; она приходит ко мне украдкой, не требует ни переписки, ни забот, и говорит: «люби меня год, а я буду любить тебя всю жизнь». Тут же он упоминает о той, «которая требует своей ежедневной порции любви и которая, хотя и сладострастна, как тысячи кошек, но не изящна и не женщина». Под этими двумя женщинами не следует подразумевать ни Берни, ни Кастри, которые существовали помимо их, и надо полагать, что Оноре было стыдно и перед сестрой, и, главным образом, перед самим собой, приобщить г-жу Ганьску к этому донжуанскому списку, так как он действительно был опьянен любовью.
Поездка Бальзака в Невшатель породила в Париже самые разнообразные слухи: кто говорил, будто он ездил с маркизой де Кастри, кто — что он был в Безансоне и устраивал крупное коммерческое дело, а кто-то видел его даже в долговой тюрьме Сент-Пелажи. Слухи эти не так нелепы, как кажется на первый взгляд: у Бальзака была и г-жа де Кастри, и склонность к коммерческим прожектам, были и долги. Но о долгах должны были быстро прекратиться разговоры, так как им по приезде был заключен договор на издание двенадцати томов «Очерков нравов» с крупной книготорговой фирмой вдовы Беше, и он получил единовременно 27 тысяч франков. Такой выгодной для писателя сделки не было с тех пор, как Шатобриан продал двадцать пять томов за 200 тысяч франков. В письмах к Ганьской он изливает нежности: «Я поцеловал эту страницу. Посылаю тебе лепесток моей последней розы и моего последнего жасмина», очень радуется, что ей понравились «Озорные сказки», и замечает: «Если что-нибудь из моих произведений меня переживет, то это Сказки», сообщает об огромном успехе, которым пользуются его произведения в Берлине, Вене и Гамбурге.
Жизнь Бальзака входит в обычную колею — четырнадцать часов за письменным столом, два часа прогулки, каждые три дня ванна, он счастлив, что работает и любит, но увы, не более как через месяц после получения такого крупного гонорара он опять сидит копейки. Придется бегать и искать денег, и он благодарит Ганьску и благословляет ее за то, что она предлагает ему тысячу франков взаймы, и тут же восклицает: «Что такое тысяча франков, когда мне нужно десять тысяч ежемесячно». А между тем доходов ждать неоткуда, так как «Эроп литтерер», где печатается «Эжени Гранде», начинает прогорать, и если роман не кончится печатанием, он опять много потеряет. Выручает его Ротшильд, супруга которого делает ему глазки, и вообще с деньгами, векселями, с портными и лавочниками ему вдруг повезло, и он в полном восторге: «Я оделся, как вельможа, обедал у Дельфины, а потом присутствовал при агонии «Эроп литтерер» и весело провел время у Жерара», — погода совершенно изумительная, настоящее лето, и вообще все чудесно. Завтра садится он за работу. Это была «Лавка древностей», которую он «мучительно выжал из себя в один день».
Но он очень доволен своей главной работой и пишет: «Найти Эжени Гранде после мадам Жюль — это, не хвастаюсь, свидетельствует о таланте». И это, действительно, не фраза. Обычно Бальзак в оценке своих собственных произведений восторженно относился именно к своим не лучшим вещам, и только здесь впервые, судя об «Эжени Гранде», взыскательный художник по справедливости остался доволен собой. Это было, действительно, одно из первых замечательных произведений, где Бальзак-реалист, на общем фоне романтических туманностей и самовлюбленности, стал вырастать в совершенно оригинальное и чрезвычайное явление французской литературы. Здесь небезынтересно вспомнить его сообщение в письме к Ганьской: «Прочел всего Гофмана; его слишком расхвалили, в нем кое-что есть, но не бог знает что, он хорошо говорит о музыке; он ничего не понимает в любви и в женщинах; он нисколько не пугает, да и не может быть страшно от вещей материальных». Подлинный реалист отказывается от всех своих прошлых средневековых чертовщин и всего мистического.
Но сидевшая в нем закваска прошлого еще понуждает иногда к произведениям, совершенно чуждым подлинному характеру его гения и в момент окончания «Эжени Гранде» (когда ему осталось сто страниц) он задумывает «Серафиту», полный мистический бред, и даже малоудачный по сюжету, ибо повторяет «Фраголлетту» Латуша, — тоже, как у него, существо — гермафродит, в которого одновременно влюблены мужчина и женщина, с тою только разницей, что Латуш был скромнее, и у него герой все-таки человек, а фантазия Бальзака заставила своего героя улететь на небо в качестве ангела.
В конце года Бальзак собирается снова свидеться с Ганьской в Женеве и, среди трудов и всяческих договорных забот с издателями нетерпеливо ожидает дня отъезда, продолжая заполнять свои письма к ней самыми нелепыми нежностями: «Ангел любви, душишь ли ты волосы?». И за несколько дней до отъезда вместе цветка, которого у него не оказалось, вкладывает в письмо спичку, которую поцеловал.
В конце декабря Бальзак уезжает в Женеву, и около полутора месяцев живет там, вблизи Ганьской, встречается с ней в тамошних салонах, на прогулках у озера и у себя в номере гостиницы, куда та приходила его навещать, когда он был болен насморком, и в остальное время сносясь с ней записочками: «Спал, как сурок, хожу, как околдованный, люблю Вас, как дурак, надеюсь, что Вы здоровы, и шлю Вам тысячу нежностей…».
Расцвет творчества
Бальзак отомстил маркизе де Кастри за ее коварство своим прекрасным произведением «Герцогиня де Ланже» (2-я часть «Истории Тринадцати»). И это личное оскорбление вылилось не в пасквиль, не в памфлет, а в замечательный роман. В нем дан образ женщины, в котором Бальзак своим беспощадным анализом вскрыл социальную сущность аристократки Сен-Жерменского предместья.
Весною 1831 года Бальзак одновременно с «Герцогиней де Ланже» пишет и печатает третью часть «Истории Тринадцати» — «Златоокую девушку». В перерывах он возвращается к «Серафите» и работает над новой вещью — «Поиски абсолюта», правит бесконечные корректуры переизданий романов и новелл, добавляет новыми опусами «Озорные сказки». Если принять во внимание, что для таких трудов он не только не оградил себя от внешнего мира монастырской стеной или добровольным заточением, а наоборот, принимал самое деятельное участие в его повседневной суете, а иногда и сам создавал себе лишние хлопоты, станет понятно, почему в этом году его переутомление выразилось в очень резкой форме.
Ночная работа за письменным столом довела его до такого состояния, что он не мог больше ни читать, ни писать, ни двигаться, и даже не мог разговаривать! Сначала, — рассказывает он Ганьской, — после такой месячной работы он испытывал приступы слабости час или два, затем пять часов, затем целый день, потом это творческое бессилие продолжалось по нескольку суток, и, наконец, месяцами.
Эти пустые места в своем творческом времени он старался, почувствовав себя здоровым, восполнить столь же, а может быть и более усиленным трудом, но даже и для такого могучего здоровья, каким обладал Бальзак, это не прошло даром, и с возрастом такие нерабочие интервалы стали длиться уже целыми годами, и его единственный помощник в работе — вредоносный кофе — не давал уже сильных эффектов творческого подъема. После одного из таких болезненных состояний у него зарождается благое намерение — месяц работать и месяц отдыхать, но план этот не выполняется, и Бальзак продолжает свои труды такими же резкими порывами, и бросает работу только тогда, когда уже рука от бессилия не может держать пера.
Издатель Бальзака Верде так описывает распределение его рабочего дня: «В самой полной, самой абсолютной тишине, герметически закрыв ставни и опустив занавески, при свете четырех свечей в двух серебряных канделябрах, которые возвышались на его рабочем столе, Бальзак писал, за этим маленьким столиком, перед которым ему не без труда удавалось уложить свой большой живот. Одетый в белую одежду монахов-доминиканцев, кашемировую летом, из очень тонкой белой шерсти — зимой, в длинных и широких белых брюках, не стеснявших движений, изящно обутый в красные сафьяновые туфли, богато расшитые золотом, опоясанный длинной цепочкой из венецианского золота, на которой висели золотые ножницы, далекий от мира, далекий от всякой суеты, Бальзак размышлял и творил, без конца правил и исправлял свои корректуры…
Бальзак. Портрет Гаварни
В восемь часов вечера, слегка закусив, он обычно ложился, и почти всегда в два часа ночи он снова садился за свой скромный стол. До шести часов его живое, легкое перо, излучавшее электрические искры, быстро носилось по бумаге. И только скрип этого пера нарушал тишину его монастырского уединения. Потом он брал ванну, в которой проводил час, погруженный в размышления. В восемь часов Огюст подавал ему чашку кофе, которую он проглатывал без сахара… Затем он продолжает творить с тем же жаром до полудня. Завтракал он свежими яйцами всмятку, пил одну воду и заканчивал этот легкий завтрак второй чашкой превосходного кофе, тоже без сахара. С часу до шести — снова работа, бесконечная работа. Потом он обедал, очень легко, и выпивал небольшой стаканчик вина Вуврей, которое очень любил и которое обладало свойством веселить его ум…».
Эту картину писательского подвижничества дополняют воспоминания Теофиля Готье. «У него была следующая манера работать: выносив и пережив замысел, он скорописью, корявым, небрежным почерком, почти иероглифами, набрасывал нечто вроде сценария на нескольких страничках и отсылал его в типографию, откуда последний возвращался в виде полос, то есть отдельных столбцов, отпечатанных на широких листах бумаги. Он внимательно прочитывал эти полосы, которые уже придавали зародышу его произведения тот безличный характер, каким не обладает рукопись, и рассматривал этот набросок критически, как будто бы это написал кто-то другой.
Теперь у него было чем оперировать: одобряя себя или не одобряя, он оставлял или исправлял, а, главное, прибавлял. Линии, выходившие из начала, из середины и из конца фраз, направлялись к полям, направо, налево, вверх, вниз, вели к объяснениям, к вставкам, к вводным предложениям, к эпитетам, к наречиям. Через несколько часов работы получался какой-то фейерверк, нарисованный ребенком. От первоначального текста исходили ракеты стиля, рассыпавшиеся во все стороны.
Там были кресты простые и перечеркнутые, как на гербах, звездочки, солнца, цифры арабские и римские, буквы греческие и французские, — всевозможные значки, смешивавшиеся с исправлениями. Кусочки бумаги, приклеенные сургучом, приколотые булавками, прибавлялись к слишком узким полям; они испещрялись мелкими буквами для экономии места, и в свою очередь были полны исправлений. Набранная полоса почти исчезала за этими каббалистическими знаками, и наборщик старался поскорее сбыть ее соседу, потому что никто не соглашался «делать больше часу Бальзака».
На следующий день ему приносили полосы с внесенными исправлениями, уже выросшие вдвое. Бальзак снова принимался за работу, опять исправлял, прибавляя какую-нибудь черту, подробность, описание нравов, характерное словечко, эффектную фразу, придавая мысли более сжатую форму, все время приближаясь к ее внутреннему ходу, выбирая как художник, окончательную линию среди трех или четырех контуров.
Часто, закончив эту ужасную работу, которую он делал с тем пристальным вниманием, на какое один Бальзак был способен, он вдруг замечал, что замысел осуществлен неправильно, что один эпизод вылезает на передний план, что персонаж, задуманный им, как второстепенный, занял слишком заметное место — и одним росчерком пера он мужественно уничтожал результат четырех или пяти ночей труда. В таких случаях он был героем.
Шесть, семь, а иногда и десять корректур возвращались в типографию исчерканные, исправленные, так и не удовлетворив автора в его стремлении к совершенству. Мне довелось видеть у него в Жарди, на полках библиотеки, составленной из его произведений, разные корректуры одной и той же вещи, переплетенные в отдельные тома, начиная от первого наброска и кончая выпущенной в свет книгой…».
Проделывая такую работу над своими произведениями, Бальзак не мог понять, как можно возвращать в типографию корректуру статьи, набросанной в редакции на кончике стола, с одними типографскими поправками, и говорил: «Если бы еще раза два-три переделать, она была бы лучше».
В мае 1834 года Бальзак намеревается свидеться с Ганьской в Риме, но она не разрешает ему этой поездки, и он опять погружается в свои дела: «У меня столько дел, что сам дьявол со своими рогами не выпутался бы из них. Но я — демон с тремя рогами, из породы, — правда, немного выродившейся, — Наполеонов».
В этом году Французская академия посылает по адресу Бальзака любезную, но очень короткую улыбку, — среди кандидатов на премию барона де Монтиона называют его имя, и сам Бальзак добивается этой премии за своего «Деревенского доктора». Эта повесть не удалась Бальзаку, и то обстоятельство, что именно ее он предназначил к премии, нельзя объяснить даже и той незаконной любовью, которую очень часто испытывают творцы к своим незадачливым детищам. В данном случае сыграло роль специфическое содержание повести.
Герой повести, доктор Бенасси, буржуа в дворянстве, утомленный в молодости развлечениями парижского полусвета, потеряв любимую женщину, а потом и ребенка, в котором он видел цель своей жизни, посте официального обращения к богу и церкви обретает свое настоящее призвание в деле насаждения капитализма в деревне. Он верует в то, что не государственность, а только единоличная энергия может привести к процветанию край, раньше населенный полукретинами в состоянии полного убожества. Доктор добивается своего, и деревня, в которой он производит этот опыт, сплошь заселена зажиточными кулаками, но герой все-таки умирает от личной катастрофы.
Надо думать, что у Бальзака был большой расчет на добродетель героя и на его ультра-империалистические и клерикальные идеи, которыми изобилуют размышления деревенского доктора (кстати сказать, по внешности очень схожею с самим автором). Это могло дать повод причислить его повесть к «наиполезнейшим для французского общества» сочинениям, каковые только и могли рассчитывать на премию Академии. Но «бессмертные» не удостоили Бальзака премии барона де Монтиона. Бальзак уязвлен, но не хочет в этом сознаться, и, покривив душой, пишет Ганьской, что он все сделал для того, чтобы не получить премии, а на самом деле и писалась-то эта повесть наверное с определенной целью — представить ее на суд Академии.
За этой неудачей следуют другие неприятности: затевается тяжба с издателем Госселеном, «этим ходячим ростбифом, которого господь бог начинил самыми глупейшими мыслями»: этот ростбиф собирается аннулировать договор с автором и получить шесть тысяч франков. И, наконец, Бальзак терпит поражение, выставив свою кандидатуру при содействии Фиц-Джемса в палату депутатов. Но денежные дела поправляются: в «Ревю де Пари» начинает печататься «Серафита», а затем «Лавка древностей», затем выручает Верде, который с этих пор становится почти монопольным издателем его сочинений. От него он получает пятнадцать тысяч франков за первое издание «Философских очерков».
Из Немура все лето поступают дурные вести. «Я плачу кровавыми слезами, — пишет Бальзак, — когда думаю, что ей необходимо быть в деревне, а мне — в Париже. Мне готовится большое горе. Этот нежный ум, это дорогое существо, принявшее меня в свое сердце, как самого любимого ребенка, гибнет».
Тревоги за Берни, нападки критики на «Серафиту» и нелепые слухи, ходившие тогда по Парижу о том, что автор ее сошел с ума, и труд по 25 часов подряд, такой труд, от которого «волосы падают целыми прядями и седеют», — все это так сильно повлияло на Бальзака, что с ним приключился припадок жестокой головной боли, длившейся десять часов. Но среди всех своих подлинных и неподлинных несчастий Бальзак способен по-ребячески быть наивным и проказничать. Одна из таких проказ — это история с его письмами к графине Ганьской, которые попали в руки самого графа.
Бальзак нашел очень простой выход из такого положения и обратился с письмом к мужу, где просит походатайствовать за него перед г-жой Ганьской, чтобы она не гневалась за полученные ею письма, ибо эти письма сочтены им для «Шуанов», и их корреспонденты — Монторан и Мари де Вернейль, а послал он их графине, потому что она некогда выразила желание посмотреть, как выглядят вообще любовные письма. И вот, она вдруг приняла их на свой счет и в своей записке назвала его нахалом, с которым она больше не знакома. Во имя высокой дружбы он идет на унижение и просит графа объяснить своей супруге эту ошибку и замолвить о нем словечко.
Отправив такое письмо г-ну Ганьскому, Бальзак по совету доктора Накара едет отдыхать на две недели в Саше, где и получает прощение от своей возлюбленной, и, нимало не унижаясь, возобновляет переписку с графиней «по ее приказанию». Докторские советы ничего не делать Бальзак, конечно, не выполняет и продолжает писать «Поиски абсолюта», и вообще это произведение отняло у него, как он сам говорит, сто ночей и унесло все здоровье. Для этой вещи он изучал химию у академиков, правил корректуру десять — двенадцать раз, за что наборщики называли его «убийцей».
Роман успеха не имел и не разошелся, получив несправедливую дурную оценку. А между тем содержание его весьма примечательно. В этом романе впервые в европейской литературе затронута Бальзаком тема о мученичестве гения-энтузиаста. Некий ученый, Валтасар Клаэс, химик, занят «изысканием субстанции, общей всем творениям, изменяемой единой силой» — изысканием решения задачи об абсолюте. Он тратит свои средства, средства своей дочери с непоколебимой верой в то, что он сможет делать металлы, делать бриллианты, сможет повторить природу.
Чутьем великого художника Бальзак угадал, что отныне энтузиазм научного работника не может не иметь своих практических утверждений, наука должна служить интересам господствующего класса — класса буржуазии, она на службе у капитала. Способом делать металлы и бриллианты воспользуется промышленник и банкир, от них Клаэс получил неписанный заказ на искание абсолюта, они отняли его средства и учинили семейную катастрофу. В этом трагедия Валтасара Клаэса.
Судьба таланта и гения в капиталистическом обществе является одной из важнейших тем грандиозного творения Бальзака «Человеческая комедия», которую, конечно, надо понимать, как человеческую трагедию.
По возвращении в Париж Бальзак берет к себе в сожители вместо уехавшего художника Борже Жюля Сандо, которого окончательно бросила Жорж Санд, предпочтя ему сперва Латуша, а потом Мюссе. Несмотря на свои жалобы о денежных затруднениях, Бальзак покупает новую обстановку для себя и для Сандо.
К этому возрасту Бальзак сильно располнел, и его фигура стала привлекать особое внимание. «Я так толст, — пишет он, — что газеты надо мной издеваются, несчастные; вот она, Франция, прекрасная Франция: здесь смеются над несчастьем, порожденным трудами. Они смеются над моим животом». Гаварни с иронией, свойственной карикатуристу, утверждает, что «от затылка до пяток у Бальзака была прямая линия, с одним только выгибом — на икрах, что же касается переда романиста, то это был настоящий пиковый туз в профиль».
По поводу своих новых «невинных радостей» он пишет Ганьской: «Я купил себе новую обстановку для комнаты, палку, о которой толкует весь Париж, божественный лорнет, который мои химики заказали оптику Обсерватории, потом золотые пуговицы на мой синий сюртук, — пуговицы, сделанные рукою феи, так как человек, ходящий в XIX веке с палкой, достойной Людовика XIV, не может носить гадких пуговиц из медного сплава. Все это — невинные безделушки, из-за них я прослыл миллионером. Я создал в элегантном свете секту каннофилов (любителей палок) и меня считают за легкомысленного человека. Это меня забавляет». Но эта палка с набалдашником из бирюзовой накипи потребовала не только одной смены пуговиц на сюртуке.
Вот что рассказывает об этой палке издатель Верде: «В октябре месяце (1834 года) знаменитый ювелир Госселен, «соперник Бенвенуто Челлини[180]», — как называл его Бальзак, — умевший в случае надобности, отлично льстить тем, кто был ему нужен, принес ему… пресловутую палку, предмет стольких вожделений. Эта чудовищная палка, толстая, как у барабанщика, сделалась настоящим событием для парижских зевак. Скоро только и говорили, что об Оноре де Бальзаке и его палке. С тех пор они стали неразлучны. Эта фантастическая драгоценность не замедлила представить своему счастливому обладателю новый повод для расходов на роскошь. Вполне понятно, что он больше не мог ходить пешком и даже ездить в тильбюри с такой богатой и ценной игрушкой.
Альфред де Мюссе и Бальзак со своей знаменитой палкой. Карикатура из «Меркюр де Франс» 1835 г
Итак, наш знаменитый писатель нанял великолепную карету за пятьсот франков в месяц. Он заказал роскошную ливрею; кучер у него был почти такой же величественный, как в английском посольстве; у него был такой же микроскопический грум, как у генерала-Мальчик-с-Пальчик; наконец, у него была ложа в Опере и у Итальянцев, где он занял место среди тогдашних львов. Ливрея кучера была умопомрачительная, каштанового цвета, блистающая галунами и позолоченными пуговицами, на которых красовались гербы д'Антрэгов. Большие гербы этой славной семьи были нарисованы также на дверцах кареты и вышиты золотом на богатой подушке с золотыми кистями, на которой восседал кучер».
Здесь уместно будет раз навсегда рассеять легенду, созданную самим Бальзаком и повторенную почти всеми его биографами, о крайней нужде Бальзака в деньгах.
Совершенно справедливо, что в начале литературной деятельности заработки его были незначительны, и возможно, что в 1829 году за «Шуанов» и за «Физиологию брака» ему заплатили, как он утверждает, по тысяче франков; возможно, что в 1530 году ему платили в журнале «Мода» по пятьдесят франков за печатный лист, но с 1832, а может быть и с 1831 года, картина меняется. Он получает пятьсот франков в месяц в «Ревю де Пари», не считая того, что приносят ему его напечатанные, многочисленные произведения.
В 1834 году он одновременно получает от фирмы Беше, которая купила его «Очерки нравов», 50 тысяч франков, и заявляет, что долгу у него осталось только 14 тысяч. В следующем году Бальзак зарабатывает 23 тысяч франков, и из года в год цифры его доходов увеличиваются в солидной пропорции. Он достигает того, что зарабатывает 150 тысяч за один только 1840 год и 50 тысяч за три месяца 1847 года, и в то время как за «Лилию в долине» Бальзаку заплатили в 1836 году 8 тысяч франков, в 1846 году издание «Бедных родственников» приносит ему 22 тысячи франков. Можно еще привести громадные, по тому времени, гонорары Бальзака; также по справедливости должно указать и на громадные его траты и перманентные долги. И все-таки он оставил после себя квартиру-музей, которую еще при его жизни оценивали в 350 тысяч франков. Таким образом, «творимая легенда» о миллионах Бальзака имела под собой весьма реальные основания.
Но не всегда этот человек принимал образ веселящегося парижанина, и всякий обыватель с улицы Кассини имел случай по утрам встретить Бальзака в костюме далеко не великолепном, — тогда на нем бывала охотничья куртка зеленого цвета с медными пуговицами в виде лисьих голов, клетчатые шаровары, черные с серым, заправленные в грубые сапоги с ушками, красный фуляр, жгутом обкрученный вокруг шеи, и шляпа, подбитая голубой, выцветшей от пота подкладкой. И это — не маскарад. Эта убогая одежда столь же почетна, сколь почетно рубище, в котором раб завоевывает себе свободу, — в ней пришел Бальзак завоевывать себе первое место в мировой литературе, и на ней, и на его руках, как запекшаяся кровь, чернеет типографская краска, — Бальзак спешит со своими корректурами.
Наряду с творчеством у Бальзака есть и иные заботы — судьба неудачника-брата Анри, живущего в Нормандии, у которого беременна жена, и, главное, Бальзак вновь окрылен невероятными возможностями, связанными с каким-то потрясающим изобретением мужа своей сестры. Он даже собирается ехать в Лондон, чтобы продать изобретение англичанам.
Но в Лондон он, конечно, не поехал. Он пишет «Отца Горио». Работает по двадцать часов в сутки, и его сожитель Сандо в ужасе: если слава достается такой дорогой ценой, то черт с ней, со славой; он жалеет Бальзака, как больного. «Отца Горио» Бальзак печатает по мере написания, и еще в неоконченном виде роман имеет громадный успех. Главный интерес для тогдашнего читателя в «Отце Горио» заключен в фигуре страдающего отца, пожертвовавшего все свои богатства двум дочерям и обрекшего себя на серенькую жизнь в плохом пансионе мадам Воке. Этот вермишельный король Лир, наживший свои капиталы солдатской мукой, сидя в своей норе, куда он как крыса запрятал свои остатки про черный день, испытывал необычайное блаженство, представляя себе, сколь роскошна жизнь его дочерей, вышедших замуж — одна за аристократа, другая за банкира. Несмотря на их полное равнодушие к нему, он верит, что они его любят и приносит им в жертву последние остатки своего состояния.
Отец Горио, изображенный с большой художественной силой, для буржуазного читателя был трогателен еще тем, что представлялся ему идеалом любящего семьянина. Но для нас эта тема остается в стороне, главное же внимание мы должны отдать двум замечательным фигурам, которые имеют целую историю в произведениях Бальзака — фигурам Растиньяка и Вотрена.
Растиньяк — это тема бальзаковского поколения, это образ молодого человека, который пришел завоевывать Париж. Если такой же молодой человек из «Шагреневой кожи», Рафаэль, не нашел поля для применения своей энергии и погиб в мистическом маразме, то Растиньяк, взвесив свои первые успехи, обращаясь к Парижу, сказал: «Посмотрим, кто кого!» И действительно, в других произведениях Бальзака мы видим историю его успехов, доведших его до полного буржуазного благополучия и до места министра.
Рядом с вполне реалистической фигурой Растиньяка выступает образ романтического бунтаря Вотрена. Бальзак пользуется этим образом для того, чтобы показать и осудить те порочные основы, на которых строится буржуазное общество. Ведь тайна всех состояний, — говорит Бальзак устами Вотрена, — преступление, которое хорошо забыто, потому что чисто сделано. Бальзак-художник понимал это, но как сын своего класса не мог противопоставить Вотрену положительной фигуры созидающего человека. И все-таки вотреновская критика современного общества звучала тогда настолько революционно, что император Николай запретил ввоз в Россию этого романа. «Отца Горио» следует признать одной из основных вещей цикла «Человеческой комедии».
Успех «Отца Горио», законченного печатанием в конце января 1835 года, превзошел все ожидания его автора, и «даже самые остервенелые враги преклонили колена». Бальзак безусловно кокетничал, жалея парижан и называя их дураками за то, что они превозносят до небес это произведение, как будто он ничего лучше не написал.
Вообще слава Бальзака за последний год стала настолько несомненной, что даже такие враги его, как романтики, против которых он выступал и в литературных салонах, и в печати, не могли не признать теперь его таланта, и их присяжный критик Сент-Бёв, хотя и с иронической усмешкой и немного свысока пишет о нем, но все же отдает должное примечательным чертам его произведений:
«Пора обратить внимание, — пишет он, — на самого плодовитого, на самого модного из современных романистов, на романиста текущего дня par excellence (по преимуществу), на того, кто соединяет в себе в таком изобилии достоинства или недостатки борзости, многоречивости, занимательности, злободневности и обаяния, определяющих рассказчика и романиста… Нужно признать, что в его быстром успехе, не считая первых трубных звуков, возвещавших о появлении в продаже «Шагреневой кожи», парижская пресса была г-ну Бальзаку очень слабой помощницей. Он сам создал на себя моду и заслужил расположение многих своей неутомимостью и изобретательностью, причем каждое его новое произведение служило, так сказать, рекламой и подтверждением предыдущему…
У него есть своя манера, но неуверенная, беспокойная, часто ищущая самое себя. Чувствуется человек, который написал тридцать томов, прежде чем приобрести литературную манеру; и раз он так долго ее искал, то нельзя быть уверенным, что он ее сохранит. Сегодня он разразится раблезианской сказкой, а завтра преподнесет нам «Деревенского доктора»… Нужно усвоить себе точку зрения на г-на де Бальзака, и принять его, каков он есть, с его характером и привычками. Не нужно советовать ему делать отбор, сокращаться, — он должен все время идти вперед и продолжать: он все искупает количеством. Он немножко похож на генералов, которые берут каждую позицию, только проливая кровь своих войск (с той лишь разницей, что он проливает одни чернила) и теряя огромное количество народа. Но хотя и следует считаться с экономией средств, самое главное, в конце-концов, это прийти к какому-нибудь результату, и г-н де Бальзак сплошь и рядом оказывается победителем…».
Указав на недостатки бальзаковского стиля, критик говорит: «Мы обращаемся со всеми этими мелочами к г-ну де Бальзаку, зная, что они не будут для него потеряны и что, несмотря на все указанные нами изъяны, он отделывает свой стиль, без конца исправляет и переделывает, требует у типографов до семи-восьми корректур, перестраивает и переправляет свои вторые и третьи издания и чувствует себя охваченным похвальным стремлением к почти недостижимому совершенству…».
Разобрав некоторые крупные произведения Бальзака, Сент-Бёв так заключает свою статью: «Какое странное и противоречивое смешение в этом романисте, о котором мы хотели бы здесь судить, не делая наше слово более суровым, чем мысль, — какая смесь наблюдательности, часто коварной, реальности, схваченной быстрым взглядом хитрого уроженца Туреня, веселости добротной и достойной Шпиона (т. е. родины Рабле) — какая смесь всего этого и еще домашних сцеп, часто таких трогательных, со столькими отступлениями и невероятными фантазиями». Статья эта, содержавшая в себе, кроме литературной критики, обидные намеки на самовольное присвоение Бальзаком дворянского звания и на его любовные похождения, невероятно обидела Бальзака, увидевшего в ней только эти мелочи и не понявшего, что это — невольная дань врага его превосходству.
Сент-Бёв
Бальзак в первых числах мая собрался ехать в Вену, чтобы встретиться там с Ганьской. Благодаря связям с австрийским посольством, рауты которого он усиленно посещал, ему нетрудно было достать заграничный паспорт и визу, но денег, конечно, опять не было. Верде рассказывает: «…Через девять месяцев после заключения нашего договора (на издание «Серафиты») он явился ко мне с пустыми руками: он прибежал, запыхавшийся, с изменившимся лицом, свидетельствовавшим о многих бессонных ночах и об упорной борьбе с самим собой. По своему обыкновению, он сразу приступил к изложению причины своего утреннего визита (не было еще и восьми часов):
— Друг мой, я больше не могу, — воскликнул он с выражением глубочайшего отчаяния, — я доведен до крайности. Голова моя пуста, воображение иссякло. Я выпиваю сотни чашек кофе, беру ванны по два раза в день, — ничто не помогает. Я — погибший человек… Мне непременно нужно путешествовать…
— Но куда же вы хотите поехать?
— В Вену! — прокричал он своим громким голосом…
— Я протестую, — сказал я, шутя, — я хватаюсь за край вашей одежды: вы не поедете в Вену. Что станется со мной, боже мой… Кто закончит в ваше отсутствие «Серафиту»? Почтальон?..
— …Я привезу вам не только конец «Серафиты», но еще целую рукопись «Воспоминаний двух новобрачных». — И прибавил с тонкой улыбкой, которая так к нему шла: — Да, дорогой, я все это вам привезу. Мое воображение воскреснет, оно расцветет пышным цветом на свежем воздухе, оно станет богаче, плодотворнее, чем когда бы то ни было; я обрету его возле этого ангела, о котором я часто вам рассказывал — она меня ждет. Я получил от нее письмо, где она назначает мне свидание в Вене; я хочу, я должен туда ехать.
— Но как же быть? У вас нет ни заграничного паспорта, ни денег, насколько я знаю…
— И правда! У меня ничего нет; но вы, мой друг, если у вас нет денег, вы их найдете… Вы мне дадите две тысячи франков. Что до паспорта, то я буду иметь его через два часа. Я найму хорошую почтовую карету; я уеду прямо от сестры Лауры, у которой обедаю, и в восемь часов — щелк-щелк! — Он защелкал, как ребенок, подражая звуку кнута…
Итак, я вручил ему две тысячи франков, и в тот же вечер, в восемь часов, он отбыл в почтовой карете со своим слугой Огюстом».
Господин и лакей ни слова не знали по-немецки, а поэтому при расплате за дилижансы Огюст вынимал из своего денежного мешка крейцеры и отсчитывал их на ладонь почтальона, глядя ему в лицо и дожидаясь того момента, когда тот начинает улыбаться, что, по его соображениям, должно было быть признаком полного удовлетворения. Если улыбка почтальона была слишком широка, Огюст считал, что он переплатил, и один крейцер клал себе обратно в мешок.
16 мая они благополучно прибыли в Вену. Бальзак собирался работать в Вене, чтобы выполнить свои обязательства перед Верде, но ему мешали, и главным образом сама Ганьска, которая заставляла сопровождать ее при выездах в венский свет, присутствовать на сеансах у миниатюриста Даффингера и осматривать с ней все тогдашние многочисленные достопримечательности Вены.
Через несколько дней после приезда Бальзак был с визитом у Меттерниха. В дневнике супруги канцлера сохранилась запись: «Бальзак показался мне простым и добрым человеком, если не принимать во внимание его костюма, крайне фантастического. Он небольшого роста и полный, его глаза и лицо свидетельствуют о большом уме. Ему очень нравится Луиза Шербург и я убеждена, что ее пикантный и обворожительный ум необычайно его привлекает, тем более, что она льстит его самолюбию. Что касается меня, то я не возбудила в нем никаких поэтических мечтаний и ни одной минуты ему не льстила. Мы беседовали о политике. Он называет себя яростным роялистом…».
На другой день после знакомства Бальзака с канцлершей русский посол, князь Горчаков, рассказывал госпоже Меттерних, что французский писатель от нее без ума, — очевидно, Бальзак распространял этот слух, учитывая опасный характер этой особы. Вращаясь среди придворной знати, Бальзак находился в полном восхищении от этих настоящих аристократов, которые, не в пример французским, поистине родовиты, а не «фальшивые». В этом обществе он встречается со старыми офицерами, участниками войны с Наполеоном, и старается использовать это обстоятельство для получения более точных сведений о битвах при Ваграме и Эсслинге. Увлечение венскими салонами и кокетство с великосветскими женщинами стоило ему того, что Ганьска сделалась с ним очень холодна, и чтобы загладить свою вину Бальзак по ночам писал ей по нескольку писем сразу, но эти бредовые послания на нее не действовали, и он почел за лучшее покинуть Вену.
Обманутый в своих надеждах по поводу Ганьской, Бальзак в то же самое время сам обманул издателя Верде, которому обещал выслать из Вены «Серафиту» и «Воспоминания двух новобрачных». Мало этого — «поиздержавшись в дороге», или, как он витиевато выражался в письме к тому же Верде, «проезжая через пять стран и много потеряв на размене денег», Бальзак сделал заем в венской конторе Ротшильда с тем, что занятую сумму немедленно уплатит в Париже Верде. Этот заем действительно, как снег на голову, свалился на бедного издателя, причем Верде получил от Ротшильда предостережение: «Берегитесь г-на Бальзака — это человек очень легкомысленный».
Но в неутомимом и всегда пылающем воображении писателя возникали картины и образы задуманных произведений: сражение перед Веной, осажденная армия, долина Ваграма… И тут же воспоминания о далекой, юной любви — «Лилия в долине».
Бальзак вернулся домой, на недавно нанятую квартиру на улице Батайль, утомленный, черный, как негр, и сейчас же бросился в постель. Отдохнув и оглядевшись, нашел свои дела в большом беспорядке. Сестра Лаура в испуге перед кредиторами и за неимением средств заложила его серебро. В семье неурядицы: брат Анри запутался в денежных делах и хотел покончить жизнь самоубийством, мать заболела от огорчения. В газетах, вероятно в связи с денежной комбинацией в Вене, пустили слух, что Бальзак сидит в долговой тюрьме, а потому кредит его подорван. Чтобы все вошло в норму, придется работать три-четыре месяца, для этого нужно усиленно приналечь на «Лилию» и «Серафиту».
От растерянности, или быть может так на него подействовали венские аристократы, но вдруг Бальзак впадает в самую дешевую мистику. Желая узнать, где находится Ганьска и что с ней, он идет к ясновидящей. Она его усыпила, и он все узнал: Ганьска собирается ему писать, сердце ее полно печали, и она искренно к нему привязана. Он верит каждому слову гадалки, а поэтому хочет завести себе несколько ясновидящих. Из свидания с этой вещей девой он извлек таинственный рецепт: тот человек, о котором хочется получить сведения, должен положить себе на живот ночью кусок бумажной материи, а на утро, только самому, снять его и положить в конверт. А вообще Бальзак занят накоплением опытов для своей теории магнетизма.
Бальзак спит пять часов в двое суток, остальное время — работает. Естественно, что такое возбуждение вскоре же разрешается мрачными мыслями: «В этой борьбе человека со своими мыслями, с чернилами и бумагой нет ничего особенно поэтичного. Это молчание, безвестность. Усталость, усилия, напряжение, головные боли, огорчения, — все это возникает в четырех стенах белого с розовым будуара, который вам знаком по описанию в «Златоокой девушке».
Разочарованный в литературных занятиях, Бальзак возобновляет свою политическую деятельность и она уже не ограничивается только одной прессой, — он собирается организовать «партию интеллигенции», органами которой должны являться «Ревю де дэ Монд», «Ревю де Пари» и еще три влиятельных журнала, которые ему сочувствуют. У них было уже несколько собраний. Партия должна иметь влияние на салоны и создать прессу, честную и сознательную.
В августе 1835 года Бальзак продает «Лилию в долине» за восемь тысяч франков для напечатания в журнале «Ревю де Пари», где отказались печатать конец «Серафиты», вследствие долгого перерыва и по причине ее непонятности, и тогда Верде выпускает ее вместе с «Луи Ламбером» под названием «Мистическая книга». Эта книга в Париже прошла совсем незамеченной, но в Германии и России ее превознесли до небес.
Ганьской Бальзак пишет мало, ибо сорок дней встает в полночь и ложится в шесть часов вечера. Его энергии поражались даже враги, и кто-то из них сказал: «Талант, гений, невероятная сила воли — все это понятно, во все это я верю. Но где и как фабрикует он время?»
В творческое уединение Бальзака, откуда он лишь через окно дышал свежим воздухом, всесильно пробиваются мутные волны житейских дрязг, а иногда и подлинное горе и слезы. На книжном складе сгорели 160 страниц третьего десятка «Озорных сказок», напечатанных за его счет, и 500 экземпляров двух первых десятков — на этом он теряет 3 500 франков. У мадам де Берни ужасное горе — сошла с ума дочь, и вскоре после этого умер сын.
В эти же дни в Париже продается журнал «Кроник де Пари» — Бальзак покупает его с явным намерением стать хозяином легитимистского органа и собирается завести себе двух секретарей-легитимистов; графа де Беллуа и графа де Грамон. В этом политико-литературном журнале Бальзак решил проповедовать некую новую доктрину партии роялистов. Журнал будет тем, что и прежний «Глоб», только не левый, а правый, — он должен стоять за самодержавие. Содержание его — политическая критика, критика литературы, наук и искусств, управления, и часть, посвященная отдельным художественным произведениям. В журнале будет работать критик Гюстав Планш[181]; кроме того Бальзак надеется привлечь в сотрудники Сент-Бёва и даже самого Гюго.
Редактор, то есть Бальзак, собирается хлопотать о том, чтобы «Кроник де Пари» пропускали в Россию, и полагает, что это ему удастся, так как он на стороне России, за самодержавие и против Англии. Особенный упор на такую любовь к самодержавию следует расшифровать тем обстоятельством, что редактор журнала стремился получить разрешение на въезд в «страну волков и варваров», чтобы погостить у Ганьской.
Денег для покупки журнала, конечно, не было, но это не смущало Бальзака, и он купил его, не только не имея нужного капитала, а едва набрав в карманах 35 сантимов, чтобы заплатить за гербовую бумагу. Было основано акционерное общество с капиталом в сто тысяч франков в виде ста акций по тысяче франков каждая. Когда были напечатаны акции, Бальзак уже считал себя капиталистом. Он приглашает сотрудников, помещает в газетах объявления, договаривается с типографией. Размещает пока только половину акций, причем сам берет из них тридцать.
Имя Бальзака привлекло к новому журналу много подписчиков. В состав редакции вошли следующие: главный редактор — Бальзак, он же заведующий отделом иностранной политики; театральный отдел Жюль Сандо, беллетристика — Эмиль Р., серьезная критика живописи — Гюстав Планш, легкая критика — Жак де Шодзэг, романы и новеллы — Раймон Брюккер, мелочи — Альфонс Карр; Теофиль Готье и Шарль де Бернар[182] давали свои литературные вещи.
Журнал выходил два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам. По субботам вся редакция собиралась у Верде, и собрание начиналось с сытного обеда. Публика была молодая и голодная, поэтому обед интересовал сотрудников редакции гораздо больше, чем сама работа. Всегда оказывалось, что никто не принес обещанных статей, да и сам Бальзак обычно приходил с пустыми руками. После веселого обеда, кофе, вина и сигар литераторы садились за работу, и к ночи весь материал шел в типографию, а на другой день журнал выходил в свет.
На этих пирушках Бальзак разыгрывал из себя капитана, и ему оказывали особые почести: сажали в огромное кресло, подавали затейливый прибор, а один раз даже увенчали его свежими цветами. «Его лицо под этими цветами сияло, — рассказывает Верде, — это было лицо силена, на котором расцвела небывалая радость; оно пылало ярким румянцем. Он так оглушительно хохотал, что вся комната дрожала».
В этих веселых пирушках первое время, надо полагать, участвовал и Жюль Сандо, но вскоре его там не стало. Он вышел из поля зрения Бальзака, и причиной тому был, с одной стороны, неуживчивый характер Бальзака, а с другой стороны, и сам Жюль Сандо давал основания к раздражению, которое постепенно накапливалось, разразилось ссорой, и хозяин со своим нахлебником расстались. Что бы там ни было, но Бальзак был прав, возмущаясь тем, что Сандо за три года не написал и полутома. Великий труженик имел полное право сказать про него: «Это — лошадь в конюшне».
Бальзак снова жил одиночкой, попеременно то на квартире улицы Кассини, то на улице Батайль, куда в марте 1835 года он переселился на полгода для монашеского уединения, будто бы порвав связи с внешним миром. А на самом деле это было вызвано необходимостью замести свои следы от агентов национальной гвардии, отбывания повинности в которой, обязательной для всех граждан города Парижа, Бальзак скрывался уже несколько лет, пуская в ход уговоры, ласки, подарки и денежные куши. Вероятно, все эти средства были использованы и оказались недействительными, и надо было придумать новый трюк.
«Нотариус». Рисунок Гаварни
И все-таки, в конце апреля 1836 года Бальзак был уловлен в тот момент, когда он писал Ганьской о том, какое он получил восторженное письмо от княгини Радзивилл по поводу своей «Мистической книги». «Мое письмо было прервано приходом комиссара и двух агентов полиции, которые арестовали меня и отвели в тюрьму национальной гвардии, где я нахожусь в настоящий момент и мирно продолжаю Вам писать. Меня посадили на пять дней. Тут я справлю праздник короля Франции. Лишаюсь удовольствия видеть прекрасный фейерверк… Мне дали стол, кресло и стул, и поместили меня в углу огромного голого зала. Здесь я буду кончать «Лилию в долине»… Привели Эженя Сю, арестованного на двое суток… Сю живет только для себя, он развил в себе полный эгоизм…». Об этом мрачном уединении издатель Верде рассказывает несколько иначе:
«После ста хитростей, десяти путешествий и двадцати переездов, искусно скрытых, Бальзак был, наконец, пойман и отведен в тюрьму национальной гвардии, помещавшуюся в доме, который носил название «Дом бобов»… Он тотчас же написал мне записочку, которую принес его верный слуга Огюст: «…Приходите ко мне сейчас же. Принесите мне денег, потому что я сижу без гроша. Де Б.» Я взял десять наполеонов и понес ему.
Можно себе представить, насколько широкую огласку получило это событие в жизни такого человека, как Бальзак. О нем заговорили вечерние газеты, а на другой день — утренние. Многие дамы расчувствовались; в тот же день ходили ходатайствовать за виновного, чтобы его освободили или, по крайней мере, смягчили ему наказание. Старый цербер, маршал Лобо[183], был неумолим и остался бесчувственным к рыданиям и горю всех этих прекрасных и знатных дам, которые взывали к его великодушию.
В бывшем доме Базанкур я нашел Бальзака, одетого в свою доминиканскую рясу, с белым капюшоном на голове, философски сидящего в камере на третьем этаже с видом на винный склад. Он усердно приводил в порядок какие-то бумаги.
— Как, дорогой мой! Вы принесли мне такую безделицу — двести франков? Этой суммы едва хватит на мои расходы…
— Черт возьми! Что же вы собираетесь здесь делать?
— Я собираюсь, дорогой мой, делать здесь то, что приличествует человеку благородного происхождения. Но подробности потом. Вы обедаете со мной, дорогой мой, не правда ли? Это будет чудесный обед, уверяю вас. Мне пришлет его Вефур, — сказал он нежнейшим голосом, — он будет тонок и вкусен… Не думайте, что я собираюсь жить здесь, как лавочник. Я хочу оставить здесь после себя воспоминания о всех традициях искусства хорошей жизни.
В шесть часов мы, действительно, спустились в столовую, — большой прокуренный зал, расположенный в первом этаже, серый, с огромной печкой, уставленный длинными столами, длинными скамейками. На конце одного из этих столов, около двери, было великолепно сервировано два прибора — это для нас. На другом конце зала было тоже накрыто на одного человека, сервировка была такая же роскошная, но там еще стояло два серебряных канделябра с тремя зажженными свечами в каждом. Это удивило и заинтриговало нас — было еще совсем светло.
Как и обещал мой гостеприимный хозяин, пир был достоин его. Сам он блистал остроумием, словечками, переливами голоса, неистощимым смехом… Около семи часов — ели и пили мы очень медленно — в самый разгар беседы, открылась дверь и вошел новый гость. Это был Эжен Сю. Он тоже пришел склонить голову под мечом правосудия дисциплинарных советов. Бальзак встал, бросил салфетку на стол и в порыве радости кинулся к нему на шею.
— Дорогой Эжен, — воскликнул он, — меня привела сюда моя счастливая звезда, которая нас соединила. Разделите наш обед со мной и моим издателем, которого вы давно знаете. Выпьем за нашу неожиданную встречу!
Приглашение Бальзака было полно очарования и откровенного чистосердечия, но будущий автор «Парижских тайн», положив на стол богатый бумажник из красного сафьяна, ответил ему с вежливостью, в которой однако был оттенок дурного тона, тем более для такого места и при таких обстоятельствах:
— Благодарю вас, Оноре, мой лакей и слуги принесут мне обед.
После этого он с достоинством уселся за стол…
Багровый от негодования Бальзак молча возвратился на свое место. Кончилось веселье, шутки, остроумие. Ответ Эжена Сю все заморозил. Бальзак забыл о том, что так веселило нас с начала обеда. Он был молчалив, озабочен, рассеян. Он был поражен в самое сердце. Чего Бальзак совершенно не мог переварить — так это двух великанов-лакеев в белых перчатках, которые прислуживали своему хозяину Эжену Сю…»
В поисках благополучия
С него нарисовали дурной портрет и поместили в «Воре». Он недоволен и позирует художнику Луи Буланже[184]. У него широкие плечи, львиная храбрость, сильный характер, и если иногда овладевает им меланхолия, то он все-таки смотрит в будущее с верою, хотя и проходят годы с жестокой быстротой, «и какие годы. Лучшие». И наконец-то он ожил под кистью художника таким, каким хотел себя увидеть: «То, что сумел схватить Буланже, и чем я доволен, — это упорство, как у Колиньи, как у Петра Великого, и это основа моего характера: упрямая вера в будущее».
Быть побежденным для Бальзака значит думать о новых и больших победах. Остановиться на положении сегодняшнего дня, хотя бы и весьма почетном, могло заставить только мелкое честолюбие, а поэтому, если политическая журналистика не привела к желанному депутатскому креслу, то надо ее бросить, и Бальзак принимает это решение, побывав на двух заседаниях палаты депутатов.
Перед ним — тупость ораторов, бессмысленность прений, а у него самого — малые шансы на победу над такой ничтожной посредственностью. Нет, лучше вмешаться в эти дела по меньшей мере в качестве министра, или пушечными выстрелами открыть себе двери Академии, которая даст возможность стать пэром, потом накопить громадное состояние, попасть в верхнюю палату и «взять власть при помощи самой власти».
Из двух событий 1836 года нам наконец становится ясным, насколько были серьезны политические увлечения Бальзака в общем плане его жизни. 27 июля умерла мадам де Берни. Больше нет ласковой материнской руки женщины-друга, мудрой помощницы и советчицы в житейских делах.
Бальзак не видел мадам де Берни целый год. Известие о ее кончине пришло «в тот момент, — замечает он, — когда я терял 40 тысяч франков. Это было слишком». И к вечному покою он проводил ее словами, обращенными к другой женщине: «Скорбь моя — не на один день, она наложит печать на всю мою жизнь».
Но когда пришли дурные вести о положении «Кроник де Пари», Бальзак упал в саду, пораженный ударом. Еще раз рушились мечты, и пьедестал пэра — «звания самого прекрасного после короля Франции» — дал новую трещину.
Удар в саду — это вероятно был долгий обморок, от которого он благополучно очнулся, и в конце июля уже смог отправиться в Италию. Средства на эту поездку он получил от графской четы Гвидобони-Висконти, так как обещал больному графу устроить его наследственные дела в Турине, причем, конечно, ранее этой поездки не столько интересовался наследством графа, сколько его женой, и искал около нее уюта и утешения. Однако, нежные чувства к графине не помешали ему захватить с собою некую писательницу Клер Брюн (мадам Марбути), любовницу Жюли Сандо. Клер Брюн для сокрытия своей личности облеклась в костюм пажа и ко всеобщему удовольствию ее везде принимали за Жорж Санд.
В Италии Бальзак проводит время среди тогдашней аристократической интеллигенции — юристов. Прошлая культура Италии его не захватывает, он торопится, дела Висконти до конца не доводит и пускается в обратное и романтическое путешествие с Клер Брюн. Памятуя о нем, он в 1842 году посвятил Марбути «Гренадьер», но впоследствии снял это посвящение, обидевшись на свою бывшую спутницу, изобразившую его в карикатурном виде в своем романе «Ложное положение».
В Париже его ждут новые романтические шалости — с некоей неведомой Луизой. С ней он начинает такую же переписку, как и с Ганьской, но Луиза не открывает ему своего инкогнито. Для начала Бальзак опять задрапировывается в гарольдов плащ, — он-де согбен в трудах и разочарован в чувствах, хотя и имеет «светские привязанности, подчиненные законам света» — это, разумеется, намек на Ганьску, дабы не попасть впросак. И также он хочет, чтобы Луиза ему заменила Берни. Он умоляет ее о свидании, он хочет реальности, для него любовь заключается в повседневных радостях, но предупреждает, что любить его — это жертва, на которую он едва ли согласится. Наконец, они обмениваются подарками. Он посылает ей переплетенную корректуру какой-то вещи, точно так же как ранее этого графине Висконти, хотя и пишет в то же самое время Ганьской, что все его рукописи и корректуры принадлежат только ей. Луиза присылает ему свои рисунки и акварели.
Бальзак не преминул и ей пожаловаться на то, что мадам де Кастри причинила его сердцу жестокие страдания. Мечта его жизни — иметь тайную любовь, о которой бы никто не знал, но очевидно «эта небесная поэзия неосуществима». Она грезится Бальзаку воздушной, поэтической женщиной, страстной и преданной — такой она бывает в некоторых письмах. Но переписка обрывается — Бальзак покорен желанию Луизы прекратить их более чем платонические отношения.
Мы остановились на этом факте не для того, чтобы доказать ветреность Бальзака — Бальзак был очень серьезный человек, но что делать, коли в нем безнадежно сидел чувствительный буржуа, который мог свой буйный физический голод удовлетворять по несложным рецептам из «сонника» своей эпохи.
Последняя книжка Бальзака «Лилия в долине» принята в прессе с большой руганью. Это объясняется и ее неудачным содержанием, и особенным интересом, с каким ждали читатели появления этого романа. «Лилия в долине» была запродана Бальзаком Бюлозу[185] для напечатания в «Ревю де Пари». Пока первые гранки кочевали из типографии к автору и обратно, Бюлозу пришла блестящая мысль использовать права договора, по которому в течение трех месяцев он мог располагать рукописью по своему усмотрению, и еще раз обернуть ее в печати. И он продал роман петербургскому журналу «Ревю этранжер».
Рукопись была отправлена в Россию в гранках, еще недоработанных Бальзаком, и потому в отрывках романа, появившихся в Петербурге, оказалась страшная путаница; благодаря особенностям бальзаковских корректур встречались фразы без начала и без конца.
К тому же русские наборщики много еще напутали от себя. Бальзак был в ярости. Он подал на Бюлоза в суд, и скандалом этим были полны парижские газеты. Бальзак выиграл процесс и немедленно выпустил роман в издании Верде, снабдив его предисловием, в котором оправдывался перед читателями. Книгу невероятно быстро раскупали. «В два часа, — вспоминает Верде, — я продал 1 800 экземпляров из 2 000, напечатанных мною».
Разочарование ожидавших нового романа, о котором так много говорили, было совершенно понятно, так как на этот раз Бальзак дал вещь не только не полноценную, но совсем неудачную, и, желая увековечить в лице героини романа образ де Берни, сочинил неживую личину нравственной ханжи, пострадавшей от рокового поцелуя и скончавшей свои дни от телесной неудовлетворенности. Тем более этот мертвый персонаж становится невыносимым, когда автор показывает его рядом с другими действующими лицами, изображенными мастерской реалистической кистью среди очаровательных туреньских пейзажей. Невыносим также и стиль этого романа, напыщенно повторяющий выспренние любовные излияния героев Руссо. Самое ценное в романе — его автобиографические черты, которыми мы воспользовались, описывая детство и отрочество Оноре.
Толки и пересуды о романе и процесс с издателем подняли темную муть сплетен, застоявшуюся на дне сердец, уязвленных славой и популярностью Бальзака. Вспомнили ему кстати и то, что он незаконно присвоил к своей фамилии частицу «де», и разбередили его тщеславие. В предисловии к роману Бальзак главным образом старается доказать, что он, несмотря ни на что, аристократ, но не доказывает этого и сводит свою защиту к тому, что если, мол, это и не так, то все-таки он — «де» Бальзак, раз уж осмелился об этом заявить.
Отдыхая в Саше, Бальзак в восемь дней набрасывает план «Погибших мечтаний». Вернувшись в Париж, пишет «Старую деву» и задумывает «Куртизанок». Пока отделывается квартира на улице Батайль, ои «играет в мансарду»; это — та самая мансарда, где жил раньше Жюль Сандо.
«Я развлекаюсь, — говорит он, — как герцогини, которые для забавы иногда едят ситный хлеб. Во всем Париже нет такой хорошенькой мансарды. Она беленькая И кокетливая, как шестнадцатилетняя гризетка. Я сделаю из нее запасную спальню на тот случай, если заболею, потому что внизу я сплю в коридоре, в кровати шириною в два фута, около которой остается только узкий проход. Доктора сказали, что это не вредно для здоровья, но я побаиваюсь. Мне нужно много воздуха, я поглощаю его в огромном количестве. Я мечтаю о большой гостиной, где расположусь через несколько дней. Моя квартира стоит мне семьсот франков, но зато я буду избавлен от национальной гвардии. Меня все еще преследуют полиция и штаб, и мне грозит неделя тюрьмы. Я больше не буду выходить, и они меня не поймают. Здешнюю квартиру я снял под чужим именем, а официально перееду в меблированные комнаты».
Не только из-за этих опасностей придумал себе Бальзак новое убежище. К числу его преследователей надо отнести и некоторых кредиторов и друзей, от которых он старался скрыть кое-какие подробности своей жизни, на что ясно намекает Теофиль Готье, описывая его квартиру на улице Батайль: «В этот дом было не так-то легко проникнуть — он охранялся лучше, чем сады Гесперид. Нужно было знать несколько паролей, Бальзак часто менял их. Вспоминаю следующие: обращаясь к портье, говорили: «начали созревать сливы», — И он пропускал вас через порог; слуге, прибегавшему на звонок, нужно было пробормотать: «я принес бельгийские кружева», и, наконец, когда вы убеждали лакея, что «госпожа Бертран в добром здоровьи», — вас допускали до хозяина. В «Златоокой девушке» есть описание гостиной на улице Батайль. Оно сделано с самой щепетильной точностью.
В перекличку с фантастическими коммерческими планами самого Бальзака возникают не менее фантастические спекуляции вокруг его имени. Популярность Бальзака, теперь уже несомненная, возбуждает аппетит коммерсантов.
И вот вскоре одно за другим возникают два предложения Бальзаку по эксплуатации его произведений. Нашелся некий спекулянт по имени Богэн, предложивший заключить с Бальзаком договор под благородным предлогом дать ему возможность окончательно избавиться от долгов. По этому договору Бальзак должен был получить 50 тысяч франков и уступить Богэну издание всех своих произведений, бывших и будущих, сроком на пятнадцать лет. За это время, кроме указанной суммы, в первый год договора Бальзаку причиталось ежемесячно полторы тысячи франков, во второй год — по три тысячи, а затем во все остальные годы — по четыре тысячи франков. Кроме того, ему обещана была половина всех барышей.
Однако, к счастью для Бальзака, акционерное общество, составленное Богэном для этой цели, распалось, но вскоре же возникает новый план, которым очень легко было соблазнить автора, ввиду того, что его преданнейший друг и издатель Верде прогорел и поставил этим Бальзака под угрозу отсидки в долговой тюрьме.
«Для меня готовится выгодное дело, — пишет Бальзак Ганьской, — полное собрание моих сочинений с виньетками, основанное на пикантной и интересной для публики комбинации. Будет создана тонтина, и часть прибылей пойдет в пользу подписчиков, разделенных на классы по возрасту: от 1 до 10, от 10 до 20, от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60, от 60 до 70, от 70 до 80. Таким образом можно будет иметь великолепную вещь в смысле типографского искусства и шанс на ренту в тридцать тысяч франков. Капитал ренты будет кроме того переходить по наследству».
Бальзаку надо было стать участником темного дела, называемого буржуазной прессой, испытать все его соблазны, усыпить совесть, поверить лести, в советах столь быстро установившейся дружбы не распознавать коварства завистника, и, наконец, самому пострадать от клеветы и жадности, чтобы взять на себя роль такого беспощадного обличителя этих держателей нравственных и политических акций буржуазного общества, сделаться единственным в своем роде прокурором его печатного слова, каким был и остался по сей день Оноре де Бальзак.
Цинизм журналистской попойки у банкира Тайльфера в «Шагреневой коже» не возбудил серьезных подозрений ремесленников пера касательно дальнейших разоблачений паучьей системы газетных и журнальных силков, и они расценили его, как художественный вымысел, как некую подробность в фабуле, нужную автору для дорисовки образа героя романа. Редакторы сохранили олимпийское спокойствие. А на самом деле в творческой мастерской Бальзака постепенно созидалась эпопея ужасающих нравов печати, целая галерея ее дельцов, в руках которых оказались весы, градусники, метры для взвешивания продуктов всех искусств, для измерения политических температур, для установления роста гениев и талантов.
Иллюзий больше нет, есть только факты, и законодатель их — золото. Тот, кто явится в Париж, веруя в бескорыстную Музу, тот окажется на краю гибели, с пустыми карманами, ибо цел и благополучен только тот, кто будет служить золотому тельцу так же, как некогда служил своей совести.
«Лавочник». Рисунок Гаварни
Жизнь и страдания молодого поэта Люсьена Шардона, приехавшего в Париж завоевать себе славу — тема романа «Погибшие мечтания», вышедшего в феврале 1837 года. Это произведение насыщено жестоким протестом против общественных и политических нравов Франции. Ни в одном романе жизнь Франции не изображена с такой полнотой и разнообразием: нравы провинциального города, столица, ее бедные и богатые кварталы, театральные ложи и театральные кулисы, редакции и банки, великосветские львы и львицы, актрисы и куртизанки, писатели, журналисты, клакеры, каторжники, мансарды, кабачки и аристократические отели… Вот, что говорит обо всем этом Бальзак, вкладывая циническое признание в уста журналиста Люсто, этого типичнейшего представителя авгиевых конюшен буржуазии:
«…вы намерены выколачивать деньги из своей чернильницы… Бедное мое дитя, я пришел сюда, как и вы, с сердцем, полным иллюзий, побуждаемый любовью к искусству, несомый к славе незримым порывом, и я узрел горькую действительность ремесла, трудности издательского дела и неизбежную нужду…
У литературной жизни есть свои кулисы. Партер аплодирует успеху, случайному или заслуженному, кулисы же раскрывают пути к этому успеху, всегда отвратительные, размалеванных статистов, клакеров и мальчиков на побегушках. Вы еще находитесь в партере. Есть еще время, — откажитесь, прежде, чем поставить ногу на первую ступеньку трона, который оспаривают друг у друга столько честолюбцев, и для того, чтобы жить, не падайте так низко, как я…
Не думайте, что политический мир много красивее мира литературного: и в том и в другом мире все продажно — человек либо покупает, либо продается. Когда дело идет о сколько-нибудь значительном издательском предприятии, книгоиздатель мне платит, боясь моих нападков. Мои доходы зависят от объявлений о выходе новых книг…
Актрисы тоже платят за похвалу, но более ловкие платят за критику, ибо молчания они боятся больше всего. И правда, критика, написанная для того, чтобы ее опровергали в другом месте, стоит больше и оплачивается дороже, чем сухая похвала, назавтра уже забытая.
Полемика, мой дорогой, это подножие известности. На этом ремесле наемника идей и репутаций — промышленных, литературных и театральных — я зарабатываю 50 экю в месяц, а продай я за 500 франков роман — меня начнут считать за человека ненадежного…
За пределами литературного мира нет ни одного человека, который знал бы ужасную одиссею, при помощи которой приходят к тому, что можно назвать (в зависимости от силы таланта) успехом, модой, популярностью, известностью, знаменитостью, благосклонностью публики — этими различными ступенями, которые ведут к славе, но никогда ее не заменяют…
Эта столь желанная известность почти всегда — коронованная проститутка. Да, в низких областях литературы она — бедная девка, мерзнущая на углу улицы; в литературе второго сорта — это женщина-содержанка, вышедшая из злачных мест журналистики, которой я служу сутенером; в литературе удачливой — это блестящая, наглая куртизанка, у которой есть движимость, которая платит налоги государству, принимает вельмож, обращается с ними плохо или хорошо, у которой есть своя прислуга в ливрее, свой выезд, которая может заставлять ждать своих кредиторов…
Словом, дорогой мои, секрет успеха в литературе — не труд, а уменье пользоваться трудом других. Владельцы газет — подрядчики, мы — каменщики. Поэтому чем более посредственен человек, тем быстрее он преуспевает; он может глотать живьем жаб, соглашаться со всем, льстить низким страстишкам литературных султанов…
Чтобы создавать прекрасные произведения, мое бедное дитя, вы будете полными чернильницами черпать в своем сердце любовь, пыл, энергию, вы изойдете страстями, чувствами, фразами. Да, вы будете писать вместо того, чтобы действовать, петь вместо того, чтобы бороться, вы будете любить, ненавидеть, будете жить в своих книгах; но когда вы отдадите ваши богатства своему стилю, ваше золото, ваш пурпур — своим персонажам, когда вы будете прогуливаться в лохмотьях по улицам Парижа, счастливый тем, что, соперничая с актами гражданских состояний, создали существо по имени Адольф, Коринна, Кларисса, Рене, когда вы испортите свою жизнь и свой желудок, чтобы дать жизнь этому созданию, — тогда вы увидите, что его оклеветали, предали, продали, погрузили в пропасть забвения, погребли ваши лучшие друзья, журналисты. Будете ли вы в состоянии ждать того дня, когда ваше создание воскреснет, пробужденное — кем? когда? как?..»
Для юного и восторженного Люсьена это звучит, как мрачный хорал, сопровождающий на костер невинно осужденного, этими словами совлекается нарядный и блестящий покров с тайн, которые скрыты в механике угнетателей и в судьбах тысячи тысяч, продающихся им в полное рабство. Благодаря этому роман Бальзака приобретает значение величайшего исторического памятника.
«Бальзак, — пишет Энгельс мисс Гаркнес, — которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», описывая в виде хроники нравы, год за годом, с 1816 до 1848 года, все усиливающийся нажим поднимающейся буржуазии на дворянское общество, которое оправилось после 1815 года, и опять, насколько это было возможно (tant bien que mal), восстановило знамя старой французской политики.
Он описывает, как последние остатки этого образцового для него общества постепенно погибли под натиском вульгарного денежного выскочки или были развращены им; как grande dame (знатная дама), супружеские измены которой были лишь способом отстоять себя, вполне отвечавшим тому положению, которое ей было отведено в браке, уступила место буржуазной женщине, которая приобретает мужа для денег и для нарядов. Вокруг этой центральной картины он группирует всю историю французского общества, из которой я узнал даже в смысле экономических деталей больше (например, перераспределение реальной и личной собственности после революции), чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе.
Правда, Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым восхищением, это его наиболее ярые противники — республиканские герои Cloitre Saint Merri, те люди, которые в то время (1830–1836) были действительно представителями народных масс. То, что Бальзак был принужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где в это время их только можно было найти, — это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей сатирика-Бальзака».
Стремление к большим заработкам побуждает Бальзака обратиться к драматургии и театру, где успех пьесы может обеспечить постоянный приток денег в течение долгого времени. Бальзак садится за пьесу и, так же как и в романе, пытается и в этом роде творчества отрешиться от канонов романтической школы и ее величественность сменить «фламандской школы пестрым сором».
«На театре — замечает он в письме к Арману Переме, — сейчас возможно показывать только правду, как я пытался ввести ее в роман. Но быть правдивым не дано ни Гюго, талант которого увлекает его в сторону лирики, ни Дюма, который отошел от правды, чтобы никогда к ней не вернуться: он может быть только тем, чем он был. Скриб истощился…
Вы знаете мои взгляды по этому поводу. Они обширны, и их осуществление часто меня пугает. Но у меня достаточно и упорства и терпения в работе. Чтобы добиться успеха, нужен только труд и еще кое-что, что, чувствую, во мне есть… В качестве пробного шара я пущу драму из буржуазной жизни».
Это и была пьеса «Школа супружеской жизни», и после «Кромвеля» — не первая попытка писать для театра. Бальзак много раз набрасывал планы будущих пьес, много раз предлагал своим друзьям-писателям сотрудничество в этом деле, но все эти попытки реального завершения не получили. «Школе супружеской жизни» суждено было два года пролежать в столе Бальзака, пока она наконец не попала в театр.
Новые планы и работы отвлекали Бальзака от написания «Цезаря Биротто», на которого уже давно был заключен договор. В марте 1837 года Бальзак для отдыха едет в Италию, объезжает много городов, но впечатлений от этой поездки он не оставил нам ни в письмах, ни в своих произведениях. Большим лишением для него было то обстоятельство, что Теофиль Готье не мог принять участия в этом путешествии: его задержали в Париже срочные дела.
Безусловно, этот умный и тонкий ценитель памятников искусства был бы для Бальзака ценнейшим гидом. Ведь и все его творчество питается впечатлениями от изобразительных искусств, согрето светом живописных полотен, и в самом стиле его оживают строгие линии античных скульптур.
Бальзак по своим художественным вкусам не подымался выше рядового обывателя, и его склонность к собирательству антикварных вещей и картин шла не от потребности, а от моды, начало которой следует отнести к годам Первой империи. К тому же надо сказать, что, коллекционируя редкие вещи, Бальзак и в этом деле проявлял коммерческие инстинкты: покупая какую-нибудь вещь, мечтал о том, за сколько он ее может продать и сколько нажить.
«Парижанка». Рисунок Гаварни
Итальянское солнце и разнообразие путешествия благотворно подействовали на утомленные нервы Бальзака, и он вернулся в Париж веселым и поздоровевшим. Здесь его ожидало приятное известие о том, что предпринимается иллюстрированное издание собрания его сочинений. Правда, многие журналисты злорадствовали И подсмеивались над этим предприятием, в которое не верили, но на самом деле издание успешно подготовлялось, заказывались гравюры на стали, и первым томом должна была выйти «Шагреневая кожа».
«Биротто» опять не двигается, потому что Бальзак садится за повесть «Банкирский дом Нюсенжан» и печатает его в «Прессе». Это произведение является развитием двух любимых образов бальзаковской галереи — Растиньяка и банкира Нюсенжана.
Интересно отметить, что с появлением в свет первой части «Погибших мечтаний» Бальзак все время находится в кругу действующих лиц этого произведения, как будто неослабно следит за их дальнейшей судьбой, а поэтому тут же возникает план «Куртизанок», «Банкирский дом Нюсенжан» и следующая часть (продолжение) «Погибших мечтаний» — это все вместе и составляет главное ядро «Человеческой комедии». Понятно, почему «Биротто» откладывался в сторону.
Но больше откладывать было нельзя. «Фигаро» требовал выполнения договора, и Бальзаку, как и всегда в таких случаях, пришлось опять взвалить на себя колоссальный труд. В двадцать два дня он заканчивает «Биротто». И, конечно, эта творческая горячка немедленно отразилась на состоянии Бальзака: он опять не может работать, с двенадцати ночи до восьми утра, при свете свечей, он беспомощно сидит перед белым листом бумаги, прислушиваясь к треску горящих в камине поленьев и к грохоту карет, от которого дребезжат стекла. Кофе уже не оказывает на него никакого действия, — «оно не вызывает на свет внутреннего человека, спрятанного в своей тюрьме из мяса и костей».
Как писался «Биротто», можно судить по фельетону Эдуарда Урлиака под названием «Злоключения и подвиги Цезаря Биротто до его рождения на свет», помещенному в «Фигаро» в день появления на его страницах начала этого романа:
«…Это — типографский подвиг, литературный и технический фокус, достойный быть отмеченным. Автор, издатель и типограф — все более или менее заслужили благодарность отечества. Потомство будет говорить о метранпажах, и наши правнуки будут жалеть, что не знают имен учеников. Я уже сейчас жалею об этом, а то бы назвал их.
«Фигаро» обещал дать книгу к 15 декабря, а господин де Бальзак начинает ее 17 ноября. У господина де Бальзака и у «Фигаро» — странная привычка держать свое слово, раз они обещали. Типография стояла наготове и била в землю копытом, как разгоряченный боевой конь. Господин де Бальзак тотчас же присылает двести листков, исписанных карандашом в пять лихорадочных ночей. Вы знаете его манеру. Это был набросок, хаос, апокалипсис, индусская поэма. Типография бледнеет. Срок короток, почерк неописуем. Чудовищу придают человеческий вид, переводят его постепенно на язык известных знаков. Самые искусные перестают что-либо понимать. Его несут к автору.
Автор присылает две первые корректуры, наклеенные на огромные листы, афиши, ширмы. Тут-то все застонали и заплакали. Вид этих листов был ужасен. Представьте себе четыреста или пятьсот арабесок, соединяющихся, свивающихся, лезущих вверх и переползающих с одного поля на другое, с юга на север. Представьте себе двенадцать географических карт, на которых перепутаны все города, реки и горы. Моток ниток, спутанный котенком, все иероглифы династии фараонов, фейерверки двенадцати празднеств.
При виде этого типография пала духом. Наборщики били себя в грудь, тискальщики стонали, факторы рвали на себе волосы, ученики теряли голову. Наиболее сообразительные храбро взялись за корректуры и узнали персидский язык, другие — Мадагаскарское письмо, некоторые — символические письмена Вишну. Принялись за работу, предавшись на волю случая и на милость божью. На следующий день господни де Бальзак присылает два листа на чистейшем китайском языке. Остается всего две недели. Один великодушный фактор предлагает покончить самоубийством. Приходят еще два листа, очень разборчиво написанные на сиамском языке. Двое рабочих теряют зрение и то немногое, что знали из родного языка.
В таком виде корректуры присылаются семь раз подряд. Начинают различать кос-какие признаки превосходного французского языка; замечают даже некоторую связь между фразами. Но срок приближается — сочинение не выйдет в свет. Отчаяние достигает пределов, и тут дело осложняется небывалым стечением обстоятельств…» (описываются невероятные похищения, погони и т. п.).
«Сочинение в отличном виде, и г-н Бальзак и «Фигаро» сдержали слово. «Цезарь Биротто» увидит свет 15 декабря, Он у нас, мы его держим крепко. Дом охраняется, заперт и забаррикадирован. В нем не позволяют курить. На всех крышах поставлены громоотводы, а у всех дверей — караул. Приняты все меры предосторожности как против злоумышленников, так и против слишком рьяных подписчиков.
Закончив работу, типографщики зарыдали от радости, наборщики бросились друг другу на шею, и тискальщики стиснули друг друга в объятиях. Это были восторги, как после освобождения Медузы или взятия Константинополя. Мы все целовались, но просим публику, как бы ей этого не хотелось, не следовать нашему примеру…
«Сейчас это — сочинение на два тома, широкое полотно, целая поэма, задуманная, написанная и исправленная в пятнадцать приемов господином де Бальзаком в двадцатидневный срок, и расшифрованная, разобранная и набранная пятнадцать раз за то же время. Составлено в двадцать дней господином де Бальзаком, несмотря на типографию; набрано в двадцать дней типографией, несмотря на господина де Бальзака. Мы не вдаемся здесь в вопрос о достоинствах этой книги. Она сделана чудесным образом и с чудесной быстротой. Будь, что будет! Вполне возможно, что она окажется просто шедевром. Тем хуже для нее».
Этот фельетон написан с явным намерением рекламировать новое произведение Бальзака, и оно действительно оказалось достойным этой рекламы. Труд, положенный на него Бальзаком, был колоссален, и само произведение — совершенно замечательно. Уже в самом названии этой вещи — «Величие в падение Цезаря Биротто» — включен весь ее смысл: это — рассказ о судьбе среднего человека, золотом возведенного на пьедестал и свергнутого с высоты его в полное ничтожество силами противоречий капиталистической системы.
Но вот Бальзак опять во власти своей неизбывной страсти к коммерческим авантюрам. Он должен ехать в Сардинию. Цель его путешествия — область Аргентара, где находятся копи, заброшенные со времен открытия Америки. В прошлом году некий негоциант в Генуе рассказал ему, что в Аргентаре имеются залежи свинцовой руды, а между тем приятель его бывшего сожителя художника Борже, химик, может извлекать каким-то одному ему известным способом из любой руды золото и серебро. На поездку в Сардинию Бальзак с трудом добывает денег, но что они значат перед колоссальным богатством, которое его ожидает? Он едет туда ободренный советами господина Каро, человека весьма практического.
Родина Наполеона, Корсика, ему не нравится: корсиканцы — народ дикий и равнодушный, удобств никаких. Видел дом, где родился Наполеон, и узнал многое, что должно внести существенные поправки в биографию великого полководца. Женщины на Корсике не любят иностранцев — жалуется Бальзак — мужчины целый день гуляют и курят. Дети копошатся здесь в каждом углу, как мошки в летние вечера. Из этого Бальзак делает заключение, что здесь очень много любят. Его никто здесь не знает, ибо никто ничего не читает, но вскоре он утешился, так как какой-то парижский студент наконец-то его узнал, и в местной газете появилась заметка о приезде Бальзака.
Бальзак исколесил всю Сардинию верхом, ездил по восемнадцати часов подряд, с опасностью для жизни пробирался через девственные леса и сквозь лианы, и, увы, все эти героические подвиги ни к чему не привели: генуэзец, которому он поручил дело покупки рудников, действовал слишком медленно, и у него под самым носом их перехватил некий марселец, который добывает из руды свинец, а из свинца — серебро. Расчеты Бальзака были правильны, но он опоздал. Однако на всякий случай он захватил с собой образцы какой-то другой руды — может быть, повезет на ней.
На обратном пути Бальзака задержал австрийский консул, который не дал ему визы в Милан, а в Милане он сам задержался, ибо его осенило вдохновение и он решил написать книгу о счастливой любви, самую замечательную во всей мировой литературе. В гостинице он жить не мог, и князь Порциа предоставил ему у себя хорошенькую комнатку. А вообще ему грустно — у него долги и никто его не любит. Его снедает тоска по родине, — в Милане слишком синее небо. Но уехать отсюда очень трудно, и он в отчаянии: на путешествие он потратил три месяца, а между тем надо работать…
Не все было так, как описывает сам Бальзак. В Милане он задержался не потому, что внезапно посетила его муза, а потому, что он и в эту поездку продолжал выполнять поручении графини Висконти. Надо было только для Ганьской спрятаться за спину своей покровительницы — музы. Начиная с возвращения из Вены переписка Бальзака с Ганьской приобретает иной тон. Мадам, осведомленная, очевидно через какое-то доверенное лицо в Париже, о жизни и поведении писателя, шлет ему упреки и почти всегда вполне основательные, он же пытается защищаться, по большей части присочиняя на себя и избегая прямого ответа. Во всяком случае письма становятся реже и суше. Иногда он не пишет ей по нескольку месяцев.
Осведомленность Ганьской о жизни Бальзака не поднималась выше сплетен тетушки Ржевусской о его пьянстве, о его женитьбах на каких-то неизвестных особах и иных любовных похождениях. Неуемность ненасытимой бальзаковской натуры мадам Ганьска, — как и надлежало такой практической даме, — принимала только за легкомыслие, и прав был Бальзак, когда писал ей в весьма саркастическом тоне, отвечая на упреки за его «сумасшедшие» поездки в Италию и Сардинию: «Значит, вы хотите, чтобы человек, который может написать в пять ночей «Цезаря Биротто», ходил размеренным шагом как рантье, который прогуливает свою собачку по бульвару, читает «Конститюсьонель», возвращается домой обедать, а вечером играет на бильярде?»
«Ваша тетка сделала из меня игрока и развратника, — у нее есть доказательства, говорите вы. Вот уже семь или восемь лет, как я работаю по шестнадцати часов в сутки, и это вам известно. Если я — игрок и развратник, то тогда человека, написавшего за семь лет тридцать томов, не должно существовать. Эти два человека не могли бы ужиться под одной кожей, или же бог создал необыкновенное существо, каким я не являюсь?..» Для Ганьской эти доводы были малоубедительны.
Еще до поездки в Сардинию Бальзак решил скрыться от угроз национальной гвардии и уехать из Парижа, и будто бы для этой цели г-н Сюрвиль купил ему клочок земли под Севром и принялся за постройку дома. Это было Жарди. На самом деле испуг перед преследованием этого врага был только формальной придиркой к осуществлению заветнейшей мечты собственника, который сидел в нем крепко и всю жизнь: «Ах, боже мой, когда же у меня будет свой клочок земли, маленький замок, хорошая библиотека, и когда же я смогу жить там беззаботно вместе с любовыо моей жизни?»
Мечты Бальзака осуществились:
«У меня арпан земли, заканчивающийся на юге террасой в 150 футов и окруженный стенами. Здесь еще ничего не посажено, но осенью мы сделаем из этого клочка земли эдем с растениями, цветами и кустами. В Париже и в окрестностях можно все иметь за деньги; у меня будут двадцатилетние магнолии, шестнадцатилетние липы, двенадцатилетние тополя, березы и прочие деревья, пересаженные с корнями и комьями земли, привезенные в корзинах, и некоторые через год будут давать плоды. О, эта цивилизация восхитительна.
Сейчас моя земля гола как ладонь. В мае месяце это будет потрясающе. Мне нужно приобрести еще два арпана земли рядом, чтобы иметь огород, фрукты и т. д. Для этого понадобится тысяч тридцать франков, и я хочу заработать их этой зимой.
Дом — нашест для попугая. В каждом этаже по комнате, и три этажа. Внизу — столовая и гостиная, во втором этаже — туалетная комната и спальня, в третьем — рабочий кабинет, где и пишу вам сейчас глубокой ночью. Все это соединяется лестницей, которая сильно смахивает на стремянку.
Обстановки пока никакой нет, но все, что у меня есть в Париже, постепенно сюда прибудет. Сейчас мне прислуживают бывшая мамина кухарка и ее муж. Но мне еще по крайней мере месяц придется жить среди каменщиков, маляров и других рабочих, и я работаю или, вернее, собираюсь работать, чтобы за все это заплатить. Когда внутренняя отделка будет закончена, я вам ее опишу».
Бальзак прекрасно оправдал свои характер и в этом деле. Ведь он и в своем творчестве замысел всегда считал за уже выполненное произведение. Также было и здесь. Он переселился в Жарди — дом, который еще не был отстроен, а то, что было отстроено, начинало уже разрушаться. Да и сам Бальзак, гуляющий по своему так называемому «парку», не очень был похож на владельца замка.
«Бальзак, — вспоминает Гозлан, — был живописен в лохмотьях. Его штаны без помочей не встречались на животе с его обширным банкирским жилетом, такое же расстояние было между штанами и стоптанными туфлями, кончики галстуха попадали ему в уши, щеки его были покрыты пышной четырехдневной растительностью». Очарование этого толстяка в лохмотьях могли понять только немногие, приезжавшие сюда, чтобы беседовать с великим писателем Франции…
В Жарди Бальзак работает над «Куртизанками», «Сельским священником» и «Крестьянами». Помимо этого его начинает все более и более увлекать мысль о работе для театра. Пьесе «Школа супружеской жизни» суждено было, наконец, попасть в руки директора театра «Ренессанс», Антенора Жоли.
Дела театра шли плохо, его мог спасти только какой-нибудь «гвоздь сезона». Расчет был на Бальзака, но к его несчастью Жоли вновь помирился с Дюма, который тоже предложил ему свою пьесу. Жоли, разумеется, предпочел Бальзаку Дюма, и его «Алхимик» вытеснил «Школу супружеской жизни». Возмущенный Бальзак бросил в огонь все находившиеся у него экземпляры пьесы.
Надежды на большие заработки рухнули, а он, очевидно, сидел без денег, так как еще ранее изыскивал средства для покрытия расходов по Жарди продажею своих записей. Он продал собранные им мысли Наполеона за четыре тысячи франков какому-то бывшему шляпочнику, но без своего авторства. Однако для успеха издания он снабдил книгу предисловием и посвящением… королю Людовику-Филиппу: «Ваше Величество, награда, к которой стремился составитель сего труда — это честь посвятить его Вашему Величеству. Вам, Ваше Величество, принадлежит этот завет гения, возжаждавшего полноты власти для торжества Франции; разве мы не обязаны Вам победами, составляющими зависть всей Европы и достигнутыми благодаря честным гражданственным мыслям, которых недостает в этих «Изречениях», слишком часто внушенных необходимостью, и где всюду мелькает капитанская шпага? Итак, Вы один, Ваше Величество, можете когда-нибудь обогатить эту сокровищницу, не повредив свободе». «Изречения и мысли Наполеона, собранные Ж.-Л. Годи младшим» имели успех, и шляпочник Ж.-Л. Годи младший получил крест Почетного легиона.
Но это не спасло Бальзака от кредиторов, которые назойливо посещали Жарди. В защиту от них Бальзак придумывал всякие ухищрения. Как только слышался свисток парижского поезда, раздавался крик: «На караул!» и когда минут через пять-шесть звонил звонок, все в Жарди замирало. Садовник превращался в древесный ствол, собаку поднимали вверх на веревке, привязанной к ошейнику. Бальзак со своими гостями прятался за зеленые ставни и едва дышал. Дрожа от страха и радости, «отважный» романист слушал ругательства разъяренного кредитора перед дверями. Когда наконец кредитор, ничего не добившись, уезжал в Париж, Жарди вновь расцветало: ставни распахивались… собака начинала лаять, гости оживлялись… до прихода следующего поезда. Но бывали и другие случаи, когда по оплошности хозяина кредиторы все-таки врывались в дом, и тогда уже из дому вытаскивалось то немногое, что в нем было, вплоть до посуды, приготовленной к обеду, вместе с ее содержимым.
Дом в Жарди все еще не устроен: обваливаются степы, многое требует ремонта, но это не мешает Бальзаку помышлять об уютной жизни, о супруге, какой-нибудь тридцатилетней вдове, но только, конечно, с приданым, так как в голове Бальзака громоздятся великие проекты о покупке соседних участков, о разведении фруктовых садов и о культуре ананасов, которые будут продаваться в Париже в торговой палатке с золотой вывеской. Но мечты остаются мечтами и дом продолжает разрушаться.
Бальзак по-прежнему работает день и ночь. В 1839 г. он пишет «Сельского священника», вторую часть «Погибших мечтаний» и «Беатрису» — тот самый роман о счастливой любви, который был задуман в Милане. Летом этого года его навещает Гюго; вместе с ним и Гозланом Бальзак принимает участие в занятиях комитета Общества литераторов по вопросу об авторском праве, тогда еще не существовавшем во Франции.
Бальзак яростно защищает писателей, но вскоре ему приходится защищать самого себя, и не по поводу авторского права, нарушенного по отношению к нему, а по поводу сплетен в духе тетушки Ржевусской, которые получили в «Газетт дез-эколь» некое художественное оформление. Появилась карикатура, изображающая Бальзака в тюрьме Клиши, сидящего за столом, заставленным винными бутылками, в обнимку с некоей особой. Под карикатурой подпись: «Преподобный отец постоянного ордена братьев Клиши, дон Серафитус Мистикус Горио, посаженный в тюрьму, куда им самим были посажены многие, принимает в своем вынужденном одиночестве утешения Святой Серафиты (Сцены тайной жизни, продолжение Сцен частной жизни)». Бальзак возбудил судебное дело и подал прокурору заявление о диффамации, пригласив для ведения дела адвоката Общества литераторов.
А через некоторое время он берет на себя роль защитника по делу нотариуса Пейтеля, убившего свою жену и слугу. Пейтель встречал Бальзака в редакции «Вора» в ранние годы его литературной деятельности; еще с этой поры он уверовал в силу бальзаковской речи, и когда с ним стряслась беда, решил, что только Бальзак может выручить его из несчастья, и послал ему из тюрьмы письмо с просьбой о защите.
Бальзак ревностно занялся спасением Пейтеля, но было уже поздно, — приговор был вынесен, да и самое защитительное слово, написанное Бальзаком и бездарно прочитанное перед судом каким-то адвокатом, не содержало абсолютно никаких доказательств в оправдание обвиняемого. Бальзак старался уверить суд, что он, как писатель, своим психологическим прозрением может угадать, совершил или не совершил человек преступление, и что такой человек, как Пейтель, не мог быть убийцей, ибо он его знает, и даже, если бы не знал, достаточно было бы Бальзаку взглянуть на него хоть раз, чтобы установить его невиновность.
Не сердоболие и не чувство справедливости толкнули Бальзака на такую защиту и на расход в десять тысяч франков, а вернее всего втайне лелеемая надежда на популярность. Мечты эти не сбылись так же, как не сбылись мечты быть избранным в академики. Рядом с кандидатурой Бальзака встала фигура Гюго, и Бальзак отступил.
Наконец-то, в 1840 году, театральные замыслы Бальзака становятся близки к осуществлению. Он пишет пьесу «Вотрен», содержание которой не представляет сценического интереса и которая могла рассчитывать на успех только потому, что герой ее, Вотрен-каторжник, имел уже особую популярность среди читателей.
История с постановкой «Вотрена» весьма поучительна. Бальзак был измучен переделками пьесы. «Его усталость, — вспоминает Гозлан, — приобрела настолько публичный характер, что многие, зная час, когда он проходил по бульварам, возвращаясь домой с репетиции, ждали его. Его широкий синий сюртук с квадратными отворотами, его обширные казацкие шаровары цвета «нуазетт», его белый жилет, и особенно его огромные башмаки, кожаные языки которых торчали наружу, вместо того, чтобы прятаться под шаровары, — весь этот убор, слишком для него широкий, тяжелый, пропитанный грязью, — потому что бульвары тогда были очень грязны, говорил о беспорядке, о расстройстве, о невероятной сумятице, которую внесли в его жизнь драматургические опыты».
Все это Бальзак перенес со свойственным ему мужеством и упрямством, но премьера не вознаградила его за эту усталость. Впереди было новое хождение по мукам. Первые три действия прошли мирно, время от времени только слышались роптания — предвестники бури. Гроза разразилась в четвертом действии, когда Фредерик Леметр[186], исполнявший роль Вотрена, появился на сцене в причудливом костюме мексиканского генерала Крустаменте: шляпа с белым пером, украшенная райской птицей, небесно-голубой мундир, шитый золотом, белые панталоны, ярко-оранжевый кушак, невероятных размеров шпага. Крики, восклицания, шутки встретили его выход.
Дело было почти проиграно, и оно оказалось проигранным окончательно, когда Фредерик, сняв свою шляпу, обнаружил перед зрителями пирамидальный бунтовской кок — характерную прическу короля Людовика-Филиппа. Скандал был полный, и он усугубился благодаря тому, что в литерной ложе сидел старший сын короля.
Принц тотчас же покинул театр, и с этого момента до конца представления раздавались яростные свистки, прерываемые приступами смеха. Фредерик, в надежде спасти положение, дурачился даже там, где по роли надо было быть серьезным. Прежде это ему удавалось, но на этот раз он оказался менее счастливым: занавес опустился при ужасающем шуме, и великому комику пришлось отказаться от мысли «вызвать автора».
Пьесу запретил министр внутренних дел. Бальзак оказался в затруднительном положении, так как взял под нее 17 500 франков аванса. Директор театра Дрель окончательно разорился. Гюго вступился за Бальзака и вместе с ним и Арелем посетил министра, после чего к Бальзаку явился директор изящных искусств Каве с тем, чтобы передать ему и качестве компенсации некую сумму.
Сам Бальзак рассказывает об этом так: «Ко мне явились с предложением возместить мне убытки — для начала пять тысяч франков. Я покраснел до корней волос и ответил, что милостыню не принимаю, что я заработал 200 тысяч франков долгу, написав двенадцать или пятнадцать шедевров, которые прибавят кое-что к славе Франции девятнадцатого века, что я уже три месяца потерял на репетиции «Вотрена», и за эти три месяца мог бы заработать 25 тысяч франков, что за мною гонится стая кредиторов, но до тех пор, пока я не могу удовлетворить их, мне совершенно безразлично, будет ли меня преследовать пятьдесят или сто человек, — чтобы сопротивляться им, нужна та же доля мужества. Директор изящных искусств Каве вышел, — как он мне сказал, — проникнутый уважением в восхищением. — Вот, — сказал он мне, — первый раз в жизни я получил отказ. — Тем хуже для вас, — ответил я».
Неуспех «Вотрена» не охлаждает драматургического пыла Бальзака: он пишет пьесу «Меркаде» — комедию, где высмеивает биржевых прожектеров. Рукопись ее он передал Фредерику Леметру, который нашел в ней много недостатков и посоветовал Бальзаку внести исправление. Пьесе этой суждено было увидеть театральные подмостки только через год после смерти Бальзака и Теофиль Готье вспоминает о ней в некрологе: «Мы давно уже знали «Меркаде». Бальзак читал нам его в первоначальном виде в Жарди, где он тогда жил, и с каким смыслом, с каким разнообразием интонаций, с какой комической силой, — ни одно перо не может этого передать. Никакое театральное представление не сравнится с этим чтением. При звуке голоса автора толпами появлялись странные силуэты: костюмы, жесты, позы, гримасы, — вы все угадывали. Кредиторы кишели всюду; хор судебных приставов сопровождал ход драмы, и гербовая бумага падала хлопьями, как нескончаемый снег в полярную ночь. Он влагал в роль Меркаде вихрь чувств, зачаровывающую силу, лиризм, способность к ухищрениям невероятные. Одетый в свою белую рясу монаха, сидя между двумя семисвечными канделябрами, он жестикулировал, встряхивал своими густыми бровями и мощной гривой, тогда еще совсем черной…»
Не насадивши фруктовых садов и ананасов, Бальзак продает Жарди, по-видимому, с правом в течение установленного срока выкупить его у нового владельца, а поэтому несколько лет несет по нему часть расходов. Но выкупить ему Жарди не удается, и Бальзак продолжает жить на новой квартире в Пасси, на улице Басс.
В 1840 году у Бальзака происходит полный разрыв с графиней Висконти, о чем он пишет Ганьской, сетуя на ужасные английские предрассудки, убивающие все свойственное артистическим натурам: непосредственность, искренность. Очень знаменательно для его отношений с Висконти то обстоятельство, что сейчас же после разрыва с ней его письма к Ганьской становятся ласковее, и пишет он их чаще и пространнее. Очевидно, эти отношения были не простым волокитством за знатной англичанкой, и некоторое время перед Бальзаком стоял неразрешимый вопрос: либо она, либо Ганьска. И только теперь, после ссоры с графиней, вопрос был решен.
Он снова стремится в Вишховню, он восхищен видом этого имения, который ему прислала Ганьска: «Я сам принес домой этот ящик, сделанный из северного дерева, которое, расколовшись, распространило пленительное, чудесное благоухание, и оно пробудило во мне какую-то тоску по родине». Опять в этих письмах, как и в ранних, появляются строки, достойные занять почетное место в любом произведении Бальзака.
Так он описывает день 15 декабря 1840 года: «На Елисейскнх полях собралась стотысячная толпа. Можно было подумать, что природа действует сознательно: в тот момент, когда прах Наполеона вносили в Собор инвалидов, над собором появилась радуга… От Гавра до Пека оба берега Сены были черны от народа, и все эти люди падали на колени, когда мимо проплывал пароход. Это величественнее римских триумфов. Императора можно узнать в гробу: кожа белая, рука как бы что-то говорит. За пять дней было сделано 120 статуй, из них семь-восемь великолепных, сто триумфальных колонн, урны высотою в 20 футов и трибуны на сто тысяч человек. Собор инвалидов был затянут лиловым бархатом, расшитым золотыми пчелами».
Быть может, эта «говорящая» рука бывшего властителя и указала творческой фантазии Бальзака на «Темное дело», содеянное императором.
Борьба с разрушением
Как бы желая оглянуться на все, что сделано, как сделано и почему так сделано, Бальзак всему циклу своих произведений дает общее название — «Человеческая комедия». Под этим заголовком укладываются разделы: сцены частной жизни, провинциальной, парижской, политической, военной, сельской, философские и аналитические этюды. В этом плане с 1842 года начинает выходить полное собрание сочинений Оноре де Бальзака.
Чтобы предотвратить недоумение, которое могло вызвать у читателя это ко многому обязывающее название, Бальзак первому тому издания предпослал пространное предисловие. Но напрасно искать в этом предисловии то, что всегда интригует нас в писателе — увидать его самого перед лицом всех своих героев, когда не читатель, а как бы сами они вопрошают своего создателя о своих судьбах, жалуются, благодарят, каются, проливают счастливые или горькие слезы.
У каждого большого писателя остается какое-то сокровенное ощущение после рождения его героя, аналогичное ощущению женщины, родившей ребенка, оно является сокровенной причиной или необычайной любви или дикой ненависти к этому ребенку. Бальзак не открывает нам пути познания самого себя как творца, — он туманно ссылается на случай и называет его самым великим романистом, свою же роль сводит только к свидетельству: «Самим историком должно было оказаться французское общество, мне оставалось быть только его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая важнейшие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главные события из жизни общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, я мог бы в конце концов написать историю, забытую столькими историками, — историю нравов».
И он действительно написал историю нравов французского общества первых десятилетий XIX века. Однако, называя себя его секретарем, он только с некоторым приближением к истине определяет характер своего творчества и значение свое, как писателя. Но в основном он прав, и, развивая эту мысль далее, следует сказать, что отличительной чертой творчества Бальзака было именно то, что он, наблюдая жизнь, свидетельствовал о ней, но никогда не учительствовал; изображал жизнь, но не судил ее, отделяя добро от зла, не клеймил неправых, сочувствуя правым. Бальзак никогда не был моралистом, хотя сам себя считал моралистом и пытался это доказать тем, кто обвинял его в отсутствии морали, то есть в безнравственности.
В качестве доказательства Бальзак перечисляет целый ряд добродетельных лиц, изображенных в его произведениях, но в то же самое время, чувствуя и понимая несостоятельность этого аргумента, сам же себе возражает, направляя в сторону критиков горькое замечание: «Если вы правдивы в изображении, если, работая днем и ночью, вы начинаете писать необычайным по трудности языком, — тогда вам в лицо бросают упрек в безнравственности».
Бальзак был правдив в изображении, и был действительно, по его выражению, «смелым писателем». Этой смелостью современные Бальзаку писатели не могли похвалиться: ни Гюго, ни Жорж Сайд, которые оспаривали у него славу, никогда не были правдивы, реалистичны, потому что, с одной стороны, нарочито изображали жизнь не такой, какая она есть, а какой должна быть, а с другой стороны, потому, что в изображаемом хотели видеть самих себя. Жорж Санд часто старалась своими романами оправдать свою очередную страсть и образ своего поведения, Гюго всегда предпочитал учительствовать.
И вот, будучи правдивым и смелым писателем, Бальзак торопится зафиксировать все, что он видит и знает, и дает изображение всего того, чему был свидетелем, — то, что он сам называет сценами, то есть сцены жизни французского общества, начиная с Первой империи до 1850 года, причем по прозрению великого художника становится «творцом тех прообразов-типов, — как говорит Маркс, — которые при Людовике Филиппе находились еще в зародышевом состоянии и достигли развития уже впоследствии, при Наполеоне III».
Называя грандиозную галерею своих типов и их жизни «очерками нравов». Бальзак суживает значение своих произведений, которые не только изображают нравы, но главным образом вскрывают те социальные пружины, которые приводят людей к тем или иным взаимоотношениям и формируют их в определенные законченные типы.
И в этом отношении Бальзак стоял особняком среди современных ему писателей; он и сам это понимал, но когда попытался выразить это теоретически, опять сбился, подчиняясь модному увлечению «абстрактным естественно-историческим материализмом, исключающим исторический процесс» (Маркс). «Не создает ли общество, — говорит Бальзак, — из человека соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире?»
Биологизм приводит Бальзака к тому, что он пытается провести параллель между развитием общества и развитием отдельного индивидуума. Так, например, он полагает, что сцены частной жизни должны изображать «детство, отрочество, их заблуждения», в то время, как сцены провинциальной жизни — «зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие». В сценах парижской жизни должна быть дана «картина вкусов, пороков и тех необузданных проявлений жизни, которые вызваны правами, присущими столице, где существуют крайнее добро и крайнее зло». Сцены сельской жизни представляют собой «в некотором смысле вечер длинного дня», и только почему-то сцены политические являются «жизнью, протекающей вне общих рамок».
Позволительно спросить, почему относящийся к сценам частной жизни «Гобсек» должен изображать детство, а «Лилия в долине», входящая в сцены провинциальной жизни, и где много говорится именно о детстве, — не в пример «Гобсеку, должна изображать зрелый возраст? На этот вопрос вряд ли удовлетворительно ответил бы и сам Бальзак.
Несостоятельность таких аналогий в конце концов приводит Бальзака к тому, что он начинает представлять себе всю «Человеческую комедию» в виде архитектурного сооружения, которое он называет храмом и которое должно иметь вид спирали, причем (в письмах к Ганьской) аналитические этюды попадают на самый верх, а в предисловии к «Человеческой комедии» — на самый низ этой спирали.
План «Человеческой комедии» порождает много недоуменных вопросов, и мы смели бы спросить Бальзака, почему, например, среди его произведений, не нашлось места сценам рабочей жизни? Этот вопрос вполне естественен, так как мы помним молодого Оноре, спускающегося с мансарды на улице Ледигьер, чтобы вмешаться в толпу рабочих и прислушаться к их разговорам-жалобам на нищую жизнь. Но мы были бы правы только в том случае, если бы эти рабочие оказались действительно рабочими. На самом же деле надо полагать, что таким названием Бальзак определял людей, принадлежащих к окраинной бедноте, — мелких чиновников, приказчиков, вожделеющих о собственной торговле, и даже мелких ростовщиков, раскинувших свою паутину в захолустьи Парижа, скупость которых облекала их тела в лохмотья и отребье. Тех рабочих, о которых мы спрашиваем, он не знал, а не зная, не мог о них писать, ибо был правдив в изображении.
Насколько в жизни Бальзак был фантастом и отважился бы броситься в любую страну, с любым неизвестным человеком, для осуществления своих неосуществимых планов, настолько в своем творчестве он был расчетливым хозяином. «Мой труд, — говорит он, — имеет свою географию, так же как и свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты…». Он не уведет своего героя в прерии, чтобы заставить страдать в одиночестве, не создаст маску Квазимодо, чтобы обнаружить трогательное сердце под безобразным обличьем.
Рабочий кабинет Бальзака в его квартире в Пасси
Предисловие Бальзака не ограничивается только попытками теоретизировать и философски обосновать общий план своих произведений. Автор пожелал попутно изложить свои политические взгляды, хотя так еще недавно решительно заявлял о своем намерении оставить политику. Этого ему сделать не удалось и он снова возвращается к изложению своих политических принципов.
Причины такого возврата становятся ясны, если принять во внимание два обстоятельства; первое неугасимое желание играть видную роль среди парижской знати, второе — то, что Бальзак решил совершить путешествие в Россию, для чего ему необходимо стать вполне определенной политической фигурой, ибо в этой стране затребуют самый надежный паспорт, и, конечно, паспорт монархиста и ревнителя церкви.
Муж Ганьской умер, мадам свободна, и Бальзак снова лелеет мечту жениться на «молодой женщине». Письма в Вишховню опять полны нежности, он шлет их туда чаще, чем это было после размолвки в Вене. Бальзак старается привести в порядок свои денежные дела, чтобы они не задержали его, — и вдруг предстанет на пути закрытая для въезда царская застава? Надо это препятствие преодолеть, а преодолеть его можно только сняв с себя подозрение хотя бы в малейшем сочувствии республиканским идеям. В этом не трудно было признаться Бальзаку, — за несколько лет до смерти он сделался полным приверженцем королевского трона и отчасти ханжой.
«Просвещение, — говорит он в предисловии, — или, вернее, воспитание при помощи религиозных учреждений является для народов великой основой их жизни, единственным средством уменьшить количество зла и увеличить количество добра в каждом обществе. Мысль — начало добра и зла — может быть обработана, укрощена и направлена только религией. Единственно возможная религия — христианство…
Христианство создало современные народы, оно будет их сохранять. Отсюда же с несомненностью вытекает необходимость монархического принципа. Католичество и королевская власть — близнецы… Я высказываюсь в защиту двух вечных истин: религии и монархии, необходимость того и другого вызывается современными событиями, и каждый здравомыслящий писатель должен пытаться вести к ним нашу страну.
Не будучи врагом избирательной системы, этого прекрасного принципа созидания законов, я отвергаю ее, как единственную общественную систему, тем более, когда она так плохо организована, как теперь, ибо она не представляет имеющих столь значительный вес меньшинств, о духовной жизни и интересах которых позаботилось бы монархическое правительство».
В своих политико-религиозных рассуждениях Бальзак доходит до явных нелепостей: «Будучи вынужденным сообразоваться с понятиями народа, лицемерного по самой своей сущности, Вальтер Скотт клеветал на все человечество, изображая женщин, ибо его образы принадлежали протестантизму. Женщина-протестантка не имеет в себе ничего идеального. Она может быть целомудренной, чистой, добродетельной, но любовь не захватывает ее целиком, — она всегда остается спокойной и ровной, как выполненный долг…
В протестантизме для женщины падшей все кончено, тогда как в католической церкви ее возвышает надежда на прощение. Поэтому для протестантского писателя возможен только один образ, в то время как писатель-католик для каждого нового положения находит другую женщину.
Если бы Вальтер Скотт был католиком, если бы он взял на себя труд правдивого изображения различных слоев общества, сменявших друг друга в Шотландии, то возможно, что создатель Эффи и Алисы (два образа, за обрисовку которых он упрекал себя в старости) признал бы мир страстей с его падениями и возмездием и с теми добродетелями, к которым ведет раскаяние».
Эта сентенция говорит нам о том, что Бальзак, как истый монархист, был церковен; ревнительство к католической государственной церкви — это необходимая принадлежность светского человека, который по Бальзаку рассуждает так: «Религия всегда будет политической необходимостью. Возьметесь ли вы управлять народом, который склонен рассуждать? Чтобы помешать ему рассуждать, нужно внушить ему чувство; поэтому примем католическую религию со всеми ее последствиями. Если мы хотим, чтобы Франция ходила в церковь, разве мы не должны ходить туда сами? Религия — связующее звено консервативных принципов, которые позволяют богатым жить спокойно, — религия так тесно связана с собственностью. Священник и король — ведь это вы, это я, это олицетворенные интересы всех порядочных людей» («Герцогиня Ланже».)
Это говорит сокровенный безбожник и откровенный циник, которому нетрудно в нужный для него момент прикинуться верующим, что и делает Бальзак, ближе сошедшись с Ганьской. Он пишет ей: «Политически я принадлежу к королевской церкви… Перед богом я принадлежу к религии святого Иоанна, к мистической церкви — единственной, которая сохранила истинное учение. Это — самая сущность моего сердца. Когда-нибудь узнают, насколько предпринятый мною труд глубоко католичен и монархичен».
Как бы ни были туманны и совсем даже непонятны некоторые места предисловия к «Человеческой комедии», все же оно является для читателя очень ценным документом, в котором автор, поскольку он хотел, раскрывает самого себя как художника и как человека.
После многословной переписки с Ганьской, в которой он всякими ухищрениями пытается склонить мадам стать его супругой, Бальзак получает решительный отказ. В Вишховню опять летят жалобы на несчастную судьбу, и в конце концов Бальзак 18 июля 1843 года уезжает из Парижа в Россию, чтобы свидеться с Ганьской в Петербурге, куда он и прибывает 29 июля. Там он поселяется на Большой Миллионной в доме Титова, против дома Кутайсовых, где проживала Ганьска. За 32 рубля ассигнациями Бальзак получает из Третьего отделения вид на жительство, а за 50 рублей ассигнациями в месяц к нему приставляют лакея, изъясняющегося по-французски.
О его пребывании в русской столице пока мало что известно. Очевидно, его тамошнее времяпрепровождение ничем не отличалось от прежних встреч с Ганьской: те же салонные визиты к русской знати и званые обеды — известно, что однажды он обедал у Данзаса.
Но об этой поездке шли разговоры за границей, и «Аугсбургская газета» поместила сообщение о том, что Бальзак, прибывши в столицу России, послал императору Николаю I следующую записку: «Господин де Бальзак-писатель и господин де Бальзак-дворянин покорнейше просит его величество не отказать ему в личной аудиенции». На следующий день, — как утверждает та же газета, — к нему явился посланный от императора с запиской, начертанной собственной его императорского величества рукой: «Господин де Бальзак-дворянин и господин де Бальзак-писатель могут взять почтовую карету, когда им заблагорассудится».
После этого Бальзак будто бы немедленно покинул Петербург.
Сплетня это или не сплетня, но ее связывали с тем, что Николай хотел завербовать какого-нибудь французского писателя, искусно владеющего пером, который мог бы защитить его страну от нападков маркиза де Кюстина[187], побывавшего в 1839 году в России и написавшего о ней далеко не лестные воспоминания.
С Ганьской в Петербурге у Бальзака установились трогательные отношения; на него были обращены заботы, и он прощался с ней, одетый в теплую шубу, обутый в валенки, обмотанный теплым платком, с саквояжем в руке, в котором был запасен на дорогу копченый язык. Он отбыл из России в октябре того же 1843 года, но по дороге задержался в Берлине и Дрездене, где заболел.
По его словам, у него сделалось воспаление сетчатой мозговой оболочки, на самом же деле это было, очевидно, резкое проявление склероза, которое сопровождалось очень сильными головными болями. По счету это был уже третий припадок, после которого они начинают учащаться и сопровождаются настолько большим упадком сил, что Бальзак теряет свою обычную трудоспособность и бездействует в течение долгих месяцев.
По приезде в Париж он долго оправляется после путешествия, не работает, и в это время позирует Давиду д'Анжеру, который лепит его бюст. Опять воскресают мечты об академическом кресле, опять возникают разговоры о переизданиях, и именно потому, что Академия может дать определенный денежный фикс, а литературные доходы могли притечь только от прежних вещей, ибо нового ничего написано не было.
Бальзак. Карандашный набросок Давида д'Анжера
Бальзак сообщает очень подробно Ганьской о вновь приобретенной мебели, о том, что ходит в церковь и однажды принес оттуда вербочку и поставил ее перед портретом мадам, висящем на стене на фоне алого бархата в какой-то необычайной золоченой раме. Несколько раз в этих письмах он с восхищением говорит об императоре Николае I, от которого все без ума, так как красота его — это «химера».
В начале 1844 года в Париже разыгрывается, — как говорит Бальзак, — «битва газет и фельетонов». Издание газет после революции 1830 года стало коммерческим предприятием, и вслед за Жирарденом с его «Прессой» и другими дешевыми изданиями появился с газетой «Век» («Сьекль») Арман Дютак[188], второй «Наполеон прессы». Другим газетам оппозиции — «Конститюсьонель» и «Журналь де Деба» — пришлось тоже снизить подписную плату; в погоне за подписчиками они стали взапуски поставлять всякое чтиво, привлекая к его изготовлению самых популярных писателей, в том числе Жорж Санд, Дюма, Сю и Бальзака.
Кончились времена «высокой литературы», романов, выходивших отдельным изданием с тиражом не больше двух тысяч: теперь романы печатаются в газетах, и их читают все. Приобретая романы, газеты не скупятся на затраты, зная, что они себя оправдают. Так, например, «Конститюсьонель» купил у Сю «Вечного жида» за сто тысяч франков.
Входят в моду фабриканты романов, умеющие писать быстро и занимательно, на протяжении целого года разжигая читателя невероятными приключениями и интригой, подготовляя ее благополучное разрешение к декабрьским номерам. Бывший романтик Дюма организует целое производство, пользуясь услугами «негров», и печатает под своим именем романы сразу в трех-четырех газетах.
На газетных столбцах родился новый жанр романа — «роман-фельетон», который быстро узаконил свои особые приемы: нелюди-герои, неправдоподобная фабула с бесконечными перипетиями, таинственными убийствами в подземельях и пещерах, высокопарная сантиментальность речи и ни малейшего внимания к языку. Роман для автора сделался таким же коммерческим предприятием, как и газета для издателя. «Это, — писал Бальзак, — избиение подписчиков, борьба денег, битва чернил и прозы».
На этом поле битвы одним из первых воинов появляется Бальзак, который, конечно, непрочь был продать рукопись дважды. Но он не изменил себе: печатая свои романы в газетах, он по-прежнему правит по нескольку корректур и не меняет построения вещи ради того, чтобы прервать главу на самом интересном месте и заставить читателя непременно купить следующий номер газеты. В 1844 году он печатает в «Деба» «Мелких буржуа» — роман, оставшийся незаконченным.
Данью Бальзака роману-фельетону можно считать «Темное дело» и «Куртизанок», где много нарочитой занимательности, однако, эти романы по их социальной значимости и литературным достоинствам конечно не идут в сравнение с типичными фельетонами Сю, Дюма, Фредерика Сулье[189] и прочих поставщиков захватывающего чтения.
Большинство тогдашних читателей, гоняясь за фабулой, просмотрело в «Темном деле» самое главное, что и до сих пор представляет чрезвычайный интерес, а тогда, без преувеличения можно сказать, было просто откровением. Это — раскрытие полицейско-шпионской системы Фуше, политика-хамелеона, сменившего в течение четверти века четыре окраски: 1) член Конвента, друг Робеспьера и председатель якобинского клуба; 2) министр полиции Директории; 3) министр полиции, сенатор и посланник Наполеона; 4) министр полиции короля Людовика XVIII.
Время, выдвинувшее этого страшного человека, создало целый ряд его сподвижников, и их фигуры с потрясающей силой показаны Бальзаком в «Темном деле», в «Последнем воплощении Вотрена» и др. Нет никакого сомнения, что в душах полицейских деятелей царской России хранился нерукотворный образ праотца политического сыска. Во всяком случае, в домашнем кабинете Победоносцева висел портрет Фуше.
Благодаря своей добросовестности Бальзак не имеет такого бешеного успеха у публики и ему не было суждено дожить до славы своего соперника Эжена Сю, у которого в комнате повесился в его отсутствии некий восторженный поклонник его таланта, — думая этим, очевидно, сделать автору «Парижских тайн» приятный сюрприз.
В начале апреля 1844 года Бальзак снова заболевает: у него разлилась желчь, и он полтора месяца лежит в постели. Но в июне силы его восстанавливаются, и он садится за окончание «Модесты Миньон», пишет последнюю часть «Беатрисы» и задумывает «Последнее воплощение Вотрена».
Есть уже надежды на новые заработки, и Бальзак начинает присматривать себе в Париже, в тихом квартале, дом с садом. Дом ему нужен для того, чтобы приобрести у издателей вес и перестать ходить к ним самому и напрашиваться на издание.
Ведь вот Эжен Сю, — пишет он, — имеет дом, и у него в прихожей толпятся издатели. Еще этот дом нужен для устройства салона, такого же, какой, например, был у Жерара, где станет принимать гостей Бальзак, уже царствующий в палате, и Ганьска — одна из королев Парижа. И, наконец, собственный дом даст ему возможность скорее попасть в Академию, так как, — по словам Нодье, — Академия скорее примет под свои своды политического преступника, жулика, избежавшего суда благодаря огромному состоянию, чем гениального человека, если он беден.
В октябре этого же года Бальзак еще продолжает работать и возвращается к роману «Крестьяне», но уже с усилием, и, как сам говорит, — голова его находится в опиуме. Что это значит, — сказать трудно, но наверное во избежание головных болей он применял опиум, принимая его внутрь, или в виде мази, как наружное средство.
Успех романа «Крестьяне» начался уже тогда, когда он был еще только на типографском станке, наборщики его читали и приходили в восторг. Достоинство романа сам Бальзак видит в том, что он «направлен против народа и демократии».
Опиум Бальзаку не помог, пришлось опять ставить пиявки и банки и лечь в постель. Отвлеченный от своей работы и озабоченный тем, как бы увеличить средства для создания будущего салона, Бальзак снова мечтает о Монтионовской премии и сочиняет план издания «Энциклопедии начатков знаний», которая, как ему кажется, должна быть премирована Академией. Но план так и остался планом.
Его сменяют новые заботы о подыскании дома и тревоги по поводу неожиданной вести: Ганьска решила уйти в монастырь. Она ждет Бальзака в Дрездене, но выехать он не может, так как, почувствовав себя немного лучше, опять садится за «Крестьян», и только 25 апреля 1845 года едет к Ганьской и живет с ней месяц в Капштадте. Они проводят за границей четыре месяца, и в конце августа расстаются в Брюсселе.
Побывав в доме Бальзака, Ганьска сделала первый шаг будущей хозяйки: по ее требованию Бальзак должен был расстаться с экономкой Брюньоль. Этот факт, сам по себе очень мелкий, говорит о том, что Ганьска, отодвигая сроки вступления в законный брак с Бальзаком, старается всеми средствами подчинить своему влиянию будущего супруга: пугает его уходом в монастырь, ревнует к женщинам, вплоть до экономки, прислушивается к сплетням тетки, Ржевусской, и, наконец, ставит все свои поступки в зависимость от того, как, когда и за кого выйдет замуж ее дочь Анна. И она добивается своего. Бальзак пишет ей: «Я могу теперь любить только тебя. Я думаю только о тебе, а не о своих произведениях. Ты дала мне познать бесконечное счастье, и больше мне ничего не надо. Я делаю только то, что имеет отношение к тебе».
И действительно, Бальзак очень мало пишет и занят всяческими пустяками: домом, нелепыми подарками Ганьской и покупкой антикварных вещей. После следующего путешествии с Ганьской в Неаполь он даже начинает писать ей поэму в прозе, изобилующую самыми нежными излияниями.
В поэме сообщалось о том, что он нашел ей в подарок коралловый убор: «Это — красный цвет победы, пурпур счастливой любви, — наш чудесный год, тысяча его причуд». В том месте поэмы, где он вспоминает о совместном морском путешествии, Бальзак восклицает: «Нельзя болеть морской болезнью, когда в сердце целый океан».
Карикатура на Бальзака. Работа Бенжамена Рубо (30-е годы)
Ганьска отлично знала, чем можно было подействовать на этого взрослого ребенка. Он конечно верил ее необычайно трогательным чувствам к дочери и, как истый буржуа, склонный к умилительной семейственности, сам принял участие в судьбе ее дочери Анны и совершенно серьезно советует: «Твоя дочь как богатая полячка находится в исключительном и опасном положении. Император Николай хочет, чтобы его империя была едина, любой ценой, и у него две мечты: уничтожить польский католицизм и национализм. Это — очевидно и необходимо. На его месте, если бы я был русским, православным императором, я бы это сделал. Он ничего не может предпринять, будучи скован по ногам Польшей и Кавказом.
Все гордое, богатое и сильное будет для него, а еще больше для его приближенных, мишенью. Подчиненные, со свойственной сарматам непоследовательностью, поживятся всласть. Мысль Анны о замужестве с поляком гибельна… Ничтожный поляк даст ей разориться, поляк легкомысленный сам ее разорит. Если же он будет мужественен и великодушен, то его будут преследовать… Мнишек, которого я не знаю, в политическом отношении неприемлем, как все потомки польских королей».
На самом же деле Ганьска, если бы вздумала до замужества дочери выйти замуж сама, должна была бы пройти целый ряд судебных сутяжничеств и в случае неудачи попасть в очень сложные юридические отношения со своей собственной дочерью в вопросе наследства.
Не нужно было, конечно, весьма практичной мадам Ганьской внушать Бальзаку ту мысль, что «быть домовладельцем — самое главное положение при Людовике-Филиппе», — это и без ее влияния в любом случае мог бы высказать и сам Бальзак, — но страшно то, что эта женщина, склонная к чувствительности, по природе своей была холодна, и этот холод послужил ей преградой к пониманию необычайно сложного человека — туреньского силача-галла и утонченного парижанина, способного растрачивать на житейские суеты столь же много сил, сколько он тратил на свои замечательные романы.
Бальзак писал ей: «Мне больше нравится писать тебе, чем сочинять романы», — это питало вздохи отшельницы-вдовы замка Вишховни, но великому писателю Франции это грозило бедствием, не говоря уже о том, что для человека, который работал по ночам, потому что ему не хватало дня, и пил по пятьдесят чашек крепкого кофе, потому что ему не хватало крепкого здоровья, — сорок шесть лет возраста были сорока шестью этапами, приближавшими его к неизбежному раннему концу.
Графиня Ганьска не могла ни понять, ни объять такое исключительное явление, каким был писатель Бальзак.
С каждым годом в письмах к Ганьской Бальзак все меньше уделяет места своим литературным планам, но зато самым подробным образом останавливается на житейских и издательских мелочах. Ганьска не ограничивается его сообщениями и еще в 1844 году в качестве соглядатайши присылает к Бальзаку гувернантку своей дочери — Анриетту Борель, — под тем предлогом, что этой женщине без его помощи трудно будет поступить в монастырь. Действительно, Анриетта задумала посвятить себя богу, но причем тут помощь Бальзака, когда сама Ганьска была настолько видной и знатной католичкой, что достаточно было только ее письма к какой-нибудь аббатессе, и эта дева могла бы явиться в обитель, заранее облекшись в печальные одежды.
Письмо Бальзака о приезде к нему Борель очень интересно рисует фигуру этой женщины, бегущей от соблазнов мира: «Ей здесь нравится, эта тихая, спокойная жизнь ей по душе. Она очень удивлена, что я так экономно живу. Еще немного — и мадам де Брюньоль придется показать ей свои расходные книги за четыре года, как доказательство того, что мы тратим всего 3 600 франков в год, — так это ее поражает. Я же говорил Вам, даже Вы не можете понять, что я работаю день и ночь и очень редко выхожу из дому. Брат мадемуазель Борель, наверное, вбил ей в голову, что я готовлю жемчуг и питаюсь бриллиантами, что у меня семь или восемь любовниц и лакеи, разряженные в золото; она так поражена, что прямо смешно. Еще немного — и она подумает, что я показываю ей подставного викария и фальшивую квартиру. Хорошие фрукты, вкусные и изысканные блюда примиряют ее с действительностью».
Очевидно, будущая невеста Христа обожала хорошо поесть не меньше, чем посплетничать. Во всяком случае, в Вишховню был отослан подробнейший донос о жизни Бальзака.
Мы знаем, что и сам Бальзак мог воодушевляться меркантильными замыслами и всякими пустяками, но во всем этом он неизменно проявлял какую-то ребяческую наивность. С той поры, как мадам Ганьска овладела его мыслями, житейские планы его мельчают, и та обстановка, в которой он представляет себе будущую совместную жизнь, насыщается духотой мещанских будней: «Мы будем спать спокойно в нашей красивой кровати Буля… — пишет он Ганьской. — Будет прекрасная комната в этом же стиле, ванная в стиле Фонтенебло, библиотека в стиле ампир и кабинет во вкусе мосье».
Так и кажется, что с этой благополучной кровати Буля спускаются ноги Цезаря Биротто в ту ночь, когда он задумал учинить великое пиршество. Купленные на деньги Ганьской двести акций Северной железной дороги — уже целое событие. Бальзак следит на бирже за их падением и повышением, подробно и многократно об этом сообщает в Вишховню. А творческие дни становятся все короче и короче.
Бальзак. Литография Августа Кнейзеля (30-е годы)
В мае он едет к Ганьской в Женеву, потом в Рим. Вероятно, эта поездка была задумана мадам со специальной целью посетить знаменитых докторов — она плохо себя чувствует. В конце концов выясняется, что она беременна. Это будет сын, и он уже назван Виктором-Оноре.
Вернувшись в Париж, Бальзак вскоре же отправляется в Тур за метрическим свидетельством, ибо нужно скорее венчаться, чтобы «покрыть грех». Попутно с этим Ганьска торопит свадьбу дочери, у которой есть жених — Георгий Мнишек.
Разлука с Ганьской очень трудна, мысль о том, что она может бросить его — ужасна, и если это случится, то он «через два года станет идиотом». Но более ужасна творческая пустота.
Кофе уже давно не действует: «вдохновенье, которое, бывало, пробуждало во мне кофе, — пишет он уже в 1834 г., — проходит очень быстро; кофе дает моему мозгу только две недели возбужденья; возбужденья рокового, ибо оно причиняет мне жестокие боли в желудке…».
Прошло то время, когда он с восторгом объяснял его действие Гозлану: «Кофе попадает к вам в желудок, и все приходит в действие; мысли движутся, как батальоны Великой Армии на поле битвы, и сражение начинается. Тяжелой поступью приближаются воспоминанья с развернутыми знаменами; легкая кавалерия сравнений скачет великолепным галопом; артиллерия логики подъезжает со своими орудиями и снарядами; остроумные слова мечутся, как стрелки; встают образы, бумага покрывается чернилами. Битва начинается и кончается потоками чернил, как настоящее сраженье — черным порохом…».
Теперь этот роковой возбудитель потерял над ним свою власть. В порыве отчаяния он намеревается курить гашиш и сообщает мадам, что курил его: как всегда, для Бальзака задуманное было уже совершенным. На самом же деле, он только пытался это сделать, и эту попытку описывает Теофиль Готье со слов Бодлера:
«Бальзак, наверное, думал, что нет большего позора и большего страдания, как отказ от своей воли. Я видел его однажды в обществе, где шла речь о чудесном влиянии гашиша. Он слушал и задавал вопросы с забавным вниманием и живостью. Люди, его знавшие, легко догадаются, что он этим заинтересовался. Однако возможность думать о чем-нибудь не по своей воле очень его возмущала. Ему протянули «давамеск», он потрогал его, понюхал, и вернул, не испробовав. На его выразительном лице отражалась борьба детского любопытства с отвращением к отказу от своей воли; в нем победило чувство собственного достоинства. И правда, трудно представить себе, чтобы теоретик воли, духовный близнец Луи Ламбера, согласился потерять хотя бы крупицу этой ценной «субстанции».
Готье добавляет: «Мы тоже были в этот вечер в доме Пимодана, и можем подтвердить точность этого анекдота. Прибавим только к нему характерную подробность: возвращая ложечку, которую ему предложили, Бальзак сказал, что опыт производить не стоит и что гашиш, он в этом уверен, не окажет на его мозг никакого действия.
Это вполне возможно: этот мощный мозг, в котором царила воля, который укреплялся ежедневным упражнением, пропитывался тончайшими ароматами кофе и на который не оказывали ни малейшего действия три бутылки самого крепкою вина Вуврей, может быть и был бы способен устоять перед мимолетным отравлением индийской пенькой».
Бальзак не решился испробовать этот яд, облегчающий воображение не потому, что боялся его разрушительного действия на организм, а потому, что он уже чувствовал, как после долгого и мучительного перерыва начинает нарастать творческий прилив. В июле того же 1846 года Бальзаком задуман план «Бедных родственников».
Он работает с таким напряжением, с каким никогда не работал, как бы чувствуя, что вот-вот иссякнут силы. Оторвавшись от работы и разговаривая с кем-нибудь, он вдруг прерывает речь, долго и напряженно молчит, вспоминая какое-нибудь самое простое слово. Он обрил голову, — конечно, не для того, чтобы предложить Ганьской из его волос сделать себе цепочку к медальону (это просто очередной сантимент), — а, вероятно, для того, чтобы удобнее было применять мази с опиумом или компрессы. Кроме того, лето 1846 года было необыкновенно жаркое, и Бальзак задыхался в своей тесной квартирке с низкими потолками, под раскаленной железной крышей.
Судя по письмам, он не раз прибегает к помощи своего доктора Накара, который предупреждает, что такая работа может кончиться очень плохо. Бальзак был тогда, как говорится, еще не в своем теле, ибо во время недавней болезни сильно похудел, что тоже могло способствовать дурному исходу. К его благополучию, ему пришлось на несколько дней уехать в Висбаден, чтобы присутствовать на бракосочетании Анны Ганьской с Мнишеком.
Бальзак в начале 40-х годов. Гравюра Дюжардена
Вернувшись в Париж, Бальзак снова безвыходно у письменного стола. В прежние годы он редко бывал в таком лихорадочном творческом состоянии, но последнее не следует расценивать как состояние человека, на которого, что называется, «накатило», тем более, что Бальзак сам очень ясно определил побудительные основания к такому невероятному упорству и усидчивости. «Обстоятельства требуют, — пишет он Ганьской, — чтобы я написал два или три капитальных труда, которые свергнут с пьедестала мнимых богов этой незаконнорожденной литературы и докажут, что я молод, свеж и велик, как никогда».
Под этой «незаконнорожденной» литературой надо понимать ужасные сочинения литературных «негров» Дюма и им подобных писак. Среди них уже появились любимцы читателей, которым в тысячу раз легче, чем Бальзаку, достались и слава, и деньги, и кареты, и собственные дома.
Бальзак с полным правом мог сказать, что он велик, — его «Бедные родственники» — увы, последнее, но замечательное произведение. По сравнению с паноптикумом романов-фельетонов, где показываются злодеи, нанизывающие на рыцарские шпаги сразу десяток порочных душ, сыщики, которые, ложась спать, развинчивают себя на части и правое ухо вешают на дверную скважину соседа, — кузен Понс и кузина Бетт — самые обыкновенные люди. Нет башен с узницами и пещер с жуткими тенями, но жуть и осиротелость человеческой души, загнанной в сети, раскинутые ловцами выгод, дешевого труда, пороков и несчастий, из которых можно извлечь золото — изображены Бальзаком с гениальной простотой.
Ни в одном из его романов не показана столь ярко гнилостность и полное разложение аристократии, среди которой, как пауки, ползают и набивают себе брюхо люди, подобные буржуа Клавелю. «В то время, как финансовая аристократия, — говорит Маркс, — издавала законы, управляла государством, распоряжалась всеми организованными общественными властями, фактически и при посредстве печати подчиняла себе общественное мнение, во всех сферах, начиная с двора и кончая Cafe Borgne, повторялся тот же разврат, тот же бесстыдный обман, та же жажда обогащения не посредством производства, а посредством ловкого фокусничества с уже существующим чужим богатством. Верхи буржуазного общества охватывались безудержным, вступающим в постоянные конфликты даже с законами буржуазного общества, развитием нездоровых и распутных вожделений, в которых богатство, нажитое азартной игрой, естественно ищет себе удовлетворения, превращая наслаждение в разврат и сливая в один общий поток деньги, грязь и кровь.
Финансовая аристократия как в своих способах наживы, так и в наслаждениях является ни чем иным, как возрождением пролетариата босяков на верхах буржуазного общества». (К. Маркс, «Борьба классов во Франции», стр. 23, изд. «Красная новь». М. 1923).
Такова была картина страшного города и таким его изобразил Бальзак, и в конце концов рассказ идет не о бедных родственниках, а о Париже кануна февраля 1848 года; Бальзака надо считать первым творцом в мировой литературе типа босяка, заседающего на верхах.
Романы Бальзака «Бедные родственники» показательны для его творчества еще и в отношении самого процесса писания и той особой атмосферы нарастания мрачности или подавленности, причину которой следует искать в возбудителях, в преступных друзьях фантазии и темных врагах творчества, — в кофе b опиуме, — к помощи которых прибегал Бальзак, обессиленный трудом.
Начиная рассматривать его рукописи, нельзя не заметить, что почерк, в заголовке и начальных страницах очень четкий и красивый, чем дальше, тем все больше искажается, становится трудно разборчивым и, наконец, превращается в нервные иероглифы, за которыми так и чувствуется рука с возбужденным пульсом.
Открывая любую страницу рукописи, почти нельзя ошибиться в определении — написана она днем или ночью. Свет дня и полусумрак свечей отражены на рукописи, точно также как в самих образах отражены ясность здравой мысли и затуманенность воображения. Некоторые критики пытались приписать Бальзаку пессимизм, но Бальзак не был пессимистом, — по натуре он был здоровый, подвижной, веселый человек, и все болезненные проявления этой крепкой натуры надо отнести за счет той ненормальной жизни, какую вел Бальзак.
Пока Бальзак был занят своими образами, в Вишховне не дремала зоркая наблюдательница. Для мадам Ганьской было ясно, что автор «Человеческой комедии» — в состоянии безволия и целиком находится в ее руках. Ему можно диктовать те или иные поступки, запрещать или разрешать, и она разрешила Бальзаку купить дом на улице Фортюне, чего бы, конечно, не допустила, если бы этот поступок не входил в план организации хозяйства ее будущего супруга.
Дом на улице Фортюнэ, где скончался Бальзак
Свое влияние на него она оказывала незаметным образом, но упорно и неизменно. Она даже временами потакала ему; заметив, что Бальзак равнодушен к детям, скинула на четвертом месяце предполагаемого Виктора-Оноре, но не откладывала перевоспитания жениха в духе любви и преданности королю Людовику-Филиппу и добилась признания Бальзака:
«Нужно признаться, что своим управлением Людовик-Филипп сделал из Франции первую державу мира. Подумайте только! Всё у нас настоящее; наша армия — прекрасная армия, у нас есть деньги, и сейчас все у нас — сила, и все — реально. Когда будет закончен Алжирский порт, у нас будет второй Тулон перед Гибралтаром; мы идем к господству на Средиземном море. Испания и Бельгия — наши. Этот человек многого достиг. Вы правы, и если бы он был честолюбив, если бы он хотел петь Марсельезу, то он уничтожил бы в свою пользу три империи. Если он приберет к рукам Магомета-Али, как он прибрал тунисского бея, то Средиземное море целиком будет в распоряжении Франции на случай войны. Это большая победа, и притом моральная, одержанная без единого пушечного выстрела. Кроме того, мы гигантскими шагами продвинулись в Алжире, перемещая центры военных действий; победа закреплена и восстание невозможно. Надеюсь, что Вы останетесь мною довольны и увидите, что я отдаю, наконец, должное монарху, которого Вы всегда защищали — не по симпатии, как Вы говорите, а из убеждения. Может быть, по существу Вы и правы. Может быть, действительно Франция меньше нуждается в славе, чем в свободе и безопасности, и поскольку она добилась этих двух больших благ, пожелаем, чтобы она сумела ценить и сохранить правительство, которое ей эти блага дало». Верноподданный Ганьской оказался верноподданным и королю. Теперь уже можно не бояться эксцентричных выступлений Бальзака в присутствии кавалерственной дамы-тетушки, графини Ржевусской. Для приезда жениха в Вишховню нет никаких препятствий.
Человеческая комедия
В 1847 году, в феврале, Ганьска инкогнито приехала в Париж и поселилась в хорошенькой квартирке, которая, — кстати замечает Бальзак, — и недорого стоила. Через три месяца он проводил ее в Германию, откуда она отправилась к себе в Вишховню.
Летом Бальзак кончает «Последнее воплощение Вотрена», переделывает пьесу «Меркаде», и осенью, наконец-то, отправляется в Вишховню, в обитель подневольного труда, ханжества, чопорности и сластолюбия, скрытого сантиментальностью, — обитель, над вратами которой красовался рыцарский герб.
По двум письмам Бальзака к сестре мы можем судить, каково было его впечатление от этой новой обстановки и какие мысли и намерения пробудила в нем дотоле неведомая страна.
«Это жилище — настоящий Лувр, и земли его не меньше одного из наших департаментов. Вы не можете представить себе обширность и плодородие этих земель, которые никогда не удобряют, сея на них хлеб каждый год. У молодой графской четы (Мнишеков) около двадцати тысяч крестьян мужского пола, что составляет сорок тысяч душ, но для обработки всех этих земель нужно четыреста тысяч человек. Сеют только то, что могут собрать.
Страна эта любопытна тем, что наряду с самым большим великолепием здесь не хватает самых простых вещей нашего обихода. Это имение — единственное, где есть карсельская лампа и больница. Зеркала в десять футов — и нет обоев на стенах. А Вишховня слывет самым богатым имением на Украине, которая величиной со всю Францию…
Несмотря на столь плодородные земли, превратить продукты в деньги крайне затруднительно, потому что управляющие воруют, и недостает рабочих рук для молотьбы хлеба, который молотят машинами. Вы не воображаете себе богатства и мощи России: нужно видеть, чтобы поверить. Эта мощь и это богатство — чисто территориальные, и поэтому Россия рано или поздно станет хозяйкой европейского рынка по сырью.
А вот по этому поводу сведения, которые я сообщаю твоему мужу, и вопросы, которые прошу его выяснить.
У двух графов Мнишек есть земля, одна из самых прекрасных в империи, расположенная, к счастью для них, на русской границе, в пяти милях от города Броды. В Бродах начинается большая Галицийская дорога, ведущая к Краковской железной дороге: а железная дорога от Кракова до Франции будет закончена 15-го сего месяца… Сейчас Франция, где потребляется огромное количество дубового леса для железнодорожных шпал, почти не имеет дуба. Я знаю, что цены на дубовый лес выросли почти вдвое…
Эти господа, владеющие 20 тысячами арпанов высокого строевого дубового леса, могут продать 60 тысяч футов дуба высотою в 10 метров, в среднем 15 дюймов в диаметре у корня и 10 дюймов у того места, где отрубают верхушку. Нужно вычислить цену, которую можно было бы заплатить за каждое дерево владельцам, принимая во внимание: 1) перевозку из Брод в Краков — 80 миль, 2) стоимость перевозки по железной дороге из Кракова в Париж, считая также сплав через Рейн у Кельна и через Эльбу в Магдебург, так как на этих, двух реках мостов-виадуков еще нет, и лес придется сплавлять, а сплав 60 тысяч таких стволов — дело не шуточное.
Но если первоначальная стоимость, скажем, десять франков, а фрахт будет стоить двадцать франков (я беру первые попавшиеся цифры, чтобы объяснить ход моих вычислений) и ствол обойдется в тридцать франков, то весь вопрос в том, чтобы узнать, сколько стоят в Париже 60 тысяч штук дубовых стволов длиною в 30 футов без отески, что даст 60 тысяч балок в 20 футов и 60 тысяч штук железнодорожных шпал в 10 футов длиной. Если это даст только двадцать франков прибыли, то и то это составит 1 200 тысяч франков.
Мне нужен определенный ответ по этому поводу… Я говорю только о стволах дубов, а не о ветках, а если взять на себя обрубку ветвей, то возможно, что толстые ветки дадут еще 120 тысяч шпал, не считая громадного количества дров…
Итак, ответьте мне возможно скорее, и пускай Сюрвиль составит точный перечень фрахтов от Кракова до Парижа, стоимости перевозки, пошлины, если таковая существует во Франции и т. д. Я узнаю здесь, сколько будет стоить перевозка от Брод до Кракова… Не следует удивляться, что дело это еще не сделано: так беззаботны здешние помещики; эта страна — какие-то ледяные Антильские острова, а помещики — креолы, эксплуатирующие свои земли при помощи мужиков…
Я желаю, чтобы это дело выгорело, и то, что я вам о нем пишу, доказывает, что я всегда думаю о вас и о моих племянницах. Вопрос сводится к тому чтобы узнать, какая перевозка дороже — по воде или по железной дороге; если необычайно выгодно сплавляют сосну из Риги и Архангельска в Гавр, наживая состояния в Риге, Гавре и Париже, то что же будет, когда станут перевозить не сосны, а дубы, которые стоят по крайней мере вдвое дороже…
Вы не представляете себе, какие огромные богатства сосредоточены в России и не используются за отсутствием транспорта. Мы топим здесь печки соломой (а Вишховня — дворец). В неделю сжигают в печах всю солому, какую можно найти на рынке святого Лаврентия в Париже.
Как-то я пошел на гумно в Вишховне, где молотят хлеб машинами, и там стояло, на одну деревню, 20 скирд высотою в 30 футов, длиною в 50 шагов и шириною в 12 шагов. Но воровство управляющих и расходы сильно уменьшают доходы.
Мы не представляем себе дома, как здесь живут. В Вишховне нужно иметь все свое: здесь есть кондитер, мебельщик, портной, сапожник и т. д. при доме. Я понимаю теперь, что рассказывал мне покойный господин Ганьский о трехсот слугах и о том, что в его распоряжении был целый оркестр. Граф Юрий Мнишек, счастливый супруг графини Анны, имеет в Волыни замок — польский Версаль…
В Вишховне… есть суконная фабрика, и сукно вырабатывают очень хорошее. Мне делают шубу, подбитую сибирской лисой, из местного сукна, чтобы я мог провести здесь зиму, и это сукно стоит французского. Фабрика выпускает 10 тысяч штук сукна в год.
У меня здесь прелестная квартирка, состоящая из гостиной, кабинета и спальни; кабинет выкрашен розовой клеевой краской, там есть камин, роскошные ковры и удобная мебель…»
Как видим, громадные латифундии Гаиьских и Мнишеков вдохновили Бальзака не на роман или повесть. Замки этих помещиков, несмотря на то, что напрашиваются на сравнение с Лувром и Версалем, — очевидно, и в отношении их внутреннего убранства, всяких редкостей и произведений искусства, — не содействовали литературным занятиям Бальзака. Среди их населения царил дух делячества и феодальных треволнений. Он то и затронул его слабые струны и вылился целым аккордом коммерческих соображений. Десятки тысяч десятин, сорок тысяч рабов, триста слуг, — все это вызывало в Бальзаке восхищение, и ему ни на минуту не казалось странным, что бок-о-бок с прекрасными картинами великих мастеров и роскошными коврами торгуют людьми, секут людей и ведут им счет так же, как ведут счет скотине, и в урожайные годы на мальчиков радуются приплоду рабочей силы.
Он увидел воочию эту «прекрасную» страну, о которой мечтал, и не отказался от своего влечения к фигуре «гиганта», как он называл императора Николая. Он не перестает обожать его, «во-первых, потому что он — единственный самодержец в полном смысле этого слова, то есть господин, управляющий самолично; во-вторых! потому что он пользуется властью, как ею нужно пользоваться; в-третьих, потому что он очень любезен с французами, приезжающими осматривать его город». Это подлинное признание вылилось из-под пера Бальзака в благодарность за рассказы Ганьской об императорской семье.
Дом в имении Ганьских в Вишховне (на Волыни)
Можно думать, что и в Вишховне за вечерним столом графиня не раз повествовала ему о том же императорском доме и о быте возлюбленного монарха, чтобы на ночь согреть душу человека, который «если бы не был французом… хотел бы быть русским». Речи графини, пересыпанные на каждой фразе «его величеством», мечтательные вздохи и взгляды молодоженов и любезность французского гостя, доходящая до самозабвения, — вот то, что повторялось изо дня в день в доме Ганьской. Бальзак не работает и пребывает в праздности и лени.
Однажды его возили в Киев вместе с супругами Мнишек. Молодой супруге Анне необходимо было появиться в киевском свете — показать себя, осчастливленную браком с родственником коварной Марты, пленившей некогда сердце самозваного русского царя. О Киеве и о том, что и кого он там встречал, Бальзак почти ничего не говорит:
«…итак, я видел северный Рим, православный город с тремястами церквей, и сокровища Лавры — степной святой Софии. Один раз это стоит посмотреть. Меня осыпали знаками внимания. Вообразите себе, что какой-то богатый мужик (moujik) читал все мои сочинения, что он каждую неделю ставил за меня свечку святому Николаю и обещал дать денег прислуге одной из сестер госпожи Ганьской, чтобы узнать, когда я приеду, и повидать меня…».
Через четыре месяца — в конце января 1848 года — он трогается в обратный путь — в Париж и возвращается туда за несколько дней до революции.
В то время как Бальзак, закутанный в шубу, подбитую сибирской лисой и крытую сукном изделия вишховнянских рабов, медленно двигался по ухабам, страдая от двадцатиградусного мороза, — в Париже чувствовалась весна, и в эту весну особым возбуждением были оживлены его улицы. Собирались толпы у редакций газет, у кафе, у кабачков, в рабочих районах и на больших бульварах, обсуждались политические новости, слухи превращались в истинное происшествие, происшествие разрасталось в большое событие. Из палаты депутатов целыми группами, в каретах и пешком, направлялись люди в какой-нибудь клуб или салон, и до поздней ночи на банкетах раздавались тосты, провозглашения и речи. Во всем слышалось нарастание политической бури.
Не раз со времени водворения июльской монархии Париж и другие города Франции переживали революционные вспышки, превращаясь на несколько дней в революционный лагерь; каждый раз сторона пролетариев терпела неудачи и, затаив в сердцах своих ненависть и месть, разбредалась по трущобам, насчитывая сотни жертв. Но чем дальше, тем напряженнее становилась классовая борьба, все ярче назревали конфликты между социальными группами, ибо, как писал Герцен, «эксплуатация пролетария была приведена в систему, окружена всей правительственной силой, нажива делалась страстью, религией, жизнь сведена на средство чеканить монету, государство, суд, войско — на средство беречь собственность».
Борьба угнетенных со своими угнетателями нарастала не только в одной Франции; недаром католик-демократ Монталамбер[190] в январе 1848 года в парламенте предупреждал правительство о надвигающейся всеевропейской революции. Почему пала старая монархия? — спрашивал он. — «Она была сильнее вас — сильнее своим происхождением, она тверже вас опиралась на старые обычаи, на старые нравы, на древние верования. Она была сильнее вас и, однако, пала в прах. Почему она пала? По случайному обстоятельству? Думаете ли вы, что это было делом какого-то лица, дефицита, присяги в зале «для игры в мяч» Лафайета, Мирабо? Нет, милостивые государи, есть причина более глубокая, более действительная: эта причина в том, что тогдашний правящий класс сделался, по своему равнодушию, эгоизму и порокам, неспособным и недостойным править».
В данном случае депутат Монталамбер говорил о героях Бальзака, о которых не вспомнил бы сам Бальзак, если бы ему пришлось выступать в эти же дни и с этой же трибуны, и о которых он также не вспомнил, появившись одним из первых в Тюильри в день 24 февраля, когда революционная толпа ворвалась во дворец отрекшегося от короны и бежавшего в Сен-Клу Людовика-Филиппа.
Взятие Лувра. Июльская революция 1830 года. Картина Швебаха. Из собрания гравюр Гос. музея изобразительных искусств
Сцены революции 1830 года. Картина Швебаха. Из собрания гравюр Гос. музея изобразительных искусств
«Встреча с ним, в Маршальском зале, — вспоминает Шанфлери[191], — меня поразила больше, чем сама революция и бегство короля. Среди бойцов и ружейных выстрелов странно было видеть человека, преданного монархическим принципам. Актер Монроз, который играл в «Изворотливом Квиноле», пробрался к господину де Бальзаку сквозь толпу и узнал от него, что он пришел взять лоскут бархата с королевского трона…».
В дни, когда «Европа, — по словам Маркса, — пораженная, очнулась от своей мещанской полудремоты», Бальзак пребывал в обывательском сне, навеянном монархическими дебрями Вишховни. Есть что-то предзакатное и утомленное во всей его фигуре. В волосах засеребрилась седина, на висках и у глаз желтые пятна. Он оживляется только в разговоре о литературе и искусстве, но тотчас же начинает брюзжать и жаловаться на свою бедность, изображая из себя приживальщика у какого-то несуществующего богатого человека.
В этом отношении очень интересны воспоминания того же Шанфлери, посетившего Бальзака вскоре же после встречи в Тюильри. «Господин де Бальзак излагает мне целый ряд мыслей о своем театральном будущем; ему хотелось бы организовать крупное объединение драматургов; но все они — бездельники, лентяи, с ними ничего нельзя сделать; нужно заставить их работать, как работали Кальдерон и Лопе де Вега, «которые были полны пантомимы», как говорит он. Единственный настоящий работник — это Скриб».
Бальзак рассказывает, что собирается возобновить на сцене «Вотрена», подав его под революционным соусом, как осмеяние Людовика-Филиппа, и будто бы к нему поступило заявление за пятьюдесятью подписями с просьбой возобновить эту пьесу. Затем разговор заходит о литературных трудах Шанфлери, и Бальзак очень доволен, что молодой писатель собирается много работать. «В добрый час, — говорит он ему, — вы похожи на меня, и я рад за вас, что вы на меня похожи». Вспоминает свои первые литературные опыты, говорит, что мало кто из писателей знает французский язык — только Гюго, Готье, да он.
«Господин де Бальзак поплакался на печальное положение литераторов во Франции, особенно романистов. По его словам, это — самое утомительное и самое плохо оплачиваемое ремесло. Он всю жизнь писал, чтобы не умереть с голоду; он сочинял романы по нужде, чтобы заработать на жизнь.
«Проработав двадцать лет по пятнадцати часов в сутки, — говорит Бальзак, — я не имею ни гроша, и если я живу здесь, то только потому, что люди, которым принадлежит этот дом, оставили меня здесь в качестве швейцара…».
Бальзак советует Шанфлери писать романы и рассказы только для собственного удовольствия, а деньги зарабатывать пьесами, потому что художник «должен вести роскошную жизнь». Вот Ламартин занялся политикой, и ничего не зарабатывает, и умрет нищим на соломе; да он, кроме того, совершенно не знает французского языка.
«После двухчасового разговора я встаю и прощаюсь; господин де Бальзак провожает меня до лестницы; проходя, я вижу мраморную статую, на две трети больше натуральной величины, изображающую господина де Бальзака. Она… кажется мне посредственной. — Ах, вы занимаетесь искусством! — говорит мне автор «Человеческой комедии». — Тогда я покажу вам свою галерею. — Мы поднимаемся в другие комнаты и входим в длинную картинную галерею, где на почетном месте висит большая картина, изображающая монаха-доминиканца. Там было много картин всех размеров, но теперь я уже забыл их сюжеты и имена художников.
Мы осматриваем галерею, и мне делается странно: я как будто уже знаю ее. Господин де Бальзак рассказывает о происхождении рам; одна из этих рам принадлежала Марии Медичи. Бальзак — энтузиаст живописи, особенно портретной; его галерея стоила больших денег; Ротшильд очень завидует знаменитой раме Марии Медичи. Я ломаю себе голову, стараясь вспомнить, где я видел эту галерею, никогда в ней не бывав.
Но вот, перейдя в соседнюю комнату, господин де Бальзак останавливает меня перед небольшой пустой рамой резного дерева, нарочно повешенной на видном месте. — Когда известный голландский антиквар (имя я забыл) узнал, что у меня есть рама этого мастера, — сказал Бальзак, — он заявил, что отдаст все, до последней капли крови, лишь бы получить половину…
Да ведь это — галерея кузена Понса, это — картины кузена Понса, это — редкости кузена Понса! Теперь я их узнаю! Они были описаны г-ном де Бальзаком в первой части «Бедных родственников» с пониманием и точностью, которых можно достигнуть только тогда, когда пишешь с натуры…
После картинной галереи мы вошли в залу с одним единственным окном. Там ничего не было, кроме богатых шкафов с книгами, в красивых переплетах. Без провожатого было бы трудно найти выход из этого убежища.
Опять начались жалобы Бальзака на свою бедность. Он боится, как бы я не подумал, что все это принадлежит ему.
— В этом доме меня только терпят, — сказал он, — и владельцы поручили мне приобрести для них все эти красивые вещи. В свое время Теофиль пустил по Парижу стух, что я прячу миллионы, но это неправда. Здесь ничего нет моего. — И господин де Бальзак повторил, что какие-то влиятельные люди были так добры, что приютили его.
Однако он показывал мне с восторгом, несвойственным временным жильцам, расположение комнат, разные залы, ванную комнату, бывший будуар финансиста Божона, где недавно реставрирована стенная роспись, и, наконец, большую гостиную, которая изобиловала всякого рода редкостями: резной мебелью, старинными креслами, заново отполированными и позолоченными с большой тщательностью…
Господин де Бальзак был очень доволен, что может показать свою коллекцию, почти законченную. Под конец он, очевидно, решил переменить тактику. — Прошу вас, сударь, не рассказывать в Париже о том, что вы видели, а то будут всякие неприятности».
Это не юродство. Для Бальзака наступил период, который наступает для каждого в разном возрасте, когда даже на физическом облике проступают пороки человека, как на поношенной одежде проступают сальные пятна. Отлетело то очарование молодости и силы, которое скрашивает недостатки.
Во всяком случае, из чувства стыда перед самим собой и людьми Бальзак в былое время не допустил бы мысли переделать пьесу «Вотрен» на новый революционный лад, как задумал переделать теперь, рассчитывая на подъем революционного духа у тогдашнего зрителя. Правда, в этом сказалась еще его неутолимая жажда театрального успеха, а успеха до 1848 года не было, и путь его, как драматурга, был устлан терниями.
После провала «Вотрена», в конце 1841 года, явился к Бальзаку новый театральный соблазнитель директор Одеона Огюст Лоре, такой же, как и Бальзак, прожектер по части снискания внезапных богатств. Из-под спуда была извлечена пьеса «Изворотливый Квинола». Труппе Одеона читал ее сам Бальзак. Во время чтения пятого акта примадонна Мари Дорваль раскапризничалась и заявила, что играть не будет. «Сказав это, — вспоминает Гозлан, — она с обычной поспешностью завязала ленты своей шляпки, двумя сухими щелчками оправила платье, измятое от долгого сидения, засунула свои вечно зябнувшие руки в муфту из серой лисы, поклонилась и вышла».
Лоре принял пьесу и назначил через два дня репетицию. Бальзак взял на себя распространение билетов на три первых спектакля: никаких клакеров! Он по нескольку часов сидел в кассе, и если кто-нибудь из пришедших за билетами ему не нравился и казался врагом, он говорил, что билеты все проданы. За билетами перестали ходить. Бальзак забеспокоился и прибегнул к письменным приглашениям. Он плел великосветские кружева, льстил, лгал и кокетничал именно в том кругу парижского общества, где более всего могло оказаться недовольных скандальным зрелищем «Вотрена», которые могли ему повредить за прошлое и теперь.
Премьера состоялась 19 марта 1842 года. Зал был почти пуст. Эта смесь слезливой драмы с бурлескной комедией пришлась, по-видимому, не по вкусу публике 1842 года. Зрители негодовали, свистали изо всех сил. Свистки, крики, грубые остроты — чего только не было в этом спектакле; даже в некоторых местах иронические аплодисменты. В пьесе были сделаны некоторые купюры, и она выдержала только 19 представлений.
Через полтора года после «Квинолы» на подмостках театра Гэтэ 26 сентября 1843 года была показана пьеса Бальзака «Памела Жиро». Сам автор был в Петербурге и не особенно интересовался судьбой своего произведения, к тому же переделанного каким-то безвестным драматургом. Журналисты, обозленные недавно напечатанной статьей Бальзака «Монография парижской прессы», разругали «Памелу», и один только Готье остался дружески расположенным к Бальзаку. Он оценил эту мелодраму, как вещь, написанную с большим знанием законов жанра и театральных подмостков.
Теофиль Готье писал в «Прессе» 30 сентября 1843 года: «Господин де Бальзак — один из самых живых и в то же время самых выдержанных умов нашего времени. Обладая непоколебимой волей, он сказал себе пятнадцать лет назад: «Я буду знаменитым романистом», — и он стал им — не сразу, а в результате неустанных усилий. Качество, которое как будто создало г-на де Бальзака для театра, — это его талант живописать характеры. Физиономии, им нарисованные, живут и глубоко запечатлеваются в памяти… Не боясь испортить свою репутацию, так законно им завоеванную, он захотел в последнее время испытать счастья на сцене.
Опыты его были неудачны — «Вотрен», «Квинола» провалились. Эти два провала не помешали г-ну де Бальзаку продолжать свои опыты, и вот в театре Гэтэ идет его новая пьеса «Памела Жиро», которая кажется нам не решающим его словом. Если понадобится, господин де Бальзак напишет еще сотню актов, пока не нащупает своей формы, и тогда мы нисколько не сомневаемся, что он обогатит театр пьесами столь же замечательными, как его лучшие романы».
Готье оказался прав: следующая пьеса, «Мачеха», является большим шагом вперед. В ней Бальзак освобождается от трафаретных сценических образов, интрига построена крепко и занимательно, в живом и остроумном диалоге предугадано театральное действие. Такой зритель, как Тургенев, проживавший тогда в Париже, был восхищен пьесой. Мало того — он целиком воспользовался ее фабулой и характерами ее персонажей для своего «Месяца в деревне».
День премьеры «Мачехи» — 25 мая 1848 года — был днем победы Бальзака над журнальной и литературной кликой, которая состояла в большинстве случаев из людей бездарных, а если и мало-мальски одаренных, то развращенных куплей-продажей успеха. В литераторы старались пролезть все, начиная от чиновников и кончая сочинителями парфюмерных объявлений.
Это пестрое сборище служителей пера, каким мы застаем его в 1848 году, так описывает Шанфлери: «Если память мне не изменяет, в мае 1848 года господин Ледрю-Роллен напечатал в газетах официальное извещение, которым он приглашал всех литераторов собраться в определенный день в одной из зал Инститю де Франс.
Около двух часов зала, в которой происходят обычно торжественные заседания, запестрела «литераторами», отличительным признаком которых было отсутствие какого бы то ни было отношения к литературе. Все смотрели друг на друга, пытались друг друга узнать — и не узнавали.
Там были фурьерист Туснель[192], Франсис Вей и несколько молодых людей, составлявших «гору» этого клуба; на трибуне восседал в качестве председателя Сезар Дали, архитектор-фурьерист (довольно странный председатель на собрании литераторов!). Были там Ахилл Конт, естествоиспытатель, и многие другие, которых я не запомнил.
Внезапно входит господин де Бальзак, и все собрание поворачивает головы к толстому человеку в зеленом костюме и перчатках. Он быстро оглядел присутствующих, узнал меня и сел рядом, нисколько не сомневаясь, что садится на «горе».
Некто взошел на трибуну и возвестил, что он прислан г-ном Ледрю-Ролленом, министром внутренних дел, чтобы узнать, какие меры надобно принять в отношении художественных изданий. Это слово «художественные издания» сразу оживило собрание, и поднялся крик, к которому не привыкли залы Института.
Господин Вей произнес остроумную речь, в которой правильно указал, что художественные издания — один из бичей литературы; что художественные издания съедают все фонды, предназначенные для литераторов; что художественные издания всегда заказываются и чрезвычайно дорого оплачиваются лжеученым, которые поручают работу своим секретарям; что художественные издания — это просто книги с картинками, и часто эти картинки — всего-навсего старые клише, купленные на вес у жестянщика и перепроданные министерству, как новые. Господин Вен заключил, что художественное издание в том его виде, в каком оно до сих пор поощрялось министерствами — вещь бесполезная и даже крайне вредящая интересам литераторов.
После довольно бесцветного возражения г-на Леба, сидевшего в президиуме, собрание еще трижды испустило рыкание по адресу художественных изданий. Тогда личный секретарь г-на Ледрю-Роллена вышел, ни слова не говоря, и предоставил литераторов на съедение друг другу.
Господни де Бальзак много смеялся над этой сутолокой; он, как ребенок, забавлялся шумом, и живот его плясал под складками панталон. — Какие странные литераторы, — сказал он мне, — и я ни одного из них не знаю… Откуда они взялись? Можете вы назвать мне фамилии? — Я назвал всех, кого знал, а Бальзак признал только господина де ла Ландель, бывшего моряка, занявшегося изготовлением романов.
Когда волнение немного поостыло, собрание более или менее пришло к соглашению и постановило отправить к г-ну Ледрю-Роллену двух депутатов, чтобы дать ему понять, что художественные издания в революционные времена — вещь бесполезная, и что лучше поощрять более популярные литературные труды. Представителем собрания литераторов единогласно был избран господин де Бальзак. Великий романист взошел на трибуну и взял слово.
Бальзак. Портрет Берталя
Сначала он поблагодарил своих собратьев за честь, которую они ему оказали, выбрав его депутатом; но он не может принять на себя этого поручения. Бальзак снова поставил вопрос в той же форме, что и секретарь министра. Г-н Ледрю-Роллен спрашивает, что нужно сделать по части художественных издании, и он, Бальзак, считает, что собрание не может отвечать на вопрос министра советом.
— Не отвечайте ничего, — сказал он, — или отвечайте о художественных изданиях. Министр не спрашивает вас, считаете ли вы художественные издания нужными или нет — он спрашивает вас о художественных изданиях, и ничто не может заставить вас обойти этот вопрос. — И, снова поблагодарив своих собратьев, Бальзак удалился.
Возможно, что посещение этого собрания и отеческий тон выступления были со стороны Бальзака демонстрацией победителя перед побежденными. Во всяком случае, не общественные побуждения привели его в Инститю де Франс, ибо там не могло оказаться королевского трона, как в Тюильри.
Бальзак как будто не замечал, что творится в Париже. Он нигде ни одним словом не упоминает ни о февральских, ни о страшных июньских днях, когда обманутый пролетариат снова стал на баррикады и потребовал у Национального собрания своих прав, а в ответ на это сверкающие свободолюбием речи Ламартина внезапно превратились в бомбы народного расстрельщика Кавеньяка[193].
«Три месяца, — писал Герцен, — люди, избранные всеобщей подачей голосов, выборные всей земли французской, ничего не делали и вдруг встали во весь рост, чтобы показать миру зрелище невиданное — восемьсот человек, действующих как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое, покрывалось воплем мести и негодования… Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не омочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрительным дня мещан». И на знамени этих людей красовалось: долой социализм!
Просидев в Париже за занавешанными от всего мира окнами, Бальзак в начале сентября направляется в Вишховню и прибывает туда в двадцатых числах. Весть о событиях в Париже была встречена там так, как и следовало ожидать. «Французов, — пишет он оттуда, — считают здесь сумасшедшими, и вполне справедливо, особенно после февраля 1848 года». Бальзак скорбит о Франции, но постольку, поскольку это касается благополучия близких ему людей.
«Я хотел бы знать, — спрашивает он Лоран-Жана[194], — что сталось с вашей бедной Францией, которую республиканцы, как мне кажется, держат в постели? Я слишком патриот, чтобы не думать о глубочайшей нужде, которая, должно быть, захватила всех, особенно художников и литераторов. Какая пропасть — теперешний Париж! Она поглотила Ламартина, Гюго, и, наверное, многих других. Ну, а ты, друг мой, что с тобой? Позволяет ли тебе Республика завтракать в кафе Кардинал и обедать у Вашетта?»
По мнению Лоран-Жана, Республика является сточной канавой, и Бальзак вторит ему и пророчествует на целый год всякие несчастья для Франции, полагая, что только по восстановлении в ней крепкой и сильной монархии можно будет начать делать какие-нибудь дела.
Однако и в тишайшей России не удается Бальзаку хоть «десять минут подумать о литературе», — сперва он был поглощен встречей с мадам и ее делами, а потом начинаются частые заболевания, и напрасно винит Бальзак февральские дин и «это дурацкое поголовное ополчение демократии, которое должно пожрать своих писателей». Дела Бальзака обстояли гораздо хуже — он начинал быстро и мучительно приближаться к своему концу.
Вскоре по приезде в Вишховню Бальзак заболевает, и местные доктора, отец и сын Кноте, определяют у него гипертрофию сердца, которая осложняется простудами. Бальзак проклинает климат и азиатские ветры, которые с каждым разом нее дольше и дольше держат его в постели, но на самом деле главным виновником этого был общий склероз.
Его мучат сильные головные боли, кровавая рвота, при высокой температуре расширенное сердце давит на легкие, и он задыхается. Каждое движение вызывает одышку и головокружение, он не может уже сам одеваться, слабеет и страшно худеет. Но все это не смущает графиню, и как только ему становится лучше, она снова тащит его за собой и за Мнишеками в Киев.
«Я просидел двадцать дней в комнате (в Киеве), — пишет он сестре, — и единственным моим развлечением было видеть мадам Мнишек, отправляющуюся на бал в костюмах царского великолепия; вы не знаете, что такое туалеты в России, — это выше, много выше того, что можно видеть в Париже. Большинство женщин разоряют своих мужей роскошью своих туалетов, а кавалеры по танцам разрушают туалеты дам своими резкими движениями.
В одной фигуре мазурки, где кавалеры оспаривают друг у друга носовой платок дамы, разорвали в клочки платок молодой графини, стоивший пятьсот франков с лишним, один из самых красивых в ее приданом, которым я восхищался перед ее отъездом на бал. Ее очаровательная мать поправила дело, отдавши ей самый лучший из своих платков, вдвое богаче: полотна там только на кончик носа, а все остальное — английские кружева. Вот главные события нашей жизни; суди же о прочем!»
Дом на улице Кассини, где жил Бальзак с 1830 по 1835 год
Однако, высиживая в комнате по двадцать суток и еле двигаясь, Оноре Бальзак все еще помышляет о свадьбе, но свадьба откладывается, и не по болезни его, а потому, что Ганьска встревожена каким-то тяжебным делом относительно земель своей дочери и тем обстоятельством, что мать и сестра Бальзака сообщают о каких-то долгах писателя, и вообще она колеблется в выборе: здесь она знатна и богата, а в Париже ее ждут только платежи и расходы на содержание салона, о котором мечтает мосье.
Да и неизвестно еще, что там в Париже делается после революции. Но сам Бальзак полон заботами о будущей семейной жизни и пишет матери о найме прислуги, о том, что кухарка не должна заводить кошек, так как мадам их не выносит, и что нанятый им в Киеве молодой лакей, оказывается, курит, и если немедленно не отвыкнет от своей дурной привычки, то будет изгнан безжалостно.
В конце 1849 года, почувствовав улучшение, Бальзак и сам начинает собираться в Париж для лечения, но задерживает только насморк, а после очередного выезда в Киев опять ему становится хуже.
У него выпали передние зубы, по вечерам он не может читать — так ослабли его глаза, он лежит в постели, дышит с хрипом и со свистом. На письменном столе лежат какие-то наброски, — он недавно пытался работать, и не мог. И не потому ли сослан в библиотечную комнату из комнат жилых его портрет кисти Буланже, который, по слонам самого Бальзака, выражает силу и веру в будущее? И странно: портрет «превратился в самую омерзительную мазню, какую только можно себе представить», — жалуется Бальзак в письме к Лауре, — «все почернело — это ужасно… Мне стыдно, как французу, за такое полотно».
В начале марта 1850 года наконец назначается день свадьбы и совместный отъезд в Париж Бальзака и графини. Он пишет матери: «Я хочу, чтобы мадам Оноре увидала дом в его лучшем убранстве, и чтобы там были красивые цветы во всех жардиньерках. Нужно, чтобы они были свежие; я напишу тебе из Франкфурта и укажу день, когда ты должна будешь расставить цветы. Я готовлю сюрприз и ничего об этом не рассказываю».
А через четыре дня, 15 марта, уже сообщает: «Моя дорогая, любимая и добрая мама! Вчера, в семь часов утра, благодарение богу, состоялось мое бракосочетание в церкви святой Варвары в Бердичеве. Обряд совершал священник, присланный епископом Житомирским. Его преосвященство сам хотел венчать меня, но был занят и отправил вместо себя святого отца, ксендза графа Чарусского, славнейшего представителя польского католического духовенства.
Госпожа Ева де Бальзак, твоя невестка, чтобы устранить все деловые препятствия, приняла героическое решение, полное возвышенных материнских чувств: она отдала все свое состояние детям, оставив себе одну только ренту…».
И тем же числом помечено письмо к сестре, и в нем он печалится о супруге: «Руки и ноги распухают так, что она не может ни шевелить пальцами, ни ходить…».
Печальное зрелище, которое представляли собой молодожены, заставляет задуматься над тем, что собственно побудило их связать друг друга узами законного брака. Бальзак, конечно, верил в свое выздоровление, но могла ли верить в него графиня, наблюдавшая в течение полутора лет, как умирает человек? А если не верила, то могут быть только две причины, заставившие ее повенчаться: по-человечески — жалость, формально — желание церковью покрыть грех «незаконного» сожительства. Но и в том и другом случае Бальзак не был вознагражден за свои искренние чувства и привязанность.
Есть какая-то беспомощность в той торопливости, с которой Бальзак стремится оповестить своих друзей о своем счастливом браке, и, главное, с кем! «Узнав, что я стал мужем внучатной племянницы Марии Лещинской[195], — пишет он доктору Накару, — что я делаюсь шурином графа Ржевусского (тестя графа Орлова) — старшего адъютанта его императорского величества, самодержца всея России, племянником графини Розалин Ржевусской, первой кавалерственной дамы ее величества императрицы… и сто раз далее, — все поднимут меня на смех…
Но счастье самое полное, самое необычайное — вот чем лучше всего искупается всеобщая зависть. Но что мне до нее! Бог, несколько друзей, семья моей жены — свидетели, что я всегда любил в ней только ее самое…».
Титульный лист к «Человеческой комедии». Работа Берталя
И о том же в письме к Зюльме Каро: «Мы такие старые друзья, что Вы должны узнать от меня самого о счастливой развязке великой и прекрасной драмы сердца, длившейся шестнадцать лет. Итак, три дня назад я женился на единственной женщине, которую любил, люблю больше, чем когда-либо, и буду любить до самой смерти. Мне кажется, что бог вознаградил меня этим союзом за столько бедствий, столько лет труда, столько трудностей, перенесенных и преодоленных. У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны; у меня будет самое сверкающее лето, самая теплая осень».
Но вряд ли Бальзак думал о сверкающем лете, когда, сам больной и с больной женой, в апреле 1850 года тронулся в дальний путь и путь тяжелый: «Нам потребовался почти месяц на дорогу, — сообщает он сестре из Дрездена, — которая делается в неделю. Не один раз, а сто раз на день наша жизнь находилась в опасности. Часто надо было звать на помощь 15–16 человек с домкратами, чтобы вытаскивать нас из бездонной грязи, в которой мы застревали по самые дверцы кареты. Такое путешествие старит на десять лет… Болезнь глаз мешает мне видеть, что я пишу, и эта-то болезнь и заставила нас, несмотря ни на что, отправиться в Париж, чтобы ее вылечить…
Я рассчитываю на тебя: дай понять маме, что она не должна быть на улице Фортюне, когда я приеду. Моя жена должна первая нанести ей визит. Когда это будет сделано, она может показать всю свою преданность, но она потеряет свое достоинство, если будет помогать нам распаковывать вещи. Итак, пусть она приведет дом в порядок, позаботится о цветах и обо всем прочем, 20-го числа, а потом отправится ночевать к тебе или к себе, в Сюрен. Через день после приезда я представлю ей ее невестку».
А в письме к матери, в этот же день и оттуда же, опять напоминает о цветах и умоляет ее быть не у себя, а у Лауры, так как он не в состоянии подниматься выше, чем на двадцать пять ступенек.
Мать в точности выполнила пожелания сына: квартира была убрана цветами, и когда путешественники подъехали к дому в ночное время, он был ярко освещен, но увы, попасть в пего никак нельзя было. Ни звонки, ни стуки в дверь не могли призвать лакея Франсуа к исполнению своих обязанностей, — он сошел с ума. Пришлось вызвать слесаря, и только после взлома замка супруги де Бальзак попали в свой дом.
Это обстоятельство крайне тяжело подействовало на Бальзака, и он увидел в этом дурное предзнаменование. Еще только один раз, летом 1850 года, Бальзак покидал Париж для лечения соленым воздухом в Биаррице, еще только один раз выезжал в карете на парижскую таможню для выкупа двух тысяч килограмм багажа, пришедшего из Вишховни, и уже ни разу не получал из типографии свежей корректуры.
Когда наступила «теплая осень», Оноре де Бальзак умер.
О его смерти французские газеты сообщили: «Один из самых плодовитых и самых известных наших писателей, господни де Бальзак, скончался. Отпевание состоится в среду 21 августа, в одиннадцать часов, в церкви св. Филиппа Рульского.
Сбор в часовне квартала Божон, улица Сент-Оноре, 193».
Бальзак на смертном одре. Рисунок Эжена Жиро
21 августа 1850 года, на кладбище Пер-Лашез Виктор Гюго сказал: «Господа!
Человек, сошедший в эту могилу, — один из тех, кого провожает общественная скорбь. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взоры обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит, и когда один из мыслящих уходит, содрагается вся страна. Отныне смерть человека талантливого — это всеобщий траур, смерть гениального человека — траур всенародный.
Господа, имя Бальзака вольется в блистательный след, который наша эпоха оставит в веках.
Господин де Бальзак принадлежал к тому мощному поколению писателей девятнадцатого века, которое пришло после Наполеона, точно так же как славная плеяда семнадцатого века пришла после Ришелье, — словно в развитии цивилизации есть закон, по которому за победителями мечом приходят победители умом.
Господин де Бальзак был одним из первых среди самых великих, одним из самых высоких среди лучших. Здесь не место говорить обо всем, чем был этот великолепный и полновластный ум. Все его книги образуют одну книгу, книгу живую, блистательную, глубокую, где живет и движется страшная, жуткая и вместе с тем реальная, наша современность; чудесную книгу, которую поэт назвал комедией, и которая могла бы называться историей, которая являет все формы и все стили, которая, опережая Тацита, достигает Светония[196], и, соприкасаясь с Бомарше, доходит до Рабле; которая щедро расточает истинное, личное, мещанское, пошлое, земное, и которая иногда, сквозь завесу всего сущего, разорванную резким и широким движением, показывает вдруг самый мрачный и самый трагический идеал.
Сам того не зная, хотел он этого или не хотел, согласился бы он с этим или нет, — творец этого огромного и странного произведения был из крепкой породы писателей революционных. Бальзак идет прямо к цели. Он берет современное общество мертвой хваткой. Он у каждого что-нибудь отнимает: у одних — иллюзию, у других — надежду, у этих исторгает вопль, с тех срывает маску. Он копается в пороке, он разымает страсть. Его скальпель проникает в человека, в душу, в сердце, во внутренности, в мозг, в пропасть, которую каждый носит в себе. И вот, даром своей свободной и мощной натуры и преимуществом умов нашего времени, которые, видев вблизи революции, яснее прозревают конечную цель человечества и яснее понимают провидение — Бальзак, после этих страшных трудов, приводивших Мольера к меланхолии и к мизантропии — Руссо, выходит улыбающийся и светлый.
Вот что он делал среди нас. Вот творение, которое он нам оставляет, творение высокое и крепкое, прочная громада гранитных глыб, монумент! Творение, с высоты которого будет отныне сиять его слава. Великие люди сами создают себе пьедестал, о статуе заботится будущее.
Его смерть повергла Париж в оцепенение. Несколько месяцев тому назад он вернулся во Францию. Чувствуя, что умирает, он еще раз хотел увидеть родину, как хочет обнять сын свою мать накануне дальнего странствия.
Жизнь его была коротка, но полна; больше наполнена трудами, чем днями.
Увы! этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, схваток, битв, общую во все времена всем великим людям. И вот он вкусил мир. Он выше соперничества и вражды. В один и тот же день он вступает в славу и в могилу. Отныне, превыше туч, нависших над нашими головами, он будет снять в созвездии нашей родины.
Вы все, собравшиеся сюда, разве вы ему не завидуете?»
Судьба писателя
«Поэт не есть ли такой человек, который осуществляет свои чаяния раньше времени?»
Оноре де Бальзак
«Гений великого писателя принадлежит всему миру, а сердце его — ему одному». Гений Бальзака известен всему миру, но сердце его никому не открыто.
Буйность речи, сверкание золотых точек в зрачках, веселость, сообщавшая даже дурной одежде Бальзака какую-то улыбку, — все это заставляло думать, что перед вами стоит или сидит, спешит мимо в типографию или прогуливается по Люксембургскому саду человек открытого нрава, который сейчас, после нескольких слов приветствия, возьмет вас за руку, отведет в сторону и откроет вам свою душу с такою же легкостью, с какою в его словах нижутся мысли и блистает остроумие, — что вот-вот, еще немного, и вы станете друзьями.
Нет, у Бальзака не было друзей. У таких людей друзей не бывает. Их жизнь своеобычна. В нее они редко кого-нибудь допускают, а если и допускают, то только того, кто им почему-нибудь нужен или того, кто очень слаб. Ни Огюст Борже, ни Сандо — кратковременные сожители Бальзака — не могли назвать себя его друзьями, и не называли, и даже не оставили о нем ни строки воспоминаний.
С Огюстом Борже Бальзак разделял наследственное увлечение Китаем, в Сандо он предполагал найти соавтора по выполнению многих своих литературных планов. Казалось бы, тут-то и мог раскрыться перед ними тайный мир его сердца в дружеском единении и близости. Но получилось так, что они ушли от него с пустой памятью' и холодным сердцем, а Сандо даже стал его врагом. Леванжуль замечает: «Отношения Бальзака почти со всеми людьми, с которыми он сталкивался, остались тайной. В большинстве случаев эти отношения кончались катастрофой».
Свою семью Бальзак тоже не баловал своей дружбой, и только сестра Лаура в некоторых случаях располагала его к откровенности, и все же он допускал ее в свою жизнь не дальше маленьких тайн холостяцкого обихода, а чаще всего его дружба с сестрой была «обменом тщеславия».
Но вскоре и она перешла во вражду. Мадам де Берни, — пишет он Ганьской, — говорила: «Вы — орлиное яйцо, которое высидели эти гусыни». «Она отличала от них моего отца, а когда я хотел защитить и сестру, она говорила мне: «Ваша сестра будет такой же, как ваша мать». И она была права…
Я ничто в своей семье, в которой нет настоящего духа семьи. Постепенно они порвали все семейные узы. Я оседлаю работу, я опять воскрешу обычай — очень редко видеться с сестрой, как это было во времена мадам де Берни. Вот уже долгое время, как я наблюдаю странное превращение моей сестры в мою мать, предсказанное мадам де Берни. Я потрясен прозорливостью этого женского ума. Доброта моей сестры проявляется только порывами. Роковые слова мадам де Берни: «Вы — цветок, выросший на куче навоза» — к сожалению, правильны…».
Разрыв с сестрой продолжался несколько лет, потом они помирились и так называемая дружба их превратилась в самые обычные официально-семейственные отношения. Бальзак гораздо охотнее писал ей о вишховнянских дубах и каких-то коммерческих планах в Англии господина Сюрвиля, чем о своих литературных планах, а о самом себе он сообщал только то, что могло быть предметом бахвальства перед другими для этой закоренелой мещанки.
В Ганьской Бальзак избрал себе женщину, но не избрал друга. Он был всю жизнь одинок и умер одиноким. У его смертного одра стояли и плакали слуги, а мадам находилась в своих апартаментах в интимной беседе с молодым художником Жаном Жигу[197]. И, возможно, только одна прекрасная тень друга могла возникнуть в последней памяти писателя — это Лаура де Берни. Только она одна могла бы нам открыть многое о Бальзаке, но, к сожалению, даже писем его к ней не сохранилось, — они уничтожены ее сыном, как преступные свидетели «преступной» связи.
Роковым образом произошло так, что после смерти Бальзака все, кто близко стоял около него, старались не вскрыть перед нами его внутренний облик, а всячески затушевать или показать его в ином свете, то есть таким, каким они сами хотели его видеть, а потому, издавая его письма, и сестра, и жена исправили в них то, что было не по нраву добропорядочным мещанам. Свои же письма к Бальзаку Ева Ганьска уничтожила. Об этом особенно сожалеть не приходится, ее образ совершенно ясен, вы его найдете в богатейшей галерее образов самого Бальзака.
Супруги Бальзак. Карикатура из книги «Четыреста авторов»
Бальзак был одинок и хотел быть одиноким. Вот его идеал подруги жизни: «Человек, предпринявший то, что предпринял я, либо женится, чтобы иметь спокойную жизнь, либо соглашается на нужду Лафонтена и Руссо. Ради бога, никогда не говорите мне о моей беспорядочности, потому что она — следствие независимости, в которой я живу и которую хочу сохранить… Заявляю, (хотя я и перешел за роковой возраст — 36 лет), что я хотел бы иметь жену, соответствующую мне по годам, самого знатного происхождения, образованную, умную, богатую, которая одинаково хорошо могла бы жить на мансарде и играть роль супруги посла, не вела бы себя дерзко, как одна известная Вам особа в Вене, и не жаловалась бы, что она — жена бедного работника пера; я хотел бы быть исключительно обожаем, как за мои недостатки, так и за немногие мои достоинства, и чтобы эта женщина обладала в достаточной степени возвышенным умом и понимала, что при жизни вдвоем должна быть священная свобода, благодаря которой все доказательства любви добровольны, а не вызываются чувством долга, потому что в делах сердечных долг мне ненавистен; когда я найду этого феникса, единственную женщину, которая не сделает несчастным автора «Физиологии брака», — тогда я посмотрю».
«Священную свободу» надо понимать у Бальзака, как меру защиты от внедрения постороннего ока во внутреннюю жизнь человека, предпринявшего то, что предпринял Бальзак-писатель. Предпринятое — грандиозно, и, как все грандиозное, всегда немножко страшно, но тот, кто не убоялся создать грандиозное, тот скорее согласятся на нужду, чем подпустит к своему делу робкого и маленького человека.
И вот не потому ли предпринятое и гениально выполненное Бальзаком имеет свою одинокую судьбу. Как не было друга в жизни писателя, так не скоро нашелся друг среди потомков, способный понять и оценить по достоинству высокое искусство Бальзака. Мнение тех немногих современников, как Гюго, Готье и Неттеман, которые угадали в Бальзаке явление замечательное, оказалось гласом вопиющего в пустыне, и человек, родившийся в год смерти Бальзака и достигший через четверть века зрелого возраста, заинтересовавшись этим писателем, мог найти в авторитетнейшей справочно-поучительной настольной книге всякого интеллигентного француза — в словаре Ларусса — такую оценку Бальзаку:
«Биография Оноре Бальзака представляет лишь относительный интерес».
Массовый читатель Ларусса после этой фразы, вероятно, закрывал книгу и дивился, почему собственно некоторые люди так восторженно говорят об этом писателе? Но если он даже и не закрывал книги на этой фразе, то его и в дальнейшем ожидало разочарование. Ларусс сообщает, что Бальзак не имел писательского призвания и напал на мысль заняться литературой, имея дело с типографией и словолитней, что писательство давалось ему с большим трудом, доказательством чему служит его стиль. Такое заключение конферент по Бальзаку выводит из описания Теофиля Готье о том, как Бальзак правил свои корректуры.
«Шуаны», — по его мнению, — еще не вывели Бальзака на широкую дорогу литературы, и первое его произведение, заслужившее внимание, это — «Физиология брака», книга безнравственная и циничная, даже в некоторых местах скабрезная, напоминающая «Порнографа» Ретиф де ла Бретона. Успех ему создала «Шагреневая кожа», которая, наряду с отдельными местами, свидетельствующими об истинном таланте, содержит неудачные подражания Гофману и отчасти Рабле, лирические высокопарности, псевдо-философские длинноты, вульгарную декламацию и претензии на безнравственность.
К концу жизни Бальзак совершенно исписался, все больше впадал в вульгарность, изображая все более и более низкие предметы. В жизни есть много вещей, — заявляет критик из Ларусса, — воспроизводить которые бесполезно и неинтересно, и много таких, которые описывать просто неудобно, а Бальзак смел описывать.
Бальзак не создал типов, как Шекспир, Мольер и другие действительно великие писатели: смешно называть типами Вотрена и Растиньяка, мадам Марнеф и кузину Бетт. Типы его не реальны, таких людей никогда не было, он их выдумал, и выдумал неудачно. «Их кажущийся реализм — химера. Вотрен — мрачный романтический злодей, Растиньяк — низкий бездельник, без характера и без физиономии, отец Горио — маньяк». Все его герои до того безнравственны и отвратительны, что тошно читать, и с омерзением бросаешь книгу. «Их также нельзя считать типами, как нельзя считать оригинальностью тлю на розе». Стиль Бальзака ужасен, композиция его произведений никуда не годится. Он брал только внешнюю сторону явлений, а идеала у него не было. Его поклонники оправдывают его безнравственность тем, что он описывал жизнь так, как она есть, не неся ответственности за то, что она уродлива, но он описывал ее неправильно, да и жизни он не видал, ибо сидел всю жизнь у себя дома и пил кофе. Он не столько наблюдал, сколько выдумывал.
Порядочные писатели должны возвышать душу читателя, а Бальзак ее принижает, описывая только одну грязь. Прочитав Бальзака, становишься не лучше, а хуже. Он забывал, что основную массу читателей изящной литературы составляют женщины и молодежь, и не щадил их стыдливости. Со времени Бальзака общество стало еще развращеннее, превратилось в сплошную язву и виноват в этом Бальзак. Чтение Бальзака — вещь нездоровая и вредная. Влияние Бальзака на литературу так же плачевно, как и на правы.
Но оставим Ларусса и справимся о писателе Бальзаке в самой популярной истории французской литературы Лансона, которая является учебным пособием для школ всей Европы и по настоящее время. По мнению Лансопн, у Бальзака нет стиля, нежные чувства он изображать не умеет, слишком много рассуждает, воображая, что он — светоч; у него нет вкуса и чувства меры. Природы он не понимает, — «перед полями и лесами этот великий художник испытывает чувства коммивояжера», его интересует только человек и все, что его сопровождает и объясняет. Он безнадежно романтичен в дурном смысле этого слова, половина его творчества принадлежит к низкому романтизму по неправдоподобию и нагромождению чепухи. Никаких тонких характеров он изображать не может, и все его великосветские женщины — куклы и штампы. «Добродетель, как и грация, мало удается Бальзаку. Его гений начинается там, где начинается вульгарность и порок».
Так трактуют о Бальзаке французские справочники и учебники. Не лучше обстоит дело и с книгами, относящимися к разряду серьезных, как например труд Фаге, вышедший в серии «Великие французские писатели». Этот интеллигентный француз, воспитанный на классиках, не может скрыть своего презрения к Бальзаку и как к писателю, и как к человеку, к этому разночинцу, пролезшему в литературу, которого некоторые ошибочно считают гением.
Такое же презрение не мог скрыть от читателя и Бретон, написавший в общем неплохую книгу о Бальзаке. В конце ее он говорит так: «Он оставил после себя такой огромный памятник, какого не воздвигал себе ни одни романист, и все-таки колеблешься дать этому памятнику название произведения искусства, так как он пребывает в состоянии хаотического беспорядка и особенно еще потому, что в нем нет ничего, или почти ничего, великого и благородного. Он не из тех, которые внушают нам, как говорили в старину, «благородные и мужественные чувства». В общем почти так же трудно любить Бальзака, как трудно им не восхищаться».
Книги Фаге и Бретона вышли незадолго до империалистической войны, Ларусс и до сих пор непременно присутствует во всякой так называемой «порядочной» библиотеке; следовательно, и мещанин из Ларусса, и снисходительный профессор Фаге, и повышенно интеллигентный Бретон сочувственно перекликаются друг с другом на протяжении более чем полувека.
Что же это такое, что называют безнравственностью, в которой обвиняют Бальзака? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует уяснить себе, кто его обвиняет. Обвиняют его представители буржуазной критики, укрепившей свои позиции с тех пор, как господствующим заказчиком литературы стала буржуазия. А между тем, на стороне Бальзака должны были быть все ее симпатии, ибо этот писатель, являющийся ее же представителем, никогда не намеревался расшатывать установившийся капиталистический строй, верил в его незыблемость, и единственно в чем он видел действенность уходящей в прошлое аристократии, — это в том, что на ней лежит задача облагородить буржуазные нравы. Однако эти буржуазные нравы были изображены им с такой беспощадной правдой, что буржуазия не могла не увидать на своем молодом и, казалось бы, здоровом и сильном теле признаки близкого разложения. Это стало для нее более очевидным после тою, как все явственнее и явственнее слышалась поступь ее могильщика, который в 1871 году решительно обнаружил свое истинное и страшное для нее лицо.
Предчувствуя надвигающуюся смерть, буржуазия требовала от писателя увода от действительности, она хотела, чтобы он насыщал ее воображение не миром страшных пороков, а миром благополучия, и не обнаруживал бы тех противоречий, которые должны привести ее к гибели, изображая лишь те добродетели, которые должны служить ей личиной.
Натуралистическая школа Золя еще решительнее совлекла румяна и пудру с ее мертвенно-бледного лица и устремила свое внимание к нечистым подробностям ее интимной жизни. Натуралистическая школа вызвала резкую критику, и постольку, поскольку Золя причислял себя к ученикам Бальзака, блюстители общественной нравственности накинулись на праотца «безнравственной» литературы — на Оноре де Бальзака. И в таком отношении к Бальзаку воспитывались целые поколения французов! И поэтому неудивительно, что на наших глазах произошло следующее событие.
В июле 1910 года, только через шестьдесят лет после смерти Бальзака, в Париже, в Пасси, был открыт музей его имени, и открыт на частные средства, между прочим, Марселя Бутерона, по инициативе литератора Луи Бодье-Ройямона, снявшего для этого дом, где жил Бальзак, и поселившегося там в качестве квартиранта.
Дом в Пасси, где жил Бальзак. Теперь это здание занято музеем его имени (вид из сада)
Во время империалистической войны музей заглох и пришел в упадок. По окончании воины группа бальзаковедов упросила владелицу дома, мадам Барбье, назначить арендную плату в размере 3 тысяч франков, при условии выплаты музеем задолженности за помещение. Удалось также по подписке собрать деньги на внутреннее оборудование и на ремонт. Контракт на дом был заключен по 1936 год, но владелица умерла в 1929 году, завещав дом государству, с оговоркой, что он перейдет во владение государства только в 1950 году, к столетию со дня смерти Бальзака. Тогда наследники поторопились извлечь из этого дома средства и продали все владение покойной мадам Барбье какой-то фирме, а она, в свою очередь, чтобы с излишком покрыть свои расходы на покупку дома, увеличила арендную плату музея до 10 тысяч франков. Это легло непосильным бременем на бюджет музея, и в прошлом году встал вопрос о его закрытии.
Это, конечно, не случайность, это — знамение времени. Это говорит о том, что потрясающая сила образов Бальзака создала ему в капиталистическом обществе против тысячи друзей миллионы врагов, которые не только не дадут ни единого су на содержание музея его имени и с удовольствием прочтут Ларусса, но и пойдут дальше, к более решительным мерам, что и великолепно доказано. В Австрии при правительстве Дольфуса-католика изъяты из публичных библиотек сочинения Бальзака, как безнравственная и вредная литература.
Но такие варварские меры буржуазии по отношению к памяти Бальзака уже не новы. Дом на улице Фортюне давно уже куплен Ротшильдами и снесен до основания.
Бальзак стал вреден потому, что разгадана революционность его реализма, на которую указал в своей надгробной речи Виктор Гюго, и которая совершенно ясна нам. Вот почему буржуазный писатель и роялист-Бальзак интересен для советского читателя. Мир, изображенный Бальзаком, еще жив, и хотя он в достаточной мере одряхлел, он все же добровольно не уступит места новому миру, создаваемому пролетариатом. Пролетариат борется с этим одряхлевшим миром и должен знать его лицо — лицо своего врага.
Список произведений Бальзака, вошедших в «Человеческую комедию»
(В хронологическом порядке напечатания)
1829 «Шуаны». «Физиология брака».
1830 «Портрет женщины». «Мир домашнего очага». «Дом кошки, играющей в мяч». «Бал в Со». «Ведетта». «Гобсек». «Двойное семейство». «Два сна» («О Екатерине Медичи»). «Прости». «Эликсир долгой жизни». «Сарацин». «Страсть в пустыне». «Случай из времен террора».
1831 «Рекрут». «Изгнанники». «Неведомый шедевр». «Красная гостиница». «Шагреневая кожа». «Иисус во Фландрии». «Мэтр Корнелиус».
1832 «Госпожа Фирмиани». «Послание». «Полковник Шабер» «Турский священник». «Биржа». «Покинутая женщина». «Луи Ламбер». «Гренадьер». «Мараны».
1833 «Феррагюс» («История Тринадцати»). «Деревенский доктор». «Эжени Гранде». «Славный Годиссар».
1834 «Герцогиня Ланже» («История Тринадцати»). «Поиски абсолюта». «Тридцатилетняя женщина». «Отец Горио».
1835 «Драма на морском берегу». «Раскаявшийся Мельмот». «Златоокая девушка» («История Тринадцати»). «Брачный контракт». «Серафита».
1836 «Заупокойная обедня атеиста». «Опека». «Фачино Кане». «Лилия в долине». «Проклятое дитя». «Старая дева». «Тайна Руджиери» («О Екатерине Медичи»).
1837 «Два поэта» («Погибшие мечтания»). «Служащие». «Гамбара». «История величия и падения Цезаря Биротто».
1838 «Лавка древностей». «Банкирский дом Нюсенжан». «Дочь Евы».
1839 «Великий провинциал в Париже» («Погибшие мечтания». «Сельский священник». «Тайны княгини Кадиньянской». «Массимилла Дони».
1840 «Пьеретта». «З. Маркас». «Принц богемы». «Пьер Грассу».
1841 «Темное дело». «Мученик-кальвинист» («О Екатерине Медичи»). «Урсула Мируэ». «Мнимая любовница». «Воспоминания двух молодых».
1842 «Альбер Саварюс». «Первый шаг». «Рыбачка». «Другой портрет женщины».
1843 «О Екатерине Медичи», введение. «Онорина». «Департаментская муза». «Как любят девки» («Куртизанки, часть I). «Мучения изобретателя» («Погибшие мечтания»).
1844 «Модеста Миньон». «Годиссар II». «Во что любовь обходится старикам» («Куртизанки»). «Беатриса». «Крестьяне» (2-я часть появилась в печати в 1855 году).
1845 «Деловой человек».
1846 «Комедианты поневоле». «Куда ведут дурные пути» («Куртизанки», ч. III). «Кузина Бетт». «Невзгоды супружеской жизни».
1847 «Кузен Понс». «Последнее воплощение Вотрена» («Куртизанки» ч. IV). «Изнанка современной истории». «Депутат из Арси» (первая часть; окончание, напечатанное в 1853 г., принадлежит Шарлю Рабу).
1855 «Мелкие буржуа» (опубликовано и, может быть, закончено Шарлем Рабу).
Источники
Balzac, Honore de. Oeuvres completes.
Balzac, Honore de. Correspondance. Paris, Calmann Levy, 1877. 2 Vols.
Balzac, Honore de. Lettres a l'Etrangere. Paris, Calmann Levy, 1899, 1906, 1933. 3 Vols.
Arrigon, B.-J. Les debuts des Balzac. Paris, Perrin, 1924.
Arrigon, B.-J. Les annees romantiques de Balzac. 1927.
Audebrand, Philibert. Memoires d'un passant. Paris, 1893.
Baschet, Armand. Honore de Balzac. Avec notes historiques de Champfleury. Paris, Giraud, 1852.
Bellessort, Andre. Balzac et son oeuvre. Paris, Perrin, 1925.
Bettelheim, Anton. Balzac. Munchen, Beck, 1926.
Bire, Edmond. Honore de Balsac. Paris, Champion, 1897.
Bouteron, Marcel. La premiere tragedie de Balzac. «Revue des deux Mondes», 1923.
Brunetiere, Ferdinand. Honore de Balzac. Paris, Nelson.
Cabanes. Balzac ignore. Paris, Albin Michel.
Chantemesse, Robert. Metternich und der Pariser Gesellschaftsskandal 1810. Aus den Memoiren der Herzogin d'Abrantes. «Neue Freie Presse», 1934.
Chasles, Philarete. Memoires, t. I. Paris, 1876.
Curtius, E. R. Balzac. Bonn, Cohen, 1926.
Galtier, Octave. Le pere de Balzac. «L'Illustration», 1933.
Gautier, Theоphile. Poitraits contemporains. Paris, 1871.
Gozlan, Leоn. Balzac en pantoufles. Paris, M. Levy, 1865.
Heine Heinrich. Franzosische Zustande.
Hugo, Victor. Choses vues.
Hugo, Victor. Apres l'Exile.
Lamartine, H. de. Balzac et ses oeuvres. Paris, M. Levy, 1866.
Le Breton, Andre. Balzac. Paris, Boivin.
Lecuyer, Raymond. La maison de Balzac. «L'Illustration», 1933.
Maigron, Louis. Le roman historique a l'ipoque romantique. Paris, Ghampion, 1912.
Norley, Pierre. Le roman-feuilleton. «Grapouillot», 1931.
Sainte-Beuve. Causeries de Lundi.
Sainte-Beuve. Portraits contemporains.
Segu, Frederic. Un maitre de Balzac meconnu. H. de Latouche. Paris, 1928.
Seilliere, Ernest. Balzac et la morale romanlique. Paris, Alcan.
Spoelbergh de Lovenjoul. Autour de H. de Balzac. Paris, Calmann Levy, 1897.
Spoelbergh de Lovenjoul. Histoire des oeuvres de Balzac. Paris, Calmann Levy, 1886.
Spoelbergh de Lovenjoul. Un roman d'amour, 1896.
Surville, Laure. Balzac, sa vie et ses oeuvres. Paris, Jacottet, 1858.
Taine, H. Nouveaux essais de critique et d'histoire.
Werdet, Edmond. Portrait intime de Balzac. Paris, Dentu, 1859.
Бальзак. Собрание сочинений. ГИХЛ, 1933, томы 1, 7, 8, 16.
Бальзак. Шагреневая кожа, перевод Б. А. Грифцова, ГИЗ, 1923.
Маркс и Энгельс об искусстве. Изд. «Советская литература», М. 1933.
Маркс. Борьба классов во Франции.
Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке.