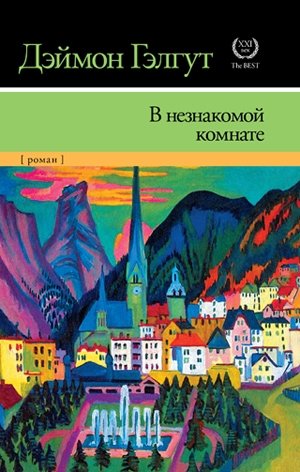
Часть первая
ВЕДОМЫЙ
Случилось это так.
Однажды в полдень он идет по маршруту, который ему указали ранее, и вскоре оставляет крохотную деревню Микены[1] позади. Спустя час или около того он уже в невысоких горах, поросших оливами и заваленных серыми камнями, откуда открывается вид на долину, плавно спускающуюся к морю. Он испытывает невыразимое счастье, которое способно охватывать его только в пути и одиночестве.
Дорога то взлетает, то резко сбегает вниз, и он, соответственно, видит то далеко вперед, то только дорогу. Когда окружающий пейзаж открывается, он ищет взглядом других людей, однако необозримый простор совершенно пуст. Единственные знаки человеческого присутствия — время от времени попадающие в поле зрения крохотные домишки вдали да сам факт наличия дороги.
Но в какой-то момент, поднявшись на гребень холма, он замечает в большом отдалении человеческую фигуру. Это может быть как мужчина, так и женщина, любого возраста. Куда идет человек — к нему или от него, — пока непонятно. Он наблюдает за ним, пока дорога не ныряет вниз, а на следующем подъеме уже четко различает, что человек идет навстречу. Теперь они оба следят друг за другом, притворяясь, будто это вовсе не так.
Поравнявшись, они останавливаются. Фигура оказывается мужчиной приблизительно его собственного возраста, облаченным во все черное. Черные брюки и рубашка, черные ботинки. Даже рюкзак черный. Во что одет первый мужчина, я не знаю, забыл.
Они приветственно кивают друг другу, они улыбаются.
— Откуда путь держите? — спрашивает мужчина в черном с акцентом, которого первый мужчина не может определить: вероятно, скандинавским или немецким.
— Из Микен. — Он указывает рукой назад через плечо. — А вы?
Человек в черном тоже неопределенно машет себе за спину.
— А куда направляетесь?
— К развалинам.
— Мне казалось, развалины вон там.
— Да. Но это другие развалины. Те я уже видел.
— Есть еще другие развалины?
— Да.
— Далеко?
— Думаю, километрах в десяти отсюда. Так мне сказали.
Мужчина кивает. Его красота мрачноватого типа; длинные шелковистые волосы спадают на плечи. Он улыбается, хотя улыбаться нечему.
— Вы откуда?
— Из Южной Африки[2]. А вы?
— Я из Германии. Где вы остановились в Микенах?
— В молодежном общежитии.
— Там полно народу?
— Я там один. Вы здесь еще побудете?
Мужчина отрицательно качает головой, длинные волнистые волосы колышутся.
— У меня поезд сегодня вечером. В Афины.
Этот разговор они ведут с забавной официальностью, стоя по разные стороны дороги, тем не менее в том, как они общались, есть нечто не то чтобы интимное, но близкое. Как если бы они уже где-то встречались, давным-давно. Но они прежде не встречались.
До развалин он добирается к середине дня. Я теперь даже не припомню, что это были за развалины. Пришлось перелезть через забор, было боязно собак, но собак не оказалось. Он бродит вокруг камней, колонн и выступов, пытаясь представить себе, как все тут было, но история не поддается воображению. Он сидит на краю выступающего над землей каменного пола, вперив невидящий взор в окружающие холмы, и думает о том, что происходило здесь в древности. Глядя на него сквозь время, я вспоминаю его грезы и более реально ощущаю свое присутствие в тех декорациях, нежели он ощущал тогда свое. Но у памяти свои представления о времени и расстояниях, отчасти он — это, безусловно, я, а отчасти — незнакомец, за которым я наблюдаю со стороны.
К тому времени, когда он снова возвращается к действительности, солнце на небе стоит уже низко, тени от гор протянулись через долину. В холодной синеве он медленно идет назад. Звезды высеивают над головой яркие клумбы, земля представляется огромной, древней и черной. Время ужина давно миновало к тому моменту, когда он добирается до деревни и идет по безлюдной главной улице. Магазины и рестораны закрыты, решетки на витринах опущены, ни в одном окне нет света. Он входит в открытую дверь общежития, поднимается по лестнице, идет по коридорам мимо комнат, заполненных рядами пустующих двухъярусных кроватей, везде темно и холодно, никто не приезжает сюда в это время года, доходит до последней, самой верхней комнаты, белого куба, подвешенного под гребнем двускатной крыши. Теперь он чувствует, что устал, голоден и хочет спать.
В комнате его ждет немец. Он сидит на одной из кроватей, зажав ладони между колен, и улыбается.
— Привет.
Он входит и закрывает за собой дверь.
— Что вы здесь делаете?
— Опоздал на поезд. Следующий будет утром. Вот попросил, чтобы меня поселили в вашу комнату.
— Понятно.
— Вы не возражаете?
— Просто удивлен, не ждал. Нет, не возражаю.
Он не возражает, но все же испытывает неловкость. Он уверен, что мужчина отложил отъезд не из-за опоздания на поезд, а из-за него, из-за разговора, который состоялся между ними на дороге.
Он садится на свою постель. Они снова улыбаются друг другу.
— А вы сюда надолго?
— Я тоже уезжаю утром.
— В Афины?
— Нет. В противоположном направлении. В Спарту.
— Значит, Микены вы уже осмотрели.
— Я тут уже два дня.
— А-а.
Теперь в комнате наступает тишина, во время которой оба сидят не шелохнувшись.
— Я мог бы на день задержаться. Я никуда не спешу. Мне здесь нравится.
Немец размышляет:
— Думаю, я тоже мог бы. Я так и не видел Микен.
— Их стоит посмотреть.
— Да?
— Да. Тогда я тоже остаюсь. На один день.
Такое ощущение, что они достигли согласия в чем-то, что не сводится к этой практической договоренности, но в чем именно — неясно. Уже поздно, холодно, и маленькая комната выглядит обшарпанной и уродливой в свете флюоресцентной лампы. Через некоторое время южноафриканец залезает в спальный мешок. Он смущен и, хотя обычно раздевается перед сном, сегодня этого не делает. Он снимает обувь, часы, два медных браслета, влезает в мешок и ложится на спину. Ему видны металлические перекладины располагающейся над ним кровати; бессвязные картины минувшего дня всплывают в памяти: развалины, дорога, корявые силуэты оливковых деревьев.
Немец тоже готовится ко сну. Он расстилает свой спальный мешок на кровати, где сидел. Разумеется, мешок тоже черный. Расшнуровывает ботинки, снимает их, аккуратно ставит рядышком на полу. Вероятно, в обычных обстоятельствах он раздевается перед сном, но сегодня тоже этого не делает. Часов он не носит. В черных носках подходит к двери, выключает свет, потом бесшумно возвращается к кровати и залезает в мешок. Несколько секунд ворочается, устраиваясь.
Южноафриканец что-то ему говорит.
— Я не расслышал.
— Как вас зовут?
— Райнер. А вас?
— Дэймон.
— Дэймон, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Райнер.
— Спокойной ночи.
Когда он просыпается следующим утром, соседняя постель пуста, а из-за двери душевой доносится свистящее шипение воды. Он встает и выходит наружу, на крышу. Воздух морозный, сверкающий и прозрачный. Он подходит к краю и садится на парапет, все остальные деревенские крыши под ним, с запада на восток струится главная улица, в полях виднеются крохотные силуэты лошадей. Он очень далеко от дома.
Райнер выходит на крышу, вытирая полотенцем свои длинные волосы. Он во вчерашних черных брюках, но без рубашки, тело у него загорелое и упругое, идеальных пропорций. Он знает, что красив, и почему-то от этого кажется уродливым. Он стоит в солнечных лучах, вытирается, потом тоже пересекает крышу и садится на парапет. Полотенце теперь висит у него на шее, кожа от холода покрылась пупырышками, в жестких волосах, покрывающих грудь, металлом блестят водяные капли.
— Чем вы хотите заняться сегодня?
— Как насчет тех развалин?
Они отправляются на развалины. Он их уже видел, провел здесь вчера несколько часов, но сейчас смотрит на толстые стены, фундамент, фортификации и высокие склепы глазами Райнера, чье выражение лица не меняется по мере того, как он одинаково ровным шагом переходит с одного уровня на другой, сохраняя идеальную осанку длинного тела. Он ждет, сидя на камне, Райнер подходит и присаживается рядом.
— Расскажите мне об этом месте, — просит он.
— Я не так уж много знаю об истории, меня больше интересует мифология.
— Тогда расскажите о мифах.
Он рассказывает то, что помнит. Как одинокая женщина ждала возвращения мужа с далекой Троянской войны, вынашивая план отмщения за убийство дочери. Ничто не воспламеняет жажду мести сильней, чем горе, этот урок история преподает нам снова и снова. Она сливается в своей ярости с возлюбленным, тоже яростно мечтающим отомстить за свои страдания. И вот Агамемнон возвращается, везя с собой в качестве военного трофея наложницу, пророчицу, которая предвидит будущее, но не может его предотвратить. У Агамемнона за плечами десять лет тяжелой осады. Кассандра следует за ним в дом по ярким коврам, которые жена расстелила в его честь. Здесь обоих жестоко убивают. Агамемнона закалывают в ванне. По какой-то причине эта картина предстает в его воображении наиболее живо и реально. Огромный голый мужчина под ударами боевых топоров падает как подкошенный в алую воду. Почему жестокость так легко представить себе воочию, в то время как нежность всегда остается замкнутой в словах. И в самом окончании этой истории неизбежно таится следующий цикл горя и мести, то есть уже здесь начинается следующая история.
— Все это правда? — спрашивает Райнер.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, случилось ли это на самом деле.
— Нет-нет, это миф, но миф всегда зиждется на каком-нибудь реальном факте.
— А какой факт лежит в основе этого мифа?
— Не знаю. Хотя об этом месте люди долгое время думали, что оно не существует, вот вам и факт для начала.
— Меня не слишком интересуют мифы, — говорит Райнер, — давайте взберемся вон туда. — Он говорит о горе, возвышающейся за развалинами.
— Вон туда?
— Да.
— Зачем?
— Просто так, — отвечает он. И снова улыбается, в его глазах появляется особый блеск, содержащий некий вызов, которому невозможно противиться.
Они начинают взбираться на гору. В нижней части склона расположено вспаханное поле, которое они старательно обходят кругом, потом подъем становится круче, они продираются сквозь подлесок с переплетенными ветвями. Чем выше они поднимаются, тем беспорядочнее и опаснее становятся скалы. Примерно через час пути они выходят на более пологий участок склона, высоко над головой маячит вершина, но он не хочет идти дальше.
— Хватит, — говорит он.
— Хватит? — переспрашивает Райнер, глядя вверх. — С вас достаточно?
— Да.
Прежде чем ответить «хорошо», немец выдерживает паузу, и, когда они усаживаются на скале, на его лице играет странная улыбка.
Теперь развалины виднеются далеко внизу, среди них бродят два или три человека, кажущиеся отсюда игрушечными. Солнце поднялось уже высоко. Несмотря на время года, день теплый. Райнер снимает рубашку и снова обнажает свой плоский живот с пороховой дорожкой темных волос, ведущей ниже, ниже.
— Что вы делаете в Греции? — спрашивает он.
— Я? Просто путешествую. Просто смотрю.
— Смотрите на что?
— Не знаю.
— Как давно вы путешествуете?
— Несколько месяцев.
— И где успели побывать?
— Начал с Англии. Потом — Франция, Италия, Греция, Турция, теперь снова Греция. Куда поеду отсюда, не знаю.
Они замолкают. Немец смотрит на него, а он, отвернувшись, глядит вниз на долину, его взгляд скользит к ее дальнему краю, где возвышаются синие горы. За всеми этими вопросами стоит другой, на который ему не хочется отвечать, поэтому он спрашивает:
— А вы?
— Я приехал сюда, чтобы подумать.
— Подумать?
— Да, у меня дома проблемы. Я уехал, чтобы побродить несколько недель и подумать.
Райнер произносит это и закрывает глаза. Он молчит, но в его молчании — сила. Не как в моем, не как в моем. Я тоже снимаю рубашку, чтобы понежиться в теплых солнечных лучах. Потом, сам не зная почему, не останавливаясь на этом, он снимает башмаки, носки, брюки и остается в одном белье. Воздух больше не кажется теплым. Оба понимают, что он, худой, бледный и уязвимый на фоне серых скал, в некотором роде предлагает себя. Он закрывает глаза…
Когда он открывает их снова, Райнер деловито надевает рубашку. Выражение лица у него остается непроницаемым, оно ничего не выдает.
— Пора обедать, — говорит он, — я хочу спуститься.
Следующее, что вспоминается, — вечер. В некотором роде это перевертыш утра. Гаснут последние лучи дня, он снова сидит на парапете, Райнер снова в душе, откуда доносится шум воды. Потом шум прекращается. Чуть позже он выходит, опять без рубашки, с полотенцем на шее, пересекает крышу и садится рядом на невысокий парапет. Некоторое время они молчат, потом, словно отвечая на вопрос, который ему только что задали, Райнер сообщает, что приехал сюда, чтобы подумать об одной женщине.
Солнце теперь село за горизонт, на небе становятся видны первые звезды.
— О женщине?
— Да. Эта женщина живет в Берлине. Она хочет выйти за меня замуж. Я не хочу жениться, но если я не женюсь на ней, она перестанет со мной встречаться.
— Это ваша проблема?
— Да.
— И вы приняли решение?
— Пока нет. Но не думаю, что женюсь.
Деревня раскинулась на склоне, который полого спускается вниз на протяжении километра-двух, потом выплескивается на равнину, простирающуюся до моря.
Там, где начинается равнина, бежит железная дорога, по которой он сюда приехал, по которой завтра уедет. На ней поезд, его вагоны светятся изнутри желтым светом. Он наблюдает за тем, как поезд проплывает мимо.
— Я здесь тоже из-за другого человека, — говорит он. — Но я не пытаюсь ничего решить, только забыть.
— Я так и думал.
— Этот человек не женщина.
Райнер делает движение рукой, словно что-то отбрасывает.
— Мужчина, женщина, — говорит он, — для меня никакой разницы.
На первый взгляд это означает одно, но может означать и другое. Позднее вечером, в их комнатушке, готовясь ко сну, он раздевается до белья, как днем на скале, и быстро проскальзывает в спальный мешок. Сегодня очень холодная ночь. Райнер готовится лечь очень долго, складывает рубашку, носки, кладет их в пакеты. Затем снимает брюки. Делает он это с некой церемонностью, стоя посреди комнаты и аккуратно сворачивая их. Потом в одном белье, не черном, подходит к кровати, на которой лежу я, и садится на край. Он протягивает мне яблоко:
— Хотите? Нашел у себя в рюкзаке.
Поочередно передавая друг другу яблоко, они угрюмо откусывают от него и жуют. Один лежит, опираясь на локоть, другой сидит, подтянув колени к груди. Они почти неподвижны, лишь время от времени кто-то слегка протягивает руку с яблоком. Ни тот, ни другой не делают никаких решительных движений — один слишком испуган, другой слишком горд. И вот яблоко съедено, момент упущен. Райнер встает, зябко потирает плечи, в комнате холодно, и возвращается на свою кровать.
Свет все еще горит. Через некоторое время он встает, чтобы потушить его. Затем в темноте проходит к кровати Райнера и садится рядом с ним. У него нет яблока, чтобы предложить ему, и оба, шумно дыша, ждут какого-нибудь жеста со стороны другого, но ни один его не делает. Потом он встает и возвращается к себе. При этом он замечает, что дрожит.
Утром они снова ведут себя официально и корректно. Пакуют вещи.
— Дать вам мой адрес, — спрашивает Райнер, — может быть, когда-нибудь окажетесь в Германии?
Он сам вписывает адрес в маленькую книжечку, тщательно выводя буквы плотным почерком, потом просит его адрес.
— У меня нет адреса, нет дома, но я напишу вам адрес своей подруги.
Он дает ему адрес, после чего обмен можно считать завершенным. Вместе они пешком, по главной улице, покидают деревню, спускаясь по пологому склону к вокзалу. Их поезда отходят в разных направлениях с интервалом в несколько минут. Вокзал представляет собой домик в одну комнату и бетонную платформу на краю бескрайней зеленой равнины. Они здесь единственные отъезжающие пассажиры, единственный служащий за грязным окошком продает им билеты и, когда прибывает первый поезд, сам выходит на перрон, чтобы дать свисток. Южноафриканец поднимается в вагон, подходит к окну:
— До свидания, рад был познакомиться.
— Я тоже.
— Послушайте!
— Да.
— Почему вы всегда в черном?
— Я люблю этот цвет, — улыбается немец.
Поезд начинает медленно двигаться.
— Увидимся, — говорит Райнер, поднимая руку. Его фигура постепенно тает, отдаляясь, статичный пейзаж становится текучим и уплывает.
Он едет в Спарту, едет в Пилос. Через несколько дней после отъезда из Микен, в каком-то маленьком городке, проходя через сквер, он видит на экране стоящего в кафе телевизора взрывы бомб и пожары. Подходит ближе. Что это? Один из сидящих в кафе и смотрящих телевизор мужчин по-английски отвечает, что это война в заливе. Все ждали, ждали ее, и вот она идет, идет в двух разных точках планеты, но на одном телевизионном экране.
Он смотрит, но не воспринимает то, что видит, как нечто реальное. Слишком долгие блуждания по свету и отсутствие привязанности к месту лишили его ощущения причастности к чему бы то ни было, поэтому для него история вершится где-то в другом месте и никакого отношения к нему не имеет. Он просто проходит сквозь нее. Вероятно, ужас непосредственнее всего ощущается, когда ты дома. В этом одновременно заключается и спасение, и прискорбие. Он не несет на себе никакого морального бремени, но за отсутствие такового приходится расплачиваться бесконечной чередой засиженных мухами безликих, постоянно сменяющихся комнат, в которых он спит ночь за ночью. Но при этом все они — одна и та же комната. Чужая комната.
Дело в том, что по характеру он вовсе не склонен к странствиям, бродяжничество навязано ему обстоятельствами. Переезжая с места на место, он большую часть времени испытывает острое беспокойство, что придает всему окружающему возвышенность и яркость. Картина жизни складывается из последовательности малозначительных опасных штрихов, он не ощущает связи ни с чем, что его окружает, он постоянно боится умереть. В результате он почти никогда не чувствует себя счастливым в том месте, где пребывает в настоящий момент, что-то внутри побуждает его двигаться к следующему, и хотя у него никогда нет определенной цели, он всегда бежит прочь, прочь, прочь. Таков изъян его характера, который странствия превратили в обычное состояние.
Двадцатью годами раньше, по иным причинам, нечто похожее случилось с его дедом. После смерти жены в этом укорененном, малоподвижном человеке что-то необратимо сломалось, и он пустился в дорогу. Он объехал весь мир, побывал в самых отдаленных и неожиданных местах, гонимый не любознательностью и жаждой чуда, а горем. В домашнем почтовом ящике появлялись открытки и письма с экзотическими штемпелями и марками. Иногда он звонил, и его голос, хриплый от желания вернуться, казалось, доносился с морского дна. Но он не возвращался. Только гораздо позже, когда совсем состарился и изнемог, он приехал обратно и доживал последние годы в задней части дома, выходившей в сад. Днем он бесцельно бродил между клумбами в пижаме, с всклокоченными немытыми волосами. К тому времени рассудок его померк. Он не помнил, где побывал. Все картины, впечатления, страны и континенты, которые он посетил, стерлись из памяти. А того, чего вы не помните, словно и не существует. Сам он считал, что никогда не выходил за пределы своей лужайки. Раздражительный и скаредный в течение большей части жизни, теперь он был в целом покладистым, хотя все еще способным на вспышки иррационального гнева. Что ты болтаешь? Я никогда не бывал в Перу, я ничего не знаю об этой стране! Не пори чушь о каком-то Перу!
Он покидает Грецию две недели спустя. В течение полутора лет продолжает переезжать с места на место, потом возвращается в Южную Африку. Никто не знает, что он вернулся. Он едет из аэропорта на автобусе, держа на коленях сумку, глядя сквозь затемненное окно на город, в который снова приехал жить, и невозможно узнать, о чем он думает.
За время его отсутствия все изменилось. Белое правительство капитулировало, власть рухнула и сменила форму. Но на том уровне, где происходит повседневная жизнь, ничто не выглядит по-другому. Он выходит на автовокзале, стоит посреди движущейся толпы и пытается сказать себе, что теперь он дома, приехал домой, но этого не ощущает.
Он берет такси до дома своей подруги, которая в его отсутствие вышла замуж. Она рада видеть его, но даже при первом объятии чувствуется, каким чужим он стал для нее. Для нее и для себя. Он никогда прежде не бывал в этом доме и бродит по нему, разглядывая мебель, украшения и картины, представляющиеся ему невыносимо тяжеловесными. Потом выходит в сад и стоит под солнцем.
Подруга выходит вслед за ним.
— Какое совпадение, что ты приехал именно сегодня, утром тебе принесли почту.
Она вручает ему письмо, которое с таким же успехом могло свалиться с неба. Оно от Райнера.
Они начинают переписываться. Каждые две-три недели приходит письмо. Немец сух и придерживается фактов, он пишет о событиях собственной жизни словно бы со стороны. Вернулся в Берлин. Не женился. Начал учиться в университете, но передумал и бросил. Позднее уехал в Канаду, откуда теперь пишет, работает в лесоводческом хозяйстве, сажает деревья.
Он пытается представить, как мрачная фигура в черном, с длинными шелковистыми волосами, опускает саженцы в землю и ногами приминает землю вокруг. Он не слишком хорошо помнит его, во всяком случае внешне. Что сохранилось в памяти, так это то чувство, которое всколыхнул в нем Райнер, — ощущение неловкости и волнения. Но он не решается писать об этом, чуя нежелание другого мужчины открыто обсуждать чувства, что в некотором роде было бы проявлением слабости. Однако, каким бы откровенным ни казался Райнер в отношении фактов, его рассказам о себе недостает множества подробностей: с кем он жил в Берлине, кто оплачивал его путешествия, что погнало его в Канаду сажать деревья. Даже когда эти вопросы он ставит перед ним напрямую, Райнер каким-то образом умудряется оставлять их без ответа.
Он со своей стороны никогда не таит своих эмоций, более того, он выплескивает их слишком свободно, по крайней мере в письмах. Слова не привязаны к миру. Поэтому ему не составляет труда рассказывать Райнеру о том, каким трудным оказалось для него возвращение. Похоже, он нигде не может прижиться. Живет у подруги и ее мужа, но он незваный гость и знает, что должен съехать… Снимает комнату пополам с каким-то студентом, чувствует себя несчастным — место грязное, кишащее блохами… Через два месяца присматривает за домами в отсутствие хозяев, спит в свободных комнатах… Снимает квартиру в доме, где живет и его хозяйка. Хозяйка является к нему в любое время с тявкающим истеричным пуделем, не отстающим от нее ни на шаг, она переживает тяжелые времена, ей надо выговориться, он старается слушать ее, но у него полно своих несчастий. Ему хочется побыть одному, однако она не оставляет его в покое, а собака оставляет шерсть на полу… В какой-то момент он пишет Райнеру: как бы мне хотелось, чтобы вы приехали сюда и взяли меня в какое-нибудь дальнее путешествие. Приходит ответ, благодарю за приглашение, приеду в декабре.
«Не надо встречать меня в аэропорту, — пишет Райнер, — нет необходимости, я сам найду вас». Но он звонит в справочную, выясняет номер рейса, одалживает у друзей машину и за час до прибытия самолета уже стоит в зале прилета. Он испытывает смесь предвкушения и тревоги. Прошло два года с тех пор, как они виделись, он не знает, как все обернется.
Выходя в зал, Райнер никого не ожидает увидеть, поэтому не оглядывается по сторонам. Я стою немного поодаль, чтобы понаблюдать за ним. Внешне в нем ничто не изменилось. Блестящие каштановые волосы падают на плечи, одет в черное с ног до головы, на спине — тот же черный рюкзак. С суровым выражением лица он направляется прямо к стоящим в ряд пластиковым стульям, чтобы переложить вещи в сумке.
Я наблюдаю за ним минуту-другую, за тем, стараясь выглядеть непринужденно, подхожу и останавливаюсь рядом.
— Привет.
Райнер поднимает голову. Мрачное лицо на мгновение озаряется, затем снова скрывается за непроницаемой завесой.
— Зачем вы приехали? Я же сказал, что не нужно.
— Знаю. Но мне захотелось приехать.
— Ну?
— Привет.
Оба не знают, как приветствовать друг друга. Потом он разводит руки, и другой мужчина принимает его объятие. Но не до конца.
— Вы не поверили, что я сам найду дорогу?
— Мне просто хотелось встретить вас, вот и все. Разрешите, я помогу с вещами.
— У меня всего одна сумка. Я предпочитаю нести ее сам.
Он везет Райнера к себе. Когда они поднимаются по лестнице, хозяйка, которая с ним теперь не разговаривает, подсматривает через полуоткрытую дверь. Его квартира почти пуста и гола, немногочисленные пожитки упакованы в коробки, он съезжает в конце месяца. Они выходят на балкон, садятся и смотрят на зеленые деревья внизу — равнина Кейп-Флэтс простирается до самых гор. Впервые он впадает в молчание.
— Итак, — говорит Райнер.
— Да?
— Я здесь.
— Это странно.
Они смотрят друг на друга и улыбаются. До этого момента приезд Райнера казался нереальным, он не верил, что это случится, но вот они снова вместе. Сидят на балконе и разговаривают. Поначалу они нервничают и испытывают неловкость в присутствии друг друга, слова находятся с трудом, а когда находятся, полны напряжения. Но вскоре разговор начинает течь свободнее, они немного расслабляются, обнаруживают, к своему облегчению, что хорошо ладят, что у них одинаковое чувство юмора, основанное на отчужденности от вещного мира. Это помогает им почувствовать симпатию друг к другу, пусть она и не зиждется ни на чем существенном, лишь на смутном ощущении близости. Этого почти достаточно.
В квартире только одна кровать, которую, как предполагается, им придется делить. Но вечером, когда приходит пора спать, Райнер говорит, что матрас ему не нужен.
— Что ты имеешь в виду?
Райнер выходит на балкон и начинает распаковывать сумку.
— Люди окружают себя излишним количеством вещей, — объясняет он, доставая спальный мешок и тонкий коврик. — Они любят удобно устраиваться. В этом нет необходимости. — Он расстилает коврик на балконном полу и кладет поверх него спальный мешок. — Вот все, что нужно. Я предпочитаю так.
Райнер снимает туфли, залезает в спальный мешок и застегивает молнию. Он лежит в темноте, глядя на своего товарища. Выражение его лица рассмотреть невозможно.
— Идеально, — говорит он.
Теперь, когда Райнер здесь, он приносит атласы, и они вдвоем сосредоточенно и взволнованно их изучают. Проведя уйму времени в разговорах о будущем путешествии, они приходят к согласию об условиях, которые идеально подходили бы обоим. Ни тот, ни другой не ищут больших скоплений народа, запруженных дорог и плотно застроенных пространств. Такова Ботсвана. Или Намибия. Или Зимбабве.
— А это что такое?
— Лесото.
— Что ты знаешь об этой стране?
Он знает о ней не так уж много, никогда там не бывал, равно как и никто из его друзей. Знает лишь, что там много гор, страна очень бедная и находится внутри Южной Африки, во всем остальном она для него — загадка. Оба сидят, разглядывая этот клочок на карте.
— Может, отправиться туда?
— Может быть.
Решение они принимают именно так, легко и бездумно; только что не знали, куда поехать, и вот уже едут в Лесото.
На следующий день они отправляются в официальное представительство, где им дают карту, на которой четко обозначены все дороги, населенные пункты и горные вершины с указанием высоты. Мне карта представляется безупречной, но Райнер изучает ее с сомнением.
— В чем дело?
— Тебе не кажется, что нам нужны более крупномасштабные карты? Более детальные. Четыре-пять, покрывающих всю страну.
— Но зачем?
— Тогда мы сможем спланировать каждый этап похода.
— Мы можем составить план и по этой карте.
— Но он будет недостаточным.
Они смотрят друг на друга, впервые между ними обнаруживаются разногласия.
Человек за конторкой говорит, что в любом случае у него нет более подробных карт, эта — лучшая, какую он может предоставить.
— Отлично, — говорю я, — мы ее берем.
Но вечером Райнер заявляет:
— По приезде в Лесото мы должны поискать.
— Поискать что?
— Более подробные карты.
Это расхождение во мнениях меня смущает. Человек не видит необходимости в нормальной постели, но вполне приличной карты ему недостаточно. На следующий день Райнер отправляется в местную библиотеку, чтобы прочесть все, что можно, о Лесото. Это хорошо. По крайней мере мы будем хоть что-то знать о месте, куда едем. Но когда он возвращается, оказывается, что он ничего не искал об истории страны. Только о климате, рельефе местности и топографии. Все сведения он закодировал цифрами.
Цифры для Райнера своего рода форма безопасности. Когда вечером я предлагаю ему кофе, он говорит, что уже выпил сегодня две чашки, а больше двух чашек в пределах двенадцати часов не пьет. Когда они куда-либо идут, ему непременно нужно знать, сколько километров предстоит пройти. Если это неизвестно или известно не точно, Райнер бывает недоволен.
Таким образом, уже в первые несколько дней он начинает отдавать себе отчет в некотором различии взглядов между ними. Но времени беспокоиться об этом нет. До отъезда еще две недели и дел масса, нужно оплатить счета и сдать вещи в камеру хранения. Он испытывает давление, раздражен и в такой ситуации предпочитает оставаться один. Но побыть одному почти не удается. Даже когда он выходит из дома по самым прозаическим делам, Райнер всегда идет с ним. Он измотан его неотступным присутствием, словно присутствием темного ангела-спутника, ироничного и погруженного в раздумья, с лицом, почти капризным. Райнера, в свою очередь, раздражает обилие всех этих дел и обязанностей, которые налагает обычная жизнь, он выше их.
— Почему ты должен делать все эти дурацкие дела?
— Приходится. Они должны быть сделаны.
— Зачем? — самодовольно ухмыляется Райнер.
Загадка: кто заботится о повседневных жизненных нуждах Райнера дома? Задаваясь этим вопросом, он понимает, что ничего не знает о Райнере, но спрашивать бессмысленно, это ничего не даст. Он случайно выясняет, что его родители глубоко религиозны, но кроме этого не имеет ни малейшего понятия ни о его семье, ни о его прошлом. И хоть испытывает жгучий интерес, чувствует решительное нежелание другой стороны его удовлетворять.
Однажды он спрашивает Райнера:
— Чем ты занимаешься для денег?
— Что ты имеешь в виду — чем?
— Как ты их зарабатываешь? Откуда они берутся?
— Деньги есть. Тебе незачем об этом беспокоиться.
— Но чтобы деньги были, надо работать.
— Мне заплатили в Канаде. За посадку деревьев.
— А до того?
— Я философ, — говорит Райнер, и на этом разговор окончен.
Он немеет от самой идеи. Что это значит? Свободны ли философы от необходимости работать, кто их поддерживает, чем именно они занимаются? Он предполагает, что у философов нет времени на обычные земные дела, и, вероятно, поэтому Райнера раздражает происходящая вокруг суета.
— А чем бы ты хотел заниматься?
— Ходить.
— Мы и ходим.
— Недостаточно. Нам следует готовиться к предстоящему путешествию. Мы должны войти в определенный режим, я вижу, ты еще не готов.
Однажды Райнер настаивает, чтобы они отправились в долгий пеший поход. Нам нужны испытания. Чтобы подготовиться. Они едут на автобусе до Клуфнек-роуд, идут вдоль пайп-трека[3] через Кэмпс-Бэй почти до Лландудно, здешний пейзаж с его серыми скалами и бирюзовым морем очень напоминает греческий, прошлое эхом отдается в концентрических кругах времени, они взбираются на вершину горы и спускаются с другой стороны в Констанция-Нек, а оттуда лесом доходят до пригорода Рондебош. Дорога занимает шесть или семь часов, ступни у них покрылись водяными пузырями, голова кружится от голода.
— Мне дурно, — говорит он, — я должен поесть.
— Я тоже испытываю дурноту и слабость, — отвечает Райнер, — интересное ощущение. Есть я не хочу.
В этом заключается еще одно различие между ними: то, что одному мучительно, другому интересно. Южноафриканец тоже любит ходить, но не беспрерывно и без одержимости, он тоже склонен к экстриму, но не до того предела, когда это становится опасным для жизни, он не способен исследовать собственную боль, как спору на предметном стекле, и находить это интересным. Если собственная боль кажется вам интересной, то насколько большую отстраненность вы будете ощущать по отношению к чужой боли; и надо признать, есть в Райнере нечто, что взирает на все людские несчастья бесстрастно, быть может, даже с презрением. Что породило в нем подобную холодность, я не знаю.
Чего хочет Райнер, так это целеустремленно готовиться к намеченному путешествию. Он был бы рад обойтись без всех этих не относящихся к делу пустяков, в которых, как он считает, нет необходимости. Зато он часами сидит, изучая карту Лесото, красной ручкой прочертил на ней ряд возможных маршрутов. Я смотрю на эти красные линии с ужасом, они похожи на вены, проходящие через какой-то странный внутренний орган. Порой кажется, что для Райнера эта страна — некий концепт, абстрактная идея, которую можно подчинить человеческой воле. Когда он говорит о ней, то говорит в категориях расстояний и высот, пространственных измерений, поддающихся выражению в формулах. Ни о людях, ни об истории речи нет, ничто не имеет значения, кроме него самого и пустого пространства, на которое он себя проецирует.
— А как насчет политики? Мы не изучили ситуацию в обществе, не знаем, во что собираемся окунуться.
Райнер смотрит озадаченно, потом презрительно отмахивается. Даже здесь, в Южной Африке, где он никогда прежде не бывал, Райнеру совершенно неинтересно то, что происходит вокруг. Совершая долгие прогулки по улицам, он затыкает уши берушами, чтобы не слышать никакого шума снаружи, и вперяет мрачный напряженный взгляд прямо перед собой, хотя на самом деле этот взгляд обращен внутрь.
Но пока дают о себе знать лишь смутные признаки беспокойства. Предстоящее путешествие волнует его. Незначительные трения между Райнером и им самим, он уверен, будут возникать и впредь, когда они покинут город и окажутся в пути один на один. Ни тот, ни другой не созданы для сидячей жизни.
Он одалживает у друга палатку. Райнер настаивает, чтобы они потренировались расставлять ее в садике у дома. Это занимает много времени, шесты и колышки для них все равно что чужой алфавит, который нужно освоить. Все приходится одалживать или покупать: газовую плиту и баллоны, фильтр для воды, фонарь, ножи и вилки, пластмассовые тарелки, элементарную аптечку. Он никогда прежде не путешествовал подобным образом, все эти странности пугают его, но и возбуждают, мысль о том, чтобы отринуть свою обычную жизнь, словно бы сулит свободу. Так же было тогда, когда они познакомились в Греции. И возможно, именно это является истинным побуждением к нынешнему путешествию. Отбрасывая балласт привычной жизни, каждый из них пытается вновь обрести чувство невесомости, которое им запомнилось и после которого в памяти осталось, что то их совместное путешествие было более, чем что-либо другое, похоже на свободное падение или полет.
В какой-то момент в пределах этих двух недель встает вопрос о деньгах. Необходимо решить некоторые практические вопросы, например как они будут платить за себя в пути. Райнер говорит, что у него есть канадские доллары, которые он хочет истратить, поэтому лучше всего, если за деньги будет отвечать он.
— Но как насчет меня? — спрашиваю я.
— Ты можешь потом мне вернуть свою часть.
— Значит, мне нужно записывать свои расходы?
Райнер кивает и пожимает плечами — деньги пустяк, это не важно.
И вот все готово. Он ловит себя на том, что, прощаясь со знакомыми, испытывает неловкость, как если бы не собирался возвращаться назад. В каждом отъезде глубоко внутри, крохотный, как черное семечко, таится страх смерти.
Они отправляются в город на поезде. На автовокзале садятся в автобус и едут всю ночь. Спать неудобно, и они, трясясь в автобусе без сна, наблюдают металлически-серый ландшафт, проплывающий мимо. На рассвете воскресенья прибывают в Блумфонтейн и идут по пустынным улицам, пока не находят стоянку, где можно сесть в такси-маршрутку, следующую до границы Лесото. Им приходится ждать несколько часов, пока маршрутка не заполнится. Райнер сидит на заднем сиденье с рюкзаком на коленях, положив на него голову и заткнув уши берушами.
Я, побродив вокруг, возвращаюсь в машину, потом снова выхожу погулять. Огромная часть путешествий состоит в пустом ожидании, которое раздражает путешественника и вгоняет в депрессию. Память возвращает в другие места, где тоже приходилось ждать, — залы отлета в аэропортах, автовокзалы, пустынные, палимые солнцем обочины дорог. Все эти места окрашены одним и тем же чувством уныния и отличаются друг от друга лишь немногими мелкими деталями. Бумажный пакет, надуваемый ветром. Отпечаток грязной подошвы на кафельном полу. Спонтанные вспышки флюоресцентной лампы. От нынешнего места в памяти останется растрескавшаяся кирпичная стена, все больше и больше раскаляемая солнцем.
Когда они отъезжают, на дворе уже полдень. Поездка недолгая, чуть больше часа, они едут по плоской равнине сельскохозяйственных угодий, по обе стороны от дороги разбегаются грунтовки. В переполненной маршрутке они являются объектом молчаливого любопытства. Райнер явно страдает от вынужденной близости стольких людей, у него такой вид, словно он старается не дышать.
На конечной остановке они вливаются в очередь, скопившуюся перед таможенным контролем. Униформы, темные очки, заграждения и бесцветные помещения — непременные атрибуты любого пересечения границы. Они минуют контроль, потом по длинному мосту переходят через реку, и там, на другой стороне, им снова ставят печати. Они преодолели линию на карте и очутились в другой стране, где потенциальные возможности судьбы иные, нежели оставленные позади.
Куда они отправятся отсюда и что будут делать, неизвестно. Он представлял себе, что они просто выйдут и перед ними будет разворачиваться дорога, но вместо этого расползшийся приграничный город Масеру, грязная главная улица с отелями и казино, толпы праздношатающихся на тротуарах и день уже клонится к концу. Посовещавшись, они решают снять комнату на ночь. С завтрашнего дня никаких комнат. Все здешние отели стоят друг друга, они поселяются в первом же по левой стороне, им дают номер, расположенный высоко над улицей.
Чтобы убить время, они отправляются на прогулку по городу. Бродят взад-вперед по главной улице, глазеют на витрины, заходят в супермаркет, покупают какую-то еду. Оба испытывают волнение, отчасти вызванное страхом, они повязаны ситуацией, исход которой неясен. В этом смысле путешествие и любовь имеют много общего. Он не любит Райнера, однако в их отношениях есть нечто от темной страсти.
Вернувшись к отелю, они обходят его крутом. По ступенькам за домом спускаются в сад. В углу стоит деревянный сарай. Табличка на двери гласит, что это сауна. Внутри их встречает женщина лет пятидесяти, в ее глазах затаились усталость и безнадежность, но она возбужденно демонстрирует свою радость при их появлении.
— Входите, входите, попарьтесь в сауне. Сауна едва теплая, никакого пара, стены в одну доску.
— Нет-нет, мы просто смотрим, может быть, позднее.
— Нет, заходите сейчас, у меня кое-что есть для вас.
Она чуть ли не хватает нас за руки.
Выйдя наружу, он говорит Райнеру, что она предлагала себя.
Райнер ничего не отвечает, тем не менее что-то в выражении его лица можно счесть за ответ. В течение всего ужина в столовой и потом наверху, в их номере, он молчит. Еще рано, остаток вечера тянется бессмысленно.
— Я, наверное, выйду, — говорит Райнер.
— Куда?
— Может быть, попарюсь в сауне.
Райнер выходит, а он долго стоит у окна в раздумье. Городские огни простираются во все стороны, однако за ними кромешная тьма. Он ожидает, что Райнер вернется, но тот не возвращается и не возвращается, и в конце концов он ложится спать.
Когда он просыпается, уже утро, Райнер лежит на другой кровати. Легкое покрывало съехало, на Райнере ничего нет. Немец всегда деликатен и щепетилен в отношении своей наготы, и такую небрежность можно счесть своего рода посланием. Длинная загорелая спина сужается к тому месту, где разделяются ягодицы и где на более бледной коже вьется освобожденный от гнета пушок. Райнер поворачивается, и, прежде чем вялой от сна рукой он натягивает на себя покрывало, на миг мелькает восставшая плоть. Я поднимаюсь в смятении от желания и отвращения.
— Неужели ты сделал это?
— Да, — говорит он.
— Ты переспал с той женщиной?
— Да. — Он снова улыбается едва заметной презрительной улыбкой, уже сидя на краю кровати с полотенцем вокруг бедер. Какая-то часть Райнера балансирует на вершине скалистого утеса, глядя сверху на нравственное смятение долины.
— В Канаде… я начал спать с проститутками.
— Зачем?
— Я был очень напряжен. Секс помогает мне снять напряжение.
Он больше не спрашивает, он смущен, что делает его слабым, а поэтому он кивает и меняет тему, но не может прогнать из памяти морщинистое, изнуренное лицо женщины в сауне и то, как она хватала их за руки.
Они одеваются, собирают вещи и уходят. Только теперь они по-настоящему отправляются в путь, все предыдущее было лишь подготовкой. Они шагают с рюкзаками за спиной, высота и характер окружающих зданий меняются, но город все тянется и тянется. Они держат путь к высокой горной гряде на востоке, однако проходят часы, а они, похоже, к ней ничуть не приблизились. Им начинает казаться, что вторую ночь они проведут тоже в городе.
Потом они оказываются на длинном, взбегающем вверх проселке, и жестяные крыши и палисадники постепенно остаются позади. Они начинают карабкаться по склону, коричневые скалы которого поросли кустарником. Добравшись до вершины, останавливаются, чтобы бросить последний взгляд на булькающий миазматический котел, из которого вышли, затем продолжают свой путь. За первым открывается второй горный кряж, и теперь они действительно оказываются совсем в другом месте.
Горы следуют одна за другой, словно волна за волной поглощая мир прямых углов и жестких линий, изгибы и диаграммы, которые свет и тени рисуют разными красками — от коричневых до синих, почти сливающихся с небом. День идет к концу. По-прежнему жарко. Очертания предметов на обочине, дерева, сломанного плуга оплавляются и тускнеют в струящемся испарениями воздухе. Сначала ландшафт пуст и нетронут, но за очередным хребтом начинают появляться поля, где крохотные человеческие фигурки занимаются изнурительным трудом, а вдали виднеются сараюшки или домики.
Они останавливаются, найдя клочок тени, и отдыхают. Ему не верится, быть может, обоим им не верится, что они здесь, что вскользь брошенная фраза в письме, отправленном несколько месяцев назад, воплотилась в действительность.
Они идут и идут, мерным шагом, впечатывая в землю одну, потом другую ногу.
Вся деятельность природы, скрытая в обширных складках земли, каким-то образом сводится к динамике этого движения, вот так на протяжении времен вся поверхность мира и была втоптана в землю. Рюкзак тяжелый, ремни врезаются в плечи и бедра, ботинки натирают пальцы и пятки, во рту пересохло, бессвязные смутные мысли вертятся вокруг силы воли и побуждения идти вперед. Будь он один, дальше бы не пошел. Будь он один, сел бы и больше не сдвинулся с места, да и вообще бы никогда здесь не оказался, но он здесь, и этот факт сам по себе делает его подчиненным по отношению к другому, который тянет его за собой по следу, словно он привязан к нему тонкими нитями власти.
Они не разговаривают. Если разговоры возникают, то касаются практических вещей: где мы будем спать, не отдохнуть ли? Все остальное время они идут, иногда рядом, иногда врозь, но всегда каждый сам по себе. Странно, что вся эта ширь, не имеющая никаких искусственных ограничений, простирающаяся до горизонта, так безоговорочно отбрасывает человека внутрь себя самого, но это так. Я не помню, чтобы когда-либо был так же напряженно сосредоточен в себе, как на этой пыльной дороге, где был напрочь лишен обычных эмоций, свободен от всех стремлений и желаний, связывающих с миром. Может быть, поэтому Райнер вечером сказал:
— Ходьба имеет собственный ритм, который полностью тебя поглощает.
— Что ты имеешь в виду?
— Если ты идешь и идешь достаточно долго, ритм овладевает тобой.
Он произнес это с таким отсутствующим видом, что захотелось тут же оставить тему. Так часто бывает в общении с Райнером. Он высказывает мысль, интересную или глубокую, которая, вероятно, ему не принадлежит, а дальше ты чувствуешь пустоту, которую он не в состоянии заполнить, и отсутствие других мыслей, которые могли бы развить первую. Он молча ждет, что скажешь ты. Иногда ты говоришь, но не сегодня.
— Сегодня я слишком устал.
Они сидят рядом в маленьком углублении-пещере под нависающей скалой. Уже почти темно. С тех пор как они покинули город, прошло много часов, ему уже давно хотелось остановиться, но Райнер желал идти дальше. Только когда село солнце, он наконец согласился, что пора ставить палатку. Однако с одной стороны поля, с другой — голые скалы. Место было слишком открытое, неуютное.
— Давай перейдем через хребет и посмотрим!
И тут они случайно находят пещеру. Райнер молчит, но у него победный вид.
Мол, я же знал. Его вид подразумевает, что он настроен в унисон ритму Вселенной, что ритм его ходьбы не отличается от ритма жизни. Храбро иди до самого края, и все получишь. Даже палатку ставить не нужно. Он же настроен менее оптимистично. Неужели они действительно будут спать на открытом месте, как пара бродяг? Он избалован и изнежен, ему не хватает фатализма его закаленного спутника. Но когда становится совсем темно и мир сжимается до размеров маленькой пещеры под выступом скалы, пребывание здесь, в круге, освещенном костром, который они развели собственными руками, становится более приятным.
При свете дня земля расстилалась перед пещерой широкой долиной, и необозримость пространства пугала, но теперь оно сделалось приемлемым. Далеко-далеко внизу видны разрозненные крошечные огни пастушьих костров, дрожащим эхом доносится оттуда звон коровьих колокольчиков. Когда они, вскипятив воду, поели, на них снисходит чувство удовлетворения, все трещины и разрывы мира заделаны и связаны, впереди часы сна.
Он расстилает спальный мешок и ложится на бок, уставившись в темноту. Минуту спустя подходит Райнер и склоняется над ним. Они ничего не говорят, тишина густеет, переходя в напряжение. Затем Райнер спрашивает:
— В одном из твоих писем…
— Да.
— Ты написал, что ждешь встречи со мной.
— Да.
— Что ты имел в виду?
Он не знает, что он имел в виду тогда, но знает, что Райнер имеет в виду сейчас. Он ничего не может с собой поделать, весь день там, на дороге, в его воображении помимо воли возникали картины, он и сейчас видит ту вчерашнюю женщину, до краев наполненную лихорадочным отчаянием, видит Райнера, гнущего ее послушное тело своими загорелыми руками. То, чего Райнер хочет теперь, ничуть не будет отличаться от того, что он проделывал с женщиной, — ритуал, исполняемый без нежности, теплоты, чувственного удовольствия.
Но приходится признать, что в нем пробуждается ответный импульс подчиненности, какая-то часть его желает сдаться, я вижу тени, отбрасываемые судорожно сцепленными изломами нависающей скалы.
— Я не знаю, что имел в виду.
— Ты не знаешь, что имел в виду?
— Мне хотелось тебя увидеть.
— И больше ничего?
— Насколько припоминаю, нет.
Райнер медленно кивает.
Ни один из них не является больше тем человеком, каким по обоюдному согласию был до сих пор. Начиная с сегодняшнего вечера правила будут изменены. Он чувствует приправленный дымом запах пота другого мужчины, или, быть может, это его собственный запах, отнюдь не неприятный. Потом Райнер встает, уходит в дальний конец пещеры и устраивается там. Они опять молчат. Огонь постепенно гаснет, тени тают, воздух продолжает оглашаться звоном колокольчиков.
Они снова пускаются в путь до рассвета, дорога еще синяя и плохо различима. Вчерашние ссадины отдаются острой болью, но спустя полчаса боль рассеивается по всему телу и становится неразделимой. Она не без приятности ощущается везде. Встает солнце, и по обе стороны из темноты начинают восставать горы.
Они идут по большой окружности, которая закончится в месте, расположенном неподалеку от города Масеру. Оттуда они начнут второй, больший круг, заканчивающийся почти в том же самом месте, потом третий. Таким образом, они охватят всю страну тремя каждый раз увеличивающимися петлями, последняя из которых приведет их на самую высокую гору Дрейкенсберг, что далеко на востоке. К тому времени они должны окрепнуть и войти в форму, привыкнуть к тяготам такого рода путешествий, хотя у него есть на этот счет сомнения. Это Райнер спланировал их путешествие таким образом, расчертив его разноцветными чернилами на карте.
Они останавливаются возле маленького придорожного магазинчика, чтобы запастись едой на день. Тесное помещение забито консервными банками, коробками и пакетами, пастой и сластями, овощами и мылом. В дорогу разумнее брать легкие продукты, может, несколько булочек, немного риса. Но Райнер прочесывает тускло освещенный магазин, снимая с полок консервы, сетку картошки, плитки шоколада.
— Но зачем?
— Я это люблю.
— Шоколад?
— Я люблю шоколад. Я читал статью о человеке, который целый год питался только шоколадом и водой.
— Это невозможно!
Райнер смотрит на него, ухмыляясь. Конечно, это возможно. В предстоящие дни он будет отламывать по маленькому кусочку и есть медленно, смакуя, добираясь до некой сути, которая и будет питать его вопреки законам биологии. Для Райнера сложности и противоречия мира лишь пустяки, отвлекающие внимание, истина всегда проста и нага. Вот правило, которому надлежит следовать неукоснительно, в то время как сомнения необходимо преодолевать. Это возможно — выжить на силе воли и шоколаде, он в это верит, и каждый раз, когда предлагает своему спутнику кусочек шоколада, на его лице снова появляется эта едва заметная ухмылка.
За еду и все остальное Райнер платит свои деньги. В Масеру он обменял какое-то количество канадских долларов на ранды, деньги носит в кармашке на поясе, на это они теперь и живут. Хотя я прилежно записываю каждую покупку в маленький блокнот и в конце путешествия собираюсь отдать ему все до последнего цента, уже сейчас, на второй день путешествия становится ясно, что Райнер сам будет решать, что мы можем, а чего не можем позволить себе в пути.
Итак, они берут консервы, картошку, шоколад и поровну распределяют груз.
Когда они снова пускаются в путь, груз кажется несоразмерно тяжелым, и он чувствует, как от острого негодования его словно бы пригибает к земле, он идет медленнее, чем прежде. К полудню солнце становится нестерпимо горячим, оба исходят потом. Они в какой-то маленькой деревушке с уродливыми современными строениями и старой разрушенной церковью.
— Думаю, нам нужно сделать привал и немного отдохнуть, — говорит Райнер.
С вершины горы справа виден крутой обрыв, посередине его пещера, она больше, чем та, в которой они провели предыдущую ночь. Райнер выражает желание добраться до нее. Но придется долго спускаться! Ну и что? А потом взбираться обратно! Ну и что? Еще одна причина для невысказанного противостояния между ними. Насмешливая издевка в темных глазах одного мужчины одерживает верх над возмущением другого, и они начинают спускаться между валунами и кустами столетника. Мелкая галька осыпается из-под ног. Когда они добираются до пещеры, в тени, отбрасываемой скалой, гнев его утихает. Мирная долина расстилается внизу.
— Здесь красиво, — говорит он.
— Да. — Этим односложным согласием Райнер подчеркивает, что снова оказался прав.
Они валятся в пещере прямо на камни. Он засыпает, а когда просыпается, видит, что минули часы и начинается гроза. Небо почернело от туч, молнии огненными лестницами пронзают пространство от неба до земли, от грома сотрясаются скалы. Дождь, образовавший непроницаемую дверь, отделяющую их от мира, кажется почти твердым. Они сидят под скальным навесом, вода низвергается с неба, от земли поднимаются свежие запахи испарений. Так же, как и прошлой ночью, теперь, когда он отдохнул и освежился, когда ушла жара, а саднящая острота эмоций притупилась, ему почти нравятся странное место, в котором он очутился, и его странный спутник.
— Думаю, — говорит Райнер, — нужно на каждый день установить такой же распорядок, как сегодня. Мы должны вставать рано, идти, а в середине дня отдыхать. Потом идти снова.
— Да, — соглашается он.
В этот момент он находится в полном согласии с Райнером, не понимает, как мог на него сердиться, на фоне грозового неба его мрачное лицо кажется ему красивым.
Когда гроза кончается и снова проглядывает свет, они выходят в мир, промытый и сочащийся красками. Такие дневные грозы случаются почти каждый день, жара набирает силу до тех пор, пока наконец не разряжается грозой, а после этого всегда наступает ощущение полного обновления в природе, а вскоре и между ними.
Теперь они по-настоящему в пути. До тех пор пока они не провели первую ночь под открытым небом, все путешествие еще представлялось некой безумной затеей, от которой можно в любой момент отказаться, но теперь они миновали некую точку невозврата и перешли из одного мира в другой. В прошлом мире существовала их обычная жизнь, с ее привычками и друзьями, местами и предпочтениями, но теперь все это осталось позади. В новой жизни только они сами и набор предметов, которые уместились в рюкзаках. Все остальное, даже люди, которые встречаются на пути и с которыми они разговаривают, проходит мимо.
В этом чудном союзе, в этом эксцентричном браке должны возникнуть новые обычаи, призванные сделать его живучим. Существуют правила, которым надлежит следовать, основополагающие, в высшей степени необходимые, которые в определенные дни могут обретать почти религиозную значимость, а в другие казаться нуднее нудных. Палатку, например, должно ставить и складывать. Два или три раза в день надо готовить еду, а потом мыть кастрюли и сковородки. В первые же дни эти обязанности они распределяют поровну. Помогают друг другу устанавливать шесты и подпирать ими провисающий брезент, вместе ищут камни, чтобы забивать ими в землю колышки. Либо торгуются. Ты поставишь палатку, а я приготовлю ужин. Ладно, помогу тебе позже вымыть посуду. И хотя они устают друг от друга и время от времени мимолетные конфликты по-прежнему случаются, в ходе вещей устанавливается равновесие, какое-то время они смогут так жить.
В эти первые дни они много разговаривают, находят интересные темы для бесед, обмениваются мыслями, несогласие высказывают уважительно. И если они обходят личные темы, не обсуждают самую интимную часть своей жизни, то это потому, что оставили ее позади. Вместо этого возникла новая интимность, приобретшая между ними практический характер, когда они лежат рядом друг с другом или сталкиваются в темноте, когда первое, что они видят, проснувшись утром, — это лица друг друга. Эта интимность в некотором смысле является движущей силой их путешествия.
День строится вокруг мелких ритуалов свертывания и возобновления. Каждое утро они встают задолго до рассвета. Пока один разводит огонь, чтобы вскипятить воду для кофе, другой снимает палатку. Затем они пускаются в дорогу, стараясь пройти определенный отрезок пути до того, как станет слишком жарко. Спустя час-два останавливаются, чтобы позавтракать. Потом, если есть вода, моют посуду, если нет, складывают ее, чтобы помыть позднее, и снова идут.
В середине дня, когда жара становится невыносимой, они находят место, чтобы несколько часов отдохнуть. В этой стране горных вершин и обширных долин, прорезанных реками, часто находится тенистое местечко у воды, откуда открывается вид на голубые дали. Они привыкли спать в мягком и пышном окружении колышущихся трав, под сенью проплывающих в небе облаков, под приглушенное жужжание пчел.
Потом жара беременеет грозой. Горы очерчиваются ярким электрическим ореолом, в верхних слоях атмосферы зреет грозовой фронт, а потом начинает дуть сухой горячий ветер. Тогда они либо пережидают грозу там, где она их застала, — иногда для этого даже приходится снова ставить палатку, — либо находят убежище в какой-нибудь хижине или пещере. Больше всего в такие моменты они боятся молний. В вывихнутом душевном состоянии, когда смерть неотступно таится под кожей, мысль о том, что небеса сразят их сверху наповал, кажется нелепо правдоподобной. Он никогда не видел таких ярких огненных вспышек и не слышал такого ужасающего грома.
Затем они совершают последний дневной переход, финальный выброс энергии и усилий, стараясь преодолеть определенное расстояние, прежде чем наступит ночь. К заходу солнца они начинают искать место для ночлега. Чаще всего ставят палатку. Если оказываются возле деревни, идут к старосте и спрашивают разрешения, которое неизменно получают; раз или два им предлагают комнату для ночевки. Потом наступает время вечерних ритуалов — разведение костра и приготовление пищи, иногда немного чтения, прогулка в темноте с прихваченным рулоном туалетной бумаги. Засыпают они не поздно, вытянувшись рядом друг с другом, усталость в секунду стирает все мысли, даже самая твердая земля кажется мягкой.
Так проходят дни. Дорога ведет их мимо домов или сбившихся в кучку хижин, и повсюду люди отвлекаются от своих занятий, чтобы посмотреть, как они идут. Иногда слышатся приветствия, несколько фраз по-английски, которые они, должно быть, заучили еще в школе: привет как поживаете да нет у меня тоже все прекрасно до свидания. Часто вокруг них гурьбой собираются ребятишки, и они, словно дудочники, увлекают их, поющих и смеющихся, за собой. В одной деревне мэр устраивает их в собственном доме. Этот огромный человек с дырками на месте отсутствующих зубов, который беспрерывно курит марихуану, делая самокрутки из газет, уступает им свою кровать, а сам идет ночевать куда-то в другое место. В придорожном магазинчике две школьницы робко заговаривают с ними, заученно твердя английские фразы — привет привет как вас зовут, — затем одна выкрикивает «я люблю вас», и обе начинают безудержно хохотать.
Райнер находит школьниц забавными.
— У меня могла бы быть толстая жена-лесотка, мне бы понравилось, ха-ха-ха!
Но на большинство подобных дружелюбных приветствий он реагирует раздражением. Он не желает, чтобы его беспокоили улыбками и разговорами, не видит в подобном общении никакой необходимости. По утрам, отправляясь в путь, он затыкает уши берушами и смотрит только вперед, на дорогу. Он радуется, когда им предлагают комнату, но не расположен платить за нее и не желает спрашивать разрешения разбить палатку.
— С какой стати?
— Но таков обычай.
— Их обычай, не мой!
— Но мы в их стране.
— В их стране! Не верю я ни в какие страны, это всего лишь линии на карте.
— Порой я не знаю, во что ты вообще веришь, Райнер.
В ответ на это угрюмое лицо озаряется улыбкой.
Большую часть времени они идут по дорогам, но иногда и по целине. Такое случается, когда Райнер видит на своей карте, как можно срезать угол.
— Вот здесь, гляди, отсюда сюда. Но между двумя этими точками горы!
— Да, я их вижу.
Зачастую кажется, что он специально выбирает маршрут, изобилующий препятствиями: горами, реками, крутыми откосами. Это интересные испытания! Мы должны побеждать природу с тем же бесстрастием, какое она демонстрирует нам. Поэтому они идут по бездорожью. Я не люблю сходить с дороги, у меня обостряется чувство уязвимости, на меня нисходит первобытный страх. Но это тоже один из самых захватывающих элементов путешествия! Чувство благоговейного ужаса, которым чревато все вокруг, обостряет все ощущения и делает их более интенсивными, мир оказывается заряженным энергией, которой в обычной жизни не обладает.
Спустя приблизительно неделю они завершают первую петлю своего путешествия. В маленьком городке Рома останавливаются на ночлег в заброшенной семинарии — длинном строении из известняка с колоннами и арками. Позади него тополиная аллея, словно перенесенная сюда из Италии.
В обеденное время, в ресторане под открытым небом, им встречается очень старый человек.
— Откуда вы? — улыбается он беззубым ртом. — Из Южной Африки? Это вы считаете нас всех обезьянами и держите в тюрьме Нельсона Манделу?
Когда он сообщает старику, что Нельсона Манделу выпустили из тюрьмы три года тому назад, тот оглушительно хохочет, запрокидывая голову:
— Вы думаете, что мы все обезьяны. Нельсон Мандела за решеткой!
— Да нет же, нет, уверяю вас.
Теперь старик почему-то едва не плачет, источая ненависть.
— Оставь его, — говорит Райнер, — похоже, он в панике, ему ничего об этом не известно, никто ему не рассказывал этого, оставь его.
На следующий день они покидают Рому и следуют по дорогам, ведущим к высоким горам. До той поры они ходили по предгорьям Дрейкенсберга, теперь пики громоздятся вокруг них, фантастически-причудливыми очертаниями вырисовываясь на фоне неба. Дорога то взлетает, то обрушивается вниз, как корабль во время шторма, она сплошь состоит из крутых, наподобие шпильки для волос, изгибов и замысловатых петель, удлиняющих короткий путь. В полдень разражается страшная гроза. Небо над вытянутой узкой долиной смыкается, устрашающе сверкают молнии. Они укрываются под карнизом какого-то дома, потом двигаются, высматривая ровное место, где можно поставить палатку, но такого нет, дорога тянется высоко над краем долины, с обеих сторон крутые скалы. С наступлением темноты они добираются до какой-то миссии. Выясняется, что здешние священники немцы, Райнер долго и приветливо разговаривает с ними, улыбаясь и кивая, сейчас он кажется совсем другим человеком. Священники говорят, что у них свободного места нет, но отсылают их к главе ближней деревни; они проводят ночь на земляном полу в хибарке, с соломенной крыши над их головами доносятся таинственные шорохи.
Священники сообщили Райнеру, что дорога, по которой они идут, заканчивается недалеко впереди, до следующей придется идти по бездорожью. У Райнера есть план.
— Смотри, мы можем сделать вот что.
Он хочет, чтобы на следующий день мы совершили длительный переход, самый долгий из тех, что совершали до сих пор. Непосредственно до Симонконга.
К этому времени даже самые заурядные события становятся пробным камнем для демонстрации власти. Два года тому назад, познакомившись в Греции, они считали себя одинаковыми. На этой пустынной дороге они являют собой зеркальные отражения друг друга. Вероятно, оба полагают, что в реальных средствах общения нет необходимости — слова, множась, лишь разделяют. Главное — единомыслие, не облеченное в слова. Но теперь они сознательно воздерживаются от разговоров, потому что разговоры могут показать, насколько опасно они не похожи друг на друга. Отражение в зеркале противоположно оригиналу, отражение и оригинал неразрывны, но могут свести друг друга на нет.
Итак, в подтексте путешествия таится конфликт, можно сказать, другое, отдельное путешествие, борьба за доминирование, которая по мере продолжения странствия начинает пробиваться наружу. Утром, когда они встают, Райнер отправляется мыться один, либо в реке, если она есть поблизости, либо водой из бутылок. Потом вытирается и усаживается на камень втирать в кожу кремы и лосьоны, извлекаемые из множества баночек и флаконов. Потом достает деревянный гребень и долго расчесывает волосы, пока они не начинают сиять. Хотя этот ритуал с каждым днем занимает все больше времени, до получаса или даже больше, Райнер всегда щепетилен в отношении исполнения своей доли обязанностей — подожди немного, я тебе помогу, не трогай палатку, я сам сложу ее, — но его спутнику невмоготу наблюдать за ним, лучше уж чем-нибудь занять себя — сварить кофе, свернуть палатку, — пока Райнер чистит перышки. Когда через некоторое время они пускаются в путь, он задыхается от гнева и раздражения, Райнер же полон самодовольства, каштановые кудри колышутся на его плечах.
Другой источник конфликта — деньги. Он тщательно фиксирует все расходы в своем маленьком блокноте, но Райнеру это явно безразлично. Однако, когда бы они ни остановились что-либо купить, между ними завязывается молчаливая битва вокруг того, что выбрать и кому позволено делать выбор. Райнер, например, продолжает покупать свои шоколадки, но если чего-то захочется мне, то всегда возникает спор. Гм, насчет этого я сомневаюсь. Зачем нам это? Иногда Райнер покупает что-нибудь для себя, коробку конфет или бутылку воды, и ждет, чтобы спутник попросил у него. Просить унизительно, Райнер это знает. Деньги всегда не просто деньги, они символизируют другие, более глубокие смыслы. В ходе этого путешествия то, сколько ты имеешь, является знаком того, насколько ты любим. Райнер копит любовь, одаривает же ею как милостью. Меня постоянно гложет отсутствие любви, быть нелюбимым — значит не иметь никакой власти.
Таким образом, в каждом периоде путешествия бывают моменты единения и моменты конфликтов, а между ними протяженные раздельные участки пути, на которых каждый из них остается один, сам по себе. Но даже в отношении хождения они не могут прийти к согласию. Недостаточно просто прийти из пункта А в пункт Б, это нужно сделать в определенное время, недостаточно просто идти по дороге, нужно подняться на определенную скалу или спуститься в определенную пещеру, всегда что-то постоянно измеряется, что-то постоянно преодолевается. Вечерами Райнер бесконечно долго сидит с фонарем над своей картой, отмечая пройденные километры, сверяя расстояния со временем.
Так что намерение Райнера совершить завтра дальний переход означает для обоих нечто новое.
— Насколько дальний?
— Около шестидесяти километров.
— За один день?
— Это нам по силам.
— Но зачем?
— Потому что я хочу победить.
Он понимает, что Райнер устраивает себе своего рода испытание, чтобы определить границы своих возможностей во враждебных обстоятельствах. Среди этих обстоятельств он представляет собой один из факторов сопротивления, который следует преодолеть. Он не хочет быть этим фактором, поэтому говорит:
— Да, что ж, можно попробовать.
Они встают задолго до рассвета. К тому времени, когда начинает светать, они уже давно покинули домик с земляным полом и преодолели большой отрезок пути. Вчера они в основном двигались по дороге, пролегающей над лесистой равниной, но теперь, когда горы с обеих сторон подступили ближе, дорога круто низвергается вниз, пока не приводит их в деревню. Здесь она кончается. Они присаживаются ненадолго среди домов и запущенных садов, чтобы отдохнуть. Козы пасутся среди цветов, дружелюбно поглядывая на них, куры выклевывают что-то из земли. Затем они снова пускаются в путь, приблизительно выдерживая общее направление. Им предстоит выбраться из долины и перевалить через горы, теперь путь идет все вверх и вверх. Склоны здесь самые крутые из всех, с какими им до сих пор приходилось иметь дело, никакая дорога так круто подниматься не может, большую часть времени они вынуждены на ощупь искать опору для ног. Изредка встречаются тропинки, по которым они следуют, тропинки приводят в деревни. Да, даже здесь, среди отвесных голых скал, встречаются небольшие скопления круглых хибарок, земля между которыми суха и утоптана. Когда они проходят по такой деревне, из окон за ними следят с любопытством или удивлением люди, всю жизнь прожившие на одном крохотном клочке земли и безразличные ко всему, что находится за его пределами. Память снова работает прерывисто, отдельными вспышками. Почему некоторые картинки, некоторые отрезки пути глубоко врезаются в нее и ярко воспроизводятся перед мысленным взором, а другие исчезают без следа? Я вижу, как эти двое карабкаются по последнему склону на голую вершину плоской горы, там тоже есть деревни и маисовые поля, вдали вьется лента дороги, по ней, словно игрушечный, движется автомобиль. Мы сделали это! Смотри, смотри, мы здесь!
Понадобился еще час, чтобы добраться до дороги. Ими уже овладела глубокая усталость, они садятся возле какого-то дома отдохнуть. Время от времени мимо проезжают машины, они могли бы проголосовать, но это скомпрометировало бы поставленную цель, поэтому спустя недолгое время они снова идут. На небе сегодня ни облачка, чудовищная жара наваливается сверху, прижимая к земле. Они останавливаются у магазина на склоне горы. Теперь уже совсем не осталось ни воли, ни энергии, чтобы идти дальше, и они садятся на цементной веранде. На миг он теряет сознание, а ведь проделана еще только половина пути.
Когда они отправляются снова, то вначале идут по проселку, который поднимается от густонаселенного плато, потом по горной пустоши, безлюдной, сколько видит глаз, ничто здесь не движется, только они, да и то едва-едва. Они очень устали. Безжалостный подъем, который они преодолевали с самого утра, вымотал их вконец, и хотя сейчас они следуют по пологому спуску, мышцы напряжены до предела, в подобной ходьбе нет никакого удовольствия. Даже Райнер его не испытывает. Нигде никаких дорожных указателей или поселений, по карте невозможно определить, где они находятся. Я вглядываюсь в пространство впереди в надежде рассмотреть Симонконг, он где-то близко, мы, конечно же, должны были уже дойти до него, но за каждым следующим поворотом снова дорога, разворачивающаяся перед ними, словно судьба. Навстречу на осле двигается человек, кутающийся в одеяло и в немыслимо широкой шляпе басуто[4]. Он проезжает мимо, не обратив на них ни малейшего внимания. Дорога становится круче, они снова спускаются от самой высокой точки в горной гряде, солнце садится за вершины.
Оборотной стороной крайней усталости является слабость настолько острая, что становится совершенно безразлично, где ты и что делаешь. К вечеру эта слабость накатывает на него неотвратимо, он чувствует апатию, напоминающую сон. При свете полной луны он проходит мимо лошади на лугу. Никакая другая картинка из этого путешествия не представляется ему такой редкой и такой яркой: зеленая трава, похожая на блестящее оперение, мирно дремлющее животное в профиль, белый круг луны над головой, словно Бог. Уж теперь-то они точно скоро должны быть на месте. Но наступает ночь, нигде ни огонька, а они продолжают идти.
— Все, хватит, — говорит он Райнеру. — Почему мы не можем остановиться?
— Здесь? — Райнер оглядывается вокруг. Даже его искаженное и покрытое трещинами лицо не может скрыть искушения, но он не сдается: — Мы ведь совсем близко и проделали такой долгий путь.
У подножия горы дорога выравнивается, уже скоро, уже скоро. Они идут не останавливаясь, потому что если присядут, то не смогут встать. На дамбе птицы взлетают, когда они проходят мимо, их дикие крики в ночи как голос земли, призывающий: остановитесь, остановитесь немедленно. Они не останавливаются, окружающий пейзаж теперь движется по собственной воле, его движение не имеет никакого отношения к их ходьбе, высоко над головой звезды незаметно складываются в таинственные узоры, идеальный круг луны катится, будто потерянный обруч, и исчезает. Ближе к полуночи они ощущают подъем дороги, и впереди становятся различимы низкие плоские контуры и разбросанные тусклые огни города. Где-то залаяла собака, ее лай подхватывают другие, волна рычания и воя несет их по улицам — кто эти бродяги, вторгшиеся из темноты?
Дорожный указатель. Они следуют ему. Пройдя через город, выходят из него с противоположной стороны. Дорога уходит вниз, в узкое ущелье, и пересекает реку; в нижней точке они добредают до погруженного во тьму кемпинга, состоящего из разбросанных бунгало. Звонят, кто-то выходит, они слишком устали, чтобы разбивать палатку, поэтому снимают комнату и валятся на кровать.
— Мы это сделали, — говорит Райнер, — мы смогли.
Но подсознательно он понимает, что слишком туго натянул поводья.
Здесь они проводят два дня. Утром, выбравшись из бунгало, расставляют на траве палатку. Кемпинг окружен лесной полосой, за ним река, темным пивом текущая между скал.
Теперь они почти не разговаривают. Оба пришиблены этим долгим переходом, их ноги в ссадинах, мышцы болят, кожа на спинах стерта тяжелыми рюкзаками. Но реагируют они на этот эксперимент совершенно по-разному. Райнер кажется помолодевшим, для него цель состояла в том, чтобы перебороть свою слабость, и цель была достигнута. Он уже планирует следующий этап их путешествия. По хорошей дороге, если идти весь день, они могут достичь некоего места. Между этим местом и конечным пунктом второй петли, то есть второго этапа их маршрута, находится горная гряда, через которую не проложено дорог. Если они немного изменят маршрут и возьмут чуточку южнее, то попадут на дорогу, которая прямиком приведет их туда, куда они стремятся попасть, но это слишком просто.
— Давай пойдем через горы, — предлагает Райнер. — Два, ну три дня, и мы на месте.
Я тупо смотрю в карту.
— Я бы предпочел более длинные переходы, — говорит Райнер. — Как этот последний. Что ты думаешь? Набираемся сил, совершаем большой бросок, потом несколько дней отдыхаем.
Он кивает, отворачивается, что-то отмерло у него внутри. Усталость от долгого перехода никогда не уйдет из тела, она пробрала его до самых костей. Он бродит вокруг кемпинга, пытаясь воспрянуть, думает обо всем и ничего не может решить, он стирает в реке одежду и раскладывает ее на камнях сушить. Потом сидит на солнце, слушая журчание воды, читает. В чужой комнате ты должен опорожнить себя для сна. Пока не опорожнил, то, что есть в тебе, — ты. Если опорожнил себя для сна, тебя нет. А когда наполнился сном, тебя никогда не было. Слова доходят до него откуда-то издалека. Он откладывает книгу и разглядывает необычных длинноногих насекомых, снующих по поверхности реки, они лихорадочно мечутся взад-вперед, проживая всю свою жизнь на пространстве, ограниченном метром-двумя, они ничего не знают о нем и его невзгодах, даже сейчас понятия не имеют, что он наблюдает за ними, их отличие от него абсолютно.
Владелец кемпинга — толстый мужчина по имени Джон. Он рассказывает им о великолепном виде, который открывается с места, расположенного в полутора часах ходьбы. Не пропустите, это действительно нечто! Добравшись туда, они видят, что он их не обманул, вид и впрямь потрясающий, река, на берегу которой они живут, переливается через утес и исчезает в бездонной пропасти. Он ложится на живот и заглядывает за край утеса. Водопаду не видно конца. Ошеломляющее, головокружительное низвержение воды своей неотвратимостью напоминает смерть.
Он отползает от края, встает на ноги и видит, что Райнер стоит немного поодаль на валуне у самого края обрыва, наклонившись над бездной. Не оформленное в слова, в голове его мелькает смутное желание столкнуть. Короткое, без усилия, движение рук, и его нет. Откуда эта мысль об убийстве, всплывшая так обыденно среди обрывков повседневных размышлений и снова куда-то исчезнувшая?
— Вот что мы должны сделать теперь, — говорит Райнер. — Завтра.
— О… И что же это?
— Я хочу совершить ночной переход. Выйдем с наступлением темноты и будем идти всю ночь.
— Можно попробовать, — говорит он.
На следующий день они выходят с наступлением сумерек. Начинает моросить дождь, темнота поглощает их, память проваливается в дыру. Следующее, что я помню, это как они вдвоем, уже при безжалостном свете дня, карабкаются по горам. Они сошли с дороги и держат общее направление на запад. В этот обычный знойный день две маленькие фигурки прокладывают путь вверх, вверх, по глубоким расселинам и трещинам, полям и невысоким холмам, мимо деревень и маленьких речушек, густых зарослей кустарников и обширных лесных массивов, стремясь к вершине кряжа, откуда смогут начать спуск. Райнер ведет. Днем проходит дождь, короткий, но сильный ливень, однако жара не спадает. С обеих сторон поднимается пар, словно земля тлеет, и к концу дня воздух становится густым, горячим и наэлектризованным.
Дальше все происходит, кажется, очень быстро, устремляясь к некой цели. Они вы ходят на место, представляющееся крышей мира, как раз в тот момент, когда начинают опускаться сумерки. Прямо перед ними отвесное ущелье, за которым, словно рябь по воде, складка за складкой разбегаются горы. Темнеет неестественно быстро, и, когда они поднимают головы, становится ясно почему. Из двух разных точек горизонта на них несутся два мощных грозовых фронта, которые бурно сталкиваются у них на глазах. Небо заволакивает непроницаемо-черная пелена туч.
Теперь слишком поздно возвращаться назад или искать укрытие где-нибудь пониже. Через несколько минут разразится гроза, и они начинают лихорадочно устанавливать шесты, вбивать колышки и натягивать веревки. Ветер усиливается, в воздухе появляется странный металлический запах. Гром гремит не переставая. Они закрепляют палатку, забрасывают в нее рюкзаки и мечутся в поисках тяжелых камней, чтобы придавить брезент.
Все очертания мира искажаются и колеблются, впечатление такое, будто они летят сквозь космос. Каким-то спокойным внутренним взором он видит, как они одиноки и не защищены, маленькие прыщики на голой вершине горы. Молнии, нужно избавиться от всего металлического! В течение следующей пары минут они шарят в рюкзаках, вынимая металлические предметы, затем с руками, полными посуды, ножей и браслетов, выскакивают наружу, сваливают кучку металла во всклокоченном подлеске и бросаются назад. Но какое значение могут иметь эти смешные меры предосторожности, если палатка держится на металлических колышках; с ними уже ничего не поделаешь. Они едва успевают забраться в нее, как разражается гроза.
Никакой пример действия человеческой силы не подготовил его к буйству столь безликому и сокрушительному. Ветер, ливень, грохот. Земля сотрясается. Промежутки между вспышками молний и громом очень коротки и становятся все короче. Потом исчезают вовсе, и эпицентр грозы оказывается прямо над ними.
Эта картина становится кульминацией, моментом, к которому подводило все предыдущее. Он лежит ничком головой к дальней стене палатки, вжавшись в землю, закрыв уши руками. Вот сейчас, думает он, это случится, сейчас, сейчас. Между тем Райнер лежит по-другому. Приподняв голову, раздвинув и придерживая в таком положении входные створки, он с обычным своим выражением лица сердитого ребенка смотрит наружу, на ревущий и светящийся, словно диск луны, мир.
Рассвет прекрасен, в небе ни облачка. Он просыпается рано и выползает в царящую снаружи тишину. Кусты серебрятся от влаги, горы на фоне синевы неба вырисовываются четко и ясно. Сквозь чистый воздух взгляд с телескопической зоркостью различает мельчайшие детали горизонта. Сейчас они находятся очень высоко.
Райнер пробуждается чуть позже и оглядывается вокруг.
— Пожалуй, пойду пройдусь немного, — говорит он и уходит в сторону ущелья.
В ожидании Райнера он разжигает плитку, чтобы вскипятить чай, потом оценивает размеры вчерашнего ущерба. Некоторые веревки ослабли, укатилось несколько камней, придерживавших края палатки, но в целом палатка устояла. Должно быть, они удержали ее весом собственных тел.
Райнера все нет, поэтому он, чтобы занять себя, вытаскивает из палатки рюкзаки, начинает укладывать их. Из-за месива вокруг это занимает времени больше, чем обычно. Когда палатка свернута и засунута в чехол, выясняется, что не хватает нескольких колышков. Видимо, затерялись в мокрой земле.
Шагая напролом сквозь кустарник, возвращается Райнер. Своим молчанием он дает понять, что здесь, на вершине мира, среди гроз и горных пиков, он поистине слит с первозданной природой.
— Я нашел не все колышки.
— Гм, — мычит Райнер. Он наливает себе чаю и усаживается с чашкой на утесе, напряженно вглядываясь в даль.
Некоторое время он продолжает копаться в грязи, затем идет искать металлические вещи, которые они выбросили прошлой ночью. Он не может вспомнить, куда именно, сегодня все выглядит не так, как вчера в темноте. Наконец глаз улавливает серебристый блеск, и он приносит вещи обратно.
Наблюдая за ним, Райнер говорит:
— Ты боялся молний.
— Да. А ты нет?
Он качает головой, потягивая чай.
Я приготовил завтрак. Райнер выплескивает остатки чая и идет есть.
Они не разговаривают, между ними висит напряжение, словно остаток электрического кошмара вчерашней грозы. Райнер ест медленно, о чем-то размышляя и вперив взор перед собой. У него не хватает терпения ждать, когда тот закончит завтрак, и он снова начинает искать в земле недостающие колышки. Обернувшись, он видит Райнера стоящим на скальном выступе без рубашки и втирающим в кожу крем.
— Ты не поможешь поискать колышки?
— Я занят, — отвечает Райнер.
— Занят…
Он собирает грязную посуду, засовывает ее в пакет. К тому времени Райнер заканчивает втирать крем и начинает расчесывать волосы. Щетка вспыхивает на солнце, ее повторяющееся движение однообразно, оно бесит.
Он уходит чистить зубы. Когда возвращается, Райнер уже покончил с расчесыванием волос и надевает рубашку. Потом тоже выдавливает пасту на зубную щетку и уходит.
Несколько минут спустя он возвращается быстрым энергичным шагом:
— Я готов. Пошли.
— Еще не все колышки.
— Что?
— Колышки.
Райнер раздраженно цокает языком, вздыхает, подходит к месту, где стояла палатка, и начинает осматривать уже утоптанную землю. Через несколько минут говорит:
— Оставь их.
— Что?
— Оставь. Приспособим вместо них что-нибудь другое.
— Это не моя палатка. Я за нее отвечаю.
— Что делать, они пропали. Я их не вижу. Идем, мы и так потеряли уйму времени.
Он смотрит на него, и откуда-то из глубины поднимаются слова протеста.
— Ты ничего не сделал, — говорит он.
— Что?
— Ты ничего не сделал. Сегодня утром все делал я. И я хочу найти остальные колышки.
Райнер снова цокает языком и выразительно отбрасывает назад свои длинные волосы. Не произнеся ни слова, он поднимает рюкзак и вступает на тропу, по которой они следуют. Оставшийся в изумлении смотрит, как Райнер уходит, как его темная фигура быстро уменьшается, пока не исчезает вовсе. Тогда он запихивает палатку в свой рюкзак и идет следом.
Вначале тропа петляет, повторяя контуры поверхности, и видно только то, что вблизи, но когда он выходит на противоположный склон, открывается широкий обзор, тропа разматывается далеко в будущее. Теперь он видит вдали Райнера, маленькую фигурку, быстро идущую вперед не оборачиваясь. Он пытается ускорить шаг, но слишком утомлен и тяжело нагружен. Он несет сейчас больше, чем ему положено, палатку должен был нести Райнер, но тот ушел, не взяв ее. Поиски нескольких потерянных колышков обернулись для него тяжестью палатки.
Спустя какое-то время он оставляет попытки догнать спутника. Но здесь, на противоположном склоне горы, ему открыта вся тропа, она сначала идет прямо, потом круто сворачивает налево и спускается к реке. Райнер далеко впереди, он приближается к повороту. Тропа проложена не напрямик, и он видит, что если сойти с нее там, где он сейчас находится, и срезать угол по крутому склону, то он выйдет к реке раньше Райнера.
Он идет вниз и налево, продираясь сквозь низкорослый кустарник и удерживая равновесие на перекатывающихся камнях, которыми усыпана земля. Боковым зрением он видит, как Райнер сначала прибавляет скорость, заметив, что происходит, затем замедляет шаг, поняв, что сохранить первенство невозможно.
Шатаясь от прилагаемых усилий, он добирается до нижней точки впадины и оказывается на тропе впереди Райнера. Теперь можно расслабиться. Он неторопливо подходит к реке, снимает с плеч поклажу и садится ждать. Река мелкая, но течение быстрое. Камни расположены так, что, прыгая с одного на другой, можно ее перейти. За дальним перевалом на другом берегу видны остроконечные крыши маленьких домов, тонкие струйки дыма рвутся в открытое небо.
Через несколько минут подходит Райнер. Они не смотрят друг на друга. Райнер озирается по сторонам, потом тоже сбрасывает с плеч поклажу и садится поодаль. Они не разговаривают и напряженно смотрят в одном направлении. Шумовым фоном этой сцены служит журчание воды. Оба спокойны, и оба понимают, что отсюда дальше им все равно предстоит идти вместе.
Когда приходит пора отправляться в путь, первым встает Райнер и начинает взваливать на плечи рюкзак. Он тоже встает и, повторяя действия Райнера, готовится продолжить путь. Они словно бы находятся в разных местах, ни слова не произносится между ними.
На полпути через реку он поскальзывается и падает. Он ничего себе не повредил, лишь вымок и испытывал унижение. Райнер уже благополучно перебрался на другой берег и оборачивается, чтобы посмотреть, что происходит. Он не смеется, но впечатление такое, что смеется. Он не ждет, даже на миг не задерживается, предоставляя мне стоять в воде на коленях, он идет вперед и через полминуты исчезает за перевалом.
Я встаю, перехожу на другой берег. Секунду смотрю на пустую тропу: он опять ушел, опять ушел. Потом иду следом. Теперь силы ему придают гнев, скрывающийся за внешним ледяным спокойствием, невысказанные слова, клубящиеся у него во рту, словно дым, и чресла, пылающие от всего того, чего он так и не сделал.
Поднявшись на гребень, он видит Райнера, сидящего внизу на бревне и с улыбкой наблюдающего за деревенскими ребятишками, резвящимися вокруг него в высокой траве. Он улыбается и улыбается.
Подойдя, я спрашиваю:
— Почему ты меня не подождал?
Райнер поднимает голову, вздернутые брови придают лицу выражение терпеливого недоумения.
— Когда я только что упал. В воду. Почему ты не подождал? Я ведь ждал тебя.
— Мы это обсудим, — говорит Райнер. — Позже.
— Мы обсудим это сейчас.
Слово «сейчас» заряжено напряжением такой мощности, что это удивляет всех. Дети, не понимающие смысла этого тихого обмена репликами, вдруг замолкают и боязливо пятятся.
— Обсудим, — говорит Райнер, — но не в таком тоне.
Его собственный тон исполнен презрения и скуки. Он смотрит на своего спутника так, как будто его нос учуял какой-то неприятный запах, потом оборачивается к ребятишкам и улыбается.
Я наблюдаю за тем, что происходит дальше, словно бы со стороны, вижу, как я открываю рюкзак и вышвыриваю из него вещи. Слова, бессвязные и бессмысленные, срываются у меня с языка, как будто их тоже выдергивают у меня изо рта и швыряют на землю.
— Ты думаешь, мне доставляет удовольствие ходить с тобой? Нет, не доставляет. Можешь ходить один. Отныне ты один! Слышишь меня? Как ты смеешь так обращаться со мной! На вот бери, тебе может понадобиться это. — Я бросаю емкости для бензина, скатанные постельные принадлежности, ножи, вилки, рулоны туалетной бумаги, банки консервов. — И это, и это, и это.
Предметы летят, со стуком падая на землю. Райнер наблюдает за этим с отчужденным любопытством, мол, Господи, ты только посмотри на это безумие, как огорчительно. Он не шевелится. Как будто он ждал этого момента с самого начала путешествия, хотя, возможно, это самое худшее из того, что он ожидал.
Приступ неистовства кончается, он застегивает рюкзак, взваливает его на спину и трогается в путь. Трудно поверить, что он это делает, где-то в глубине души он хочет, чтобы его окликнули, поэтому, услышав голос Райнера, останавливается.
— Эй!
Он оборачивается. Райнер направляется к нему. Если он произнесет хотя бы одно слово извинения, если выкажет хотя бы малейший признак раскаяния, я смягчусь. Но Райнер слишком непреклонен и слишком горд. Правда, то, что он делает, в некотором роде более чем странно.
— Вот, — говорит он, — это тебе понадобится, — и протягивает банкноту в пятьдесят рандов.
У него нет собственных денег, ни цента, но в своей ярости он был готов уйти без денег и даже теперь колеблется. Однако рука протягивается сама собой, он берет деньги.
— До свидания.
— До свидания.
Или никакого прощания не было, ничего не было сказано? Да, это больше похоже на правду. Они обмениваются последним взглядом и поворачиваются спиной друг к другу. Он начинает шагать в направлении, которое, как он надеется, является востоком. Добравшись до вершины, оглядывается. Райнер уже собрал разбросанные вещи и двигается в противоположном направлении, на запад.
Так однажды утром, высоко в горах, под взглядами ребятишек, они расходятся.
Полчаса спустя его начинает одолевать раскаяние. Он действовал под влиянием эмоций, не подумав, несправедливо было вот так бросать человека. Но тут же внутри начинают звучать голоса, которые возражают: а что еще можно было сделать, Райнер заслужил, чтобы его бросили. Он останавливается, садится и, обхватив голову руками, размышляет, пытаясь оценить свои возможности. Но какой в этом смысл? Даже если он попытается догнать Райнера, в этих горах невозможно узнать, где он сейчас находится, и даже если удастся найти его, какова вероятность того, что их конфликт можно разрешить. Глубоко внутри он уверен, что Райнер не простит.
Он взваливает рюкзак на плечи и продолжает путь, теперь с менее тяжелым грузом, продвигаясь быстрее, чем в предыдущие дни. Он идет на восток, желая вернуться в Симонконг. В каждом населенном пункте, магазине или деревушке он останавливается и спрашивает дорогу, и неизменно находится человек, который знает ее. В одном месте безмятежный юноша в синем комбинезоне настаивает на том, чтобы проводить его, и на протяжении многих миль молча шагает рядом, лишь робко улыбаясь в ответ на любой вопрос. Он приводит его к входу в ущелье, которое прорезает горный хребет. Указывая на сбегающую вниз тропу и улыбаясь, он говорит, что это дорога на Симонконг.
У него нет денег, чтобы дать парню, лишь пятидесятирандовая банкнота, но молодой человек, судя по всему, не ждет платы, он с радостью принимает рукопожатие и смотрит вслед необычному страннику. Скальные стены все выше вырастают с обеих сторон, ущелье кажется безлюдным, но вскоре пастух, невидимый где-то в вышине, окликает его теми же механически затверженными в школе фразами, какие он слышал прежде: привет привет как поживаете. Он всматривается, но ничего не видит. А с гор сюрреалистическим эхом скатывается: привет я люблю вас я люблю вас я люблю вас привет.
Расспрашивая и плутая, он к вечеру все же добирается до Симонконга. Это достижение — двухдневный путь он проделал за один день. Вероятно, сегодняшняя дорога была более прямой, да и поклажа более легкая. В кемпинге толстяк Джон, похоже, смущен тем, что видит его снова так скоро.
— Разве вы не ушли два дня назад? А где другой парень, немец?
— Мы поссорились в горах и расстались.
Джон разрешает ему переночевать в кемпинге за полцены, он услужлив, но подозрителен — может, этот человек убил своего спутника там, в горах. Однако утром он приходит.
— Видите вон ту девочку, она сегодня едет на машине в Масеру? Хотите, она вас подбросит?
Девочка оказывается женщиной лет двадцати пяти, американкой, работающей в Лесото по какой-то благотворительной программе. По выражению ее лица видно, что она не горит желанием помочь, но соглашается. Ему придется ехать в кузове вместе с несколькими ее коллегами и кучей ящиков, которые она должна куда-то доставить. Да, да, конечно, как скажете, все замечательно. Он вместе с остальными забирается в кузов и всю дорогу слушает, как они перебраниваются и ссорятся по пустякам друг с другом. По определенным ноткам в их голосах можно понять, что они слишком много времени провели вместе, что им пора возвращаться домой.
Сегодня он и сам чувствует себя потрясенным и опустошенным, не может поверить в то, что все так быстро кончилось, мысленно снова и снова проигрывает вчерашнюю сцену. Он перестает прислушиваться к разговорам попутчиков и сосредоточивается на видах, проплывающих мимо. Ему странно в обратном порядке обозревать панораму долгого пути, который они проделали за столько дней. Вот место, где мы устраивали привал, вот здесь я увидел лошадь, а здесь мы вернулись на дорогу.
Поздним утром они прибывают в Рому.
Это здесь надо выгрузить ящики. Вместе с остальными он идет к баракам, где они останавливались, помогает перенести ящики и ждет в тени, когда его попутчики покончат с другими своими делами. Он знает, что они считают его странным, необщительным, его молчаливость кажется им эксцентричной, но он не умеет включаться в обычные социальные группы, он одиночка.
Минуют часы, прежде чем они снова пускаются в путь. Еще час или около того они добираются до Масеру. Женщина высаживает его на окраине города, потому что едет куда-то еще и не собирается подвозить его дальше, но он рассыпается в благодарностях. До свидания, до свидания. Затем, закинув на спину рюкзак, снова пешком проходит всю бесконечную главную улицу.
К тому времени, когда он минует оба пограничных кордона, день клонится к вечеру. Теперь он вдруг оказывается отброшенным назад, в физическую реальность ситуации, которая отнюдь не благоволит ему. Вчера в какой-то момент он решил ехать на север, в Преторию, где живет его мать, потому что это ближе и туда удобнее добираться, чем до Кейптауна. Но сейчас, когда он стоит на обочине дороги и видит перед собой опускающееся к горизонту красное солнце, ему все равно, куда ехать. Двадцать рандов он истратил на кемпинг и еду. Чтобы проделать необходимые шестьсот километров, у него осталось тридцать. А тут не благословенное безлюдье лесотского пейзажа, это приграничная зона, мимо без конца мчатся машины и микроавтобусы, потоки людей движутся по дороге в обоих направлениях, здесь он являет собой странную одинокую фигуру, уязвимую в своем одиночестве. Он почти ждет, что вдруг появится Райнер.
Он пытается поймать попутку, но никто не останавливается. Чернокожие водители, которых не много, в любом случае на него даже не смотрят, но и белые семьи, пары или одинокие женщины с высокими прическами, обвешанные драгоценностями и направляющиеся из Блумфонтейна в разные казино, чтобы провести там одну-две бурные ночи, проезжают мимо, глядя недоверчиво или презрительно. Разумеется, он кажется им грязным и неопрятным и выглядит не так, как они, — его окружает ореол опасности. К тому времени, когда на землю опускаются сумерки и становится холодно, отчаяние обволакивает его, словно еще один слой одежды. Устроиться на ночлег здесь негде, безопасного места, чтобы разбить палатку, нет. Он мог бы перейти границу обратно, если бы в этом был смысл, но на той стороне он будет так же одинок, как здесь.
Когда темнота становится почти непроглядной, мимо проезжает микроавтобус-такси, водитель из окна выкрикивает пункт назначения: Йо’бург, Йо’бург. Йоханнесбург расположен недалеко от Претории, там у него есть друзья, у которых можно остановиться, это не хуже, чем ехать домой, и он кричит:
— Да, пожалуйста, да.
Водитель оглядывает его и останавливается.
— Сколько?
— Семьдесят рандов.
— У меня только тридцать.
Водитель качает головой:
— Ничем не могу помочь.
— Прошу вас!
— Извините.
Шофер уже выжимает сцепление, чтобы ехать дальше, но тут я спрашиваю, не возьмет ли он в придачу к тридцати рандам мои часы.
Водитель снова смотрит на этого сумасшедшего белого и протягивает руку. Он снимает часы и передает их через окно. Есть подозрение, что водитель просто рванет с места, но тот разглядывает часы, пожимает плечами и соглашается.
Микроавтобус пуст, но водитель, которого зовут Пол, проехав немного вперед, останавливается у большого засохшего дерева, под которым ждут другие пассажиры. Он единственный белый среди них. Это такси не похоже на те междугородные, к которым он привык, где все сидят вперемешку и ведут себя по-компанейски. Здесь он чужой, никто с ним не разговаривает. Но Пол проникается к нему симпатией — идите садитесь тут, впереди. Сквозь нескончаемый дождь дорога, синяя и дикая, несется им навстречу.
В полночь он выбирается из микроавтобуса в Йоханнесбурге в районе Хилброу, городские огни напоминают полыхающее вокруг холодное желтое пламя. Он за руку прощается с Полом, который тут же отправляется обратно, в Лесото, чтобы взять следующую партию пассажиров. Он смотрит вслед исчезающему микроавтобусу, задние габаритные огни которого сливаются с другими редкими движущимися огнями. Его попутчики расходятся в разных направлениях, смешиваются с толпой. Ненадолго совпав, их жизненные пути снова расходятся.
В Претории он проводит несколько недель. О Райнере вспоминает лишь изредка. Иногда задумывается о том, где он и чем занимается. Предполагает, что Райнер скорее всего сделал то же, что и он, — быстро преодолел тяжелый путь через горы и вернулся в Кейптаун. Путешествие в Лесото они задумали и совершали вместе, наверняка он не захотел заканчивать его один.
Однажды, повинуясь импульсу, он начинает обзванивать друзей в Кейптауне. Ему хочется узнать, не видели ли они Райнера, не появлялся ли он там, не проезжал ли через город. Нет, никто его не видел, никто ничего о нем не слышал. Но что случилось, что пошло не так? Он пытается объяснить, слова путаются и застывают на языке. До той поры он по-настоящему не испытывал уколов совести, но теперь, почувствовав по голосу одного из друзей, что тот не верит в случившееся, начинает их испытывать. Неужели ты это сделал, бросил его одного в горах? Да, именно так, но ты не понимаешь. Да, именно так и было. Теперь он чувствует изощренные муки неуверенности. Что, если вина не была взаимной, как он это себе воображал, а виноват только он? Если бы я сделал то, если бы сказал это. В конце концов, мы всегда больше терзаемся тем, чего не сделали, чем тем, что сделали. Действию совершённому со временем всегда можно дать разумное объяснение, что касается действия несовершенного, то кажется, что оно могло бы изменить мир.
Спустя месяц он возвращается в Кейптаун. Своего дома у него нет, он снова должен искать пристанище. А пока живет у разных друзей, в свободных комнатах, переезжая с места на место. Его внимание переключается с недавних событий на сегодняшние проблемы. Теперь он не так часто думает о Райнере. Наверное, к настоящему времени тот вернулся в Германию, ведет там жизнь, которую всегда старался сохранить в тайне, и возненавидел его навсегда.
Райнер возникает неожиданно, в какой-то случайный день. Все то время, пока он оставался в Претории и потом пытался заново устроиться в Кейптауне, Райнер был в Лесото, храня верность замыслу. Он сильно похудел, одежда висит на нем, он ослабел и изнурен. Говорит, что все время ходил, хотя, где именно ходил и что делал, никто никогда не узнал.
И даже это немногое доходит через вторые руки. Перед отъездом в Лесото он познакомил Райнера с другом, жившим с ним в одном доме. Именно этот друг позвонил сообщить, что накануне Райнер появился у него, выглядит он ужасно, изможден и ему некуда идти. Райнер спросил, нельзя ли ему остаться на неделю, чтобы дождаться своего рейса. Друг, разумеется, согласился, ведь речь шла всего о нескольких днях.
Он задерживается на три месяца. Спит на кушетке в холле, не выходит из дома, а поначалу и по квартире почти не передвигается. Он в очень плохом состоянии. У него проявляются тревожные симптомы разных болезней — очень высокая температура, воспалены гланды, язык поражен какой-то грибковой инфекцией. Друг показывает его двум врачам, которые прописывают антибиотики. Но болезни не отступают, а Райнер не обнаруживает никакого интереса к жизни.
Все это он узнает от друга, по телефону или при личных встречах. За все то время, что Райнер там, он ни разу не заходит к другу, ему не хочется видеть Райнера, он не желает с ним разговаривать. По правде говоря, он шокирован его новым появлением, в душе он уже отодвинул этот эпизод своей жизни в прошлое, ему кажется, что возвращение Райнера направлено персонально против него. Но его столь близкое присутствие завораживает, он постоянно расспрашивает о нем, ему хочется знать, что с ним случилось после их расставания. Он узнает от друга, что Райнер также интересуется им. Спрашивает, где я был, где нахожусь сейчас. Иногда бранит меня. Почему, хочет знать Райнер, почему он так стремительно ушел? Между нами все было так хорошо, что ему взбрело в голову?
Он ловит себя на том, что в нем поднимается чувство протеста. Райнер знает, почему это случилось! Друг слушает его рассказ сочувственно, но в его взгляде сомнение, по этому взгляду можно догадаться, что от Райнера он слышал иную версию случившегося. Два рассказа противоречат друг другу. Ему хочется спорить и объяснять, пока другой рассказ не будет признан нереальным.
Иногда кажется, что Райнер не уедет никогда. Что он оккупировал кушетку в углу холла так же, как угол в его жизни, навечно. Но в конце концов ему удается собраться с силами. Он отчасти стряхивает с себя болезнь, начинает нормально есть, понемногу набирает вес. Проходит еще какое-то время, и он уже передвигается по квартире и выходит на улицу. Затем неким загадочным образом из-за океана ему приходят деньги, и он называет точную дату своего отъезда.
На протяжении всего этого времени он прилагает большие усилия, чтобы избегать Райнера. Но два раза они случайно встречаются. Первая встреча происходит в самый обычный день в самом что ни на есть обычном месте. К тому времени он уже переехал в отдельную квартиру, неподалеку оттуда, где обретался Райнер. Однажды утром он идет в ближайшее почтовое отделение, чтобы отправить несколько писем, и, подходя к двери, вдруг испытывает отчетливое ощущение, что Райнер внутри. Не входи! Он там. Он застывает на месте, но ему хочется знать, не обмануло ли его предчувствие. Разумеется, он входит, и они впервые за несколько месяцев видят друг друга. Райнер стоит в очереди, ждет, и после секундного колебания он тоже становится в конец очереди. Сердце у него колотится, ладони потеют. Очередь заворачивается на сто восемьдесят градусов, и Райнер оказывается на противоположной стороне. Шаг за шагом они двигаются навстречу друг другу. Шаг, еще шаг, еще. Когда следующий человек отойдет от окошка, они окажутся рядом, на расстоянии вытянутой руки, так же близко, как тогда, когда лежали в палатке. Ему хочется убежать, но он не смеет. И тут Райнер разворачивается на каблуках, перешагивает через веревочное ограждение и выходит.
Я дрожу от странного ощущения победы.
Вторая, и последняя встреча происходит через несколько недель, вечером, на улице. Навестив друзей, он возвращается домой. Проходя вдоль длинной изогнутой стены, замечает двух человек, идущих навстречу, и понимает, что один из них, тот, что ближе к нему, это Райнер. Он с неизвестной ему женщиной. Женщина что-то рассказывает, поглощенная собственной речью, Райнер слушает, но когда поворачивает голову и видит его, испытывает шок. Если бы они были одни, возможно кто-то из них, вероятно, перешел бы на другую сторону, чтобы избежать встречи. А может быть, на этот раз они остановились бы и поговорили? О, привет. Привет, как поживаешь? Но присутствие незнакомой женщины создает дистанцию между ними и заставляет хранить молчание, они лишь наблюдают друг за другом, медленно сближаясь по изогнутой траектории. Когда они оказываются рядом, уголки губ Райнера приподнимаются, на лице непроницаемая маска. Это та самая его сардоническая улыбка, которая, ничего не говоря, говорит обо всем. Они проходят мимо друг друга. Он не оглядывается и почти уверен, что не оглядывается и Райнер.
Райнер отбывает. Друг звонит и сообщает, что тот улетел накануне вечером. Эта единственная фраза кладет конец всей истории. Но он ждет, что события получат какое-нибудь развитие, сам не знает какое — телефонный звонок, письмо, что-нибудь разрешающее ситуацию. И это несмотря на то что сам он не желает ничего предпринимать, чтобы наладить контакт. А потом в какой-то момент понимает, что молчание, состояние подвешенности и есть единственное возможное разрешение этой конкретной истории.
Вероятно, когда два человека встречаются впервые, все возможные варианты судьбы уже заложены в сочетании их характеров. Вот эти двое соединятся, а этих двоих оттолкнет друг от друга, большинство же вежливо разминутся, отведя взгляд, и поспешат вперед каждый сам по себе. Было ли то, что произошло между ним и Райнером, любовью или ненавистью? Или это было нечто другое, имеющее другое название. Я не знаю. Но вот как это кончается. Спустя какое-то время, очищая письменный стол перед очередным переездом, он находит записную книжку, в которой Райнер написал ему свое имя и адрес несколько лет назад в Греции. Задержавшись взглядом на мелком плотном почерке, он выбрасывает книжку. Потом вынимает из нижнего ящика толстую пачку писем Райнера и тоже выбрасывает в корзину. Это не месть, и ничто за этим не последует. Он почти не вспоминает о Райнере, а когда вспоминает, то без всякого сожаления, и все же иногда случается: бредя в одиночестве по сельской дороге, он чувствует, что нисколько не удивился бы, увидев вдали темную фигуру, направляющуюся ему навстречу.
Часть вторая
ЛЮБОВНИК
Несколько лет спустя он странствует по Зимбабве. Никакой определенной причины или осознанного намерения побывать здесь у него не было. Однажды утром он импульсивно решает уехать, днем покупает билет на автобус и вечером садится в него. Он собирается попутешествовать недели две и вернуться. Что он ищет, он и сам не знает.
Теперь, по прошествии времени, я уже не могу вспомнить, о чем думал тогда, тем не менее могу объяснить его побуждения лучше, чем свои сегодняшние, он продолжает жить где-то у меня под кожей. Его жизнь ничем не обременена и лишена центра тяжести, он чувствует, что его может сдуть, словно ветром, в любой момент. Он так и не обзавелся домом. Последние месяцы он провел, переезжая из одной свободной комнаты в другую. Теперь все его немногочисленные пожитки снова на складе камеры хранения. Ему начинает казаться, что по-иному он никогда и не жил и никогда нигде так и не осядет. Что-то в нем изменилось, он не может толком установить связь с миром. Он не винит в этом мир, он считает это следствием тотальных неполадок в себе самом, ему хочется изменить такое положение, но он не знает, как это сделать. В моменты просветления он думает, что утратил способность любить людей, места или вещи, главным образом человека, какового воплощает он сам. Без любви ничто не имеет ценности, ничто не может обрести большого значения.
В подобном состоянии путешествие не доставляет никакой радости, а является чем-то вроде тризны и способом рассеяться. Он скитается с места на место, ведомый отнюдь не любопытством, а невыносимостью пребывания в одном месте. Несколько дней он проводит в Хараре, потом едет в Булавайо. Он делает все, что положено делать путешественникам, — отправляется в национальный парк Матопос, посещает могилу Сесила Джона Родса[5], но не способен испытать ни должного трепета, ни идеологического презрения, он предпочел бы находиться в каком-нибудь другом месте. Если бы я был с кем-нибудь, размышляет он, с кем-нибудь, кого любил бы, тогда мог бы полюбить и это место, и даже могилу, я радовался бы тому, что оказался здесь.
Он садится в ночной поезд до водопада Виктория. Лежа на своей полке, прислушивается к дыханию незнакомых людей, окружающих его. В окне он видит деревни и горные выработки, выплывающие из темноты, силуэты людей, домашних животных и деревьев, проявляющиеся в свете одиноких фонарей и снова уплывающие в темноту, в прошлое. В подобные моменты он чувствует себя лучше всего — наблюдатель, прячущийся в тени. Он не хочет, чтобы вставало солнце и кончалась эта конкретная поездка.
Утром они прибывают на конечную станцию. Он выходит из поезда с единственной сумкой и направляется в кемпинг. Несмотря на ранний час, воздух тяжел и влажен, листва на деревьях искрится и сияет, словно обсыпана бриллиантами. Вокруг много других путешественников, большинство из них моложе его. Он расставляет палатку в центре лагеря и идет смотреть на водопад.
Трудно поверить собственным глазам, когда видишь эту массу и эту мощь воды, бесконечно низвергающейся в бездну, но какая-то часть его словно бы находится в другом месте, где-то выше и правее, и под углом глядит вниз не только на водопад, но и на него самого, стоящего в толпе. Эта часть его сознания, наблюдающая со стороны, живет в нем уже давно, она никогда, в сущности, не исчезает и в течение нескольких следующих дней следит за тем, как он шагает по улицам из одного сувенирного магазина в другой, совершает длительные походы по окрестностям, с удивлением наблюдает, как он сплавляется через бурлящие белой пеной речные пороги, как по ночам, спасаясь от жары, лежит на открытом воздухе рядом с палаткой, уставившись в небо, напоминающее разбитое ветровое стекло автомобиля. И хотя с виду он кажется довольным, хотя разговаривает с людьми и улыбается, ту часть себя, которая наблюдает за ним со стороны, ему не обмануть, она знает, что ему необходимо двигаться дальше.
На третий или четвертый день он идет поплавать в одном из гостиничных бассейнов. Потом садится выпить за столик возле бара, и постепенно его внимание привлекает группа расположившихся неподалеку молодых людей. Они все с рюкзаками, видимо, собираются отбывать. Компания разношерстная, они еще не освоились друг с другом и испытывают неловкость: пухлый англичанин со своей девушкой, блондин-датчанин, две совсем молоденькие женщины, молча жмущиеся друг к другу. Он узнает дородную ирландку, с которой за два дня до того сплавлялся по реке, и подходит поздороваться.
— Куда вы все собираетесь?
— В Малави. В Зимбабве мы проездом. — Вероятно, она замечает что-то в его лице, потому что после короткой паузы спрашивает: — Не хотите ли с нами?
Он размышляет несколько секунд, потом говорит:
— Сейчас вернусь.
Как сумасшедший, он выбегает из отеля, мчится в кемпинг, сворачивает палатку. По возвращении с бьющимся сердцем сидит вместе со своими новыми спутниками, нервничая и терзаясь сомнениями. Вскоре появляется человек, которого они ждут, австралиец по имени Ричард, и они начинают собираться. Он уже понял, что эти люди едва знакомы друг с другом, объединились случайно, для безопасности путешествия. Отсюда и неловкость. Он ничего не имеет против, в сущности, такая атмосфера ему подходит, у него нет потребности влиться в коллектив. Вместе с остальными он забрасывает свою сумку в багажное отделение открытого микроавтобуса и забирается наверх. Компания наняла кого-то, чтобы ее перевезли до вокзала.
Когда они прибывают на вокзал, уже начинает темнеть. Они припозднились, за билетами выстроилась длинная очередь, и им удается купить места только в переполненный вагон третьего класса, в котором разбиты все лампы. Поезд дергается и начинает движение прежде, чем им удается рассесться.
Всегда бывает момент, с которого путешествие начинается по-настоящему. Иногда он наступает в ту минуту, когда вы выходите из дома, иногда когда находитесь от него уже далеко.
В темноте раздается звон разбитого стекла и громкий крик. После отхода поезда прошло около часа, в вагоне кромешная тьма, но теперь кто-то зажигает спичку. В ее слабеньком свете он видит ужасную сцену: на одном из сидений, чуть поодаль, корчится мужчина с окровавленным лицом, кровь и на полу у его ног. Свет гаснет.
— Что случилось? — спрашивает его ирландка.
— Кто-то бросил камень в окно поезда.
И почти сразу же все повторяется, звон стекла, крик, но на сей раз никто не пострадал, кричат от испуга. Им всем страшно, и не зря, потому что каждый раз, когда поезд проезжает какой-нибудь город или селение, раздаются звон, крик или глухой удар камня о внешнюю стену поезда.
Все сидят, склонившись вперед, прикрывая руками головы.
Ближе к ночи испытание кончается.
Страх отпускает, и люди, которые в иных обстоятельствах не сказали бы друг другу ни слова, пускаются в разговоры. Кто-то вынимает из багажа бинты, чтобы сделать повязки раненым. В дальнем конце вагона сидят три женщины с грудными детьми, их окно разбито, и ветер задувает внутрь. Вы не возражаете, если мы сядем рядом с вами? Конечно, нет. Он сидит вместе с ирландкой, остальные устроились где-то в других местах, они с ирландкой сдвигаются, чтобы освободить место. Теперь темнота пахнет теплом и молоком, из нее доносится причмокивание и гуление. Женщины едут в Лусаку на церковное собрание по вопросу женской эмансипации, мужей они оставили дома, но у двух из них на руках грудные младенцы, а у третьей тройня. Она сидит напротив, в проплывающем за окном свете фонарей он может разглядеть ее лицо. Затем разворачивается фантастический сценарий. Тройняшки одеты абсолютно одинаково, в белые костюмчики кроликов, она начинает кормить их грудью, причем первых двух одновременно. Третьего она уже вручила ему. Вы не возражаете? Нет, конечно. Теперь он держит в руках урчащий груз. Время от времени она меняет кроликов, он отдает ей одного и взамен получает другого, точно такого же. Кажется, что это продолжается несколько часов. Иногда один из ее сосков выскальзывает из маленьких губ, младенец начинает плакать, тогда ирландка наклоняется и вновь прикладывает младенца к материнской груди. Причмокивание возобновляется. Женщины тихо переговариваются с белыми пассажирами и между собой или распевают гимны.
На следующее утро голова у него раскалывается от усталости и причудливых образов. Лусака под холодно-красным рассветным небом являет собой еще одну сюрреалистическую картину — скопления лачуг между высокими домами, белая жесть, пластмасса и картон, окруженные кирпичом и стеклом. В толпе они выбираются на перрон. Попрощавшись с ними, три женщины с выводком младенцев отправляются обсуждать проблемы своего освобождения. Ожидая, когда соберется их маленькая группа, он смотрит в сторону и видит, как из вагона второго класса выходит другая маленькая группа белых путешественников. Их трое, женщина и двое мужчин. Он наблюдает за ними, но толпа вокруг сгущается, закрывая обзор.
Они идут на автостанцию по улицам, наполненным ранним светом и хаотично носящимся в воздухе мусором. У кого-то имеется карта, и он знает, куда идти. Даже в этот час, в пять или шесть утра, на улицах полно праздно глазеющих зевак. Для них они представляют собой объект скабрезного любопытства, он рад, что здесь не один. На одном из углов гигантский бородатый мужчина выходит вперед и с нарочитым безразличием, с каким можно взвешивать фрукты, хватает ирландку за грудь. Она бьет его по руке.
— Тут тебе не Америка, — кричит им вслед мужчина, — я вас всех имел.
Автостанция представляет собой бессистемное скопление машин и людей под металлической крышей, но в конце концов они находят свой автобус. Когда они забираются в него, первое, что он видит, это те белые путешественники с поезда, сидящие рядком, очень тихо, и глядящие прямо перед собой. Когда он проходит мимо, они не поворачивают головы. Женщина и один из мужчин молоды, им по двадцать с небольшим, второй мужчина постарше, вероятно, его ровесник. Он проходит мимо и занимает место в последнем ряду. Остальные рассаживаются кто где может. Он мало общается и разговаривает с ними, в настоящий момент его больше интересуют трое путешественников, сидящие впереди, через несколько рядов. Он видит их затылки. Кто они, что здесь делают и насколько близки между собой?
Дорога до границы занимает восемь часов. Они выходят из автобуса на главной площади маленького городка, где таксисты наперебой крикливо предлагают доставить их до пограничного пункта. Пока они торгуются с водителями, он уголком глаза замечает, как трое путешественников садятся в отдельную машину и отъезжают. Когда его группа появляется на пограничном пункте, их там нет, должно быть, уже прошли контроль. После долгого ожидания в тесной толпе они получают свои проштампованные паспорта, и такси везет их дальше, через десятикилометровую или около того зону ничейной земли. Начинает темнеть.
Он входит в малавийский пограничный пункт, белое строение, расположившееся под деревьями, в тот момент, когда служащий в форме кричит на трех смущенных путешественников:
— Вы должны иметь визу, у вас должна быть виза.
Старший из мужчин, тот, что одного с ним возраста, пытается объяснить. У него правильный английский, но говорит он с запинками и сильным акцентом.
— Так нам сказали в посольстве, — говорит он.
— В посольстве вас ввели в заблуждение, — кричит служащий в форме, — вы должны были получить визу.
— Но что нам теперь делать?
— Возвращайтесь в Лусаку.
Трое совещаются между собой.
Служащий теряет к ним интерес и оборачивается к вновь прибывшим:
— Ваши паспорта.
Южноафриканцам виза не нужна, служащий штампует их паспорта и после секундной паузы возвращается к тем троим.
— Вы откуда?
— Я француз. — Это говорит старший мужчина. — А они из Швейцарии. — Он указывает на своих спутников, чьи лица теперь словно маски, они ничего не понимают или не желают говорить.
— Хотите, я поговорю с ним вместо вас?
— Нет. Все в порядке. Спасибо, — у француза густые вьющиеся волосы, круглые очки и серьезное выражение лица, бесстрастное или, возможно, просто смирившееся. Более молодой мужчина одарен почти шокирующей красотой: красные губы, высокие скулы, длинная челка. Его карие глаза избегают встречи с моими.
— Что вы теперь будете делать? — спрашиваю я француза.
— Не знаю. — Он пожимает плечами.
Несколько дней его группа изнемогает в Лилонгве, безликом городке, полном белых экспатриантов и палисандровых деревьев, пытаясь как-то убить время, пока кто-то из них старается организовать визы, чтобы уехать в какое-нибудь другое место. Ему скучно, он разочарован, а товарищи по группе начинают его раздражать. Они с полным удовольствием часами сидят без дела, попивая пиво, вечерами слоняются по городу в поисках громкой музыки, а некоторые демонстрируют высокомерное презрение к нищете, которая их окружает. Особенно две молодые женщины, оказавшиеся шведками, которые нарушили свое молчание и громогласно обсуждают кошмарную поездку через Замбию. Скалы, о, это было просто ужасно. Автобусная станция, о, там была такая грязь и такая вонь. Фу, мерзость. Словно недостатки и убожество континента доставили неудобства и разочарование персонально им. Похоже, им в голову не приходит, что условия, которые они нашли столь ужасными и отвратительными, не являются частью декорации, которая будет убрана, как только они покинут сцену.
Но ситуация немного выправляется, когда они отправляются к озеру. Это цель, которую он держал в голове с тех пор, как покинул Зимбабве. Все, что он когда-либо слышал о Малави, это то, что почти половину этой страны покрывает длинный водный массив.
Он видит себя несколькими днями позднее в Кейп-Маклире стоящим на берегу и глядящим на озеро в изумлении, словно не может поверить в существование такой красоты. Свет играет на отражающей его поверхности, белокурые горы кажутся почти бесцветными по сравнению с густой синевой воды, кучка островов виднеется в километре от берега. Мимо проплывает деревянное каноэ, своими совершенными контурами напоминающее иероглиф.
С каждым днем его восхищение лишь возрастает. Вода гладкая и теплая, в ней приятно плавать, под поверхностью стаи ярких разноцветных тропических рыб, делать нечего, кроме как греться на солнышке, лежа на песке, и наблюдать, как рыбаки чинят сети. Все здесь происходит неспешно, размеренно, тишину изредка нарушает лишь звук мотора случайной машины, доносящийся с грунтовки, что пролегает подальше от берега.
Даже местные жители занимают свое законное место в этой версии рая, они с радостью бросают все дела, если их зовут приезжие иностранцы, и везут их на рыбалку или по вечерам готовят для них еду на берегу и убирают за ними, когда те уходят. Они охотно довезут вас на лодке до островов за ничтожную плату, равняющуюся стоимости стакана прохладительного напитка, или пробегут несколько миль по горячему песку, чтобы привести вам знаменитого малавийского коба[6], и даже вырежут для вас из дерева трубку, чтобы вы покурили ее дома. А когда в них нет нужды, они просто сливаются с окружающим пейзажем, возвращаясь к своим повседневным обязанностям и обозначая свое присутствие лишь мирным дымком, вьющимся над хижинами, в которых они живут.
Лишь человек холодный и твердокаменный сердцем не поддастся таким искушениям. Идея путешествия, ухода — это попытка обмануть время, попытка, большей частью тщетная, но только не здесь, где тихие волны набегают на берег также, как набегали испокон веков, где ритмы повседневной жизни диктуются общими ритмами природы, например восходами и заходами солнца и луны, где осталось что-то от мифологического места, существовавшего до того, как история пришла в движение и начала тикать, словно бомба с часовым механизмом. Кажется, что здесь ее легко остановить и больше не приводить в движение. И действительно, многие именно так и поступают. Стоит совершить небольшую прогулку, и вы увидите там и сям на берегу группы людей, которые не двигаются с места месяцами. Поговорите с ними, и они расскажут вам о себе: Шила из Бристоля, Юрген из Штутгарта, Шломо из Тель-Авива… Они живут здесь уже полгода, год, два… У всех них вид людей, пребывающих в летаргии или под кайфом. Это лучшее в мире место, оставайтесь! Сами увидите, здесь можно жить почти задаром, на те гроши, что вам изредка присылают из дому. Мы, конечно, когда-нибудь вернемся, но еще не сейчас.
И спустя день, два, три начинает сказываться мощное действие инерции, уже кажется, что усилие, требуемое для пути от своей комнаты до воды, это предел того, на что ты способен. Плавать, спать, курить. Люди, с которыми он сюда приехал, не могут поверить в свою удачу. Для них это и есть настоящая Африка, та, искать которую они и прибыли из Европы, а не та фальшивая и дорогая, какую преподносят на водопаде Виктория, или опасная, пугающая, которая пыталась причинить им вред, когда они ехали на поезде. В этом же месте каждый из них пребывает в центре Вселенной и в то же время нигде. Безусловно, именно это и означает духовную полноту — они переживают некий религиозный опыт.
Поначалу и он принимает в этом участие. Посмотрите на него, вот он лежит на пляже, потом встает, бредет к воде поплавать. Позднее, когда становится слишком жарко, возвращается в свою комнату поспать или укрывается в баре, чтобы выпить. Когда собравшиеся там начинают балдеть, передавая сигарету по кругу, он попыхивает вместе со всеми, лицо его расслабляется, на нем появляется та же одурманенная улыбка, от которой все вокруг выглядят глуповато. Он предается гедонизму наравне с остальными. Ближе к вечеру в компании болтающих и смеющихся как старые друзья спутников идет на вырубку за деревней, где какой-нибудь бородатый бродячий хиппи предлагает им полетать на планере на закате. Хотя ему не хочется летать, он видит, как парит в долгом извилистом, петляющем круизе над озером Ричард, и состояние приятной подвешенности в маленьком воздушном аппарате придает ему в последних лучах света некую нереальную невесомость.
Но правда в том, что даже в самые первые дни такого сибаритства ему не дает покоя червячок непоседливости, который живет в нем постоянно. Никакая жара и никакое количество марихуаны не могут полностью подавить его беспокойство. Он стоит особняком от группы, он наблюдатель. Они уже достаточно много времени провели вместе, чтобы между ними установились и развились приятельские связи. У всех появились клички, все много шутят и смеются. Между Ричардом и ирландкой вспыхнул роман, однажды вечером на пляже он замечает, как они все ближе придвигаются друг к другу, искоса наблюдают друг за другом и обмениваются игривыми улыбками, а вскоре удаляются в расположенную ближе других к берегу комнату Ричарда, после чего появляются вновь, лучезарно сияя. Все это трогательно и радостно, но он здесь лишний, он держит дистанцию между собой и остальными, несмотря на все их дружелюбие. Однажды, когда все направляются на берег, он слышит у себя за спиной, как одна из шведок спрашивает датчанина: нравится вам Южная Африка? А тот отвечает, страна была бы прекрасной, если бы только южноафриканцы не были такими задницами. Тут все вспоминают о его присутствии, и воцаряется тишина. Из всей компании только он один улыбается, правда внутренне.
Однажды кому-то из них приходит в голову замечательная идея: давайте наймем лодку и на весь день отправимся вон на тот остров. Одного из местных жителей подряжают доставить их туда за небольшую плату, причем толстый англичанин еще и торгуется с ним, чтобы тот разрешил им пользоваться для подводного плавания своей маской, ластами и дыхательной трубкой. Это были вещи из того немногого, чем владел абориген. По дороге на остров он рассказал о том, что копит деньги, чтобы поступить в медицинский институт, хочет стать врачом. Это был молодой человек двадцати трех лет от роду, с широким приветливым лицом и телом, коричневым и упругим от рыбалки, которой он зарабатывал на жизнь. Никому другому из их компании не было интересно разговаривать с ним, поэтому только мне, уже на острове, он рассказал, как местные жители выходят на ночной лов, проделывая на веслах много миль до глубоких вод в самом центре озера, как на носу каждой лодки горит факел, как гребут на рассвете назад, груженные пирамидами рыб.
— Не возьмете ли меня как-нибудь с собой, мне бы хотелось это увидеть.
— Да, конечно, возьму.
Сквозь стекло маски дно озера представляется поверхностью чужой планеты, на освещенной солнцем глубине гигантские глыбы громоздятся друг на друга, сияющие рыбы плавно скользят или мечутся стрелами, как птицы. День тянется долго, вяло, и все рады влезть наконец в лодку, которая доставит их обратно. Но наш кормчий озирается в тревоге. Что случилось? Нет одной ласты. Приезжие вздыхают и болтают, сидя в лодке, а я тем временем вылезаю, чтобы помочь ему в поисках. Для этого человека цена одной ласты, вероятно, равна неделе или даже двум рыболовецкого труда. Мы ищем на мелководье, в расщелинах скал.
— Поторопитесь, — сердито кричит одна из шведок, — мы же вас ждем.
Гневные слова наконец слетают с его языка.
— Вылезайте, — кричит он звенящим голосом, — вылезайте и помогайте нам искать. Это же кто-то из вас потерял ласту, мы не поплывем назад, пока не найдем ее.
Слышится недовольное ворчание: пусть, мол, он купит лодочнику новую ласту, если такой добрый. Тем не менее все высаживаются на берег и притворяются, будто что-то ищут. Наконец ласта найдена. Все снова залезают в лодку, и вскоре пустая болтовня возобновляется, но теперь он точно знает, что взрыв его гнева окончательно убедил их в том, что они подозревали с самого начала: он не такой, как они, он та самая южноафриканская задница.
Теперь что-то для него изменилось, ему становится трудно вести невинные разговоры с этими людьми. На следующий день он уходит один на долгую прогулку вдоль берега. В дальнем конце, где стоит местная деревушка и куда туристы никогда не ходят, обнаруживается скалистый мыс, и он решает, что было бы интересно перелезть через него. Но, приблизившись, видит, что люди все здесь загадили, где бы он ни попытался вскарабкаться, везде вонючие кучи и обрывки бумаги. Он представляет себе пронзительные крики шведок: о, какая мерзость. Это и впрямь мерзость, но тут ему в голову приходит другая мысль: если люди используют эти скалы в качестве туалета, то только потому, что у них нет выбора. Он спускается обратно, у него болит голова, горячий песок жжет ступни. Поблизости находится что-то вроде бухты для богатых экспатриантов, дорогие яхты вздымают свои шелковые паруса, как штандарты, но он проходит мимо и направляется в деревню. Он убеждает себя, что делает это, чтобы спрятаться в тени между хижинами, но на самом деле им руководит любопытство. На долгом обратном пути он впервые по-настоящему видит лохмотья, в которые одеты улыбающиеся дети, голые внутренности задымленных лачуг, где нет ничего, кроме двух-трех предметов сломанной мебели, тощих, как скелеты, собак, незаметно исчезающих при его приближении, и впервые дает себе труд задуматься, почему люди, живущие здесь, в своей стране, так охотно выполняют поручения проезжих иностранцев, ловят для них рыбу, готовят еду и убирают за ними. Вероятно, от жары у него очень сильно болит голова, и сквозь пелену боли прекрасный пейзаж отступает и раскалывается на отдельные фрагменты — здесь вода, там горы, еще в другом месте горизонт, — а те, в свою очередь, распадаются на свои составные части — ряд форм, структур и линий, — которые не имеют к нему никакого отношения.
Когда он возвращается, ирландка сидит во дворе на пороге своей комнаты и курит сигарету.
— Я расстроена, — говорит она ему, — я только что вышла из себя и, думаю, наговорила немного лишнего.
Человек, которому она наговорила лишнего, это работающий в пансионате старик. Она заплатила ему, чтобы он постирал ей, он постирал, развесил выстиранное на веревке, но о том, чтобы снять и сложить высохшее, не позаботился.
— Неужели я требую слишком многого? — возмущается она, а потом улыбается и спрашивает: — Я зашла слишком далеко?
Я больше не могу сдерживаться, гнев, который накануне дал лишь небольшую вспышку, теперь вырывается наружу.
— Да, — говорит он, — вы зашли слишком далеко.
Она выглядит испуганной и смущенной.
— Но почему?
— Потому что он старик, быть может, втрое старше вас. Потому что он живет здесь, это его дом, а вы лишь заезжая гостья. Потому что вам повезло иметь деньги, чтобы заплатить ему за стирку, а самой валяться на пляже. Вам следовало бы стыдиться, а не считать себя правой.
Все это он произносит, не повышая голоса, но яростно, задыхаясь, собственный гнев пугает его самого. Она моргает и, кажется, готова расплакаться. Такая ярость из-за подобного пустяка! Он же гневается не столько на нее и даже не на других членов их компании, самую отчаянную ярость он испытывает по отношению к себе самому. Он виновен не менее, чем любой из них, он тоже безразлично проходит насквозь, ему тоже повезло иметь деньги, и никакая уверенность в своей правоте не оправдывает его. После того как ирландка поспешно уходит, он садится в сумерках у входа в свою комнату, и гнев его, остужаясь, сменяется страданием. Еще прежде, чем она возвращается и сообщает, что сходила к старику и извинилась, он понимает, что чары рассеялись — он больше не может оставаться одним из этих сибаритов, ему нужно двигаться дальше, дальше.
На следующее утро он уходит рано, на рассвете. В остекленевшем воздухе все расставлено по местам и неподвижно, по ту сторону бирюзовых вод озера виднеются горы Мозамбика. От служащего пансионата накануне вечером он узнал, что сегодня утром из Обезьяньей бухты отправляется паром, который пересекает все озеро в длину. Ему это нравится, он поедет в какой-нибудь город на севере, где его никто не знает. На обочине грунтовки он ждет автобуса.
Когда он прибывает в Обезьянью бухту, паром, опасно покосившийся на один бок, уже стоит у причала. Он покупает билет до Нката-Бей[7], что на полпути к северной оконечности озера. Пассажиров немного, большей частью это местные жители с корзинами и коробками.
Когда паром отчаливает, он подходит к перилам и вскоре видит проплывающие мимо острова Кейп-Маклира. Ему приятно прохладным ранним утром оказаться на озере в одиночестве. Спустя час или около того паром опять приближается к берегу и причаливает в Салиме, одни пассажиры сходят, другие поднимаются на борт. Он ждет, когда паром снова оказывается на середине озера, и начинает осматривать его. Это отдельный маленький мир с коридорами, лестницами, со своими ограничениями, правилами и медленно растущим населением. Он останавливается понаблюдать за толпой, теснящейся у окошка, через которое раздают еду. Лица, лица, все они ему неизвестны и все сливаются в одно. Но вот взгляд в сторону, и там они — трое его попутчиков из автобуса.
— Где вы были?
Они вернулись в Лусаку за визами. Это было ужасно. Им удалось договориться с каким-то местным жителем, чтобы он подбросил их. Оказалось, что двумя днями раньше кто-то устроился в его машине на ночлег в пустыне и был в ней убит, поэтому заднее сиденье, на котором двое из путешественников вынуждены были сидеть всю долгую дорогу, было покрыто засохшей кровью. В Лусаку они прибыли во второй половине пятницы и обнаружили, что малавийское посольство закрыто до понедельника, пришлось снять комнату в отеле и ждать. Теперь у них есть визы, и они намерены добраться как можно скорее до Танзании, а оттуда на корабле или дешевом авиарейсе до Европы. Двое из них, мужчины, уже давно путешествуют по Африке, почти девять месяцев, и мечтают вернуться домой.
Все это ему выкладывают постепенно, в течение дня. Вскоре после встречи они присоединяются к нему на передней палубе. На каждой остановке паром все больше наполняется людьми, и единственный способ застолбить себе место — поставить где-нибудь свой багаж. Сидя на солнышке и праздно болтая, он выясняет, что швейцарцы близнецы. Их зовут Алис и Жером. Француз, Кристиан, единственный из них, кто свободно говорит по-английски. Через него в основном и идет общение. Он рассказывает, что с Жеромом они познакомились в Мавритании и проехали вместе через Сенегал, Гвинею и Мали до Берега Слоновой Кости, откуда перелетели в Южную Африку. Там они провели два месяца, за это время к ним присоединилась Алис, а теперь они возвращаются домой.
Жером внимательно слушает, время от времени по-французски вставляя вопрос или комментарий. Но когда я обращаюсь непосредственно к нему, лицо его напрягается от смущения и он просит помощи у других.
— Он не понимает, — говорит Кристиан. — Спрашивайте у меня.
Таким образом, вопрос Жерому приходится задавать Кристиану, который переводит его, а потом переводит мне ответ. То же самое повторяется, когда Жером спрашивает о чем-нибудь меня. Мы смотрим друг на друга, но разговариваем с Кристианом. Это придает разговору причудливую официальность, через которую не может пробиться ничего личного. Я не могу спросить то, что хотел бы спросить: каковы его отношения с Кристианом, что связывало их во время долгого путешествия по Западной Африке. Когда обмен основной информацией заканчивается, кажется, что сказать больше нечего.
В тот же день налетает ветер, и поверхность озера покрывается рябью. Потом паром начинает раскачивать, на все происходящее накладывается легкая тошнота. Когда садится солнце, внезапно становится очень холодно. На возвышенной части палубы он лежит голова к голове с Жеромом. Когда, устраиваясь на ночлег, он закатывает глаза и смотрит назад, видит Жерома тоже глядящим назад. Один застывший миг они смотрят друг другу в глаза, потом оба отворачиваются и пытаются заснуть.
На самом деле уснуть толком не удается, паром мотает из стороны в сторону, а палуба твердая и неудобная. Прямо над ними висит гигантский металлический крановый крюк, и вся его подспудная тревога сосредоточивается на этом крюке — что, если он сорвется, упадет. Он просыпается от бессвязных снов и каждый раз видит темный контур крюка, отштампованный на небе. Ночь звездная и бездонная, и в самом ее зените сконцентрировался в одну точку его страх.
Утром все с трудом поднимают свои одеревеневшие тела с палубы, зевают и трут шеи. Разговоры возобновляются очень не скоро, но даже когда все вокруг него уже галдят, он чувствует себя не расположенным к словам. Он утомлен, раздражен и с неудовольствием думает о предстоящей высадке на берег. Вскоре они причаливают в Нката-Бей. К этому времени уже начинается жара, и он не завидует им, потому что у них впереди еще долгое плавание на север, они прибудут на место только завтра. Прощаясь с ними на палубе, он на сей раз знает, что больше никогда их не увидит. В плотной толпе он сходит на берег. Судовой гудок издает скорбный рев.
Он взваливает на плечи багаж и под палящим солнцем отправляется в пансионат, находящийся в десяти километрах от города. Он приходит туда через несколько часов. Вид прелестный, цепочка коммунальных бамбуковых домишек на сваях тянется вдоль самого берега. Он раскладывает спальный мешок в одном из них, переодевается в шорты и идет плавать. Оставив полотенце у кромки воды, он уплывает далеко от берега, где волны мощные и резкие. На берег он возвращается подзаряженным и обновленным.
Жером, Алис и Кристиан, ухмыляясь, стоят возле его полотенца.
— Привет. Это снова мы.
В последний момент они передумали и решили сойти с парома, вознамерившись отдохнуть здесь день-другой, а потом продолжить путь по суше. Они поселились в наполовину скрытом деревьями бунгало на дальнем конце пляжа.
Этот день он проводит с ними на берегу. Их полотенца расстелены рядом, они курсируют до воды и обратно или нежатся на солнце. Он полностью отдается наслаждению праздностью. Невозможное для него на юге в компании других спутников становится возможным здесь, но где-то под загорелой кожей он по-прежнему ощущает тревогу. То, как эта троица таинственной нитью протянулась через все его странствие, беспокоит его, в этом угадывается даже некий замысел. Хотя это короткое воссоединение, несомненно, чистая случайность. Если бы они сняли комнату в городе, им никогда бы не встретиться вновь. А может, ему просто хочется так думать. В конце концов, человеку свойственно выискивать намеки судьбы, когда речь идет о любви или страстном желании.
Он никогда не остается наедине с Жеромом. Раз или два, когда Кристиан отправляется плавать и Алис встает, чтобы последовать за ним, кажется, что они с Жеромом останутся одни лежать на песке. Но этого не происходит. Вскоре Кристиан, притопывая и отряхиваясь от воды, возвращается и ложится на свое полотенце. Но если у него и есть какие-то притязания в отношении молодого спутника, он никак этого не показывает, более того, именно Кристиан в тот же день или на следующий предлагает ему поехать вместе с ними в Танзанию. Его спутники, похоже, были довольны этим предложением.
— Что ж, — говорит он, — может быть. Дайте мне подумать.
Подумать надо, ответ непрост. Не говоря уж о сложности ситуации, которая будет лишь усугубляться в дальнейшем, есть и практические вопросы, которые следует обдумать. Он собирался посетить лишь Зимбабве, теперь оказался в Малави. Хочется ли ему ехать дальше, в Танзанию? Пытаясь прийти к решению, он продолжает проводить время с тремя случайными спутниками на берегу озера. Это время покоя, оно соткано из тепла, движущейся воды и сыпучих песчинок, все словно замерло и в то же время течет и переливается. Единственный прочный объект в центре всего — Жером. Жером, лежащий в шортах на боку, с кожей, усеянной капельками воды, или отбрасывающий волосы со лба, или ныряющий в волны. Он больше не напрягается при общении со мной, вопросы, которыми он порой выстреливает в меня при посредничестве Кристиана, стали более личными. Чем вы занимаетесь? Где живете? Но все же он находится вне группы. В том, как эти трое разговаривают, шутят, жестикулируют, угадывается багаж личной истории, которая для него навсегда останется недоступной. Между ними случилось нечто, что невидимой нитью соединило их, частью чего он никогда не сможет стать. Даже умей он говорить по-французски, это ничего бы не изменило. Это обособляет его, заставляя одиночество отдаваться в нем высоким слабым эхом, напоминающим отголосок колокольчика.
По вечерам они ужинают вместе в ресторане на вершине холма, а затем желают друг другу спокойной ночи и расходятся каждый своей дорогой. Потом он сидит один на верхней ступеньке своего крыльца и наблюдает за длинным рядом огней на уплывших далеко от берега каноэ. Над озером сверкают молнии, словно Господь оставляет в небе свой росчерк.
На второй или, может быть, третий день вечером, когда они на берегу расходятся на ночь, Кристиан рассеянно упоминает, что они отбывают завтра утром. Они поедут на автобусе на север, до Каронги, а на следующий день доберутся до Танзании. И, словно бы случайно вспомнив, добавляет:
— Вы решили? Поедете с нами?
Он ловит себя на том, что подстраивается под его интонацию, звучание собственного голоса удивляет его отсутствием выражения.
— Пожалуй, — говорит он, — я поеду с вами. Доеду до границы, а там посмотрим, пропустят ли меня.
В толпе, ждущей автобуса на следующее утро, есть еще один белый путешественник, худой мужчина с черными волосами и неубедительными усами, в джинсах и кричаще красной рубашке. Через некоторое время он вразвалку подходит к ним:
— Куда направляетесь?
— В Танзанию.
— О, я тоже, — улыбается он из-под усов во все зубы. — Я из Сантьяго. Чили.
Они обмениваются рукопожатиями. Нового знакомого зовут Родриго, он работал в Мозамбике, теперь едет в Кению, кто-то сказал ему, что из Найроби можно улететь дешевым рейсом в Индию, которую он почему-то желает посетить перед возвращением домой. Всю эту информацию он вываливает без всякой просьбы, как любят делать некоторые путешественники. В нем угадывается тоска, свойственная странникам, желающим прибиться к кому-нибудь, и хотя никто не испытывает к нему особого расположения, ему позволяют влиться в их группу.
Ко времени прибытия в Каронгу все притихли и замкнулись. Даже в сумерках видно, что воздух полон дыма. Автобусная станция находится на дальней окраине города, и им приходится со всей своей поклажей тащиться пешком по безликой главной улице. Некоторое время уходит на поиск пристанища. Каронга не имеет ничего общего с деревнями на юге страны, это большой и непривлекательный город, для которого, несмотря на то что до границы отсюда еще шестьдесят километров, характерно то, что свойственно всем приграничным городам: ощущение временности, людской текучести и едва уловимой опасности. В конце концов они находят две комнаты на какой-то подозрительной улице, в сооруженной из бетона гостинице, отвратительно грязной внутри, с ванными, заросшими плесенью. От такого уродства в нем всколыхнулась печаль, которая усугубляется, когда он остается в своей комнате один.
Он всегда испытывает страх при пересечении границы, он не любит оставлять то, что хорошо известно и безопасно, ради окутанного неизвестностью пространства по ту сторону, в котором может случиться все, что угодно. Во время перехода все приобретает символическую весомость и силу. Но это и одна из причин, по которым он путешествует. Мир, через который ты проходишь, перетекает внутрь другого, ничто больше не остается разделенным, одно подразумевает другое, погода — настроение, пейзаж — чувства, для каждого предмета существует соответствующий внутренний жест, все обращается метафорой. Граница — это линия на карте, но она проходит и где-то внутри тебя.
Однако утром все выглядит по-другому, даже незаасфальтированные улицы приобретают некое грубое очарование. Они находят попутку до границы и вместе проходят малавийские формальности. Потом пересекают длинный мост над заросшим руслом реки, ведущий к пограничному посту на другой стороне.
Только теперь он начинает по-настоящему размышлять о том, что может случиться. Хоть он и сказал беспечно, что, мол, посмотрим, впустят ли меня в страну, всерьез ему в голову не приходило, что могут и не впустить. А вот теперь, когда небольшое скопление похожих на сараи строений и граница становятся все ближе, а гомон голосов в дальнем конце дороги — все слышнее, он начинает ощущать, как покалывает ладони от смутного предчувствия, что все может получиться не так, как он надеялся. И действительно, когда они входят в первый деревянный сарай, маленький щеголь за стойкой ставит штампы в паспорта Кристиана, Жерома и Алис, но его рука с печатью внезапно замирает над его паспортом.
— Где ваша виза?
— Я не знал, что нужна виза.
— Нужна! — Вот и все. Паспорт захлопывается и возвращается ему.
— Что я могу предпринять?
Коротышка пожимает плечами. Он ладно скроен, опрятен, чист, его лицо безупречно выбрито.
— Вы ничего не можете предпринять.
— Нет ли поблизости консульского представительства?
— В Малави нет. — Коротышка отворачивается, чтобы обслужить других.
Их маленькая группа грустно собирается на улице. Цикады стрекочут на какой-то невероятной частоте, словно целая команда сумасшедших дантистов работает бормашинами где-то в кронах деревьев. Металлическая крыша потрескивает от жары. Его спутники огорчены, он видит это по их лицам, но не хочет встречаться с ними взглядом. Он садится на ступеньку в ожидании, когда они войдут в следующую дверь, где располагаются санитарный контроль и таможня. Ему все еще не верится, что это происходит. Во внезапном пароксизме эмоций он вскакивает и снова идет внутрь.
— Один человек, ездивший в Танзанию южноафриканец, говорил мне, что ему не была нужна виза, ему здесь просто поставили штамп в паспорте.
Почему выплыло это воспоминание, я не знаю, но это правда, я действительно знал такого человека. Служащий приподнимает бровь:
— И сколько он заплатил за тот штамп?
Я ошеломлен. Я не знаю, сколько заплатил тот человек, я вообще не знаю, как быть.
— Не знаю.
— Тогда я ничем не могу вам помочь. — И он снова поворачивается к очередному прибывшему.
Дрожа от мучительности положения и страха, он ждет, когда коротышка закончит, потом говорит:
— Пожалуйста, прошу вас.
— Я уже сказал. Ничем не могу помочь.
То единственное, о чем он страстно желает в этот момент, простирается за спиной этого тупоголового и исполнительного государственного служащего, и он готов сделать все, абсолютно все, чтобы одолеть его.
— Как ваша фамилия? — спрашивает он.
— Вам нужна моя фамилия? — Коротышка вздыхает, кладет перед ним на стойку пухлый гроссбух в черном переплете и открывает его. — Ваш паспорт, пожалуйста.
На миг вспыхивает надежда, он видит другие фамилии, написанные в книге, и протягивает свой паспорт. Когда его фамилия и номер паспорта тоже занесены в книгу, он спрашивает:
— Зачем это?
— Вам отказано во въезде, — отвечает коротышка, возвращая ему паспорт. — Это список тех людей, которым запрещен въезд в Танзанию.
— Как ваша фамилия? — повторяет он. — Вы не имеете права так со мной обращаться. — Еще не закончив фразы, он чувствует весь идиотизм своей угрозы. Кому он будет жаловаться на этого человека и за что, он ничего не может сделать: и в метафорическом мире, и в реальном он подошел к черте, которую не может пересечь.
Он выходит наружу, где под палящим солнцем его ждут остальные, сочувствующие.
— Бесполезно, я не могу ехать с вами.
Они окружают его в беспомощной неловкости и сострадании, но их взгляды уже устремлены на дорогу, они переминаются с ноги на ногу, день перевалил на вторую половину.
— Нам нужно идти, — говорит Кристиан. — Мне очень жаль.
Они обмениваются адресами. Единственный клочок бумаги, который есть у него при себе, это старый банковский отчет, он протягивает его по очереди каждому из них. Теперь, спустя годы, когда я пишу это, он лежит передо мной на столе, мятый, исписанный разными почерками, своего рода запечатленное на бумаге мгновение.
Он провожает их к заграждению. Дальше он пройти не может. По ту сторону заграждения кучкуются стайки молодых людей на велосипедах в ожидании пассажиров, которых нужно доставить до ближайшего города, расположенного в шести километрах, откуда ходит другой транспорт. Здесь они должны распрощаться. Опустив голову, он стоит, уставившись на свои ботинки. Ему трудно говорить.
— Хорошего путешествия, — произносит он в конце концов.
— Куда вы теперь отправитесь?
— Думаю, домой. С меня достаточно.
Жером говорит:
— Вы должны приехать в Швейцарию. Да? — Последнее слово произнесено с вопросительной интонацией.
Он отвечает кивком:
— Да, приеду.
Они минуют заграждение, садятся на велосипеды, которые, неустойчиво вихляя, разгоняются и уносят их прочь. Он провожает их взглядом, но никто не оглядывается. Их последний яркий след — это рубашка Родриго, флаг узурпатора, чужака, занявшего его место. Между тем другие велосипедисты с той стороны загораживают ему обзор.
— Сэр, давайте я вас довезу… вам нужен транспорт… меня, сэр, возьмите меня…
— Нет, — говорит он, — я с ними не еду. — Он последний раз глядит на дорогу, потом взваливает на плечи сумку и разворачивается назад.
Длинный мост в этот дневной жаркий час пуст. Он идет по нему.
Добравшись до малавийской границы он попадает к тому же служащему в белой униформе, который недавно пропускал его в другую сторону. Тот секунды две недоумевает, потом спрашивает:
— Вы не проходили здесь полчаса назад?
— Да, проходил, но меня не впустили в Танзанию. Сказали, что нужна виза. А у меня ее нет.
Служащий смотрит в его паспорт, потом знаком велит ему приблизиться.
— Дайте ему денег, — говорит он.
— Что?
— Он хочет именно этого. Немного денег. С кем вы разговаривали?
— С коротышкой. Аккуратненьким таким.
— Да, я его знаю, это мой приятель. Предложите ему денег.
Глядя на этого человека, он начинает понимать смысл разговора, состоявшегося у него на том конце моста. Загадочный вопрос о том, сколько его приятель заплатил за штамп в паспорте, вдруг обретает смысл, как же он этого не понял. Я дурак, думает он, и не только поэтому.
— Я с ним поссорился, — говорит он. — Отношения испорчены.
Но этот человек тоже теряет к нему интерес, разводит руки и пожимает плечами.
Я выхожу из помещения, и, пока стою на солнце в остановившемся времени, разные возможности мечутся взад и вперед у меня в голове. С каждой секундой Жером, Алис и Кристиан все больше удаляются от меня, даже если коротышка пропустит его, догонит ли он их, к этому времени они уже могут быть где угодно. Но когда он поворачивается и смотрит на малавийскую сторону, на длинную синюю дорогу, мерцающую и исчезающую вдали, перспектива идти обратно по собственным следам представляется ему невозможной. Ему кажется, что он вообще никогда больше не сможет двигаться.
А потом он вдруг пускается бегом через мост, не замечая, как сумка колотит его по спине. Когда он прибегает к сараю, пот льет с него градом и сердце бешено колотится.
— Пожалуйста, — говорит он, — я кое-что вспомнил.
Похоже, коротышка ничуть не удивлен его возвращением. Все его внимание сосредоточено на туго накрахмаленных манжетах собственной рубашки.
— Тот южноафриканец, о котором я вам рассказывал. Которому поставили штамп в паспорте. Я только что вспомнил, сколько он заплатил.
— Нет. — Аккуратная маленькая головка печально покачивается. — Ваше имя внесено в книгу. Когда имя внесено в книгу, его оттуда уже не изымешь.
— Двадцать долларов.
— Нет.
— Тридцать.
— Помнится, вам нужна была моя фамилия. Вы хотели жаловаться на меня.
— Я был не прав. Это от расстройства. Я очень сожалею. И приношу извинения.
— Вы нагрубили мне. Это достойно сожаления. И требовали, чтобы я назвал свою фамилию.
— Я же сказал, мне очень жаль.
— Мне тоже. Но это невозможно.
Этот разговор ходит по кругу снова и снова. Ему кажется, что он сражается с каким-то мифическим стражем ворот, которого должен победить, но у него нет для этого нужного оружия или нужных слов.
Спустя некоторое время входит другой человек, тоже в униформе, но совершенно не похожий на первого, этот неряшлив и взлохмачен, жует зажатую в зубах палочку.
— Привет, — говорит он. — Что тут за проблема?
— Никакой проблемы. Мы просто беседуем.
— Я здесь начальник, говорите со мной.
Он устало глядит на начальника. У того пистолет, наручники на поясе и своего рода сердечное дружелюбие на лице, за которым, впрочем, может скрываться яростное служебное рвение. Нужно быть осторожным, но время поджимает. Он откашливается.
— У меня нет визы, — объясняет он, — но мне очень нужно в Танзанию. Вы можете мне помочь?
Далее следует долгий разговор между двумя служащими, во время которого извлекается на свет и изучается черный гроссбух, досконально рассматривается его паспорт, выдвигается масса аргументов. Каждое слово из обоих их предыдущих споров, кажется, бесконечно повторяется и изучается. В конце процесса босс начинает упрекать его:
— Вы нагрубили моему другу. Вы его расстроили.
— Я извинился перед ним. Сказал, что весьма сожалею.
— Повторите это еще раз.
— Друг мой, мне очень жаль, что я был с вами груб. Я не подумал.
— Вот так-то лучше, — говорит босс. Теперь все ведут себя вежливо.
Его имя, нестираемыми чернилами внесенное в большую черную книгу, вычеркивается, и все снова становится возможным. Теперь, когда дверь перед ним наконец открывается, ему не терпится пуститься вдогонку. Но ни один из двух мужчин, похоже, не способен действовать быстро, они должны детально рассмотреть вопрос в своем ленивом темпе. Босс, в частности, желает объяснить ему этический аспект этой транзакции.
— Если вы хотите, чтобы человек нарушил закон, — говорит он, — если вы хотите, чтобы он рискнул своим местом, то должны сделать так, чтобы это для него того стоило.
— Сорок долларов стоят места? — спрашивает он.
— Остались еще кое-какие неформальности. У вас есть сертификат о прививке против желтой лихорадки? А против холеры?
— Нет.
— Тогда не ходите в санитарный контроль, просто пройдите мимо. Штамп в паспорте не является визой, это просто регистрация въезда, так что вы будете находиться в стране нелегально. Если вас поймают, это ваша проблема. Договорились?
— Договорились.
— Пойдемте, я провожу вас через границу.
В конце концов они оба сопровождают его и, стоя у заграждения, машут ему рукой, как два дружелюбных родственника. Приятно провести время! Велосипедисты моментально окружают его: возьмите меня, сэр… меня, сэр… возьмите меня…
Он выбирает того, который кажется покрепче и посильнее.
— Мне нужно догнать своих друзей, я заплачу вдвойне, если ты поедешь как можно быстрее.
— Да, сэр, очень быстро.
Он садится, у парня проволокой прикручено на раме дополнительное седло и перегруженный велосипед тяжело катится по дороге.
Он знает, что Кристиан планировал доехать на автобусе до Мбеи, города, расположенного в трех часах езды, а оттуда в тот же вечер поездом отбыть в Дар-эс-Салам. Ему нужно найти их до того, как они уедут, в большом городе он никогда их не отыщет. Он надеется, что они все еще ждут автобуса.
— Быстрее, — торопит он крутящего педали парня, — неужели нельзя ехать быстрее.
Он осознает всю причудливость сцены, в которой участвует. Велосипеды шныряют в обоих направлениях, одни с пассажирами, другие без. Дорога бежит то вверх, то вниз среди зеленых холмов, солнце жарит нещадно. Мальчишка трудится изо всех сил, обливаясь потом, он то и дело отворачивает голову, чтобы сморкнуться.
— Простите, — кричит он через плечо.
— Не извиняйся, просто езжай быстрее.
Когда они добираются до остановки автобуса, дорога оказывается пустынной. Он слезает с велосипеда и осматривается, словно они могут где-то тут прятаться.
— Где мои друзья? — спрашивает он, но мальчишка только трясет головой и скалится. Друзья этого человека не его забота.
Таким образом, он остается ждать следующего автобуса. Впечатление такое, будто он прибыл в место, выпавшее из времени, где только он испытывает его недостаток. Он вышагивает взад-вперед, бросает камешки в дерево, наблюдает за вереницей муравьев, исчезающих в дырке, прорытой в земле, все это в попытке вернуть ощущение времени. Часа через полтора на обочине уже немало людей, и, когда приходит автобус, все одновременно пытаются залезть в него. Кончается тем, что ему не достается места и он вынужден висеть, держась за верхний поручень, в проходе. За окнами проплывает зеленый холмистый пейзаж, расчерченный в клетку чайными плантациями. Банановые деревья хлопают своими широкими листьями, как будто аплодируют.
Проходит полных три часа, а то и больше, прежде чем дорога начинает спускаться с высокого плато и огибает Мбею, срастаясь с городом. К этому времени солнце уже садится, и в убывающем свете единственное, что он может разглядеть это низкие зловещие строения, в основном глинобитные, припадающие к земле. Он выходит из автобуса в конце запруженной людьми улицы, наполненной запахами, от которых кружится голова. Спрашивает у проходящей мимо женщины, где находится вокзал. Кто-то другой слышит вопрос и переадресует его еще кому-то. Наконец он оказывается идущим в сопровождении какого-то незнакомца к группе бесцельно околачивающихся поблизости мужчин. Он заметил их, когда выходил из автобуса: лишенные выражения лица, тяжелый взгляд, кепки и темные очки. Они словно излучают угрозу. Один из них говорит, что довезет его до вокзала за пять долларов. Он несколько секунд колеблется в панике, он боится этого человека в темных очках, у которого и в машине, как он видит, тонированные стекла. Неужели он и впрямь решится ехать по этим безымянным улицам, отделенный от мира таким количеством темного стекла. Но он зашел уже слишком далеко, к тому же непонятно, что еще можно сделать.
Мужчина везет его очень быстро в полном молчании, подъезжает к входу в длинное здание, полностью погруженное во тьму. Уже наступила ночь. Входная дверь на цепочке, и нигде не видно ни одной живой души.
— Пять долларов, — напоминает мужчина.
— Подождите меня, пожалуйста. Вероятно, вам придется отвезти меня куда-нибудь еще.
Мужчина ждет, бдительно наблюдая, как он на ощупь ходит взад-вперед вдоль длинного здания, стуча в окна и призывая кого-нибудь.
Наконец он обнаруживает окно, в котором горит свет. Он стучит и стучит в него, пока кто-то не подходит к стеклу с внутренней стороны и, подозрительно глядя на него, спрашивает:
— Что вы хотите?
— Простите. Сегодня ночью есть поезд на Дар-эс-Салам?
— Ночью нет. Утром. Тут опасно. Вам лучше вернуться в город. Приезжайте утром.
Он возвращается к машине и ее уверенному водителю.
— Вы можете отвезти меня обратно в город? Я заплачу еще пять долларов.
Мужчина отвозит его в гостиницу неподалеку от того места, где он вышел из автобуса.
— Вам повезло, — говорит женщина за стойкой администратора, — осталась последняя комната. — Но, сидя на краю кровати и глядя на окружающие его коричневые и бежевые тени, он вовсе не чувствует себя везучим. Он уже не может припомнить, когда ощущал себя таким одиноким. Решает, что утром поедет на вокзал и, если их не найдет, вернется домой. Приняв это какое-никакое решение, он пытается заснуть, но ворочается, снова и снова открывает глаза и видит то же странное окружение, таинственное пятно света на стене. На рассвете он одевается и оставляет ключ в двери.
Напротив гостиницы имеется открытая площадка, на которой выстроилась шеренга такси. Дойдя до конца подъездной дорожки, он замечает Жерома и Кристиана, садящихся в машину. Он останавливается как вкопанный, потом бежит к ним.
Воссоединение проходит восторженно, все восклицают и хлопают друг друга по плечам. За каких-нибудь пять минут мир меняет свои очертания, город, который казался зловещим, чреватым опасностью, вдруг становится звонким и полным жизни.
Они едут в такси на вокзал. Вокзальное здание тоже уже не пустое и пугающее, как прошлой ночью, оно превратилось в запруженное людьми пространство, шумное и взбудораженное. Отправление их поезда задерживается, и Родриго отправляется на ближайшую улицу — хочется пить. Ржавая вывеска «Кока-кола» приводит их в пыльный внутренний двор, где они усаживаются за пластмассовый стол под выцветшим пляжным зонтом. У их ног бродят куры, что-то выклевывая из земли. Родриго по-прежнему в своей пурпурной рубашке, вокруг шеи повязан кричаще-яркий шарф. Пока мы потягиваем прохладительные напитки, он рассказывает историю, случившуюся с ним в моей стране. До того как начать работать в Мозамбике, он несколько недель провел в Южной Африке, жил в пансионе в Йоханнесбурге. Однажды туда прибыл молодой путешественник-американец, и его поселили в ту же комнату. Они подружились. На второй или третий день вечером пошли выпить и в конце концов оказались в баре в Йовилле, очень пьяные. Родриго уже хотелось вернуться домой и лечь спать, но американец разговорился с чернокожим мужчиной, с которым только что познакомился, и тот пригласил его куда-то еще, тоже выпить. Американец был исполнен сентиментальной доброжелательности к стране, говорил о расовой гармонии и исцелении от прошлого. Он ушел со своим новым знакомым и не вернулся. Родриго отправился в полицию, заявил о его исчезновении, а неделю спустя его вызвали, сообщили, что найдено тело, и попросили опознать его. Последний раз он увидел своего приятеля через стекло в морге. Его обнаружили заколотым в спину в сточной канаве возле большого многоквартирного дома. Через день или два арестовали одного из жителей этого дома, который признался, что убил его из-за часов и сорока рандов. Вскоре после этого Родриго отбыл в Мозамбик. Зачем он рассказал мне эту историю, не знаю, но был в его рассказе какой-то обвинительный оттенок.
Они допили свою воду молча и медленно отправились на вокзал. К тому времени была уже почти середина дня, и поезд должен был вот-вот отправиться.
Через час или два пути они впервые слышат, что в Танзании через два дня должны состояться первые многопартийные выборы и газеты пестрят предупреждениями о вероятных актах насилия и беспорядках. Распространяющиеся в поезде слухи граничат с паникой. Но их все это не трогает, между ними царит новая атмосфера празднества, словно они едут на веселую вечеринку.
Однако ночью он лежит без сна, прислушиваясь к доносящемуся отовсюду тихому дыханию и стуку колес на стыках рельсов. Его тревожит, что он будет делать, когда они расстанутся через несколько дней и он окажется в Танзании один в столь нестабильное время, без визы, с перспективой повторить весь свой путь в обратном направлении, шаг за шагом. Возвращение назад той же дорогой в любом путешествии вызывает гнетущее чувство, но в данном случае его одолевает особый страх.
Та часть его самого, что наблюдает за ним со стороны, все еще здесь, она не испытывает ни восторга, ни страха. Эта часть в своей обычной отстраненности с насмешливым любопытством смотрит сверху на его бессонную фигуру, лежащую на вагонной полке. Она видит все сложности ситуации, в которой он оказался, и иронически бормочет ему в ухо: ты только посмотри, куда ты себя загнал. Действительно, собирался съездить в Зимбабве всего на несколько дней, а прошли уже недели. Теперь вот в поезде, идущем в Дар-эс-Салам. Счастливый и несчастный, он в конце концов засыпает, и ему снится…
Нет, я не помню, что ему снится.
Утром за окном уже совсем другой пейзаж, они покинули плавные зеленые холмы и едут через плоскую однообразную пустыню. По мере приближения к побережью желтая трава и колючие деревья снова уступают место зеленой растительности, буйной тропической зелени. Воздух влажный и жаркий, пахнет солью.
Они прибывают в Дар-эс-Салам ближе к середине дня. Никаких предупреждений или объявлений, поезд просто останавливается в тупике, и люди выходят. Они видят в отдалении город, группами домов вырисовывающийся на фоне неба. Отправляются искать такси, но встретившаяся им чета предлагает подвезти их. Мужчина садится за руль новенького «рейндж-ровера» и, лавируя в потоке машин, рассказывает им, что они с женой дипломаты. Указывая на небольшие группы людей на тротуарах, повсюду сидящих на корточках вокруг радиоприемников, он объясняет, что они слушают сообщения о выборах — на Занзибаре случились беспорядки. Какого рода беспорядки? Остров Занзибар голосовал два дня тому назад, раньше всей остальной страны, теперь там объявили итоги, но некоторые партии не согласились с ними, начались столкновения, люди бросали камни. А как насчет остальных частей страны, там тоже ожидаются беспорядки? Не думаю, разговоров много, но никто ничего не собирается делать.
Чета подвозит их к дешевому отелю неподалеку от бухты. Отель почти забит, но им удается получить две комнаты. Алис, Жером и Кристиан поселяются в одной мы с Родриго в другой. Родриго уже всех раздражает, он вечно всем недоволен и громогласно сообщает об этом. Все цены слишком высоки, обслуживание отвратительное, ничто не отвечает его запросам. За ярким обликом прячется капризный и бесконечно несчастный человек. Сейчас его тревоги сосредоточены на деньгах. Еще в Мбее, как оказалось, у них возникла проблема. Кроме меня, все остальные путешествуют с картами «Visa», которые здесь ни в одном банке, ни в одном учреждении не принимают. Это же смешно, кипятится Родриго, где это слыхано, что за ужасное, отсталое место.
В поезде Кристиан уже одолжил у меня денег. В Дар-эс-Саламе все они отправляются искать место, где можно снять деньги. Он плетется за ними, разглядывая город, пока они переходят из одного банка в другой. Но везде одна и та же история, ни один банк не обслуживает карты «Visa». В некоторых местах им говорят, что эти карты нигде не обслуживаются, в других сообщают, что есть банки, которые работают с «Visa», но только не их банк. Поиски длятся долго и утомительно. Они прошли много кварталов, они уже чувствуют себя подавленными от перспективы остаться на мели, когда им предлагают попытать счастья еще в одном, последнем месте. Место расположено неподалеку от их отеля, в узком здании, нужно подняться на три лестничных марша. Банк располагается за двумя массивными деревянными дверями, перед которыми на тускло освещенной лестничной площадке за столом сидит охранник в темных очках.
— Я подожду здесь, — говорю я и сажусь на ступеньку.
Кристиан, Алис и Родриго входят в деревянную дверь, и неожиданно мы с Жеромом остаемся наедине.
Это первый раз, когда они оказываются только вдвоем. Теперь, когда этот момент наступает столь внезапно, он не знает, что делать. Он сидит на ступеньках лицом к охраннику, между тем как Жером вышагивает взад-вперед по темной площадке, испытывая неловкость. Потом стремительно поворачивается и садится рядом со мной на ступеньку. Только скорость, с какой он это проделывает, выдает его нервозность.
Он берет меня за руку и, с огромным трудом подбирая слова, говорит:
— Хотите поехать со мной в Швейцарию?
Я потрясен. Ничто не предвещало подобного поворота. У меня влажнеют ладони, сердце бешено колотится, но из вихря мыслей, которые бушуют у меня в голове, вырывается лишь один, самый дурацкий и неподходящий из всех вопрос.
— Но что, — спрашиваю я, — я буду там делать?
— Вы можете работать, — отвечает он.
Потом дверь открывается, из банка выходят остальные, они с Жеромом поспешно отодвигаются друг от друга, и до конца путешествия им уже ни разу не удается остаться наедине.
— Бесполезно, — говорит Кристиан. — Здесь тоже не приняли карту.
Это похоже на удар молнии. Или на падение в пропасть, на краю которой он, как теперь ему понятно, балансировал уже несколько дней. Все теперь совсем не такое, как прежде. Спускаясь за своими товарищами по лестнице и выходя на улицу, он видит все сквозь какое-то странное стекло, которое одновременно и искажает, и проясняет мир вокруг.
Уже слишком поздно, чтобы продолжать поиски, все банки закрылись. Да… понятно, что так эту проблему не решить. Завтра утром они отправятся во французское посольство, там им помогут хотя бы советом.
Остаток дня проходит бесцельно — идут в соседний отель поплавать в бассейне, слоняются, разговаривают. В Жероме не осталось и следа той странной нервозности, которая охватила его там, на лестнице. Вечером я иду с ними в какой-то дорогой отель, чтобы воспользоваться телефоном администратора. Алис и Жером хотят позвонить домой, матери. Их очень долго не соединяют, приходится ждать и ждать в огромном гулком вестибюле. Он слышит здешнюю половину разговора, протянувшегося через полмира, — о, maman, il est si bon d’entendre ta voix[8], — и звуки языка, который он не понимает, доносят до него интимность и любовь, он почти может представить себе ту жизнь, далеко на севере, из которой они прибыли и к которой его пригласили присоединиться. Ехать ли мне? Могу ли я? Его собственная жизнь сузилась до развилки, на которой он стоит в крайнем смятении, терзаясь нерешительностью.
Ему не обязательно принимать решение прямо сейчас, всегда существует завтра, завтра. Но утро ничего не меняет. Он идет с ними в посольство за советом. Мы одолжим вам денег, говорят им в посольстве, поезжайте в Кению, где вы сможете воспользоваться своими картами. Следует короткое обсуждение, но выбора у них, в сущности, нет, без денег они вообще ничего не смогут предпринять. Они отправятся в Кению завтра утром. Он уже знает, о чем его спросят, а они знают, что он ответит. Да, я еду в Кению с вами.
Я не помню, что они делают в оставшееся до конца дня время. Следующее, что осталось в памяти, это как он просыпается посреди ночи, перемежающийся луч маяка через равномерные интервалы времени пересекает потолок, и слышит, как Родриго тайком мастурбирует под простыней.
Следующий день — день выборов, но сквозь пыльные окна автобуса город выглядит таким же, как вчера. Больше часа уходит на то, чтобы выбраться из запутанного лабиринта переулков и маленьких улочек, прилегающих к автобусной станции. Замысловатые фасады магазинов с мириадами ступенек и крохотными витринами заставляют его представить себе внутренности какого-то гигантского животного, через которые они проползают, словно бактерия.
Вырвавшись из города на свободную дорогу, автобус тут же разгоняется до бешеной скорости. Их водитель, какой-то индиец-психопат, видимо, вознамерился всех их угробить, он совершает обгоны на слепых подъемах, состязается в скорости с другими автобусами, вероятно, чтобы взять реванш за былые поражения, не тормозя, делает крутые повороты. Его охватывает ощущение какого-то тупого ужаса. Вцепившись в сиденье, он наблюдает, как мир за окном проносится мимо, словно во сне. Дорога бежит вверх, стремясь к побережью, пересекает широкую зеленую равнину. То появляются, то исчезают зеркально спокойная вода, пальмы, мангровые деревья, все эти типичные фрагменты тропиков, маленькие деревушки и поселения мелькают, как мгновенные вспышки чужих жизней, походя на миг задевающих его собственную мимолетными стычками образов.
Когда они прибывают на пограничный пункт, он начинает волноваться: что, если заметят, что у него нет визы? Но он выскакивает из автобуса едва ли не первым, отметку о выезде ему припечатывают, как синяк, рядом с въездной, купленной несколько дней тому назад. В Кению они углубляются уже в темноте. Начинает моросить ровный дождь. По мере приближения к Момбасе народу на обочинах становится все больше. Последний этап пути они проделывают по морю на пароме. Он стоит у перил и сквозь пелену дождя смотрит на желтые огни. Отель, который они находят, производит впечатление самого убогого из всех предшествующих. Два лестничных пролета ведут на их этаж, кажется, что здание сляпано из необработанного бетона. В каждой комнате посреди потолка, вздрагивая, крутится вентилятор. Дом одновременно служит борделем, нижние этажи занимают проститутки, ошивающиеся в вестибюле и на тротуаре перед входом: привет дорогой ты не меня ищешь тц тц тц. Они снова расселяются в двух комнатах, он и Родриго в одной, остальные в другой, но комнаты соединены общим узким балконом. С балкона открывается вид на обращенное к ним фасадом такое же здание на противоположной стороне улицы, в окнах его маленьких освещенных кубиков можно наблюдать всевозможные половые акты в действии.
На сей раз приглашение исходит не от Жерома, а от Алис. На следующий день за обедом наступает короткий момент серьезного обсуждения.
— Хотите поехать с нами? Мы нашли дешевый рейс до Афин, у нашей мамы в греческой деревушке есть дом. Прежде чем вернуться домой, мы хотим провести там несколько недель.
Он смотрит на Жерома. Тот говорит «поехали», но в его приглашении он не слышит эха того, что случилось там, на лестнице, сейчас это формальное предложение, которое он может с легкостью отклонить.
— А потом, после Греции, — спрашивает он, — что я буду делать? Дайте мне подумать, я скажу вам позже.
Он отправляется на прогулку по старому городу, идет между высокими и причудливыми фасадами. Движение всегда заменяло ему размышления, а сейчас как раз хочется сделать в них перерыв. Так, бродя, он оказывается в темном антикварном магазине, заполненном прохладным воздухом и изобилующем восточными коврами и медными светильниками, и его мысли ускользают из того материального мира, в котором он обитает. В него возвращает возникшая в поле зрения человеческая фигура.
— Вы откуда? — Человеку лет пятьдесят с небольшим, он белый, с крупным морщинистым лицом, хранящим печальное выражение. У него невероятный, сильно утрированный английский акцент.
— Из Южной Африки.
— О Господи, как же вы сюда попали?
— Через Малави.
— Не может быть! Я через несколько дней отправляюсь в Малави. Да, пожалуйста, смотрите, чувствуйте себя как дома. Как, вы сказали, вас зовут?
По какой-то неведомой причине этот долговязый экспатриант не идет у него из головы, даже когда он возвращается в отель, во всем этом закопченном полуразрушенном городе он единственный человек, если не считать спутников, знающий его имя. В темноте он усаживается на балконе, глядя на исходящую паром дождливую улицу. Подъезжает такси, из которого выходит проститутка, одна из кричаще одетых женщин с нижнего этажа, вместе с бородатым белым мужчиной его возраста. Они целуются долгим поцелуем возле машины, потом мужчина возвращается в машину и уезжает.
Позднее тем же вечером они идут ужинать, настроение за столом мрачное. Его спутников одолевают разные мысли, конец девятимесячному пребыванию в Африке Кристиана и Жерома, двухмесячного Алис, впереди возвращение домой. Но в один из интервалов между обрывками разговора вопрос возникает снова: вы решили, что будете делать?
— Нет, еще не решил, скажу утром.
Этой ночью он почти не спит. Мечется по кровати, глазеет на вентилятор, который вертится и вертится, то и дело встает, выходит на балкон, возвращается. Мозг его кипит, он не в состоянии остудить его.
Утром все встают рано, много дел, суеты. Правильное решение приходит незадолго до того, как заходит Жером и безмолвно, лишь движением поднятых бровей, задает вопрос.
В ответ он качает головой, голос не слушается его:
— Мне нужно возвращаться.
Жером ничего не говорит, но лицо у него становится непроницаемым.
Так, тремя короткими словами, заканчивается это путешествие. Никто его не уговаривает, все заняты своими делами, сортируют и упаковывают вещи. Он не хочет сидеть и смотреть на это, поэтому говорит Кристиану, что идет погулять.
— В десять мы отбываем.
— Я вернусь к тому времени.
Он идет по запруженным людьми улицам, идет безо всякой ясной ему самому цели, но не удивлен, когда оказывается снова в темном антикварном магазине. Сомнительный экспатриант опять здесь, балансирует с чашкой кофе на груде сложенных ковров.
— Я был здесь вчера, — говорю я ему.
— А, да, — рассеянно отвечает он.
— Вы упомянули, что собираетесь в Малави через несколько дней.
— Да. Да, я об этом подумываю.
— Я хотел поинтересоваться, не нужен ли вам спутник.
При этом темные глаза немного просветляются.
— Было бы неплохо, — говорит он. — Почему бы вам не зайти завтра, мы бы обсудили наши планы. Напомните мне ваше имя.
— Дэймон. Меня зовут Дэймон.
Человек повторяет его имя.
Он возвращается в отель в половине десятого, но его спутников уже и след простыл. Сначала он предполагает, что они пошли куда-то завтракать, но потом понимает, что уехали. Когда Кристиан назвал час отъезда, он, должно быть, имел в виду время отправления автобуса, и сейчас они уже на автобусной станции.
Надо спешить, чтобы попрощаться. Он спускается по лестнице, снова оказывается в вестибюле и останавливается. А не лучше ли оставить все как есть? Пусть уезжают спокойно, без прощальной церемонии. Он снова бредет по улицам, но в другом, противоположном автобусной станции направлении, разглядывает прохожих, магазины, всякую мелочь, которая может отвлечь от размышлений. Он уже предвидит, как следующие несколько дней пробудут в таких же бесцельных, ужасных блужданиях. Нет ничего противнее необходимости убивать время.
И тут он рывком разворачивается и бежит назад, расталкивая толпу. Откуда пришло это побуждение, ему и самому невдомек. Он ищет такси, но не видит ни одного в плотном потоке машин. На автобусную станцию он прибегает всего за несколько минут до отправления, а нужно еще найти автобус. Когда он его находит, мотор уже работает, человек в дверях говорит ему, что свободные места еще есть. Заходите, садитесь, я дам вам билет. Нет-нет, я просто хочу попрощаться с друзьями.
Они все выходят, собираются на краю дороги с удрученными лицами, почти не глядя друг на друга. Ему хочется что-нибудь сказать, какое-то одно точное слово, которое выразило бы все, что он чувствует, но такого слова не существует. Вместо этого он молча делает слабое неопределенное движение, замирающее еще до того, как он его завершил, и вздыхает:
— До свидания.
— Вы ведь приедете в Швейцарию, да? — снова спрашивает Жером. Но произносится это безучастно, во всей этой маленькой сценке нет и намека на чувство, к тому же шофер уже нетерпеливо поторапливает их.
— Нам пора, — говорит Кристиан.
— Да, — соглашаюсь я. — До свидания. — Я наклоняюсь вперед, беру Жерома за плечо и крепко сжимаю: — Обещаю, мы еще увидимся.
— До свидания.
С Алис они обмениваются улыбками, потом она поворачивается и поднимается по ступенькам.
Родриго порывисто обнимает его:
— Друг мой, берегите себя. — Самый странный из них оказывается самым экспансивным в выражении чувств.
Сквозь грохот и хаос он медленно идет назад. Он еще толком не осознал, что произошло. Вернувшись в отель, платит хозяину еще за одну ночь и, пока ищет в кошельке мелочь, ощущает, что какая-то рука украдкой шарит по его ширинке. Он в страхе отскакивает назад. Рука принадлежит одной из проституток, вероятно той самой, которая целовалась вчера вечером на улице. Ее ярко накрашенные губы улыбаются ему во мраке вестибюля.
— Я просто пытаюсь вам помочь, — говорит она.
— Я не нуждаюсь в помощи.
Резкость его тона отпугивает ее, он срывается и бежит вверх по лестнице. Каким-то непонятным образом этот инцидент выпускает его чувства на волю, тонкий столбик горя поднимается внутри его, словно ртуть в градуснике. Он входит в свою комнату, озирается, потом через балкон переходит в их комнату. Там все, как было — три кровати, лениво вращающийся под потолком вентилятор. Он садится на краешек стула. На полу валяются скомканные обрывки бумаги, конверты, записки, вырванные из книги страницы, все это выброшено ими при сборах из чемоданов, и эти одинокие белые клочки, гоняемые по полу вентилятором, кажутся самым печальным из всего случившегося.
Жером, если я не могу оживить тебя словами, если ты кажешься всего лишь смутным духом, воплощенным в лице под челкой, и если вы, Алис, Кристиан, Родриго, тоже остались именами без естества, то это не потому, что я не помню вас, нет, напротив, эта память живет во мне нескончаемым волнением и коловращением. Но именно поэтому вы должны простить меня, ибо в любой истории одержимости есть только один персонаж, только один сюжет. Я пишу исключительно о себе, это единственное, что я знаю, и по этой самой причине я всегда терпел поражение в любви, то есть в святая святых собственной жизни.
Он сидит в пустой комнате и плачет.
Он не был готов к тяжести нескольких следующих дней. Большую часть времени он проводит, лежа в кровати на спине и уставившись на вентилятор под потолком. Когда это вдруг становится невыносимым, он вскакивает, выходит на улицу и шагает так, словно у него есть определенная цель, но все эти прогулки обычно заканчиваются в одном и том же месте — в аллее, тянущейся вдоль моря. Здесь он стоит, всматриваясь сквозь туман в проплывающий мимо парусник дау[9].
Раза два он снова заходит в антикварный магазин. Планы Чарлза всегда оказываются неопределенными, но он тем не менее подтверждает, что поедет в Малави. Нужно просто подождать день-другой, пока закончатся эти выборы в Танзании, никогда нельзя быть уверенным в чем бы то ни было, в конце концов, это же Африка. В какой-то момент во время разговора он неизбежно спрашивает мое имя, чтобы тут же опять забыть его.
Между тем он готовится к возвращению, идет в консульство и получает официальную танзанийскую визу. Потом в санитарную службу, которая находится в порту, чтобы сделать нужные прививки. Врач-индиец, к которому он обращается, с улыбкой сообщает ему, сколько это будет стоить, потом доверительно наклоняется к нему и спрашивает, действительно ли он хочет сделать эти прививки.
— Я не понимаю.
— Вы можете заплатить и сделать прививки, а можете заплатить и не делать их. Мне все равно, вам решать.
Он платит и не делает прививок, при этом он начинает понимать, как здесь делаются дела. Если штамп в документе стоит, никому нет дела до того, как он получен.
Когда он в третий раз приходит в антикварную лавку, Чарлз оживлен более обычного.
— Мы можем ехать послезавтра, — говорит он, — вам это подходит? Оказывается, итоги танзанийских выборов объявлены, но выборы признаны недействительными — множество нарушений процедуры, поэтому придется начинать все сначала. Однако волнений не предвидится, люди ведут себя спокойно. Вот только одно, — предупреждает Чарлз, — я живу не в городе, мы проведем там завтрашний день.
Он приезжает к нему утром, и вскоре они отбывают в побитом фургоне Чарлза. Они снова садятся на паром, потом едут вдоль побережья. Свой последний день в Кении он проводит в курортном отеле на берегу неподалеку от дома, где Чарлз живет со своей семьей.
В этот день его бывшие спутники покидают Кению, он знает номер рейса. В два часа дня он стоит на мерцающем белым песком пустынном пляже, устремив взор в океан, который, постепенно меняя цвет на все более густой, простирается до линии прибоя, обозначающей дальнюю гряду рифов, он смотрит на часы и ощущает их отлет почти как некую физическую перемену в организме. Например, сердце начинает биться с перебоями. Вот самолет разбегается на взлетной полосе, вот взмывает в воздух, делает вираж, становясь на северный курс, и удаляется, удаляется.
Примерно в это же время он осознает, что сделал ошибку. Нужно было лететь с ними, конечно, нужно было. Зачем он едет домой? Решение запоздало всего на каких-то два дня, но уже стало бессмысленным. Он ясно понимает, что ждет его в Южной Африке, то же состояние небытия, вечный дрейф с места на место. Никогда еще это состояние столь очевидно не представлялось ему тем, чем оно было, — отсутствием любви. Ему становится нехорошо при мысли о том, что он сотворил.
Но теперь поздно. Что владеет им сейчас, так это острое желание сделать самый отчаянный и драматичный жест из всех возможных. Он попробует догнать их, но не следуя за ними эти несколько сот километров, а совершив бросок длиной в полмира. Всю вторую половину дня он вышагивает по пляжу между пальмами взад-вперед, пересекая снова и снова собственные следы и вырабатывая план действий. В этом нет ничего невозможного. Нужно как можно скорее вернуться в Южную Африку, наскрести немного денег и вылететь в Грецию. На танзанийской границе Жером написал ему на клочке бумаги свой домашний телефон, там его мать. Он должен позвонить ей и узнать, где они и как добраться до ее дачного домика. Он отправится туда из Афин и однажды вечером возникнет из темноты, из недавнего прошлого, с руками, раскрытыми для объятий, и улыбкой на лице. Это снова я, я приехал к вам.
Когда они с Чарлзом на следующее утро отправляются в путь, он все еще на взводе. На Чарлзе шорты, сандалии и большая соломенная шляпа. Он выглядит приятным мужчиной, вырвавшимся на свободу, правда, немного костлявым; а если присмотреться, то и опустившимся. Под ногтями грязь, на зубах никотиновый налет, вокруг глаз морщины, глубокие и темные, как синяки. И в душе у него есть что-то, напоминающее перезрелый фрукт, мягкий и кашеобразный внутри. Незадолго до границы Чарлз съезжает на тростниковое поле и выкуривает гигантский косяк. Это чтобы успокоиться, перед тем как придется иметь дело с этими ублюдками.
Оказывается, он контрабандой везет спрятанные в багажнике под двумя бочонками с маслом афганские ковры на сумму двадцать тысяч долларов. Они предназначены для чиновников американского посольства в Дар-эс-Саламе и являются одной из причин этого вояжа. Чарлз потеет и дрожит, как наркоман, когда они пересекают границу, зато потом напускает на себя скучающий вид хладнокровного человека. Не беда, если бы они их и нашли, пятьдесят долларов, и они будут смотреть в другую сторону. Я знаю этих парней и умею говорить на их языке.
Вечером по прибытии в Дар-эс-Салам он направляется в один из самых фешенебельных пригородов и подъезжает к просторному дому, окруженному металлическим забором, с охранником у ворот. Это резиденция какой-то высокопоставленной сотрудницы посольства, полной женщины средних лет, она выходит им навстречу, широко улыбаясь.
Она соглашается оставить их переночевать, и он оказывается в роскошной спальне с драпировками на окнах, толстыми коврами и ванной комнатой, до потолка облицованной кафелем. Она кажется ему нереальной, но все же не такой нереальной, как ужин, в котором они участвуют тем же вечером вместе с румынским послом в Танзании. По некой неведомой причине на стене висит портрет Ленина, и посол украдкой крестится. Для самозащиты, когда замечает его. Сюрреализм ситуации лишает меня дара речи, поэтому я испытываю облегчение, когда вскоре оказываюсь снова один, в постели. В коридоре за дверью всю ночь трещит и рыгает радио, сквозь эту какофонию просачивается зашифрованная американская речь.
На следующий день они едут в Мбею и устраиваются в отеле. С тех пор как они покинули Кению, Чарлз никак меня не называл, но вечером, в баре, я услышал, как он зовет какого-то Ноэла, и, оглядевшись, понял, что он обращается ко мне. Трудно сказать, почему он остановился на этом имени, но я слишком устал, чтобы поправлять его. К тому времени взаимное раздражение между нами достигло высокого накала, и то, что он называл меня Ноэлом, не много добавляло к нему.
Назавтра, когда они въезжают на территорию Малави, раздражение балансирует на грани ссоры. Пропустив какой-то поворот, Чарлз начинает кричать на него, что нужно было следить за дорожными указателями, и ему стоит немалых усилий хранить молчание. Позднее Чарлз пускается в разглагольствования о том, что кроется за малавийскими улыбками, они, мол, притворяются невинными овечками, а на самом деле это хитрый сброд. Держи ухо востро, Ноэл!
Пора двигаться дальше, и на следующее утро, когда они подъезжают к озеру, он прощается с Чарлзом. Тот встревожен, почему бы тебе не побыть здесь еще, он не хочет оставаться один на один с коварными малавийцами. Но южноафриканец качает головой, через два дня он должен быть дома, в мыслях он на севере, в Греции.
— Что ж, — обреченно бормочет Чарлз, — езжай. Только запиши мне в блокнот свой адрес, на случай, если я когда-нибудь приеду в Кейптаун.
Я медлю с его блокнотом в руке, не зная, что писать. Но через несколько секунд пишу печатными буквами свое новое имя, Ноэл, и старый телефонный номер. Я никогда больше ничего не услышу о Чарлзе.
С этого момента возвращение проходит стремительно. Ноэл перескакивает из одного автобуса в другой, лишь на одну ночь останавливаясь в Блантайре. Еще два дня, и он в Южной Африке, в Претории. Чтобы от Момбасы пересечь полконтинента, ему понадобилось всего шесть дней.
Всю дорогу он не думал ни о чем, кроме того, что хотел сделать, его снедало желание добраться до Греции. Но теперь с ним что-то происходит. Оказавшись среди предметов и лиц, символизирующих его обычную жизнь, он впадает в своего рода апатию и спрашивает себя: я действительно собираюсь это сделать, спрашивает он сам себя, я действительно собираюсь так далеко последовать за ними? И вместо того чтобы, повинуясь прежнему импульсу, броситься в кассу и составить план, он сидит на солнце, размышляя о том, что с ним было. Теперь в том, что все это имеет смысл, он уверен еще меньше, чем прежде.
Мало-помалу, почти незаметно для себя, он принимает решение считать путешествие оконченным, а себя опять находящимся там же, откуда оно начиналось. История о Жероме — это история, которую он уже пережил прежде, это история о том, чего никогда не было, история о долгом путешествии, которое он совершил, не двигаясь с места.
Во сне он постоянно изучает географические карты, на которых начертаны континенты и страны, но они совсем не похожи на реальный мир. На этих картах существующие в действительности страны соединены в замысловатые новые конфигурации, например Мексика находится на севере Африки, рядом с Борнео, или страны имеют мифические названия и очертания. Его всегда привлекала необычность тех или иных мест, то, чего он не знает, а не то, что знает.
Четыре месяца спустя он едет в Европу. Весна только началась, и улицы Амстердама, по которым он ходит и ходит, еще холодны. Он едет на автобусе в Брюссель, оттуда на поезде в Страсбург. Недолго гостит у друга в горах Шварцвальд, затем, солнечным утром, с первым теплом, согревшим воздух, отправляется на поезде в Швейцарию.
Он письмом предупредил о своем приезде, а за несколько дней до прибытия позвонил из Германии. Жерома не было дома, к телефону подошла Алис, голос ее звучал встревоженно, но радостно: «Конечно, приезжайте, мы вас ждем». Но теперь, когда поезд скользит, извиваясь, сквозь горы и вырывается наконец под яркое небо, нависающее над озером и его берегами, к нему снова возвращается смутное воспоминание о страхе, охватившем его в Африке. Он стоит у окна, смотрит на мелькающие за ним дома и узкие улочки, протянувшиеся вдоль воды, и ощущает внутри холодок сомнения.
Ему нужно пересесть на местную ветку, которая бежит вдоль озера. Он выходит на пятой или шестой остановке и по лестнице спускается на мощеную площадь, от которой расходятся узкие улицы, круто спускающиеся к воде. Озеро серебристо-серое, на поверхности ни морщинки, и на противоположном берегу, вдали, острыми рваными хребтами возвышаются горы.
Теперь, после столь долгого ожидания и такого длинного пути, он не торопится. Долго сидит на берегу, размышляя. Ему бы хотелось задержать этот момент на неопределенное время, чтобы никогда больше не волноваться.
Но время идет, и он, подняв свою поклажу, возвращается назад вдоль озера, в том направлении, откуда пришел его поезд. Дорога сужается и уходит под сень деревьев, тянется мимо пирсов. Лебеди скользят по водной глади, словно на подставках собственных отражений. Полчаса спустя он входит в маленькую улицу, отклоняющуюся от озера, ее название написано у него на клочке бумаги из Малави.
Их дом самый большой, стоит в глубине от угла, за домом сад. Он стучит, через некоторое время слышатся шаги, и дверь открывается. Привет, а мы вас давно ждем. У матери Жерома короткие волосы и широкая приветливая улыбка.
— Входите, входите. — Кажется, она искренне рада его видеть, протягивает руку: — Меня зовут Катрин.
Пожимая руки, они оценивающе оглядывают друг друга. Он понятия не имеет, что ей о нем рассказали и чего она от него ждет.
— Жером только что вернулся домой, — говорит она. — Это сюрприз, мы ждали его только завтра. Он будет рад увидеться с вами. — Повернувшись к молоденькой девушке, топчущейся поблизости, она говорит: — Иди найди Жерома.
В ожидании они выходят на каменную веранду в задней части дома. В саду стоит дерево с подвешенными к нему качелями, сквозь его листву просвечивает вода. Улыбаясь, входит Алис. Они неловко, хотя и радостно здороваются, однако смотрят при этом вроде бы друг на друга и в то же время в сторону.
Появляется Жером, на нем синий военный мундир, волосы безжалостно коротко острижены. Они обмениваются словами и рукопожатиями, смущенно улыбаясь под взглядами его матери и Алис. И диалог, и жестикуляция фальшивы и скованны, словно смысл этого момента завернут в яркую бумагу.
Все неловко рассаживаются за садовым столом. Девушка, которую посылали за Жеромом, его младшая сестра. Ей лет четырнадцать-пятнадцать, у нее круглое веселое лицо. Старшая сестра приходит позже. Разговор то вспыхивает, то угасает, постоянно возвращаясь к нему, он чувствует, что их разбирает любопытство. Но в то же время он является и наблюдателем, в опускающихся сумерках он наблюдает за Жеромом в кругу женщин.
— Почему бы вам не прогуляться, — говорит Катрин. — Перед ужином.
Пересекая лужайку, они с Жеромом идут к воротам в конце сада. Потом гуляют по аллее вдоль озера. Они снова наедине, впервые после тех двух минут, что провели перед деревянной банковской дверью. Но теперь все по-другому. Искусственность и неловкость первого момента встречи в доме не исчезают, они не знают, что сказать друг другу.
— Так вот, значит, где вы живете.
— Да.
— Здесь красиво.
— Да. Мне нравится.
Лишь однажды маска натянутости на миг дает трещину, когда я спрашиваю его, трудно ли было возвращаться.
— Да. — Его губы шевелятся в поисках слов. — Мысленно я продолжаю путешествовать…
— Я знаю, что вы имеете в виду.
Жером проходит военную службу, домой приезжает только на выходные. Пока он здесь, они делят его комнату, гость спит на полу, на матрасе. Хоть эта часть дома и обособлена, как отдельная маленькая квартирка, они никогда не отделяются от остальных членов семьи. Приятно сидеть на солнце за домом, болтая с Катрин, или бродить по магазинам с Алис или с кем-нибудь из других сестер. Жером неизменно любезен и внимателен, знакомит его с друзьями, приглашает с собой, куда бы ни шел, а он позволяет водить себя повсюду и изображает довольного гостя.
В воскресенье приезжает отец Жерома. Он уже несколько лет живет отдельно от них, на другом конце озера. В семье его уход оставил затяжной привкус утраты. Так что в этот день, когда они разводят костер, чтобы устроить пикник во дворе, и перебрасываются мячом через сетку, между ними царит ощущение полноты и единства, которому я могу быть лишь свидетелем. Раскачиваясь на качелях, он словно с дальнего расстояния наблюдает за этой сценой, которую там, в Африке, не мог бы себе даже представить.
Все они начинают ему нравиться, поэтому, когда Жером вечером снова отбывает на поезде к месту службы, на какую-то военную базу, расположенную на другом конце страны, он не боится остаться с его семьей. Много времени он проводит в прогулках вдоль озера, ездит на поезде в город и там тоже гуляет. Посвящает целый день галерее аутсайдерского искусства, разглядывая картины и скульптуры, как бы созданные воображением душевно больных или «потерянных» людей, в памяти из всей этой коллекции фантастических и лихорадочных образов остается единственная картина сербского художника, фамилии которого он не запомнил. На ней изображена одна строка — название книги «Тот, у Кого Нет Дома».
На следующие выходные Жером приезжает снова, но если он надеялся, что перерыв в пять дней что-то изменит между ними, то этого не происходит. Они любезны и вежливы друг с другом, но в их отношениях есть что-то от письма, которое Жером прислал ему, продуманный и осторожный подбор слов, найденных и скопированных со словаря. Дело тут не только в Жероме, он сам тоже способствует этой болезненной неловкости. Он сейчас не он, а осмотрительная версия собственного характера, точно так же он не узнает в стриженых волосах и военной сдержанности человека, с которым делит комнату, мягкого и нежного юношу, с которым путешествовал четыре месяца тому назад.
Есть намеки на то, что такое состояние можно преодолеть. Жером затевает робкий разговор о своих планах на будущее, о том, как ему хотелось бы по окончании срока военной службы совершить сухопутную поездку в Грецию. Но это может случиться лишь месяца через два. Вероятность еще одной совместной поездки витает в воздухе, они оба думают о ней, но ни одному не хватает смелости сказать больше.
Он уже знает, что должен двигаться дальше. Вечером накануне следующего приезда Жерома он идет на прогулку вдоль озера. С противоположного берега накатывает туман, окутывая контуры маленьких судов, стоящих вдоль причала. Подойдя к пирсу, далеко выдающемуся в воду, он проходит по его деревянному настилу до самого конца. Отсюда берег не виден, вообще ничему не видно края. Он и сам плывет в белом тумане, вода мягко плещется внизу, холодный воздух обвевает лицо. Перегнувшись через перила, он вглядывается в белизну и думает обо всем, что случилось.
Когда Жером возвращается на этот раз, он находит удобный момент, чтобы сообщить:
— В понедельник я уезжаю. В Лондон. Не могу же я оставаться здесь вечно. Уверен, что ваша семья начинает уставать от меня.
— Нет-нет, — бурно протестует Жером. — Останьтесь.
Он мягко качает головой и улыбается:
— Я должен ехать, не могу долго оставаться на одном месте.
Позднее Жером приводит друга, живущего через несколько домов от них. Этот друг свободно говорит по-английски и пришел, как он сообщает, чтобы переводить.
— Жером говорит, что вы должны остаться.
— Нет, я правда не могу. Скажите ему, что я благодарен, но не могу. Может быть, я приеду еще.
— Когда? — спрашивает Жером.
— Позже. Когда немного попутешествую.
Это правда, говорит он сам себе, может, я и вернусь. Всегда существует еще раз, следующий месяц, следующий год, когда что-то изменится.
Но и после этих вспышек чувства последние выходные все равно очень похожи на предыдущие. Жером дружелюбен и отстранен, он не предпринимает особых усилий, чтобы поговорить или остаться наедине. Однажды он предлагает позвонить Кристиану и набирает номер. Но в трубке лишь гудки, гудки. Однако другой попытки они не предпринимают. Жером и кладет трубку.
— Попробуем позже.
Воскресным вечером Алис везет брата на вокзал. Он едет с ними. Жером опять в униформе, все пуговицы сияют, черные штиблеты отражают свет. Он гордится своим внешним видом, хотя старается это скрывать. В ожидании поезда они отправляются в бар, где встречают двух его друзей, тоже в форме. Они поедут вместе. Следуют представления, рукопожатия и формулы любезности.
— Вы уезжаете завтра? — спрашивает наконец Жером.
— Да.
— Но вы приедете снова?
— Возможно.
Один из друзей что-то говорит, и все встают.
— Простите. Нам надо идти.
В заключение они снова пожимают друг другу руки, обмениваются дежурными улыбками, среди множества искусственных поверхностей военные пуговицы сияют, как глаза. Никогда еще не были они так далеки друг от друга и так вежливы. Его утренний отъезд будет лишь эхом этого расставания. На самом деле он уже уехал или, может быть, никогда не приезжал.
Он едет в Лондон, но то же беспокойство не дает ему покоя и там, он едет куда-то еще. И снова куда-то. Пять месяцев спустя оказывается в странной стране, на окраине странного города, в спускающихся сумерках. Он наблюдает за людьми, слоняющимися по увеселительному парку по другую сторону заросшего пустыря. Через заросли сорняков до него слабо доносится цирковая музыка, и над темным скоплением людей у подножия высокого зеленого вулкана он видит огни чертова колеса, которое вращается, вращается, вращается.
Сам не зная почему, он воспринимает эту сцену как зеркало, в котором отражается он сам. Не его лицо, не его прошлое, а то, чем он, в сущности, является. Он ощущает печаль, легкую и бесцветную, как ветерок, и впервые с того момента, когда начал путешествовать, думает, что ему хочется остановиться. Осесть в одном месте и больше никуда не двигаться.
Через восемь месяцев после того, как побывал в Лондоне, он снова оказывается в этом городе, теперь на обратном пути. Он задержится здесь всего на неделю, после чего полетит в Амстердам, а оттуда, пять дней спустя, в Южную Африку.
В Лондоне он звонит Жерому из уличного автомата. Он не может точно сказать, зачем это делает, разве только потому, что обещал, и не уверен, стоит ли навещать их еще раз. Он не успевает ничего сказать об этом, так как Жером начинает просить: приезжайте, пожалуйста, приезжайте. На сей раз, даже сквозь тонкую жилку телефонного кабеля, он слышит горячность этого приглашения.
— Мне нужно подумать, — говорит он, — у меня нет денег.
— Моя семья, все в порядке, не надо денег.
— А также времени. До моего отъезда осталось всего несколько дней. Но ладно, я подумаю. Позвоню вам из Амстердама.
Однако, еще не добравшись до Амстердама, он уже принял решение не ехать. То, что у него мало времени и денег, чистая правда, но не это обусловило его решение. В нем все еще жива память о прошлом визите, он возил ее с собой на протяжении всех своих странствий и боится, что все повторится вновь. Он приедет, будет очень радушно принят, проведет день или два в безмятежности и комфорте, но молчание и дистанция между ними, которые они каким-то образом умудрились взрастить после своей первой встречи в Африке, будут расширяться и углубляться даже при том, что они стали испытывать еще большую симпатию друг к другу. Это не то, чего ему хочется, более того, это то, чего ему не хочется больше всего. Хватило короткого телефонного разговора, чтобы он осознал, насколько удручил его тот первый визит.
Вот почему, вместо того чтобы ехать в Швейцарию, он едет в Париж и бесцельно слоняется там по улицам, заходя в магазины, посиживая на скамейках. Он понимает, что снова предается самому нездоровому роду деятельности, убивает время, что путешествие не завершилось там, где он желал, а обернулось бесконечными двусмыслицами и неясностями, как дорога, беспредельно расходящаяся в разные стороны тропинками, которые с каждым разом становятся все менее отчетливыми.
Надо признать, что в эти три-четыре дня случаются моменты, когда желание вернуться в Швейцарию пронизывает его, словно внезапная острая боль, это ведь всего несколько часов езды на поезде, он может позволить себе такой каприз, но потом он вспоминает, как возвращался оттуда в прошлый раз, с трудом волоча за собой груз пустоты, словно черный чемодан, цепью прикованный к его запястью.
Иногда, проходя мимо уличного телефона-автомата, он вспоминает, что обещал позвонить. Но пока он к этому не готов, еще нет. Опять начнутся препирательства, перетягивание каната, попытки восстановить прерванное налаживание связи, при этом он может уступить, сам того не желая. Поэтому он оставляет звонок на самый последний момент.
Он уже в амстердамском аэропорту, сдал багаж, зарегистрировался и ждет посадки. В свете флуоресцентных ламп толпы народа тащат пакеты из беспошлинных магазинов, а сквозь толстое зеркальное стекло окон видны причудливые, неестественные очертания выстроившихся рядами самолетов. Он идет к шеренге телефонов-автоматов и звонит, подталкиваемый со всех сторон локтями и оглушаемый звуками иностранной речи. Он надеется не застать Жерома. К телефону подходит Катрин, она узнает его прежде, чем он успевает представиться.
— Привет. Вы собираетесь к нам?
— Нет, сожалею, но не могу. Я уже в аэропорту.
— О-о-о. — Похоже, она разочарована. — Какая жалость, мы надеялись, Жером надеялся.
— Я знаю, и мне очень жаль. — Он начинает бормотать оправдания насчет денег и времени, но язык подводит его. — В другой раз, — говорит он, и на сей раз действительно думает, что будет еще случай все сделать правильно.
— В другой раз, — соглашается она. — Хотите поговорить с Жеромом? — И хотя автомат стремительно глотает деньги, он понимает, что должен.
Сквозь треск на линии до него доносится короткий разговор, и когда Жером берет трубку, по голосу ясно, что он уже знает.
— О, но почему?
— Нет денег, — повторяет он снова, — нет времени.
— Приезжайте, приезжайте.
— Уже поздно. Я в аэропорту.
— Я все вам возмещу, — говорит Жером, — обещаю.
— В следующий раз.
— Да, я хочу совершить путешествие. В будущем году.
— Куда?
— Не знаю. Возможно, по Африке.
— Это будет замечательно, — говорит он. Это похоже на приглашение, хотя слова, как всегда, не произносятся.
— Жером, мне надо идти. Деньги.
— Не понимаю.
И тут связь прерывается. Он медленно вешает трубку, раздумывая, не позвонить ли снова, но он уже сказал то, что должен был сказать, да и действительно пора идти. В другой раз.
Друзья, живущие в Лондоне, купили дом в деревне, в трех часах езды от Кейптауна, и когда я очутился в Лондоне проездом, предложили мне пожить в нем. Подумайте, вам там будет удобно, дом пустует, и мы будем только рады, если кто-нибудь за ним присмотрит.
Он обещал подумать и на следующий день, перед отлетом из Лондона, позвонил и сказал, что согласен. Предложение казалось в каком-то смысле ниспосланным судьбой. Ему некуда возвращаться, и он знает, что не может больше жить так, как жил раньше, в бесконечном движении и неприкаянности. Так что идея пожить в доме, вдали от всех старых знакомых мест, кажется новым началом, возможностью обрести очаг.
Переезд дается нелегко. Приходится нанять фургон и уговорить друзей помочь ему забрать вещи со склада камеры хранения и доставить их. Жилище оказывается не похожим ни на одно из тех мест, где он жил раньше. Это деревенский дом, неотделанный, с крышей из пальмовых листьев, цементными полами и мельницей, колесо которой вращается за окном спальни. Друзья помогают ему разгрузиться и почти сразу же уезжают обратно в Кейптаун, оставляя его посреди множества громоздящихся друг на друга коробок.
В первую ночь он сидит на крыльце черного хода, глядя на заросший сорняками задний двор и дальше, на огни грузовиков, изредка проезжающих по единственной дороге, которая проходит через примыкающий городок. Он наблюдает, как луна восходит над каменными вершинами, над долиной, тихо накачивается шерри и пытается разобраться, что же он сделал с собой теперь.
Однако в течение нескольких следующих дней, в которые он метет, моет, распаковывает коробки и расставляет вещи по местам, отношение к новому дому улучшается. Дом ему не принадлежит, но ему не нужно из него уезжать до тех пор, пока он сам того не пожелает. По мере того как расположение комнат и шелест крыши становятся привычными, между ним и этим местом возникает своего рода интимная связь, они пускают усики и прорастают друг в друга. Процесс углубляется, когда его жизнь выплескивается за стены дома и он начинает выпалывать сорняки в саду, прокапывать бороздки и пускать по ним воду к фруктовым деревьям и розовым кустам. Когда же старые, мертвые на вид ветви начинают выпускать почки и листья, а затем взрываются ярким многоцветьем, он чувствует себя так, словно то же самое происходит внутри его самого.
Потом маленький городок и даже пейзаж, окружающий дом, тоже оказываются связанными с ним, между ним и миром исчезают разрывы, он больше не отделен от того, что видит вокруг. Теперь, когда он выходит за дверь, он делает это не для того, чтобы сесть в автобус или найти очередной отель, а для того, чтобы совершить прогулку по горам и вернуться домой. Домой. Иногда он останавливается посреди проселка, по которому идет, оборачивается, чтобы взглянуть на приютившийся в долине городок, и всегда находит среди крыш ту маленькую, под которой будет сегодня спать.
Он больше не чувствует себя вечным странником, ему трудно даже поверить, что когда-то он именно так себя воспринимал, и когда он решается написать письмо Жерому, то похож на иностранца, подыскивающего слова. Он рассказывает о том, где находится, что чувствует, живя здесь, и выражает надежду, что Жером когда-нибудь приедет к нему погостить.
Через неделю после того, как он отправляет письмо, приходит конверт из Швейцарии. Он не узнает почерка, но штемпель виден отчетливо, и он с волнением садится читать. Когда он вскрывает конверт, из него выпадает его собственное письмо, как осколок вернувшегося прошлого. На твердой карточке, вложенной в конверт, написано: «Уважаемый сэр, с прискорбием сообщаю Вам о кончине Жерома. Он погиб 26 ноября в результате аварии, в которую попал его мопед. Его мать попросила меня вернуть Вам Ваше письмо». Подпись внизу ему незнакома. Даже сейчас, когда он сидит в эпицентре беззвучного белого взрыва, та отдельная, наблюдающая за ним часть его сознания возвращается и читает записку через его плечо, пытаясь разобрать имя, отмечая все странности языка, стараясь вычислить когда это случилось. За неделю до того дня, когда я вернулся домой.
Путешествие — это жест, прочерченный в пространстве, он исчезает, не успев завершиться. Ты перемещаешься из одного места в другое, потом еще в другое, а за тобой уже нет и следа твоего там пребывания. Дороги, по которым ты шел вчера, уже заполнены другими людьми, никто из них не знает, кто ты есть. В комнате, где ты спал прошлой ночью, в той же кровати уже лежит другой человек. Пыль запорашивает твои следы, отпечатки твоих пальцев уже стерты с двери, с пола, со стола, а ошметки и крохи твоего пребывания, которые ты мог обронить там, выметены, выброшены и никогда не вернутся назад. Сам воздух смыкается, как вода, у тебя за спиной, лишь только твое присутствие, казавшееся столь весомым и постоянным, завершается. События случаются один раз и никогда не повторяются, никогда не возвращаются. Только в памяти.
Он долго сидит за столом, ничего не видя и не слыша. Когда силы возвращаются к нему, он очень медленно встает и выходит из дома, выходит в мир, заперев за собой дверь. Собственное тело кажется ему постаревшим, а все вокруг сквозь темные линзы на глазах странным и незнакомым, словно он заблудился в стране, где никогда прежде не бывал.
Часть третья
СТРАЖ
Еще до их отлета, когда он встречает ее рейс из Кейптауна, ему уже ясно, что он попал в беду. Последний раз он видел ее месяц назад. И тогда она была в плохом состоянии, но взгляните на нее теперь. Первой выскочила из самолета, шагает далеко впереди остальных пассажиров. Краска для волос сыграла с ней дурную шутку, волосы приобрели странный желтый цвет и сердито торчат в разные стороны маленькими пиками. Но помимо этого, что-то изменилось внутри ее, заметно даже издали. Кажется, что она фосфоресцирует каким-то белым сиянием. Ее лицо нахмурено и тревожно, взгляд обращен внутрь, и она слишком долго не замечает его. Потом лицо проясняется, она улыбается, и, когда обнимает его, они уже снова старые друзья.
Он в Претории уже несколько недель, гостит у матери. Но еще до того, как он уехал из Кейптауна, Анна начала съезжать с катушек, жила в лихорадочных метаниях, все время куда-то спешила, говорила и делала что-то несуразное, и сознание того, что она не контролирует себя, проявлялось на ее лице скрытой болью. Все это случалось и прежде, но только несколько дней назад ее болезнь обрела название — диагноз поставлен ее кейптаунским психиатром. И любовница Анны, и я, и даже сама Анна относимся к этому диагнозу с подозрением. Для нас она остается прежде всего человеком, независимо от ярлыков.
Он совершенно уверен в этом до тех пор, пока она не предстает перед ним. Совершенно очевидно, что в ней что-то сорвалось с якоря и блуждает внутри. Проблемы еще впереди, понимаю я.
Первая из проблем появляется еще до того, как мы успеваем оторваться от земли. В зале отлетов она заказывает пиво и смотрит на своего спутника с вызовом.
— Что? Что случилось?
— Ты не должна этого делать. Мы ведь говорили об этом вчера, помнишь?
— Всего один стаканчик.
— Тебе нельзя даже одного.
У нее в сумке небольшая аптечка — транквилизаторы, стабилизаторы, антидепрессанты, которые необходимо принимать в определенных сочетаниях в разное время, но алкоголь или энергетики сводят все лечение на нет, и накануне она торжественно поклялась мне по телефону, что не притронется ни к тому, ни к другому. Ту же клятву она дала своей любовнице и психиатру.
Когда я напоминаю ей об этом обещании, она сердито отменяет заказ, но лишь самолет взлетает, велит принести ей двойное виски. Если я время от времени немного хлебну, это не причинит мне никакого вреда! Я немею от ее вызывающего поведения, а инцидент быстро приобретает характер развивающегося бедствия. Когда приносят еду, она опрокидывает ее на себя, потом, направляясь в туалет, чтобы замыть пятна, бесцеремонно перебирается через сидящего рядом пассажира. По мере продолжения полета она приходит в неистовство и начинает рыдать из-за того, что ей не разрешают выкурить сигарету, а когда после полуночи они прилетают в Бомбей, она всю длинную дорогу в такси безостановочно расстегивает и застегивает многочисленные карманы своего рюкзака и шарит в них в поисках какой-то пропажи. Когда они вселяются в отель, она немного успокаивается, но почти сразу же оставляет его в комнате, запирает за собой дверь и отправляется в ресторан на крыше, чтобы еще немного выпить.
В последний раз, когда она сорвалась с тормозов, годы тому назад, она в конце концов оказалась в кейптаунской клинике, истощенная и покрытая ожогами от сигарет. На лечение ушло несколько месяцев, и процесс его она фетишизировала в фотографиях, на многих из которых была обнаженной, выставляющей напоказ все свои раны. В ее представлении это было сексуально и не являлось поводом для стыда. Закончилось все несколькими сеансами электрошоковой терапии, которые, как она позднее призналась мне, сама выпросила в качестве альтернативы самоубийству.
Отчасти чтобы избежать повторения подобного сценария, он пригласил ее поехать с ним в это его третье путешествие в Индию. Он отправляется туда на полгода, и план состоит в том, чтобы Анна провела с ним первые два месяца. Вначале всем казалось, что это хорошая идея. Дома, в Кейптауне, у нее престижная работа, очень высокие личностные и профессиональные показатели, а также будущее, исполненное впечатляющих перспектив. Обычно она более чем соответствует задачам, которые выдвигает перед ней эта работа, и набрасывается на их решение с рвением, которое сейчас, задним числом, кажется подозрительным. Но в настоящий момент и ее работа, и ее человеческие отношения оказались под угрозой из-за перенапряжения, а это означает, что ей нужен отдых. Два месяца вдали от дома — шанс снова обрести себя и стабилизироваться. Быть может, это именно то, что ей нужно.
Начало выдалось трудным, размышляет он. Когда они доберутся до пункта назначения, станет легче. Они направляются в крохотную рыбацкую деревушку в Южном Гоа, где он провел две предыдущие зимы. Там будет нечего делать, кроме как валяться на солнце, совершать длинные прогулки по берегу или плавать в теплом море. Несомненно, праздное времяпрепровождение ее успокоит. К тому же, как сказал ее психиатр, потребуется недели две, чтобы лекарства начали должным образом действовать. Впереди лучшие времена.
Однако, прежде чем они смогут полностью расслабиться, предстоит доехать до их деревушки. На следующий день в дороге разыгрывается новая драма. Он строго следит за выполнением медицинских предписаний и даже в поезде, который мотает из стороны в сторону, заставляет ее правильно отсчитывать количество всевозможных таблеток. Когда она начинает их глотать, он отворачивается, но боковым зрением замечает, как дергается ее рука, выбрасывая таблетку в окно.
— Что ты делаешь?!
Она мгновенно разражается слезами:
— Я не могу их принимать, эти транквилизаторы выбивают меня из колеи, я не в состоянии нормально функционировать.
Он чувствует укол жалости, на этом раннем этапе ему еще хватает терпения и сострадания.
— Анна, ты должна их принимать, организм скоро привыкнет.
Впоследствии, изучив инструкции психиатра, он узнает, что она вдвое превышала дозу транквилизатора, и когда этот дисбаланс был выправлен, оказалось, что лекарство перестало на нее действовать. Большую часть пути она спит, между тем как он смотрит в окно на меняющийся пейзаж. Он рад возможности спокойно подумать, пока простор сухих долин постепенно замещается буйной растительностью влажного знойного Гоа.
Теперь он мужчина средних лет, и его манера путешествия изменилась. Он стал менее подвижным, проводит больше времени в одном месте, без былой юношеской страсти к метаниям. Но в этом новом образе действий таятся свои проблемы. В одном из предыдущих вояжей в Индию, застряв в маленьком городке на самом севере страны в ожидании завершения каких-то бюрократических формальностей, он осознает, что у него начинают складываться определенные связи с этим местом, — он то дает деньги больному человеку на лечение, то вызывает ветеринара к бездомной собаке, — сплетается паутина привычек и социальных рефлексов, от которых он прежде и пытался бежать, отдаваясь путешествиям. Теперь он задумывается, не сделал ли он еще один шаг на этом пути, взяв с собой в поездку подругу, обремененную проблемами. Они еще не доехали до места, а он уже слышит тревожные аккорды, звенящие внутри. Но монотонное движение и жара вызывают оцепенение, и он немного успокаивается к вечеру, когда поезд проезжает мимо последних рисовых полей и озерцов синей воды между пальмовыми деревьями. Анна просыпается и в изумлении смотрит в окно.
— Мы еще не приехали?
— Почти приехали.
Солнце уже садится, когда они достигают Маргао, грязного суматошного городка, похожего на бесчисленное количество других таких же, мимо которых они проезжали, но, к счастью, им нет нужды задерживаться в нем. Пункт их назначения находится в двадцати минутах езды на авторикше[10] по дороге, бегущей среди буйной зелени в последних золотистых лучах медленно гаснущего над головой света, и в какой-то момент, пока они едут, она кладет ладонь на его плечо и говорит:
— Как здесь красиво. Спасибо, что привез меня сюда. Я так рада, что я здесь.
Когда они прибывают в маленькую семейную гостиницу, где он обычно останавливается, их радушно встречают знакомые лица, для них зарезервирована изолированная комната. Он принимает душ, а когда спускается в ресторан, она уже пьет джин с тоником.
— Да ладно тебе, — восклицает она, видя выражение его лица, — я на отдыхе, чего ты от меня хочешь.
Они с Анной добрые друзья, она ему как сестра, человек, которого он любит и который умеет его рассмешить. Человек, которого он хочет защитить. Именно в этом качестве он и сопровождает ее теперь, как ее страж. В последнем телефонном разговоре перед вылетом из Кейптауна, том самом, во время которого она пообещала ему не пить, она спросила почти вызывающе: а ты готов? Думаешь, что справишься со мной? Он ответил легкомысленно, не задумываясь: конечно, справлюсь. В то время это не казалось ему трудной задачей, потому что он всегда оказывал на нее успокаивающее, отрезвляющее влияние, она всегда слушалась его. Но теперь, всего через несколько дней после начала путешествия, он понимает, что на сей раз игра идет по другим правилам. До сих пор они всегда были на одной стороне, теперь она словно переметнулась в другой стан, в стан тех или того, чего он не знает, хотя постепенно начинает понимать, что опасность, грозящая Анне, сила, от которой ее надо защитить, находится внутри ее самой.
Первое представление о том, насколько могущественна эта сила, он получает, когда из чистого любопытства принимает полтаблетки ее транквилизатора. Эффект сокрушителен. Он сметен, положен на лопатки на целых двенадцать часов и весь следующий день ощущает слабость и чувствует себя не в своей тарелке. После этого он начинает смотреть на нее по-новому. Она глотает транквилизаторы три раза в день, и, похоже, они ее больше не тормозят. Что же это такое, что владеет ею изнутри и правит с такой яростью и властностью?
Ее болезнь, о которой он привыкает думать как о существе, отдельном от Анны заставляет ее вести себя беспокойно и экстравагантно. Пьянство лишь одно из проявлений, есть и другие. Она одержима потребностью постоянно упаковывать и распаковывать свой рюкзак, это желание овладевает ею в любое время дня и ночи, и тогда начинается маниакальное дергание молний, а на кровати вырастают стопки одежды. Он с озабоченным изумлением смотрит, как она раскладывает разные предметы одежды по кучкам — сюда рубашки, туда брюки, платья в третье место — и каждую кучку прячет в отдельный пластиковый пакет с надписью. Когда он говорит ей, что это безумие, она смеется и соглашается с ним, но это не удерживает ее от перекладывания рюкзака всего через два часа. И встает она каждое утро с первыми проблесками света. Ей прописали снотворное, которое она должна принимать каждый вечер, но она зачастую не дает себе труда следовать предписанию, и тогда он просыпается от шума — это она бродит в поисках чего-то, выходит на балкон выкурить первую сигарету. Прости, я разбудила тебя, я старалась все делать тихо. Похоже, и другие лекарства не действуют на нее. Ее настроение продолжает бешено скакать между бурной радостью и отчаянием, она может хохотать за завтраком и рыдать в середине утра. Он не знает, как справляться с этими крайностями.
Тем не менее им удается ладить. Пляж находится прямо в конце дорожки, и они каждый день нежатся там часами. Совершают прогулки, плавают, Анна делает сотни фотографий, ненасытно щелкая затвором объектива, квадратиками снимков всасывая в свою камеру мир — рыбацкие лодки в море, солнце, восходящее и на закате, капли воды на темной коже, лица проходящих мимо людей. Когда теперь, годы спустя, я смотрю на эти фотографии, они пробуждают во мне тогдашнее ощущение идиллии и невинности, которого, вероятно, не было даже тогда. Хотя по предыдущим приездам я знаю, какое это прекрасное место, и если время от времени воздух оглашается предсмертным визгом свиньи, что ж, и в раю забивают свиней.
Это случается в один из первых вечеров, когда они вместе сидят на балконе. Она говорит, что было бы приятно, если бы они могли предаться любви. Он смотрит на нее с удивлением.
— Я знаю, что это невозможно, — поспешно добавляет она, — просто я так подумала.
Следует долгая тишина. Их комната располагается на втором этаже, вровень с верхушками растущих во дворе пальм, и в последних отблесках света их листья окружает мягкое отраженное сияние.
— Анна, — говорит он, — мы не можем.
— Я знаю, знаю. Забудь.
— Твоя возлюбленная — мой лучший друг. И я не могу воспринимать тебя в таком качестве.
— Я этого и не говорила.
— В любом случае я думал, что мужчины тебе безразличны.
Она хихикает:
— Знаешь, я в этом не так уж уверена. Иногда мне приходит в голову.
Это что-то новое. Он знает, что у нее были серьезные романы с одним или двумя мужчинами, но уже довольно давно, в последние годы ее привязанности категорически склонились в другую сторону. Интересно, не является ли ее состояние просто реакцией на напряженность, которая сложилась в ее отношениях с партнершей? Анна ни разу не написала ей в Кейптаун, ни разу не позвонила, а когда он попытался предложить ей это, покачала головой и сказала, что ей не хочется, что между ними все кончено. Он же знает, что партнершу Анны ранит ее молчание.
Он не настаивает, это не его дело — в любом случае через несколько дней ее настроение изменится, — однако испытывает необъяснимое чувство вины, когда то ли тем же вечером, то ли вскоре после него она входит в комнату с каким-то американцем. Позднее она ему говорит: мы не спали друг с другом, только дурачились, но, Боже мой, как приятно, когда тебя обнимают и особым образом прикасаются к тебе.
Это ставит его в ужасное положение. Как сохранить преданность обеим? Он постоянно поддерживает связь с подругой Анны, сообщает ей о ее состоянии, но как сказать о том, что случилось? Между тем Анна рассчитывает на его молчание; если он проговорится, она сочтет это предательством. Он злится, что она втянула его в эту двусмысленную игру, и испытывает облегчение от того, что американец струсил. Следующим вечером, когда она пытается склонить его к близости, американец говорит, что должен отправить какое-то очень важное электронное письмо, а утром уезжает в город.
Она не сдается. Идея втемяшилась ей в голову, и она ищет способ ее реализовать. Она на редкость привлекательная женщина, а в нынешнем состоянии особенно, такая худенькая и горящая внутренним огнем. Вокруг нее крутятся разные мужчины. Через день или два она знакомится с Жаном, пятидесятилетним французским путешественником, живущим в той же гостинице. Когда, отправив несколько электронных писем, я возвращаюсь тем вечером в номер, они сидят на балконе, воркующие и хихикающие. Жан принял немного моих транквилизаторов, чтобы расслабиться. Хочешь тоже? Нет, благодарю. Я отступаю в комнату. В этот момент я отступаю от этой пары и в другом смысле. Я не сообщаю подруге Анны о Жане и нахожу способ разумно объяснить самому себе свое молчание: это, мол, всего лишь легкомысленный курортный флирт, ничего более, через несколько дней он уедет, а ей это, может быть, даже полезно. И как можно воспринимать Жана всерьез — унылый, мертвенно-бледный человек, меланхолически-безучастный, высокопарно произносящий пошлости. У себя в Париже он работает строителем и попутно занимается скульптурой. Утверждает, что когда-то танцевал с Нуриевым.
Видно, именно это искала Анна, она серьезно увлеклась им, вдруг началось — Жан это, Жан то. В конце концов они, взяв напрокат лодку, отправляются на несколько дней куда-то дальше вдоль побережья. Мне это не нравится, я пытаюсь отговорить ее, но она лишь смеется: у меня все прекрасно, не беспокойся обо мне. Он и правда слишком суетится вокруг нее, вероятно, его заботливость лишь усугубляет ситуацию. Может, ей и впрямь лучше немного отдохнуть от него. Он и сам испытывает облегчение, пусть и смешанное с сомнением, приятно сбыть ее с рук хотя бы ненадолго. Ведь он приехал сюда не только в качестве дуэньи, ему нужно поработать, и, пользуясь ее отсутствием, он принимается за дело, исписывая словами страницу за страницей. А с Анной он договаривался, что, когда Жан отбудет домой, они поедут на юг, так что очень скоро эта интермедия закончится.
Все оказалось не так просто. За несколько дней в обществе Жана Анна вбила себе в голову, что он ее будущее и ее судьба. Вернувшись, она только и делает, что ведет безумные разговоры о том, что хочет переехать жить во Францию, родить от него ребенка, и чем дальше, тем неистовей становятся эти бредни. Маленький роман превращается в серьезные отношения, пусть только в ее воображении, и это несмотря на то что Жан отказывается от близости с ней. Кажется, что свою предыдущую жизнь в Кейптауне она аннулировала. Страшнее всего, что Жан не догадывается, насколько она больна, он воспринимает ее состояние как дурной спектакль, участвовать в котором ее вынудили те, кто манипулирует ею, а твердит ей: ты должна просто верить в себя, и тебе станет лучше, незачем глотать все эти таблетки. Она охотно повторяет все эти псевдопремудрости в надежде, что я соглашусь с ними, но чего она мне не говорит, так это того, что он угощал ее травкой и кокаином в сочетании с гигантским количеством алкоголя. По возвращении она выглядит заметно более распущенной, раздражительной, и эта деградация кажется ей свободой, чем-то, чему она должна следовать, чтобы поправиться.
В таком опасном состоянии мы уезжаем, оставив позади Жана и Гоа. Я пребываю в некоем заблуждении, будто движение пойдет ей на пользу, будто ощущение проплывающей мимо жизни может приостановить ее внутренний раздрай. И поначалу все идет хорошо. Несколько дней они проводят в Кочине, совершают круиз по озерам и каналам штата Керала. Но к моменту приезда в Варкалу, город, расположенный на вершине скалы далеко на юге, напряженность между ними начинает сказываться. За Анной нужен постоянный присмотр, иначе она впадает в депрессию. Она не может спокойно просидеть и несколько минут без того, чтобы не прийти в страшное возбуждение. Она без конца что-то ломает, натыкается на мебель или падает. Разговоры о Жане нескончаемы и бредовы. Точно так же, как распаковывание и упаковывание рюкзака, которое давно перестало быть занятным. Стоит оставить ее одну даже ненадолго, она тут же вступает в потенциально опасные контакты с незнакомцами. Однажды например, подралась с какой-то швейцаркой, которая якобы плохо обращалась на пляже с котенком, а в другой раз позволила какому-то сомнительному пожилому мужчине, остановившемуся в том же отеле, делать ей массаж тела в его номере.
Ему приходится постоянно бегать за ней, в панике стараясь удержать или ликвидировать последствия. Он начинает чувствовать себя сварливой незамужней теткой, всегда озабоченной и несчастной, а Анна принимает на себя другую роль, роль невинной девочки, на которую незаслуженно нападают, ее широко открытые глаза смотрят с обидой и испугом. За словами, которые они произносят вслух, подспудно идет другой диалог, в котором она предстает жертвой, а он настырным обидчиком. Мне не нравится эта роль, я пытаюсь отойти от нее и порой действительно не могу понять, кто из нас не в себе. Кроме всего прочего, он боится, что наступит критический момент, потому что реального влияния на нее он не имеет. Если он попытается проявить авторитет, а она откажется повиноваться, что тогда делать? Если она шагнет за дверь с рюкзаком, послав его к черту, то единственным выходом для него будет умолять ее. И тогда обоим станет ясно, у кого власть.
Ему начинает казаться, что внутри ее поселился чужой человек, темный и дерзкий, которому нельзя доверять, который хочет полностью поглотить Анну. Этот незнакомец пока осторожен, он ждет своего часа. Между тем женщина, которую он знает, вот она, и порой берет верх. Тогда Анна разговаривает вполне здраво, она его слышит, он может склонить ее на свою сторону, они могут вместе посмеяться над чем-нибудь забавным. Но темный незнакомец всегда появляется снова, лукаво посматривает из-за ее плеча, делает что-нибудь вызывающее, и Анна скукоживается почти до невидимости. Иногда они сосуществуют, сестрица Анна и ее жуткий близнец, и борются за верховенство. Неравная борьба — незнакомец, безусловно, сильнее, — но я продолжаю надеяться, что таблетки помогут ей одержать победу.
По натуре я человек не слишком терпеливый, и борьба изнуряет меня. Я дохожу до крайнего предела однажды днем по дороге с пляжа, откуда она бредет с совершенно пустым и заторможенным выражением лица. Я гляжу на нее с минуту потом тихо спрашиваю:
— Ты под кайфом?
— Да, — отвечает она с улыбкой. — Какой-то парень угостил меня косячком.
Он теряет самообладание. До сих пор он испытывал раздражение и огорчался, теперь это нечто другое, взрыв отчаяния.
— Вот, значит, как! Ты нарушила все данные тобой обещания, ты подорвала наше доверие к тебе. Предполагалось, что это не будут каникулы — ты будешь работать над собой, а посмотри, что вышло. Завтра я отвезу тебя в Бомбей и отправлю домой.
Гнев подлинный, но слова блеф, даже не закончив говорить, он понимает, что не сможет исполнить угрозу. Сейчас разгар сезона, рейсы забиты, почти нет шанса достать билет. А самое главное, он не может больше слышать этот свой ворчливый тетушкин голос и понимает, как неразумно это звучит — отослать ее домой на две недели раньше срока за какую-то одну затяжку.
Она плачет, как ребенок, но его сердце остается неприступным, резервы сочувствия иссякают. Когда ссора стихает, оба чувствуют себя опустошенными, и на следующее утро, в состоянии той же внутренней пустоты, он решает заключить с ней договор. Никаких наркотиков, за исключением тех, что прописаны врачом, и только один стакан спиртного в день. Первое же нарушение договора, и он приведет угрозу в исполнение.
— Договорились? — спрашивает он.
Она медленно кивает с оцепеневшим лицом:
— Договорились.
— Ну, тогда по рукам, — говорю я, и мы пожимаем друг другу руки. Это не восстановление дружбы, это формальный жест, скрепляющий договоренность, вроде подписания контракта. Но ощущение такое, будто он одержал победу, какой бы та ни была маленькой, над дурным человеком, живущим внутри ее.
Они едут в Мадурай, где стоит величественный храм, который, как он думает, ей захочется сфотографировать. Он видел и этот храм, и все остальные достопримечательности на их нынешнем пути прежде, этот маршрут он разработал специально для нее, хочет доставить ей удовольствие и отвлечь от себя самой. Но путешествие проходит на фоне ее растущего отчаяния, ничто надолго не задерживает ее внимания. Она вихрем проносится через храм и почти сразу же впадает в лихорадочное возбуждение.
— Этот храм вгоняет меня в депрессию, — говорит она, — давай поедем в какое-нибудь другое место.
Они идут на цветочный рынок, потом в музей, но эффект тот же. Наконец он не выдерживает:
— Я не могу так метаться, иди куда хочешь, встретимся позже на вокзале.
У них зарезервированы билеты на ночной поезд до Бангалора. Багаж они утром оставили на вокзале в камере хранения, и когда он встречается с ней к концу дня, она перекладывает вещи в своем рюкзаке и плачет.
— Нам нужно поговорить о том, что между нами происходит, — говорит она.
— Мне нечего сказать, — отвечает он сухо, и на сей раз это правда.
В нем поселилась необратимая холодность по отношению к ней, он демонстрирует какие-то слабые свидетельства поддержки, но сердце его остается безучастным, и она это знает. Почему-то она срывается и начинает рыдать, рыдать безудержно, он же хладнокровно смотрит прямо перед собой. Просто он очень устал, слишком устал, чтобы успокаивать ее сейчас. Может быть, завтра к нему вернутся силы, и в этом решающее различие между ними, он мыслит в категориях «завтра», «послезавтра», для нее же существует только сейчас, которое равно вечности.
Даже в поезде она продолжает плакать. Потом, судя по всему, достигает критической точки и берет себя в руки. Достает рюкзак и снова начинает рыться в нем. Во всем этом нет ничего необычного, пока она вдруг не поворачивается к нему в панике.
— Что случилось?
— Мои таблетки. Их здесь нет. Кто-то их украл.
— Что ты имеешь в виду? Они должны быть там, посмотри еще раз.
Она выкладывает все из рюкзака, весь вагон наблюдает за этой сценой.
— Нет, их здесь нет, кто-то украл их.
Она начинает оглядывать пассажиров, словно преступник здесь, среди них.
Абсурдность этой идеи постепенно доходит до меня.
— Кто бы стал красть твои лекарства, Анна? Зачем?
— Я не знаю, но… — Затем лицо ее меняет выражение, ей в голову явно приходит другая мысль. — Постой. Нет, я теперь припоминаю. Я вынула их на вокзале, когда упаковывала рюкзак.
— Ты забыла их там?
— Думаю, да. В камере хранения.
Они глядят друг на друга, между тем как чудовищная масса поезда несется вперед, и колеса на каждом стыке рельсов отсчитывают расстояние между Анной и лекарствами, не дававшими ее жизни распасться на куски. Это катастрофа, и понимание этого заливает ее лицо новым потоком слез.
— О Господи, что нам теперь делать?
Пропасть между ними смыкается, его точно так же захлестывает душевное волнение. Если она забыла таблетки в камере хранения, есть слабая надежда, что они еще там.
— Ты уверена, Анна, ты уверена, что они именно там?
— Да-да. Я уверена.
Теперь она воет от горя, впечатляющее представление, весь вагон собирается вокруг нее. Все суетятся и тараторят. Кто-то вызывает кондуктора. Тот мрачно выслушивает историю, потом бессильно вскидывает руки — он ничем не может помочь.
Но Анна настаивает, она не сдается.
— Я умру без моих лекарств!
Это убеждает несчастного кондуктора остановить поезд. У какого-то безымянного полустанка, посреди ночи, состав, содрогаясь, останавливается, и Анна в сопровождении человека в форме спускается на платформу, идет искать телефон. Я остаюсь стеречь багаж. Некоторые пассажиры, высунувшись из окон, наблюдают и комментируют. Другие подходят ко мне, интересуются, что случилось, почему моя подруга плачет. Такое впечатление, что смятение Анны каким-то образом просочилось наружу и затронуло материальный мир, приведя людей и предметы в беспорядок.
Она возвращается, не получив ясного ответа. Камера хранения ночью закрыта; может, лекарства там, может, нет. Словно подчеркивая эту неопределенность, поезд снова начинает медленно двигаться, со скрежетом ускоряясь в темноте. Я сижу и размышляю. Вероятно, нужно было бы сойти на следующей станции и попробовать вернуться. А может, лучше доехать до Бангалора, все же это крупный центр, и поискать помощи там. Что не вызывает сомнений, так это ее полная зависимость от своего набора таблеток. Если она так безумствовала, когда принимала их, то даже думать не хочется о том, что с ней будет без них.
В этот момент похожий на доброго дядюшку мужчина, который сидит напротив с самого начала пути, заговаривает с ними. Он мистер Харирамамурти и, вероятно, сможет оказаться полезным. Ему надо выходить на станции, не доезжая Бангалора, но он доедет с ними до конца и поговорит с представителями железнодорожной полиции, он уверен, что те смогут помочь.
Наверняка это всего лишь вежливые слова, и, когда мы приедем на конечную станцию, мистер Харирамамурти исчезнет. Однако на следующее утро, по прибытии в Бангалор, он стоит рядом, готовый помогать. Как беспомощные дети, мы таскаемся за ним, пока он мечется из одного кабинета в другой, ведет сложные переговоры с разными чиновниками. Ни одному из них нет дела до нашей проблемы. Но мистер Харирамамурти не обескуражен.
— На верхнем этаже вокзала есть гостиничные комнаты, снимите одну из них и позвоните мне через два часа по этому номеру.
Он вручает свою визитку.
Нам удается получить комнату. Это представляется разумным решением, все равно следующий поезд до Мадурая будет только вечером, если до того времени ничего не решится, придется ехать. Когда же я в назначенный срок звоню мистеру Харирамамурти, он говорит, что у него хорошие новости. Его кузен работает в каком-то качестве на железной дороге, и ему удалось разыскать наши лекарства. Их отправят сегодня с ночным поездом, так что нам остается лишь ждать в своей комнате, лекарства доставят прямо до порога.
Кажется, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и меня переполняют недостойные сомнения: не водят ли нас за нос? Однако другого выбора, кроме как ждать, нет. Мы будем бдительны, какое бы жульничество против нас ни затевалось, мы не поддадимся, в худшем случае потеряем день.
А пока они отправляются в Бангалор и бродят по улицам. Анна пребывает в состоянии эйфории, какой он у нее еще не видел, она лопочет и жестикулирует без остановки, ее речь перескакивает с одного предмета на другой, она еще не готова вернуться в Южную Африку, она почти уверена, что ее связь там, дома, закончена, все теперь зависит от Жана, если она попросит его, может быть, он снова приедет в Гоа, чтобы встретиться с ней до ее возвращения домой.
— Анна, это безумие, он ведь только что вернулся во Францию!
Она смотрит на меня широко открытыми непонимающими глазами, и по ее взгляду я догадываюсь, что она потеряла всякое представление о времени.
В какой-то момент этого долгого дня, то ли на улице, то ли по возвращении в их комнату, она произносит это. Произносит словно бы между прочим, без особого смысла и значения, но это откровение сметает прочь весь окружающий мир.
— Знаешь, там, в поезде, я собиралась убить себя.
— Что?
— Именно для этого я искала таблетки. Собиралась проглотить их все разом, а потом лечь и заснуть.
— Ты шутишь.
— Нет, не шучу.
Мы смотрим друг на друга, и я понимаю, насколько она серьезна. Но в следующее мгновение она пожимает плечами и смеется.
Когда разразился этот кризис, к ним отчасти вернулась прежняя близость, они безудержно хохочут над объявлениями о прибытии и отправлении поездов, транслируемыми внизу через динамики, и вообще все происходящее кажется им слишком абсурдным, чтобы принимать его всерьез. Утром в городе она купила ему книгу, написала на ней «Я очень люблю тебя, мой друг», и слова эти показались обновленными и искренними. Все, что давило на них, словно отступило, в их товариществе, которому уже много лет, снова появилась легкость. Поэтому признание, которое она только что сделала, ошеломило их обоих.
— Я не знаю, — отвечает она озадаченно. — Мне вдруг захотелось умереть.
— Но почему? Почему?
Он не может с ходу ответить на это, вероятно, не сможет никогда. С тех пор как они познакомились, всегда были слова о том, что когда-нибудь она себя убьет. В них не было никакого драматизма, они были, скорее, побочной репликой в разговоре. Например, однажды он спросил, какой она представляет себя в старости, а она, не задумываясь, ответила, что никогда не будет старой. Она вечно планирует свои похороны, говорит друзьям, какая должна звучать музыка или в какой именно церкви проводить отпевание, но тон, каким это произносится, словно предполагает, что она сама будет присутствовать на церемонии в качестве зрителя. Трудно не поддаться легкости ее интонации, когда она так говорит, да и вечно пугаться угрозы, которую столько раз слышал, тоже трудно. А кроме того, с чего бы это такой женщине, как Анна, физически идеально здоровой, любимой, желанной и вызывающей восхищение у стольких людей, хотеть смерти. Нет никакой разумной причины. Поэтому даже теперь, когда он понимает, что она действительно имеет это в виду, он не может до конца поверить. Тем более что она уже переключилась на какое-то новое несчастье — то ли разбитую лампу, то ли потерянный ключ от комнаты, — и все это сливается в один непрерывно развивающийся кризис, который он пытается сдерживать. С Анной всегда так, сейчас смерть, в следующий момент фарс, и порой трудно отделить одно от другого.
Проходит дня два, прежде чем он находит в себе силы заговорить об этом, но даже теперь делает это чрезвычайно осторожно, кругами подбираясь к сути.
— А ты подумала, каково это было бы по отношению ко мне? — спрашивает он. — Подумала ли ты, как я буду чувствовать себя, оставшись в Индии один, с твоим мертвым телом на руках?
Она некоторое время серьезно размышляет над вопросом, потом кивает:
— Принято во внимание.
Невероятно, но утром действительно приносят лекарства. Раздается стук в дверь, и человек, стоящий на пороге, протягивает маленький черный мешочек. Анна выхватывает его, облегчение, которое она испытывает, похоже на радость. Сегодня средства, которые вчера должны были принести ей смерть, означают для нее жизнь.
Теперь можно продолжить путешествие и, оставив исполненную пылких выражений признательности записку мистеру Харирамамурти, они отправляются в Хампи. От него один день пути до их исходного пункта в Гоа, куда они все еще намереваются вернуться, но перед тем хотят ненадолго остановиться в этом выдающемся месте.
Развалины древней индусской империи рассеяны на обширном пространстве, покрытом валунами и причудливыми скалами, которые сами по себе напоминают руины. Здесь можно бродить много дней, но почти сразу же недавнее спокойствие начинает исчезать. На Анну плохо действует окружающий пейзаж, его изолированность каким-то образом отзывается в ней, и вскоре она ведет себя уже по-прежнему. Не успевают они прийти в одно место, как ей хочется мчаться в другое, ничто не может ее удержать на месте, ничто не может удержать ее в себе.
— Это место дерьмо, — говорит она ему, — я хочу обратно в Гоа.
Ничего не остается, как прервать их пребывание здесь. Он резервирует железнодорожные билеты на следующий день. Выходить им нужно в девять утра, но уже в пять она на ногах и громыхает дверью, пытаясь ее открыть. Он теряет терпение:
— Ради Бога, почему ты не выпила на ночь снотворное?
— Потому что оно мне не нужно.
— Но видно же, что нужно.
Поезд тихоходный, останавливается на каждой станции, долгие знойные часы в основном проходят в молчании, но это больше не дружеское молчание, а молчание от изнуренности, от того, что иссяк некогда глубокий резерв. Анне остается пробыть в Индии еще две недели, и он решает, что они проведут их здесь, на побережье, где, как ему кажется, она чувствует себя спокойнее, чем в любом другом месте. После этого он освободится и в течение следующих четырех месяцев будет путешествовать в одиночестве.
В деревню они приезжают затемно. В нижнем ресторане царит праздничная атмосфера, и они заражаются весельем. Ужинают в обществе других гостей, им кажется, что они никуда не уезжали. В ту ночь они спят в одной комнате наверху, в одной кровати, и большая петля, по которой они совершили путешествие, становится всего лишь еще одним завершенным кругом, приведшим их точно туда откуда они начинали.
На следующее утро, бродя в темноте и натыкаясь на вещи, она снова будит его до рассвета. Это повторение предыдущего дня, хотя помнит об этом только он.
— А чего ты хочешь от меня! — кричит она. — Если я проснулась, значит, проснулась.
— Я хочу, чтобы ты принимала снотворное, — отвечает он. — А для чего тогда мы так старались получить твои таблетки обратно?
Он слишком сердит, чтобы снова заснуть, поэтому встает, злой от усталости, и отправляется на долгую прогулку по пляжу. Когда он возвращается, она сидит внизу и завтракает, но он не присоединяется к ней, почему, он и сам не может сказать. Изменило ли бы это что-либо в последующих событиях? Может быть. Вероятно, именно молчание стало последней каплей. Он завтракает за отдельным столом, как незнакомец, а покончив с едой, подходит к ней:
— Я собираюсь в Маргао. Надо кое-что купить.
Она кивает. Я до сих пор помню тот синий взгляд ее глаз.
Он садится в автобус до Маргао и около часа ходит по магазинам. Вернувшись в середине утра, находит комнату запертой изнутри. Она открывает дверь на его стук и возвращается в постель. Он замечает, что она в ночной рубашке поверх бикини, рядом с ней на тумбочке наполовину пустая бутылка пива и плюшевый медвежонок, которого она повсюду носит с собой, он ее успокаивает.
— Ты спала?
— Я поплавала немного и устала.
В комнате царит необычная атмосфера, острые пики их конфронтации, прежде наполнявшие ее, исчезли. Анна кажется спокойной и вроде бы более молодой, словно ушла куда-то в детство. Шторы задернуты, на всем печать неподвижности, совершенно не соответствующая дневному времени. Теперь, при взгляде назад, эти знаки кажутся очевидными, настолько очевидными, что не разглядеть в них тревожного сигнала представляется не возможным. То, что он ничего не понял свидетельствует о его крайней усталости от бесконечного повторения одного и того же сценария, о том, что он доведен до крайней точки — до безразличия. Впоследствии он будет винить себя за тогдашнюю неспособность увидеть то, что было перед глазами.
— Я получила письмо из дому, — сонно говорит она.
— О чем?
— Она считает, что лечение не действует. Считает, что мне нужно возвращаться раньше.
— А ты не хочешь?
— Нет. Я знаю, что это значит. Они снова упрячут меня в клинику.
— Мы можем обсудить это, Анна, но не в твоем полусонном состоянии. Выходи ко мне, поговорим.
Я беру книгу и усаживаюсь на освещенном солнцем балконе. Злость по отношению к ней прошла, я испытываю лишь возвращение усталого чувства долга. Но она ко мне не выходит. Я слышу мимолетное движение в комнате, какое-то шуршание, вероятно, это пластиковый пакет летает по комнате, перемещаемый лениво вращающимся вентилятором, то, как она закуривает сигарету. Потом ее дыхание становится более спокойным и глубоким. Немного почитав, я встаю и потягиваюсь, размышляя, не сходить ли на пляж, но, когда вхожу в комнату, вижу грязную одежду, приготовленную для стирки, и отправляюсь в ванную. Пока я стираю, отжимаю и развешиваю белье на перилах, проходит около часа.
Случайность заставляет наконец увидеть общую картину. В ванной, наклонясь, чтобы смести рассыпанный стиральный порошок, я бросаю взгляд в комнату и вижу Анну, лежащую на кровати, а на полу под кроватью кучу пустых упаковок от лекарств. От ее таблеток. Так, значит, звуки, которые вонзались мне в мозг, были звуками вскрываемых упаковок. Что-то неправильное есть в общем виде комнаты, я знаю это, но не понимаю, что именно, а когда понимаю, ледяной холод поднимается откуда-то изнутри меня и, вытесняя дневную жару, замораживает все вокруг.
— Нет, — говорю я вслух, — не может быть. — Да, думаю я про себя, она это сделала.
Теперь я наблюдаю за собой как за кем-то посторонним. Вижу как он обегает вокруг кровати, хватает ее за руку, трясет. Слышу, как выкрикивает ее имя. Когда же она не просыпается, когда ее веки лишь слабо вздрагивают и снова закрываются, последние сомнения исчезают. Теперь он понимает, что к этому шло с самого первого дня. Как ты мог этого не знать? Почему ничего не делал несколько недель назад, когда еще было время? Как ты мог допустить это, если предупреждения сыпались отовсюду?
Нет слов, которыми можно было бы выразить то, что происходит, то, что он думает и чувствует. Его тело действует само по себе, пытаясь исправить то, чего уже не исправишь, между тем его разум и дух витают где-то в другом месте, ведя между собой бурный, бессвязный диалог. Что бы случилось, если бы, если бы что, если бы она, нет, я не хочу думать об этом. Действуй, действуй, делай что-нибудь. Вот он хватает женщину, сажает ее, хлещет по щекам. Анна, просыпайся, ты должна проснуться. И в конце концов она просыпается, ее глаза полностью открываются. У нее удивленное выражение лица.
— Послушай меня, — говорит он. — Ты должна мне сказать, что ты сделала.
Она задумывается ненадолго, потом шепчет:
— Съела свои лекарства.
— Сколько таблеток ты приняла?
— Все.
Все. Обособленной, рациональной частью сознания он понимает, сколько это.
Около двухсот таблеток транквилизаторов и около пятидесяти снотворного. Белое облако ужаса окутывает все вокруг, лишая предметы красок. Вот он выбегает из комнаты, мчится вниз, вот стоит перед официантом в ресторане. «В деревне есть врач? Немедленно вызовите врача!» В ресторане сидят несколько постояльцев, они приходят в движение, встревожены, любопытствуют. Он разворачивается и, громко топая, взлетает обратно по лестнице. Он стаскивает ее с постели и ставит на ноги. Ты должна двигаться, Анна, все время двигаться. Думай, думай. Надо, чтобы вырвало. Он тащит ее в ванную, наклоняет над унитазом, засовывает пальцы ей в горло. Ее голова безвольно раскачивается. Ну же, Анна. Он хватает свою зубную щетку, нажимает ручкой ей на язык. Она рыгает, но рвоты нет. Умоляю тебя, Анна, ну сделан же это. Она оседает, качается из стороны в сторону. Он волочет ее обратно в комнату, водит от стены к стене, останавливается, чтобы снова засунуть ей в рот пальцы, пытаясь силой вырвать семена смерти, которые она в себе посеяла. Постарайся, Анна, ради Бога. Как ты могла сотворить такое? Да еще в месте, где нет помощи.
Он никогда не чувствовал себя таким одиноким. Но в этот момент появляется пожилая англичанка, которая регулярно приезжает в деревушку на полгода и живет здесь в частном доме. Он едва знаком с ней, лишь несколько раз перекинулся парой слов, но безумно, отчаянно рад ее появлению.
— Что случилось? — спрашивает она тонким голосом.
Только теперь он понимает, что его отчаянные крики были слышны за пределами дома.
— Кэролайн, — умоляет он, — о, Кэролайн. Вы должны мне помочь.
— Что с ней?
— Она выпила все свои лекарства. Двести пятьдесят таблеток, — говорит он, снова удивляясь такому огромному количеству.
Она ведет себя куда спокойнее, чем он, и вносит в атмосферу комнаты ощущение трезвости и здравомыслия. Он вспоминает, что в другой жизни, в Англии, она работала медсестрой, и рад положиться на нее, когда она берет дело в свои руки.
— Соленая вода, — командует она, — нам нужна соленая вода.
Я бросаюсь в ресторан и возвращаюсь с двумя литрами теплой соленой воды. Мы вливаем их в Анну, зажав ей нос, чтобы заставить глотать. Потом Кэролайн выходит и возвращается с длинной тростинкой, которую где-то сорвала. Я держу голову Анны запрокинутой, а рот открытым, Кэролайн засовывает тростинку ей в горло. Но хоть тростинка проходит внутрь до самого конца, так глубоко, что на конце, когда ее вынимают, виднеется кровь, ничего не происходит. Анна пассивна, ни помогает, ни мешает. Ее пассивность напоминает демонстративное неповиновение, она словно бы с любопытством наблюдает за их усилиями со стороны. Напрасно стараетесь, поздно, поздно.
Теперь уже ясно, что врач не приедет. Кто-то вызывает такси, и они, наполовину поддерживая, наполовину неся на себе спускают ее по лестнице. На почтительном расстоянии собралась толпа, наблюдающая за драмой. Мы садимся в машину, все трое на заднее сиденье, Анна в середине с ведром между колен. Пока мы едем в Маргао, причем машина постоянно глохнет и с трудом заводится снова, между ними происходит странный разговор.
— Зачем ты это сделала?
— Потому что хочу умереть.
— Какая у тебя причина умирать?
— А какая у меня причина жить?
— Вы большая эгоистка, милочка, — сурово говорит Кэролайн.
К этому времени Анна почти без сознания, она раскачивается и невнятно бормочет. Мы обсуждаем, куда ее везти. Поблизости живет частный врач, но мы решаем ехать в государственную больницу, вероятно, там располагают большими возможностями. В больнице мы взваливаем ее на каталку. Пока мы объясняем врачу, что она сделала, появляется таксист и дергает меня за рукав: семьсот рупий. Это в пять раз больше обычных расценок, но я швыряю ему деньги, спорить некогда. Анна делает мне какой-то слабый знак и, когда я наклоняюсь к ней, почти неслышно что-то шепчет.
— Что ты говоришь? Я не понимаю тебя.
Она прилагает усилия, и на этот раз я слышу.
— Скажи им, что я приняла.
— Уже сказал, — отвечаю я.
И в этот момент она проваливается в беспамятство.
Я прихватил с собой ее медицинские предписания, чтобы показать врачу, он читает их, качая головой.
— И она приняла все это.
— Да, все.
— Придется делать откачивание, — говорит он и объясняет мне условия лечения в их больнице. Они неслыханны, он вынужден повторить еще раз, прежде чем я все до конца понимаю. Лечение и содержание бесплатны, а инструменты и лекарства нет. Но недостаточно просто заплатить за них, их нужно самим купить. Доктор пишет список необходимого на клочке бумаги, с которым я должен проследовать по коридору, выйти из здания, пересечь внутренний двор и по другому коридору, в другом здании, дойти до аптеки.
Перед прилавком стоит небольшая толпа, каждый размахивает своим листком и вопит, стараясь перекричать других. Я врезаюсь в толпу, прокладывая себе путь локтями.
— Моя подруга умирает! — рычу я. — Пожалуйста, пропустите меня!
Вероятно, тон моего голоса производит впечатление, потому что мою бумажку берут сразу же. Я жду, пока усталый продавец бродит между полками, снимая с них то, что требуется. Длинный отрезок резиновой трубки, солевой раствор, марлю. Потом подводит баланс, берет у меня деньги и тщательно отсчитывает сдачу. От чувства нереальности происходящего воздух словно густеет, ощущаешь себя как во сне, в котором не можешь двигаться, и сквозь этот туман я бегу обратно по коридору, через двор, по следующему коридору, на второй этаж.
Врач сообщает мне, что если промывание желудка не поможет, то придется перевести Анну в большую больницу в Панаджи, где есть аппараты искусственного дыхания и кровообращения. Существует опасность, что у больной начнут отказывать внутренние органы, а здесь, в Маргао, необходимого оборудования нет.
Когда я и врач приходим к Анне, в палате, где она лежит, разыгрывается сцена. Палата набита индианками, и иностранка вызывает у них жгучее любопытство. Они с простодушным любопытством смотрят на то, как у спящей женщины выворачивает желудок. Пятна расползаются по ее ночной рубашке, воздух наполняется отвратительным запахом. Я озираюсь в поисках медсестры, но не тут-то было. Врач сурово говорит нам:
— Вы устроили этот беспорядок, вам и убирать.
— О Боже, — говорю я, — не могу поверить.
И это один из немногих в моей жизни случаев, когда заявление соответствует истине. Утром я гулял по пляжу, а теперь должен убирать блевотину за моей умирающей подругой.
Хорошо знающая свое дело Кэролайн снова все берет в свои руки:
— Нам нужны резиновые перчатки, дезинфицирующее средство и хлопчатобумажная тряпка.
Врач записывает все это на бумажке, а я, сбежав на два этажа, снова мчусь через двор в аптеку. Когда я возвращаюсь, Кэролайн уже сняла с Анны ночную рубашку и купальный костюм, разрезав их. Мы перекатываем ее на бок. Она представляет собой абсолютно инертную массу, мертвый груз. Соседки по палате находят все это очень забавным; прикрывая рты руками, они весело хихикают.
Когда мы начинаем мыть Анну, я не выдерживаю и признаюсь, скорее себе, чем кому бы то ни было:
— Не знаю, смогу ли я.
Кэролайн смотрит на меня.
— Я сама все сделаю.
Оказывается, в Англии она как медсестра ухаживает за престарелыми больными, часто прикованными к постели, этим и зарабатывает деньги на поездки в Индию. И снова меня охватывает прилив благодарности к Кэролайн за готовность сделать и эту работу за меня.
Наблюдательницы падают со смеху, пока Кэролайн обтирает Анну. Я выхожу в коридор. Я ощущаю себя так, будто нахожусь далеко от себя самого и от окружающих меня поверхностей, как если бы я смотрел в дальний конец длинного темного тоннеля на солнечный мир, находящийся за ним.
Врач, толстый и ленивый на вид мужчина, возвращается.
— Мы собираемся перевести ее, — говорит он. — Но нельзя.
— Что вы имеете в виду?
— Она голая. Так нельзя. Нужно ее одеть. Мы не можем переносить ее в машину «скорой помощи» в таком виде.
— Но у меня нет для нее одежды. Нет ли здесь больничного халата или чего-то в этом роде?
Он качает головой:
— Вы сами должны найти одежду.
Трудно поверить, что в подобной ситуации приоритет может быть отдан скромности. Мне хочется схватить этого толстого самодовольного мужчину, который почти наслаждается моей бедой, и тряхнуть его так, чтобы у него клацнули зубы и он понял, что одежда в такой момент, как сейчас, не имеет никакого значения, совсем никакого. Но я понимаю, что выбора у меня нет.
И вот он снова бросается вниз по лестнице, выбегает из больницы, мчится на главную улицу. Он влетает в магазин, но там не продают платьев. Для этого нужно ехать на базар. Он выбегает на улицу, останавливает автобус и едет через весь город на базар. Это единственные минуты неподвижности в сегодняшней бурной круговерти. Потом он мечется по базару; платье, мне нужно платье. В конце концов находится какое-то одно, сует деньги и, не дожидаясь сдачи, выбегает из магазина. У входа восседает без дела на своем мотороллере мужчина, я хватаю его за руку. «Пожалуйста, пожалуйста, отвезите меня в больницу, я заплачу, только отвезите!» Почуяв мою панику или просто желая заработать, мужчина везет меня на своем маленьком механизме, лавируя в потоке машин.
Возле больницы он расплачивается с водителем мотороллера и несется вверх по лестнице. Ничто не изменилось, Анна лежит в той же позе, голой спиной к комнате. Мы натягиваем на нее платье, и, как только заканчиваем, ее рвет снова. Женщины разражаются дружным смехом.
«Скорая помощь» ждет у подъезда. Дорога в Панаджи займет около часа, и, наверное, час прошел с момента нашего прибытия сюда. Эти отрезки времени представляются как огромные расстояния, как пустынный простор, раскинувшийся в обоих направлениях. Теперь правила мне знакомы, в Панаджи придется все покупать самому, поэтому нужны деньги и одежда. Не успевает он высказать пожелание, как Кэролайн сама поднимается в машину.
— Позвольте мне поехать с ней, — говорит она, — а вы возвращайтесь в гостиницу и возьмите все, что нужно.
У него такое чувство, будто в последний раз он видел эту комнату давным-давно, а вовсе не несколько часов назад. Он запихивает в сумку какую-то одежду, берет деньги и собирается уходить, когда его взгляд падает на дневник Анны, лежащий на кровати. Она одержимо вела его с первого дня путешествия, документируя каждое событие, и ему интересно узнать, есть ли в нем какое-нибудь финальное послание. Со страхом открыв последнюю страницу, он находит его, оно нацарапано неровным, рваным почерком. «Дэймон, НЕ чувствуй себя виноватым. Я знаю, что, если вернусь, буду принята. Но предпочитаю умереть на пике жизни». На противоположной странице еще одна запись: "Дорогие мои. Все, кого я Люблю, я больше не могу жить со своей болезнью. В этом нет ничьей вины. Я всех вас люблю, увидимся в другой жизни».
Есть еще кое-что, указания относительно того, что делать с ее телом, деньгами и вещами, несколько слов ее подруге, семье, а также Жану. Все это накарябано тем же лихорадочным почерком, слова уходят за край страницы. Несомненно, она писала это уже после того, как проглотила таблетки, вероятно даже, когда он сидел и читал на балконе, а ее мозг начинал заволакиваться туманом.
Он закрывает тетрадь и откладывает ее, сейчас нет времени читать. Прежде чем отправиться в больницу, он должен сделать звонок, звонок, который его страшит, любовнице Анны в Кейптаун. Он должен сообщить ей то, чего она больше всего боялась, что пыталась предотвратить последние восемь лет. Он идет в телефонную будку, стоящую на перекрестке, и набирает номер. Никто долго не отвечает, а потом включается автоответчик. Он молчит мгновение, у него нет слов, которые можно наговорить на пленку. Затем сухо и лаконично сообщает факты, номер телефона гостиницы и после паузы совсем другим голосом добавляет:
— Я не знаю, что тебе сказать. Похоже, дела плохи.
Хозяин гостиницы предлагает отвезти меня в Панаджи. Весь тот час, что занимает поездка в его джипе на север, я молча сижу рядом с этим лысым, строгим мужчиной средних лет, который одет в подобающий случаю строгий синий костюм. Больница представляет собой комплекс облезлых бетонных зданий на самой окраине города, больше похожих на сдаваемые в аренду многонаселенные дома, нежели на учреждение. Опоясывающая их стена окружена изгородью коричневого кустарника, напоминающего ему об Африке.
Анна все еще в приемном покое, ее пока не оформили. Кэролайн сидит на скамейке в коридоре горестная и печальная. Куда девался ее уверенно-профессиональный вид. Лишь позднее я узнаю, что поездка с бесчувственным телом Анны всколыхнула в ней воспоминания о событиях, не имеющих отношения к тем местам, где мы теперь находимся.
— Мне очень жаль, — говорит она тихо, — но, боюсь, ваша подруга умирает.
Она хочет сказать, что я должен быть к этому готов, но как можно к этому подготовиться? Среди множества лежащих на каталках больных в критическом состоянии я нахожу Анну. У нее пугающе-синюшное лицо, она с хрипом втягивает воздух из кислородной подушки. Надменный врач переходит от пациента к пациенту, раздавая диагнозы, словно милости, и когда я спрашиваю его, каковы шансы Анны, он беззаботно машет рукой:
— Нужно отправить ее в реанимацию, тогда посмотрим.
Вскоре после этого Анну отвозят наверх, в отделение интенсивной терапии, и вдруг все бурление стихает, сменяясь мучительной неподвижностью ожидания. Анна находится где-то, ее не видно, и мы вынуждены сидеть в грязной комнате, полной пластмассовых стульев. Всеобщее внимание обращено на закрытую дверь. Время от времени она открывается для того, чтобы выпустить медсестру или врача, которые громко выкликают фамилию больного. Когда называют фамилию Анны, что в первый день случается чаще, чем в последующие, я бываю должен бежать с рецептом в руке в другое крыло больницы, в аптеку, по обыкновению осаждаемую кричащими и толкающимися людьми, а потом возвращаться с лекарством или каким-нибудь необходимым медицинским инвентарем. Эти поручения немного скрашивают ожидание.
Очень скоро я соображаю, что без чьей-либо помощи никогда не смогу покинуть эту комнату. Каждый день, каждый час кто-то должен быть под рукой. Мое смятение при этой мысли несколько утихает, когда я вступаю в разговоры кое с кем из тех, кто нас окружает, их истории позволяют мне более трезво оценить свое положение. Члены одной семьи, сменяя друг друга каждые шесть часов, дежурят здесь уже несколько месяцев. Одна женщина, которой некому помочь, принеся с собой сменную одежду и зубную щетку, буквально живет в этой комнате уже пять недель, и конца этому не видно.
Кэролайн вернулась в деревню с хозяином гостиницы, и я предвижу изнурительную ночь, которая будет проплывать передо мной, словно черное пустое пространство. Но вскоре приезжает голландский турист по имени Сьеф, с которым я немного знаком по двум предыдущим сезонам. Он говорит, что приехал сменить меня, чтобы я мог отправиться домой поспать. Его доброта трогает меня до слез, но я не могу заставить себя уехать. Хотя и не говорю этого вслух, я предчувствую, что моя подруга умрет этой ночью, и хочу быть рядом, когда это случится.
Так начинается наше первое со Сьефом совместное ночное бдение. В восемь часов вечера, к моему удивлению, комната приходит в движение, все собираются у двери отделения. Что происходит? Кто-то объясняет, что дважды в сутки, вечером и утром, друзьям и родственникам больных разрешается на пять минут войти внутрь. Итак, мы проходим в «святилище», где кровати стоят в два длинных ряда, создавая призрачную перспективу. Анна вся опутана трубками, идущими от аппаратов искусственного дыхания и искусственного кровообращения. Ее лицо вновь приобрело нормальный цвет, однако посреди такого количества жужжащей техники сама она кажется безжизненной оболочкой, обернутой вокруг пустоты, в каком-то смысле трупом, которым она так хотела стать.
Я касаюсь ее руки и шепотом говорю с ней. «Ты должна бороться, ты должна к нам вернуться». В ответ ничего, а потом медсестра быстро идет по проходу, выпроваживая нас.
Та первая ночь оказывается очень длинной и почти бессонной. Если не считать беготни с поручениями в аптеку, часы тянутся невыносимо утомительно под светом флуоресцентных ламп. Туалет, один на всех, грязен и вонюч, два мусорных ведра переполнены больничными отходами, и каждый раз, когда открывается дверь, из них в разные стороны разбегаются крысы. Улегшись на пол поспать, он затыкает уши смятыми клочками газеты, чтобы в них не заползли вездесущие тараканы.
Наступает утро, и дверь снова открывается. Анна лежит точно так же, как лежала накануне, принцесса, погруженная в сон ведьмовским заклятием. Ей неведомы ни мерзость грязного пола, ни бесконечно тянущееся время, ни засилье крыс и насекомых, это все принадлежит нам в череде последующих дней.
Теперь меня спасают Кэролайн, Сьеф и его жена-англичанка Пола, которые помогают мне нести дежурство под дверью отделения. Сменяя друг друга, мы челноками перемещаемся между деревней и больницей, час езды в один конец.
Время, которое я провожу в деревне, большей частью заполнено отсылкой электронных писем и телефонными звонками, посланиями, как личными, так и официальными, пересекающими океан туда-сюда. Дольше всего длятся разговоры с кейптаунской подругой Анны. Ее страдание безмерно. Я чувствую ее беспомощность через полмира, беспомощность свидетельницы, которая даже не присутствует на месте. Разумеется, она хочет немедленно приехать. Но формальности осложняют дело, нужна виза, получение которой займет несколько дней, и билета на самолет по-прежнему не достать. Но я стараюсь отговорить ее еще и по другим причинам. Для нее будет невыносимо приехать и узнать, что Анна больше не хочет быть с ней, а хочет быть с другим человеком. Воспоминания последних нескольких недель, все эти разговоры о Жане, ее рыцаре в сверкающих доспехах, который не выказал ни малейшего желания примчаться к ней, хотя ему и сообщили о случившемся, все еще острой болью отдаются во мне. В конце концов я решаюсь о нем рассказать.
— Есть кое-что, — начинаю я, — кое-что, что я должен тебе сообщить.
— Да?
— У Анны здесь был роман.
Молчание.
— Я знала, — говорит она наконец, — я знала это.
— Мне жаль.
— С мужчиной?
— Да. Она была решительно настроена на это, тут подошел бы любой. Прости, что не сказал тебе этого раньше. Но сейчас тебе лучше узнать об этом до того, как ты сюда приедешь. Она говорила, что ваши отношения закончились, что хочет быть с этим парнем.
Теперь я выдаю ей все подробности, все то, что до сих пор держал в глубокой тайне. Похоже, мы дошли до последнего предела откровенности, где нет больше никаких секретов, нет места для утаивания. Мы выворачиваемся наизнанку, словно правда может принести облегчение, но она приносит лишь еще большую боль. Во время то ли этого, то ли следующего разговора я ухожу с телефоном в поле, простирающееся за гостиницей, и кричу во все горло:
— Прости меня, прости, я обещал, что пригляжу за ней! Я не понимал, какой груз на себя взваливаю!
Он возвращается к дневнику Анны и читает его часами, с самой первой страницы. Он не испытывает никаких угрызений совести от того, что роется в ее сокровенных мыслях и чувствах. Раз уж она довела нас до этого момента истины, что ж, пусть и сама участвует. То, что он обнаруживает в дневнике, огорчает и шокирует. Как становится ясно к концу чтения, действовала она отнюдь не под воздействием спонтанного импульса, напротив, это было целью, к которой она стремилась и к которой шла постепенно, но неуклонно. Тем временем ее подруга отыскала спрятанное где-то в их доме письмо, которое Анна оставила ей перед отъездом. Оно представляет собой почти предсмертную записку, еще одно доказательство того, что она давно все спланировала наперед. Значит, она никогда не была на их стороне, на стороне тех, кто любил ее и пытался вылечить. Она была заодно с жившим внутри ее темным чужаком, который желал ее смерти. Трудно при этом не почувствовать себя жестоко преданным. Даже когда они замышляли свое путешествие, вели бесконечные разговоры о том, как полезно оно будет для нее, даже тогда, как выясняется, у нее был готов в мыслях другой сценарий, для которого он был нужен ей в качестве бессильного свидетеля, блюстителя ее останков. Если она выживет, что начинает казаться вероятным, непонятно, сможет ли он когда-нибудь снова с ней разговаривать.
Тем временем он выметает из-под кровати разорванные упаковки от ее лекарств. Мучительно видеть их каждый раз, когда он оказывается в этой комнате, но есть и иная причина, по которой он затеял эту уборку. В Индии покушение на самоубийство считается преступлением, и не исключено, что предстоят серьезные неприятности. Когда ее доставили в больницу Маргао, полицейский, дежуривший в отделении «Скорой помощи», снял с него подробные показания. А в Панаджи врач однажды подошел к Сьефу и предложил звонить ему, если будут сложности с властями.
В предвидении возможных неприятностей он связывается с южноафриканским консульством в Бомбее, сообщает им все подробности случившегося и заранее подчеркивает, что лекарства, которые приняла Анна, были выписаны ей абсолютно легально. Но теперь, из ее дневника, он узнает, что они с Жаном позволяли себе и другие наркотики, поэтому во избежание непредвиденных находок он обшаривает рюкзак Анны снизу доверху, чтобы убедиться, что в нем нет ничего недозволенного.
В деревне, где я провел много месяцев своей жизни и довольно хорошо познакомился с некоторыми местными жителями, теперь вокруг меня сгустилась атмосфера подозрительности. Немало людей, иные из которых мне почти незнакомы, считают себя вправе весьма нагло расспрашивать меня о случившемся. Некоторые притворяются сочувствующими, но все всегда сводится к одному и тому же. Ваша подруга, почему она это сделала? Вы с ней ссорились? Подтекст ясен и болезненно отзывается во мне подспудным чувством вины. Она не моя подруга… Начав объяснять, я всегда замолкаю. Мои оправдания лишь укрепляют их подозрения.
Поэтому я замыкаюсь в своем маленьком заказнике. Кэролайн и Сьеф с Полой мои новые и единственные друзья. Я провожу много времени в их компании, и мы бесконечно говорим о случившемся и о том, что еще предстоит. Иногда мы даже находим в себе силы посмеяться. Я искренне желаю Анне поправиться, говорю я как-то, чтобы иметь возможность самому убить ее.
Приблизительно тогда я начинаю осознавать, что происходит и еще что-то, что-то связанное с Кэролайн. Мы с ней едва знакомы, однако оказались искусственно связаны тесными узами, и из наших отрывочных разговоров я кое-что узнаю о ней. Как-то она упомянула, что была замужем, но ее муж погиб от несчастного случая давным-давно в Марокко. Между строк я прочитываю, что это центральное событие ее жизни, событие, наложившее на нее самый глубокий отпечаток, не изгладившийся всеми минувшими годами, и то, что случилось теперь с Анной, похоже, вновь оживило его в ее памяти. Она возвращается к нему время от времени, правда, всегда лишь в форме побочных замечаний и намеков. Но при этом лицо ее неизменно омрачается тенью, а глаза наполняются слезами.
— Та поездка с Анной в больницу, — говорит она однажды, — была ужасной, она напомнила мне… О, не обращайте внимания…
В другой раз она сказала: «Мне постоянно снятся чудовищные сны о том, что случилось в Марокко».
Она не продолжает, но в предполагаемом конце этого воспоминания я чую бездну, уходящую в непроглядную тьму, и мне не хочется заглядывать за ее край.
На третий день появляются первые признаки жизни, непроизвольное движение рук, подрагивание век, а на четвертый она приходит в себя. Когда я подхожу к ней во время утреннего посещения, она не слишком осмысленно вглядывается в меня, а потом ее губы, растянутые вокруг толстой пластмассовой трубки, изображают подобие улыбки. Во время вечернего визита в тот же день я вижу, что трубка удалена и Анна лежит целая и словно бы здоровая.
После всего, что нам пришлось пережить, это кажется невероятным. Я глажу ее по руке и нежно, в тот момент моя нежность почти искренна, спрашиваю, каково это — почувствовать себя снова живой. Она очень слаба, и чтобы услышать ее ответ, произнесенный шепотом, мне приходится склониться к ней.
— Дерьмо, — говорит она.
После периода неопределенности и застоя события начинают быстро развиваться. Первое, что происходит на следующий день, это перевод Анны из отделения интенсивной терапии в кардиологическое отделение напротив. Одна из сестер объясняет, что ей нужен постельный режим и постоянный уход и что будет назначена специальная терапия. У Анны нет физических сил, она безвольно-податлива, большую часть времени пребывает в полудреме, поэтому все еще требует ежечасной заботы и внимания, так что один из нас должен неотлучно находиться рядом, чтобы обеспечить их. Первые два дня ее мучает ужасная диарея, и приходится то и дело помогать ей выбираться из кровати и поддерживать ее в вертикальном положении, пока она корчится над судном. Он помнит противоречивое чувство жалости и отвращения, которое испытывал в те моменты, когда его руки и ступни оказывались забрызганными водянистыми экскрементами. Глядя на него вверх, она мило улыбается и бормочет, что это, мол, испытание твоей дружбы на прочность.
— Ты не представляешь себе какое, — отвечает он.
Далее он должен отнести судно в кишащий крысами туалет, вылить и начисто вымыть. Эта процедура повторяется бесконечно в течение дня, но он исполняет ее безропотно, быть может лишь потому, что у него нет выбора. Его окружают другие люди, делающие то же самое, и в их усилиях чувствуется некая покорная солидарность.
Как-то днем Анна смотрит на женщину, сидящую на краю соседней кровати, и доверительно шепчет:
— Посмотри на нее, определенно она попала сюда из-за проблем с пищеварением.
Я озадаченно смотрю туда, куда она указывает.
— Но она не больная, Анна, она посетительница.
Анна поднимает голову и всматривается.
— Нет, она должна быть пациенткой, — возражает она. — Слишком уж толстая.
— Ничего подобного, — отвечаю я, но прежде чем добавить, что на самом деле женщина, о которой идет речь, весьма миниатюрна, разражаюсь смехом. Разговор какой-то безумный, но впервые за все последние дни это почти милое безумие. За шуткой Анны я вижу слабый отблеск той своей подруги, которую помню, скорее эксцентричной и остроумной, нежели сумасшедшей.
Этой ночью дежурит Сьеф, а я отправляюсь в гостиницу. Облегчение от того, что словно бы вырвался из туннеля, позволяет мне спать спокойно, несмотря на никогда не дремлющее в подсознании ощущение необходимости возвращаться в больницу на следующее утро.
Едва переступив порог отделения, я уже знаю, что там что-то не так. Сьеф мрачно отводит меня в сторону.
— Это была тяжелая ночь, — говорит он.
Тяжелая. Я бросаю взгляд в сторону Анны, которая сидит на кровати, сердито скрестив руки на груди и испепеляя нас взглядом.
— Не волнуйся, я ее утихомирю, — говорю я.
Но он оказался не готов к случившейся перемене. Вчерашний кроткий и слабый ангел исчез, а на его месте появился некто совершенно другой. Темный чужак вошел в полную силу. Первые свидетельства тому обнаруживаются, когда он пытается поговорить с ней о том, как она обращалась ночью со Сьефом.
— Ты ничего не понимаешь, — прерывает его она. — Тебе известна только половина истории. Мерзкий ублюдок. Как он смеет так говорить со мной!
— Он всю ночь ухаживал за тобой.
— Кто его об этом просил. За мной не нужно ухаживать.
— Нужно, и в любом случае кто-то должен оставаться здесь. Таково больничное правило.
— Почему ты сам не остался? Где ты был?
— Я был в гостинице, пытался поспать. Сьеф подменил меня, чтобы я мог отдохнуть.
— Отдохнуть от чего? Ты устраиваешь целый гребаный спектакль на пустом месте. Я всего лишь попросила сигарет, а этот чертов ублюдок не пожелал мне их купить.
— Это кардиологическое отделение, здесь не разрешается курить.
— Да пошли они все, я буду делать то, что мне нравится, и плевать я на них хотела. Иди и купи мне сигарет.
Он смотрит на нее в ошеломлении.
Но прежде чем разговор успевает продолжиться, у нее случается новый приступ диареи.
— Помоги мне, — приказывает она, — мне нужно судно. — И снова сидение враскорячку и разлетающиеся зловонные брызги. — Как же это ужасно, — бормочет она. — Ужасно, ужасно, ужасно.
— Мне от этого тоже мало радости, — говорю я.
Опорожняя и моя судно, я ощущаю тревожное предчувствие, что она может еще что-нибудь отчебучить. В панике я проливаю экскременты себе на руки, приходится мыться, из-за чего я задерживаюсь. Интуиция меня не обманывает. Когда я возвращаюсь в палату, Анна уже вылезла из постели и куда-то направляется. К счастью, она еще не твердо держится на ногах, иначе ушла бы далеко.
— Куда ты?
— За сигаретами.
— Я же сказал, здесь курить запрещено, и в любом случае у тебя нет денег.
— Отвези меня в гостиницу. Со мной уже все в порядке, я требую, чтобы меня выпустили отсюда немедленно. По конституции никто не имеет права держать меня здесь против моей воли.
— Конституция тебе не поможет, здесь Индия. И чем больше хлопот ты будешь доставлять, тем дольше будешь здесь оставаться. Поэтому ложись в постель.
Она неожиданно повинуется, но, удобно устроившись в кровати, самодовольно заявляет:
— Я шла вовсе не за сигаретами, я собиралась выброситься в окно.
Все окна забраны решетками, и отделение находится всего лишь на втором этаже, тем не менее его охватывает чувство яростного отчаяния. Он с трудом контролирует свой голос, когда говорит:
— Мы сделали все, чтобы сохранить тебе жизнь.
— А кто вас об этом просил. Дайте мне спокойно умереть. Уйдите. Я разрешаю вам просто уйти.
— Я делаю это не для тебя. Я делаю это для других, для тех, кто тебя любит. И для себя, чтобы я мог сам себе без стыда смотреть в глаза.
— Ха. — Она смотрит на него лишенным сомнений презрительным расчетливым взглядом. — Знаешь, ты совершаешь ошибку за ошибкой. Взял на себя ответственность, привезя меня сюда, и посмотри, что из этого вышло.
Она не так уж больна, чтобы не понимать, как нанести мне удар в самое больное место, высказав правду, которая отныне будет бередить мою рану всегда. Мой голос звучит сдавленно:
— А ты, полагаю, ни за что ответственности не несешь. Тебе было на всех наплевать, ты просто сделала то, чего хотелось тебе.
— Не смогла, ты помешал.
— И буду продолжать мешать. Ты вернешься в Южную Африку живая, только после этого твои дела перестанут быть моей проблемой.
— Ты не обо мне заботишься, тебе важно лишь, что скажут другие.
В данный момент это правда.
— Сейчас я тебя ненавижу.
— Ну и что, я тоже тебя ненавижу.
Эти жестокие слова вырвались у меня откуда-то из глубины, из той разрушительной стихии, которую Анна разбудила во мне. Требуется большое усилие воли, чтобы понять, хотя бы теоретически, насколько она больна. Лишь годы спустя я до конца осознал, что ее мания, усугубленная температурой, достигла в тот момент кульминации, не поддаваясь никакому лечению. Но даже после этого мне было трудно простить ее. Потому что с очень давних пор, даже в самые здравые моменты своей жизни, она упорно шла к своему извращенному финальному экстазу. Все мы, остальные, являлись лишь статистами в драме, героиней которой была одна она.
Каждое обидное слово, в том числе и мое, словно острый нож до сих пор вонзается в мою память как нечто позорное для нас обоих. Однако ее никакие слова не трогают. В тот же день, когда Сьеф с Полой и Кэролайн приезжают помочь мне, мы, чтобы сбить Анне жар, покупаем лед в нижнем кафе и обкладываем им ее всю. Она протестующе вопит, но одновременно улыбается.
— О, на меня работает целая команда!
В этот момент она снова становится похожа на мою притворно-скромную кокетливую подругу, от ужасной утренней метаморфозы в ней не осталось и следа. Она ничего не помнит, ничего из того, что было сказано и сделано, даже ею самой. Она парит над болью, горем и чувством вины, причиненными ею, с высоты взирая на наши метания и старания. В следующее мгновение в ее обращении с нами уже отчетливо ощущается оттенок презрения, она посмеивается над нашей озабоченностью. Она далека от нас, потому что больше не боится смерти, в этом заключена и ее слабость, и ее величайшая сила.
Все это только усугубляет положение. С каждым днем она становится все сильнее и хитрее, все изобретательнее в своем саморазрушении, а ее требования — все более настоятельными. Однажды утром она объявляет, что ей нужен ее пояс с деньгами, и, когда я заверяю ее, что тщательно берегу его, она обвиняет меня в том, что я краду из него деньги. В другой раз ей понадобились туфли.
— Посмотри на меня, я вынуждена сидеть здесь босая, ты так жесток ко мне!
Эти жалобы его вовсе не трогают, в обуви и с деньгами она сумеет сбежать, и он знает, что последует. Но когда он отказывает ей в просьбе, она превращается в истеричного ребенка.
— Мои деньги, верни мне мои деньги, сейчас же принеси мне мои туфли.
Он лишь качает головой. Нет. И испытывает извращенное удовольствие от обладания властью, заключенной в этом слове, от возможности удержать ее от смерти.
Но в то же время он отдает себе отчет в том, что время работает на нее и что она еще может переиграть его. Через несколько дней Сьеф и Пола уедут домой, останутся только он и Кэролайн. Он не уверен, что вдвоем им удастся нести беспрерывное дежурство, а оно необходимо, ведь Анне нельзя доверять ни на минуту. Стоит повернуться к ней спиной, как она тут же выскакивает из постели и мчится к двери. Он просил дежурных медсестер не спускать с нее глаз, но они слишком заняты, рассеянны и незаинтересованны, какое им дело до этой иностранной грубиянки и ее чрезмерно озабоченных опекунов.
Самое худшее то, что по мере улучшения физического состояния ее переводят во все более общие отделения больницы. Там меньше персонала и больше больных. Три или четыре дня спустя ее помещают в палату, где на каждой кровати лежит по два человека, а некоторые больные вообще на полу. Она начинает рыдать и бесноваться. Это невозможно, я здесь не останусь, я требую, чтобы меня забрали отсюда.
Он хотел бы исполнить ее просьбу, но это не так просто. Прежде чем официально выписаться, она должна получить медицинские заключения на нескольких уровнях, а это от него не зависит. На все свои расспросы он получает весьма расплывчатые ответы: несколько дней, надо понаблюдать. Один врач сообщил ему, что она должна пройти психологическое обследование, и эта перспектива пугает его. Если ее признают психически больной, потребуется много времени, прежде чем кто-нибудь сможет вытащить ее отсюда. Но даже если бы он мог забрать ее, куда ее везти? Обратно в деревню нельзя. Раньше запланированного отлета отправить ее домой не удастся, все рейсы по-прежнему переполнены, он проверял. Лучше всего додержать ее здесь до дня отлета — это еще пять дней. И сможет ли она лететь в таком состоянии, тоже вопрос.
Но вероятность задержать ее в больнице до самого отлета мала. Сегодня у Сьефа и Полы последний день, утром они улетают. Он и Кэролайн дошли до крайнего морального расстройства от усталости, а Анна в полной силе и на пике безумия. Это самая низкая точка, в какой они оказывались с того момента, как Анна очнулась. И тут из кулис выступает еще один персонаж — хитроватый и уклончивый парень в форме, который направляется к нам, лавируя между лежащими на полу больными. Мы ошеломленно взираем на него.
Он очень вежлив. Говорит, что он из отдела полиции, занимающегося несчастными случаями, и хочет нам помочь.
— Как вам, должно быть, известно, ваш случай подлежит уголовному расследованию. Когда больная выйдет отсюда, ее, вероятно возьмут под стражу. Ситуация сложная, но мы сможем прийти к некоему соглашению. — С этими словами он протягивает мне листок бумаги со своей фамилией и номером телефона.
Из всех нас только Анна рада его видеть.
— О, слава Богу! — восклицает она. — Наконец-то нашелся кто-то, кто понимает. Единственное, чего я хочу, это вырваться отсюда.
Сомнительный человечек многозначительно кивает:
— Я вам помогу.
— Спасибо. Спасибо.
Я тоже благодарю его, более сдержанно, и жму руку. Когда же он снова, как коварная масляная капля, скользит между больными к выходу, мы все переглядываемся в отчаянии. Черт бы его побрал! Что теперь делать?
Пола приходит в себя первой.
— Помните врача, который подходил к Сьефу? — говорит она. — Может, связаться с ним. Сьефа сегодня не будет, он пакует вещи в гостинице, но я сбегаю в автомат и позвоню ему.
К счастью, Сьеф сохранил бумажку с именем и номером телефона врача, и я сразу же звоню ему. Врач, выслушав мою историю, вздыхает:
— Плохие новости, этого я и боялся. Я скажу, как вам действовать, но обещайте не упоминать моего имени и не говорить, что советовались со мной.
— Обещаю.
— Должно быть, полиция отслеживает ее пребывание в больнице и знает, что ее скоро выписывают. Именно в момент выписки вас и задержат. Вы должны увезти ее раньше. Сделайте это прямо сейчас. Идите к дежурному врачу и напишите отказ. Это означает, что вы забираете ее под свою ответственность вопреки медицинским показаниям. Он будет возражать, но вы настаивайте. Увезите ее прежде, чем он успеет позвонить в полицию. Вы должны все сделать очень быстро.
— Но куда я ее повезу? Мне некуда ехать.
— В Панаджи есть частная больница, которой руководит мой друг. Езжайте к нему. Его зовут доктор Аджой.
Он дает мне адрес больницы, и я тут же еду туда на такси. Больница маленькая, чистая, спокойная, расположена на берегу моря, и доктор Аджой готов помочь.
— Мы можем ее принять. У нас есть лекарства, чтобы ее успокоить. Привозите немедленно.
В последнем скоординированном всплеске активности мы организуем побег. Таксист, который возил нас туда-сюда между деревней и больницей, ждет в машине у бокового выхода. Я подхожу к старшей медсестре и прошу ее проводить меня к дежурному врачу. Она говорит, что его нет на месте.
— Где он? Он ведь в больнице, не так ли?
— Он на собрании.
— Видите ли, мы забираем мою подругу, мне необходимо увидеть доктора.
— Вы не можете ее забрать. Она должна ждать официальной выписки.
— Я забираю ее. Мы должны успеть посадить ее на рейс в Южную Африку и отбываем в Бомбей немедленно.
— Нет, это невозможно. Вы слышали, что сказал полицейский: будет расследование. Вы не можете ее забрать.
— Я напишу отказ, — говорю я доверительно, — и сделаю это прямо сейчас.
— Вам придется дождаться доктора.
— Я не буду ждать. Дайте мне бланк отказа, потому что я заберу ее в любом случае.
Разъяренная медсестра приносит мне требуемое. Я показываю Анне, где поставить подпись, после чего мы быстро тащим ее по людным коридорам к боковому выходу, где ждет такси. Я со страхом жду, что рука полиции вот-вот сомкнется вокруг нас, и когда мы вырываемся за больничные ворота, ощущение свободы безгранично.
— Когда по этим событиям будут делать фильм, — говорю я, — пусть меня играет Том Круз.
— А меня Фэй Данауэй, — подхватывает Кэролайн.
— А меня Джулия Робертс, — присоединяется к игре Анна, и мы все смеемся. Но общий подъем длится недолго. Через несколько минут Анна соображает, что мы едем не в гостиницу, и начинает протестовать: — Я хочу к морю, я хочу закончить свой отпуск. Вы не имеете права. — Когда я напоминаю ей, что в гостинице ее быстро найдет полиция, она на время замолкает, но потом все начинается сначала: — Отдай мне мой пояс с деньгами, отдай мне его! Он не твой. Отдай его и высади меня на обочине!
К счастью, она зажата на заднем сиденье между Кэролайн и Полой, а то вполне могла бы выскочить на ходу.
— Видите, что они со мной делают, — взывает она к таксисту, — они меня похитили, они преступники, воры.
Таксист, которого зовут Рекс, за последнюю неделю повидал немало удивительного. Несколько раз он поднимался с нами в отделение и видел, на что способна Анна, но сегодня она превзошла самое себя. Когда мы подъезжаем к клинике, я прошу Рекса пойти вместе с нами, на тот случай, если понадобится дополнительная помощь. Увидев палату, в которой она будет спать, и услышав, что соседняя кровать предназначена для медсестры, которая будет следить за ней, Анна приходит в неистовство и кидается к двери.
— Я требую, чтобы меня немедленно отпустили!
Я загораживаю ей дорогу, хватаю за запястья, и с полминуты мы, на радость разинувшему от изумления рот Рексу, молча боремся, изображая оживший фрагмент какого-то фриза. В этот момент я ощущаю физический страх перед ней. Сейчас в нее вселилась сила, намного превосходящая ее мускульные возможности, и в глазах горит огонь безумия. Но в конце концов она слабеет, обмякает, а когда я отпускаю ее, в припадке ярости начинает колотить стены и лягать дверь, пока не оседает бесформенной воющей кучей на кровать.
Всю обратную дорогу в деревню Рекс переживает эту сцену. Бах. Шмяк. Он, слегка дергаясь, имитирует ее броски и удары руками, ногами, корпусом и изумленно качает головой. Можно с уверенностью сказать, что ничего подобного он никогда не видел. Год или два спустя он неожиданно пришлет мне в Южную Африку электронное письмо: «Как продвигается ваша работа? Надеюсь, вы продали кучу книг. У меня все в порядке, дела идут хорошо. Я всегда вспоминаю ваши добрые слова, они многому меня научили. Если в будущем вы опубликуете книгу, вы должны написать в ней о той девушке, которая хотела умереть».
Теперь ее глушат транквилизаторами, и она стала гораздо спокойнее, чем была в государственной больнице. Однако это не останавливает бесконечного потока брани в мой адрес, обвинений в неспособности выполнить обещания, в пренебрежении, а также многочисленных требований самого разного рода. В клинике есть телефон, которым больные могут пользоваться в кредит, и она маниакально звонит ему в гостиницу со все новыми поручениями, которые он должен выполнить к следующему визиту. Ей нужны ее туфли, ее деньги, ее рюкзак. Такие требования он не выполняет, потому что знает, к чему это может привести, но то, что можно, приносит. Он никогда не слышит от нее благодарности, только нескончаемую череду обвинений, которые он устало пропускает мимо ушей. Ты воруешь мои вещи, я сделаю так, что тебя арестуют. Какой же ты жестокий и эгоистичный. Я ненавижу тебя! Никогда больше не буду с тобой разговаривать.
Теперь у Анны круглосуточные платные сиделки, и это означает, что он не должен больше проводить в больнице весь день. Он рад, что теперь между ними существует определенная дистанция. Каждый день он заезжает на час, потом возвращается к себе в комнату, но возможности отдохнуть у него почти нет. Все время уходит на лихорадочную подготовку возвращения Анны домой, на консультации с ее партнершей и членами семьи. Решено, что ее будут сопровождать доктор Аджой и врач, который срежиссировал ее побег. В короткий срок получить для них визы и достать билеты дьявольски трудно, нужно без конца посылать факсы в южноафриканское посольство и авиакомпанию, подкрепляя их всякими документами, иные из которых должны прийти из дому. Но в конце концов все устраивается, и наступает вечер, когда он может отнести ей в больницу рюкзак вместе с паспортом и билетом и попрощаться.
После всего случившегося прощание получается скомканным и пустым. Ее внимание сосредоточено не на нем, а на багаже, который она бесконечно открывает, проверяет и перекладывает.
— Видишь, — укоризненно говорит он ей, — все на месте, ничего не украдено.
Пакеты с одеждой, от которой еще даже не отрезаны фирменные этикетки, печально напоминают о том, как начиналось это путешествие.
Она выходит проводить его. На ней туфли, которых она так долго добивалась, и вид у нее почти безмятежный. Прилив обостренного безумия схлынул, и теперь эта женщина похожа на его старую подругу. Почти, но не совсем. Между ними установилась холодная сдержанность, которая напоминает пролив, столь широкий, что вряд ли через него когда-либо можно будет перекинуть мост. Тем не менее ему хватает духу обнять ее. До свидания. Береги себя. Ты тоже. Желаю хорошо провести остаток времени. Или что-то в этом роде. Какими бы ни были их последние фразы, они прохладны, бессодержательны или, напротив, подразумевают слишком многое.
Уезжая на такси Рекса, он лишь один раз обернулся на растворяющуюся в сумерках одинокую потерянную фигуру.
Только теперь до него начинает в полной мере доходить, что случилось. До этой поры он постоянно находился в действии и не имел возможности поразмыслить. Сквозь его жизнь словно бы пронесся ураган, сметая все строения на своем пути, поэтому тишина и пустота, воцарившиеся после этого, кажутся безмерными.
Ему теперь нечего делать, но его организм никак не может к этому приспособиться. Он постоянно находится на грани, постоянно готов к новому кризису. Он плохо спит, сон его неглубок, он просыпается задолго до рассвета. Дни текут бессодержательно, и он не знает, чем их заполнить. Но постепенно он отрешается от того, чем полна его голова, и начинает замечать то, что вокруг. Он снова видит свое лицо, видит, как он похудел, каким неподвижным сделался его взгляд.
Большую часть времени он сидит и разговаривает с Кэролайн или ковыляет по берегу. Его жизненный ритм замедляется, и тело принимает бесцельность его существования, правда, внутри, где-то в самой глубине, у него словно бы продолжает работать мотор, он работает с перебоями, скрежеща, но на одной и той же высокой скорости.
Из Южной Африки приходят известия. Анна благополучно добралась домой. Ее поместили в клинику. Большая часть друзей не может или не хочет видеть ее, они шокированы тем, что она сделала. Поначалу она пыталась дезавуировать свою индийскую выходку, представить ее как незначительный сбой в замечательном в целом отдыхе, но потом призналась в катастрофе в полном ее масштабе. Она в постоянной связи с Жаном, но непонятно, куда ведет эта связь.
Всю эту информацию он получает преимущественно от подруги Анны, которая ведет с ним долгие слезливые разговоры почти каждый день. Она продолжает регулярно навещать Анну в клинике, несмотря на то что они договорились расстаться и посмотреть, что принесет будущее. Она нуждается в утешении, которое я едва ли могу ей дать, и поэтому утешает себя сама. Иногда просит совета. В этих случаях я не мешкаю. Оставь ее, однажды она все равно лишит себя жизни. Я действительно уверен в этом. Анна словно бомба, которая способна взорваться в любой момент, и я не хочу, чтобы кто-нибудь оказался тогда рядом с ней.
Все это, хаос и страсти, кипящие вокруг Анны, теперь далеко, на другом конце мира. Он больше не несет никакой ответственности и никому ничем не обязан. Но, разумеется, по-своему он всегда будет ответствен за случившееся, и понимание этого горит внутри его огненным клеймом. По крайней мере она не умерла. Он представляет себе, что было бы, если бы это случилось, и насколько иной оказалась бы для него вся оставшаяся жизнь.
Наряду с другими темами он в последующие недели обсуждает это с Кэролайн. Кроме них, здесь не осталось больше участников недавно закончившейся драмы, и они льнут друг к другу, ища утешения, они как люди, которые связаны семейными узами: ссорятся, но не расстаются, потому что взаимно зависимы. Она теперь стала его другом, хотя и не по его сознательному выбору. Просто одним случайным утром судьба столкнула их жизни и сплавила воедино. Она могла спокойно уйти, когда услышала мои крики, или остаться в стороне, как другие, и, вероятно, сейчас жалеет, что не сделала этого. Но она поднялась по лестнице, вошла в комнату и с тех пор заняла свое место в уголке его жизни.
Это отягощает их союз и привносит в него неловкость, он чувствует, что обязан ей, и ему это неприятно, он хочет оставить весь этот инцидент в прошлом, стереть его из памяти, но она своим существованием каждый день напоминает о нем. И она несет в себе собственные боль и утрату, которые оказались привитыми на дерево Анны и распространились на него. Она в таком же плохом состоянии, как и он, дурно спит, предрасположена к приступам слезливости. Но, похоже, надеется, хоть и не говорит об этом вслух, что решит с его помощью свои проблемы, и он съеживается от ее молчаливого ожидания. Он подвел Анну, подведет и ее.
Тем временем его пребывание подходит к концу. Через месяц-другой здесь станет невыносимо жарко, множество местных заведений уже сейчас закрывается. Скоро он уедет, встретится с одним своим другом в Бомбее, и они отправятся на север, в горы. Кэролайн пытается уговорить его остаться. Почему бы вам не привезти своего друга сюда? Нет, мне нужно двигаться дальше. В ответ она бронирует билет домой на день, предшествующий его отъезду. Этот день приближается, и он ждет его с нетерпением как день прощания, кульминации и завершения.
В один из последних вечеров, когда они ужинают вместе, она возвращается к тому, что случилось в Марокко, к несчастному случаю.
— Вы ведь знаете, что там я потеряла мужа.
— Да.
— Но я не рассказывала вам всего. Только основные факты. Того, что случилось на самом деле, я вообще никогда никому не рассказывала.
— Да, — говорит он, чувствуя, что последует. В животе у него поднимается тошнота, хочется убежать, но он остается на месте.
— Я хочу рассказать эту историю всего один раз, — говорит она. — Мне нужно, чтобы кто-нибудь ее узнал, тогда, быть может, я смогу оставить ее позади и уйти. Вы понимаете, что я имею в виду?
Он кивает, он прекрасно понимает, что она имеет в виду. В чем бы ни заключалась эта история, он знает, что она будет ужасна, и страшится принять ее близко к сердцу. Но после того, через что она прошла ради него, как он может ей отказать.
Они откладывают рассказ на день накануне ее отъезда. Вечером по ее предложению они идут на берег. Солнце начинает опускаться в воду, облака становятся многоцветными. Они находят местечко вдали от всех, возле маленького родничка и купы пальмовых деревьев, и усаживаются на поваленный ствол.
— Не знаю, как начать. — говорит она, — я тут кое-что набросала. Может, мне вам это прочесть?
Но когда она достает пачку бумажных листков, возникает ощущение какой-то неправильности, топорности, формальности.
— Лучше расскажите, — прошу я, — просто расскажите, что случилось.
Едва заговорив, она начинает дрожать и раскачиваться. Это случилось тридцать лет назад, но впечатление такое, будто она переживает те события вновь в этот самый момент, и он тоже словно бы в них участвует. Ее рассказ проникает в него, у него очень тонкая кожа, между ним и миром нет никакой преграды, он вбирает ее историю в себя целиком и даже после, желая избавиться от нее, не может этого сделать. А в последующие недели, когда он старается оставить Гоа и деревню в прошлом, события, которые он там пережил, возвращаются к нему почти на биологическом уровне, они преследуют его, и история Кэролайн составляет их часть, неким образом соединенную с Анной, все это становится Единым Целым. Но что делать с такой историей? В ней нет ни сюжета, ни морального урока, лишь факт, что однажды утром молния может ударить с чистого неба и унести все, что ты построил, все, на что рассчитывал, оставив после себя лишь обломки и никакого смысла. Это может служиться с каждым, это может случиться с тобой.
Его дальнейшее путешествие похоже на бесконечный побег. Он встречается в Бомбее с другом, и они вместе едут на север. Орчха[11], Кхаджурахо[12]. Теперь уже разгар лета, и в долинах ощущаешь себя как возле жерла доменной печи, поэтому они забираются выше в горы, в Дхармасалу, где проводят в праздности несколько недель.
Все это время он старается вести себя как обычный путешественник, восхищаясь тем, что видит вокруг. Но почти никогда не может забыться, большую часть времени он пребывает в одном и том же месте в прошлом. Окружающий мир воспринимается им как нечто бесплотное, как блеклый сон, из которого он неизменно выныривает в грязной больничной палате.
Раза два до него доходят сообщения от Анны. Первое электронное письмо он получает спустя несколько недель после отъезда из Гоа. Сообщение изобилует опечатками и странными речевыми оборотами, это письмо с извинениями за то, что она сделала. Она пишет, что вышла из клиники и живет у родителей в городке неподалеку. Больше она ничего не рассказывает ему о своей жизни, хотя кое-что он продолжает узнавать от ее подруги. Например, ему известно, что она никак не может решить, чего хочет, то ли жить с женщиной, то ли сохранить связь с Жаном. Жан собирается приехать в Южную Африку, потом оказывается, что не собирается, потом снова собирается. Между тем, поскольку ей надоело жить в семье, Анна решает съехать с квартиры, которую делила со своей партнершей, и снять собственную. Но прежде чем успевает это сделать, снова оказывается в клинике. Она по-прежнему склонна к суициду, по-прежнему доставляет массу тревог. Весит она теперь пятьдесят пять килограммов и морит себя голодом. Она снова сжигает себя и ведет к концу. Большинство ее друзей, как и раньше, не хотят общаться с ней, а те немногие, которые общаются, сами состоят в тайном сговоре со смертью. Она приобрела ореол потусторонности, одновременно привлекательный и отталкивающий, поскольку переступила роковой порог, но вернулась.
Спустя еще несколько недель она снова присылает письмо. Ее опять выпустили из клиники, и она поняла, что, как только почувствует тягу к смерти, должна искать помощи. Теперь она спокойнее и лучше владеет собой, хотя, быть может, это просто безразличие депрессии. Жан с ней, они путешествуют. «Мы действительно хорошо ладим, — пишет она, — я счастлива, что он приехал. Похоже, у нас есть общее будущее. — Она добавляет, что собирается недели через две вернуться на работу, и заканчивает словами: — Береги себя, мой друг, надеюсь, что когда-нибудь ты найдешь в сердце силы простить меня».
Он не отвечает, просто потому, что не может. У него нет желания наказывать ее, но нет и сил ее простить; то, что произошло, вывело их отношения за пределы подобных понятий. Он не понимает, как она сама этого не видит. Они оказались в положении, когда язык бессилен, и, что бы ни случилось, он сомневается, что оно может измениться. Самый близкий контакт с Анной, который он может себе позволить, это разговоры о ней с ее партнершей, так он продолжает ее называть, хотя фактически она уже ею не является. Она все еще очень любит Анну, но, пока Жан в городе, держится от нее подальше. Он спрашивает:
— Что будет, когда Жан уедет? Попробуете ли вы начать сначала?
— Не знаю, — отвечает она. — Я не знаю, чего она хочет. Не думаю, что она и сама это знает.
Даже во время этих разговоров далеко не все можно выразить словами. То, что ей пришлось пережить, стало для нее жестоким разочарованием. Она смотрела за Анной, заботилась о ней почти восемь лет и нет ни малейшего сомнения, что без нее Анна давно была бы мертва. Но теперь она выброшена на обочину и самой Анной, и теми, кто с ней заодно. Семья Анны, которая никогда не одобряла ее связи с женщиной, ухватилась за представившуюся ей возможность устроить будущее с мужчиной и всячески этому потворствует. Но я видел их с Жаном и знаю, что ничего между ними нет, и не будет никакого будущего, да и прошлое вряд ли было.
Насколько призрачно это будущее, вскоре становится ясно всем. Сообщение приходит всего несколько дней спустя. После того как она попыталась убить себя в Гоа, он знает, что когда-нибудь она все равно своего добьется, неизвестны лишь обстоятельства и сроки, когда это произойдет. И тем не менее, когда он читает слова, что Анна мертва, они ударяют его как некая физическая сила, которая отбрасывает назад, вдавливая в спинку стула. На следующий день после отъезда Жана, оставшись в квартире одна, она принимает не мыслимую дозу болеутоляющих. Ее сестра, обеспокоенная тем, что Анна не отвечает на телефонные звонки, приводит слесаря, тот вскрывает замок, и ее находят лежащей на кровати.
Там написано что-то еще, но слова заволакивает туманом, который наполняет комнату и стирает время. Последних двух месяцев как не бывало, Анна спит на кровати в Гоа, он только что увидел распотрошенные упаковки от лекарств на полу и понял, что она сотворила. В шоке он вскакивает и бросается на улицу. Ему кажется, что нужно куда-то бежать, срочно что-то делать. Он хочет позвать на помощь, схватить кого-то из прохожих за руку, попросить найти врача, он хочет не дать ей умереть. Только через несколько минут до него доходит, что это известие необратимо, что ничего исправить нельзя. Ни сейчас, ни когда бы то ни было, потому что мертвые не возвращаются.
Но даже теперь его путешествие не заканчивается, хотя в ином смысле оно закончилось давным-давно. Он подумывает о том, чтобы вернуться в Южную Африку, но, если признаться честно, ему этого не хочется. Зачем? Поэтому он продолжает путешествие, вернее, побег, еще выше в горы, в Ладакх[13]. Домой он возвращается лишь месяц или два спустя, когда возникает реальная угроза ядерной войны между Пакистаном и Индией, и его вынужденный и неуклюжий отъезд представляется подходящим завершением всей этой истории.
Таким образом, его нет в Кейптауне, когда ее тело выставлено в открытом гробу на всеобщее обозрение, когда в соборе Святого Георгия, не вместившем всех скорбящих, идет грандиозная служба, он не видит этого представления, этой демонстрации публичного горя, которых она так страстно жаждала и на которые, похоже, всерьез собиралась взирать сверху. Разумеется, ему обо всем этом рассказывают, и в нем растет чувство печали и гневного ужаса, как при сообщении о землетрясении, случившемся на другом конце света. Но самое сокровенное приближение к Анне случается снова, когда он воочию видит мешочек с прахом, все, что осталось от нее после кремации. Это случается в доме ее подруги в первый же его приход туда. Он стоит, уставившись на мешочек, осторожно трогает его пальцем. Качает головой в изумлении. Ему кажется до горького смеха странным, что человеческое существо может свестись к этому.
Года два спустя, путешествуя по Марокко, он проводит ночь в Агадире и на следующее утро, взяв такси, велит отвезти себя на пыльный склон горы, находящейся за пределами города. Он собирался купить цветы, но не смог найти, поэтому приезжает с пустыми руками. День обжигающе жарок, он не выспался прошлой ночью, и у него ужасно болит голова.
— Вас подождать? — спрашивает таксист.
— Нет, возвращайтесь через полчаса.
— А вам хватит получаса?
— Да, хватит.
Он думал, что легко найдет нужное место, отдаст дань уважения и уедет, но получается не так, как он рассчитывал. Таксист высадил его не там, поэтому приходится пешком пройти вниз часть склона. Когда он находит европейское кладбище, ворота оказываются запертыми, он кричит, зовет кого-нибудь, кто может его впустить, а очутившись внутри, теряется. Могилы разбросаны хаотически во всех направлениях, без всякой видимой логики без какого бы то ни было плана. Он, спотыкаясь, бродит взад-вперед среди надгробий, имена проплывают перед глазами, и только сорок пять минут спустя случайно натыкается на то, которое ищет. Все именно так, как рассказывала Кэролайн: расколотая плита с надписью и годами жизни. Рядом с ней, слева, безымянный коричневый холмик земли — могила женщины, их подруги, которая погибла от того же удара молнии. У ее семьи не было средств перевезти тело домой или установить достойный памятник.
Вероятно, виной тому лишь жара или головная боль и усталость, но он вдруг неожиданно ловит себя на том, что плачет. Он старается унять слезы, но они текут и текут. Внутри у него вскипает мощное чувство, не связанное с тем, что он видит, ведь он не знает ни одного из этих людей и умерли они давным-давно. Но кажется невыносимо печальным, что чья-то жизнь может обрести свое последнее пристанище здесь, на выжженном солнцем холме над чужим городом, откуда в отдалении виднеется море.
История Кэролайн, рассказанная тогда, на берегу, снова с ним в нерасторжимом единстве памяти и слов. Но ему требуется время, чтобы осознать, кого он оплакивает на самом деле. Жизни перетекают одна в другую, пласты прошлого взывают к настоящему. И, быть может, впервые он чувствует сейчас все то, что было сделано неправильно, всю ту беду, всю боль и меру бедствия. Прости меня, мой друг, я пытался удержать тебя, но ты упала, ты упала.
Кажется, что этот миг длится часы, однако проходит, наверное, всего минута-другая, прежде чем он берет себя в руки. Он чувствует себя ужасно, но в то же время испытывает какое-то освобождение, очищение. К тому времени водитель такси уже нетерпеливо сигналит снаружи. День тащится к концу, и ему нужно успеть на автобус, чтобы завершить путешествие. Пора идти. Он вытирает глаза, поднимает с земли маленький камешек, такой же, как миллионы других, разбросанных вокруг, и, направляясь к воротам, сует его в карман.