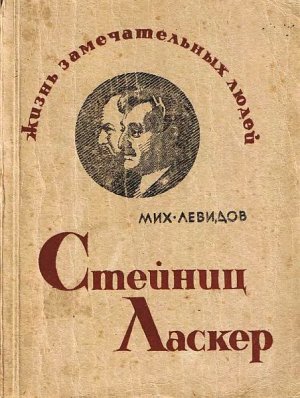
Михаил Левидов
Стейниц. Ласкер
Предисловие
Выпуск биографий Вильгельма Стейница и Эмануила Ласкера в серии «Жизнь замечательных людей» может вызвать недоумение. Рядом с поэтами, мыслителями, философами, крупнейшими политическими деятелями и гениями — в ряду гениев человечества — вдруг шахматисты, пусть гениальные, но все же шахматисты.
Такая постановка вопроса, обычная для широких кругов, все же была бы неправильна. И мы считаем чрезвычайно ценным то, что редакция решила включить в серию замечательных людей имена шахматистов и, в частности, имена В. Стейница и Эм. Ласкера, ибо оба эти последние именно тем отличались от всех шахматистов мира, что были не только творцами-художниками, но и шахматистами-мыслителями, по партиям которых учились, учатся и будут учиться десятки и сотни тысяч людей.
Все великие люди лишь постольку замечательны, поскольку они могут вложить в общую сокровищницу культуры нечто свое ярко индивидуальное, ярко творческое и в то же время не пропадающее бесследно, а представляющее собою наследство для будущих поколений.
Нам скажут: но ведь Стейниц и Ласкер все же только шахматисты!
И это опять-таки будет неправильно.
Шахматы являются тем исключительным произведением человеческого гения, которое совмещает в себе ряд элементов, свойственных целому ряду отраслей культуры. Они требуют, прежде всего, последовательности и методичности в мышлении, что их роднит с наукой. Они включают в себя богатейшие элементы художественного творчества, что их сближает с искусством. Они в то же время — непосредственная борьба, и борьба напряженная, требующая гигантской выдержки и железной воли, что их роднит не только со спортом, но, что гораздо важнее, — с общественным творчеством, с политической деятельностью. И как орудие культуры, и как могучее средство воспитания лучших качеств человека, и как средство развития эстетических, интеллектуальных, художественных и волевых качеств в человеке, — шахматы представляют собою такое могучее средство именно культурного воспитания и перевоспитания людей, что пренебрегать ими и недооценивать их могут только невежды или ограниченные люди, не способные понять ни всего многообразия жизни, ни, в частности, многогранности человеческого творчества.
Уже по этому одному люди, которые дали так много в области шахмат, как дали Стейниц и Ласкер, которые всегда относились к шахматам именно так, как должно к ним относиться, — как к орудию культуры, имеют все основания занять место в ряду других «замечательных людей».
Оба эти шахматные гения подняли шахматы на недосягаемую высоту, оба они отдали им всю жизнь и все содержание своей духовной и интеллектуальной личности.
Но только в Советской стране шахматы получили это свое признание, и тем более поэтому знаменательно и правильно, что именно Советская страна является первой, которая этих гигантов шахматной мысли ставит рядом с другими деятелями культурной творческой работы на пользу человечества.
Н. В. Крыленко.
Москва, апрель 1936 г.
От автора
Семьсот тысяч человек приняло участие в шахматных состязаниях профсоюзов в 1935 году. Уже один этот факт говорит за то, что имеет право на существование книга о шахматистах, написанная не только для шахматистов.
Показать в шахматисте человека, показать в этом человеке мыслителя, художника, борца — такова задача книги, посвященной двум первым чемпионам мира по шахматам — Вильгельму Стейницу и Эмануилу Ласкеру. Задача эта представляла некоторые специфические трудности, с какими не приходится встречаться, когда речь идет о представителях других отраслей человеческой мысли. Облик этих шахматистов приходилось создавать на основании лишь скудных фактов их биографий; их шахматные партии, — а это по существу основной материал для биографии, — приходилось комментировать не в обычном чисто шахматном плане: автор пытался найти в них социальное и психологическое содержание.
Данная работа является первой в своем роде. И если в ходах шахматных партий читатель увидит человека, — его надежды, разочарования, его борьбу и достижения, — автор будет считать свою задачу выполненной.
В конце книги читатель найдет несколько партий, характерных для стиля Стейница и Ласкера. Примечания к некоторым партиям принадлежат Э. Ласкеру, Р. Рети, З. Таррашу и Е. Боголюбову. Комментарии эти характеризуют отношение шахматных гроссмейстеров к героям этой книги.
Комментарии ко всем остальным партиям составил А. М. Иглицкий, которому принадлежит также подбор пояснительных партий и шахматная редакция книги.
В заключение автор считает своим долгом принести благодарность советским шахматистам и литераторам Н. И. Грекову и И. Л. Майзелису за их ценные советы и оказанную помощь в создании этой книги.
Вильгельм Стейниц — догматик
На этом я стою — и не могу иначе.
Мартин Лютер
Мысль, не становящаяся действием, — это выкидыш или измена.
Роман Роллан
Время действия: мрачный, тусклый февральский день 1900 года...
Место действия: небольшой пароходик, скользящий по реке Гудзон, в Нью-Йорке.
Одна из остановок в рейсе парохода — близлежащий островок Уорд. На этом островке высится здание, тусклое и мрачное — почти тюрьма. Но это здание страшней тюрьмы — те, кто заключены в нем, никогда почти отсюда не выходят. Это приют для душевнобольных, это последнее местопребывание на земле для «безнадежных», для этих печальных обломков человечества.
На пароходике легко заметить путешественника, которого высадят на этом островке, поведут в это здание. Это старик, уже дряхлый старик. У него густая рыжая с сильной проседью борода, он приземистый, коротконогий, передвигается при помощи костылей, но чувствуется, что когда-то был он сильным человеком. Его глубоко сидящие глаза под прекрасным, мощным лбом, под тяжелыми бровями — беспокойно блуждают с тоскливой жалобой. Два здоровых санитара поодаль внимательно следят за стариком. Что ж, все это вполне обычно: «нормальный», так сказать, сумасшедший...
Но у старика в руках какой-то предмет, и судорожно, со страстным упрямством прижимает он этот предмет к груди. Это — доска, деревянная доска, разбитая на 64 равных клетки, 32 из которых окрашены в черный цвет, 32 — в желтый. Старик прижимает к груди, словно единственную ценность всей своей жизни, — шахматную доску, стоимостью в доллар.
— Хэлло, Джек! — обращается один из пассажиров с обычной американской фамильярностью к санитару, предлагая ему сигаретку, — кто этот старый парень и почему он так прижимает к груди свою дрянную доску?
— О, это занятный тип, — словоохотливо отвечает санитар, — он, видишь ли, сошел с ума оттого, что слишком много играл в эту игру... как ее, шахматы, что ли... Но он не американец, он не то еврей, не то цыган, откуда-то из Европы...
И пассажир уже с почтением, смешанным со страхом, смотрит на старика: сошел с ума оттого, что забавлялся игрой в шахматы? Вот это странно... Правда, он не американец...
Пароходик подошел к пристани. Старика высаживают на островок.
Тринадцатый
«Я не историк шахмат, я сам кусок шахматной истории, мимо которого никто не пройдет. Я о себе не напишу, но уверен, что кто-нибудь напишет».
Так заявил шестидесятилетний Вильгельм Стейниц в 1896 году, за четыре года до своей одинокой и печальной смерти. И, говоря эти заслуженной гордостью насыщенные слова, не мог он, конечно, не вспомнить о сорока почти годах своей трудной и страстной шахматной жизни; но и не мог не подумать о предстоящем; ему — вскоре после этих слов — новом и труднейшем испытании, о московском матче с Ласкером, о том матче, после которого понял, наконец, этот упрямый, волевой и страстный человек, что конец Стейница-шахматиста настал, и ничем его не предотвратить, не задержать, не замедлить...
Стейниц был прав. О нем писали. После смерти было напечатано в специальных шахматных изданиях несколько некрологов, появилось несколько коротеньких заметок и в общей прессе. Было рассказано несколько анекдотов. Было отмечено, что у бывшего «чемпиона мира» был очень дурной характер.
Но — «человек лишь тогда по-настоящему знаменит, когда он удостаивается внимания Британской энциклопедии», — говорят англичане. И с этой точки зрения Стейниц знаменитым не был: «Британская энциклопедия» не удостоила его специальной статьей, упомянув лишь его имя в общей статье о шахматах. Не лучше отнеслись к Стейницу и составители словаря Ларусса, и французской «Большой энциклопедии». Немецкий словарь Мейера, правда, посвящает Стейницу статейку в 20 строчек, но — характерная мелочь — нужно долго перелистывать страницы, чтоб найти в этом словаре хотя бы одну фактическую ошибку, а в статейке о Стейнице эта ошибка налицо: неверно назван год его рождения. И вряд ли особо беспокоились редакторы словаря, когда ошибка была обнаружена: ведь речь идет всего лишь о шахматисте.
Правда, шахматные авторы, писавшие о Стейнице, прекрасно знают, что речь идет не просто о шахматисте, а о гениальном мыслителе в области шахмат, о неутомимом искателе, о смелом новаторе, о большом человеке. Но и шахматные авторы, писавшие о Стейнице, не знают — это не входит в их компетенцию, — как печален был его жизненный путь; ибо в этом он разделил столь типичную для буржуазного общества судьбу новаторов, искателей, пролагателей новых путей во всех отраслях творчества: он был одинок, не признан, не понят даже в среде своих собратий-шахматистов. Они отдавали ему должное, как партнеру за шахматной доской, долголетнему чемпиону мира, но пожимали плечами, когда речь заходила о «чудачествах старика», о теоретических его исканиях, о глубокомысленных построениях, о героическом упорстве, с которым пытался он, и столь часто безуспешно и во вред себе, как практическому игроку, осуществить в жизни (т. е. на шахматной доске — ведь она является жизненной реальностью для шахматиста) свои философско-эстетические (в шахматной области) принципы. Этот Стейниц стал нам ясен только теперь.
Никто из писавших о Стейнице ничего не мог сказать о нем как о человеке. Шахматы в этом смысле — совершенно особая область человеческого творчества, в корне отличная, согласно установившимся взглядам, от музыки, живописи, литературы. Шахматное творчество, на первый взгляд, максимально объективно, наименее зависит от личных качеств человека, от его социальной среды, от жизненной его биографии, оно, так сказать, выпадает из жизни самого шахматиста, подчиняясь имманентным законам самого жанра. Таково обыденное представление, которое, если бы дать ему наукообразное обоснование, явилось бы чисто идеалистической, насквозь формалистской концепцией. Но, повторяю, это даже не концепция, это только обычное представление, в свете которого никак не понять, что же в конце-концов создает стиль и индивидуальность шахматиста? А понять это можно и должно, при предварительном условии безоговорочного отказа от этого представления.
Изучение творчества выдающегося шахматиста, как и творчества каждого выдающегося человека в любой отрасли мышления и действия, — мыслимо лишь на основе изучения его социальной и личной биографии.
Но что делать, если таковая отсутствует? А она отсутствует у Стейница. Не в том смысле, что ее не было, а в том смысле, что о ней ничего не известно. Записано и опубликовано около тысячи шахматных партий, сыгранных Стейницем на протяжении сорока с лишним лет, но во всей шахматной литературе о Стейнице (а другой не существует) не найти ни одного высказывания Стейница на общую, не шахматную тему. Стейниц-человек никого никогда не интересовал. Настолько не интересовал, что ничего не известно о крупнейших внешних фактах его жизни, если они не связаны с шахматами.
Остается, таким образом, лишь угадывать и догадываться, восстанавливать картину на основе случайно дошедших до нас бледных штрихов и отдельных мазков. Нужно ли говорить, насколько трудна и неблагодарна эта задача?
Итак, мы знаем, что Вильгельм Стейниц родился 14 мая 1836 года — сто лет тому назад — в бедной еврейской семье, жившей в еврейском квартале города Праги, третьего но значению своему города бывшей австро-венгерской монархии. Во второй четверти XIX века еврейское гетто формально уже не существовало в городах Австро-Венгрии, но фактически еврейское население жило совершенно обособленной жизнью, и территориально и социально, а тем более в Праге, еврейская община которой была одна из старейших во всей Европе.
Это была община с длительной исторической традицией и богатой и унаследованной культурой, упорно охраняемой от посторонних влияний. Многие «светочи во Израиле», раввины и ученые, вышли из Праги; с городом этим связаны многочисленные легенды еврейского средневекового фольклора, там возникла и знаменитая легенда о «Големе»[1] — материал для многих литературных произведений. Еще в XVII веке главная пражская синагога называлась «старой» синагогой и еврейское кладбище — «старым» кладбищем.
История еврейской общины в Праге знакома и с кровавыми (погромами, и с безжалостными выселениями.
Ассимиляционные тенденции, столь сильные в конце XVIII и начале XIX века в берлинской и венской еврейских общинах, в гораздо меньшей степени коснулись пражской, жившей замкнутой жизнью, имевшей свои административные органы, свою юрисдикцию. Пражская община была довольно многочисленна — до 10 000 человек, из которых многие были зажиточны. Но семейство Стейниц отнюдь не принадлежало к числу зажиточных: об отце Вильгельма известно лишь, что он занимал какой-то очень маленький административный пост в общине и имел тринадцать детей — тринадцатым был Вильгельм.
Тринадцатый ребенок в бедной, полунищей еврейской семье — этим сказано все. Это означает: безрадостное убогое детство, физическая хилость, уродливое воспитание в духовной школе, бессмысленная зубрежка талмудических текстов уже с восьми-девяти лет. Трудно выдержать такое детство, но если ребенок выдерживает его, то получает определенный умственный закал, приобретает стойкость характера.
В еврейском гетто шахматная игра была издавна любимой игрой, и уже в двенадцатилетнем возрасте Вильгельм был известен на еврейской улице как хороший шахматист.
Однако этот еврейский мальчик не сразу стал шахматистом. На пути от детства к юношеству он прошел этап страстного, по-видимому, увлечения. Сведения об этом этапе очень скудны, они ограничиваются несколькими случайными намеками в некрологах и одним биографическим фактом. Речь идет об увлечении юного Стейница математикой. Стейницу, повидимому, пришлось выдержать довольно серьезную борьбу за намеченный жизненный путь, ибо лишь в 1858 году, двадцати двух лет, он получил возможность покинуть Прагу и поступить на первый курс венского политехнического института. Есть все основания предполагать, что в этот юношеский период своей жизни Стейниц очень мало времени отдавал шахматам.
В кафе «Куропатка»
Кроме этого голого факта — мы ничего больше о Стейнице-студенте не знаем. Мы не знаем даже, сколько лет он учился в институте и когда расстался с ним окончательно. Но что он с институтом, а также с математикой — расстался, это мы знаем, и данный факт сам по себе достаточен.
Полуанекдотической можно назвать известную версию, которую охотно повторяют историки шахмат в XIX веке, версию о том, что Стейниц сделался шахматистом «случайно». Рассказывают, что, зайдя однажды в венское кафе «Куропатка», где собирались за игрой все лучшие венские шахматисты, и следя за одной партией, он сделал критическое замечание. Когда его резко оборвали, он тут же предложил двум лучшим шахматистам сыграть с ним, причем заявил, что будет играть, не глядя на доску, и блестяще выиграл обе партии.
Существует и другая версия этого рассказа. Стейниц часто ходил в кафе «Куропатка», но в комнату, где собирались шахматисты, он не попадал — вход туда был обусловлен заказом какого-нибудь напитка, на что у Стейница не было денег. Но он следил за игрой через стеклянную перегородку, отделявшую шахматную комнату от других помещений кафе, следил столь долго и столь упорно, что ему однажды предложили сыграть, и тут обнаружилось, что он сильнейший в кафе шахматист. Но у этого рассказа есть следующая эффектная концовка: следя за игрой через стеклянную перегородку, Стейниц настолько испортил свое зрение, что он не мог более отдаваться своим занятиям в политехническом институте и принужден был его бросить.
Нет нужды входить в критическое рассмотрение всех этих и им подобных историй. Установлен факт, что в 1858—1861 годах Стейниц был постоянным посетителем шахматной комнаты кафе «Куропатка» и участвовал в трех турнирах венских шахматистов, и наряду с этим имеются и другие сведения: в эти годы, по каким-то, оставшимся неизвестными причинам, он оставил занятия в институте.
Можно ли связывать два эти факта? Вопрос надобно поставить иначе: можно ли их не связывать?
На самом деле: что мешало Стейницу кончить институт? Математические его способности были незаурядны, память великолепна и осталась таковой до последних его дней. Правда, он очень нуждался, но мало ли в Вене бедных студентов? Кроме того он мог прибегнуть к весьма легкому для него заработку— игре в шахматы на денежную ставку. Промелькнувшее кое-где предположение, что состояние здоровья не позволило ему заниматься в? институте, не выдерживает критики: правда, Стейниц страдал сильными ревматическими болями, но лишь значительно позже, а усиленным умственным трудом занимался с самого детства и чуть ли не до последних дней жизни. Версия же об ослаблении зрения совершенно анекдотична.
Отказавшись от продолжения и окончания своих занятий в политехническом институте, Стейниц тем самым отказался от обеспеченной и выгодной жизненной карьеры: этого он не мог не понимать — кадры дипломированной интеллигенции в австро-венгерской монархии были не так велики. Следовательно, он пожертвовал верным жизненным будущим и, пожалуй, даже любимым делом — он любил математику, — ради чего?
Ответ нам известен: ради шахмат.
Но тут снова встают недоуменные вопросы. Ведь игру в шахматы ради развлечения и даже честолюбивое стремление стать сильнейшим игроком Вены можно было при известном усилии совместить с учением в институте, с возможностями служебной карьеры. В ту эпоху еще почти не существовало профессиональных шахматистов, играли в шахматы любители — преимущественно обеспеченные люди. Лучшие шахматисты Европы, о которых, конечно, слышал Стейниц, — Андерсен, Стаунтон и другие, — средства к жизни извлекали из других профессий; шахматная печать была очень бедна, и самая мысль о том, что шахматная игра может явиться источником существования, казалась в ту эпоху нелепой.
И вот эту нелепость желает осуществить молодой венский студент. Конечно, он не мог быть настолько наивным, чтобы предположить, что жизнь шахматиста-профессионала будет легкой, радостной и обеспеченной жизнью, но, очевидно, уже теперь ему было ясно: какова бы ни была его жизнь, шахматы — только и исключительно — могут и должны быть ее смыслом и содержанием. Шахматы — его призвание, которому нужно либо отдаться целиком, либо совсем не отдаваться; так должен был он чувствовать, приравнивая тем самым шахматы к любому другому призванию, как литература, музыка, живопись... И поэтому в этом вопросе Стейниц выступил новатором, искателем, прокладывателем путей, ибо до него, даже у лучших шахматистов XVIII и XIX веков, шахматы были либо средством побочного заработка, либо развлечением, либо добавочным умственным интересом, но никак не принципиальным жизненным призванием, которому нужно принести в жертву все остальное. Стейниц же это сделал, обнаружив этим доминирующую черту своего характера: ненависть к компромиссам, прямолинейность, волевую целеустремленность. Он подписал вексель, по которому ему в конце жизни пришлось заплатить.
И заплатить — тяжело!
В эти первые годы характер и стиль игры Стейница мало отличался от стиля игры любого сильного шахматиста кафе «Куропатка». Правда, он играл несколько сильнее других и с каждым годом улучшал свою игру. В турнире венских шахматистов 1859 года он занял третье место, в турнире 1860 года — второе, и в третьем турнире — 1861 года — первое место, выиграв из 31 игранных партий — 30. Но сила игры прочих участников этих турниров была, можно думать, не так велика: лишь несколько человек из них, как это можно судить по сохранившимся партиям, играли, примерно, в силу нынешних шахматистов второй категории. Посетителей же кафе «Куропатка» Стейниц бил, что называется, походя, давая при этом многим из них фигуру вперед. Тут он уже был признанным чемпионом. Жадное честолюбие Стейница, честолюбие человека, знающего себе цену и уверенного в своем призвании, уже сейчас, в эти первые годы, находило если не полное, то значительное удовлетворение. Трудно сказать, надеялся ли он уже тогда стать чемпионом мира по шахматной игре— самый этот титул тогда официально еще не существовал. Но выдающимся шахматистом Вены он уже имел основание себя считать, — едва только начав серьезно играть. И богатая пища представлялась его честолюбию, даже тщеславию, когда он — полунищий, молодой, недоучившийся студент — сталкивался за шахматной доской с людьми обеспеченными, занимавшими видное общественное положение, среди которых был и аристократ полковник, и титулованный майор «императорско-королевской армии», и крупный чиновник, и выдающийся придворный музыкант, и видный юрист, и богатейший владелец пивоваренного завода, и хозяин оптового торгового дела, и влиятельный банкир, — вряд ли нужно приводить фамилии всех этих лиц, часто посещавших шахматную комнату кафе и искавших удовольствие в игре с молодым, полунищим студентом. Он видел против себя за доской представителей аристократической, чопорной, чиновной Вены, от которых был отделен, как только вставали они из-за доски, не прозрачной стеклянной перегородкой, а подлинно непроницаемой стеной классовых, сословных, религиозных различий... Но за доской, еще перед первым ходом, он себя чувствовал равным с полковником и пивоваром, с юристом и банкиром, а на втором, третьем, четвертом, двадцатом ходу видел он — таков уж характер шахматной игры, — что он умней своего партнера, глубже мыслит, смелей рассчитывает, талантливей комбинирует, что представляет он большую ценность, чем партнер, и понимал, что понимает это — не может не понимать — и его партнер, — такова уж специфика шахматной игры, самой объективной и безжалостной игры, созданной человечеством. И тогда возникло у него это чувство превосходства, столь знакомое каждому выдающемуся шахматисту, чувство, звучащее, как могучий стимул для новой борьбы, новых побед, приходящее заново после удовлетворения его еще более сильным, еще более властным.
И этому чувству многим жертвовал молодой Стейниц.
Встречи за шахматной доской, сами по себе дружеские, почти фамильярные, с банкирами и оптовиками давали в руки важный шанс для делания карьеры. Ловкому молодому человеку было бы очень легко воспользоваться этим шансом. А если бы он еще догадался во-время проиграть одну-две партии банкиру или оптовику то, пожалуй, не пришлось бы долго дожидаться тепленького местечка в банкирской конторе, жалованья в оптовом предприятии.
Но такого рода дебют был не в стиле жизненной игры Вильгельма Стейница. Честное отношение к тому, что он избрал своим жизненным призванием, конечно, не позволило ему превратить шахматную партию в ставку для какой-то другой игры. А чувство шахматного превосходства уже в эти ранние годы породило у него агрессивное, преувеличенное, пожалуй, чувство собственного достоинства. И в этом пришлось однажды убедиться одному из его партнеров, Эпштейну, крупному банкиру Вены, — убедиться за шахматной доской в кафе «Куропатка», во время одной из партий, игранных им с этим неприятным, нищенски одетым недоучившимся студентом.
Студент, дававший своему партнеру коня вперед, что-то долго задумался над ходом.
— Н-ну! — протянул недовольно банкир.
Подумав, сколько он считал нужным, Стейниц сделал ход. Теперь пришлось задуматься банкиру.
— Н-ну! — скопировал Стейниц партнера.
Банкир вспылил. Очевидно, помимо всего прочего, он проигрывал партию.
— Не забывайте, что вы говорите с банкиром Эпштейном, молодой человек!
— За шахматной доской я, и один я — Эпштейн, — ответил Стейниц.
Имя «Эпштейн» было для него в данном случае условным термином, символом, подчеркивающим его превосходство, его призвание.
Да, такому молодому человеку трудно было получить тихое, тепленькое местечко в банкирской конторе.
Взлет
Ко второй половине XIX века долголетняя борьба между Лондоном и Парижем за звание шахматной столицы мира и питомника великих шахматистов потеряла свою остроту. Один из соперников вышел из строя: после того, как знаменитый французский чемпион де Сент-Аман был побежден в историческом матче англичанином Стаунтоном, Франция, словно обидевшись, вообще не рождала больше и вплоть до нашего времени мировых шахматистов. Лондон торжествовал. И нужно признать, что основания для этого торжества были. К перелому века английские шахматисты гордились такими именами, как Мак-Донель, Боден, Льюис, Уокер, Горвиц, Монгредиен, и был, наконец, среди них ученый и литератор, издатель и комментатор Шекспира, Хоуэрд Стаунтон, комбинации которого в попытках примирить различные шекспировские тексты были если и менее успешны, то не менее глубокомысленны и сложны, чем комбинации за шахматной доской... К перелому века стали выдвигаться новые фигуры — Берд, Левенталь, Оуэн, несколько позже Блэкберн; Лондон насчитывал уже несколько шахматных клубов, в Лондоне происходили важнейшие шахматные матчи. Триумф знаменитого американца Морфи в Европе начался с Лондона, и в том же Лондоне был организован в 1851 году первый в истории шахмат международный турнир.
И нельзя пройти мимо той характерной детали, что турнир этот был организован в связи и одновременно с первой в истории капиталистической Европы международной промышленной выставкой, открывшейся в Лондоне осенью 1851 года. Отразив в затяжной «позиционной» борьбе угрозу чартизма, справившись с промышленными кризисами, — капиталистическая Англия уверенными шагами шла к политической и экономической гегемонии на европейском континенте. Заявкой на эту гегемонию и была первая международная промышленная выставка. Вполне закономерно появилось стремление прихватить по дороге и гегемонию в области культуры, спорта и, в частности, главенствовать в культурнейшей из спортивных игр, и спортивнейшей из культурных игр — шахматной игре. Это стремление и способствовало инициативе лондонских шахматных клубов в организации такого сложного по тем временам предприятия, как международный шахматный турнир. Правда, победу в турнире одержал не Хоуэрд Стаунтон, гордость шахматной Англии, а безвестный до того времени любитель, скромный учитель математики в провинциальном немецком городке, Адольф Андерсен. Но турнир был все же организован в Англии, и денежные призы турнира — первые в истории шахмат официальные призы — исчислялись в английской валюте. К числу добродетелей английской буржуазии всегда принадлежало умение пользоваться чужими достижениями: в этом случае английского буржуа нельзя обвинить в узком национализме.
Но второй международный турнир удалось организовать в том же Лондоне лишь через одиннадцать лет — в 1862 году. Приглашение прислать своего представителя на этот турнир было послано и венскому шахматному клубу. Приглашение было принято, и на турнир поехал лучший венский шахматист, двадцатишестилетний Вильгельм Стейниц.
Стейниц никогда не вел дневника и не писал мемуаров. И мы не знаем, воскликнул ли он, высадившись на английскую почву: наконец-то! Но что-то в этом роде воскликнуть он должен был. Лестно было, что выбор Вены пал на него, творчески вдохновляла перспектива волнующей борьбы с лучшими шахматистами мира. Но это не все. Не мог не видеть Стейниц, получив приглашение, что перед ним открываются новые горизонты. Три года шахматной жизни в Вене и усиленной деятельности в кафе «Куропатка»— к чему привели они? Истощились все возможности, потухли все надежды, исчерпаны все иллюзии. Что же, еще несколько лет подряд брать первые призы на венских, по существу говоря, провинциальных турнирах? Сыграть еще несколько сот или тысяч партий в кафе «Куропатка» с банкиром Эпштейном, на ставку в несколько гульденов, давая коня вперед? Или — признать себя побежденным и все-таки обратиться к банкиру с просьбой о местечке в банкирской конторе?
Вильгельм Стейниц
И вот — Лондон. Поистине, столица мира не чета чопорной, чиновной, по существу мелко-провинциальной столице, где с именем Стейница всегда будет связываться представление о недоучившемся еврейском студенте. А ведь Вене не сравняться с Лондоном! Здесь шахматы поистине в почете — это мог заметить Стейниц уже в первые дни. Знаменитый ученый, популярнейшая в Англии фигура, Томас Бокль, гордится своими шахматными достижениями, пожалуй, не меньше, чем своими учеными трудами. Хоуэрд Стаунтон, величавый джентельмен с важной и торжественной речью и внешностью персонажа Диккенса, настойчиво подчеркивает, что он не только спортсмен, поэт и шекспиролог, но и сильнейший в Англии шахматист, выигравший матч у Сент-Амана, и этим своим достижением удовлетворен больше, чем всеми остальными, на других поприщах. Да, и в Лондоне есть шахматное кафе, но разве «Симпсон-Диван», называющийся также «Сигар-Диван» — это великолепное, в восточном стиле орнаментированное (отсюда и его экзотическое название — Диван) кафе на Стрэнд, лучшей (в ту эпоху) улице Европы, напоминает хоть сколько-нибудь о жалком кафе «Куропатка» с его стеклянной перегородкой. А уютные кресла в «Симпсон-Диван»—на таких, пожалуй, не сиживал сам банкир Эпштейн в своем венском особняке. Да, и здесь играют в шахматы на ставку (и Стейниц, со своими жалкими несколькими фунтами в кармане весьма этим доволен), но ставка здесь не пара гульденов, а иногда даже английская великолепная золотая гинея!
Но есть в Лондоне и несколько шахматных клубов и среди них и аристократический «Сент-Джордж Чэсс клоб», и богатейший «Сити оф Лондон клоб», вот уже много лет ведущие между собой ожесточенную борьбу за первенство. Помимо шахматных отделов во влиятельнейших газетах существует в Лондоне и специальная шахматная печать. A «Wiener Schachzeitung»— не может не вспомнить Стейниц, — уж не выходит несколько лет, за отсутствием средств. И затем, шахматная Англия — это не только Лондон: существуют процветающие клубы в Манчестере, Ливерпуле, Ноттингеме, Лидсе, Бристоле, Брайтоне, — там устраивают даже большие турниры... И, наконец, — а это Стейниц считал главным, — в Лондоне, в Англии, как нигде в мире, сумеют оценить его талант и отдать должное ему, — человеку, осуществляющему свое призвание, хотя его призвание — только борьба и торжество на 64 клетках деревянной доски.
Не мог Стейниц знать, что когда в 1851 году собирался Адольф Андерсен в Лондон на первый международный шахматный турнир, он имел намерение остаться в Лондоне и стать шахматным профессионалом, расставшись со своим постом учителя провинциальной гимназии, ибо, — передает биограф Андерсена, — «шли слухи, что талантливый шахматист может иметь в Лондоне и славу, и почет, и деньги в полной мере». Но Андерсен осторожно проверил эти слухи, убедился, очевидно, что они не вполне соответствуют действительности, и расстался со своим намерением. Этот гениальный шахматист, человек неожиданных, фантастических и рискованнейших комбинаций на шахматной доске, отнюдь не был склонен к риску в своей повседневной жизни, оставаясь всегда и всюду аккуратным и повседневным немецким учителем. Еще не раз придется столкнуться с этим характерным феноменом: резким противоречием, полярностью почти, между жизненным и шахматным стилем знаменитых шахматистов; не имеет ли здесь место своеобразный процесс психологической компенсации? Эта сложная тема ждет еще своих комментаторов.
Но Стейниц, помимо того, что он отнюдь не пугался авантюр на жизненном пути, находился в ином положении, нежели Андерсен: в Вене терял он очень немногое. Мог ли он сомневаться, что его место в Лондоне? Мог ли он решать иначе? Но это решение нужно было оправдать выдающимся, по меньшей мере, значительным успехом на предстоящем турнире, — эхо Стейниц понимал. Совершит ли он это?
Констатировать можно и сейчас, и не раз в дальнейшем представится возможность в этом убедиться: чудес, фантасмагории, ослепительных эффектов, блистательных сенсаций в шахматной карьере Стейница не было. Тяжелый, могучий, часто неблагодарный труд — вот линия его шахматной жизни, начертанная глубокими морщинами на его характерном лице. Шахматный язык таких виртуозов, счастливчиков шахматной доски, как Андерсен, Морфи, Цукерторт — в его эпоху, как Капабланка — в наше время, — был Стейницу чужд и, можно думать, неприятен; да и нельзя было на этом языке решить жизненную задачу Стейница.
Успех у Стейница на лондонском турнире был довольно значительный, но никак не выдающийся.
Из 14 участников турнира лишь четверо, не считая Стейница, запечатлели свое имя в истории шахмат: Андерсен, Паульсен, Левенталь и Блэкберн. Но из них Гарри Джемс Блэкберн, двадцатилетний в это время юноша, едва только начинал свою карьеру — лондонский турнир был его первым выступлением. Левенталь не закончил турнира, и лишь с двумя подлинными чемпионами пришлось состязаться Стейницу. И он проиграл не только им, но еще трем участникам турнира, в том числе Блэкберну, и окончил на шестом месте. Андерсен снова занял первое место, проиграв из 13 партий лишь одну (ничьи переигрывались).
Шестое место из 14, последний приз — скромная сумма пять фунтов стерлингов, — первый призер получил сто фунтов. Как-будто бы особенно хвастать нечем.
Но были две партии в этом турнире, которые позволили самому Андерсену заявить, что далек будет путь шахматиста из Вены. Одна из них не нуждается в особых комментариях: партия, выигранная Стейницем у англичанина Монгредиена, была единодушно признана всеми участниками турнира, шахматной прессой, и подтвердил это и Андерсен, наиболее сильно проведенной, красивейшей партией турнира. А другая партия заставила задуматься и самого Андерсена. Это была его партия со Стейницем.
Стейниц, игравший черными, в нормально начатой испанской партии нарушил на шестом ходу господствовавшие в ту эпоху основные принципы развития фигур, сделав типичный для зрелого Стейница «фантастический» ход. И был наказан: уже на 20 ходу положение его казалось безнадежным. Но тут последовала «вспышка гения», как говорит комментатор, а можно было бы сказать — «талмудический» ход, — сам по себе объективно слабый, но сила которого состояла в том, что он казался еще слабее, гораздо слабее, чем он был в действительности. Жертвой этой иллюзии и пал Андерсен, сделавший ответный ход, отвечавший не на действительную, а на кажущуюся слабость хода Стейница.
Один преследует другого, расстояние все сокращается, дыхание преследуемого все учащеннее, и вдруг преследуемый падает на землю. Преследователю кажется, что силы преследуемого истощились, и вместо того чтобы остановиться самому и перевести дыхание, он бросается на лежащего. Но тот внезапно вскакивает, и преследователь, потеряв равновесие, падает сам. Таков был смысл маневра Стейница, давшего ему шансы на ничью. Правда, через несколько ходов он сделал грубый зевок, после которого партию спасти было нельзя, но маневр Стейница остался в шахматной истории с восклицательными знаками комментаторов.
И быть может этот маневр и помог Стейницу получить приглашение остаться в Англии в качестве шахматиста-профессионала.
«Слава, почет, деньги?» В этих ли терминах думал Стейниц о своем, как будто уже обеспеченном будущем в Англии в 1862 году? Через 20 с лишним лет, покидая Англию навсегда, он мог подумать, покачав головой: было, все было и... ушло.
Итак, он остается в Англии. Молодой, агрессивный, молчаливый, маленького роста, но крепыш, с тяжелым корпусом и уже солидной бородкой на юношеском еще лице, он импонирует англичанам своей выдержкой, своим отношением к развернувшейся серии успехов. А отношение это было весьма спокойное, в чисто английском стиле. Успехи? А как же иначе? Иначе ведь и быть не могло... И успехи действительно были. С неудержимым напором провел Стейниц в 1863—1865 годах серию матчей с лучшими шахматистами Англии. Блэкберн, Монгредиен, Дикон, Грин— один за другим выходили они на состязание, и каждый был побежден. Не только побежден, — разгромлен. Сильнейший из них был Блэкберн, этот великий практик шахматной доски, начавший играть в шахматы двадцатилетним, на лондонском турнире 1862 года, и кончивший играть семидесятидвухлетним, на петербургском турнире 1914 года. И Джемс Генри Блэкберн, высокий, крепкий, веселый, со смеющимися глазами, — таким он еще был в Петербурге в 1914 году, — был разгромлен мрачным Стейницем: из девяти партий матча выиграл он лишь одну, при двух ничьих.
А затем были гастроли по всей провинциальной Англии, в местных клубах, были сеансы игры «вслепую», — Стейниц презирал эти «фокусы», считая их профанацией шахматной игры, но их требовал жадный до фокусов зритель.
И был матч в декабре 1865 года с Сесиль де Вером. Высокое мнение Стейница о самом себе не составляло секрета ни для кого. Но все же удивились английские шахматисты, когда услышали, что Стейниц согласился дать в этом матче своему противнику пешку и ход вперед, ибо уже в это время де Вер считался чрезвычайно сильным шахматистом. И тем более симпатизировало общественное мнение противнику Стейница, что этот юный лорд был еще очень молод, и английскому мещанству весьма импонировали его 17 лет, высокоаристократическое происхождение, — предку Сесиль де Вера приписывали между прочим авторство пьес Шекспира, — и его на самом деле необычайная одаренность не только в области шахмат. Но английское мещанство было удовлетворено: Стейниц проиграл этот матч, и с результатом мало почетным — всего 2 выигрыша из 12 партий, при трех ничьих. В жизненной партии Стейница этот матч был не только капризным, но и ложным ходом, первым, но — мы увидим дальше, — не последним. Много тактических ошибок совершал в своей жизни Стейниц, при общем правильном и вдохновенном стратегическом плане ее, и переоценка своих сил, как практического игрока за доской, была, пожалуй, главнейшей...
Но этот отдельный, изолированный неуспех не помешал поклонникам Стейница добиться организации матча Стейниц—Андерсен, важнейшего матча десятилетий.
Баярд и бухгалтер
Нужно остановиться, как перед каждой решительной схваткой, взвесить и оценить положение и подвести некоторые итоги.
Адольф Андерсен. Ему сейчас, в 1866 году, 48 лет; пора увядания, пожалуй, близка, но еще не настала. Мнение шахматистов всех стран единодушно: он сильнейший. И не только потому, что он добился первенства, — блестяще добился в двух важнейших по тому времени международных турнирах, —не только потому, что он выиграл несколько матчей. В нем импонирует все: и романтическая его внешность — он высок, худ, но мускулист; строгий, сухой, но выразительный, словно тонким мастером очерченный рисунок лица, и изящество манер, и быстрая, остроумная речь, и то, что он «любитель», а не шахматист-профессионал: это большое преимущество в глазах мещанства середины XIX века, считающего, что шахматы — это «развлечение», недостойное быть профессией «серьезного» человека... И, конечно, импонирует «джентльменский» стиль его игры: он играет быстро, решительно, с эффектной легкостью, почти улыбаясь; но он умеет также проигрывать, не падая духом, не теряясь, не жалуясь на «несчастный случай». Его прозвище «баярд шахматной доски», «рыцарь 64 полей» также импонирует мещанству, пленяющемуся внешней, условной театральностью, которая «облагораживает» в их глазах прозаическую шахматную игру. И вполне естественно, что Андерсен, знавший о впечатлении, которое он производил на зрителей, со своей стороны способствовал, хотя бы подсознательно, созданию и закреплению этого впечатления.
Но не за это ценили и глубоко уважали Андерсена подлинные шахматисты. Им импонировала необычайная его одаренность, граничащая с шахматной гениальностью — о ней красноречиво говорили две его партии, игранные в 50-х годах (одна с Кизерицким, другая с Дюфреном), сохранившие и до наших дней данное им название «бессмертной» и «вечнозеленой» партий. Андерсен был, конечно, сильнейшим, талантливейшим представителем так называемого «комбинационного стиля» шахматной игры (о нем еще будет итти речь), превалировавшего тогда среди шахматистов всего мира. Этот стиль игры Андерсен довел до максимальной остроты, до блестящего завершения, что, естественно, и обнажило органически присущие ему недостатки; но этого еще не видели в ту эпоху, не видел и тот, чья дальнейшая шахматная жизнь была посвящена неутомимой и по-истине героической борьбе — и теорией и практикой— с этим господствовавшим стилем, с этой, можно сказать, школой. Вильгельм Стейниц этого еще не видел.
В матче с Андерсеном он не выступил законченным представителем какого-либо нового направления, носителем новых идей — это нужно сразу отметить. В этом же почти андерсеновском стиле играл и он. И по общему мнению, хотя и сильнее всех других, но, по-видимому, слабее Андерсена. В сущности говоря, и успехи его до этого матча не были таковы, чтобы давать ему право претендовать на звание сильнейшего шахматиста в мире, — а звание это фактически и было ставкой в данном матче.
Не приходится и говорить, что во всех остальных отношениях, с точки зрения широкой публики, Стейниц значительно уступал своему партнеру. Он вряд ли знал, что не «нравится», по той простой причине, что ему в голову никогда не приходило нравиться шахматным «болельщикам» или как-нибудь им импонировать. Ни артистической внешности, ни соответствующих наклонностей совсем не имел этот довольно мрачный, весь ушедший в себя, резкий, невежливый, самонадеянный человек, отнюдь не обладавший житейским тактом. И, конечно, никак нельзя было назвать «рыцарем», «баярдом» этого выходца из еврейского квартала Праги с его весьма прозаической внешностью солидного и слегка сердитого бухгалтера...
История сохранила нам весьма характерный снимок: Андерсен и Стейниц за шахматной доской в одной из партий матча. Высокая фигура Андерсена склонилась над доской. Взгляд его упорен, пронзителен, в позе его, в положении рук у доски — естественная, органическая артистичность, наклон головы говорит о напряженной воле, поношенный сюртук облекает его почти как римская тога, он эффектен и импонирует на первый же взгляд.
Партнер его и в сидячем положении производит впечатление коротконогого, с тяжелым корпусом человека. Сидит он как-то скучно, невыразительно, пассивно, — и не сравнить с активностью позы Андерсена. Любители дешевых символов могли бы назвать этот снимок «дух» и «материя».
Победа Андерсена казалась обеспеченной. В Лондоне нашелся лишь один любитель, предложивший ставку в сто фунтов за победу Стейница — и тысячные пари предлагались за Андерсена. Самый матч игрался на ставку в сто фунтов; двадцать фунтов получал побежденный. Выигрыш восьми партий (не считая ничьих) решал победу.
Андерсен и Стейниц. Матч 1866 года
Но ничьих и в этом матче не было (характерная черта комбинационного стиля игры), и события разворачивались с действительно эффектной быстротой. Проигрыш первой партии Стейницем объяснялся просто и естественно: Стейниц ее играл вяло и пассивно. Но во второй уже, в дебюте, Андерсен сделал две грубых ошибки, подвергся яростной атаке и был разгромлен. В третьей, более спокойной партии Андерсен упустил некоторые представлявшиеся ему шансы на ничью, но исключительно точная игра его партнера уже дает намек на Стейница будущих лет. Четвертую и пятую партию не столько выигрывает Стейниц, сколько проигрывает Андерсен недопустимыми упущениями. Итак, после пяти партий — четыре выиграны Стейницем. И неожиданный сенсационный поворот: четыре партии подряд выигрывает Андерсен, две из них благодаря грубым ошибкам партнера, а восьмую и девятую — бешеным натиском, фейерверком острых комбинаций. Итог: пять выигрышей Андерсена, четыре — Стейница. Усталость в десятой, пассивность в одиннадцатой приносят еще два поражения Андерсену. И если в двенадцатой Стейниц был наказан проигрышем за то, что слишком нетерпеливо хотел форсировать победу, то в тринадцатой Андерсена вновь охватила пассивность и даже растерянность. Итак, семь у Стейница, шесть у Андерсена.
Наступает четырнадцатая, длиннейшая партия матча, которую, а вместе с ней и матч, Стейниц выиграл благодаря великолепной выдержке и терпению искушенного бойца. Добившись незаметного почти позиционного преимущества в дебюте, он ожидал первой, неизбежной ошибки противника в сложном, утомительном эндшпиле. Это была так называемая игра «на истощение». Ошибка последовала: матч был Стейницем выигран со счетом 8 : 6.
Но особого удовлетворения шахматному миру матч не принес. Ведь почти половина партий была проиграна благодаря грубым упущениям с обеих сторон. Победа Стейница не импонировала, создалось готовое и не лишенное оснований мнение, что победа была достигнута лишь потому, что Андерсен оказался не «в форме». И никто в те дни не мог даже подозревать значительности этого матча для истории шахмат, значительности, заключавшейся в том, что он свидетельствовал о кризисе господствующего направления — комбинационного стиля. Никто, за исключением, быть может, одного человека, того, кто выиграл этот матч. Но именно потому, проанализировав свой выигрыш, стал он подозревать, что выигрывать нужно не так, и что в основе всего этого направления в шахматной игре лежит какая-то тяжелая ошибка.
Тайна Морфи
Приблизительно в это время, годом раньше, или годом позже—точно это установить невозможно, но, очевидно, в этот период жизни Стейница, когда он победил сильнейшего, по общему признанию, в мире шахматиста и тем самым сам стал сильнейшим, — на сцене появляется новый персонаж. Не нужно понимать этого буквально — данный персонаж в этот период уже сошел со сцены, но на жизненном пути Стейница он появился, как активный фактор именно теперь. Речь идет о наиболее загадочной фигуре на протяжении всей многовековой истории шахматной игры и, по мнению многих, о гениальнейшей фигуре в истории шахмат: речь идет об испано-американце Пауле Морфи, адвокате из города Нью-Орлеана. Родившийся в 1837 году и умерший в 1884, он был современником Стейница и, однако, это единственный из современных Стейницу шахматистов, с которым Стейниц ни разу не встретился за шахматной доской. Объясняется это весьма просто: тем, что Пауль Морфи играл в официальных состязаниях в шахматы всего два года или даже несколько менее, т. е. как раз в те годы, когда Стейниц дебютировал в маленьком венском кафе. Но если Стейниц ни разу не сидел с живым Морфи за шахматной доской, то, конечно, сотни раз сидел он за шахматной доской, изучая партию Морфи. Ибо за эти два неполных года Морфи показал небывалые доселе достижения. В 1857 году он занял первое место на большом всеамериканском турнире в Нью-Йорке, победив в решительной встрече одного из сильнейших европейских шахматистов Паульсена (выигравшего впоследствии два матча у Андерсена). Приехав летом 1858 года в Европу, он разбил в нескольких матчах сильнейших английских шахматистов, и, наконец, в декабре 1858 года в Лондоне он выиграл матч у Левенталя и разгромил в Париже в матчах Гаррвица и самого Андерсена, выиграв у последнего семь партий при двух ничьих и двух проигранных. Вернувшись в Америку, Морфи ни разу за всю свою жизнь больше не выступал ни в матчах, ни в турнирах и вообще избегал играть в шахматы. Метеор пронесся, оставил неизгладимый след на шахматном горизонте, и исчез. Этот след тщательно изучали и изучают все выдающиеся шахматисты, а тщательнее всех изучал Вильгельм Стейниц, и особенно тщательно после своего матча с Андерсеном. Ибо для него не мог не встать тягостный вопрос: почему он еле-еле справился с Андресеном, в то время как Морфи разгромил того шутя. Естественный ответ: потому, что Морфи играет сильнее его, Стейница, удовлетворить его не мог, ибо тут надвигался другой, еще более важный вопрос: в чем же сила игры? Морфи играл сильнее, — что же, вообще говоря, значит играть сильнее? Стейниц хотел не столько выигрывать в шахматы, сколько понять, чем обусловливается выигрыш, — и в этом стремлении заключалась его творческая сущность, этим стремлением определялся его путь исследователя, искателя, мыслителя...
Понять, чем обусловливается выигрыш... Определить, что значит играть сильнее... Для людей, воспитанных в навыках научного мышления, достаточно ясно, что это означает в конечном счете уметь найти законы, коими определяется искусство шахматной игры, и уметь этими законами пользоваться. Но в эпоху Стейница, в среде шахматных любителей, где он вращался, и в отношении дела, которым он всю жизнь занимался, все это было отнюдь не так очевидно, далеко не так ясно. Законы шахматной игры? Но их ведь знает каждый школьник; это свод обычных правил в том роде, что одна фигура ходит так-то, а другая так-то, этим правилам можно выучиться в четверть часа... Есть еще ряд чисто технических навыков, им легко обучаются в процессе самой игры, и это все... И никаких других законов нет и быть не может. Да и при том умение играть ничего общего с какими бы то ни было законами не имеет.
Уменье играть — это талант, это — «от бога», или от природы, у одного он больше, у другого — меньше, и ничего тут не поделаешь. Вот, Сент-Аман был талантлив, а Стаунтон еще талантливее, а Андерсен еще талантливее, а Морфи — самый талантливый, и это называется — гениальный... И совершенно ясно, что гениальный и должен выигрывать, и ничего тут не поделаешь, и объяснять тут нечего... Была, конечно, разница в стиле игры Лабурдоннэ и Сент-Амана, Стаунтона и Андерсена, но считалась эта разница «случайной», не поддающейся логическому обоснованию.
Пауль Морфи
Таковыми приблизительно должны были быть рассуждения среднего или выдающегося даже шахматиста на эту тему в ту эпоху. Ибо то, что мы после Стейница называем «теория шахматной игры», в то время еще не существовало. Шахматная литература исчерпывалась немногими сборниками игранных партий и несколькими трудами, из которых главнейшим, претендовавшим не на узко практическое, а на общее, принципиальное значение, был труд знаменитого Филидора, сильнейшего шахматиста XVIII века. Труд этот, вышедший первым изданием еще в 1749 году, пытался установить некоторые общие принципы, именно те, какие можно было бы назвать законами, но они касаются почти исключительно лишь одного элемента шахматной партии, хотя и важного, а именно— теории пешечной цепи (фаланги). Выражение «пешка — душа партии» лучшим образом характеризует шахматные взгляды Филидора. И хотя он сам полагал, что этими законами, или правилами, определяющими продвижение пешек, решается весь «секрет» шахматной игры, — эта его точка зрения не была поддержана ни практически, ни теоретически в период первой половины XIX века, ознаменовавшийся столь сильным расцветом шахматной игры. После того рассуждения Филидора редко применялись за доской, в связи, конечно, с тем, что в этот период на практике (Лабурдоннэ) был выдвинут на первый план другой момент шахматной партии: живая фигурная игра, посредством которой шахматист пытался проникнуть в непроницаемую чащу — хаос миттельшпиля. О том, что оба эти момента, а также и некоторые другие, о которых в то время не было и упоминания, являются лишь составными частями некоего единого комплекса, материалом для создания цикла основных законов, определяющих развитие хода и результат шахматной партии, не помышлял, конечно, ни Филидор, ни лучшие шахматисты первой половины XIX века. Что шахматная партия имеет свой внутренний смысл, свой сюжет, свою судьбу, — и это определяется уже первыми ходами, — прозвучало бы дико для шахматного уха того времени.
Андерсен и Морфи за матчевой партией Париж, 1859 год.
Для всякого шахматного уха, но не для уха Стейница.
Весь его умственный и душевный облик дает полное основание полагать, что по твердым и умным законам того дела, которому он отдал свою жизнь, он тосковал еще до того, как понял, что они существуют, что их можно найти. «Везение», «счастье», «чудо» — эти термины были органически чужды и враждебны Стейницу, его гордому и властному уму, его волевому, авторитарному, целеустремленному характеру. «Талант», «от бога», «от природы»— нет, эти пассивные, мистические понятия противоречат жизненному стилю Стейница, который определялся доминантой разума и воли. И, очевидно, уже в этот период развития своего ясно сознавал Стейниц: да, он хочет не выигрывать, а хорошо играть. Выигрывать? Но в конечном счете для чего? Для удовлетворения тщеславия, для карьеры, для денег? Правда, тщеславие — сильный движущий фактор, но не исчерпывающий, однако, все содержание жизни. А что касается карьеры, денег — разве не понимал Стейниц, что этого он мог добиться, и легче добиться на других жизненных дорогах, чем та, которую он избрал...
Выигрывать? Вот Андерсен — великолепнейший, одареннейший шахматист. Он много и легко выигрывал. Но знал ли он почему? И когда он играл матчи с Морфи и с ним, Стейницем, помогло ли ему то, что он много и легко выигрывал? Ну, предположим, Андерсен проиграл Морфи потому, что тот «гений». Но почему же Андерсен проиграл ему, Стейницу?
Он-то знает о себе, что он не «гений». Нет, Андерсен не знает ни того, почему он выигрывал, ни того, почему он проиграл. Но Андерсен и не хочет знать, он «спортсмен», ему просто приятно играть и выигрывать в свое свободное от профессиональных занятий время. А Стейницу знать надо, для Стейница это дело всей жизни, а не только вопрос призов и успехов в матчах и турнирах, жажда знать и понять до конца душит его, и он погибнет от этой жажды, если не удовлетворит ее. Удовлетворить, утолить эту жажду... Но кто ж придет ему на помощь, ему, «лучшему шахматисту мира», после того, как победил он Андерсена? У кого же ему учиться? Не у Андерсена, конечно, побежденного, несмотря на то, что он, Стейниц, в этом матче совсем не безупречно играл, это ведь он понимает. Не у Андерсена. Но может быть у Морфи? Конечно, у него, у этого загадочного человека и шахматиста, который играл не только сильнее других, но и как-то иначе, чем другие. Словно какая-то «тайна» была в игре Морфи, в нее нужно проникнуть, ее разгадать, ибо Стейниц понимал, хотя бы пока и чисто интуитивно, что овладение законами и принципами искусства шахматной игры лежит через разгадку «тайны Морфи».
И Стейниц, не оставляя практической игры, стал усиленно изучать партии Морфи, о которых, конечно, имел он уже общее представление и раньше.
Вехи пути
Дать жизнеописание шахматиста, а особенно такого шахматиста, как Стейниц, — задача особенно трудная.
И не потому, что скудны фактические данные; основные затруднения возникают тогда, когда пытаешься установить связь между этими, как бы скудны они ни были, фактическими внешними вехами его жизненного пути и развитием его творческой личности. А ведь связь эта непреложна. Кто же станет отрицать роль биографического момента в творчестве художника, поэта, музыканта, ученого? Но мыслить в этом же плане о творчестве шахматиста мы еще не привыкли. И тем более неожиданным и неоправданным может показаться стремление не ограничиться только биографическим моментом, пойти дальше и глубже и попытаться установить причинные связи между творчеством шахматиста и господствующей идеологией его классовой прослойки и его эпохи. Мы можем точно установить роль социально-идеологических факторов, которые, пройдя через восприятие художника, обусловили характерные сдвиги в творчестве Рихарда Вагнера к началу 70-х годов и повели к созданию «Кольца Нибелунгов». Но наметившиеся к этому же времени характерные сдвиги в шахматном творчестве Стейница, кстати сказать, яростного поклонника Вагнера, сдвиги эти, выразившиеся хотя бы в том, что он стал предпочитать позиционный стиль комбинационному и закрытые дебюты — открытым (об этих терминах теории шахмат речь будет впереди), — разве они, эти сдвиги, «из пустоты» возникли? Или явились результатом случайного каприза творческой индивидуальности Стейница? Конечно, нет. Шахматы отнюдь не «мир в себе», и то обстоятельство, что в этой отрасли человеческого творчества сочетаются элементы и науки, и искусства, и практики, все это лишь осложняет проблему анализа шахматного творчества отдельного шахматиста в свете господствующей социальной идеологии его эпохи, но не делает ее принципиально неразрешимой. Правда, поскольку подобная проблема в данном ее виде еще не ставилась ни в шахматной, ни в иной литературе, поскольку ни личная, ни тем более социальная биография большинства выдающихся шахматистов совершенно не разработана, приходится итти ощупью и вводить в попытку анализа в значительной степени элементы догадок и домыслов.
И мне кажется вполне оправданной догадка, что в плане чисто биографическом результат матча с Андерсеном, формально благоприятный, но фактически едва удовлетворительный, вызвал в Стейнице творческий кризис. Этот кризис был достаточно тяжел и мучителен для него, но спасителен для шахматного творчества XIX века, ибо привел он, в конечном счете, к созданию «новой школы» в шахматах, базирующейся, как знает каждый рядовой шахматист, на теории или учении, Стейница. Необходимо, стало быть, наметить связь между «новой школой» и основными социально-идеологическими тенденциями эпохи, когда эта школа создавалась, и также указать в чисто шахматном плане на роль и влияние «тайны Морфи» в творческом пути величайшего шахматного мыслителя.
Итак, в августе 1866 года Вильгельм Стейниц, победитель Андерсена, имел формальное право считать себя сильнейшим шахматистом мира, — ведь Морфи к этому времени окончательно отказался от выступлений в официальных матчах и турнирах. Но убедительной эта победа не была в глазах шахматного общественного мнения: ссылались на то, что Андерсен играл значительно ниже своей силы, что он торопился закончить матч до истечения срока своего отпуска; сам Андерсен указывал впоследствии, что Стейниц «раздражал» его своей якобы нарочито медлительной игрой (тогда играли еще без часов, хотя уже с ограничением времени). Правда, английские газеты были довольны победой Стейница, он считался официально «английским» шахматистом, но немецкая шахматная печать с неменьшим основанием указывала, что, как уроженец Австро-Венгрии, Стейниц — немецкий шахматист. Сам же он, родившийся в еврейском квартале чешской Праги и отнюдь не лишенный чувства юмора, сохранял на этот счет приличествующее случаю молчание.
И все же победа Стейница убедительной не была. Трагедия этого первого чемпиона мира заключалась также и в том, что убедительных побед, какие знал Ласкер, Капабланка, Алехин, ему почти ни разу а жизни не пришлось узнать, хотя он многократно отстаивал свое звание сначала фактическое, а потом и формальное. В этом сказывается, конечно, специфика шахматного творчества. Конечно, Стейниц понимал, что элемент состязания и спорта входит неизбежным составным элементом в шахматное творчество, но на нем эта специфика шахмат отражалась особо тяжело, ибо ой в своем творчестве был художником больше, чем спортсменом, и мыслителем больше, чем художником...
Но отнюдь не побуждения художника или мыслителя, а чисто спортивные соображения побудили его немедленно по окончании матча с Андерсеном, в сентябре 1866 года, принять вызов Берда, выдвинувшегося к тому времени сильного английского шахматиста.
Разве мог Стейниц сомневаться, что он сильнее Берда, шахматиста во всяком случае мало интересного? Но этот плотный, упорный и методический англичанин, с тяжелой челюстью и типическими рыжими бакенбардами, испортил Стейницу не мало крови. Да, Стейниц выиграл матч, но с каким результатом? При семи победах — пять поражений и пять ничьих! Это было поистине малопочетное достижение для сильнейшего шахматиста мира. И настроение Стейница не могло улучшиться от сделанного Бердом заявления, что хотя он и проиграл этот матч, но вот Морфи мог бы дать Стейницу вперед пешку и ход — и легко выиграть... Заявление было безответственное, Морфи отошел от игры, но именно поэтому Стейниц был не в силах опровергнуть его. Правда, впоследствии будет видно, как и чем он ответил на заявление Берда.
К месту будет упоминание о том, что сам Берд всего лишь восемь лет назад был разгромлен Морфи со счетом 5 : 0, причем одна партия была играна в сеанс одновременной игры (!).
Но о матче с Бердом Стейниц вспоминал с досадой и болью всю свою жизнь и даже неуклюже попытался однажды (ораторская ловкость не принадлежала к числу его достоинств) сделать его как бы не бывшим, назвав этот матч «частным предприятием». Психологически понятным, но достаточно комическим было это оправдание...
Далее последовал матч с малозначительным шахматистом Фрезером, также с результатом мало блестящим: три победы при одном поражении и двух ничьих, небольшой турнир в Глазго, где Стейниц занял лишь второе место, проиграв, между прочим, де Веру (вспомним матч на пешку и ход) и уступив первое место сильному немецкому шахматисту Нейману, и, наконец, выступление Стейница на третьем международном турнире в Париже в июле—августе 1867 года.
Шахматы к этому времени положительно становились великосветской модой. И не только модой, а для заправил «общественного мнения» Франции Наполеона III в некоторой степени элементом и политической игры. Социальный и политический кризис во Франции второй империи назревал, внешняя политика бонапартистских министров шла от неудачи к неудаче, парижская всемирная выставка 1867 года была делом престижа, на помпезных празднествах и шикарных увеселениях лета 1867 года парижане должны были забыть о капитуляции Наполеона перед Бисмарком на майской лондонской конференции великих держав (1867), о позорно-трагическом крахе мексиканской экспедиции, о предательстве, совершенном в отношении Италии. Гуляки и авантюристы всего мира стеклись летом 1867 года в Париж, несколько европейских королей, а среди них сам Вильгельм Гогенцоллерн, и Бисмарк посетили перестроенную префектом Османном столицу. Кто-то в этот момент подумал и о «шахматных королях». Вспомнил, что и сам Наполеон III заходил иногда, в порядке невинных демократических развлечений, в знаменитое шахматное кафе Режанс пошлепать фигурами по доске: играл он отвратительно, значительно хуже Наполеона I. И приуроченный к всемирной выставке международный шахматный турнир был организован, в порядке престижа, весьма шикарно. В качестве первого приза фигурировала пожертвованная правительством ваза севрского фарфора стоимостью в 5 000 франков (победитель турнира Колиш сам был банкиром, а то пришлось бы ему продать ее со скидкой), турнир посещали великосветские дамы; сильнейшие шахматисты, француз Арну де Ривьер и немец Нейман, сыграли с четырьмя дамами — принцессой Мюрат, герцогиней Тремой, маркизой Кольбер Шабанэ и маршальшей Сен-Жан Анжели — партию вслепую и догадались проиграть...
Стейниц не удостоился чести играть с титулованными дамами; боялись, что этот мрачный еврей не знаком с правилами светских приличий и не догадается проиграть. Но ему было не до того.
Престижу Наполеона III мало помогла всемирная выставка. Престижу Стейница турнир повредил. Ему не пришлось продавать императорской вазы, он должен был ограничиться 400 франками как третьим призом.
Третий приз в турнире, не особенно сильном по составу своему, в котором не участвовали три первоклассных европейских шахматиста — Андерсен, Паульсен, Левенталь, не говоря уже о Морфи, — никак не мог порадовать Стейница. Правда, из игранных 24 партий (13 участников — по две партии) он выиграл 18, проиграв 3 при 2 ничьих (ничьи не считались при подсчете очков), в то время как первый призер Колиш имел 20 выигрышей при 2 проигрышах и 2 ничьих, а второй призер Винавер — 19 выигрышей. И если Колиш был зарекомендованный шахматист, едва не победивший в матче 1861 года Андерсена и вызывавший на матч самого Морфи, то ведь 30-летний Винавер, варшавский коммерсант, прибывший в Париж по торговым делам и лишь случайно принявший участие в турнире, был совершенным новичком. И этому новичку Стейниц проигрывает одну из двух турнирных партий. Правда, маленькое удовлетворение самолюбию мог доставить тот факт, что Стейниц выиграл обе партии у де Вера, занявшего пятое место, но, как понимал сам Стейниц, этот маленький факт исторического значения в его жизни играть не мог.
И если не другие, то он сам не мог не понять одного весьма важного обстоятельства. Стиль, характер, вся система его игры пока ничем не отличалась от обычной господствовавшей тогда системы. Просто он играл несколько сильнее других, и то, если смотрел он правде в глаза, вряд ли сильнее Андерсена, того же Колиша, а пожалуй, и новичка Винавера, а пожалуй, и молодого англичанина Блэкберна... Но если бы даже и одинаково сильно, или чуть-чуть сильнее, — все же не к этому он стремился, думая о своем призвании, стремясь разгадать «тайну Морфи». Повторим еще раз: Стейниц хотел не только побеждать, но и принципиально побеждать, не только выигрывать, используя и уменье, и счастье и везенье, а получать выигрыш как должное, а получать выигрыш как оправданный, неизбежный результат. Спортсменом не был Стейниц, не был и шахматным карьеристом. Успех — да, успеха он хотел, но не как цели, а как результата, результата торжества тех законов и принципов, создать которые он считал себя призванным.
Блэкберн
И снова идут шесть лет (1867—1873) практической игры и практических успехов, то нормальных, то выдающихся. Вкратце перечислим их. Матч в 1867 году (второй) с Фрезером, блестящая победа— семь выигрышей при одном поражении и одной ничьей. Небольшой турнир-гандикап в Лондоне в 1868 году; участвуют Блэкберн и де Вер, — чистый первый приз. Матч с Блэкберном (1870 год) — сокрушительный разгром — семь рядовых побед при одной ничьей. Международный турнир в Баден-Бадене; участвуют на самом деле сильнейшие шахматисты: Андерсен, Паульсен, Винавер, Блэкберн, Нейман; Стейниц на втором месте, выиграв из 16 партий (9 участников по две партии) 9 при 4 проигрышах и 3 ничьих, отстав на пол-очка от первого призера Андерсена, проиграв ему две партии, но выиграв обе у Паульсена, Винавера. На этом турнире встретился Стейниц и не мог, конечно, не познакомиться с И. С. Тургеневым. Лечась в Баден-Бадене, наш писатель, сам сильный шахматист, был приглашен занять пост вице-президента турнирного комитета. Стейниц, нужно думать, не читал ни строчки Тургенева, Тургенев, конечно, понятия не имел о Стейнице-человеке. Два больших человека столкнулись случайно на жизненном пути, быть может обмолвились несколькими незначительными фразами друг с другом, и разошлись, вряд ли вспомнив один о другом на протяжении всей дальнейшей жизни. А между тем, если не Тургенев Стейница, то Стейниц Тургенева мог бы заинтересовать не только как шахматист. Но великий писатель и тонкий психолог счел бы нелепой мысль, что в шахматисте, и особенно в этом шахматисте с прозаической наружностью преуспевшего коммерсанта, может скрываться тонкий художник и выдающийся мыслитель...
И, наконец, последний в этой серии — лондонский турнир 1872 года. Блестяще завоеванный первый приз: шесть выигранных партий из шести игранных, победа над Блэкберном и начинающим сильно выдвигаться историческим соперником Стейница — Цукертортом. Сейчас же после турнира матч с Цукертортом, — очень убедительная победа: семь выигрышей при одном поражении и четырех ничьих.
Все эти шесть лет в Стейнице происходит громадная внутренняя работа; упорная, систематическая, смелая работа философски-творческого порядка, направленная к выработке шахматного мировоззрения, продуманная, как победа творческой воли и воинствующего разума над случайностью, везением, произволом, «чудом», всеми этими элементами, кои считались важнейшими элементами шахматного состязания. Это была колоссальная работа, связанная с разгадкой тайны Морфи, и она быстро дала свои плоды, отчасти на практике в ближайшем венском турнире, но главным образом в литературной деятельности Стейница, начавшейся в 1873 году. Но, чтобы понять ее смысл и содержание, нужно сделать довольно значительное отступление в область теории шахмат.
Что есть ошибка?
История человеческого мышления знает немало примеров того, как умело поставленный вопрос освещает путь развития в данной отрасли с яркостью исключительной, и этот вопрос становится тогда важнее сотни ответов. Кажущаяся неожиданность — вот основное условие такого вопроса, молнией прорезывающего общедоступные горизонты, открывающего новые дали. А впечатление неожиданности возникает тогда и там, где, казалось бы, не может иметь места вопрос: либо потому, что все ясно и ответ не нужен, либо потому, что все неясно и ответ невозможен. Но вопрос уже задан, он становится фактом реальной действительности, его не возвратить в небытие, он динамичен и взрывчат, и он взрывает, в конечном счете, фиксированные и застывшие, обратившиеся в мертвый груз категории ясного и неясного, ненужного и невозможного...
Но мы знаем, конечно, что подобный, несущий в себе революцию вопрос лишь по видимости возникает, как гром из ясного неба, в действительности же строго обусловлен, являясь не только началом, но и результатом, итогом, завершением какого-то этапа в развитии данной отрасли мышления или творчества.
История шахматной игры, этого совершенно особого изобретения человеческого гения, в котором активно сочетались элементы логического мышления, художественного творчества и волевого усилия, также знает подобного рода революционизирующие вопросы. Важнейший из них, поистине делающий эпоху, был задан Вильгельмом Стейницем и формулируется он так: что есть ошибка в шахматной партии?
Исходя из этого вопроса, он и создал свою теорию шахматной игры. До Стейница история шахматной игры была лишь арифметической суммой индивидуальных состязаний за доской. Казалось трудным установить ее обобщенные законы и принципы, имеющие реальность и вне данной индивидуальной партии. Принципы, установленные Филидором, касались лишь некоторых этапов и специфических положений шахматной партии (пешечная цепь, некоторые случаи концов партий) и не имели широкого применения в практике первой половины XIX века, ибо доминировала тогда фигурная игра, и практика эта была основана, если пользоваться философской терминологией, на началах агностицизма, на совокупности неповторимых и не подлежащих обобщению случайностей, определяющих ход каждой индивидуальной партии.
На этой почве возникал так называемый «комбинационный» стиль игры, являющийся основой «старой школы». Ход «комбинационной» партии не в нашем, нынешнем, а в тогдашнем понимании, представлялся приблизительно таковым.
Цель игры — заматовать короля; белые стремятся заматовать короля черных, черные — короля белых. Цель эта неделима, не распадается на этапы, оба противника стремятся к ней с первых же ходов. И, на самом деле, есть такие положения на доске, когда, при определенных ходах черных (и соответственно, конечно, белых), они матуются уже на 4—5—6 ходе. Эти положения случались на практике, «грамотные» шахматисты с ними знакомы и их не допускают. Итак, идет игра. Партнеры избежали «детских матов». Все фигуры введены в бой, положение материально равное, каждый из партнеров стремится к непосредственной атаке на вражеского короля. И вот тут, у того, кто играет сильнее, возникает «комбинация», т. е. возможность благодаря случайному расположению фигур и пешек в данной партии завершить свою атаку рядом форсирующих и форсированных ходов, связанных обычно с материальным пожертвованием, оканчивающихся матом королю противника. Бывает, что она на самом деле приводит к мату, значит — она «выигрывающая», «правильная» комбинация; бывает и обратный случай, — значит, осуществлявший ее «ошибся», не видел ответа противника, разрушающего данную комбинацию. Комбинация не удалась, а неудавшаяся комбинация, как правило, ведет к проигрышу партии. Но и удавшаяся и неудавшаяся комбинации неповторимы, они ведь основаны на данном расположении фигур, случившемся в данной индивидуальной партии.
И далее. В интересах обоих партнеров притти как можно скорее к такому положению на доске, которое объективно чревато возможностью создать комбинацию. Такие положения чаще всего встречаются в так называемых открытых партиях, т. е. таких, где пешки и фигуры обеих сторон сразу выводятся на линию боя и вступают друг с другом в острый конфликт, ведущий к непосредственной драматической развязке. Эти открытые партии можно обострить и убыстрить применением гамбитных начал, таких, в которых одна из сторон, преимущественно белые, уже в дебюте жертвуют противнику пешку, а то и фигуру (гамбит Муцио), чтобы получить взамен лучшее развитие и атаку. Но так как развивать эту атаку после выхода из дебютной стадии и защищаться против нее можно различным образом, то и при гамбитных началах практическая партия не теряет признака случайности и индивидуальной неповторимости.
Так вот и строили свои партии выдающиеся шахматисты первой половины XIX века, и сильнейший из них — Адольф Андерсен — и, как полагали тогда, сам Пауль Морфи. Открытые партии, в частности гамбитные начала, из которых некоторые возникли еще в XVII—XVIII веках, а некоторые (наиболее популярное из них — гамбит Эванса) были изобретены в XIX веке, явно предпочитались: ими было играно громадное большинство партий на матчах и турнирах. Стаунтон даже внес предложение к первому международному турниру 1851 года: обязать участников турнира играть только открытые партии. Эти партии считались интереснее, эффектнее, спортивнее, свидетельствовали о «смелости», о «рыцарском характере» партнеров, — отсюда и возникло столь характерное для того времени уподобление шахматных состязаний рыцарским турнирам. Как видим, шахматная идеология не выпадала из общей идеологической доминанты эпохи — тяги к мелкобуржуазной романтике, возникшей как идеологическая концовка бурной эпохи наполеоновских войн. Представление о шахматах, как о своего рода макете борьбы или даже макете жизни, упорно держалось хотя бы подсознательно в психике шахматистов.
И естественно, что при таком понимании игры сильнейшим считался тот, чьи комбинации были «красившее», т. е. более неожиданны, рассчитаны на большее количество ходов, на большее количество пожертвованных фигур, на большее количество видимых каждому шахматисту эффектов. Таковы были комбинации Андресена, действительно поражающие своим блеском и элегантностью, таковой была его «бессмертная» партия, игранная в 1851 году, в которой он жертвует слона, обе ладьи и ферзя.
В том же стиле играл и Стейниц первые 10 — 15 лет своей шахматной жизни. Он умел осуществлять на доске великолепные, далеко рассчитанные комбинации, проводить эффектный натиск на короля противника, жертвуя по пути легкие фигуры, ладьи, ферзя, он также стремился к созданию бури на доске. И, конечно, в этот период он предпочитал открытые партии и гамбитные начала: из 300 стейницевских партий, игранных в период 1860 — 1877 годов, 240 открытых и около половины играны острейшими гамбитами — королевским, Эванса и другими. Он сам изобрел гамбит — «гамбит Стейница», носивший, правда, иной, отличный от обычных гамбитов характер. Он был, одним словом, типическим «игроком на атаку», атаку во что бы то ни стало. Желающий победить обязан атаковать, таков был моральный, так сказать, закон игры, — и лишь тот, кто подчинялся ему, мог считать себя подлинным «божьей милостью» шахматистом. Отзвук стратегии наполеоновских кампаний звучал и на 64 клетках шахматной доски.
Какое же место занимало в шахматной стратегии понятие «ошибка»? Поскольку не поддавались обобщению комбинации, возникшие «а базе случайного, неповторимого расположения боевых сил на доске, постольку, естественно, не поддавались обобщению и ошибки как в проведении, так и в отражении этих комбинаций, как в атаке, так и в защите. Ошибка рассматривалась как непредотвратимый элемент шахматной игры, точно так же, как случайно, неповторимо, индивидуально, «от бога» возникала комбинация. И ведь решающей роли ошибка в шахматной партии не играет: можно на протяжении трех четвертей партии ошибаться, а в последней четверти провести гениальную комбинацию и победить. На вопрос — что есть ошибка (если только не считать грубейших промахов) — не может быть дано ответа, это, как сказали бы мы сейчас, метафизический вопрос. Но этот вопрос задал себе Стейниц в момент своего идейного и психологического кризиса, в тот момент, когда он стал разгадывать тайну Морфи, изучая игранные им партии.
И вот мы снова сталкиваемся с Паулем Морфи, игравшим в шахматы всего около двух лет, по какой-то причине их возненавидившим, заболевшим к концу жизни душевной болезнью. Ни одного шахматного высказывания Морфи до нас не дошло, как он сам относился к своим гениальным шахматным дарованиям, мы не знаем. Перед нами только его партии и красноречивый, дошедший до нас его портрет. Он сидит за шахматной доской, этот элегантно одетый молодой человек, с красивым высоким лбом, с внимательным взглядом и иронической складкой у губ, похожий несколько на Оскара Уайльда. Стейниц находился в лучшем положении, чем мы: он мог беседовать с Морфи, с людьми, с ним встречавшимися, с тем же Андерсеном; Стейниц мог за свое пребывание в Нью-Орлеане посетить дом, где Морфи жил, говорить с его родными... Но вряд ли Стейниц пытался разгадывать человеческую тайну, окружавшую Морфи, с него было достаточно шахматной тайны, на разгадку которой он бросился со всей упорной страстностью своей натуры.
А материалом для разгадки были только партии Морфи; но партии Морфи сказали Стейницу очень много.
Они утолили прежде всего тоску Стейница по разумной целесообразности в шахматной игре; они обосновали недоверие Стейница к элементам «чудесного», вторгающегося в партию, и они подтвердили возможность постановки вопроса об ошибке.
Ибо партии Морфи объясняют (тому, кто умеет видеть), почему выигрывал Морфи.
Потому, что он был величайший в свое время стратег шахматной доски, умевший применить к шахматной партии принципы использования времени и пространства в шахматном понимании этих терминов. Перед Морфи встает в каждой игранной им партии отчетливая, абсолютно ясная по своему заданию задача: не теряя ни одного темпа, в кратчайший срок развивать свои фигуры, находя для каждой наиболее выгодную позицию. И к решению задачи приступал он с первого же хода. Таким образом, принципиально отрицаются «случайные», т. е. сделанные вне плана ходы: каждый ход должен что-то завоевать, что-то выигрывать, и это «что-то» не фигура и не пешка, это есть темп мобилизации боевых сил, на шахматном языке — преимущество в развитии. Таким образом, вводится в партию понятие времени, темпа.
Но что такое наивыгоднейшая позиция для фигур? Это та, — отвечает анализ партий Морфи, — при которой расположение боевых сил (овладение шахматным пространством) дает максимальные возможности для атаки; в руках Морфи эта атака была всегда смертельной для вражеского короля. А как осуществляется эта атака? В большинстве случаев комбинацией. Но что такое комбинация? Это есть навязывание противнику собственной воли, это — принуждение его делать определенные ходы, это — переселение его из «царства» свободы в «тюрьму» необходимости. Делая ход «а», я вынуждаю противника ответить ходом «б» (ибо все остальные ходы проигрывают сразу), но ход «б» дает мне возможность сделать ход «в», на который противник принужден ответить ходом «г», и т. д., вплоть до последнего хода. Шахматная комбинация — это жестокая вещь, это утонченная пытка: противник, разгадав комбинацию, видит, что каждый шаг приближает его к проигрышу, но этого шага он не может не совершить под угрозой немедленной гибели. Очень часто шахматисты не дают довести до конца выигрывающую комбинацию, предпочитая сдаться немедленно. Но это между прочим.
Противники Морфи, не обладавшие его талантом и, главное, глубоким проникновением в тайны дебютного развития, с первых же ходов стремились к безудержной атаке и приносили ей в жертву все принципы здравого смысла в шахматах. Моофи является поистине первым, продемонстрировавшим не на словах, а своими ходами понятие о здравом смысле на 64 полях. В результате преждевременного стремления к атаке во что бы то ни стало противники Морфи, которым он обычно не давал никаких поводов к этой атаке, получали сокрушительный отпор и быстро погибали, главным образом потому, что их односторонне построенная позиция оказывалась совершенно не приспособленной к защите. Морфи же, стремившийся исключительно к здоровому развитию, одинаково легко мог использовать свои фигуры и для атаки и для защиты.
Итак? Итак, комбинации, осуществляемые Морфи, не являлись громом с ясного неба, не были результатом «гениального прозрения», «внезапного вдохновения», элементом «чудесного». Они были подготовлены всем предшествовавшим планом игры, звучали заключительным аккордом логически развивающейся темы, обоснованным выводом накопившихся предпосылок. Они были заслуженной наградой за честный труд.
В этом и состояла тайна Морфи: говоря шахматным языком — в сочетании позиционной и комбинационной игры. Возможности и необходимости такого сочетания не понимали его партнеры и вообще современники, считавшие, что позиционная игра резко противоречит игре комбинационной и недостойна талантливого шахматиста, который должен искать путь к победе во внезапно возникающей комбинации. Первым понял это Стейниц, сформулировавший впоследствии известные ныне каждому шахматисту принципы игры Морфи: быстрейшее развитие, создание пешечного или фигурного центра, создание и захват открытых линий для атаки.
И, разгадав тайну Морфи, отталкиваясь от его практики, Стейниц создал свою замечательную теорию, в которую практика Морфи впадает, как могучая река в необъятный океан.
Законодатель Стейниц
Шахматная литература богата многочисленными трудами и исследованиями, великолепными учебниками, в которых систематически излагаются и в историческом и в догматическом плане основные направления в теории шахматной игры. Ни одна из этих книг не обходится без специальной главы о Стейнице, ни один теоретически образованный шахматист не сомневается, что Стейниц был основоположником современного понимания шахматной игры, в том смысле хотя бы, как Дарвин является отцом современного естествознания.
И однако Стейниц не написал своего рода шахматное «Происхождение видов». В своем незаконченном шахматном труде[2] Стейниц дал лишь очень скупое изложение своего учения. И стремившимся понять Стейница до конца приходилось изучать стейницевские партии и примечания, и комментарии Стейница к своим собственным и еще более к чужим партиям. А эти примечания, как вообще шахматные примечания, носили в большинстве случаев частный характер, хотя и давали в своей совокупности громадный материал для принципиальных обобщений. Правда, к концу века все выдающиеся шахматисты были в какой-то мере «стейницианцы» и почти с каждой серьезной партии было что-то от учения Стейница, хотя его «авторское право», его исключительная роль далеко не всеми осознавались. Его современникам и бессознательным последователям казалось, что «стейницианство» возникло само собой или вообще существовало всегда, а что касается самого Стейница, то знали, конечно, что он был сильнейшим практическим игроком, игра которого, однако, к концу века значительно ослабела; а кроме того допускали, что у этого капризного и упрямого старика есть какие-то очень сложные, путаные и парадоксальные теоретические воззрения. Стейниц знал себе цену, понимал свое значение, и такое отношение к нему не могло не играть роли в трагическом финале его страстной, одинокой и печальной жизни.
Только Эмануил Ласкер — эта величавая фигура, человек, обладающий громадной общей культурой и исключительной силой мышления, красноречиво показал шахматному миру значение Стейница, дав учению Стейница философское, хотя и во многом субъективное обоснование.
В своих классических трудах «Здравый смысл в шахматах» (первое английское издание 1896 г., второе, переработанное —1925 г.) и «Учебник шахматной игры» (1925 г.) Ласкер ярко изложил учение Стейница; с этим изложением приходится считаться каждому, кто пишет о шахматах и о Стейнице, оно — лучший памятник победителя побежденному.
Итак, Стейниц спросил: что есть ошибка в шахматной партии? И ответил: неумение или нежелание произвести оценку положения на доске, неумение, в связи с этим, составить план игры, который находился бы в соответствии с положением.
Но что есть оценка положения? Это учет, это точное взвешивание самых маленьких «преимуществ» и самых ничтожных «слабостей». План игры состоит, следовательно, в усилении своих преимуществ и соответственном усилении слабостей противника. Этот абстрактный план, звучащий как алгебраическая формула, поддается конкретизации в каждой шахматной партии.
В связи с понятием оценки стоит понятие «равновесия сил». Бывают такие положения на доске, которые характеризуются равновесием сил. Но это не мертвое равновесие, заключающееся в том, что ни у одной из сторон нет никаких преимуществ или никаких слабостей. Такое положение характеризует ничейный конец партии, а не о нем думал Стейниц. Нет, стейницевское «равновесие сил» означает то положение, при котором преимущества и слабости обеих сторон взаимно компенсируются. Допустим, что одна из сторон стремится, произведя оценку и выработав план, нарушить равновесие в свою пользу. Каким же образом? Но, естественно, — ответил бы каждый шахматист той эпохи, — путем непосредственной атаки на противника, и победит в этой борьбе тот, кто атакует «сильнее», т. е. играет «лучше», т. е. придумывает более «гениальную» комбинацию. Вот против этой концепции и заострил Стейниц полемическое острие своего учения, в корне пересмотрев понятие атаки и защиты. Нет и не может существовать, говорил Стейниц, такой гениальной атаки и такой гениальной комбинации, которая могла бы привести к победе, имея исходным положением положение равновесия. Если же подобные, якобы гениальные атаки и комбинации имели место в практических партиях и приводили к победе, то это означало лишь, что защищающийся плохо защищался, либо исходное положение не было положением равновесия, что равновесие было уже нарушено в пользу атакующего. И из этого изумительного по своей остроте и силе положения, легшего в основу всей дальнейшей шахматной истории, он делал выводы, насыщенные революционным в истории шахмат значением. Право на атаку нужно заработать, утверждал Стейниц, — право на атаку это не есть результат индивидуальной одаренности игрока, а величина строго объективная, поддающаяся в каждом случае учету; право на атаку получается в результате накопления целого ряда маленьких преимуществ в положении или, говоря современным шахматным языком, в результате позиционного перевеса. Но коль скоро эти преимущества накоплены, ты не только можешь, но и должен атаковать, под угрозой потери этих преимуществ, —так гласит дальнейшее положение, которое расценивается Ласкером как лучший образец силы и глубины шахматно-философских построений Стейница. И эта стейницевская максима блестяще подтвердилась, как это видно из опыта многих партий, игранных лучшими мастерами. Совсем недавно, на турнире в Гастингсе (декабрь 1935 г.), мы видели, как гросмейстер Флор, имея значительный позиционный перевес в партии с Файном, не решился, по психологическим причинам, перейти в атаку, и в результате проиграл; это был сенсационный проигрыш, свидетельствующий о том, что не мешает и Флору изредка вспоминать о старике Стейнице.
Не трудно заметить, что все эти положения Стейница носят характер абстрактных формул; это и дало Ласкеру возможность утверждать, что Стейниц создал теорию борьбы как таковой. Но сила учения Стейница в том, что он указал метод и путь конкретно-шахматной реализации этих основных принципов. Он указал, что именно является в позиции «маленьким преимуществом», какие из них носят временный характер и какие являются устойчивыми, какие шахматные признаки определяют нарушение равновесия, что означает в шахматах «линия наименьшего сопротивления» и как обнаруживается она у противника. Громадную долю своего творческого внимания Стейниц уделил принципам защиты. Здесь было уже указано на господствовавшее воззрение, что защита вообще «недостойна» талантливого шахматиста. Со всей яростью обрушился Стейниц на это воззрение, показав в частности в своих партиях, какие изумительные шахматные тонкости и глубокие комбинации мыслимы в плане защиты. И вместе с тем он установил замечательный закон о том, что тем действительнее защита, чем в большем соответствии находится сила защиты с силой нападения; понятию слишком недостаточной защиты он противопоставил понятие слишком преувеличенной защиты, настолько же гибельной, как и первая. Если объективная оценка положения требует сконцентрировать для защиты количество сил, равное иксу, то концентрация двух иксов, полагал Стейниц, так же вредна, как и концентрация половины икса. Принцип экономии сил, столь оправдывающий себя во всех отраслях творчества и мышления, был, конечно, неизвестен Стейницу, но он его создал специально в применении к шахматам.
Все эти принципиальные обобщения, найденные Стейницем в процессе анализа практической шахматной партии, преследовали «жизненную» (в шахматном смысле) цель: удалить из шахмат элемент случайности и свести до минимума угрозу ошибки. Они мыслились Стейницем, очевидно, как метод игры, метод, ниспровергающий прежнее понимание шахмат. Но личными свойствами характера Стейница, страстным упрямством его натуры можно объяснить тот факт, что они стали для него священной, неприкосновенной догмой.
Нужно учесть еще один момент. Учение Стейница возникло как естественная и здоровая реакция против «произвола личности» в шахматной партии. Матч Андерсен—Морфи он первый оценил как столкновение личности и системы, и вполне закономерным считал победу системы. Но, как это часто бывает, Стейниц перегнул палку — и за шахматами перестал видеть шахматистов. Партия перестала быть борьбой живых людей в глазах Стейница — она стала безличной иллюстрацией найденных им законов.
Эти обстоятельства нужно иметь в виду, и лишь тогда станет понятным ход шахматной и личной судьбы Стейница.
Мы намеренно воздерживаемся от конкретизации (шахматной) всех указанных и сходных с ними законов, найденных Стейницем (помимо перечисленных), законов о «хороших» и «плохих» слонах, о «слабых полях», о «перевесе на ферзевом фланге», о переходе позиционного перевеса в материальный и т. д. Все эти «правила шахматного поведения» представляют интерес лишь для специалиста; важно отметить, что они не случайны, не грубо эмпиричны, не изолированы одно от другого, а созданы Стейницем как звенья единого и могучего целого, как исчерпывающая концепция шахматной стратегии и тактики.
Позитивной, рационалистической, проникнутой убеждением в торжестве разума и воли над хаосом, произволом и чудом на шахматной доске, — можно считать данную концепцию. Как же возникла она? Как «гениальная комбинация», зародившаяся в изолированном мозгу Стейница? Конечно, нет. Нетрудно увидеть родственную связь между этой шахматной концепцией и основными идеологическими концепциями 60-х—70-х годов, особенно отчетливо проявившимися именно в Англии. Позитивизм, рационализм, конкретизация мышления, принципиальное отрицание интуиции как фактора познания, тяготение к объективным оценкам, — разве не характерны все эти черты для социальной психо-идеологии той эпохи — эпохи созревшего, чувствующего прочную почву под собой, уверенного в своих силах и потому еще прогрессивного английского капитализма? Дарвину, Спенсеру — им понравилось бы шахматное учение Стейница, они нашли бы в нем своеобразно запечатленный, но родственный им дух времени.
А если искать дальнейших и более сложных аналогий, то нельзя не заметить, что теория «накопления маленьких преимуществ» как нельзя более соответствует политическому разуму английской буржуазии и характеру развития английского империализма в ту эпоху. Именно так он и действовал, добиваясь еле заметных, но очень весомых преимуществ на различных фронтах своей активности, пренебрегая, пусть эффектными, но временными выгодами и реализуя в решительный момент как бы неожиданную, но тщательно подготовленную исподволь, выигрышную комбинацию. Нельзя не вспомнить о скупке в 1875 году Биконсфильдом акций Суэцкого канала, обеспечившей английскому империализму его позиции в Египте. Пресса всего мира восхищалась или возмущалась «гениальной комбинацией хитрого еврея», но Биконсфильд-то знал, как тщательно и каким упорным накоплением, в течение десятилетий, мелких преимуществ подготавливалась эта заключительная комбинация. Биконсфильд нашел бы общий язык со Стейницем.
И Стейниц в свою очередь нашел бы общий язык — и это был бы не только немецкий язык — с великим Клаузевицем. Ибо Вильгельм Стейниц имеет полное право быть названным Клаузевицем шахматной доски, создавшим теорию шахматной войны. Но будь он знаком с учением Клаузевица, он мог бы сказать со свойственным ему юмором:
— Клаузевицу было легче, он не должен был воевать на основании принципов своей стратегии.
А Стейницу воевать пришлось. И много радости и горя принесла ему эта война...
Критическое десятилетие
Десятилетие 1873—1883 годов во многих отношениях было наиболее важным и внутренне насыщенным периодом в жизни Стейница, хотя именно б этот период он меньше чем когда-либо в своей жизни занимался своим как будто непосредственным делом — практической игрой в шахматы. Лишь два шахматных события связаны с именем Стейница за это десятилетие: венский международный турнир 1873 года и матч с Блэкберном в 1876 году. Следующее выступление Стейница на новом международном турнире в Вене относится лишь к 1882 году. Таким образом два больших перерыва в игре: с июля 1873 года по январь 1876 и с января 1876 по май 1882 года. А между тем за время этого большого перерыва в шесть с половиной лет в шахматном мире произошло три крупнейших события: лейпцигский турнир 1877 года при участии (помимо прочих) Андерсена, Цукерторта, Винавера; парижский турнир 1878 года с участием Андерсена, Цукерторта, Винавера, Блэкберна; берлинский турнир 1881 года — опять с Блэкберном, Винавером, Цукертортом. Стейниц не был болен, Стейниц не был в отъезде, Стейниц присутствовал даже на этих турнирах, — и Стейниц, этот страстный, жадный шахматист, не принимал в них участия.
Великий шахматист был в это время занят более важным для себя делом, чем игра в шахматы: он прокладывал — одинокий и непонимаемый — новые пути теоретической шахматной мысли, он создавал свою концепцию шахматной тактики и стратегии, суммарно изложенную в предшествовавшей главе. Соображения тщеславия и честолюбия, несомненно волновавшие его, принес он в жертву своей неутомимой жажде шахматного познания. Он шел своим путем, игнорируя ехидные насмешки врагов и робкие недоумения друзей на ту тему, что у него, Стейница, не хватает «спортивного инстинкта», что он, неофициальный чемпион мира, уклоняется от опасной борьбы. Невдомек им было, и врагам и друзьям, что он ведет более трудную и ответственную борьбу чем когда-либо, борьбу с консерватизмом, борьбу за новую философию шахмат.
Период 1867—1873 годов в жизни Стейница был периодом подсознательных исканий и творческих тревог, был преддверием к сознательной творческой работе следующего десятилетия. Но этот подготовительный период дал свои плоды, ибо уже в венском турнире 1873 года в шахматном стиле Стейница чувствовались новые и революционные тенденции. Было бы, однако, преувеличением утверждать, что победой в этом чрезвычайно сильном турнире Стейниц обязан тому, что он стал «новым Стейницем». Как увидим дальше, именно новому Стейницу были еще суждены тягостные сомнения, печальные разочарования и даже временные поражения.
Венский турнир 1873 года был очень силен по своему составу. Из 12 участников 6 были первоклассными, лучшими шахматистами эпохи — Стейниц, Блэкберн, Андерсен, Паульсен, Розенталь, Берд; отсутствовал лишь Цукерторт и Винавер. Условия турнира были необычайны: для того чтобы избегнуть элементов случайности в борьбе, все участники играми друг с другом матч в три партии, и выигравшему матч засчитывалась единица (выигрыш подряд двух партий в матче обусловливал, естественно, выигрыш матча).
Из 11 матчей Стейниц выиграл 10, причем в 8 из них ему даже не пришлось играть третьей партии. Но единственный неудачный его матч был проигран Блэкберну, который также пришел к финишу с 10 очками. Между двумя победителями был разыгран новый матч, в котором победил Стейниц, блестяще выиграв подряд две партии. Из 27 выигранных партий на всем протяжении турнира он победил в 20, проиграв 2 при 5 ничьих. Такой победы Стейниц еще не знал. Шахматная Вена могла гордиться своим «недоучившимся студентом», который был послан 11 лет тому назад завоевать Лондон и мир, да и Лог дон мог быть доволен, поскольку английские шахматисты милостиво считали Стейница «своим» представителем. Сам же Стейниц мог торжествовать в спортивном плане, доказав, что победа его над Андерсеном семь лет тому назад была не вымученной, не случайной, что он действительно сильнейший в мире шахматист. И если сомневающиеся указывали на Блэкберна, — ведь он все же выиграл у Стейница в Вене 2 партии, — то матч Стейниц — Блэкберн в Лондоне в 1876 году положил конец всяким сомнениям. Это был неслыханный разгром: Стейниц выиграл подряд 7 партий, и выиграл, — вот что характерно, — применив в тех партиях, где была у него инициатива, свой новый стиль игры.
Итак, победитель в матчах Андерсена, Цукерторта (в 1872 Г.) и трижды Блэкберна, победитель сильнейшего за двадцатилетие турнира, он формально считался к концу 70-х годов несомненно чемпионом мира.
И вот тем и замечательно это десятилетие в жизни Стейница, что он получил возможность показать шахматному миру не только как он умеет играть в шахматы, но и как он умеет мыслить о шахматах. И это было для него важнее: мыслитель в Стейнице всегда торжествовал над спортсменом.
Очевидно венский успех способствовал тому, что в 1873 году Стейницу было предложено вести шахматный отдел в распространенной и влиятельной спортивной газете «The Field». Это может показаться ординарным фактом. Но Стейниц рассматривал это иначе: он осознавал себя в это время носителем новой шахматной идеологии, и вот он, боец за новые ценности, получил влиятельную трибуну и может поведать миру методами общеобязательного логического мышления, примененного к шахматам, пути и результаты своих исканий.
В своем шахматном отделе, представляющем и теперь, по авторитетному свидетельству Ласкера, большой теоретический интерес, Стейниц проводил громадную аналитическую работу, снабжая тщательными комментариями и современные ему важнейшие партии, и многочисленные партии, оставившие след в истории шахмат. Но это не были обычные в то время комментарии, ограничивавшиеся объяснением того или иного хода и приведением элементарных вариантов. Комментарий Стейница носили творчески-полемический характер. Анализировавшаяся партия являлась лишь трамплином для его сложных и тонких изысканий, взрывавших основы тогдашнего шахматного мышления. Именно в этих комментариях были высказаны все те максимы и положения, были установлены знаменитые стейницевские законы, совокупность которых образует фундамент «новой школы». Стейниц присутствовал на турнирах 1877, 1878, 1881 годов не в качестве участника, а как корреспондент, чтобы иметь возможность объективно, со стороны, подвергнуть неумолимому и жесткому анализу новый громадный шахматный материал. Немудрено, что этот отдел, составляемый сильнейшим шахматистом мира и в совершенно небывалых до той поры манере и тоне, прозвучал сенсационной новинкой и возбудил величайший интерес во всем шахматном мире. И не только интерес. С этого времени и начинает создаваться убеждение, охватившее постепенно весь шахматный мир, о «дурном характере» Стейница и начинают возникать предпосылки того идейного одиночества, от которого пришлось страдать ему всю жизнь. «Дурной характер», с обывательской точки зрения, у него и был. Стейниц знал, что он нашел истину, которую никто, кроме него, не видит, и истина эта была связана со всем делом его жизни. Его упрямый и властный характер не выносил никаких компромиссов, его авторитарная психика не умещалась в рамках «хорошего тона». То, что он хотел сказать, говорил он полным голосом, игнорируя профессиональные приличия и не щадя самолюбий.
А самолюбия страдали. Стейниц не видел, да и не хотел видеть, что за аннотируемыми партиями скрываются люди, что каждая партия это не только запись ходов, но и сводка переживаний шахматиста, его тревог и надежд, его радостей и разочарований, а иногда и свидетельство о неудовлетворенном тщеславии, о болезненном честолюбии, и повесть о крушении!, и рассказ о катастрофе... Стейниц не хотел этого видеть; его интересовала лишь чистая идея шахматной игры, а не переживания шахматистов за доской. Он был безжалостно резок и воинствующе непримирим, когда ему приходилось, отстаивая «стейницевские» положения, подвергать уничтожающей критике партии своих современников, коллег, тех, с кем встречался он ежедневно в шахматном клубе или кафе.
И тут нужно еще принять во внимание шахматную специфику. Во всякой другой отрасли мышления и творчества каждый новатор, бунтарь, объявивший войну устаревшим канонам, может хоть в какой-то мере рассчитывать на поддержку единомышленников, может апеллировать к непосредственно незаинтересованным, но интересующимся свидетелям борьбы. Но шахматы? Ведь широкая публика плохо разбиралась в шахматных комментариях Стейница, и он должен был обращаться только к квалифицированным шахматистам, т. е. к тем самым, кому он говорил своим бесстрастным и абстрактным анализом: «Друзья мои, ведь в сущности говоря, вы понятия не имеете о шахматной игре, все, что вы делаете, никуда не годится, учитесь, прошу вас, у меня...»
Это говорил он людям английской шахматной среды, замкнутой и узкой, более чем где-либо в Европе В Англии играли в шахматы главным образом в клубах, а не в кафе, как в Париже, Вене, Берлине, и это были клубы крупнобуржуазные, как «Сити Чэсс клоб», или аристократические, как «Сент-Джемс клоб». В этой среде Стейниц оставался всегда чужаком не только по причине национальности своей, но и как профессионал, извлекавший из шахмат средства к существованию; Стаунтон был по профессии литератором, Блэкберн — вполне обеспеченным человеком. Шахматные меценаты, лорды из Сент-Джемса, купцы из Сити, смотрели на Стейница с некоторым пренебрежением, как на «оплачиваемого» человека. Понятно, что вызывающее поведение Стейница шокировало одинаково и лордов, и купцов. Стейницу в анализе партий слишком часто приходилось иметь дело со своими «соперниками», с тем же Цукертортом, Блэкберном, Бердом; он нарушал, следовательно, священный «спортивный закон», действительный не только для Англии той эпохи, но и для любой буржуазной среды, ханжеской и лицемерной, закон, гласящий: ненавидь как угодно твоего конкурента, но не говори вслух, что он хуже тебя... А Стейниц говорил, не жеманясь и не винясь, вслух, во весь голос.
Неудивительно, что Стейниц уже в этот период своей жизни «нажил многочисленных врагов», по словам шахматного биографа и издателя его партий Бахмана. Как не нажить! И они воевали с ним. Не только на столбцах других шахматных отделов, в порядке теоретической полемики, но и другим, более опасным оружием, связанным опять-таки со спецификой шахматной игры.
Было бы смешно и нелепо, если бы к литературному или музыкальному критику обратился раскритикованный им писатель или композитор с любезным предложением: а ну напиши сам роман или симфонию, посмотрим, у кого выйдет лучше! Но
Стейницу это мог сказать каждый шахматист. И говорили, а он, как было сказано, уклонялся с 1876 года от участия в турнирах, потому ли, что он не хотел отвлекаться от ответственной работы создания нового шахматного мировоззрения, или потому, что еще не считал себя готовым для защиты и проверки своих новаторских идей в практической игре. Но все знали, и он знал, что час проверки наступит, и если он не окажется готов к этому часу, его ждет моральное и идейное банкротство.
Все же это трудное десятилетие было счастливым периодом в жизни Стейница. Редактирование отдела и гастрольная игра давали ему известное материальное благополучие, престиж его был высок, усиленная творческая работа доставляла ему подлинную радость.
Стейниц жил полной жизнью. И, оглядываясь назад, на пройденный путь, он мог вспомнить с улыбкой когда-то сказанную фразу: на шахматной доске я Эпштейн! Теперь он не нуждался в этой фразе.
Жестокая комбинация
Час проверки наступил. И, возможно, приблизил его сам Стейниц неудержимым взрывом своего «дурного характера». В конце 1881 года острая полемика завязалась между Стейницем как редактором шахматного отдела «The Field» и влиятельнейшим не только в Англии, но и во всем шахматном мире журналом «Chess Monthly », во главе которого стояли Иоганн Герман Цукерторт, опаснейший, по общему мнению, соперник Стейница, и Л. Гоффер, средний шахматист, но видный английский шахматный деятель, издатель и редактор шахматной литературы и вообще «меценат благородного спорта», из породы тех «просвещенных любителей», которые всегда были так ненавистны Стейницу еще с периода кафе «Куропатка», — по их адресу Стейниц никогда не жалел горьких и резких слов.
Полемика по теоретическим вопросам быстро приняла, и, очевидно, по вине Стейница, резко личный характер: он никогда не претендовал на лицемерную бесстрастность, на лжеобъективизм; как у всякого идейного бойца, враги идеологические были его личными врагами. И этот теоретический спор неминуемо должен был упереться в формулу: но кто же вы, спорящий со мной! И как бы предвидя эту неизбежную формулу, Стейниц тут же печатно вызвал и Цукерторта и Гоффера на шахматный матч, издевательски предложив обоим фору в две партии. Конечно, это был аргумент скорее эмоциональный, чем логический, и полемика на этом оборвалась, получив, однако, в дальнейшем совершенно неожиданное и «глубоко комбинированное» завершение.
В связи ли с этим фактом, или по причинам более серьезным, но Стейниц чувствовал, что откладывать далее свое выступление на международных турнирах после более чем шестилетнего перерыва он не имеет морального права. Ведь к этому времени основы «новой школы» в шахматах были им твердо установлены, и он должен был с нетерпением ждать результатов проверки их в практической игре.
Об основах шахматного мировоззрения Стейница можно сказать очень многое, но то краткое, что было сказано, дает возможность и шахматисту без специального шахматного образования понять, что дело шло не об открытии новых дебютов, а о пересмотре всей философии шахматной игры.
Перед нами три шахматиста, три ярких индивидуальности, три мировоззрения.
Адольф Андерсен. Вся шахматная игра существует ради атаки, и предпочтительно ради атаки на короля. Атака на короля осуществляется путем неожиданной комбинации. Эта выигрышная комбинация принципиально возможна при любом положении на шахматной доске и является результатом не подлежащей логическому учету выдумки, фантазии, интуиции. Лишь открытая партия (такая, в которой пешки и фигуры сторон сразу приходят в соприкосновение) есть подлинная шахматная партия. Из открытых партий предпочтительнее гамбитные партия, сразу обостряющие положение.
Пауль Морфи. Да, комбинационно осуществленная атака решает партию. Но комбинация должна быть подготовлена, являясь не целью, а естественным результатом предыдущей планомерной игры. А планомерная игра имеет в виду применение ряда логических принципов: темп развития, захват центра, открытие линии. Лишь открытая партия — подлинная шахматная партия (Морфи избегал играть закрытые партии, и большинство его немногих проигрышей было именно в этих партиях).
Вильгельм Стейниц. Итак, с точки зрения Андерсена, основной элемент шахматной игры — это личное творчество, не поддающееся логическому анализу и учету (комбинация), а с точки зрения Морфи — автоматическое почти творчество (подготовленная комбинация). Не прав ни тот, ни другой. Личное творчество Андерсена, хотя и очень эффектное, зачастую лишь потому торжествовало, что ему не было противопоставлено ничего равноценного и его «выигрышные» комбинации осуществлялись лишь по причине плохой защиты. Морфи восторжествовал над Андерсеном потому, что при не меньшей личной одаренности он внес в игру некоторый логический и плановый момент, мысля партию как единое целое. Но его план был всегда один и тот же и единое целое стало застывшей величиной. Отсюда автоматизация его игры, и отсюда, быть может (в порядке домысла позволим себе приписать Стейницу эту нашу догадку), его разочарование в шахматах, возможности коих считал он исчерпанными. Но шахматное творчество не в интуитивной комбинации и не в автоматически возникающей комбинации., Оно — в. открытии априорно существующих законов шахматной игры, среди которых удельный вес «закона комбинации» очень незначителен, и в умении (применять их в шахматной практике. И не гамбитные, не открытые, а именно закрытые партии дают наиболее сложные, глубокие и ценные возможности применять эти законы на практике.
Таковы три концепции. От «слепого», интуитивного искусства, через почти автоматизированное искусство, к искусству, возникающему на научном методе, базирующемуся на строгих законах. От внезапной комбинации, через позиционно подготовленную комбинацию, к комбинационно завоеванной позиции. Вместо неистовой атаки — приобретение ничтожного как будто преимущества, благодаря которому, в конечном счете, оказывается ненужной непосредственная атака на короля. Таков путь от Андерсена, через Морфи, к Стейницу.
Он проделал этот путь целиком. Первое десятилетие своей шахматной жизни он играл почти исключительно в «стиле Андерсена». Долгое время изучал он «стиль Морфи». И чувствовал, что пришел момент, когда должен он играть «стилем Стейница». Этого ждал весь шахматный мир: пусть он, наконец, покажет, этот «бородач», что скрывается за его сложными теориями и парадоксальными анализами.
И он показал. Но несколько меньше того, чего от него ждали, чего он ждал от себя сам!
Правда, он занял первое место на венском турнире 1882 года, сильнейшем турнире, где приняли участие 18 шахматистов, игравших друг с другом по две партии, и среди них Винавер, Цукерторт, Блэкберн, Паульсен, два новых светила — Мэзон и Мэкензи, и второй раз в международном турнире русский шахматист М. И. Чигорин. Очень трудный по составу турнир, и почетно занять в нем первое место! Но ведь разделил он это первое место с Винавером — каждый имел 24 очка из 34 возможных — 70%, — не такой уж блестящий результат. И притом Винавер не был теоретиком, не был даже шахматным профессионалом. И притом из двух партий с Цукертортом Стейниц проиграл первую при второй ничьей. И притом пол-очка ему было подарено старым врагом, Бердом: их партия была явно ничейной, но Берд был болен, когда играл ее. Этого упорного англичанина принесли на руках в турнирный зал и потому он проиграл... Большого спортивного удовлетворения этот турнир Стейницу не принес. И немногим лучше обстояло дело с идейным удовлетворением. Ведь Стейниц побеждал и раньше, когда он не играл «стилем Стейница»! Следовательно, теперь он должен был разгромить своих противников?... Но разгрома не последовало. Почему же? — не мог не спросить себя Стейниц.
Мы коснемся еще этого вопроса; ограничимся пока указанием, что агрессивно-догматический склад мышления и характера Стейница в известной мере затуплял и обезвреживал могучее оружие, которое он выковал, и воспользоваться им в полной мере он сумел лишь однажды в своей жизни.
Вскоре после Вены — Лондон. Апрель 1883 года. Новый грандиозный турнир. 14 участников играют минимум по две партии, ничьи переигрываются. Громадные призы, — таких еще не видал шахматный турнир, — 300 фунтов получает первый победитель, 175 — второй. «Звериное» число — 666 фунтов — подписал один только Сент-Джорджский клуб, организовавший турнир. Среди участников все те же неутомимые бойцы: Цукерторт, Блэкберн, Мэзон, Мэкензи, Винавер и молодой Чигорин... Какая блестящая возможность для Стейница реваншироваться и идейно и спортивно!
Но он неудачно начинает турнир. Он проигрывает две партии подряд, применяя свой собственный «гамбит Стейница», который уже в это время был признан слишком «субъективным» началом. Стейниц же хотел доказать, что это начало имеет объективную ценность. Факт тот, что из первых девяти партий он набрал всего четыре очка. Значит, нужно сжать зубы, проявить качество бойца и нагнать!
И он нагнал, набрав в дальнейших 17 партиях 15 очков. Исключительное спортивное достижение! И все же оно оказалось недостаточным, Его перегнал на целых три очка Цукерторт, вечный Цукерторт, сумевший выиграть 22 партии из 26, а некоторые из них в исключительно блестящем стиле. И мало того: из, своих четырех нулей два получил Цукерторт против самых слабых участников турнира, и было очевидно, что эти нули случайны, что он легко мог иметь 24 победы из 26 партий. А Стейниц двух проигранных партиях с Чигориным, занявшим четвертое место (третий — Блэкберн), понес серьезное идейное поражение, ибо уже тогда о молодом русском шахматисте шахматный мир видел блестящего продолжателя традиций Андерсена. Очевидно, реванш вышел не того характера и не того размера, о каком мечтал Стейниц. Тот вызов, какой в силу объективного хода вещей он был принужден бросить и бросил всему шахматному миру, не был полностью и убедительно оправдан исходом этих двух турниров: жизненно важный для него спор о шахматной теории остался неразрешенным.
Иоганн Герман Цукерторт
И вот тут, в этот критический и болезненный момент его пути, случилось обстоятельство, также ставшее для него жизненно важным, хотя касалось оно той внешней стороны жизни, на которую никогда не хотел обращать внимания Стейниц. И оно показало ему, что жизнь подсовывает иногда комбинации более неожиданные, более жестокие и во всяком случае менее заслуженные, нежели комбинации на шахматной доске. На доске вражеская комбинация является, по учению Стейница, наказанием за допущенную ошибку, но в его жизни, казалось ему, ему не за что быть наказанным.
Он не учел, что Эпштейны, обозленные «дерзостью» человека с дурным характером, существуют не только в Вене. Я говорил уже — Стейниц сделал все возможное, чтобы его не любили в кругах лондонских шахматных меценатов. И история с издевательским вызовом на матч Гоффера и Цукерторта — не была забыта. Как бы то ни было, вскоре после турнира Стейниц увидел себя отстраненным от редактирования шахматного отдела «The Field», который, дабы усугубить остроту комбинации, перешел под ведение Гоффера и Цукерторта.
Для Стейница это было почти катастрофой — в материальном отношении. Основной источник существования исчез. Попытка найти литературно-шахматную работу в других газетах оказалась безрезультатной. Возместить этот источник игрой на денежную ставку в кафе «Симпсон-Диван» — на это сорокасемилетний Стейниц, имевший уже к тому времени жену и ребенка, не мог, конечно, пойти. Да и притом кто ж будет играть на ставку со Стейницем? Ну, шиллинг, пожалуй, заплатит английский буржуа за удовольствие сказать, что играл с самим чемпионом, но в гинею он этого удовольствия не оценит. Провинциальные гастроли? Но шахматная Англия, казавшаяся Стейницу когда-то такой необъятной, исчерпала свой интерес к нему. Цукерторт казался интересней, и притом он обладал гораздо более покладистым характером. Что ж остается? Призы в международных турнирах? Но ставить получение куска хлеба для себя, жены и ребенка в зависимость от успеха изобретенного Стейницем нового хода конем на четвертом ходу в «испанской партии» — на это человек Стейниц, естественно, решиться не мог.
Но какой-то выход нужно было найти. И Стейниц его нашел: выход, указывавший, что и в жизни он сохранял темперамент упорного бойца, не отступающего перед самой сложной защитой.
В промежуток между венским и лондонским турнирами Стейниц совершил гастрольную шахматную поездку в Соединенные штаты, где уже начала в то время практиковаться система закупки знаменитостей Старого Света. Во время этой поездки была, очевидно, подготовлена почва для его вторичного приезда. Так или иначе, осенью 1883 года Стейниц покинул Англию, где он прожил целых двадцать лет. Надеялся ли он в молодой, казавшейся такой свободной, демократической стране упрочить дело своей жизни, увенчать решительной победой свой путь борца и мыслителя, не встречая более на этом пути шахматных Эпштейнов?
14 октября 1883 года Стейниц высадился в гавани Нью-Йорка.
«Champion of the World»
Первая гастрольная поездка Стейница по Америке, длившаяся с октября 1882 по март 1883 года, прошла вполне благополучно во всех отношениях. Он посетил ряд городов — Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимору, Нью-Орлеан — родину Морфи — и даже столицу о. Кубы — Гаванну, этот город, где было осуществлено столько драматических эпизодов шахматной истории.
Удачны и приятны были эти гастроли. Сеансы одновременной игры, сеансы игры «вслепую» (Стейниц не любил их, но широкий зритель считал их высшим проявлением шахматного гения), небольшие матчи с сильнейшими местными противниками, — все это проходило весьма успешно: Стейниц стоил затраченных на него денег, это с удовольствием отметили американцы. Он импонировал, этот плотный, маленький человек, медленно передвигавшийся между шахматными столиками при помощи костыля (он страдал от ревматических болей), казавшийся значительно старше своего возраста, почти старик, со своей длинной рыжеватой с проседью бородой, так серьезно и вдумчиво игравший каждую свою партию, будь то в матче или в сеансе. С характерной для американского буржуа деловитостью, добродушной по внешности, но столь жестокой по существу, американцы требовали от «экзотического европейца» настоящего «товара» в обмен на свои доллары и центы, и не так уж обильны были эти доллары: нью-йоркский матч с Мэкензи игрался на ставку в 15 долларов! Но Стейниц честно давал «товар», может быть уже тогда думая об Америке, как о последней своей родине.
И вот он снова здесь. Новая родина, как будто раскрывает ему свои любовные объятия. Снова гастроли в Филадельфии, затем в Нью-Йорке, где он избрал свое постоянное местожительство, под покровительством крупнейшего в стране Манхеттенского шахматного клуба; за эти двухнедельные гастроли он получает 200 долларов, — не малая сумма, думает рядовой американец, прочтя об этом в газетах; ведь этот Стейниц сам любит играть в шахматы, а тут еще получает за это приличные деньги...
Стейниц доволен настолько, что немедленно после приезда подает заявление о принятии его в американское гражданство: он совсем уже не молод, он хочет, наконец, иметь твердую почву под ногами.
Но главная радость еще впереди. После годичного пребывания на новой родине Стейницу удается осуществить важную свою мечту: он организовывает свой собственный шахматный журнал, очевидно, с чьей-то денежной помощью. И в январе 1885 года выходит первый номер ежемесячного «International Chess magasine», в котором Стейниц полный хозяин. Как увидим дальше, оказался он совсем не деловитым хозяином.
Выступления его особенно блестящи в 1884— 1885 годах. В многочисленных сеансах одновременной игры он постоянно выигрывал почти все партии. Таков же результат и в сеансах «вслепую», что и дает возможность президенту клуба, после одного особо удачного сеанса, заявить в элегантном стиле: «Стейниц пришел, не видел и все же победил»[3].
И однако шахматный Юлий Цезарь не удовлетворен своими успехами. Его лондонские раны продолжают еще болеть. С первых же дней своей американской жизни Стейниц добивается организации своего матча с Цукертортом — самым опасным своим соперником и самым враждебным своим противником. Ибо знает Стейниц: победа в этом матче не только даст ему официальный титул «чемпиона мира», но и явится принципиальной победой его учения, его школы, всего дела его жизни... И характерно, что, будучи фактическим чемпионом, Стейниц сам добивался этого матча, а Цукерторт держался выжидательной политики.
Иоганн Герман Цукерторт (1842—1888) — немецкий еврей, шахматист-профессионал, подобно Стейницу поселившийся с 1872 года в Лондоне, был несомненно чрезвычайно опасным соперником. По мнению Ласкера, «одаренность Стейница, как практического игрока, ниже, чем одаренность Блэкберна или Цукерторта... Когда Цукерторт руководствуется планом, его игра, по меньшей мере, не уступает игре Стейница». А сам Стейниц, комментируя партию Цукерторт — Блэкберн (Лондон, 1883 год), пишет: «Предыдущие ходы и только что сделанный ход белых представляют собой одну из величайших комбинаций, может быть даже самую красивую из всех, которые когда-либо были созданы на шахматной доске. Не хватает слов, чтобы выразить наше восхищение высоким мастерством, с которым Цукерторт провел эту партию». Лицемерить было не в стиле Стейница, это его мнение было высказано со всей серьезностью. Да и притом налицо был объективный показатель силы Цукерторта — два первых приза в сильнейших парижском и лондонском турнирах, блестящий выигрыш матча у Блэкберна. Матч Стейниц — Цукерторт 1872 года в расчет итти не мог, Цукерторт тогда лишь начинал свой шахматный путь. А из четырех турнирных встреч Стейниц победил лишь в одной, при двух поражениях и одной ничьей.
Соперник, стало быть, был опасный, максимально враждебный; он как бы воплощал в себе все то, против чего Стейниц воевал всю жизнь. Цукерторт был учеником и преемником Андерсена, не уступавшим своему учителю в период своего расцвета (1883 г.). Ни теоретиком, ни мыслителем он не был; так называемое «начало Цукерторта» обычно переходило с перестановкой ходов в нормальный ферзевый дебют, и его след в шахматной истории — это след виртуоза, эпигона, исполнителя. Но вот именно этот стиль виртуозничества в шахматах органически отрицал и идейно ненавидел Стейниц; ему, тяжелодуму, думавшему так, словно он камни ворочал, были органически чужды, оскорбительны даже эти качества эффектного блеска, легкости, изящества, весь этот фейерверк неожиданных комбинаций, иногда гениальных, но не всегда обоснованных. Подлинное идейное мировоззрение всегда включает в себя элемент нетерпимости, и воинствующе нетерпимым было шахматное мировоззрение и шахматное искусство Стейница...
Что же мог он противопоставить Цукерторту? Как оценивал он сам в этот ответственнейший момент — ведь было признано, что это состязание на первенство мира, — свою шахматную силу и слабости свои?
Он сознавал, конечно, что за ним стоит мировоззрение, идея, которой он не видел у Цукерторта, эпигона старой школы. Спортивные его качества ко времени матча были на большой высоте, стойкость воли и неутомимость мысли достигли высшего развития. И если Стейниц был уже не молод — минуло пятьдесят, то ведь и Цукерторту было сорок четыре года. Но недостатки своих достоинств — думал ли о них Стейниц? Знал ли он о догматическом характере своей игры, совершенно естественном для теоретика и мыслителя, считающего вопросом чести отстаивать свою идею, даже когда она в случайностях боя направляется против него? Понимал ли он, борец с шахматной случайностью, что случайности все же существуют в какой-то степени в практической партии и что умение обратить эту случайность на службу своей идее характеризует борца-реалиста? А в чисто шахматном плане, понимал ли он каким опасным может оказаться в практической партии его постоянное стремление новатора, искателя уклоняться от изведанных путей и разрабатывать за доской новые варианты, кажущиеся ему теоретически оправданными; чувствовал ли он, как становится каждый догматик, незаметно для себя, пленником этого губительного лозунга: факты не сходятся с теорией — тем хуже для фактов? И наконец его стремление всегда предоставлять противнику атаку, доходившее до того, что он нарочно подставлял себя под атаку, — разве не сознавал он, что это догматическая крайность?
Трудно ответить на все эти вопросы, но поставить их нужно для того, чтобы понять до конца судьбу Стейница — шахматиста и человека. Идя на это состязание, Стейниц выработал, конечно, стратегический план всего матча. Основным моментом плана было, можно предположить, стремление вести игру и белыми, и черными в русле закрытой партии: Стейниц понимал, что если он в открытых партиях не уступит противнику, то в закрытых он значительно превосходит Цукерторта, да и кого бы то ни было. Ведь стратегию и тактику закрытых партий создал он, Стейниц. До него закрытая партия считалась недостойной талантливого шахматиста, вызывавшего противника на «открытый, честный бой». И как он ненавидел эту псевдорыцарскую, лжеромантическую, столь любезную профанам «идеологию» шахматной игры! Ведь открытая партия отождествлялась с вихрем атак, с торжеством комбинаций, с внезапностью шахматных озарений! А закрытая партия—это медленное разворачивание сил, кропотливая, упорная, незаметная подчас работа, скрытое назревание сложных, глубинных процессов, любезная сердцу Стейница тяжелая, истощающая борьба... Так было, по крайней мере, до тех пор, пока эпигоны Стейница не превратили закрытую партию в наукообразное и безвредное топтание на месте, а Ласкер и другие не углубили новыми идеями обмелевшее русло открытых партий. Но в ту эпоху отношение между открытой и закрытой партией можно было уподобить отношению между романом Дюма и романом Флобера... Быстрое, с первой же страницы, развитие сюжета, нагромождение событий, обилие внешне драматических эпизодов, сенсационные неожиданности, эффектный финал, безумный успех у публики и, на взгляд подлинных знатоков, отсутствие правды, силы, глубины. И медлительный, часто непонятный, даже скучноватый роман Флобера, сюжет которого зреет в тиши и реализуется незаметно, но каждый сюжетный ход в котором зрело обдуман, глубоко оправдан, властно необходим, — и ощущение после прочтения романа, что незаметно выросло перед глазами грандиозное здание, торжествующее гармонией всех своих частей...
Но, увы, Вильгельм Стейниц, творец закрытых партий, был знаком с Густавом Флобером, творцом «закрытого» романа, не в большей степени, чем Флобер со Стейницем. И если Дюма не мог знать Цукерторта, то Цукерторт, вероятно, восхищался творчеством Дюма.
Мы не знаем, каких стратегических операций потребовал самый процесс подготовки матча. Как сказано, Цукерторт не желал форсировать событий. Были и материальные затруднения: помимо ставки, нужно было оплатить расходы по приезду и пребыванию Цукерторта в Америке. Характерен был метод финансирования матча: между сторонниками Стейница и сторонниками Цукерторта были заключены денежные пари, и лишь половина вложенных в «предприятие» сумм шла победителю матча, который изображал собою таким образом одновременно и лошадь и жокея в конских состязаниях. Три шахматных клуба городов, в которых происходил матч — Нью-Йорка, Сан-Луи и Нью-Орлеана — покрывали расходы Цукерторта. Матч игрался до 10 выигрышных партий, без счета ничьих.
Итак, 11 января 1886 года в 2 часа дня они сели друг против друга за исторический шахматный столик, за которым играл когда-то Морфи, в присутствии многочисленной аудитории, переполнившей большой спортивный зал на аристократической Пятой авеню. Один из них — маленький, приземистый, плотный, с крупным лицом в рамке красновато-рыжих бакенбард; он сидит на стуле, посасывая сигару, спокойно и увесисто, часами не меняя позы, упорно и медлительно всматриваясь в доску своими маленькими, настойчивыми глазами; лишь изредка он встает и медленно проходит по залу, с руками, заложенными назад, со взглядом, обращенным внутрь, тихо напевая оставшиеся в памяти с детства синагогальные мотивы, не слыша разговоров, не видя любопытных взглядов. Другой — хрупкий, худой, щуплый, почти блондин, с короткой бородкой и маленькими усталыми глазами, морщинистым лицом. Его поза нервна, он словно вертится на стуле, руки в постоянном движении; он часто вскакивает, обменивается репликами со зрителями, глаза его полузакрыты, подернуты пленкой тумана, процесс обдумывания для него словно физическое напряжение, от которого он как бы хочет избавиться, делая так быстро свои ходы. С непостижимой быстротой играл Цукерторт, тратя в среднем минуту на ход; и целых четыре минуты тратил Стейниц.
Стейниц был уверен в своей победе. Незадолго до начала матча его шахматный биограф, Бахман, писал в письме к нему, что Цукерторт должен проиграть матч не только потому, что ему не хватит нервной выдержки, но и потому, что он страдает поверхностностью в игре и стремлением во что бы то ни стало всегда играть блестяще и остроумно, что обличает слабость его характера. Стейниц отвечал: «Ваше мнение о Цукерторте совершенно справедливо. С моей точки зрения, подлинная сила духа обусловливает также силу характера, и именно поэтому я сомневаюсь в гениальности Цукерторта, особенно по сравнению с Морфи и Андерсеном». Суждение было в стиле Стейница: догматичным, точным, безжалостным.
Мы не будем следить за перипетиями матча, достаточно драматически: если не кровью, то нервами пишется история шахмат. Лучший итог матча подвел Эмануил Ласкер в своей через 40 лет после матча вышедшей книге: «Цукерторт верил в комбинацию, был одарен творческой изобретательностью в этой области. Однако в большей части партий матча он не мог использовать свою силу, так как Стейниц, казалось, обладал даром предвидеть комбинацию задолго до ее появления и при желании — препятствовать ее осуществлению. Цукерторт совершенно не понимал, как мог Стейниц выигрывать, препятствуя осуществлению комбинаций, пытался разгадать эту тайну, но до последовавшей вскоре смерти так и не подошел к разрешению загадки».
К этому нужно добавить, что матч был выигран Стейницем при счете 10 выигрышей, 5 проигрышей, 5 ничьих, что в первой нью-йоркской серии Стейниц сумел выиграть лишь одну при 4 поражениях, и уже обреченный, по общему мнению, на проигрыш матча сумел в следующей серии, в С.-Луи, выиграть 3 при одной ничьей, уравняв таким образом счет, и, наконец, в последней серии, в Нью-Орлеане, выиграл 6 из 10, при одном проигрыше и 3 ничьях.
Более убедительную победу представить было трудно. Значительное большинство партий было сведено к закрытой системе игры, и в каждой почти партии Стейниц производил сложные эксперименты, вводил новые, неисследованные еще варианты, подлежащие проверке. Это стоило ему нескольких проигрышей, хотя он сам объяснял свою нью-йоркскую неудачу тем, что лишь медленно приспосабливался к агрессивному стилю противника. К концу матча Стейниц был настолько уверен в себе, что в последней, 20-й партии играл «гамбит Стейница», совершенно скомпрометированный после турнира 1883 года; Стейниц хотел проверить новый вариант в этом дебюте, к которому он питал некую сентиментальную склонность. Партию он, правда, выиграл, но Цукерторт был к этому моменту совершенно дезориентирован Результат матча нанес ему моральный удар, от которого оправиться он уже не мог. Через два года Цукерторт умер, так и не поняв, что же собственно произошло в С.-Луи и Нью-Орлеане в феврале — марте 1886 года...
Стейниц защищается и ошибается...
«Хэрфордский шахматный клуб — Вильгельму Стейницу
Хэрфордский шахматный клуб приносит м-ру Стейницу свои сердечные поздравления в связи с его решительной победой над м-ром Цукертортом. Этот триумф тем более значителен, что м-р Стейниц не только выиграл матч с результатом два к одному, но из последних 15 партий проиграл лишь одну. Опубликованные партии матча полностью подтверждают репутацию м-ра Стейница как несравненного мастера анализа, стратегии и синтетической комбинации. Члены Хэрфордского клуба восторженно приветствуют великолепную победу того, кого они уже много лет чтят как первого шахматного гения нашего времени, констатируя вместе с тем, что еще никогда так блестяще не проявлялось его превосходство, как в этой борьбе за первенство мира».
Стейниц мог только горько улыбнуться, получив это приветствие полутора десятка шахматных энтузиастов из английского провинциального городка. На его столе рядом с этим адресом лежала вырезка из большой нью-йоркской газеты: «Матч окончен. Цукерторт бесславно побежден, Стейниц официальный чемпион мира. Но доволен ли он исходом борьбы? Шахматисты всего мира, которые с напряженным интересом следили за началом матча, в дальнейшем значительно остыли к нему, и к концу были разочарованы и недовольны: они ожидали борьбы гигантов, а столкнулись с осторожной, мало талантливой пробой сил; они видели, что в большинстве партий победа достигалась лишь благодаря промаху одного из противников и увидели, что к концу один из «гладиаторов» так ослаб и физически и морально, что не мог оказать никакого сопротивления...»
И это мнение было не единично. Так пишет, например, в немецкой газете один видный шахматист: «После того, как была закончена эта великая борьба, раздались голоса по эту, а особенно по ту (американскую) сторону Атлантического океана — голоса недовольной критики. Она обманулась в своем ожидании чудесных комбинаций и выражает теперь откровенно чувство разочарования, подавлявшееся в течение хода матча».
«Гладиаторы», «чудесные комбинации», — как ненавидел Стейниц такое понимание шахмат всю свою жизнь, как самоотверженно он боролся против него! И вот теперь, когда своей такой бесспорной победой он, казалось, покончил с подобными взглядами на шахматную игру, взгляды эти, оказалось, живы по-прежнему и ими хотят обесценить его победу. И не только шахматные профаны: ведь и в шахматной прессе, не говоря уже об общей, вовремя наталкивался Стейниц на это безнадежно пошлое, но в своей элементарной общедоступности кажущееся таким убедительным рассуждение: да, Стейниц победил, но ведь Цукерторт 1886 года это не Цукерторт 1883 года. Стейниц понимал, что опровергать это утверждение, полемизировать с ним — это равносильно тому, как ударять кулаком по вате! Да, Стейниц мог бы возразить: верно, Цукерторт оказался не тем прежним, но философский смысл моей победы в том и состоит, что я не позволил ему быть прежним, это и говорит о торжестве моей концепции игры, моего шахматного мировоззрения! Но эту точку зрения кто же мог понять в ту эпоху? Об «общественном мнении» не приходится, конечно, говорить, но и среди шахматистов — сколько нашлось понимавших смысл победы Стейница — считанные единицы! А для Стейница — факт победы значительно обесценивался тем, что смысл этого факта не был понят. А подняться на уровень высоких философских обобщений, успокоиться на том, что история именно победителей судит и выносит справедливый приговор, что торжество смысла факта хотя и опаздывает иногда против торжества самого факта, но всегда, в конечном счете, приходит, — для этого не хватало у Стейница ни чувства диалектики, ни общей культуры... А тут еще Морфи. Писал ведь один из сторонников Стейница (Адольф Штерн), сочувственно комментируя его победу: «Этот маленький человек (Стейниц) в длительной борьбе причинил бы немало хлопот и самому великому Морфи».
Стейниц не отрицал величия Морфи, но ведь он видел, что это величие прошлого! О Морфи, о сравнении матча Морфи — Андерсен с матчем Стейниц — Цукерторт пришлось ему слышать со всех сторон. Великолепно! Я дам противнику бой на его собственной территории! И немедленно по окончании матча Стейниц бросается в ожесточенный бой против... Морфи. Ведь недаром же есть у него журнал, и из этого журнала его никто не может удалить..,
И вскоре после матча Стейниц стал анализировать в своем журнале партии матча Андерсен —Морфи, доказывая, что метод игры того времени был совершенно неудовлетворителен с точки зрения современных взглядов (т. е. теории Стейница).
Мы уже знаем, что тактичностью никогда не мог похвастать Стейниц; и он не понимал, конечно, какую совершал «тактическую ошибку», критикуя Морфи. Вопрос этот не был так маловажен, как это может сейчас показаться. Американскому общественному мнению тогда уже приходилось слышать нелестные суждения, что всю свою культуру Америка взяла из Старого Света, не имея никаких своих достижений в области науки и искусства. И поскольку особо оспаривать эти мнения не приходилось, то имя Пауля Морфи было тоже некоей опорой для американского буржуа, понятия не имевшего о шахматах, но желавшего хоть где-нибудь, помимо доллара, найти американское превосходство перед Европой. И этот австрийский еврей, еще не успевший натурализоваться в Америке, осмеливается покушаться на славу американского национального героя», победившего всю Европу! Стейницу, человеку абсолютно неискушенному в области националистической демагогии, и в голову не могло притти, что его узко шахматное выступление получит такой резонанс. Но он считал себя не в праве отступать в этой борьбе. Завязалась острая полемика между могучей американской прессой и ничтожным шахматным журналом, полемика тем более бессмысленная, что чемпиону мира пришлось спорить! с людьми, едва умевшими отличить ферзя от ладьи! Но эту полемику Стейниц проводил со свойственным ему упорством, непримиримой резкостью выражений, ненавистью к трусливым компромиссам.
И в результате? Пожалуй, для одного лишь Стейница мог быть неясен этот результат. Как в Европе, так особенно в Америке, шахматисты-профессионалы существовали милостями шахматных меценатов. И они отвернулись от Стейница. Издатель партий Стейница Бахман цитирует сообщение, сделанное ему одним американским шахматистом, современником той эпохи:
«Необычная резкость Стейница, неумеренность его стиля поссорили его с руководителями важнейших шахматных отделов американской прессы и с шахматными любителями, которые обычно устраивали гастрольные поездки Стейница. Так как он никогда не отступал в начатой борьбе, последствия не замедлили сказаться. Его партии не печатались в газетах, за исключением важнейших матчей, не опубликовать которые нельзя было, его шахматные поездки были затруднены. Все это очень невыгодно влияло на заработок Стейница. Как я вспоминаю, Стейниц был наименее любимым из всех шахматных мастеров, был непопулярной личностью во всех шахматных центрах страны, за исключением Монреаля и Гаванны». Исключение это вполне естественно, если вспомнить, что Монреаль в Канаде, а Гаванна — на Кубе: и канадская, и кубская интеллигенция могли не так уже считаться с американским общественным мнением.
Судьба Стейница шла, таким образом, своим неизменным путем: и в Англии, и в Америке он «не нажил друзей». И дело, конечно, было не в «излишествах стиля», как полагает наивно обывательский автор цитаты. Стейниц не хотел быть «популярным», он не считал себя обязанным благодарностью шахматным меценатам за то, что они косвенно способствую? его достаточно тяжелому заработку; и уж во всяком случае он не считал возможным итти на какие-либо компромиссы в своем шахматном мировоззрении из-за любезности по адресу меценатов или редакторов газет. Ему было жестко спать, но он сам себе стелил постель.
Будь Стейниц меньшей величиной, он подвергся бы, несомненно, фактическому бойкоту. Но он все же был, хотя и не любимым, но чемпионом мира. Это положение обеспечило ему кое-какие гастроли в немногочисленных, правда, американских клубах и шахматные поездки в Монреаль и Гаванну. Кроме того, он вел эти годы на страницах своего журнала громадную теоретическую работу, обогащая свое шахматное учение все новым материалом.
Очевидно, в эти годы он и стал помышлять о систематизации своего учения и создании фундаментального шахматного исследования, задача, которую ему не удалось выполнить в сколько-нибудь значительной мере.
Но он не мог отказаться от практической игры, не позволяла этого специфическая психология шахматиста, на которой нам еще придется остановиться. Тот же Цукерторт, потерпевший такую моральную катастрофу в историческом матче, успел все же за последние два года жизни участвовать в трех турнирах, с плачевным, правда, результатом.
Стейниц ждал и жаждал новой борьбы, стремясь еще раз доказать шахматному миру силу своего учения. Правда, он отклонил вызов на матч, посланный ему старым лондонским приятелем Бердом, победа Стейница над которым в 1867 году была так неубедительна. Но Стейниц правильно рассудил, что этот вызов лишь издевательская Демонстрация; слишком неравны были силы.
Но когда в 1889 году богатый гаваннский клуб, где за эти годы Стейниц дал серию исключительно блестящих выступлений, предложил ему самому назвать достойного противника для матча, — Стейниц немедленно этого противника назвал, и весь шахматный мир воскликнул: старый Стейниц сделал смелый, но правильный ход!
Имя гениального русского шахматиста М. И. Чигорина было к тому времени уже хорошо известно в международных шахматных кругах. И не потому, что его спортивные успехи были так чрезвычайны. Максимальным его спортивным достижением до этого времени был четвертый приз на лондонском турнире 1883 года, но каждый квалифицированный шахматист видел, что с появлением Чигорина на международной арене появился своеобразный, ярко индивидуальный, исключительно талантливый стиль игры. Как и Стейниц, Чигорин не был эклектиком, эпигоном, оппортунистом в шахматах, и вместе с тем более оппозиционной фигуры Стейницу, чем Чигорин, нельзя было себе представить. Сам Стейниц считал Чигорина наиболее ярким представителем комбинационного направления. Это так, но это отнюдь не исчерпывает Чигорина. Существуют абстрактные законы шахматной игры; задача шахматиста — уметь применить их в конкретной партии: вот догма Стейница. Не существует абстрактных законов шахматной игры, и задача шахматиста — создать из каждой партии неповторимое произведение: вот — не догма, но чувство, ощущение Чигорина. И потому оба они не техники, не рутинеры, но экспериментаторы в каждой конкретной партии, но с той колоссальной разницей, что Стейниц экспериментатор-ученый, а Чигорин экспериментатор-художник. Борьба между могучей догмой и могучей фантазией — таковой была встреча Стейниц—Чигорин, причем нужно добавить, что чисто спортивными качествами бойца — выдержкой, терпением, хладнокровием, нервной устойчивостью — Стейниц значительно превосходил Чигорина во время первого их матча. Но была еще одна черта, которая роднила этих, столь разных по своему психологическому облику людей и делала особо примечательной их встречу. Предпочтительней проиграть по-своему, чем выиграть «по-чужому», такова была эта черта в крайнем ее выражении, черта, остававшаяся, вероятно, неосознанной у каждого из них и абсолютно непонятная тому, для кого шахматы раньше всего — состязание, спорт. Но и для Стейница и для Чигорина практический результат партии был, конечно, очень важным, но побочным элементом в торжестве закономерной идеи для одного и вольной художнической фантазии для другого. А в этом торжестве каждый из них видел смысл своей шахматной жизни. И если этот смысл, эта цель как-то реализовались на протяжении партии, то проигрыш ее в результате неточности, ошибки, зевка — мог лишь омрачить, но не уничтожить торжество. Такая психология была непонятной для окружавшей их среды, но Стейниц и Чигорин друг друга понимали и с особым наслаждением встречались за шахматной доской: значительное количество игранных между ними партий (59), а еще больше самый характер партий об этом свидетельствует.
М, И. Чигорин
И ход первого их матча, происходившего в Гаванне с 20/I по 24/III 1889 года, на большинство из 20 партий, сразу показал общность их точки зрения на этот матч, как на возможность для каждого максимально проявить свою шахматную индивидуальность.
Матч этот шел под знаком двух дебютов: гамбитом Эванса, дающим бурную открытую партию, начинал каждый раз Чигорин, и началом Цукерторта (ферзевой пешки), — Стейниц. На отношении Стейница к этим дебютам нужно несколько остановиться. Капитан английского флота В. Д. Эванс, хороший моряк и талантливый шахматист-любитель, изобрел в 1829 году гамбитное начало, при котором белые на четвертом ходу жертвуют свою пешку для быстрого развития своих сил, для создания положения, чреватого всякими неожиданностями для белых и для черных, положения в стиле «бури на море». В течение более полувека гамбит Эванса пользовался исключительной популярностью у шахматистов всего мира, он давал возможность авантюрной, острой игры. В большинстве своих партий за белых Чигорин играл гамбитом Эванса: английский капитан и русский разночинец сошлись во вкусах. И у Стейница было своеобразное отношение к этому гамбиту. Почти не играя его за белых, он с величайшим удовольствием принимал гамбит, играя черными: Стейниц считал, что создающееся положение дает блестящую возможность демонстрировать основные принципы своего учения. И не только к гамбиту Эванса, но и к остальным гамбитным началам было у Стейница такое же отношение. Гамбит дает белым атаку, — тем лучше: я докажу белым, что эта атака неправомерна, что моя защита сильнее их атаки; за атаку белые жертвуют пешку, — тем хуже для них: я получаю возможность в нужный момент отдать ее обратно и обменять преимущество материальное на позиционное. Таков был ход рассуждения Стейница, и все было правильно в нем, за исключением одной только мелочи: не хотел он видеть, что в чигоринских руках гамбит приобретает некое новое качество, которого не найти в том же гамбите, если разыгрывает его другой. Помня о шахматах, Стейниц забывал о шахматисте.
В первых встречах с Чигориным, в венском и лондонском турнирах, Стейниц, играя черными, проиграл обе партии, игранные гамбитом Эванса. За шесть лет, прошедшие между Лондоном и Гаванной, Чигорин стал известен как лучший в мире знаток гамбита Эванса. Стейниц же, найдя новый теоретический вариант на шестом ходе за черных, с творческим нетерпением искал возможности проверки этого варианта на практике.
И вот — гаваннский матч! Очертя голову кинулся Стейниц в «бурю на море», нарочно подставляя свой корабль самым свирепым волнам. Девять раз Чигорин предлагал этот гамбит. Стейниц мог вообще его не принять, он мог развивать партию, играя более проверенные и сравнительно успешные для черных варианты, но с упорством поистине великолепным он девять раз делал все тот же свой шестой ход! И проиграл 5 партий, выиграв 3 при одной ничьей. Белыми Стейниц играл начало Цукерторта, бросая и здесь вызов Чигорину. В знаменитой партии Лондон—Петербург, игранной по телеграфу в 1887 году, Лондон играл это начало, и Петербург (Чигорин) в блестящем стиле ее выиграл. Но в этом закрытом дебюте Стейниц был особо силен, найдя к тому же и здесь новый вариант, который он хотел проверить. И он торжествовал: из 8 партий, игранных этим началом, он победил в 7 при одной ничьей.
Весь матч превратился, следовательно, в длительный теоретический эксперимент, окончившийся с хорошим для Стейница результатом: 10 побед при 6 проигрышах и одной ничьей. Результат мог бы быть лучше, но, как писал Стейниц в своем журнале после матча: «Матч в Гаванне шел между старым мастером молодой школы и молодым мастером старой школы, и молодая школа выиграла, несмотря на возраст ее представителя. Молодой мастер старой школы жертвовал пешки и фигуры, старый мастер молодой школы сделал больше — он пожертвовал целый ряд партий, чтобы показать, что он понимает под здоровыми принципами игры. И нужно, я полагаю, признать, что я достаточно дорого плачу, проводя мои воззрения в трудной матчевой игре, да еще без предварительной их проверки на практике. Мой авантюрный вариант в защите против гамбита Эванса стоил мне 5 партий из 7, которые я проиграл. Но ведь 4 из этих партий я все же выиграл при одной ничьей, и это не плохое достижение, если подумать о новизне и трудности сделанной мною попытки. И я совершенно убежден, что моя защита в принципе верна и здорова, и когда она будет аналитически проверена, окажется наилучшей».
Тут весь Стейниц с его наивной уверенностью, что современники оценят жертвы, приносимые им во имя идеи. Гаваннский матч был лишь началом этой своеобразной новеллы о Стейнице и Эвансе. В выпущенном вскоре после матча первом томе труда Стейница «Modern Chess Instructor» был приведен анализ шести дебютов, в том числе гамбита Эванса и защиты двух коней. В анализе Эванса Стейниц, уже связанный, очевидно, своим приведенным высказыванием, вновь заявил, что изобретенный им шестой ход является лучшим защитным ходом: весь шахматный мир в то время был уже убежден, что данный ход имеет больше недостатков, чем достоинств, создавая излишние затруднения и осложнения в игре черных. И затем, в хорошо известной защите двух коней, исследованной вдоль и поперек и приводящей обычно к примерно равному положению, Стейниц рекомендовал на девятом ходе для белых совершенно новый ход, непредвиденный, вычурный, как сказали бы вначале нашего века — «декадентский» ход, заявив, что он значительно улучшает весь вариант для белых. Оба эти хода были вполне в стейницевском стиле — «темном и таинственном», как он характеризовался тогда.
Чигорин, признававший лишь одно «начало» в шахматах, начало искусства, творчества за доской, и ненавидевший научно-догматические утверждения о «лучших ходах», предложил Стейницу сыграть две партии на ставку, по телеграфу: одну партию гамбитом Эванса — Стейниц (черные) должен применить свою защиту, — другую — защитой двух коней, — Стейниц (белые) делает свой новый девятый ход. Обе партии играются одновременно, на каждый ход дается два дня размышления. От этого вызова Стейниц не мог отказаться, тем более, что он был искренне уверен в своей правоте. Кабельный матч из 2 партий начался в октябре 1890 года, закончился в апреле 1891 года исключительно блестящей победой Чигорина в обеих партиях. Вопрос был исчерпан для всех, кроме Стейница: труднее всего было ему расставаться именно со своими ошибками...
Но если бы это были только шахматные ошибки! После матча с Чигориным Стейниц вступил на путь жизненных ошибок, которые нельзя было никак исправить.
И первой из них было согласие Стейница играть матч с Гунсбергом, матч, вызвавший недоуменье шахматного мира.
Правда, И. Гунсберг, венгерский еврей, натурализовавшийся в Англии, занявший там то место, которое принадлежало сначала. Стейницу, потом Цукерторту, был сильным шахматистом. Он занял первое место в нескольких (не очень сильных, впрочем) международных турнирах, выиграл матч у Блэкберна, свел в ничью матч с Чигориным (игравшим, однако, значительно ниже своей силы). Но игра Гунсберга никак не импонировала. Он был типичным эклектиком, лишенным своего стиля и шахматного мировоззрения. В эти лучшие его годы шахматный мир насчитывал не менее десятка шахматистов, никак не уступавших Гунсбергу. Вызов им Стейница на матч на первенство мира был встречен холодным недоуменьем. Но дело было в том, что Гунсберг и не рассчитывал победить (в этом матче, который английская шахматная пресса характеризовала как «финансовое предприятие» Гунсберга. Матч игрался на сравнительно небольшую ставку — 375 долларов, но и этой ставки Гунсберг не мог полностью собрать, и часть ее был принужден внести из собственных средств. Но будучи шахматным журналистом, он с лихвой рассчитывал заработать на корреспонденциях о матче, что и оправдалось.
Стейница ничто не понуждало принять вызов Гунсберга. Благодаря матчу с Чигориным, опубликованию его книги и проведенной им работе по организации международного турнира в Нью-Йорке в 1889 году, в котором он сам не принимал участия, его отношения с американским шахматным миром несколько улучшились. Вопрос о «лаврах», конечно, также отпадает: победа Стейница в этом матче была бы принята как нечто естественное. Что же влекло его к этому матчу? Неужели только жадность к игре? Во всяком случае, еще раз показал он, как неправильна его «оценка положения» в элементарных житейских обстоятельствах.
Матч этот, состоявшийся в декабре 1890—январе 1891 года в нью-йоркском Манхеттенском шахматном клубе, Стейниц выиграл. Но с результатом мало удовлетворительным: 6 выигрышей при 4 проигрышах и 9 ничьих. Матч игрался на большинство из 20 партий, так что Стейниц сумел добиться лишь необходимого минимума. Что же произошло?
Матч Стейниц—Цукерторт был столкновением двух людей с резко враждебной психологией. Они просто, по-человечески, ненавидели друг друга: Стейниц внес в этот матч элемент личной страстности. Матч Стейниц—Чигорин был борьбой мировоззрений, столкновением двух школ: Стейниц внес в этот матч элемент идейной, принципиальной страстности. Гунсберг же не был ему интересен ни как шахматист, ни как человек. И этот матч он вел с некоторой душевной вялостью, равнодушием. Такова одна причина. В этом матче, далее, дал себя почувствовать впервые возраст Стейница (54 года); он, — стиль игры которого отличался именно безошибочностью, ведь ошибки его были, так сказать, закономерны, были результатом принципиальных воззрений, — в этом матче допускал грубейшие зевки: в одной партии попался в элементарнейшую двухходовую ловушку противника и потерял ферзя. Это второй момент.
И быть может основная причина была в том, что к этому времени «новая школа», т. е. учение Стейница, стала уже входить в обиход: если не глубокие философские ее основы, то проверенные на практике «правила шахматного поведения», установленные Стейницем, были прекрасно усвоены в широких шахматных кругах. И максимум пользы из них мог извлечь как раз шахматист-эклектик типа Гунсберга, солидный практик, отнюдь не позволявший себе стейницианского теоретического экспериментаторства в дебютах: практичный ученик избегал «крайностей» своего легкомысленного учителя...
И ко всему этому нужно добавить, что Гунсберг совершил удачный «тактический» ход: Стейниц перед матчем заявил, что он и сейчас намерен принципиально отстаивать свою знаменитую защиту в гамбите Эванса, и Гунсберг поймал его на слове и в 4 партиях предложил ему роковой гамбит; две из них Стейниц проиграл...
Но в качестве компенсации, — а Стейниц в ней нуждался, — мог он прочесть в самом серьезном шахматном органе того времени, «Deutsche Schachzeitung», нижеследующие строки:
«Морфи и Цукерторт были очень крупными талантами, но гениальными их назвать нельзя. Стейниц — гений. Он создатель нового. Научился он лишь тому, чему может научиться любой игрок второй категории, — все остальное в себе создал он сам. Вся современная система игры — это дело его рук. И если он в практической игре и уступает Морфи и Цукерторту 1883 года, то тем более он их значительно превосходит как шахматный мыслитель».
Эти столь много говорящие строки были подписаны именем Зигберта Тарраша, великолепного шахматиста, одаренного теоретика, признанного главы новой школы после смерти Стейница, наиболее значительного его ученика.
Но в той же статье Стейниц мог прочесть еще одну, и весьма важную для него, фразу: «Гунсберг не победил Стейница, но показал, что победить его можно», — пишет Тарраш. Понял ли Стейниц, что этот матч должен был прозвучать для него тревожным сигналом?
Понимал ли он, что уже пришла пора, когда требуется от него принять самое важное и самое трудное решение его жизни? Да, понимал!
Когда осенью 1891 года Чигорин вызвал Стейница на матч-реванш, а от этого вызова Стейниц отказаться не мог, он откровенно заявил в своем журнале, что лишь с неохотой будет он играть этот матч, так как чувствует себя отягощенным возрастом и перегруженным важной литературной работой. И тут же прозрачно намекнул Стейниц, что этот матч должен быть последним в его жизни. Итак, он как будто не отступал перед трудным и важным решением...
Второй матч Стейниц—Чигорин был организован тем же гаваннским шахматным клубом и продолжался с 1 января по 29 февраля 1892 года. Полных два месяца потребовалось, чтобы разыграть 23 партии матча — он играл до десяти выигрышей с тем условием, что при 9 выигрышах у каждого, противники играют новый матч до 3 выигранных партий, окончательно решающих судьбы шахматного первенства. Добавочного матча не пришлось играть: после 23 партий у Стейница было 10 выигрышей, при 8 поражениях и 5 ничьих; формально он был победителем матча и сохранил звание чемпиона. Формально — ибо с Чигориным в этом матче случилось то, что могло случиться только с Чигориным и ни с кем иным. Девять против восьми был счет матча перед 23-й партией, и это показывало ее важность. Удастся Чигорину ее выиграть — и нужно будет играть короткий матч. Чигорин начинает королевским гамбитом — смертоносным оружием в его руках, если принять гамбитную жертву пешки. Стейниц принимает: дух его учения требует не верить в смертоносность возникающей атаки. В своей защите он применяет вышедший из употребления ход, создает сложные положения на доске, получает позиционное преимущество, дающее ему по меньшей мере ничью, но запутывается в вариантах и видит себя вынужденным жертвовать фигуру за отчаянную атаку. Чигорин отражает ее, имеет фигуру за пешку. Тысячная толпа, заполнившая зал, не дышит: еще два-три хода, и Стейниц принужден будет сдаться. Чигорин делает ход — и тут же хватается за голову, бледнеет, остановившимися глазами смотрит на доску, — грубейшим просмотром он допустил двухходовой мат...
Но сколько было у меня зевков в этом матче, — мог бы сказать Стейниц. Увы, он был бы прав: матч изобиловал грубейшими ошибками обеих сторон. В практике для Чигорина они встречались, но для Стейница? Еще требовательнее, еще властнее, чем в матче с Гунсбергом, оказался его возраст, и с другой стороны — еще большие практические жертвы потребовал догматический характер его мышления: ведь в первой половине матча не отказался он от своей защиты в гамбите Эванса, и проиграл 4 из 8 игранных этим дебютом при одном выигрыше и 3 ничьих, и вдобавок проиграл 3 из четырех игранных им защитой двух коней. Семь партий принесены были в жертву призраку!
Побежденный победитель
Говорит Эмануил Ласкер:
«Стейниц был мыслителем, достойным университетской кафедры. Игроком он не был: для этого он был слишком глубок. Он был побежден игроком, и умер мало оцененный миром. И я, его победитель, считаю своей обязанностью воздать должное сделанному им, дать правильную оценку его деятельности».
Это достойные, благородные и... несправедливые слова: несправедливые по отношению к Ласкеру. Ибо Ласкер не только игрок, или даже гениальный игрок: Ласкер величайший диалектик шахматной игры, и победа Ласкера над Стейницем была победой диалектика над догматиком. Тогда, в момент его победы, и еще долго после того, этого еще не видели, тем более, что диалектика — доминанта ласкеровского мышления и ласкеровского характера — еще не сказалась с достаточной отчетливостью в тот ранний период его деятельности, и лишь в свете исторической перспективы становится ясным, что и тогда Ласкер был уже Ласкером.
Но это о Ласкере; о нем речь впереди; вернемся к Стейницу.
Итак, матч с Чигориным окончен, еще одно «покушение» отбито, еще раз «звание» осталось за ним. А что же дальше? Разве не видит Стейниц, что чем дальше, тем больше жадных рук будет тянуться за его «короной»? Разве не понимает он, что удержать ее в конце-концов не удастся? Он сам знает, что учил по-настоящему понимать шахматы, учил — и научил; и эту его роль начинают уже сознавать, но если научил, то... тут нужно сделать логический вывод: то, значит, должен появиться тот, кто понимает шахматы так же, как он, но играет, за доской, лучше, сильнее его, хотя бы в связи с его возрастом.
И он, Стейниц, человек строгой аналитической мысли, ненавидящий мишуру, иллюзии, внешний блеск («комбинационный» стиль) — неужели будет он держаться за эту мишуру, «звание», за титул «чемпиона мира»; неужели это игрушечное звание имеет большую цену для него, чем его призвание? А ведь призвание свое он оправдал, осуществил, и этого никто у него отнять не может...
Так чего ж, казалось бы, проще, как выполнить принятое еще до последнего матча с Чигориным решение— отойти от серьезной практической игры, заняться вплотную важнейшей теоретической работой, где так много еще можно и нужно сделать: ведь вышел в свет только первый том «Modern Chess Instructor» и первый выпуск второго, проанализировано лишь шесть дебютов, а их — десятки, не систематизированы основные положения «новой школы».
И однако: с 1894 года литературно-теоретическая деятельность Стейница почти совершенно прекратилась, дальнейшие томы его труда не были написаны, с 1893 года перестал выходить и его журнал. Но зато за эти последние 6 лет своей жизни, с 1894 по 1899 год, он так много и страстно играл в шахматы, как никогда раньше. Три матча и восемь турниров за шесть лет! А за предшествовавшие этому периоду 18 лет, с 1866 по 1884 год, — те же восемь турниров и восемь матчей (серьезного значения). Словно юноша, только что познавший прелесть игры, бросился он нетерпеливо и страстно к шахматной доске.
В чем же здесь дело? В «неутолимом честолюбии», — говорят одни и мудро порицают этого неразумного старика, никак не желавшего расстаться с мыслью об «успехах». В натуре борца, который умирает, сражаясь, — говорят другие и восхваляют «героизм Стейница». Но не трудно заметить, что эти абстрактно моральные оценки являются по существу ничего не говорящими обывательскими суждениями. Дело здесь гораздо сложнее, оно связано со сложной и жестокой спецификой шахмат.
Прибегнем к аналогии из смежных к шахматам областей человеческой активности: спорта и искусства. Представим себе психологию чемпиона мира — боксера, теннисиста, конькобежца. Он знает, что сейчас, в данный момент, он сильнее всех в мире. Но точно так же он знает, что это временно, преходяще, не надолго, что он должен потерять свой титул, ибо есть один конкурент, с которым ни он и никто никогда справиться не мог, ибо этот конкурент — время, биологические законы, против которых бессилен человек. И если слабеет у него сердце, дрябнут мускулы, укорачивается дыхание, — что же здесь можно поделать? И не нужно быть философской натурой, чтобы понять, что это не «персональная обида». И побежденный боксер в Америке, теряя свою рыночную ценность, открывает бар и мирно рассказывает о своих былых подвигах на ринге. В условиях же нашей, основанной на товарищеском отношении к человеку, культуры побежденный чемпион спорта отнюдь своей человеческой ценности не теряет. Поражение в спортивном состязании, обусловленное возрастом, — обидно, неприятно, но не трагично. Спорт и трагедия — понятия несовместимые. В области искусства мыслима трагедия бессилия, конфликта между замыслом и осуществлением, но никак не трагедия поражения, обусловленного возрастом. В искусстве ведь нет состязаний, нет чемпионов, стало быть, и нет победителей и побежденных, а ослабевание творческих сил к старости — совсем не обязательно (примеры: Гете, Толстой, Горький, Франс, Шоу, или Рембрандт, Тициан, Роден, Репин, Бетховен, Верди, Ласкер), а если творческие силы ослабевают, то очень постепенно, и можно при оптимистической натуре и вовсе этого не замечать. Никто не может опровергнуть Сарру Бернар, игравшую в семидесятилетием возрасте «Орленка», ее убеждения, что она великолепно играла. Нельзя ни опровергнуть, ни доказать.
А вот в шахматах можно и опровергнуть и доказать. Ибо шахматы не только искусство, но и состязание, спорт. Но ведь в шахматах ослабление творческих сил также совсем не обязательно, ибо шахматы не только спорт, но и искусство. И вот из комбинации этих элементов — спорта и искусства, комбинации единственной во всей человеческой практике и требующей проверки творческих сил, многократной, постоянной проверки, именно и только через состязание спортивного характера, — и возникает трагедия шахматиста, равной которой, конечно, не знают ни люди спорта, ни люди искусства. Поражение первых — проверяемо и необходимо. Поражение вторых — не проверяемо и не необходимо. А поражение шахматиста — проверяемо, но не необходимо.
Отсюда и возникла трагедия Стейница. Он проверял. В трех матчах и восьми турнирах он проверял — действительно ли ослабли, истощились его творческие силы, действительно ли он уже больше не Стейниц. И тем жесточе и острее была эта трагедия, что возникали моментами радостные иллюзии, которыми как же не плениться...
По причинам, о которых уже говорилось, мы почти ничего не знаем о личной, внешахматной жизни Стейница. Но даже из имеющихся ничтожных материалов можно заключить, что материальное положение Стейница никогда не было хорошим, и достаточно часто бывало по меньшей мере затруднительным. Не только он не был финансовым гением, но, очевидно, страдал от элементарной деловой непрактичности. Положение профессионала-шахматиста и обуславливаемая им зависимость от шахматных меценатов наносили тяжелые раны его самолюбию. С острой горечью видел он, что вся его деятельность не может обеспечить ему спокойного и безбедного существования. И с тоской говорил о профессионалах спорта, хорошо оплачиваемых, лишенных элементарных забот о ежедневном заработке: «Господа любители, — говорил он о шахматных меценатах, — очень любят нас критиковать, но не очень любят платить нам деньги». К 25-летию его шахматной деятельности, в 1891 году, доброжелатели организовали подписку по Америке и Европе, дабы собрать сумму, обеспечивающую старость Стейница. Собранные средства были совсем незначительны, но особенно оскорбил Стейница тот факт, что знаменитый венский банкир Ротшильд подписался на 25 гульденов (10 зол. рублей); Стейниц вспомнил тут наверное о «друге» своей юности, банкире Эпштейне.
В 1891 году прекратился выход журнала Стейница — очевидно по финансовым причинам. Попытки редактировать шахматный отдел в какой-либо газете ни к чему не привели, — мы помним о «дурном характере» Стейница, — и репутация «чудака» за ним во всяком случае укоренилась. Ведь для того, чтобы редактировать в американской газете отдел, нужно быть не только специалистом своего дела, но и «деловым человеком», а ведь и до широкой публики докатились эти забавные слухи «о комическом упорстве» Стейница, хотя бы в отстаивании своей защиты гамбита Эванса и своего варианта в дебюте двух коней: какой же из этого чудака может выйти деловой человек... И потом вообще, он — цыган: так называла постоянно Стейница крупная нью-йоркская газета, пользуясь элементарной игрой слов: Чехия по-английски — Богемия, уроженец Чехии — «бохемьен», что означает также цыган. Это пустяк, деталь, но какая характерная для «оценки положения» Стейница.
В 1892 году семейная катастрофа постигла Стейница — на протяжении короткого времени скончались одна за другой его жена и восемнадцатилетняя дочь. Это тоже, конечно, способствовало тому, что он подошел к труднейшему испытанию своей жизни с плохой подготовкой.
Испытание это было не матч Стейниц—Ласкер, а вставшая перед Стейницем дилемма: мужественно отказаться от защиты своего «звания», заявив об отходе от серьезной практической игры, и заняться литературно-творческой работой, или бороться против неизбежного, — Стейниц ведь мог понять урок матча с Чигориным, и следил за гастролями Ласкера в Америке в 1893 году, прошедшими с небывалым до тех пор ни у одного шахматиста мира триумфом. Испытания он не выдержал. Матч Стейниц—Ласкер на звание чемпиона мира состоялся 15 марта — 26 мая 1894 года: вызов последовал со стороны Стейница.
Матч был организован с большой помпой и протекал в трех городах: Нью-Йорке, Филадельфии и Монреале; матч игрался до 10 выигранных партий; из общей суммы заключенных пари 2 250 долларов получал победитель, 750 — побежденный.
В спортивной выдержке но время матча нельзя было отказать Стейницу. Из нью-йоркской серии партий он проиграл 4, 4 — свел в ничью и выиграл 2; в Филадельфии он проиграл 3 рядовых; и, не отказавшись от окончания матча, он сумел все же в Монреале выиграть 3 партии при 3 проигрышах и 2 ничьих. Общий результат — 10 поражений при 5 выигрышах и 4 ничьих — был аналогичен результату матча Стейниц—Цукерторт.
Поражение было полным и безусловным, и не только в смысле спортивном. Против Стейница за доской сидел — молодой Стейниц, т. е. такой шахматист, каким бы мог быть он, Стейниц, если бы сумел перенести в свою молодость все приобретенное за свою шахматную жизнь — свой разум, знание и опыт. Сидел против него человек, органически усвоивший все основы учения Стейница, не только правила шахматного поведения, но и глубочайший смысл учения, и вдобавок освободивший это учение от издержек излишнего догматизма, от баласта вычурного экспериментирования. Что мог противопоставить Стейниц этой простой, ясной, чистой, как родниковая вода, игре своего двадцатишестилетнего партнера? Особенно по филадельфийским его партиям чувствовалось, что он просто не знает, как играть с Ласкером. Правда, не было уже речи о гамбите Эванса, о дебюте двух коней, игрались стейницевские закрытые и полузакрытые партии, но Стейниц, словно желая запутать противника, предпринял невероятно сложные, темные, вычурные маневры и барахтался в них, утопая, как неопытный пловец в бурных волнах. — «Ах, шахматы, это так сложно, что даже я в этой сложности погибаю», — как будто говорил один. «О, нет, шахматы, это очень просто, и ты сам меня этой простоте научил», — словно отвечал другой.
Стейниц «спортивно» перенес поражение. Он провозгласил трехкратное «ура» в честь нового чемпиона мира. Вечером этого дня он играл в клубе в карты — все как полагается по спортивной этике. Но передавали очевидцы, что, сдавшись в последней, 19-й партии (18-я была ничья, а 17-ю он выиграл; выиграй он эту — счет был бы 6 : 9, т. е. дающий некие надежды), более часа сидел он одиноко в опустевшем зале, склонившись над доской, и — можно предположить — тоскливо спрашивал себя: где же и чем же была эта роковая ошибка, и в одной ли этой партии, или во всем матче?
И может быть уже тогда решил Стейниц «проверять». Вскоре после матча он послал Ласкеру вызов на матч-реванш. Спортивная вежливость обязала Ласкера принять вызов. Но осуществлен был этот вызов лишь через два года, а за это время состоялись гастингский, нюренбергский и петербургский турниры.
«Чемпионству» Ласкера не верили в Европе — считали, что и Тарраш, и Чигорин могли бы победить бывшего чемпиона, тем более, что Ласкер еще не встречался за доской с Чигориным и Таррашем, а Тарраш со Стейницем (матч Тарраш—Чигорин окончился в ничью). Представлялся поэтому желательным турнир, в котором могли бы встретиться все четверо, поскольку Стейниц настойчиво заявлял в печати, что он намерен бороться дальше. Такой турнир и был организован в английском городке Гастингсе в августе 1895 года, и приняли в нем участие, помимо этой четверки, еще 18 шахматистов, лучших шахматистов мира. Гастингский турнир был несомненно сильнейшим турниром всей шахматной истории того времени. От Америки был приглашен, кроме Стейница, молодой шахматист Пильсбери, занявший пятое место в американском национальном турнире осенью 1894 года, где первое место осталось за Стейницем (скромная компенсация за матч).
И в Гастингсе мог еще раз убедиться Стейниц в безнадежности своей борьбы со временем. Пусть новый чемпион мира оказался лишь на третьем месте со своими 15½ очками, но ведь Стейниц сумел набрать всего 13 очков, и занял 5-е место, а первый приз взял двадцатитрехлетний Пильсбери с 16½ очками, второй достался Чигорину — 16 очков, и четвертый Таррашу — 14 очков. И кроме того проиграл Стейниц и Пильсбери, и Ласкеру, и Таррашу. Правда, он мог утешиться тем, что выиграл у обоих старых противников — Чигорина и Гунсберга, которые оба предложили ему, играя белыми — все тот же гамбит Эванса! Но выиграл Стейниц, отказавшись от своей защиты, выиграл «капитулировав», так что и в этой радостной чаше оказалась капля яда.
Стейниц и Ласкер за последней партией матча 1894 года
И все же Гастингс должен был доставить большое моральное удовлетворение Стейницу. Этот турнир вошел в историю шахматного движения, как первый большой турнир, прошедший под знаком учения Стейница, под лозунгом новой школы и позиционного стиля, положительно доминировавшего как в партиях призеров (за исключением Чигорина), так и остальных. Ироническую дилемму поставила история перед Стейницем: печалиться ли тому, что он побежден, радоваться ли тому, что стилем Стейница побежден Стейниц?
Героическая агония
После Гастингса — Петербург. Шахматные круги царской России тоже не хотят отставать от века, тем более, что в их среде числится великий Чигорин, жизнь которого они, однако, сумели отравить постоянной склокой, гадкими интригами, жестоким непониманием, ядовитой клеветой, — биограф Чигорина расскажет когда-нибудь, в каких тяжелых общественных и моральных условиях пришлось жить и творить этому великому художнику, воскресшему лишь ныне, в условиях советской шахматной культуры...
В 1895 году с Чигориным очень носились. Петербургское шахматное общество устроило этот турнир с основной целью — дать Чигорину возможность добиться звания чемпиона. В Ласкера как чемпиона еще не очень верили: пятое место Стейница в Гастингсе свидетельствовало, что победа Ласкера в матче 1894 года не так уж показательна. Чигорин, опередивший Ласкера в Гастингсе и вдобавок выигравший у него партию, равно как и у Пильсбери, мог считаться самым достойным претендентом на звание чемпиона. Считался таковым, естественно, и Пильсбери после колоссального гастингского успеха. Рядовые победы Тарраша в крупных европейских турнирах — до гастингского, сейчас способствовали выставлению и его кандидатуры. И, конечно, нельзя было миновать Стейница, хотя в широких кругах и не верили, что он может отвоевать звание чемпиона мира; в шахматах, как и в спорте, слишком часто оправдывается поговорка: однажды побежденный — всегда побежденный.
Петербургский турнир, таким образом, имел в виду ответить на вопрос: кто же, если не фактический, то моральный чемпион мира? И он был организован так, чтобы не поставить ответ на этот вопрос в зависимость от случайных колебаний турнирного счастья. Участвовать в турнире были приглашены лишь указанные пять человек, но с тем, чтобы они играли друг с другом по шести партий. Элемент случайности, «везения» полностью, в связи с этим, устранялся. Турнир превращался в матч-турнир. Тарраш отказался от участия, и матч-турнир был разыгран между четырьмя. Все ожидали, что борьба за первое место будет происходить между Ласкером и Чигориным. Меньше верили в Пильсбери. Стейница, почти единодушно, считали главным кандидатом на четвертое место.
Шахматная судьба — капризная и неустойчивая — готовила, однако, сенсации. И наиболее острой из них была та, что на четвертом месте оказался Чигорин, собравший всего семь очков из возможных восемнадцати, разгромленный Ласкером — четыре поражения при двух ничьих, — побежденный американцем Пильсбери — минус 3, плюс 2 и одна ничья, — и с трудом выигравший матч у Стейница — 3 выигрыша, 2 проигрыша, 1 ничья.
Но сенсацией было и то, что на втором месте оказался Стейниц — с 9½ очками, хотя и отставший от Ласкера на 2 очка, но опередивший Пильсбери на полтора и Чигорина на два с половиной. Он набрал 5 очков против Пильсбери, 2½ против Чигорина, 2 у Ласкера и, конечно, был доволен этим результатом, дававшим ему формальное право оспаривать у Ласкера в новом матче звание чемпиона.
Формальное право! Не он ли, Стейниц, с таким гневом и страстью, с такой логикой и глубокомыслием восставал в своем учении против формальных понятий и формальных правил в шахматной области? Не он ли требовал — не по формальным признакам, а по существу проблемы, — производить оценку положения? И если под знаком этого требования произвел бы он оценку своего положения, — что бы увидел он?
Увидел бы, что именно этот результат повелительно требует изжить иллюзию о возможности бороться с Ласкером за первенство мира. Да, он, Стейниц, прекрасно сыграл с Пильсбери, проявившим в этом матче-турнире недостаточно глубокое овладение принципами новой школы; он удовлетворительно сыграл с Чигориным, который — всегда художник и никогда спортсмен — обнаружил творческую усталость после Гастингса. Но как вел Стейниц свои партии против Ласкера? И дело здесь не в цифровом результате, не в том, что он выиграл лишь одну из шести при двух ничьих, а в том, что и эту выигранную партию выиграл он не в своем стиле, почти случайно, а Ласкер играл, как настоящий Стейниц, и, пожалуй, еще чуть-чуть лучше: остальные пять партий опять, как и в американском матче, учили Стейница, как нужно играть по Стейницу. Вот это нужно было понять, и нам со стороны кажется, что это понять было так просто, — и все иллюзии разлетелись бы вдребезги.
Но чем же тогда жить? Куда отступить? «Заранее подготовленных позиций» не было у Стейница, территории отступления не было. Но Стейниц об этом и не думал, его окрылял достигнутый сравнительный успех. После Петербурга он гастролировал в начале зимы 1896 года в Риге, уже договорившись с Ласкером о матче-реванше, в Москве, в декабре этого же 1896 года. Торопился, очень торопился Стейниц. И когда покидал он Ригу, — сообщает местная шахматная газета, — собравшиеся на вокзале шахматные друзья просили: «Сделайте нам одолжение, основательно разгромите Ласкера в Москве!». Бессознательная ирония этой просьбы ускользнула, можно думать, от Стейница.
Итак — он торопился. Торопился до матча с Ласкером сыграть еще один матч, еще один турнир. И поехал он играть этот матч за несколько тысяч километров, на юг России, в город Ростов-на-Дону. Как и зачем попал туда Стейниц? Был тогда в Донбассе крупный углепромышленник, не чуждый европейского просвещения, по фамилии Иловайский. Он очень любил шахматы, уважал Стейница и чрезвычайно хотел, чтоб Стейниц сыграл с кем-нибудь матч его, Иловайского, иждивением. Четыреста рублей он ассигновал победителю, двести рублей побежденному, да дорожные расходы — в тысчонки две обошлось меценату это шикарное развлечение. Дороговато, да куда ни шло! Партнер для матча был найден: это был Шифферс, талантливый русский шахматист, лучший в России после Чигорина. Но Иловайский поставил условием, чтобы матч игрался не в Петербурге и не в Москве, а в его городе — Ростове. Что ж, пришлось принять условие, пришлось шестидесятилетнему, больному старику совершить образовательное путешествие в Ростов. Матч был Стейницем выигран с результатом совсем не блестящим: плюс 6, минус 4, 1 ничья. Еще одно предупреждение? Но Стейницу некогда слушать предупреждения, он торопится. Куда на этот раз? В Голландию и Германию на гастроли, а затем на нюренбергский турнир, состоявшийся в июле-августе 1896 года. Ведь нужна ему практика для предстоящего матча с Ласкером.
Очень сильный этот нюренбергский турнир. Тут снова и Ласкер, и Чигорин, и Пильсбери, и Тарраш, и новые звезды, взошедшие на шахматном небе: венгерец Мароци — совсем недавно читали мы о Мароци, тренировавшем Эйве к матчу с Алехиным, но вот, оказывается, «тренировал» он и Стейница, — и талантливейший Давид Яновский, польский подданный, считавшийся французским шахматистом, что, конечно, не удивляло выходца из Чехии, считавшегося американским шахматистом. Столько звезд — 19 человек участвуют в турнире. Но Стейниц не смущается, он знает, что его звезда взойдет в Москве.
В Нюренберге, однако, Стейниц занимает шестое место, с 11 очками из возможных 18. Прекрасное в общем достижение, если все принять во внимание. Но если подумать о предстоящем матче с Ласкером, снова занявшем первое место? Вот уже четыре, помимо Ласкера, впереди Стейница, и не только Пильсбери и Тарраш, но и Мароци, занявший второе место, и Яновский... Правда, Чигорин на восьмом месте — у него продолжается творческая депрессия, правда, старые соратники Стейница — Блэкберн, Винавер — также тут, и они стали ниже Стейница в турнирной таблице: Блэкберн — на одиннадцатом,
Винавер на пятнадцатом месте, но ведь ни они, ни даже Чигорин не помышляют о матче на первенство мира!
Но кончился турнир. Можно оставшиеся три месяца до матча с Ласкером не торопиться и подумать. И, кстати, полечиться от усилившихся ревматических болей в водолечебнице Кнейпа. Стейниц — фанатический кнейпианец (бывший в моде в конце века, но научного значения не имевший метод лечения), Во время турниров и матчей он поглощает невероятное количество холодной воды, вера в метод Кнейпа у этого догматика не менее сильна, чем вера в метод Стейница. Итак, он лечится и думает. О чем же? Может быть о том, что не будь ревматических болей, он занял бы лучшее место в Нюренберге... А может быть о том, что не по причине ревматических болей сдался он в партии с Яновским, где без труда можно было достигнуть ничьей, или о том, почему в партии с Таррашем, этим шахматным начетчиком, этим самым прилежным своим учеником, сделал он в простой испанской партии декадентский, вычурный, всеми забракованный, но им почему-то отстаиваемый ход f7 — f6, сделал — и проиграл? Или о том, что своему ровеснику Винаверу — этому великому мастеру игры на ловушки — он уж во всяком случае не должен был проиграть?
Обо всем этом можно было думать. Но нужно было думать о другом. Почему он так нелепо, так отчаянно растрачивает остаток своей жизни! Разве не учил он два десятка лет, что в оценке положения познается подлинный мастер?
Кончился отдых, и торопится Стейниц. В Москву, на Большую Дмитровку, в дом Элисса, где помещалось Московское медицинское общество, в здании которого, «элегантно оборудованном и освещенном электричеством», — почтительно замечает шахматный биограф Стейница, Бахман, — был разыгран матч-реванш Ласкер—Стейниц.
Очень долго длился этот, последний в жизни Стейница, матч: с 7 ноября по 14 января, хотя было сыграно всего 17 партий. Но Стейниц играл матч полубольным, и очередные партии то и дело откладывались. Очевидцы передают даже, что Стейницу приходилось во время игры прикладывать лед к голове.
Но со льдом или без льда — Стейниц остался верен себе в этом матче, т. е., точнее говоря, верен не своему глубокому и прозорливому шахматному мышлению, а капризному догматизму. Первые четыре партии он проиграл, отстаивая нездоровые дебютные варианты, только им применявшиеся в итальянской и испанской партиях. Пятую, получив преимущество, он свел в ничью. Шестую проиграл. Первая половина матча (он игрался до 10 выигрышей) дала ему пять поражений при одной ничьей.
Но ослабевшая воля взнуздана бешеным усилием. Он сводит вничью 7-ю, 8-ю, 9-ю (имея преимущество в двух из них), проигрывает 10-ю и 11-ю, но выигрывает 12-ю и 13-ю. Но возбуждение падает. Еще одна ничья и три поражения. Матч кончен со счетом: Ласкер — 10, Стейниц — 2, ничьих — 5.
Матч кончен, иллюзии кончены, жизнь кончена... Торопиться больше некуда! Но теперь его торопят. Куда? О, только в загородную прогулку — так хорошо в Москве зимой за городом! Но это была прогулка в Морозовскую психиатрическую клинику.
Уже с 1867 года у Стейница бывали нервные припадки, становившиеся очень сильными после трудных шахматных состязаний и усиленной литературной работы. Особо тяжелый припадок был у него в 1876 году после матча с Блэкберном и напряженного умственного труда — тогда, когда создавалась теория новой школы. Психотерапия была тогда в младенческом состоянии, и Стейницу приходилось самому справляться с этими припадками. Такой припадок, и, по-видимому, наиболее сильный, произошел и теперь. Почва для него была достаточная: не только проигрыш матча, но и общие условия жизни в Москве. «Это может показаться странным, но в России нельзя получить холодной воды и достаточно проветренного помещения... когда я попросил немного льда, мне сказали, что запасы льда у них ничтожные и нужны для кухни, а свежего льда еще не привезли», — писал Стейниц в письме из Москвы 17 декабря 1896 года.
Однако и с этим припадком Стейниц, как он потом говорил, справился бы сам, особенно если бы он находился под наблюдением хорошего врача. Дело обернулось иначе. Секретарше Стейница, которую он пригласил после матча для работы над книгой «Еврейство в шахматах», показалось подозрительным, что этот старик ежедневно зимой проделывает обтирания холодной водой. А тут старик начал еще «заговариваться», бредить на яву. Она обратилась к американскому консулу в Москве, тот послал какого-то невежественного врача, не говорившего ни на одном из иностранных языков. Стейниц и ему показался подозрительным, и старика силком свезли в психиатрическую лечебницу. Все его протесты ни к чему не привели. Там его задержали, надели смирительную рубаху, стали лечить теплыми ваннами, чего Стейниц, как кнейпианец, совершенно не выносил, лишили его, страстного курильщика, табаку и вдобавок — жуткий анекдот — считали, что пункт его помешательства в том, что он выдает себя за знаменитого шахматиста Стейница! Было от чего действительно с ума сойти! И возможно, что первые дни в лечебнице он действительно был в ненормальном состоянии.
В конце концов ему удалось доказать, что он — Стейниц (бумаг у него, очевидно, не было). Рассказывают, что его узнал какой-то студент-практикант, игравший в шахматы, и то после того, как Стейниц выиграл у него партию с дачей ладьи вперед — можно полагать, что эту партию Стейниц играл очень старательно. Положение его после этого открытия несколько улучшилось, но все же его держали в лечебнице. «Однажды к нему явился американский консул — передает Бахман — и сообщил, что он ничего не может сделать для освобождения Стейница, что его дело рассматривается русским правительством, которое само, на основании заключения врачей, должно решить сумасшедший он или здоровый. Директор же лечебницы говорил Стейницу, что только консул, отправивший его в лечебницу, может взять его обратно». Была, очевидно, приведена в действие машина бездушного российского бюрократизма. Но характерно, что никто из московских или заграничных друзей Стейница не счел нужным вмешаться, хотя слухи, что со Стейницем неблагополучно, доходили до заграницы. В февральском номере «Deutsche Schachzeitung», влиятельном шахматном органе, редактировавшемся Таррашем, была помещена следующая заметка: «Если поступающие с разных сторон сообщения справедливы, то Вильгельм Стейниц на самом деле сошел с ума». И все. Тарраш, клявшийся именем Стейница, не счел нужным не то что вмешаться, а даже проверить эти сообщения. В это же время в лондонском «The Field», где Стейниц вел свои знаменитые шахматные обзоры, положившие начало созданию современной теории шахматной игры, появилось открытое письмо Ласкера, также прекрасно характеризующее отношение к Стейницу и вообще положение шахматиста-профессионала в условиях капиталистической культуры. Письмо гласило: «М. Г. Обращаюсь через посредство вашего знаменитого шахматного отдела с просьбой помочь добровольными пожертвованиями несчастному старому человеку, впавшему в Москве в душевное расстройство. Громадные шахматные заслуги Стейница хорошо известны, и шахматный мир должен был бы позаботиться о нем и его семействе в его нынешнем положении, хотя бы в знак признания его заслуг. Я слыхал, что у Стейница было много противников, но я надеюсь, что его несчастье сделает милосердными его бывших врагов и что его почитатели проявят свою благотворительность». Конечно, Ласкер предпочел бы писать другим тоном, но он-то умел оценить положение. Нам неизвестно, как было встречено воззвание Ласкера. Другой сбор, организованный «Deutcshe Schachzeitung», дал за два месяца 45 марок!
Но не понадобились эти 45 марок. По истечении месяца с лишним Стейниц все же сумел освободиться (12 марта) из своего московского заключения. Говорят, что последним аргументом, убедившим врачей в его полной нормальности, была его фраза: «Ведь, как еврей, я вообще не имею права жительства в Москве, так вышлите же меня отсюда». Чувства юмора Стейниц, очевидно, не потерял.
Он успел еще сыграть в Москве две консультационных партии и наконец покинул этот город, убедившись, что ему в жизни некуда больше торопиться и, пожалуй, нечего делать.
К концу матча он писал в нью-йорскую газету: «Почему я проигрываю с таким треском? Прежде всего потому, что Ласкер величайший игрок, с которым я когда-либо встречался и, вероятно, лучший, когда-либо вообще существовавший». Он указывал и другие причины: «... я просто не могу в настоящее время выдержать борьбы с первоклассным маэстро. Шахматист не имеет права быть больным, как и полководец на поле битвы». Не понимал Стейниц, что было достаточно и первой причины.
В Вене, куда он направился после Москвы, по счастливому случаю американским консулом был известный шахматист Джедд, почитатель Стейница еще с гаваннских времен. Стейницу был оказан необходимый уход, и неукротимый старик в скором времени сумел уже дать сеанс одновременной игры на 22 досках, проиграв лишь две партии. Из Вены Стейниц направился в Нью-Йорк. 14 мая на борту парохода «Пенсильвания» пассажиры и капитан дали банкет в честь его 61-й годовщины... У Стейница были все-таки маленькие бытовые радости в жизни.
Но уже в Нью-Йорке он остро столкнулся с прозаическим вопросом — чем дальше жить — в простом материальном смысле. Никаких сбережений у него не было, накопленные одно время небольшие суммы он, по-видимому, потерял в биржевой игре; недаром говорили, что, создав теорию преимуществ в шахматах, в жизни он постоянно и принципиально меняет лучшее на худшее. А у Стейница была в это время вторая жена и двое маленьких детей. О литературном или шахматном заработке посредством гастролей одновременной игры нельзя было думать уже после первого матча с Ласкером Стейниц считался в американских спортивно-шахматных кругах «побитой фигурой». Осталось опять прибегнуть к кошельку шахматных меценатов. Нью-йоркский шахклуб опубликовал воззвание об учреждении «Стейницевского памятного фонда», чтобы обеспечить старость Стейница. В воззвании были сказаны хорошие слова:
«Жизнь, целиком посвященная шахматному искусству, поднятие шахмат на уровень науки, почетный и славный тридцатилетний жизненный путь, насыщенный также трудом и борьбой, — все это связано с именем Стейница! Нет шахматиста на всем земном шаре, который не был бы прямо или косвенно чем-нибудь — наслаждением или знанием — обязан Стейницу».
Все это было совершенно справедливо, но от слов до долларов большое расстояние: сбор дал очень незначительную сумму.
И точно так же не удались старания друзей Стейница добиться для него государственной пенсии. Да и за что было ее давать? Не было у Стейница ни официальных заслуг, ни влиятельных друзей. Таким образом, участие в международных турнирах оказалось единственным средством заработка для Стейница. И то сомнительным средством: чтобы получить приличный приз, нужно было занять хорошее место в таблице.
И Стейниц спешит в июле 1898 года, — ему уже шестьдесят три года, — снова в Вену. Большой турнир, 19 участников, два круга. Налицо все корифеи, нет только Ласкера.
На какое же колоссальное напряжение воли оказался способным этот уже дряхлый по виду старик!
Он играет прекрасно в этом турнире, он занимает четвертое место, с 23½ очками из возможных 36; правда, из шести партий против первых трех призеров — Тарраша, Пильсбери, Яновского — он добивается лишь двух ничьих, но спокойно и уверенно расправляется с остальными, оставив за собой Чигорина, Мароци, Блэкберна, Это наибольший его успех после 1896 года и это принципиальный успех: вот когда Стейниц начинает овладевать стилем Стейница. «Значит, не в возрасте дело, — думает Стейниц. — Так будем же еще и еще проверять!»
30 июля кончает он венский турнир, и уже 1 августа, едва успев доехать, играет первую партию в кельнском турнире, небольшом, сравнительно слабом по составу.
Словно дразнит его эта жестокая игра, словно издевается над ним, порождая иллюзии и разбивая их. Он только на пятом месте в Кельне, и он плохо играет, он упускает один легкий выигрыш, одну обеспеченную ничью. Да, он получает эти триста марок пятого приза, но знает ли он, что это последний в его жизни шахматный заработок? Ну что ж, все-таки он сделал в своей жизни некоторый прогресс: 36 лет тому назад, когда он участвовал в первом в своей жизни международном турнире, в Лондоне в 1868 году, он тогда занял шестое место, и полученный приз был всего лишь пять фунтов, в три раза меньше нынешнего кельнского приза. — Какую партию сыграл он тогда против Монгредиена, — красивейшая и смелейшая партия всего турнира! — сказал о ней тогда сам Андерсен. Эта партия помогла ему остаться в Англии, той Англии, с которой ему пришлось так печально расстаться, чтобы найти новую родину, свободную и демократическую американскую республику, которая отказала ему в гроше, в подаянии, в пенсии.... Так идет жизнь. Чего же ему теперь ждать? Убедительного, яркого, эффектного финала?
Приходит этот финал, и он достаточно убедителен. Это лондонский турнир летом 1899 года, достойное завершение шахматного XIX века, вторая половина которого так тесно связана с именем Стейница. Но самый турнир, двухкруговой, при 15 участниках, среди которых все славные имена, — он мало связан с именем Стейница. Десятое место занял Стейниц на турнире со своими 12½ очками из возможных 28 (а у первого призера, Ласкера, — 23½), оставшись первый раз в жизни без приза. И малая для него радость, что он опередил своего старого приятеля и старого врага шестидесятивосьмилетнего Берда, занявшего тринадцатое место. В 1887 году, после победы над Цукертортом, Берд вызвал его на матч, на звание чемпиона мира; он даже с обидой отклонил этот наглый вызов; теперь он и Берд ближе друг к другу, чем в 1887 году. И Стейниц, наконец, убедился: слишком убедителен был финал.
О том, что было после финала, достаточно нескольких слов. Он возвращается в Нью-Йорк, заболевает острым нервным расстройством: чудится ему, что исходит из него электрический ток, коим передвигаются фигуры на доске. Его отвозят 11 февраля 1900 года в лечебницу для душевнобольных, а 12 августа того же года он умирает в стенах лечебницы.
Умер он, как передают, не расставаясь с шахматной доской. Чигорин перед смертью бросил доски и фигуры в камин. Это было жестом отчаявшегося художника. Стейниц — мыслитель и борец — умер на посту.
Вильгельм Стейниц
Шахматы — не для людей слабых духом. Шахматы требуют всего человека, полностью, и такого, кто умеет не держаться рабски за пройденное, а самостоятельно пытается исследовать их глубины. Это правда, что я тяжелый, критически настроенный человек, но как же не быть критически настроенным, когда столь часто слышишь поверхностные суждения о положениях, всю глубину и смысл которых видишь лишь после тщательного анализа. Как можно не гневаться, когда видишь, что рабски держатся за устарелые методы лишь для того, чтобы не выходить из своего мирного спокойствия. Да, шахматы трудны, они требуют работы, и меня может удовлетворить лишь серьезное размышление и ревностное исследование. Только безжалостная критика ведет к цели. Но критически мыслящий человек считается многими врагом, а не тем, кто прокладывает путь к истине. Но меня никто не свернет с этого пути».
Так говорил шестидесятилетний Стейниц в беседе с Бахманом. И не приходится сомневаться, что аккуратный Бахман с особой точностью записал именно эти слова. Они прекрасно характеризуют Стейница, но только ли Стейница? Разве не родственны они большому человеку в любой отрасли искусства мышления? Но то, что это — стейницевские слова, то, что они — жизненный лозунг профессионала-шахматиста, — наилучшее доказательство того, что и в шахматы, эту «развлекательную» как будто игру, отличающуюся от других игр лишь своей сложностью, можно вложить и несгибаемую волю, и благородную эмоцию, и честность мышления, и ненависть к оппортунизму, беспринципности, трусости, умственной и волевой вялости, — словом борьбу за элементы новой человеческой культуры. И в этом смысле шахматы стоят наравне с любой другой отраслью науки и искусства. Своим отношением к шахматам Стейниц поднял их на небывалую высоту. Это то, что сделал Стейниц для шахмат.
Но не меньше сделал Стейниц в шахматах. Об этом уже говорилось в рассказе об его жизни, — как же иначе, если жизнь его неотделима от жизни шахмат? А подводя итоги, можно сказать, что, углубя в шахматах элемент искусства, он дал им в то же время научную базу. Так называемая теория дебютов — это «первая книга для чтения» каждого квалифицированного шахматиста, и на каждой странице этой книги не один раз и не два раза встречаем мы все то же имя Стейница. И это далеко не все. Ведь теория дебютов была, с точки зрения Стейница, лишь составной частью общей концепции шахматной игры, которой придал он, как мы видели, философское звучание. Пусть вся стейницевская теория создана в процессе практической игры, т. е. не так, как с точки зрения застойной буржуазной мысли создаются «научные теории». Если провести здесь аналогию между борьбой шахматных фигурок и борьбой социальных сил, то ведь гениальнейшая теория революционного социализма создана в неотъемлемом взаимодействии с жизненной практикой, в силу чего жрецы буржуазной науки и объявили ее в свое время «ненаучной».
Вильгельм Стейниц
Специфика шахмат требовала ежедневно и ежечасно практической проверки стейницевской теории и, будучи «человеком дела» в шахматном смысле слова, он бросился мужественно и страстно в эту проверку. И в этой проверке, как говорит выдающийся шахматный теоретик Рихард Рети, «искал он не быстрых успехов, а устойчивых, прочных ценностей». Только забывал в этих поисках, что шахматы не только искусство на научной базе, но и спорт. И эта забывчивость роковым образом отражалась на его личных успехах, на количестве единиц в его турнирных и матчных таблицах. В маститой «Британской энциклопедии» говорится в статье, посвященной шахматам: «Стейниц чувствовал, что его комбинационная сила слабеет, и поэтому выдумал новую теорию, желая удержать титул чемпиона». Какая, поистине, маститая пошлость! Еще в 1895 году в Гастингсе уже шестидесятилетний Стейниц показал, какой громадной комбинационной силой он обладает; в партии с Барделебеном он провел на 21-м ходу форсированную 14-ходовую комбинацию, матующую противника. И этот свой комбинационный дар, обещавший ему быстрые, но, с его точки зрения, дешевые успехи, принес он в жертву поискам постоянных и прочных шахматных ценностей.
Облик Стейница нельзя, однако, назвать полноценным. Он был вполне человеком своей эпохи и своей среды, и судьба его определялась всем характером буржуазной культуры, и это было его бедой.
Шахматы — это «игра царей»; такое определение идет еще от средневековья, когда шахматная доска и фигуры были непременной принадлежностью рыцарского замка. В XIX веке шахматная игра несколько демократизировалась, но она не могла стать подлинно народной игрой. Кто образовывал «шахматные кадры» буржуазной Европы и Америки! Маленькая кучка профессионалов — участников турниров и матчей, и сравнительно узкий круг любителей, шахматных меценатов, представителей аристократии и буржуазии, на доброхотные даяния которых в конце-концов существовали профессионалы. Стейниц прекрасно это сознавал, и всю жизнь ненавидел меценатов. Куда бы он ни бежал от венского банкира Эпштейна, — убежать от него ему не пришлось. Ведь пришлось ему в начале своего пути услышать надменные слова Стаунтона, что «неприлично» играть в шахматы на деньги, что это «унижает благородную игру». И в самом конце пути, незадолго до смерти, пришлось ему услышать протест одного члена Манхеттенского шахматного клуба по поводу того, что членом клуба является профессионал, играющий в шахматы на деньги.
Стейниц был самолюбивый и гордый человек. И такое отношение накладывало на его личность уродующий отпечаток.
Современники Стейница постоянно удивлялись его болезненному упрямству, его упорному стремлению проводить в практических партиях некоторые созданные им, но оказавшиеся негодными дебютные варианты, его настойчивой войне против очевидности. Эта особенность характера повлияла на силу его игры, особенно в последние годы; она и мешала ему овладеть в полной мере «стилем Стейница». Конечно, зачатки этой черты были у Стейница всегда, но она Обострилась потому, что психика его была ранена той жестокой борьбой за свое человеческое достоинство, которую пришлось ему выдерживать и нужно было вести просто борьбу за существование.
Основной закон буржуазной культуры — закон конкуренции — давал себя знать и достаточно жестоко в области шахмат. И тут господствовал лозунг: падающего толкни! И тут — в области шахмат — напрасно стал бы падающий искать помощи дружеского коллектива.
А будь Стейниц членом творческого коллектива, чувствуй он вокруг себя атмосферу содружества, сотворчества, уважения к человеку, — насколько более богатой и радостной была бы его жизнь. В таких социальных условиях не было бы ему никакой необходимости в последние пять лет своей жизни метаться по свету, чтобы отвоевать свое утерянное звание, и этой позорной, но реальной необходимости искать в то же время заработка на кусок хлеба. Сколько нового и ценного мог бы он создать за эти пять лет, удалясь от практической игры и следя за тем, как внедряется в жизнь его учение. Но ему не на кого было опереться и морально и в чисто житейском плане, и он находился под невыносимым давлением буржуазно-спортивной морали и волчьих законов борьбы за существование. Удивительно ли, что в конце-концов он сломился, как сломился и Чигорин!
Из великолепного человеческого материала был сделан этот шахматист, мыслитель и борец — Вильгельм Стейниц. И не бесцельно будет подумать, какая громадная величина возникла бы из этого чудесного материала в наших условиях социалистической культуры, новой социальной морали, свободы и радости творчества, уважения к человеку.
Эмануил Ласкер — организатор побед
Si duo faciunt idem — non est idem (Когда двое делают одно и то же, это не значит, что получится одно и то же)
Латинское изречение
Необъятна литература о шекспировском «Гамлете». Мы знаем датского принца так, как если бы он жил среди нас. Но одного мы не знаем, об одном вопросе умолчали все, писавшие о «Гамлете»: неизвестно до сих пор — играл ли Гамлет в шахматы.
Впервые поставил этот вопрос не кто иной, как философ, математик, литератор и шахматист Эмануил Ласкер. В 1907 году, комментируя шахматную партию (Шпильман—Яновский), он писал: «Существует в шахматах чувство художника. И оно побуждает игроков, обладающих фантазией, противостоять искушению делать простые, очевидные, хотя и сильные ходы, и дает им толчок для создания тонких комбинаций, рожденных в борьбе против очевидного, против трюизма. Это чувство, или дар, создает иногда гениев, но вместе с тем делает обладателя его доступным тем ошибкам, какие никогда не случаются у среднего игрока. Иногда же чувство художника превращает обладателя его в Гамлета шахматной доски. Интересен вопрос — играл ли Гамлет в шахматы?
Это кажется вероятным, но если он и играл, то игра его была слабовата, хотя и насыщена творческой фантазией и стремлением сделать ход лучше, чем обычный, что так часто ведет к худшим ходам. Многочисленны Гамлеты шахматной доски. И часто погружаются они в сложнейшие шахматные комбинации, порождающие настолько глубокие идеи, что они перестают быть жизненными. И вот тогда судьба наносит им жестокий удар повседневного здравого смысла, пробуждает их от грез».
Далее Ласкер рассказывает, как Яновский, будучи принужден сделать элементарный ход, «возмущается против этой необходимости, и так как он настаивает на изящном и глубоком ходе там, где требовался простой, — терпит в итоге поражение».
Ласкер очень своеобразный шахматный комментатор. Комментируя шахматную партию, он стремится вскрыть ее внутренний сюжет, найти основное звено ее идейного строения. И не только партии, а главным образом человека, играющего эту партию. Так, в приведенном выше комментарии он вскрыл идейное содержание шахматиста Яновского. Но мимоходом помог и комментатору Ласкера, которого этот комментарий наводит на мысль: а кто же сам Ласкер? Конечно, он не Гамлет шахматной доски. Но ведь и не человек «повседневного здравого смысла». Борцом он был всю свою жизнь и умел победоносно пользоваться оружием жестокого, сухого и безличного здравого смысла. Но и мыслителем-исследователем он был, стремился в жизненной своей практике завоевать гармонию творчества и здравого смысла, осуществить синтез художника, борца. Значителен жизненный путь Ласкера, — это путь человека, со сложной идейной судьбой.
Быстрый путь
Маленькии городок Берлинхен в Восточной Пруссии, неподалеку от прежней русской границы, был в детские годы Ласкера (он родился 24 декабря 1868 г.), тихим, идиллическим местечком, окаймленным озером, лесами, пышной зеленью летом, глубокими снегами — зимою. Детство в таких городках, — если оно не сопряжено с нищетой, с жестокой борьбой за существование, начинающейся уже с малых лет, — бывает обычно легким и радостным. Не жалуется на свое детство и Эмануил Ласкер. Как и Стейниц, был он последним ребенком в семье — не тринадцатым, а четвертым, и рос он не в узких и смрадных улицах еврейского гетто, хотя, как и отец Стейница, отец Ласкера был должностным лицом в местной небольшой еврейской общине. Отец его — кантор в синагоге и религиозный проповедник — был, очевидно, человеком незаурядным: самоучка, он имел все же настолько широкое образование, что давал даже уроки по некоторым общеобразовательным предметам детям Берлинхена. Повидимому, ортодоксально религиозным, несмотря на свою профессию, он не был: характерно, что Эмануил Ласкер не получил специально еврейского религиозного воспитания и уже двенадцати лет поступил в гимназию в Берлине.
Но двенадцатилетний Ласкер не провел и года 6 этой гимназии; он на первом же году своего обучения был переведен в реальную гимназию маленького городка Ландсберг. И случилось это по причине совершенно особого свойства, причине, не имевшей, конечно, прецедента и неповторимой. Этой причиной были шахматы.
Шахматной игре обучил Эмануила Ласкера его старший брат Бертольд, с которым он жил в Берлине. Врач, литератор и сам незаурядный шахматист, он дал несколько элементарных уроков шахматной игры Эмануилу лишь тогда, когда тому исполнилось двенадцать лет, хотя уже с девяти- десятилетнего возраста рвался Эмануил к шахматной доске. Совершенно резонно Бертольд считал, зная очевидно страстную настойчивость своего младшего брата, что слишком раннее знакомство с шахматами отвлечет его от занятий и, имея сильное влияние на Эмануила, просто запретил ему прикасаться к шахматам. Опасение Бертольда оправдалось: едва ознакомившись с игрой, Эмануил фактически бросил свои гимназические занятия и проводил целые дни за доской, то с подходящими партнерами, которых легко было найти в Берлине, то занимаясь сам. В гимназию городка Ландсберг он и был переведен потому, что там было трудней найти партнеров. Но все же он нашел к концу своих гимназических годов довольно сильного шахматиста — некоего Кевица. Юный Ласкер сыграл с ним большое количество партий и часто безжалостно расправлялся со своим партнером.
Девятнадцатилетним юношей Ласкер поступает, окончив гимназию, на математический факультет берлинского университета. Способности его к математике выдающиеся; и если он к этому времени уже прекрасно играет в шахматы, то, очевидно, потому — так считает он, — что в этой игре есть некий математический элемент. Уже в самом начале его жизни шах маты тесно переплелись у него с математикой. На этом же первом своем университетском году Ласкер завоевывает свой первый шахматный успех: на любительском турнире в шахматном кафе «Кайзергоф» получает он первый приз; и в том же 1889 году, через месяц, принимает он участие в очередном турнире сильнейших любителей германского шахматного союза в Бреславле. Такие турниры германского союза устраивались каждые два года, одновременно с турниром мастеров — для сильных шахматистов первой категории; победитель на нем получал звание германского мастера. Это звание и получил берлинский студент, блестяще завоевав первое место. Карьера Ласкера-шахматиста началась. И без передышки продолжалась бурным темпом.
В июле — Бреславль. А в августе — Амстердам, первый с участием Ласкера международный турнир. Не очень сильный, но все же встречается на нем Ласкер с англичанином Берном и Гунсбергом, который вскоре после Амстердама играет матч с самим Стейницем на первенство мира, и с американцем Мэзоном — одним из сильнейших шахматистов Америки. Ласкер сводит в ничью партии с Берном и Мэзоном, выигрывает у Гунсберга, в эффектном атакующем стиле побеждает сильного венского мастера Бауэра и в общем итоге завоевывает второе место на турнире (первое — Берн), собрав 6 очков из возможных 8.
А затем начинается серия небольших матчей с мастерами средней силы. В 1889—1890 годах играет Ласкер 6 матчей — с немцами Барделебеном, Мизесом, с австрийцем Энглишем, с англичанином Бердом, Миниоти, Ли. Матчи эти происходят в Берлине, Лондоне, Вене, Манчестере, Ливерпуле; они устраиваются местными шахматными клубами, победитель получает небольшой гонорар. Во всех шести матчах победителем оказался Ласкер, выигравший из 36 игранных партий — 20, при трех проигрышах и 13 ничьих.
С марта по июнь 1890 года Ласкер в Лондоне, где он добивается новых матчей с Блэкберном, Гунсбергом и Берном. Но это не удается. Ласкер возвращается в Берлин, где участвует в июле в турнире германских мастеров, в котором играет также его брат Бертольд Ласкер, вскоре после этого отошедший от шахмат. Это был единственный турнир, в котором играли оба брата — и они поделили первое и второе место, собрав по 6½ очков из возможных 8; в турнирной партии между ними победителем оказался Эмануил.
Это было в июле, а в августе этого же года состоялся в Манчестере сильный международный турнир при 20 участниках. Но среди этих 20 не было Ласкера. Как раз в это время он принимал участие в небольшом турнире австрийских мастеров в Граце, окончившемся, впрочем, не очень удачно для него: он занял третье место. Но этот полууспех не испортил общих результатов года. Ведь всего год прошел с момента его первого выступления в Бреславле, и за один этот год он провел три турнира и шесть матчей, сыграв 58 ответственных партий, из которых проиграл только шесть. За этот год имя его стало известным в шахматных кругах Германии, Австрии, Англии, Голландии. Это был блистательный год.
И все же в манчестерском турнире Ласкер не принял участия. Там играл лучший в то время германский шахматист Зигберт Гарраш, — и одержал исключительную победу, не проиграв ни одной партии, собрав 15½ очков из 19, опередивший Блэкберна, занявшего второе место. И приблизительно в таком же стиле была победа Тарраша в международном турнире мастеров в 1889 году, в том же Бреславле, где играл Ласкер. Казалось бы, какой заманчивой должна была показаться Ласкеру перспектива встретиться с Таррашем, хотя бы в турнире! Но этой встречи он по меньшей мере не искал. Потому ли, что неуспех в ней — рассчитывать на успех тогда, на первом году своей шахматной деятельности, он вряд ли имел основания — мог помешать осуществлению его плана, который в общих чертах он уже себе наметил? Это было более чем возможно: важнейшей чертой жизненного стиля Ласкера было не только то, что он побеждал, но главным образом то, что он планомерно организовывал свои победы. И его быстрый путь был в то же время осторожным путем.
Во второй половине 1891 года Ласкер снова в Лондоне и с некоторого рода официальным поручением: он является представителем германского шахматного союза на открывающейся в Лондоне германской промышленной выставке. Он дает сеансы одновременной игры, укрепляет свою связь с английскими шахматными кругами, подготовляя свой решительный жизненный ход.
В начале 1892 года он окончательно покидает Берлин, и, переселившись в Лондон, становится шахматным профессионалом.
А его университетские занятия? Его любовь к математике? Не повторяет ли его судьба в своем внешнем ходе судьбу Стейница? Аналогия как будто полная: Стейниц в свое время также бросил занятия в высшем политехникуме, став шахматным профессионалом, и переселился в Лондон.
Но при внешней аналогии — какой глубокий внутренний контраст!
Согласно собственным своим высказываниям, Ласкер именно для того стал шахматистом-профессионалом, чтобы получить возможность заниматься основным своим жизненным делом — математикой и философией. Для того чтобы быть в состоянии заниматься любимым делом — математикой — и не в качестве учителя гимназии, а в качестве самостоятельного исследователя, — Ласкер хотел добиться материальной независимости; ближайшим путем к ней он считал шахматную карьеру, т. е. использование в материальных целях своего выдающегося шахматного таланта, в наличии которого был он в это время уже уверен. Опасения его брата Бертольда не сбылись: шахматная игра не мешала, а помогала осуществлению жизненных целей Эмануила Ласкера.
И он никогда не скрывал, что играет в шахматы также и из-за денежного интереса. Более того, всегда подчеркивал с резкой откровенностью и максимальной ясностью, что считает свое участие в турнирах, свою игру в матчах — тяжелым трудом, который должен быть соответственно оплачен.
Это и создало ему впоследствии репутацию тяжелого в денежных делах человека: буржуазная среда, в которой он всю свою жизнь вращался, была шокирована его откровенностью. Обслуживаемый людьми искусства буржуа, а особенно европейский буржуа, вменяет им в обязанность демонстрировать, хотя бы лицемерно, свою материальную незаинтересованность и обижается, когда человек искусства разговаривает с ним на языке денег. Но Ласкер, как бы отметая мещанские традиции, настойчиво разговаривал с шахматными меценатами энергичным деловым языком. В 1922 году, объясняя, почему так долго не мог состояться его матч с Капабланкой, он писал:
«Я был готов играть матч с любым претендентом, лишь бы только шахматный мир пожелал видеть этот матч, и готов был подтвердить это желание не только словами, но и жертвами со своей стороны. Я отнюдь, конечно, не желал быть объектом эксплоатации. Мне угрожала участь шахматистов, которые либо умирали с голоду, как Кизерицкий, Цукерторт, Мэкензи, либо, подобно Пильсбери и Стейницу, попадали на общественное призрение и, опустившиеся, в душевном расстройстве, кончали свою жизнь в больнице. Я готов был отдать мое искусство и мысль шахматному миру и тем оживить его, содействуя развитию игры, но я требовал, чтобы он взял на себя ответственность за это и нес ее до конца».
Обосновавшись в Англии, Ласкер не теряет ни минуты. Несомненно, что уже в этот период он ставит себе ясную цель — достичь максимальных вершин на шахматном пути, т. е. добиться звания чемпиона мира. Смелая мечта у двадцатидвухлетнего юноши, хотя и добившегося за один год прекрасных результатов, но особых «шахматных чудес» в стиле Морфи все же не показавшего! Но смотрите, с какой железной планомерностью он подготовляет осуществление своей смелой мечты.
Звание чемпиона уже много лет сохраняет престарелый Стейниц. Но он в Америке, матч с ним может организовать только американский шахматный мир. А путь в Америку — признание американских шахматистов — лежит через Англию; этот путь проделал в свое время и сам Стейниц. И кроме того из нескольких десятков европейских мастеров — пятерых может он считать своими соперниками: Тарраша, Чигорина, Блэкберна, Гунсберга, Мэзона. Но из них — трое последних англичане, Чигорин — в России, готовится ко второму матчу со Стейницем, а Тарраш — о нем речь впереди. Итак, завоевание Англии — вот первая задача.
И вот, уже с марта 1892 года, едва только поселившись в Англии, Ласкер добивается права участия в национальном английском турнире. Блэкберн решительно протестует: ведь Ласкер — не англичанин! Но репутация Ласкера, основанная, очевидно, на успехе его матчей 1890 года и гастролей 1891 года, так велика, целеустремленность его настолько импонирует, волевой натиск настолько непреодолим, что в ультиматуме, поставленном Блэкберном — «Ласкер или я», — побежденным оказался англичанин: турнир состоялся при участии Ласкера, но без Блэкберна и принес Ласкеру грандиозную победу — из 10 партий он выиграл 8 при 2 ничьих, опередив второго призера Мэзона на 2 очка.
Дальше события развиваются почти с математической точностью. Следует матч-турнир (в апреле 1892 г.) при участии четырех сильнейших англичан: Блэкберна, Гунсберга, Мэзона, Берда и Ласкера. И снова Ласкер торжествует. По две партии играют друг с другом соперники; Блэкберн выигрывает все партии у англичан и проигрывает обе Ласкеру, который выигрывает в общем пять партий и делает три ничьих, заняв первое место с 6½ очками. Матч между Блэкберном и Ласкером теперь неизбежен. В мае того же года состоялся этот матч, и Ласкер не может пожаловаться на его результаты, добившись шести выигрышей при четырех ничьих,
В трехмесячный срок решена первая задача — Англия завоевана! Стейницу понадобилось на это три года. Но Стейниц умел по плану только играть, а Ласкер умел планомерно и целеустремленно жить.
Каков же дальнейший этап большого плана? Называется этот этап — Зигберт Тарраш. Тарраш, нюренбергский врач, современник Ласкера (родился в 1862 г.), соперник его на протяжении 20 лет, имел как будто все данные для того, чтобы стать в свое время чемпионом мира. Но чемпионом он не стал, хотя и боролся серьезно за это звание. Не потому, что нехватало у него честолюбия, — оно переходило даже в самомнение, — а потому, как сказал бы Ласкер, что «человеческое» в нем не соответствовало «шахматному», что Тарраш-человек не был на уровне Тарраша-шахматиста.
Тарраш великолепно начинает свой шахматный путь. Три первых приза подряд в сильнейших европейских турнирах: в Бреславле в 1889 году, в Манчестере в 1890 году, в Дрездене в 1892 году. Во всех трех турнирах из общего количества 52 партий он проигрывает только одну второстепенному игроку. После Манчестера гаваннский шахматный клуб предлагает организовать его матч со Стейницем на звание чемпиона мира. Он отказывается, хотя понимает, конечно, что имеет все шансы на победу. Но ему не хочется ехать в далекую Гаванну, ему жалко бросить, хотя бы на время, свою нюренбергскую врачебную практику, он, очевидно, полагает, что звание чемпиона придет к нему само собой. Он не борется — он гурман. Он хочет извлекать удовольствие из своего шахматного таланта, ничего ему не принося в жертву. А талант требует жертв, и тем больших, чем больше талант. Этот закон прекрасно понимал Ласкер.
В мае 1892 года Ласкер направляет Таррашу вызов на матч. Тарраш отклоняет вызов: пусть Ласкер сначала покажет такие же успехи, как он, Тарраш. Что это — тщеславие? Хуже того: близорукое тщеславие. Ведь не мог же не видеть Тарраш, что из всех его современников самый опасный молодой Ласкер.
Значит, этап пути, называющийся Зигберт Тарраш, для Ласкера пока непреодолим, и не по его, Ласкера, вине. Что ж, думает Ласкер, обойдем, минуем этот этап.
Но в Англии Ласкеру уже больше нечего делать. Он шутя выигрывает мимоходный матч со стариком Бердом (пять выигранных подряд партий) и готовится в дальнейший путь — в Америку.
Что представлял тогда собой этот молодой человек? В жизни был он сух, холоден, корректен, лаконичен — так описывают его современники. Он импонирует, заставляет себя уважать, но не очаровывает, не сверкает. А в шахматах? Но и тут он холоден, сух, корректен, лаконичен. Особого блеска, яркого цветения индивидуальности, неожиданного взлета фантазии не видно в его игре. Прекрасно освоив теорию, извлекши все возможное из учения Стейница, он просто очень сильно играет, редко допуская ошибки, но энергично используя ошибки противников. «Ласкер корректно играет дебюты, мастер миттельшпиля и очень тонко проводит эндшпиль», — пишет о нем английский «The Field» в 1893 году. Он завоевывает очки и призы, но не завоевывает сердца.
И одно специфическое обстоятельство позволяет говорить о нем на языке буржуазного лицемерия, как о шахматном коммерсанте: он тщательно охраняет свои материальное интересы. Прибыв в Нью-Йорк в октябре 1892 года, он тут же вызывает на матч всех американских мастеров, но требует высокий по тем временам гонорар (для победителя матча) — 375 долларов.
Американский шахматный мир несколько шокирован «жадностью» молодого мастера, но Ласкер не смущен. Он готовится к решительной борьбе и понимает, что наличность материальных средств ему нужнее, чем симпатии господ меценатов.
Матчи эти не состоялись, но в Манхеттенском клубе Ласкер сыграл по три партии с сильнейшими игроками клуба, выиграв из 21 партии — 18. Не меньший успех имел он в Филадельфии и, наконец, в Гаванне, где он разбил сильнейших кубинцев — Васкеца и Гольмайо. В апреле 1893 года он разгромил в матче сильнейшего американского мастера Шовальтера (5 выигрышей при 1 проигрыше и 1 ничьей), а в октябре играл в нью-йоркском, не особенно, впрочем, сильном турнире, где добился неплохого результата, выиграв из 13 игранных партий — все 13! Лишь одному шахматисту удалось через 20 с лишним лет побить этот рекорд; имя этого шахматиста — Капабланка.
Нетрудно догадаться, что после таких побед совершенно естественно возник вопрос о матче Ласкер—Стейниц. Организация его натолкнулась на трудно преодолимые препятствия и не только денежного свойства, хотя и они играли здесь не последнюю роль. Все же матч состоялся не в Гаванне, климат которой был непереносим для европейских шахматистов (Чигорин!), а в городах с умеренным климатом — Нью-Йорке, Филадельфии, Монреале. И затем, поскольку Ласкеру не удалось собрать 3 тысячи долларов — первоначально назначенная ставка матча, — Стейниц согласился снизить ее до 2250 долларов.
Исход матча нам известен. Двадцатичетырехлетний шахматист в пять лет прошел длинный путь от скромного любителя до чемпиона мира. Для него этот длинный путь оказался легким и быстрым путем, на котором словно и не было разочарований, препятствий, борьбы. Все это произошло очень просто — если судить по внешности, слишком просто. И первая реакция шахматного мира на это значительнейшее событие — была реакция ожесточенного недоверия. Лишь значительно позже понял шахматный мир, что грандиозность замыслов при кажущейся простоте их осуществления — это и есть стиль Ласкера.
От обороны к нападению
Отношение шахматного мира к итогу матча целиком укладывалось в естественно напрашивающуюся формулу: не Ласкер выиграл, а Стейниц проиграл. Аноним в русском журнале «Шахматы» (редактировавшемся Чигориным) писал: «Есть люди, готовые передать падающую с седой головы Стейница корону — Ласкеру, — человеку, который не выходил еще победителем ни на одном из международных шахматных состязаний. Мне кажется, спешить так не следует». И далее: «Шахматная республика, вот истинное выражение, характеризующее современное положение шахматного мира».
Энергичную атаку против Ласкера повел, конечно, Тарраш, пожалуй, пожалевший теперь о своем горделивом отказе от матча в 1892 году. И как опытный тактик, Тарраш повел атаку обходным движением; он всячески пытался принизить игру Стейница в матче. «Неужели же так играет тот самый человек, который был удивительным героем многих шахматных состязаний, шахматным королем в течение более чем четверти столетия?» — писал он о Стейнице.
Другой немецкий шахматист, Барделебен, пытался анализировать игру Ласкера: «Игра Ласкера не отличается глубиной замыслов, характеризующих игру Стейница, и несколько раз случалось, что он не мог разгадать скрытые идеи противника, например во 2-й и 7-й партиях. С другой же стороны, игру Ласкера характеризует совершенно исключительная солидность. Его игра абсолютно свободна от просмотров, и это является главной причиной его победы над Стейницем. Следует отметить также ту особенность Ласкера, что, оказавшись в плохом положении, он хладнокровно и стойко продолжает борьбу, создавая противнику максимальные трудности, в то время как большинство игроков в плохом положении теряют самообладание и, сделав ошибку, ускоряют свой проигрыш. Дебюты Ласкер в общем разыгрывает корректно, но не проявляет остроты и иногда оставляет неиспользованными ошибки противника. В целом можно сказать, что Ласкер в полном смысле слова является последователем современного направления; его игра мало агрессивна, комбинации его лишены блеска, но он обладает здоровым пониманием позиции, его игра прежде всего отличается крайней осторожностью; поэтому очень трудно успешно провести против него атаку. Защиту он ведет с большим искусством, чем атаку. Атакует он обычно только тогда, когда обладает явным преимуществом, или если оказывается в худшем положении и игра на защиту не оставляет никаких надежд».
Характеристика эта была в общем верна, но элементарна, непрозорлива. Не могли или не хотели увидеть комментаторы одной особенности игры Ласкера, проявившейся, правда, лишь в зачаточном состоянии, но уже и в этом матче: не заметили «психологического» метода его игры, который впоследствии называли «гипнотическим» и даже «колдовским», — о нем еще придется говорить. Но кроме того не дали себе труда комментаторы внимательно проследить за ходом матча и не видели потому весьма характерных вещей, свидетельствовавших, что дело было не только в «солидности» и «корректности» ласкеровской игры.
Они не заметили, что после того, как Ласкер выиграл подряд пять партий матча, с 7-й по 11-ю, выиграл благодаря непростительным промахам противника, — проигранную им 14-ю партию Ласкер играет гораздо сильнее, чем те пять. А 15-ю, 16-ю и последнюю партию матча, 19-ю, Ласкер проводит с силой чрезвычайной. Но ведь эти последние несколько партий и Стейниц играл несравненно лучше, чем весь матч: выигранные им 14-я и 17-я партии относятся к числу лучших его достижений. Нетрудно было, стало быть, заметить, что игра Ласкера видоизменялась в течение матча, что сила его росла по мере того, как росла сила его противника. Но этого не заметили: недоброжелательным комментаторам казалась совершенно достаточной для объяснения характера матча банальная формула — старость побеждена молодостью.
И очень ясен был короткий смысл всех длинных речей по поводу матча: Ласкеру нужно еще доказать, что он подлинный чемпион мира. И уж во всяком случае Ласкеру нужно доказать, что он сильнее Тарраша, снова (четвертый раз подряд) взявшего в этом же 1894 году первый приз в лейпцигском международном турнире.
Но захочет ли Ласкер это доказать?
Он мог и не захотеть. Если цель его шахматной деятельности состояла только в том, чтобы добиться звания чемпиона, если он к этому званию стремился только для того, чтобы обеспечить себе материальную независимость и получить возможность заняться своим любимым делом — математикой, — то ведь все это уже достигнуто в кратчайший срок и даже без особой затраты энергии. Жизнь могла бы теперь пойти по другому пути: можно было давать в Америке и в Европе сеансы одновременной игры, заниматься литературно-шахматной деятельностью, отойдя в то же время от требующей громадного напряжения серьезной борьбы. Укоры шахматного мира? У Ласкера был достаточно сильный характер, чтобы с ними не считаться, — он это доказал потом не раз. Линию своей жизни расчерчивал он сам, и ничто не могло заставить его изменить, хотя бы сдвинуть направление ее.
Но Ласкер не пошел по этому пути. Как бы наперекор своим житейским планам, он стал с особой страстью и серьезностью заниматься шахматами.
Вскоре после матча он возвращается в Берлин. Но он и не думает о возобновлении занятий в университете, где он пробыл всего четыре семестра. После короткого пребывания в Германии — он снова в Лондоне. Здесь он публикует свою первую шахматную книгу — «Здравый смысл в шахматах», составленную из прочитанных им весной 1895 года лекций лондонским шахматистам. Он занимается в Лондоне и общественно-шахматной деятельностью, осуществляя свое исконное стремление, высказанное им впоследствии: поставить звание шахматного мастера на такую же высоту, на какой находится мастер, талант в любой отрасли искусства и науки.
Серьезная борьба не заставила себя ожидать.
Летом 1895 года петербургское шахматное общество приглашает его в Петербург — очевидно для переговоров об устройстве матча с Чигориным. Предложение отклонено, ибо уже выработан организационный план знаменитого гастингского турнира, на котором должно было вскрыться, кто же такой, в конце-концов, этот Эмануил Ласкер: человек, которому везет, как уже начали тогда говорить о нем, или это человек, который действительно заслужил свой успех? Лишь в значительно более поздние годы понял шахматный мир, что в личности Ласкера объединяются оба эти момента, что Ласкер тот человек, который заслужил, чтобы ему везло.
Начавшийся 5 августа 1895 года гастингский турнир был не только первым большим международным турниром, в котором участвовал Ласкер, но и первым, где он встретился с Чигориным и с Таррашем, с Пильсбери, Яновским и Шлехтером, с этими именами, так много значившими в жизни Ласкера. Шестым в этой группе был Стейниц. И для каждого из них значительной жизненной вехой, чертой итогов, знаком новых начал был этот турнир.
Тарраш — человек громадного, сжигавшего его честолюбия, знавший моменты подлинного шахматного вдохновения, но еще более знакомый — в дальнейшей своей жизни — с длительными периодами слабости и прострации, стремившийся быть в шахматах то мыслителем, то художником, то борцом, но не умевший быть до конца ни первым, ни вторым, ни третьим и становившийся педантом. Но тут, в Гастингсе, после четырех победных для него турниров, после трудного матча с Чигориным (1893), сведенного им в ничью, здоровый, тридцатитрехлетний, в лучшей форме он хочет — в качестве ли художника, борца или мыслителя, но быть первым в турнирной таблице. И кто же помешает ему? Старый Стейниц не может помешать ему — ведь он так ослабел. Но в таком случае не помешает ему и этот молодой и заносчивый Ласкер, этот псевдочемпион, победивший старика только потому — в этом честно был уверен Тарраш, — что тот уже так ослабел. Чигорин? Да, конечно, Чигорин грозен всегда, но знает Тарраш, как часто бывал Чигорин и в матчах и в турнирах так близок к победе и срывался. Как противника в партии — всегда нужно бояться Чигорина, как соперник в турнире — Чигорин не так опасен. Да, Тарраш имеет право ждать победы в этом турнире.
Чигорин. Он знает, что от него шахматный мир ждет больше, чем от Тарраша и, конечно, больше, чем от Ласкера и поверженного Ласкером Стейница. Этого последнего знает он, как противника, наизусть: успел ознакомиться и с Таррашем. Ему конечно знакомы партии и нового чемпиона мира... Чигорин не видит в этих партиях какого-то нового слова и не замечает в них яростных взрывов художнического вдохновения, которые если не всегда, то так часто свойственны ему. Солидная, корректная игра — конечно. Американско-германский практицизм? Не лежит к нему душа у Чигорина, но не может он не сознавать, как полезен этот практицизм в моменты, когда слабеет фантазия и бессильно повисают крылья творчества... Неужели же торжество чистого вдохновения — это всего лишь иллюзия, старая иллюзия этой старой игры?
Ласкер. То, что завоевывается легко, то трудно защитить. Ласкер это понимает, и его философский ум не возражает против этого закона. И, считая себя волевым человеком, он не намерен уклоняться, обходить этот закон: все обязательства, накладываемые званием чемпиона, он выполнит. Будет ли он победителем? Этого он не знает, но знает, что если останется побежденным, то лишь окрепнет его воля к борьбе. И если в этот период жизни Ласкера уже начал складываться его взгляд на шахматы как на школу борьбы, то он уже сознавал, конечно, что нельзя стать профессором в этой школе, не пройдя искуса ученичества. Но тогда не мог он возражать против того, чтобы на этом турнире оказаться учеником — и как шахматисту и как человеку.
Эти трое в глазах шахматного мира были кандидатами на первое место. Это сознавал наедине с собой и старый Стейниц. Так считали и молодые Шлехтер и Яновский.
Давид Яновский — красивый, элегантный молодой человек, умевший с исключительным талантом придавать каждой шахматной партии свойственный его натуре азарт, — был, конечно, высокого мнения о себе, но пока еще не настолько, чтобы претендовать на первое место в шахматном мире; в дальнейшем он претендовал на это.
А Карл Шлехтер? Невзрачный, тихий и скромный человек, вообще никогда не покушавшийся на первые места.
Эти в корне различные оценки своих возможностей у этих двух людей и привели через десяток с лишним лет к тому, что первый столь же усердно, сколь и безуспешно, пытался вырвать у Ласкера звание чемпиона, а второй — как бы случайно и ни на что не претендуя, — чуть было это звание не вырвал. Но теперь, в Гастингсе, и Яновский, и Шлехтер себя кандидатами на первое место не считали.
И нерешенным должен остаться вопрос, как относился к своим шансам самый молодой участник турнира, двадцатитрехлетний американец Гарри Нельсон Пильсбери. Он вообще участвовал в первый раз в международном турнире, он и с шахматами ознакомился сравнительно поздно — лишь шестнадцатилетним юношей. За ним числились некоторые довольно значительные успехи, достигнутые на американских состязаниях. Однако еще в 1893 году на нью-йоркском турнире, где Ласкер выиграл 13 партий из 13, Пильсбери был лишь седьмым. Приглашение его в Гастингс было, вероятно, просто актом вежливости гастингского шахматного клуба по отношению США.
А что мог сам Пильсбери сказать о себе? — Что он был учеником Стейница, но учеником, понявшим, чего нехватает его учителю.
В турнире было 22 участника. Каждый сыграл 21 партию. И после 17 сыгранных партий трое оказались во главе турнира, с 13½ очками у каждого. Кто эти трое? Ласкер. Чигорин. А третий? Нет, третий был не Тарраш. Третьим был Пильсбери. Из 17 партий выиграл он, игравший в первый раз в жизни в сильнейшем международном турнире, — 12, при двух поражениях (от Чигорина и Ласкера) и трех ничьих. Два поражения потерпел из 17 партий Чигорин (от Стейница и Шифферса) и два Ласкер (от Чигорина и Барделебена). У Тарраша, стоявшего четвертым, выиграли и Пильсбери и Чигорин.
Наступает 18-й тур. Резко меняется положение: Пильсбери терпит третье поражение от Шлехтера, Чигорин делает ничью, Ласкер выигрывает и стоит во главе турнира с 14½ очками (14 у Чигорина, 13½ у Пильсбери). А в 19-м туре Ласкер играет с Таррашем, о чем вывешен громадный плакат У входа на турнир. Партия принимает ничейный характер, и Тарраш, концентрируя всю силу своей ненависти (шахматной) к чемпиону мира, делает ход, которым, по словам комментатора, «хотя и ставит в опасность собственную партию, но провоцирует противника на ошибку». Провокация удается — Ласкер проигрывает партию. А Пильсбери и Чигорин выигрывают свои. Итак у Ласкера 14½, у Пильсбери 14½, у Чигорина 15. Играть осталось два тура. И Пильсбери выигрывает в обоих, имея 16½ очков. Чигорин выигрывает одну и проигрывает другую, грубым зевком, против Яновского. Ласкер, деморализованный проигрышем накануне (подобный случай больше не будет иметь места в его жизни), проигрывает одну из двух, и кому? — старому Блэкберну, которого он всегда так сокрушительно побеждал. И занимает лишь третье место в таблице с 15½ очками — с 14 выигрышами, 4 проигрышами, 3 ничьими. Четыре проигрыша! Это много, очень много. За следующие 40 лет, вплоть до Цюриха, до 1934 года, — этого больше не случится с Ласкером, ибо уже в Гастингсе научился он тому качеству, которое прекрасно сформулировал потом тот же Тарраш: Ласкер может потерять партию, но никогда не теряет голову!
Лавры турнира делят Пильсбери и Чигорин. Американец занял первое место, опередив Чигорина на пол-очка, но зато Чигорин выиграл и у него, и у Ласкера, и у Тарраша, занявшего 4-е место с 14 очками. И притом один из его проигрышей — Стейницу — результат грубой оплошности при выигранном положении.
Итак, турнир много выяснил, но еще больше запутал. И выяснил, между прочим, — как писал со злобной иронией Тарраш, — что «третий призер Ласкер в первый раз доказал, что он сильный игрок. Все его предыдущие успехи были раздуты беспримерной рекламой выше всякой меры. Матч его со Стейницем, по моему мнению, не имеет того значения, которое хотят ему приписать». Тарраш, самолюбие которого было вздыблено неудачей в Гастингсе, не стеснялся, как видим, ни в своих чувствах, ни в форме их выражений. Но Ласкер не мог не признаться, что по существу Тарраш прав: что он, Ласкер, сильный шахматист, Гастингс это доказал, но отнюдь не доказал того, что он первый шахматист.
Кто же, все-таки, первый шахматист? К трем претендентам — Ласкер, Чигорин и Тарраш — присоединился четвертый — Пильсбери. Но и старый Стейниц, со своим пятым местом в Гастингсе, не отказывался от дальнейших боев. И петербургское шахматное общество поступило весьма разумно, решив организовать вместо предполагавшегося матча Ласкер—Чигорин — матч-турнир этих пятерых. Вскоре после Гастингса, в декабре 1895—январе 1896 годов, состоялась петербургская битва. Но между четырьмя, а не пятью: Тарраш не участвовал в ней и этим показал, что то качество бойца, которое Ласкер ценит выше всего, — умение мобилизовать себя в нужный момент — у него отсутствует.
Но и двое из тех, что были в Петербурге — Чигорин и Пильсбери — уже не представляли собой неразрешимой проблемы для острого взгляда Ласкера, понимавшего в тот момент, что нет проблемы шахматной партии без проблемы шахматиста. Проблема Чигорина была исчерпывающе решена: Ласкер разгромил его, проиграв из шести партий лишь одну, при трех победах и двух ничьих. И на самом деле: после Петербурга встретились они еще в шести партиях, и четыре из них выиграл Ласкер при двух ничьих. Но уже после Петербурга понял Ласкер: Чигорин ему не соперник.
Петербургский матч-турнир 1895/96 гг.
Слева направо: Ласкер, Чигорин, Стейниц, Пильсбери
Внешних данных для решения проблемы Пильсбери петербургский турнир как будто не дал: ведь из шести партий Ласкер выиграл у него лишь одну при трех ничьих и двух поражениях... Но видел шахматный мир и видел Ласкер, что если в первой половине турнира набрал Пильсбери из 9 партий — 6½ очков, то во второй половине 9 партий дали ему лишь 1½ очка, и окончил он третьим, отстав на 3½ очка от Ласкера, на 1½ от Стейница. Пильсбери, взлетев на вершину, стремглав упал с нее, в то время как Ласкер мерным и верным шагом шел в гору: 5½ очков после первой половины, 6 — после второй. Не на самомнении, а на реальности могла, стало быть, базироваться внутренняя уверенность Ласкера, что он сильнее.
В каком же свете предстала перед Ласкером проблема Пильсбери?
Этот талантливейший ученик Стейница возродил понятие шахматного «блеска», отрицавшееся Стейницем, но возродил его не на чигоринской, а на стейницевской основе. Он показал, как выигрывают комбинационно спокойную закрытую позиционную партию, как возникает победная буря из кажущейся идейной тишины. И тут, в умении выиграть эффектно, сенсационно он был сильнее Ласкера того периода. Но выиграть тихо, незаметно, готовить победу так, что она падает, словно яблоко с дерева, — это если и умел, то не любил Пильсбери. Играть — для него означало демонстрировать себя, свой шахматный гений. Не законами борьбы, а законами сенсации руководствовался Пильсбери. Отсюда и возникла его страсть к эффектным сеансам — он был рекордсменом игры вслепую; он ухитрялся играть одновременно вслепую 16 шахматных партий, несколько партий в шашки, также вслепую, и в то же время сидеть с партнерами за партией бриджа. Такое «расточительство гения» было в корне чуждо ласкеровскому духу, даже, можно думать, шокировало ту суровую мораль борьбы, носителем которой Ласкер является. И такого соперника мог он считать подчас грозным, моментами — непреодолимым, но, во времени, несерьезным.
Беспутство не прошло даром гению, Пильсбери надорвался. 1895—1896 годы — вершина его успехов. Он рано умер — в 1906 году, но все эти оставшиеся годы он безуспешно догонял Пильсбери 1895 года — и догнать не мог. Он догонял себя, а Ласкер шел вперед.
Уже после Петербурга не было места для язвительной иронии Тарраша. А после Петербурга был, в том же 1896 году, — Нюренберг.
Тут, в городе Тарраша, где он был председателем местного шахматного клуба, поставившего себе целью организовать турнир еще сильней, чем в Гастингсе, эта большая пятерка встретилась опять. Снова тут был Яновский и снова, как бывает на каждом турнире, новички — молодой венгерец Геза Мароци, молодой чех Харузек, в общем 19 человек.
Распределение мест на этом турнире резко отличается от гастингского. На далекое, девятое место отпадает Чигорин, а на втором месте в таблице — молодой Мароци с 12½ очками. Пильсбери, вместо первого места, занимает третье и четвертое, деля его с Таррашем — по 12 очков, и на пятом месте находится Яновский — 11½ очков.
Опередив на очко второго призера, таблицу возглавляет Ласкер, взявший блестящий реванш за гастингское поражение при встрече с Таррашем.
Петербург и Нюренберг — достаточное доказательство даже для Тарраша. Чемпион защитил свое звание. И больше того: шахматный мир убеждается, что ни Чигорин, ни Тарраш, ни Пильсбери как соперники ему более не страшны, — их песня в этом смысле спета. Таррашу приходится утешаться тем, что в выпущенном под его редакцией сборнике партий нюренбергского журнала помещена любопытная таблица — таблица «везения», устанавливающая, какое количество партий у каждого было спасено от проигрышей или выиграно благодаря «счастью», «везению». И в этой таблице на первом месте стоит Ласкер: по мнению редактора сборника, целых пять очков было ему подарено партнерами, проигравшими либо выигранные, либо ничейные партии, благодаря грубым ошибкам.
Спорить с этим утверждением было трудно. Но Ласкер и не спорил. Он не возражал против? того, что и счастье является фактором в борьбе. Но и этот фактор нужно уметь организовать — этого Тарраш не понимал.
И все же полного удовлетворения результат турнира не мог доставить Ласкеру. Он проиграл три партии — Пильсбери, Яновскому, Харузеку, проиграл, будучи разгромленным бурной атакой во всех трех случаях. Над этим стоило призадуматься: следовательно, в его игре еще чего-то нехватало, значит, защитительные его методы еще не на полной высоте. Тем лучше, — значит, есть еще чему учиться.
Эмануил Ласкер в 1896 году
Мы не знаем, учится ли он, но знаем, что последующие два года он не участвует в турнирах, сыгравши, в порядке формальности, матч-реванш со Стейницем. Трагический результат его для Стейница известен. Затем гастрольная поездка по Англии с небывалым за всю историю результатом — из 152 сыгранных партий лишь два проигрыша при семи ничьих. Гастрольная поездка в Голландию, и двадцатидевятилетний чемпион удаляется в уединенный Гейдельберг для отдыха, как полагает шахматный мир. Ласкер упорно отдыхает. Он не участвует в будапештском, берлинском, кельнском и даже в венском турнире летом 1898 года. А это был грандиозный турнир. В Вену съехались 19 чемпионов, и из двух кругов состоял турнир, т. е. 36 партий нужно было сыграть каждому. На турнире были Тарраш, Пильсбери, Яновский, Чигорин и Мароци. Все — кроме Ласкера. И когда первые два места поделили между собой Тарраш и Пильсбери, с 27½ очками каждый, причем Тарраш проиграл только две партии из 36 (на третьем месте был Яновский с 25½ очками), не мог не возникнуть снова вопрос: а как же чемпион? Ведь такого успеха в турнирах он еще не имел. 27½ из 36 — это 75 процентов.
Тогда Ласкер решает перейти от обороны к нападению. Он соглашается принять участие в лондонском турнире 1899 года, заканчивающем XIX век. В Лондоне играют 14 человек по две партии. Кроме Тарраша — все корифеи налицо.
Ласкер начинает вяло. Из первых 4 партий — две ничьи, одна победа, одно поражение. А из остальных 22 партий — 17 выигрышей при 5 ничьих. И в итоге 18 побед, 7 ничьих, 21½ очко из возможных 26, т. е. 83 процента. Такого успеха не знал ни один шахматист XIX века. На втором, третьем, четвертом местах оказались с одинаковым количеством очков (17) Мароци, Пильсбери, Яновский, отстав от Ласкера на 4½ очка. Этот рекорд остался непобитым в течение 30 лет (Алехин в Сан-Ремо). После него они были лучшие — в этом никто не сомневался, — но только после него. И когда Яновский вскоре после турнира решается вызвать Ласкера на матч, он не может собрать тех 8 000 марок, которые потребовал Ласкер в виде ставки. Матч не состоялся — шахматный мир не верил больше Яновскому.
И, оказывается, был прав в своем недоверии. Вскоре после лондонского состоялся (летом 1900 г.) парижский турнир при 17 участниках. И если Ласкер даже улучшает в процентном отношении свой лондонский результат — 14½ очков из 16 партий, — то Яновский оказывается на 11 месте. Пильсбери остается вторым, с 12½ очками, а на третьем и четвертом местах с 12 очками — Мароци и новичок, американец Фрэнк Маршалл, единственный выигравший у Ласкера. Это было воспринято как сенсация: сенсационным казалось, что Ласкер может проиграть хотя бы одну партию.
Так закончилось первое десятилетие ласкеровского шахматного пути. И если быстрым был путь первого пятилетия — от любителя до официального чемпиона мира, — то путь второго пятилетия — от иронического непризнания до всеобщей уверенности в том, что в Ласкере шахматный мир встретился с сильнейшим из когда-либо живших шахматистов, — был путем непрерывного штурма.
Казалось неожиданным, что шахматист может так расти, уже достигнув звания чемпиона мира. Но еще большую неожиданность готовил Ласкер.
В том же 1900 году шахматный мир узнал, что Эмануил Ласкер, чемпион мира по шахматам, прошедший 4 семестра математического факультета берлинского университета, блестяще защитил при эрлангенском университете диссертацию на звание доктора философии и математики, получив это звание «cum grano laude» — «с высшей похвалой».
Жизненный замысел Ласкера удался: шахматы в качестве профессии дали Ласкеру материальную возможность и необходимый досуг, чтобы заняться тем, что он считал и считает основным делом своей жизни, и достигнуть в этом деле значительных успехов. Это было чисто ласкеровское решение проблемы двух профессий. И если человек отдается шахматам целиком, — то в условиях буржуазной культуры он становится их пленником. Это знали Стейниц и Чигорин и другие с менее видными именами, которые были одержимы этой страстью, коверкавшей, уродовавшей, ломавшей их жизнь в тех, достаточно частых случаях, когда не умели они создать мирное сосуществование двух профессий. Известны случаи, когда уравновешенные натуры достигали некоторой гармонии между своей шахматной страстью и своей жизненной профессией: таким был Филидор — профессионал-музыкант и шахматист, таким был Видмар, по профессии видный инженер, и Макс Эйве — учитель математики, — оба выдающиеся шахматисты-любители. Но никогда, и до и после Ласкера, не встречалось, чтобы шахматист-профессионал имел другую, официально любительскую, но по существу — основную профессию. Основную, ибо согласно повторным высказываниям Ласкера, основным своим жизненным делом он считает философию и математику. И факты его жизни это подтверждают: математические работы Ласкера являются подлинным вкладом в науку, об этом свидетельствует хотя бы избрание его почетным членом математического института Академии наук СССР.
Итак, перед нами человек двух профессий, из коих его фактическая, т. е. дающая ему средства к жизни, занимающая основное его время, является лишь добавочной, а любительская — основной. Такие ситуации встречались не раз в жизни больших людей: вспомним хотя бы Бородина, профессора Военно-медицинской академии и великого музыканта. «Но, — писал в своих письмах Бородин, — у меня музыка — отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего настоящего дела — профессуры, лекций. Но что же является «отдыхом», «потехой», «блажью» для Ласкера — его шахматные занятия или его философские занятия? Ограничимся пока лишь постановкой этого вопроса.
Кто следующий?
Тридцатилетний чемпион и доктор философии не умеет отдыхать на лаврах. Этот невысокий сухощавый человек с еще молодым, но очень серьезным и несколько хищным лицом, с размеренной, спокойной речью, пронизанной неожиданными молниями острой и сухой иронии, теперь, когда он достиг небывалой для шахматиста высоты и значительных жизненных успехов, озабочен новой проблемой. Он играет сильнее всех — это признано, но как, в сущности говоря, играет Ласкер? В чем его стиль? Сторонник ли он «старой» или «новой» школы? В чем слабость его игры? И какова же, в конце-концов, его шахматная индивидуальность? Все эти вопросы не существовали для Чигорина, Пильсбери, Яновского. Но перед Ласкером они должны были стоять. Как и Стейниц, он не удовольствовался тем, что побеждает, он хотел осознать, почему он побеждает. Но туг оканчивается аналогия со Стейницем и обнаруживается контраст между этими двумя глубоко различными натурами. Если Стейниц хотел знать, почему выигрывает тот, кто выигрывает, т. е. стремился установить законы шахматной игры, то Ласкер стремился подвести логическую базу под свои ходы, хотел установить законы своей шахматной игры. Во всех своих шахматных трудах Ласкер не обходится без многократного упоминания имени Стейница; о Стейнице говорит он, как о величайшем шахматном мыслителе, считая себя «по сравнению с ним просто «игроком»; и вместе с тем с характерной настойчивостью подчеркивает Ласкер при любом случае, что он ученик Стейница. И действительно, в первое десятилетие своей шахматной деятельности Ласкер таким и был, как, впрочем, были таковыми и Тарраш и Пильсбери, и Яновский, и Шлехтер, и Мароци и все корифеи конца 90-х и начала 900-х годов.
Но ласкеровский парадокс в том и заключается, что он, больше всех сделавший для прославления своего «учителя», в период, когда наступает его зрелость как шахматного мыслителя и бойца — после 1904 года — меньше, чем кто-либо из его соратников, может почитаться «стейницианцем». Больше того, в своих принципиальных партиях, и особенно в знаменитом турнире 1914 года, он как бы нарочно играет наперекор Стейницу, т. е. наперекор учению и законам, установленным Стейницем.
А расшифровывается этот парадокс очень просто. Ласкер всю свою шахматную жизнь всегда учился у всех и никогда ни у кого в частности. И не будучи ничьим учеником, он и не стал учителем кого бы то ни было. Очень характерен широко известный, в каждой книге и статье о Ласкере подчеркиваемый факт: этот величайший шахматист, автор великолепных шахматных трудов, философ, математик, человек громадной общей культуры, не создал шахматной школы, не связал своего имени с понятием определенного чисто шахматного стиля, нового идейного направления. Гораздо меньшая фигура и по возможностям и по достижениям своим — Зигберт Тарраш, был, однако, автором классических книг: «Современная шахматная партия» и «Триста шахматных партий», — настольных книг каждого шахматиста в первую четверть XX века. А учебник Ласкера, при всех его громадных достоинствах — меньше всего учебник.
Больше того, с именем каждого выдающегося шахматиста всегда связана какая-то конкретная новинка в области шахматной теории: усовершенствование дебюта, разработка нового варианта, уточнение защиты в определенной партии. Достаточно указать, что мы имеем «вариант Панова», молодого, одаренного советского шахматиста, в таком, насквозь изученном и разработанном дебюте, как «защита каро-канн». И тем не менее во всей необъятной теории шахматных дебютов, в этом неисчерпаемом каталоге вариантов, мы ни разу не найдем «варианта», «дебюта» Ласкера. Это не значит, что он не вводил «новинок», наоборот: «ласкеровское» можно найти почти в каждой его партии. Но каким-то образом выходило, что эти новинки были годны лишь для него одного: он, стало быть, создавал их за доской, а не в последующем или в предшествовавшем анализе, — законы своей шахматной игры.
Сделаем рискованное предположение, представим себе, что в шахматной истории не существовало бы Ласкера. Несомненно, страшно обеднела бы история шахмат, но только на ту ценность, какую представляет собою сам Ласкер. А убрать Стейница из истории шахмат — это значило бы изменить весь ее ход в той мере, конечно, в какой мы учитываем роль личности в истории, будь то хотя бы история шахмат.
Ласкер не только крайний индивидуалист, он в своем шахматном творчестве также «крайний эгоист»: это творчество восхищает, но оно не учит, а если учит, то не в области шахматной игры, оно замкнуто в себе, самодовлеющая единица.
Оговоримся. Все сказанное относится не к тому Ласкеру, первое десятилетие шахматной жизни которого прошло перед нами. Таким он стал в годы своего цветения, и все сказанное не более как предварительные штрихи: портрет Ласкера во весь рост может быть нарисован лишь при элементарном знакомстве с его философским мировоззрением, с установленной им конкретной связью между его философским и шахматным мышлением и, наконец, с его «психологическим методом» игры в шахматы. Искомый портрет возникает во всех своих красках лишь к концу пятнадцатилетия 1900—1914 годов; все эти годы в этом смысле лишь подготовительные.
В 1900—1904 годах Ласкер не участвует на международных турнирах, а их за это время было восемь, и некоторые весьма сильные по своему составу. По два раза в этих турнирах первые места завоевывают Мароци и Яновский, по одному разу — Тарраш, Пильсбери и Чигорин. Как видим, это все те же знакомые имена, но Ласкера среди них не было. Правда, в эти годы он усиленно занимается философией и математикой, подготовляя материал для своих будущих работ, но вряд ли это обстоятельство удерживает его от участия в турнирах: ведь живя в этот период в Англии, он находил время дважды съездить в США для сеансов одновременной игры. Некоторую роль играли тут, возможно, материальные соображения — Ласкер не любил «дешево играть» и принципиально, во имя престижа чемпиона мира, настаивал на высоком гонораре. Но основной причиной было отсутствие у него спортивного и идейного интереса: ведь этих победителей знал он вдоль и поперек и не видел стимула для новой борьбы с ними. Большинство выдающихся шахматистов любят шахматную игру как таковую, они не ищут особого стимула, кроме того, какой заложен в самой игре. Ласкер и здесь выпадает из общей нормы: он играет лишь тогда, когда это почему-либо ему нужно.
Но вот оказалось нужным принять участие в турнире, организованном американскими шахматными клубами в курорте Кэмбридж-Спрингс летом 1904 года. Это был первый подлинный международный турнир, устроенный в США, в котором участвовали 8 американцев и 8 европейцев. Положение Ласкера в США не позволило ему игнорировать американское приглашение, хотя данный турнир не был особо интересен по составу своему: отсутствовали Тарраш и Мароци, но налицо были Яновский, Чигорин, Шлехтер и среди американцев, находившийся уже в периоде упадка, Пильсбери и прекрасно выступивший в Париже в 1900 году — Маршалл, выигравший тогда свою партию у Ласкера.
Первый приз Ласкера казался совершенно обеспеченным. И действительно, из пяти возможных его соперников плохо играли Пильсбери, Шлехтер и Чигорин; хорошо играл Яновский. Но еще лучше Маршалл. Он триумфально провел турнир, выиграл из 15 партий — 11 и свел 4 в ничью. А Ласкеру пришлось поделить с Яновским второе и третье место, с 11 очками у каждого, отстав от Маршалла на целых 2 очка. И вдобавок Ласкер проиграл две партии Пильсбери и Шлехтеру. Это был явный неуспех, и затушевать его было нельзя.
Фрэнк Маршалл
После Кэмбридж-Спрингса Ласкеру пришлось, очевидно, призадуматься в связи со злорадно-вежливыми комментариями шахматного мира. Острым своеобразием и воинствующим волевым началом в психике Ласкера нужно объяснить не раз отмечавшийся факт: Ласкер не любим в шахматной среде. Конечно, он импонировал этой буржуазной среде профессионалов и меценатов, но он и раздражал ее — ведь настойчиво подчеркивал чемпион мира при каждом удобном случае, что шахматы для него лишь побочное занятие. Это было обидно, и не только Таррашу. Поэтому с таким рвением распространяли слухи и с таким удовольствием велись разговоры после каждой его неудачи о «конце» Ласкера, и, наоборот, успехи его казались как бы незаслуженными, им словно не хотели верить. Наблюдается характерная и любопытная периодичность в шахматной судьбе Ласкера: его «хоронили» четыре раза — в 1895 году после Гастингса, в 1904 году после Кэмбридж-Спрингса, в 1921 году после матча с Капабланкой, в 1934 году после цюрихского турнира. Но все эти четыре раза Ласкер возвращался торжествующим и победоносным и хоронил других, сбрасывая их короля с шахматной доски.
Но, несомненно, Ласкер задумался после Кэмбридж-Спрингса и должен был вспомнить хотя бы о Нюренберге. Его любовь к ясным, недвусмысленным положениям на шахматной доске, его настойчивое стремление подчинить ход партии развитию логической идеи — все эти шахматные качества молодого Ласкера вполне соответствовали одной из сторон его индивидуальности. Но лишь одной из них. Ласкер не исчерпывается понятиями: ясность, логика, простота. Были в его игре и неудержимый волевой порыв, и глубокомысленная острота, и отточенный парадокс. Эти элементы его психики также настойчиво стремятся создать на доске исключительно сложное, парадоксально запутанное положение. Такое положение пришпоривает его инициативу, устраняет некоторую пассивность, — а он страдал от нее первое десятилетие. Именно эта пассивность была причиной поражения, нанесенного ему в Нюренберге Яновским, Пильсбери, Харузеком — игроками явно выраженного агрессивного стиля. Стало быть, нужно ее преодолеть, стало быть, нужно культивировать в себе агрессию.
Сказанное, конечно, лишь схема. Но лишь в свете этой схемы можно понять поистине необычайный путь, пройденный чемпионом мира. Это путь от простого и ясного Ласкера, каким видел его шахматный мир в матче со Стейницем, в Гастингсе, в Лондоне, к Ласкеру сложному и темному, каким он предстал в Петербурге 1914 года; это путь от зрелой простоты, обнаруженной юношей, к чистой юношеской сложности и молодой страстности, показанной зрелым человеком. После 1904 года путь этот шел через этапы — Маршалл, Тарраш, Яновский, Шлехтер. Четыре этих корифея стали словно в очередь на Ласкера. И первым из них был Маршалл.
Фрэнк Маршалл (род. в 1877 г.), показывавший еще недавно признаки своей былой грозной силы, высокий, худой американец, с четким профилем, — яркая шахматная индивидуальность. Конечно, и он ученик Стейница, мастер позиционной игры, знаток солидного ферзевого дебюта. Но чувствуется, однако, что это в нем не прирожденное, не натура, а лишь результат упорной учебы, приобретенная из шахматных книг внешняя культура. Но когда он выходит на «тропу войны», дорвавшись до отчаянной, безудержной и рискованной атаки, — тогда лишь проявляется подлинный Маршалл и обнаруживается первобытный человек, сбросивший с себя городские одежды и яростно мчащийся по следам врага. Этот подлинный Маршалл — изощренный виртуоз хитроумнейших ловушек, мастер притворных отступлений и неожиданных нападений.
Таков Маршалл, имевший все основания гордиться своим первым призом в Кэмбридж-Спрингсе. Но этот успех требовал продолжения, и вскоре после турнира Маршалл вызывает на матч Яновского, игрока родственного с ним стиля. Побеждает его с результатом плюс 8, минус 5, ничьих 4. Не очень блестящая, но все же победа. А затем следует вызов, обращенный к Ласкеру. Но не так просто добиться матча с чемпионом: Ласкер ставит затруднительные материальные условия. Он еще раз подтверждает, что не намерен жертвовать ни своим временем, ни своим досугом ради удовольствия любителей шахматной игры, если они отказываются оплатить свое удовольствие.
Маршалл не отчаивается. Он бросает вызов Таррашу, который сам добивается матча с чемпионом. Оба они понимают, что победителю матча легче будет организовать встречу с Ласкером. В 1905 году состоялся этот матч, окончившийся разгромом Маршалла. Лишь одну партию сумел он выиграть при 8 поражениях и 8 ничьих.
И все же Маршалл не был обескуражен. В следующем, 1906, году он блестяще берет первый приз на нюренбергском международном турнире, не проиграв ни одной партии, опередив всех остальных на 1½ очка — победитель его Тарраш оказался лишь на девятом месте. И Маршалл вновь вызывает Ласкера на матч. Американские шахматисты поддерживают своего чемпиона, собирают требуемую Ласкером сумму гонорара, достаточно, впрочем, скромную — в тысячу долларов; модные боксеры и футболисты получали больше за свои выступления.
Матч Ласкер—Маршалл состоялся в США в 1907 году, и если Тарраш разгромил Маршалла, то Ласкер уничтожил его. Одну партию Маршалл все же выиграл у Тарраша, а у Ласкера ни одной: восемь побед при семи ничьих — таков был оглушительный итог.
Кто следующий? Конечно, Тарраш. Ведь были у него за эти годы значительные успехи, и лучшие из них — первый приз в остэндском матче-турнире, где участвовали шесть крупнейших мастеров (без Ласкера), игравших друг с другом по четыре партии. Тарраш вышел победителем и, окрыленный победой, вновь стал добиваться матча с Ласкером. Уже давно шли толки о необходимости организовать эту встречу. Сам Тарраш держался в этом вопросе достаточно вызывающе. После победы над Маршаллом, в своей речи на банкете, он заявил:
«После этого моего нового и крупнейшего достижения у меня нет оснований думать, что в шахматном мире кто бы то ни было должен считаться выше меня. На самом деле гораздо труднее победить молодого Маршалла, чем престарелого Стейница. Я готов на приемлемых условиях сыграть матч с Ласкером, но вызывать его я не намерен; это должен был бы сделать тот, у кого недостаточная репутация и недостаточные успехи. Мои же успехи за 20 лет по меньшей мере равноценны его успехам. Дело шахматного мира осуществить этот матч, если он представляет интерес. Шахматный мир в лице своих руководящих организаций в Германии и Америке, т. е. германского шахматного союза и американских клубов, должен установить приемлемые условия, которые побудили бы нас, а если необходимо, то заставили бы вступить в единоборство. И шахматный мир увидит нашу борьбу. Если он пожелает, то получит матч Ласкер—Тарраш».
Ко времени своего матча с Ласкером (1908 г.) сорокашестилетний Тарраш был общепризнанным лидером «новой школы», жившей заветами Стейница. Кто же мог оспаривать это лидерство? Он был очень сильный практический игрок, плодовитый и красноречивый теоретик, опытный педагог, снабдивший пространными комментариями множество лучших партий былых корифеев и современников. Был он также энергичным шахматным деятелем, организатором германского шахматного движения, искусным оратором, владевшим оружием элементарного и доходчивого остроумия; он первый внес в сухие шахматные комментарии элемент литературного таланта, и часто прокомментированную им партию можно было читать как художественное произведение — правда, невысокого уровня.
И однако талантливейший гросмейстер А. Нимцович — воплощение бунтарского духа в шахматах, называет Тарраша «посредственностью и в шахматах и в жизни». И однако глубокомысленный Рихард Рети пишет о Тарраше: «Самое характерное для Тарраша, как для человека, так и для шахматиста, — он умеет приспособиться к требованиям сцены». Рети имеет в виду, что Тарраш играет не для себя, а для зрителя, не столь играет, сколь демонстрирует. Что же он демонстрирует? «Вечные законы» шахматной игры, найденные Стейницем, разработанные и систематизированные им, Таррашем, в силу чего он и владеет ими лучше, чем кто-либо из живущих. В этом был искренно убежден Тарраш и в этом показал он характерную ограниченность своего мышления. Действительно, он создал из «правил шахматного поведения», указанных Стейницем, целый свод суровых законов. Но если Стейниц был догматиком, то шахматное мышление Тарраша пронизано самодовольным педантизмом.
В шахматном его лексиконе фигурировали такие термины, как «безобразный», «причудливый», «антиэстетичный» ход. Другими словами, Тарраш непрочь был считать себя законодателем и в этике и в эстетике шахматной игры. Пусть слишком сурово суждение о нем Нимцовича, что Тарраш не дал миру ни одной новой шахматной мысли, но, несомненно, его органически раздражала всякая попытка индивидуального шахматного мышления — к нему он и применял эти свои термины. Наступившее в первом десятилетии XX века окостенение «новой школы», даже идейное ее загнивание, приведшее к торжеству безыдейной позиционной игры, основанной на заучивании дебютов и применении так называемых лучших ходов, — несомненно связано с именем Тарраша. И бунт неомодернистов, поднятый в начале второго десятилетия Нимцовичем, Рети, отчасти Алехиным и Боголюбовым, был восстанием против духа Тарраша, против застывших канонов «лучших ходов», против наукообразности в шахматах.
И все же Тарраш был чрезвычайно сильным практическим игроком — достаточно взглянуть на его великолепные турнирные успехи в конце XIX и начале XX века. Технику игры он освоил прекрасно и умело применял стейницевский метод использования еле заметного позиционного преимущества, создания у противника стесненного положения и позиционного его зажима. Удавалось ему этого добиться — и он считал свою победу обеспеченной: ведь так гласят непреложные шахматные законы.
Как относился Ласкер к своему старому сопернику, с которым он не встречался за шахматной доской с Нюренберга 1896 года, т. е. 12 лет? Он понимал Тарраша, быть может, лучше, чем понимал себя Тарраш; «проблема Тарраша» была им решена еще до матча. Интересны в этом смысле его высказывания о Тарраше, опубликованные незадолго до начала их матча:
«Мой и Тарраша стиль совершенно различны. Тарраш пишет о шахматах и соответственно играет с большим глубокомыслием, но без крепкой базы. Если стратегия шахмат такова, каковой она вырисовывается в его сознании, она чудесна, но совершенно непонятна. Если бы мир создавался по этому прообразу, то это был бы блистательный дворец. Я поклонник силы, здоровой силы, которая идет на максимальную крайность для того, чтобы достичь достижимого. Мы оба очень разны и, чтобы сказать правду, не любим друг друга».
Нарочитую сложность этого высказывания легко расшифровать: Ласкер издевается над «наукой» Тарраша, считая ее иллюзорной, метафизической, наивной: и вместе с тем подвергает сомнению силу характера Тарраша; другими словами, он скептически относится к своему сопернику и как к мыслителю и как к бойцу; в последнем он был особенно прав — качеств бойца у Тарраша абсолютно не было; предоставленный самому себе, без опоры «законов», он легко терялся.
Но после такого высказывания Ласкеру не оставалось ничего другого, как выиграть матч. Он его и выиграл с очень убедительным результатом: — плюс 8, минус 3, ничьих 5 (матч игрался до 8 выигранных партий).
Зигберт Тарраш
Две партии этого матча были особенно характерны как для Ласкера, так и для Тарраша. В одной из них, классической испанской партии, — а она была коньком Тарраша, — он, играя белыми и развивая партию по всем правилам стейницевской стратегии, добился стесненного положения черных фигур, т. е. очевидно позиционного преимущества. Что же делает Ласкер? Он «ошибается»: он предпринимает рискованные маневры своей ладьей, перебрасывая ее в лагерь противника — маневр этот выглядит объективно, как вопль отчаяния. Ласкеровскую ладью можно теснить, можно отрезать путь ее отступления. Тарраш это и делает — последовательно, неумолимо. И в момент торжества, когда у ладьи нет ни одного хода, Тарраш с ужасом видит, что благодаря его «естественным», «лучшим» ходам на доске создалось новое положение: черные могут осуществить пешечный прорыв не только освобождающий ладью, но дающий теперь уже черным позиционное преимущество. Тарраш глубоко задумывается и торжествует снова: Ласкер не доглядел до конца. Делая свой прорыв, Ласкер дает белым возможность провести эффектную комбинацию: временно пожертвовав пешку, добиться размена, упрощения и, во всяком случае, ничейных шансов. Ласкер осуществляет ожидаемый прорыв, Тарраш проводит свою неожиданную комбинацию и в решающий момент натыкается на еще более неожиданное ее опровержение. И Ласкер удерживает пожертвованную ему пешку, сохраняет также позиционный перевес и легко выигрывает партию. Эта партия читается как эффектная, хитро сплетенная новелла об обманутом обманщике, и озаглавить ее нужно было бы: тактика против техники.
Вторая партия еще более драматична. Это опять испанская партия, у Тарраша снова белые. И опять Ласкер на десятом ходу в худшем позиционном положении. «Всякий другой, кроме Ласкера, наверно проиграл бы эту партию», — пишет о ней Рети. Но как же можно спастись из этого плохого положения? Стараться улучшить его, — ответил бы каждый шахматист; попытавшись ухудшить его, — отвечает Ласкер. И он делает ход, который кажется просмотром, ибо он ведет через несколько ходов к потере пешки. Но это является, по существу, сознательной жертвой пешки. Тот, кто жертвует в партии, хочет добиться либо материального перевеса (жертва пешки для выигрыша фигуры и т. д.), либо позиционного перевеса; Ласкер же жертвует в этой партии, чтобы добиться психологического преобладания. Поэтому он обставляет эту жертву — как просмотр, как ошибку. В результате положение на доске страшно усложняется. Оно, пожалуй, и сейчас лучше для Тарраша, но партия приобрела уже другой характер; чтобы выиграть ее, белые должны проявить энергию, инициативу, способность принять быстрое и рискованнее решение, — обнаружить все боевые качества, которых как раз нет у Тарраша. И, выиграв пешку, Тарраш теряется, перед ним выбор нескольких лучших ходов, он топчется на месте и проигрывает партию, при лишней и вдобавок проходной пешке.
Может создаться впечатление от этого беглого рассказа, что Тарраш просто плохо играл. Это неверно. Играл он хорошо — но своими 16 фигурами против 16 фигур противника; Ласкер же, кроме того, играл и против семнадцатой фигуры и, главным образом, против нее, — против фигуры самого Тарраша. В этом и заключается его опаснейшее оружие — «психологический метод».
И вот поэтому, не поняв этого метода, опять не хотели верить победе Ласкера. Опять говорили, что Тарраш играл значительно ниже своей силы. Не хотели, вернее, еще не могли понять: в том-то и заключается исключительная сила Ласкера, что он как бы вынуждает противника к плохой игре. В дальнейшем это поняли — и нужно отдать ему справедливость — понял и сам Тарраш.
Но кто же следующий? Кто из современников Ласкера после Маршалла и Тарраша считает, что он играет если не лучше, то и не хуже чемпиона?
Может быть на этот вопрос ответит петербургский турнир 1909 года, состоявшийся вскоре после матча Ласкер—Тарраш.
Правда, на этом турнире нет четверки — Маршалл, Мароци, Тарраш и Яновский, — но вопрос о Маршалле и Тарраше уже решен, Яновский незадолго до этого проиграл матч Маршаллу, разбитому и Таррашем и Ласкером, а Мароци, при всей силе своей игры, никогда не претендовал на лавры чемпиона. В турнире участвуют блестящие представители шахматной молодежи и среди них двадцатисемилетний шахматист из Лодзи, Акиба Рубинштейн. Может быть с целью познакомиться с этой молодежью и согласился Ласкер на поездку в Петербург.
Это знакомство и новая встреча Ласкера с прежними противниками прошли для него без особых приключений. Из 18 игранных в турнире партий он выиграл 13 при трех ничьих и двух поражениях. Одно нанес ему русский шахматист Дуз-Хотимирский, — это вряд ли имело принципиальное значение. Но в самом начале турнира Ласкер проигрывает свою партию Рубинштейну, причем, замечает один из комментаторов этой партии, «необыкновенно тонко» играл Рубинштейн и принес ему победу «замечательный замысел». Комментатору нужно в этом случае особо довериться, так как им был сам Ласкер.
Выиграв у Ласкера, Рубинштейн выиграл еще 11 партий, проиграв лишь одну — по странной случайности тому же Дуз-Хотимирскому, окончив турнир с тем же результатом, что и Ласкер—13½ очков, и разделив с ним первое и второе места, Два вывода мог сделать шахматный мир из одного турнира: что Ласкер выше всех и сверстников своих и молодежи на целую голову и что на такую же голову выше них оказался Акиба Рубинштейн, — правда, пока еще только в этом турнире. Кто же такой Рубинштейн? Не он ли будет следующим претендентом? Игра его в этом турнире была, по отзывам специалистов, безукоризненной, абсолютно безошибочной, техника его превосходила технику Тарраша и Мароци, знание теории эндшпилей было исчерпывающим.
Давид Яновский
Но до Рубинштейна претендуют, оказывается, на Ласкера еще два конкурента. И первый из них знакомый нам Давид Яновский, эффектно и элегантно одетый человек, воплощение буйного азарта: он шахматы готов превратить в рулетку. Основным пороком шахматной игры считает он наличность в ней ничьей, и величайшее для него оскорбление, когда партнер предлагает ему ничью. Участвуя в турнирах, устраивавшихся в 1900—1903 годах в Монте-Карло, ухитрялся он чуть не одновременно вести две партии: одну за шахматным, а другую за рулеточным столом. Ласкер, прирожденный аналитик всех видов азарта, должен был необычайно интересоваться этим персонажем. Пятнадцать лет спустя пишет он о Яновском в тоне дружеской иронии: «Партии Яновского показывают, что он может 10 раз в руках держать выигрыш, но, жалея расстаться с партией, в конце-концов уверенно ее проигрывает». А знаменитый шахматист и известный шахматный литератор Шпильман говорит: «Яновский любил азарт больше всего, это, однако, не была погоня за счастьем — это был азарт ради азарта, как искусство ради искусства». И при всем том был он шахматистом исключительной природной одаренности; к группе Цукерторта—Чигорина—Пильсбери следует отнести и Яновского, с той, однако, разницей, что содержанием жизни как для них, так и для него шахматы не были: лишь средством нервного возбуждения, не более; ненавидящий алкоголь Яновский был, по существу говоря, алкоголиком от шахмат. Это знал шахматный мир и не склонен был серьезно относиться к Яновскому. Но в отношении Ласкера ему повезло.
Один из его поклонников предложил ему средства, чтобы организовать серию из четырех партий с Ласкером, — это не был, конечно, матч на первенство мира. Серия эта была разыграна в Париже, в мае 1909 года, с результатом сенсационным: ни одной ничьей и по две партии выиграл каждый. И не то, чтобы Ласкер играл хуже обычного в этих партиях, — Яновский играл как никогда раньше и никогда позже в своей жизни, призвав на помощь своему таланту терпение и выдержку. Это был взлет — неповторимый, да и вряд ли сам Яновский думал, что ему удастся удержаться на достигнутых высотах. Организованный осенью этого же года матч Ласкер—Яновский, теперь уже на первенство мира, окончился разгромом Яновского: лишь одну партию из десяти сумел он выиграть при двух ничьих. Не выдержали нервы Яновского, и, как замечает комментатор, победа Ласкера была скорее победой не над шахматистом, а над человеком Яновским. Говоря языком Ласкера, Яновский, как и Тарраш, не имел морального права быть чемпионом мира.
И все тот же неотвязный вопрос — кто следующий? Ласкера не хотели оставить в покое.
Шесть человек играло в 1907 году в остэндском турнире: Тарраш, Шлехтер, Яновский, Маршалл, Берн, Чигорин. Трое из них уже встретились в матчах с Ласкером. Мы знаем результаты: трое были побеждены, Чигорин умер, Берн был уже стар и никогда не обладал беспокойным честолюбием. Оставался австриец Карл Шлехтер.
Еще в 1906 году Ласкер писал о Шлехтере: «Шлехтер обладает, быть может, достаточным для борьбы за мировое первенство дарованием, но слишком ценит спокойную жизнь, не наделен достаточным темпераментом и повидимому неспособен на решительное усилие воли, необходимое, чтобы вырвать из рук другого мировое первенство».
И другие тоже говорили о Шлехтере, что он отнюдь не был боевой натурой. Но Ласкеру больше, чем другим, следовало бы знать, что психология — палка о двух концах. Небоевая натура Шлехтера наделала Ласкеру больше хлопот, чем боевые натуры Яновского, Маршалла и многих других.
В шахматной литературе существовала тенденция рассматривать Шлехтера как воплощение «безличного начала» в шахматах, как представителя безупречной, неуязвимой техники, о которую, словно о воду, бесцельно ударялся острый кинжал ласкеровской тактики. Шлехтер считался человеком «без нервов» — какие же нервы у шахматной машины? Этим и объяснялся до последнего времени неожиданный и как будто непонятный результат матча Ласкер—Шлехтер. Укреплению этой концепции способствовал, конечно, сам Ласкер. После второй партии матча, окончившейся как и первая в ничью (матч происходил в 1910 г. на большинство из 10 партий), Ласкер писал: «Шлехтер обладает совершенно другим стилем, чем мои противники в матчах последних 15 лет — Стейниц, Тарраш, Маршалл, Яновский. У тех было стремление к инициативе, а австрийский чемпион наибольшее значение придает надежности. Даже перспектива выигрыша не завлекает его. Как же можно выиграть у того, кто с равным хладнокровием относится и к обольщениям успеха и к угрозам намечающейся атаки, кто во главу угла ставит безопасность? Ответ на этот вопрос в настоящее время еще неизвестен. Теоретически пока что можно сказать следующее: если бы со шлехтеровской стратегией была соединена инициатива, налицо был бы совершенный стиль, и Шлехтер был бы непобедим. С другой стороны, быть совершенно непогрешимым не дано никому. Достоинство шахматиста в конце-концов всегда лишь приближение к идеалу. В чем-то у каждого скрывается слабость, чаще всего это боязнь, преувеличенная храбрость или неточность наблюдения. Моя задача в последующих партиях матча сделать первую попытку к решению проблемы «Шлехтер».
Но эту проблему Ласкер не решил. И правильно указывает советский исследователь и шахматист И. Майзелис в своей интересной статье, в корне расшатавшей ходячую концепцию о «безличности» Шлехтера: «Ласкер в этом матче, по общему мнению, играл много ниже своих сил, но возможно, что он и недооценил Шлехтера, вернее, недостаточно его понял, а как раз у Ласкера психологический просчет в отношении противника может оказаться роковым».
Чуть было он и не оказался роковым для чемпиона. После четырех ничейных партий Ласкер грубой ошибкой проигрывает пятую, прекрасно игранную и доведенную до выигранного положения. «Дело кончилось бы иначе, если бы Шлехтер не утомил меня использованием каждой встречавшейся возможности», — пишет Ласкер. Затем снова 4 ничьих, счет Шлехтера плюс 5, счет Ласкера плюс 4. Стоит Шлехтер у свести в ничью последнюю, десятую партию, и он выигрывает матч со счетом 5½ против 4½ и приобретает звание чемпиона. А что стоит Шлехтеру, лучшему в свое время специалисту по ничьим, свести и эту партию в ничью? Но тут «человек без нервов» показывает несправедливость этой характеристики и вместе с тем свое исключительно честное отношение к шахматам. Об этой десятой партии Майзелис пишет: «К чести Шлехтера нужно заметить, что он с самого начала играл (черными) на осложнение, явно неудовлетворенный своим случайным и незаслуженным плюс очком в пятой партии. Получив в результате несколько нервной и беспорядочной игры Ласкера (первоначально имевшего подавляющую позицию) выигранное положение, сам нервничая, он пожертвовал качество, не заметив сравнительно простого опровержения (редкий случаи при непогрешимости его техники), и проиграл».
Ничейный результат матча оставил за Ласкером звание чемпиона. И все же авторитет его, так блестяще подтвержденный в период 1904—1910 годов, был слегка поколеблен этим ничейным результатом. А там, на далеком шахматном горизонте, появляются новые имена, надвигаются новые соперники. Пусть Шлехтер дал максимум своих возможностей в этом матче, — дальнейшая его судьба это подтверждает, — но тут вблизи маячит идолообразный, с каменным лицом Рубинштейн, «могучий Акиба», — так уже зовут его в шахматном мире; а там вдали, в стране Морфи, Пильсбери и Маршалла, прозвучал уже шахматный голос молодого, блестящего кубинца и донесся через океан. Кто следующий? И как перед античным героем, встают перед победителем Ласкером из костей побежденных новые бойцы.
Что же, не ему, философу борьбы, на это жаловаться. Но пока он сыт, сыт шахматами по горло. Он объявляет паузу, он женится в 1911 году. С этого же года он углубляется в свои философские работы, разрабатывает «теорию борьбы», одну из частей его общефилософских работ. Он как бы говорит — оставьте меня в покое с этими шахматными пустяками. Он готов даже, как увидим дальше, отказаться от своего звания чемпиона.
Но оказывается, что он, решивший «проблемы» Стейница, Чигорина, Пильсбери, Тарраша, Маршалла, Яновского, полуразрешивший проблему — «Шлехтер», не решил еще проблему «Ласкер». Он думал, что он сильнее шахмат; шахматы оказались сильнее его. Ибо прошло четыре года и наступил 1914 год.
Генеральное сражение
Два города. Лодзь и Гаванна. «Польский Манчестер», столица индустриальной Польши, многолюдный, тесный, грязный город, весь в унылой сетке дождя или зыбкой пелене тумана, с воздухом спертым и плотным, в котором гаснут лучи слабого солнца, город жадности и нищеты, город зверской эксплоатации и мрачного труда. И столица солнечного острова Кубы, нарядная, веселая Гаванна, где жизнь ленива, воздух легок, беспечный город-паразит. Город грязи, угля и текстиля — и город табака, сахара и духов. Лодзь и Гаванна — мыслимо ли себе представить более разительный контраст?
И однако есть нечто общее у этих городов; оба они считаются шахматными городами. В Лодзи издавна много и сильно играют в шахматы; в Лодзи — в одном из немногих городов царской России — существовало шахматное общество; многие сильнейшие шахматисты России из Лодзи. В 1907 году происходил в Лодзи пятый всероссийский турнир; из 12 его участников было 7 лодзинцев, 3 — петербуржца. Это было состязанием между Лодзью и Петербургом. Как и ожидалось, победителем турнира оказался двадцатипятилетний Акиба Рубинштейн, имевший уже громкое европейское имя, хотя на европейском горизонте он появился лишь в 1905 году. Могучий Акиба сравнительно поздно обучился шахматам, но отдался им целиком и абсолютно. К 1909 году он достиг крупнейшего пока успеха — петербургский турнир — и уже считался сильнейшим представителем «новой школы», исключительным мастером позиционной игры, непревзойденным виртуозом ладейных концов, требующих максимально точного расчета. Идея о его матче с Ласкером была очень популярна, тем более что в 1912 году он взял первые места в 4 сильнейших международных турнирах.
Давняя шахматная традиция существовала и в Гаванне. Ведь этот солнечный город служил ареной драматических битв Стейниц—Чигорин. Матч Ласкер—Стейниц тоже должен был быть разыгран в Гаванне, но двадцатипятилетний Ласкер имел достаточно воли, расчета и выдержки, чтобы обеспечить другое место встречи, — он боялся гаваннского климата. К началу века в гаваннском шахматном клубе числилось много сильнейших игроков, но чемпионом столицы и острова в 1900 году был двенадцатилетний мальчик из состоятельной гаваннской буржуазночиновничьей семьи — Хозе Рауль Капабланка. Этот Моцарт шахматной доски научился играть в шахматы пятилетним, двенадцати лет был он мастером средней силы, в возрасте 21 года, в 1909 году, разгромил в матче чемпиона Америки Маршалла, а в 1911 году был приглашен на сильнейший европейский турнир в Сан-Себастьяно. То был турнир для избранных, играли в нем лишь первые призеры международных турниров. Капабланку пригласили на турнир вопреки желанию прочих участников, считавших его недостаточно квалифицированным для такого состязания. Но, как бывает в таких случаях, он взял первое место с 9½ очками из 14, проиграв лишь одну партию Рубинштейну, который разделил с Видмаром второе и третье места, с 9 очками. За ними оказалась вся старая гвардия — Тарраш, Маршалл, Мароци, Шлехтер и Яновский. Ласкера на турнире не было.
Итак, Рубинштейн и Капабланка. И если после Гастингса 1895 года шахматный мир говорил, что «не может быть чемпионом тот, кто не победил Чигорина, Пильсбери, Тарраша, так теперь, после Сан-Себастьяно 1911 года, шахматный мир повторял недоверчиво: «не может быть чемпионом тот, что не победил Шлехтера, Рубинштейна, Капабланку». Ласкер понимал, что кажущаяся жестокость этих сомнений и вопросов обоснована законами борьбы, как они мыслятся в условиях буржуазной цивилизации. Но форсировать борьбу он не желал. И во всяком случае не хотел позволить себя эксплоатировать. Когда петербургское шахматное общество попыталось в 1911 году устроить четверной матч-турнир — Ласкер, Шлехтер, Рубинштейн, Капабланка, — Ласкер потребовал «неслыханный» по мнению шахматных меценатов гонорар: однако не о сотнях и не о десятках тысяч шла речь, а лишь о 5000 рублей. Предприятие это не осуществилось; не состоялся и проектировавшийся матч Ласкер—Рубинштейн: у Рубинштейна совершенно отсутствовали организационные способности, которые так помогли Ласкеру в 1894 году.
И в эти же дни, после сенсационного результата в Сан-Себастьяно, началась десятилетняя история переговоров о матче Ласкер—Капабланка. Прошедший американскую школу кубинец был несравненно практичнее лодзинского талмудиста: он понимал, что с Рубинштейном, победителем Ласкера, будет ему труднее сражаться, чем с Ласкером, и очень торопился со своим вызовом. Он сумел связать вопрос о матче с вопросом американского престижа и, по-видимому, был обеспечен необходимыми средствами. Сложные переговоры начались. Были уже выработаны некоторые пункты соглашения о матче. Был, в частности, и такой пункт, предложенный по инициативе Ласкера: «Если Ласкер не внесет к определенному сроку своей части матчевой ставки или не назовет к 21 ноября 1912 года срока и места матча, — звание чемпиона механически переходит к Капабланке».
В чем же было дело? Неужели Ласкер расчищал себе путь к сдаче своего звания без боя? Был ли этот пункт реализацией подсознательного его желания — «оставьте меня в покое»? Надоела ли ему, и в особенности в связи с результатом матча со Шлехтером, постоянная атмосфера недоверия, которая все время окружала его в шахматной среде...
Но тогда было бы последовательным осуществить при любых условиях этот матч с Капабланкой, тем более, что все шансы на успех были у Ласкера! И однако матч не состоялся: стороны не сошлись в некоторых пунктах условий, а затем Ласкер счел себя оскорбленным некорректным выражением Капабланки, допущенным им в переговорах о матче. Как бы то ни было, шахматная пресса имела все внешние основания утверждать, что Ласкер саботирует матч. Но и при объективном взгляде на дело было ясно, что Ласкер, конечно, «мудрит».
Боялся ли он своего соперника? Это было бы слишком элементарное решение вопроса. Вернее будет предположить, что постоянное давление на него шахматной среды, которую он вряд ли уважал, давление, не прекращавшееся с 1904 года, до крайности раздражало его волевую натуру; и уж совсем непереносимым было для него сознание, что от капризов шахматных меценатов той или иной страны зависят условия борьбы за удержание звания чемпиона.
И когда в 1914 году петербургское шахматное собрание приступило к организации грандиозного международного турнира, Ласкер обусловил свое участие уплатой экстра-гонорара: по 250 рублей за каждую игранную в турнире партию, вне зависимости от ее результатов. Таких гонораров, таких условий ни один шахматист никогда не требовал. Но у Ласкера шла здесь речь, главным образом, о престиже. Возможно, он и не ожидал, что требования эти будут удовлетворены. Однако желание устроителей турнира добиться встречи Ласкера с Капабланкой было так горяча, что после долгих колебаний требования эти были приняты.
Петербургский турнир 1914 года носил на себе печать бюрократического формализма. Были приглашены все гросмейстеры, т. е. мастера, когда-либо бравшие первые призы на больших международных турнирах, безотносительно к их возрасту и к нынешней силе их игры. Из 16 приглашенных 7 отказалось, а к оставшимся 9 были присоединены 2 победителя всероссийского турнира 1914 года, Алехин и Нимцович. Пять победителей из этих одиннадцати должны были образовать новый турнир, играя на этот раз по две партии. Этим вводился элемент некоторой случайности в результаты турнира, но зато считалось обеспеченным, что трое фаворитов — Ласкер, Рубинштейн и Капабланка — сыграют друг с другом по три партии, что уже даст достаточно материала для суждения об их относительной силе. В турнире кроме того принимали участие три старых соперника Ласкера — Тарраш, Яновский и Маршалл, три новых фигуры — Алехин, Нимцович и Бернштейн, и два ветерана — Блэкберн и Гунсберг.
Были все основания ожидать, что Петербург даст какой-то ответ на проблему, поставленную в Сан-Себастьяно.
Горячо и нервно, не в своем обычном стиле, относился Ласкер к этому турниру. Подводил он некий итог 25-летия его шахматной жизни (1889—1914).
Встреча его с Рубинштейном, а главным образом с Капабланкой (от внимания вдумчивого шахматиста не может ускользнуть наличность характерных общих черт в творчестве их обоих), должна была решить принципиальный конфликт. Широко известно, что Ласкер «не взлюбил» Капабланку уже тогда, ко времени петербургского турнира. Это было не случайно: тут столкнулись две, в корне различные и враждебные поэтому психо-идеологические системы, хотя обе они возникли на базе буржуазной культуры.
Ценно лишь то, что завоевано в борьбе, — таков был лейтмотив жизни и мышления Ласкера. Конечно, он биологизировал и фетишизировал понятие «борьба», отрывая ее от социальной почвы, лишая ее элементов социальной направленности и целевого оправдания. Это была целиком индивидуалистическая концепция, связанная корнями своими с ницшеанством, с романтической философией.
Психологу Ласкеру нетрудно было заметить иной лейтмотив у Капабланки: ценность представляет лишь успех, все прочее — метафизика. Для Ласкера существует понятие — незаслуженный успех, но не для его противника, воспитанника американской культуры, целиком построенной на обоготворении успеха, — Человек важнее всего! — говорил один. Успех человека — важнее самого человека! — мог бы добавить к этому другой.
Таков был первый, глубинный пласт противоречий, определивший остроту конфликта Ласкер—Капабланка. Второй пласт создавался из комплекса чисто шахматных моментов. Нужно было лишь взглянуть на них обоих в процессе игры, чтобы это понять. Вот один: почти сумрачно сидит он за доской, словно втягивая в себя свою сигару. Медленно и упорно движется мысль. Вот он сделал ход, но не встал от доски, только откинулся на спинку кресла и вновь, уже с несколько затуманенными глазами, как бы вбирает в себя создавшееся положение. А если и отойдет от доски, то прохаживается короткими шажками, молча, с отсутствующим лицом, словно прохаживается только тело, а мысль все еще там, у доски. И чувствуется: этот человек одержим процессом важной и тяжелой работы, и в работе этой его творчество.
Другой, сидя и у доски, сохраняет на лице снисходительную, а пожалуй, и надменную улыбку. Думает напористо, коротко и энергично, — ровно столько, сколько нужно думать именно в данный момент, — ни грана больше. А сделав ход, моментально отходит от доски и гуляет небрежно, снисходительно, по всему турнирному залу, подходит к другим доскам, с любезным интересом заглядывает в чужую партию, охотно отвечает на шутки, — он будто фланер, посетитель, человек со стороны, даже в отношении своей партии. И чувствуется: этот человек не так уж серьезно занят, а предается веселому и легкому спорту.
Манера Капабланки отходить от своей партии сейчас же после хода шокировала европейских шахматистов: они видели в этом рисовку. Сам Капабланка не раз указывал, что это лишь экономия сил и определенная американская тренировка. Но Ласкера шокировало не это. В игре Капабланки он уже тогда видел торжество бездушной техники и механизированной психики, — конец шахматной индивидуальности, отрицание фактора воли. Тарраш — догматик и педант, но его концепция «лучших ходов» предполагает наличность эстетического начала в шахматах Капабланка же не думает о лучшем, он просто делает ясный и точный ход, не ищет, не мыслит — ясно и точно работает. Говорили о ясности игры Ласкера, но по сравнению с капабланковской это была ясность акварельного рисунка; у Капабланки же ясность инженерного чертежа.
Был и третий, на самой поверхности лежавший пласт причин — жизненно-бытовых, говоривших свое последнее и веское слово в драматическом столкновении двух индивидуальностей. За Ласкером лежала трудная и боевая жизнь, где ничто не давалось даром, а каждый успех и победа звучали началом нового этапа борьбы и труда. Недоверие сторожило его на каждом шагу; новые достижения становились для него обязательными. Все 25-летие чувствовал он себя пловцом, борющимся с волнами; в его судьбе не было фактора благоприятствующей среды. А Капабланка словно нежился в легкой зыби ласковых, солнечных вод. Всего пять лет, как известно его имя, и он любим, почитаем, им восторгаются, слова «второй Морфи», «гениальный кубинец» сопровождают его. Буржуазной толпе импонирует все в Капабланке: и экзотическое его имя, и то, что он хорошего буржуазного происхождения, и питомец лучшего американского университета, и по профессии дипломат. А кроме того у него есть средства, у него облик светского человека. И видя его в турнирном зале, с восхищением говорит толпа, труда не уважающая, что «юному гению трудиться не нужно, все дается ему легко»; вот пришел этот «Моцарт шахматной доски», легкий, молодой, веселый, и склоняются перед ним труженики 64 полей, и в их числе сумрачный, замкнутый чемпион, о котором ходят неясные слухи, что занимается он какой-то непонятной философией.
Это общее настроение не мог не чувствовать Ласкер, не мог не видеть, что уже с первых шагов пути Капабланки на его сторону склонились симпатии шахматной среды в грядущей борьбе, которой, — знал Ласкер, — не миновать. Ласкер сдержанный человек, стоик по характеру своему, но эта «несправедливость» не могла не задеть его глубоко и больно: ему, воспитаннику буржуазной культуры, трудно было понять закономерность того, что счастливчик и удачник (каким считали Капабланку) больше импонирует буржуазной психике, чем труженик и боец.
Три указанных пласта причин несомненно воздействовали на Ласкера, когда он писал с несвойственной ему горечью и резкой откровенностью перед началом турнира, оспаривая термин «гений», который так охотно применялся к Капабланке:
«Гений — это вершина. Даже самому великому из смертных человечество может выразить свою признательность только этим маленьким словом «гений». Допустимо ли неосторожное обращение с таким словом? Можно ли признавать за Капабланкой почетный титул гения? Сузим значение этого титула применительно к шахматной игре. Филидор, Морфи и Стейниц были гениальными шахматистами. Можно ли поставить Капабланку в один ряд с ними? По-моему, нет. Он должен еще заслужить эту честь, должен для этого сделать еще значительно больше того, что сделал. По-моему, тот, кто убеждает Капабланку, что он уже занял в истории шахматной игры место, среди славных, слишком нескромно заглядывает в будущее и оказывает сомнительную услугу самому Капабланке. Я очень далек от того, чтобы недооценивать Капабланку... И я охотно заявляю, что он исключительный по силе игрок... Но его стиль обнаруживает один совершенно неискоренимый недостаток. Капабланка в жизни хороший спортсмен и плохой мыслитель. В его игре одинаково резко бросаются в глаза то же достоинство и тот же недостаток. Он проявляет кипучую энергию при работе, при выполнении каждой задачи. Но в его стиле незаметно ни следа общего, скажем, философского понимания положения на шахматной доске... Если бы шахматная игра исчерпывалась только расчетом, то превзойти Капабланку было бы невозможно. Но тогда шахматной игре наступил бы конец. Притягательная сила ее была бы почти такая же, как притягательная сила правила арифметического сложения. А если она сохранила жизнеспособность, то очевидно в ней имеется и умозрительное содержание. И тогда Капабланку можно и даже не очень трудно превзойти».
Эти строки были вызовом именно по адресу Капабланки. В этой статье Ласкер говорит и о Рубинштейне — претенденте на первое место в этом турнире, но с гораздо большими симпатиями и уважением, чем о Капабланке. А между тем не так уж принципиально был различен стиль игры Рубенштейна и Капабланки: это Ласкер понимал. Но он разрешал себе в данном случае удовольствие быть непоследовательным: слишком сильно было его отталкивание от Капабланки.
Рубинштейн, кстати сказать, был фаворитом большинства серьезных шахматистов. Капабланку поднимали на щит широкие шахматные круги. В Ласкера не верили первые (ведь четыре года он был в стороне от серьезной игры), и ему не симпатизировали вторые.
После первых шести туров турнира Капабланка оказался на пол-очка впереди Ласкера: три выигрыша, три ничьих у первого, две победы, четыре ничьих у второго; первая встреча между ними была ничьей. Рубинштейн же трагически отстал со своими четырьмя ничьими и двумя поражениями. Но после десятой партии, т. е. по окончании первой половины турнира, положение круто изменилось. Капабланка выиграл еще три партии при одной ничьей, собрав 8 очков. И лишь 6½ очков оказалось у Ласкера, проигравшего из этих 4 — одну. Наравне с ним стоят Тарраш и вплотную следует Алехин и Маршалл с 6 очками. Рубинштейн не вошел в группу победителей. Итак, Капабланка обогнал чемпиона в таком коротком состязании на полтора очка — результат сенсационный. Что же скажет теперь Ласкер? Перед началом турнира он пишет:
«Мы с Таррашем отстоим от Кашабланки на полтора очка. Наверстать это расстояние трудно, и нам придется много потратить энергии, чтобы выбиться на первое место... При таких условиях было бы совершенно бесплодно предсказывать результаты. Всякая, самая невероятная на первый взгляд комбинация, может еще осуществиться. Если бы кто-нибудь хотел держать тысячу против одного за такой, примерно, порядок призеров: Маршалл, Алехин, Тарраш, Капабланка, Ласкер, то я, по крайней мере, без колебаний принял бы это пари».
Это высказывание находилось на грани шутки. Но вспомним, что окончательный результат турнира почти целиком соответствовал ласкеровской табличке, но только взятой наоборот: Ласкер, Капабланка, Алехин, Тарраш, Маршалл — таков был порядок мест. Шутка Ласкера приобретает характер предсказания, замаскированного конечно. Под видом шутки Ласкер дал то распределение мест, которое он желал и считал объективно правильным. Предсказание его, с незначительной поправкой, перестановкой мест Тарраша и Алехина, — блестяще оправдалось. Трудно привести второй подобный случай за всю историю шахматных состязаний. Как же это вышло? Как случилось, что Ласкер не только догнал Капабланку, но, выиграв в группе победителей из 8 партий 6 при 2 ничьих, т. е. на полтора очка больше, чем Капабланка, набрал в общем итоге 13½ очков, опередив Капабланку на пол-очка.
«Это казалось колдовством», — полушутя отвечает Тарраш. Анализ некоторых партий пояснит этот вопрос.
Вот партия Ласкер—Рубинштейн, еще из первой половины турнира. Спокойное течение партии, у Ласкера чуть заметное позиционное преимущество. Партия откладывается на первый взгляд в явно ничейном положении. По возобновлении Ласкер переходит в ладейный эндшпиль — специальность Рубинштейна, — и выигрывает его так тонко, что Рубинштейн в течение всей партии не понимает, почему он проигрывает, и не понял, когда проиграл. Партия эта опрокинула весь его огромный шахматный опыт и вызвала у него психологический шок, чем и объясняется его плачевный результат в турнире. Рубинштейн вложил в эту партию всю полноту своей безупречной техники, которой, однако, было противопоставлено какое-то новое, для него непонятное понимание шахмат.
Первая партия с Капабланкой. Играя черными, Ласкер плохо разыгрывает дебют, обнажает своего короля, тот кажется беззащитным. У противника шансы на немедленную атаку. Но Капабланка предпочел тактику медленного, железного нажима, — так вернее, — и благополучно довел партию до ничьей. Ласкер не выиграл партию, но он выиграл ничью. Потом две неудачи: имея выигрыш в партии с Алехиным, он не видит несложной комбинации противника и должен довольствоваться ничьей; имея выигрыш в партии с Бернштейном, он делает зевок, «основанный на галлюцинации» (Тарраш), и проигрывает. Четыре характерных партии (остальные менее интересны) : выигрыш там, где все видели ничью, ничья там, где видели проигрыш, ничья и проигрыш, где был очевиден выигрыш. Что это, случай или система? Начинается вторая половина турнира. У Ласкера нет почти шансов обогнать Капабланку. Но идет серия «чудес». Первое — победа над Алехиным в партии, судьба которой колебалась, как чаша весов с одинаковым грузом, но оказалось, что чаша Ласкера на перышко тяжелее. «И только когда положение Алехина оказалось безнадежным, стало ясным, что Ласкер все видел и все рассчитал», — пишет комментатор.
Вторая встреча с Капабланкой. Ласкер играет черными, и опять неудовлетворительно разыгрывает дебют. Помня о первой встрече, Капабланка жертвует пешку, добиваясь грозной атаки, но Ласкер улучает момент и во-время возвращает пешку. Все же у Капабланки позиционное давление. И вот — «зевнул» ли Ласкер, или ошибся в комбинации, — но он должен понести материальную потерю, — отдать либо качество, либо две фигуры за ладью. Второе как будто хуже, но он предпочитает второе. Это происходит на тридцатом ходу. У Ласкера ладья и три пешки, у Капабланки слон, конь и три пешки. Очевидно, у Капабланки выигранный эндшпиль! Семьдесят ходов еще длится партия — до сотого хода — и кончается в ничью: еще на тридцатом ходу предвидел Ласкер, что это ничейный эндшпиль. Дальше. Ласкер—Тарраш. На восьмом ходу Ласкера Тарраш делает примечание: «Этот ход, которым белые целиком уступают противнику центр, является частью совершенно неправильного, по моему мнению, плана». Продолжая осуществлять «неправильный план», Ласкер добивается на 20-м ходу материального преимущества, на 46-м — Тарраш сдается. Дальше. Маршалл—Ласкер. «Ласкер играет эту партию на выигрыш», — пишет Тарраш, т. е. он нарочно необычно плохо разыгрывает дебют и рискованно создает себе худшее положение. А на 9-м ходу Маршалла комментатор пишет: «Маршалл предпринимает энергичную атаку, и если бы он правильно провел ее... но в том-то и дело: на победном пути американца вдруг вступает в силу ласкеровское колдовство, внушается противнику плохой ход, и вдруг, неизвестно, как это случилось, у чемпиона шансы на выигрыш». А примечание к 15-му ходу гласит: «Атака Маршалла была вполне корректна, но кто может бороться против волшебства?» На 36-м ходу Маршалл сдается. И Тарраш замечает: «Ласкер очень рисковал, но таков его стиль. Эта манера игры объективно неправильна и нуждается в помощи противника, чтобы привести к успеху, но как-то так выходит, что Ласкер получает эту помощь. Приходится удивляться и восхищаться. Ласкер получил экстра-гонорар: я не нахожу его высоким, если играют такие партии».
Итак, из 4 партий — 3 победы и 1 ничья. Но все же Ласкер отстает от лидера на очко: 10 у Ласкера, 11 у Капабланки. А в остающихся четырех партиях нужно не только догнать, но и перегнать. И следует: выигрыш у Алехина, Капабланки, Маршалла и ничья с Таррашем. Дезориентированный Капабланка после проигрыша Ласкеру проигрывает и Таррашу. Правда, он побеждает остальных двоих, но это не помогло, он остается вторым, отстав от победителя на пол-очка. На дистанции в восемь партий Ласкер обогнал соперника на 2 очка, вырвал у него обеспеченную победу. Подобного не видел шахматный мир!
Что же случилось в партии Ласкер—Капабланка? Ласкер верен себе в этот труднейший момент. Не только его проигрыш, но и ничья обеспечивают Капабланке первый приз; стало быть, Ласкеру нужно играть только на выигрыш. Но по видимости судя, он играет сначала на ничью, а затем как бы на проигрыш. Играя белыми, он избирает разменный вариант испанской партии. Это начало дает очень мало шансов на выигрыш и почти всегда означает молчаливое предложение ничьей со стороны белых. Капабланка уже изумлен, но впереди еще большее изумление: Ласкер преждевременно как будто продвигает вперед одну из своих центральных пешек, делает тем самым вторую пешку отсталой и превращает ее в удобный объект для атаки противника, предлагая ему все шансы на выигрыш. Не атаковать этой пешки нельзя — это было бы трусостью. Но оказалось, что непосредственная атака ничего и не дает. Однако безрезультатная атака имеет своим следствием создание психологического преимущества у атакованного. Это психологическое преимущество Ласкер переводит в позиционное, а оно, в свою очередь, реализуется в материальное, дающее легкую победу. Сам Ласкер об этой партии пишет:
«Оба противника смотрели на эту партию, как на решительный поединок. Противоположности их характеров встретились в шахматном бою. И все-таки партия вышла весьма глубокой и идейной. Мысль одержала победу над чувством, не было сделано никаких очевидных ошибок. Она развивалась столь же последовательно, как драматическое произведение. Капабланка был уже уверен в победе, как только заметил слабость моей пешки. На нее он и направил все свои силы, но тут же он был совершенно ошеломлен моим ответным ходом. Он никогда не мог подумать, что я лишу ее возможности продвинуться. Сегодня я играл против всяких правил и теорий. Ведь пешка, которая подвержена атаке и которую нельзя продвинуть вперед, почти всегда гибнет. Но передо мной была одна из тех позиций, которые противоречат всяким правилам».
Ласкер откровенен, но не до конца. Он умалчивает, что всегда стремится создать позиции, противоречащие всяким правилам.
Так протекала эта принципиальнейшая в жизни Ласкера битва — петербургское генеральное сражение 1914 года.
Климат Гаванны
Период некоторой душевной усталости и подведения итогов почти всегда неминуем в жизни каждого бойца, особенно если его борьба имеет индивидуальный характер, связанный лишь с его личностью. Это случилось и с Ласкером. После Петербурга наступает длительная пауза в его шахматной жизни, прерывающаяся лишь двумя незначительными состязаниями и продолжающаяся вплоть до 1921 года, его гаваннского матча с Капабланкой. Годы империалистской войны Ласкер провел в Германии, живя «спокойно, хотя и впроголодь». Но эта пауза в шахматной деятельности была заполнена громадной умственной работой: это были годы труда над основным его философским сочинением «Философия несовершенного», законченным в 1918 году. В одном из разделов этого труда Ласкер излагает созданную им науку борьбы, или, пользуясь его термином, — «махологию». Этой своей концепции Ласкер придает особое значение. В опубликованном в 1926 году «Учебнике шахматной игры» он пишет о ней:
«Теория борьбы, которую предугадывали такие люди, как Макиавелли, Наполеон, Клаузевиц, которая точно была предопределена Стейницем на шахматной доске... мною была изложена философски и таким путем сделана достоянием всего мира; она очень глубоко проникнет в жизнь человечества». И несколькими строками выше: «Когда-нибудь в будущем моя философия, — да простит мне читатель это убеждение, основанное не только на тщеславии, — будет признана и оценена всем миром».
Нет необходимости детально анализировать общие философские концепции Ласкера и его «махологии». Эта концепция о несовершенности мира, как познаваемого объекта, так и интеллекта, познающего субъекта, отражая в известной степени основные тенденции эпохи загнивания буржуазной культуры и, в частности, тот психологический шок, который претерпела европейская интеллигенция во время войны, — является по существу своему типичной метафизической концепцией, построенной формально-логическим путем.
Но интересно отношение между Ласкером философом и шахматистом. Шахматная его деятельность, оказывается, дала ему материал для создания одной из частей его философского трактата. Это был подготовительный опыт — так представляет дело сам Ласкер. К примеру говоря, партии его в петербургском турнире с Рубинштейном и Капабланкой, имеющие громадную шахматно-эстетическую и шахматнопознавательную ценность, оказались лишь сырым материалом для какого-то абзаца в его философском труде. Так склонен думать сам Ласкер, — для нас неприемлема эта точка зрения, здесь нам нужно защищать Ласкера от Ласкера. Призовем на помощь аналогию. Представим себе человека, который, в поисках общих законов построения музыкального произведения и мобилизуя материал для иллюстрации этих законов, создал по пути, мимоходом, десятки и сотни гениальных сонат и симфоний. Это и случилось с Ласкером. Правда, Ласкер не уклонился от намеченного пути и написал свой труд. Но мы благодарны ему не за философскую его теорию, а за шахматную практику.
Проследив эту практику на 25-летнем периоде, естественно, приходим мы к вопросу: нельзя ли ее обобщить? Каков облик Ласкера-шахматиста, в чем его стиль?
Литература о Ласкере-шахматисте достаточно велика. Но это эмпирические наблюдения, почти одни и те же у всех, кто о нем пишет. Все знают, что Ласкер очень не точно, а зачастую и плохо разыгрывает дебюты, в отличие от всех шахматистов «новой школы» начала XX века, а тем более современных шахматистов, у которых знание теории дебютов является основой шахматного познания. За все время своей шахматной деятельности, а ей скоро минет полвека, Ласкер как бы не мог одолеть дебютной стадии игры. А может быть не хотел одолеть? Может быть он сознателен в своих ошибках? Многие держатся и такого мнения. Известно также, что Ласкер особо силен в стадии эндшпиля, что он стремится к размену фигур, к видимому упрощению. И наконец установили эмпирические наблюдения характерную способность Ласкера («колдовство», «внушение») превращать для себя проигранные партии в ничью, мертво-ничейное положение в выигрыш. Можно было бы сказать: чем хуже положение Ласкера, тем он страшнее; Ласкер выигрывает благодаря, собственным ошибкам. Это эмпирическое наблюдение блестящий шахматный писатель Тартаковер пытался обобщить в общий закон, применимый к любой партии.
Говорили также, что «секрет Ласкера» в плане игры. Пусть ошибочен этот план, но с такой уверенностью в своей правоте и железной настойчивостью Ласкер его проводит, что в итоге дезориентирует противника. И это наблюдение верно, но и оно голо эмпирично.
Сам Ласкер неоднократно указывал, что для него шахматы не искусство, не наука, а только борьба. Бесспорен и общепризнан, стало быть, вывод, что его стиль — стиль борца. Но и для Алехина шахматы — борьба, но и для математика Эйве шахматы — борьба. И однако в той же степени отличны они друг от друга, в какой отличны они оба от Ласкера.
Одна цитата из Ласкера придет нам на помощь. Он писал о неудаче Рубинштейна в петербургском турнире:
«Рубинштейну в Петербурге в первый раз жестоко изменила судьба, и это не в меру его потрясло. Он вероятно понял теперь, что это не пустая фраза, что жизнь есть борьба. Для игры Рубинштейна характерен стиль, которому несомненно принадлежит будущее. Это стиль, так сказать, «безличный». Играя, Рубинштейн никогда не считается с индивидуальностью своего противника. Он исходит из того, что «А» играет с «Б», и спрашивает себя, какой при данном положении ход будет наилучшим. Обыкновенно он и делает этот наилучший ход. Но на этот раз судьба посмеялась над ним и как бы спросила его с легкой иронией: итак, «А» против «Б», — ну нет, в конце концов ведь и ты все-таки живой человек».
Это написано о Рубинштейне. Но только ли о нем, а не о Тарраше также, о Мароци, о Шлехтере? Разве своей игрой с ними не доказывал Ласкер воочию, что не «А» играет с «Б», а Ласкер с имя рек? И разве эти же слова не относятся еще «в большей степени к самому зачинателю «новой школы» Стейницу? Ласкер неоднократно и настойчиво говорит о теории Стейница как об «откровении», гениальном прозрении, абсолютизирует ее, подчеркивая ее значение, как универсальной теории борьбы, примененной, в частности, в шахматах. Себя Ласкер считает верным стейницианцем, лишь открывшим миру значение учителя. Стейниц сам отнюдь не стремился сделать свои воззрения на шахматы базой философских теорий, и в этой области отношения Ласкера к Стейницу носят чисто эмоциональный характер. Но как относился Ласкер-шахматист к шахматным воззрениям Стейница? Они не прошли для Ласкера бесследно и в начале его пути. Но если был среди шахматистов тот, кто упорно полемизировал в своей практике со Стейницем, более того, органическим антистейницианцем, — то это был только Ласкер, когда он созрел. И в этом, больше чем в чем-либо, «секрет Ласкера-шахматиста».
В борьбе против хаоса и случайностей, против шахматного наития и шахматных чудес Стейниц создает не вполне законченную, но четкую и определенную шахматную догму. Как всякая догма, исходит она не из исключения, а из правил, игнорируя индивидуальное, устанавливая типическое. В шахматных концепциях Стейница всегда и только «А» играет с «Б». Игнорирование личного, человеческого элемента в шахматах, стремление осуществить в них торжество догмы и создавало такие эпизоды в жизни Стейница, как история с его защитой в гамбите Эванса в его встречах с Чигориным. Для своего времени догматическое учение Стейница было громадным прогрессом — в руках его эпигонов и учеников догма Стейница выразилась в голую, безыдейную технику, стала триумфом безличности.
Против триумфа безличности поднял Ласкер знамя принципиального бунта. Путь от Стейница к Ласкеру — это путь из царства догмы в царство свободы, но — его индивидуальной свободы — только для Ласкера. Поэтому не имел и не мог он иметь учеников, поэтому и казалась эта свобода другим — царством хаоса и парадокса.
Ласкер сам не раз указывал, что он «играет в шахматы психологически». Но лишь после Петербурга стало ясным, что психологический метод применяется им сознательно, систематически. И лишь тогда стали догадываться о роли психологии в его стратегии шахматной игры. Эта роль сначала — чисто вспомогательная: там, где техника ничего не может сделать, приходит на помощь психология. В ничейном положении намеренно дает Ласкер своему противнику шансы на выигрыш, рассчитывая, что в создавшихся сложных положениях сумеет он дезориентировать и запутать противника. Но Ласкер идет и дальше: он покушается на технику в самой могучей ее крепости, в области дебютов, где она так уверенно царит: разыгрывая дебюты намеренно не точно, он сразу придает партии характер острой психологической борьбы. Выведя противника из крепости догмы, сведя его с твердой почвы техники, Ласкер пользуется затем оружием, заимствованным из арсенала математики — теорией вероятности. Он как бы подсказывает — по Таррашу «внушает» — противнику ходы, по существу же их предугадывает. Ведь он знакомится предварительно с индивидуальностью противника и рассчитывает, что без опоры догмы и техники, базируясь лишь на своей индивидуальности, противник, вероятно, будет играть так-то и так-то, он побуждает противника играть индивидуальным стилем, лишая его защиты безличной техники, заставляя его импровизировать за доской. «Будь самим собой, а не ходячей шахматной книжкой, — так думает он о противнике своем, — и тогда ты мне не страшен».
Введение в шахматы теории вероятности через посредство психологического метода — такова формула игры Ласкера. Не трудно заметить, что этой формуле нельзя научиться и невозможно ей подражать. Она резко индивидуальна, она обусловлена основными качествами Ласкера-человека: неограниченной верой в себя, железной волей, интеллектуализмом, антиэмоциональностью и организаторским талантом. Да и в своей жизни, и в своей мысли, но особенно в шахматах, Ласкер — художник, мыслитель, боец, но главным образом организатор. Свои победы он осуществляет длительным, сложным и зачастую скрытым организаторским трудом.
Матч-турнир в Берлине в 1918 году. Сидят (слева направо): Ласкер, Рубинштейн, Шлехтер, Тарраш
Психологический метод не является, конечно, секретом Ласкера. В какой-то степени его применяет каждый шахматист. Но как часто превращается он в других руках из оружия победы в орудие самоубийства! Этим методом, в самой примитивной его форме, хотел бороться Алехин против догмы и техники Эйве во многих партиях их матча — и результат известен. Алехин был побежден именно благодаря истерическому применению этого метода.
А Ласкер был побежден — единственный раз в своей жизни — тогда, когда он выпустил из своих рук это оружие: речь идет о его гаваннском матче с Капабланкой.
В семилетие 1914—1921 годов шахматная деятельность Ласкера была минимальна. Небольшой матч с Таррашем в 1916 году, с пятью победами и одной ничьей, первое место в четверном матче-турнире Ласкер—Рубинштейн—Шлехтер—Тарраш в 1918 году, и это все. Правда, международная шахматная жизнь была сорвана войной. Но именно в эти годы наступает кризис в сознании Ласкера-шахматиста. И фраза из его статьи о Рубинштейне, о безличном стиле, которому несомненно принадлежит будущее, — первое проявление этого кризиса. Рети писал в 1918 году: «Ласкер, который играет без всякой шаблонной техники, рассчитывая лишь на свои собственные силы, должен больше чем кто-либо из других мастеров бояться старости. Если иссякнет его духовная свежесть, или хотя бы только живой интерес, тогда он ни с какой техникой не сможет достигнуть высоких результатов. Дух его столь же неутомим, как и прежде, однако мне казалось, что я замечаю в нем симптомы старости... Глава Ласкера-шахматиста, борца против шаблонной банальности, эта единственная в своем роде глава шахматной истории, подходит к концу».
Очень решительно это высказывание — справедливо ли оно в той же степени? Верно одно. К 1918 году у Ласкера появилась некая усталость от шахмат, как бы разочарование, и на самом деле чувствовалась потеря живого интереса. В 1918 году Ласкер опубликовал свою нашумевшую статью о реформе шахматной игры. Долгие годы боролся Ласкер своим психологическим методом против триумфа техники и догмы. И пришел, очевидно, к выводу, что, не говоря об его индивидуальных достижениях, принципиально эта борьба — безнадежна, безличность — стиль будущего. Но триумф безличной техники ведет к ничейной смерти шахмат. К этому выводу он и пришел, тем самым себя обезоружив, и единственное опасение видел во вмешательстве извне, в реформе правил игры.
Вот в этом психологическом состоянии был Ласкер в момент возобновления после войны переговоров о матче с Капабланкой. Шлехтер уже умер, Рубинштейн ослабел, претендентом на звание чемпиона был лишь Капабланка. Не стоит останавливаться на деталях длительных переговоров. Капабланке удалось одержать организационную победу, — как в свое время, в 1894 году, Ласкеру, — и настоять на устройстве матча в Гаванне, против чего Ласкер протестовал все время. В 1920 году Ласкер отказался от звания чемпиона в пользу своего противника, раздраженный длительной дипломатической склокой. Но в 1921 году, когда все организационные и финансовые вопросы были решены, он не счел возможным уклониться от борьбы.
Усталый и разочарованный, без иллюзий и надежд, выполняя неприятную необходимость, — как писал он сам, — направился Ласкер в Гаванну. Матч игрался (март—апрель 1921 г.) на большинство из 24 партий, но уже после 14-й партии, после 10 ничьих и 4 проигрышей Ласкер сдал матч, заявив, что отказывается от дальнейшей борьбы.
Общепризнанно, что Ласкер играл в этом матче так плохо, как никогда раньше. Техника его была слаба, он допускал грубые ошибки, а оружия психологического метода как будто никогда для него и не существовало. Указывалось неоднократно, — также и Ласкером, — что гаваннский климат сыграл здесь свою роковую роль. Нужно признать — роль значительную, но не роковую. После первых двух партий матча, окончившихся в ничью, Ласкер писал: «Шахматная игра приближается к совершенству. Из нее исчезают элементы игры и неопределенности. Слишком много в наше время знают: нет, следовательно, необходимости угадывать... Быть может, это печально, но знание приносит за собою смерть. Я всегда противился изучению. В наше время исчезла прелесть неизвестности».
Хозе Рауль Капабланка
Так пишет разочарованный человек. Отказавшись от своего оружия, потеряв в него веру или не умея применить его (вспомним матч со Шлехтером), Ласкер обрек себя на поражение. Красноречивым документом этого морального поражения являются нижеследующие слова из его брошюры о матче: «Я видел, как шахматы все более теряли прелесть игры и неизвестности, как их загадочность превращалась в определенность, как шахматы механизировались до степени объекта памяти... Капабланка кажется воплощением этого автоматического стиля... Конечно, шахматам осталось еще не долго хранить свои тайны. Приближается роковой час этой старинной игры. В современном ее состоянии шахматная игра скоро погибнет от ничейной смерти; неизбежная победа достоверности и механизации наложит свою печать на судьбу шахмат».
Но ведь это развитие мыслей, высказанных им уже в 1918 году? И это свидетельствует, что свой матч 1921 года Ласкер проиграл еще в 1918 году.
Значит Рети был прав в своих высказываниях о Ласкере в 1918 году?
Побежденный побеждает
Нет, Рети не был прав!
В той же своей брошюре о матче Ласкер говорит: «Я не собираюсь отказываться от шахматной деятельности, я хочу еще послужить жизни, науке и шахматам. Но я хочу предварительно со стороны присмотреться к игре».
Как будто банальные, ни к чему не обязывающие слова, звучащие даже несколько комически. «Присмотреться к игре со стороны?» — и это говорит пятидесятичетырехлетний человек, четверть века играющий в шахматы! Мы помним, что пятидесятишестилетний Стейниц, разбитый Ласкером, также не хотел отказаться от шахматной деятельности, но мы знаем, что это привело лишь к трагической его агонии. Неужели та же судьба ждет и Ласкера?
Два года ничего не знает шахматный мир о Ласкере. В 1923 году в Остраве-Моравской состоялся небольшой, но довольно сильный турнир. В турнире участвует несколько стариков, представители шахматной молодежи, глашатаи «неомодернистского» течения в шахматах: Рети, Боголюбов и ряд других. Всего 14 человек. Среди них и старик Тарраш, играющий, однако, неудачно: он занял 8-е место, с 6½ очками. Но среди них и старый его противник Эмануил Ласкер. Он сыграл гораздо удачнее Тарраша: из 13 партий он собрал 10½ очков, не проиграв ни одной и заняв первое место, на очко опередив второго призера — Рети. Это была сенсация. — Как, Ласкер еще жив? Значит, еще не кончилась его шахматная жизнь? Но, с другой стороны, раздавались скептические голоса: «этот турнир не показателен», «там ведь не было ни Алехина, ни Капабланки» (Алехин стал особенно выдвигаться в эти послевоенные годы). Пылкий Рети вызвал после турнира Ласкера на матч как представитель неомодернистского течения в шахматах. Ласкер отклонил этот вызов, это течение не казалось ему принципиально значительным. Через два года он писал о нем в своем «Учебнике»: «Так называемый гипермодернизм существует главным образом потому, что этому методу не следуют». Но матч Ласкер—Рети был бы встречен в шахматной среде, вероятно, с меньшим недоумением, чем матч-реванш Ласкер—Капабланка или матч Ласкер—Алехин. Но не прошло и года после Остравы-Моравской, как был организован большой турнир в Нью-Йорке. Одиннадцать лучших шахматистов были приглашены участвовать в нем, играя по две партии друг с другом. Там были и Капабланка, и Алехин, и Рети, и Боголюбов. Из стариков участвовали: Маршалл, Мароци, Яновский; из среднего поколения: Тартаковер, Яте и Эдуард Ласкер, однофамилец бывшего чемпиона. Среди 11 лучших нашел свое место и Эмануил Ласкер: это не было сенсацией. Но сенсацией оказалось то, что он и в турнире нашел свое место, и это было первым местом. Из 20 партий он выиграл 13, сведя 6 в ничью и проиграв лишь одну — Капабланке. Но зато новый чемпион мира отстал от него на целых полтора очка, а Алехин, занявший третье место, даже на четыре. Словом, результат турнира был тот же самый, что и 10 лет назад в Петербурге, — Ласкер, Капабланка, Алехин. Этого десятилетия словно и не было, матча 1921 года словно и не существовало.
Но еще характернее было то обстоятельство, что стиль нью-йоркской игры Ласкера был все тот же. Вернулся психологический метод, усилившийся ныне в связи, конечно, с тем, что Ласкер «присмотрелся к шахматам со стороны». После первой половины турнира Ласкер опередил чемпиона на полтора очка; Капабланке, таким образом, предстояло сделать то, что так великолепно выполнил Ласкер 10 лет назад. Но он этого не сумел, хотя приложил все старания. Во второй половине турнира он сделал из 10 партий 8½ очков, но столько же сделал и Ласкер, сохранив свое преимущество. И в некоторых партиях турнира Ласкер проявил свое старое «колдовство». У него опять было несколько «безнадежно проигранных» партий, которые он, однако, не проиграл. А в одной партии со своим однофамильцем Эдуардом, старым, опытным мастером, он сумел добиться ничьей, имея в эндшпиле одного коня против ладьи с пешкой. Эдуард Ласкер по этому поводу в свое время заметил: «Я до сих пор не знал, что конь может сделать ничью против ладьи с пешкой». Особенно эффектным были две победы Ласкера над Рети: Рети мобилизовал все ухищрения неомодернизма с печальным, однако, для себя результатом. Но все же Ласкер проиграл одну партию Капабланке при одной ничьей, что и дало возможность чемпиону писать после турнира: «Я не думаю, что Ласкер хоть сколько-нибудь сомневается в моем превосходстве над ним... он взял первый приз главным образом потому, что молодые мастера играли ниже своей силы».
Понадобилась, стало быть, еще одна проверка, чтобы показать: что же было случайностью в жизни Ласкера — Гаванна или Нью-Йорк? Вскоре последовала и эта проверка: это был знаменитый московский турнир 1925 года — несомненно один из сильнейших турниров последнего десятилетия. Результат известен и достаточно убедителен. Ласкер хотя и занял второе место со своими 14 очками из 20 партий, отстав от первого призера Боголюбова на 1½ очка, но он все же оказался впереди Капабланки. Их встреча окончилась в ничью. В нью-йоркском, особенно в московском турнире Ласкер показал, во-первых, что он преодолел свое заблуждение или психологическую усталость, столь очевидную в гаваннском матче; и, во-вторых, что он сумел воспринять то новое в шахматной технике, чем были проникнуты воззрения неомодернистов. В возрасте пятидесяти шести лет он сумел преодолеть и свои психологические и свои технические пробелы. Боголюбов указывает, что стиль игры Ласкера в Москве «был более солидным и научным, чем на нью-йоркском турнире». И вместе с тем не ослабела его неукротимая воля к победе, его страстное желание демонстрировать в каждой партии не торжество техники, а силу своей личности. Когда окончилась его партия с Рубинштейном, Ласкеру-победителю аплодировал — в нарушение правил — не только весь зал, но и сам побежденный. Почему? Потому, что, как и 10 лет тому назад, в партии с тем же Рубинштейном сумел он выиграть классически проведенный эндшпиль, выиграть так, что опять его противник не понял — почему же он проиграл?
Итак, ушедший вернулся? Такой вывод можно было бы сделать из этих трех послегаваннских турниров. Но вывод этот был бы не верен, и по той простой причине, что Ласкер не уходил: Гаванна была если не случайным, то во всяком случае изолированным эпизодом в его жизни, причину которого нужно искать не только в шахматных факторах. Он уже не был официальным чемпионом мира, можно было полагать, что теперь, в 1925 году. Капабланка, Алехин и Боголюбов играют не слабее Ласкера, но с ослепительной ясностью видели шахматисты всего мира, что шахматный путь Ласкера единственен и неповторим и славен до самого конца. До самого конца, ибо ни в ком не вызвало удивления то, что после 1925 года, после этих трех турниров, Ласкер словно закончил свою шахматную деятельность. Он жил в Германии, он опубликовал свой «Учебник шахматной игры» и другую, заново пересмотренную книгу — «Здравый смысл в шахматах», основой которой явились его лекции, прочитанные еще в 1895 году. Он занимался также математическими работами. Его жадный, ищущий все новых проблем интеллект заинтересовался той отраслью забав и развлечений, которая никогда до тех пор не привлекала внимания подлинно творческих умов. Он стал изучать так называемые интеллектуально-карточные игры и опубликовал в 1928 году свою любопытнейшую «Стратегию карточной игры», где он пытается, своеобразно синтезируя заимствованный из математики метод теории вероятности и методологию шахматной игры, внести элемент научного мышления в такие игры, как экарте, винт, поккер и т. д. Рекомендуемая им стратегия может быть и правильна, но настолько сложна, что вряд ли найдется хоть один карточный игрок, который сумел бы мобилизовать достаточно энергии, чтоб овладеть ею, и достаточно хладнокровия, чтобы следовать ей. Для самого Ласкера эта книга явилась, вероятно, не более как умственным спортом, но этот спорт в стиле Ласкера. Громадное расстояние на первый взгляд отделяет «Философию несовершенства» от «Стратегии карточной игры», но и та и другая работа показательны для характеристики этого неутомимого интеллекта, этого неустанного организатора мысли и воли.
Так проходит девять лет. Ласкеру уже шестьдесят шесть. И с удивлением узнает шахматная среда, что он согласился принять участие в цюрихском шахматном турнире в августе 1934 года. Чем это было вызвано? — «Мне были интересны и симпатичны новые шахматные искания и устремления», — ответил на этот вопрос сам Ласкер.
Знакомство с новыми шахматными устремлениями состоялось. Но для Ласкера это было драматическим знакомством. Правда, в первом туре он разгромил нынешнего чемпиона мира Макса Эйве в партии, проведенной с юношеским темпераментом и необычайной силой. Шахматисты всего мира с изумлением и восторгом комментировали эту партию, — неужели он никогда не ослабеет, этот Ласкер? — спрашивали друг друга участники турнира...
Но после первого тура было еще 14. Шестнадцать шахматистов состязались в Цюрихе, из них 7 гросмейстеров и 9 швейцарских национальных мастеров, сила игры которых сравнительно не велика. У 8 из них Ласкер выиграл, с 9-м сделал ничью. Но в шести партиях с гросмейстерами сделал он всего 2½ очка. А в общем набрал 10 очков при четырех проигрышах и окончил пятым, позади Алехина, Флора, Эйве, Боголюбова. Скрыть было нельзя: это был неуспех, подобного которому Ласкер не знал за всю-свою жизнь. Согнуло время и его. И думали те, кому была дорога репутация экс-чемпиона: зачем он снова сел за шахматный стол? Неужели мир увидит трагическое зрелище, Ласкера, цепляющегося за каждый новый турнир, как за иллюзорную возможность убегающего и невозвратимого успеха? Неужели станет он на эту печальную дорогу бесцветных, вымученных ничьих, случайных побед и сокрушительных поражений? Неужели не найдет он в себе мужества после этой первой неудачной попытки — отказаться от дальнейших? Неужели кончит он, как Стейниц, как Тарраш, как многие другие, и придется читать сухие сообщения — на одном из последних мест вновь оказался экс-чемпион, окончательно утерявший свою былую силу? Неужели и ему отравят шахматы старость? Где же воля и разум Ласкера? И когда стало известным, что Ласкер будет играть в московском турнире 1935 года, в сильнейшем турнире, где ринется в бой с лучшими западными мастерами молодой отряд советских шахматистов, о силе которых уже догадывались, — стало больно за Ласкера.
Несомненно, московский турнир был самым трудным, но и одним из наиболее триумфальных испытаний за все 47 лет шахматной жизни Ласкера. Советские шахматные круги констатировали, что он вышел моральным победителем турнира. Не в спортивном результате было дело; не в том, что он оказался на третьем месте, не проиграв ни одной партии в сильнейшем турнире, набрав 12½ очков, лишь на пол-очка отстав от Ботвинника и Флора. И не в том даже, что он вновь, — в третий раз, — опередил Капабланку, разгромив его в блистательной партии.
Московские партии Ласкера восхищали своей многогранностью. Отчаянная схватка с Капабланкой, в которой форсирует Ласкер победу бурной атакой, проведенной так, что у Капабланки не было времени вздохнуть. Гениальная ничья со Шпильманом, опаснейшим бойцом, который, имея в эндшпиле двумя пешками больше, думает, что нет в мире силы, могущей предотвратить его победу, — и видит вдруг с удивлением, что незаметными ходами Ласкер создал такое положение, при котором ему, Шпильману, нужно добиваться ничьей. Сложно аранжированная, изумляющая богатством идейного содержания партия с Богатырчуком, которую не выиграл Ласкер только потому, что, утомившись, сделал в финале один неточный ход, — выиграй он ее, она считалась бы неувядаемым образцом шахматного искусства. Дерзкая партия с Каном, ультра-психологическая партия — он ошеломляет молодого советского мастера рискованной комбинацией, жертвует ферзя, за ладью и коня и триумфально ведет партию к победе. Но и во всех остальных — пусть кончилось большинство из них в ничью, — все то же всегдашнее ласкеровское стремление: победить рутину, убить штамп, найти неведомое, заблуждаться — но мыслить, ошибаться — но творить. Ищущий разум, несгибаемая воля, могучее хладнокровие и неустанная пытливость, — таков Ласкер в Москве на шестьдесят седьмом году жизни, на 47-м году своей шахматной игры. Кто сказал, что в мире есть старость? — как бы спрашивает Ласкер. И вопрос этот прозвучал в столице самой молодой в мире страны.
Эмануил Ласкер
Ласкер живет сейчас у нас в советской стране, вместе со своим верным спутником жизни, фрау Мартой Ласкер. Ласкер — эмигрант: человеку его мысли и психики Не по дороге с фашистской Германией. Но он мог бы всюду в мире найти пристанище — хотя бы в Англии или Америке, где он так признан и популярен. Однако Ласкер предпочел остающиеся и самые ценные для него годы провести у нас, где он нашел вторую родину. И это — точный его ход, глубоко обдуманный, соответствующий той его позиции, какую он создавал всю свою жизнь. Конечно, в Ласкере сказалась ограниченность его классовой природы, буржуазное окружение, в котором он жил. Помимо того идеалистическая философия Ласкера, выраженная в его трудах, глубоко нам чужда, мы воспринимаем ее как дряхлый голос из эпохи предистории человечества. И все же Ласкеру должен быть близок дух нашей культуры, как, впрочем, каждому большому и честному человеку с того берега.
Его разуму и воле, его реалистической мысли (речь не идет здесь о его философских концепциях) должна быть близка деятельность коллективного разума и воли, осуществляющих задачу спасения человечества. Он заканчивает свой путь в стиле всей своей жизни.
Возникает вопрос о ценности этой жизни.
«Легкомыслие было всегда чертой моего характера», — заметил как-то Ласкер. Если не заподозрить его в кокетстве, то придется притти к выводу, что эту черту своего характера он весьма тщательно скрывал на всем протяжении своей жизни: такой целеустремленной, серьезной, суровой кажется эта жизнь, так мало места в ней отведено элементам случайности, так звучен в ней лейтмотив труда и борьбы... Жизнь Ласкера, внешне спокойная, очень бедная драматическими событиями, как будто даже лишенная эмоционального содержания (если сравнить ее с жизнью Стейница), представляется, однако, если внимательно и объективно вглядеться в нее, жизнью человека, оставившего в эпохе чекан своей личности...
«До Ласкера шахматы любили, благодаря Ласкеру — шахматы стали уважать», — говорит о нем один из его современников. Это хорошая формулировка: тем более, что в отношении самого Ласкера к шахматам термин «уважение» кажется более соответствующим, чем «любовь»,
Но уважение к шахматам, с точки зрения Ласкера, означает прежде всего уважение к шахматисту. И вот тут внимательный взгляд может увидеть корни глубокого конфликта Ласкера с его средой. Сдержанный Ласкер не раз подчеркивал в своих горьких высказываниях отсутствие уважения к шахматисту, столь типичное среди буржуазных меценатов, субсидирующих турниры и матчи, а иногда и самих шахматистов. Пусть горечь книжки его «Мой матч с Капабланкой» моментами слишком субъективна,, но все же отчетливо виден протест против положения вещей, при котором шахматный мастер и даже чемпион мира должен зависеть в своем творчестве и в своей борьбе от благорасположения тех или иных покровителей шахмат и шахматиста. И когда со сдержанной горечью говорит Ласкер, что «шахматный мир» не может обеспечить нормального и спокойного существования крупных мастеров, творчество которых представляет собой, однако, большую ценность, когда приводит он имена мастеров, скончавшихся в голоде и неизвестности, — он взывает этим самым к уважению к шахматам и шахматистам. Но уважения этого не находит. По существу, это был тот же конфликт, который так много значил в жизни Стейница. Но у Стейница он принял формы более драматические — страстность натуры Стейница определила эти формы. Ласкер же, говоря об отсутствии уважения к шахматистам, протестуя против того, что их считают людьми, созданными для развлечения или удовлетворения любопытства праздных зрителей, стремился удалить элемент личного из этой темы, поставить ее объективно.
Как и все прочие мастера, Ласкер давал сеансы одновременной игры. Но рекорды как в этой области, так, тем более, в области игры вслепую, рекорды, которых с таким болезненным самолюбием добивался хотя бы Пильсбери, а в наше время Алехин, — они совершенно не импонируют Ласкеру. Больше того, он считает их недостойными подлинного мастера и творца, справедливо видя в них элементы циркового зрелища. Фокус — развлечение — забава: Ласкер считал оскорбительным применение этих терминов к шахматам, в которых видел он школу мысли, школу борьбы. Борьбы, — но не боя быков. А между тем резко определившийся рост популярности шахмат в начале XX века эксплоатировался различными предпринимателями именно по линии эффектного зрелища, не уступающего бою быков. Не случайно, что многие первоклассные турниры, и до и после войны, устраиваются администрацией модных курортов — Монте-Карло, Остенде, Баден-Баден, Киссинген, Мариенбад и т. д.; именно ка курортах достаточно праздной и богатой публики, заходящей в турнирный зал в порядке случайного развлечения. Для этих посетителей очень часто один из сражающихся мастеров — тореадор, а другой, обреченный, — бык. И не случайно, что Ласкер избегал принимать участие в таких турнирах, тем более, что условия игры в них в смысле тишины и комфорта были, по большей части, отвратительными. Потому-то Ласкер ожесточенно и стремился всю жизнь к материальной независимости и искал других источников дохода, чтобы быть совершенно свободным в своей шахматной деятельности. Но если он и решил эту проблему лично для себя, то путей к решению ее в общем порядке найти он не мог. Да она и не могла быть решена в условиях буржуазной культуры. Это Ласкер понял, когда в нашей стране он нашел свою вторую родину, где мастерство в шахматах, как и в других областях, не является объектом эксплоатации и праздного любопытства.
Эмануил Ласкер Москва, 1936 год
«Шахматиста нужно уважать» — таков один из лозунгов жизни Ласкера, обусловивших его конфликт с окружавшей средой. Очень прост, но также чреват конфликтом, на этот раз со своими же коллегами шахматистами, был и другой лозунг — «шахматы нужно уважать». Поскольку для Ласкера шахматы являлись подлинно школой мысли и борьбы, совершенно естественно, что он вводил в понимание шахматной игры этическое начало. Это очень отчетливо видно хотя бы из его «Учебника шахматной игры». Излагая теорию Стейница, Ласкер пишет: «Стейниц поднимается до высоты истинного философа, утверждая, что владеющий преимуществом должен атаковать под угрозой потери своего преимущества. Это «должен» есть некоторый этический закон, следовать которому трудно и тяжело. Только тот, кто следует ему, может стать художником... Если ты хочешь стать таким, ты должен подчиниться внутренней этике борьбы, будь то за шахматной доской или в какой-либо другой области». И, конечно, существует для Ласкера эстетика шахматной игры. Красноречивы его высказывания в том же учебнике: «Лексикон шахматной фигуры не так беден, как это думают: честолюбие — при выполнении работы, ярость — если этому мешают, отчаяние — из-за незаслуженно горькой участи, ликование — по поводу счастливого случая, насмешка — над противником, которому фигура загородила путь, ненависть — ко всякому, кто угрожает королю, смех — когда удается избежать ловушки...»
В таком понимании шахмат Ласкер был одинок даже в тесной среде своих коллег-мастеров, за немногими исключениями, не стоящими на уровне его высокой культуры.
Тот мир, который открыл Ласкер в шахматах, был слишком сложен, обширен и глубок для его соратников на шахматном пути. Так уважать шахматы, как Ласкер, в этой среде мог только Ласкер.
Нельзя сказать, что деятельность Ласкера, как шахматного литератора, осталась без внимания. И «Здравый смысл в шахматах» и «Учебник» при всём своеобразии этих трудов достаточно признаны. А эти труды очень своеобразны: Ласкер как литератор сказался в них со всеми своими достоинствами и недостатками. «Здравый смысл в шахматах», первый вариант которого относится еще к 1895 году, был первой в истории шахматной литературы книгой, где речь шла не о дебютах и вариантах, а о логике и психологии шахматной игры. В предисловии к первому изданию этой книги он пишет: «Ее можно рассматривать как попытку исследования всех шахматных партий с помощью общих принципов: эти общие принципы вытекают из моего взгляда на шахматную партию, как на борьбу двух интеллектов». И основным оружием этой борьбы Ласкер видел тогда, в 1895 году, «здравый смысл в шахматах». На применении принципов здравого смысла в шахматах к принципу развития партий строится вся методологическая часть книги. На этих же принципах базировалась в тот период и ласкеровская игра. И как теоретик и как практик Ласкер подчинил жизнь шахмат строгим законам, какие пытался формулировать и отчасти формулировал Стейниц. И событием одинакового принципиального значения в истории шахмат были и ласкеровская книга и ласкеровская игра той эпохи.
Но, как уже было сказано, путь Ласкера был от ясного к темному, от простого — к сложному. И в теории и в практике он очень далеко ушел от Стейница. В предисловии ко второму изданию этой книги, в 1924 году, он говорит о конфликте между здравым смыслом и «глубокомыслием», которое «пытается опровергнуть., даже осмеять здравый человеческий смысл; оно ищет не общее правило, но индивидуальное исключение, и ищет его всегда и всюду». О ком здесь говорит Ласкер? Не о самом ли себе, каким он предстал перед шахматным миром в Петербурге в 1914 году и впоследствии? Если здравым смыслом пронизана вся методологическая часть его «Учебника», то на «глубокомыслии», впадающем иногда в абстракцию и метафизику, строятся теоретико-философские его отделы. Синтеза между здравым смыслом и глубокомыслием, между «законами» и «действительностью» — пользуясь его терминологией, — проще говоря, между творчеством художника и активностью борца он все же не нашел
Сорок семь лет шахматной жизни стоят за Ласкером. В истории шахмат это до сих пор не встречалось. Правда, в серьезной партии он утомляется сейчас быстрее, чем прежде, но сила его игры ничуть не ослабела. Эта грандиозная умственная мощь все так же импонирует и восхищает. Вспоминает ли Ласкер когда-нибудь о своем жизненном шахматном дебюте, о первых турнирах, о своих соратниках, сверстниках, современниках, ни одного из которых уже нет в живых? Три поколения шахматистов прошло перед ним; он сражался и побеждал лучших представителей всех трех поколений: в 1894 году он победил первого чемпиона мира Стейница; в 1934 году он разгромил (в цюрихской партии) будущего пятого чемпиона мира Макса Эйве. Если Стейниц сам говорил о себе — «Я кусок шахматной истории», то что может сказать Ласкер? Только то, что он не только жил в шахматной истории, но и делал ее; делал ее одновременно и как исследователь, и как борец, как человек страстной мысли и страстной воли.
Избранные партии Стейница и Ласкера.
Составил А. М. Иглицкий.
Избранные партии Стейница.
1. е2 — е4 d7 — d5
2. е4 : d5 Фd8 : d5
3. Кb1 — с3 Фd5 — d8
Гораздо лучше здесь 3. . . . Фа5.
4. d2 — d4 е7 — е6
До этого хода черным следовало бы вывести ферзевого слона.
5. Кg1 — f3 Кg8 — f6
6. Сf1 —d3 Сf8 — e7
7. 0 — 0 0 — 0
8. Сc1 — е3 b7 — b6
9. Кf3 — e5 Сc8 — b7
10. f2 — f4 Кb8 — d7
11. Фd1 — e2 Кf6 — d5
В результате невыгодного и к тому же плохо разыгранного дебюта черные получили стесненную партию. Вместо хода в тексте, лишающего королевский фланг важной защищающей его фигуры, следовало сыграть 11. . . . с5.
12. Кс3 : d5 е6 : d5
После этого слон b7 остается вне игры. Лучше было С:d5
13. Лf1 — f3 . . .
Используя свое более свободное положение и большую активность своих фигур, белые переходят к непосредственной атаке короля противника, которая здесь таким образом совершенно обоснована.
13. . . . f7 — f5
14. Лf3 — h3 g7 — g6
Предупреждая 15. Фh5. Если бы черные, игнорируя эту угрозу, сыграли, например, с5, с тем чтобы на 15. Фh5 ответить Кf6 и на 16. Ф:f5 сыграть Сс8, то получили бы мат в три хода посредством 17. Ф:h7+ и т. д. Теперь черные собираются сыграть Кf6, что значительно увеличило бы их шансы на защиту.
15 g2 — g4! . . .
Этот энергичный ход препятствует указанному намерению черных и является началом далеко рассчитанной комбинации.
15. . . . f5 : g4
Единственной относительно лучшей защитой было здесь 15. . . . К:е5 с последующим Сс8. Однако предвидеть комбинацию белых было нелегко.
16. Лh3 : h7!! Кd7 : е5
Не спасают и другие ходы.
17. f4 : е5 Крg8 : h7
18. Фе2 : g4 Лf8 — g8
19. Фg4 — h5+ Крh7 — g7
20. Фh5 — h6+ Крg7 — f7
21. Фb6 — h7+ Крf7 — e6
22. Фh7 — h3+ . . .
В этом вся суть. Черный король не может скрыться на d7.
22. . . . Кре6 — f7
23. Ла1 — f1+ Крf7 — е8
24. Фh3 — е6 Лg8 — g7
25. Се3 — g5! . . .
Теперь видно, как далеко Стейниц должен был рассчитать свою комбинацию. У черных ладьей больше, но все их фигуры связаны. Последний ход Стейниц сделал в расчете на следующий ответ противника, ускоряющий развязку. Выигрывали и другие продолжения: 25. Сb5+ или 25. Сh6.
25. . . . Фd8 — d7(?)
26. Сd3 : g6+ Лg7 : g6
Или 26. . . . Крd8 27. Лf8+.
27. Фе6 : g6+ Крe8 — d8
28. Лf1 — f8+ Фd7 — e8
29. Фg6 : e8 мат.
1. е2 — е4 е7 — е5
2. Кg1 — f3 Кb8 — с6
3. Сf1 — b5 Кg8 — f6
4. d2 — d3 d7 — d6
5. Сb5 : с6+ . . .
Андерсен, повторяя многократно испытанное им продолжение, не подозревал, конечно, что этот не вызванный необходимостью размен важного слона на им же связанного черного коня сможет в дальнейшем быть использован Стейницем с последовательностью, невольно внушающей мысль о том, что в размене этом лежит зародыш проигрыша белых. Ибо Андерсену, верившему в то, что в течение партии не раз представится случай к решающей комбинации, незнаком был общий широкий взгляд на позицию с учетом всех ее требований, и он уже в этой ранней стадии партии торопится создать конкретный объект для атаки в виде несколько ослабленного ферзевого фланга черных. Однако нетрудно заметить (конечно, владея теорией Стейница), что черные имеют за это относительное ослабление более чем достаточную компенсацию в виде двух слонов и открытой линии для ладьи.
5. . . . b7 : с6
6. h2 — h3 . . .
Андерсен предупреждает возможный размен своего коня на слона черных, считая, очевидно, что в начале партии конь сильнее слона. Независимо от полной необоснованности этого взгляда ход 6. h2—h3 является важной потерей времени, которое белые должны были использовать для развития своих фигур. Кроме того в позиции белых, особенно после короткой рокировки, создается определенная слабость, на которую Стейниц в дальнейшем и обрушивается.
Таким образом дальнейший план игры обоих противников представляется в следующем виде: белые будут стремиться использовать мнимое ослабление ферзевого фланга черных, черные же будут атаковать реально ослабленный королевский фланг белых.
6. . . . g7 — g6
Логическое начало только что намеченного плана. Черные подготовляют пешечный штурм на королевском фланге, препятствуя одновременно путем давления на пункт d4 продвижению белых в центре. Таким образом уже в этой ранней стадии стейницевского творчества видна одна из характерных его черт: атакуя на фланге, не давать противнику перевеса в центре, так как лишь при прочно защищенном центре возможна успешная фланговая атака.
7. Кb1 — c3 Сf8 — g7
8. 0 — 0 0 — 0
9. Сc1 — g5 . . .
Этот ход показывает, что Андерсен не проник в планы Стейница, иначе он не давал бы ему темпа для развития наступательных операций.
9. . . . h7 — h6
10. Сg5 — е3 с6 — с5
См. примечание к 6-му ходу.
11. Ла1 — b1 . . .
Начало атаки сильного ферзевого фланга противника вместо укрепления своего слабого королевского фланга.
11. . . . Кf6 — e8
12. b2 — b4 с5 : b4
13. Лb1 : b4 с7 — с5
Итак, слабые, по мнению Андерсена, сдвоенные пешки превосходно используются Стейницем в соответствии с его общим планом.
14. Лb4 — а4 Сс8 — d7
15. Ла4 — а3 f7 — f5
16. Фd1 — b1 Крg8 — h8
17. Фb1 — b7 а7 — а5
18. Лf1 — b1 а5 — а4
Отрезая белую ладью от настоящего театра военных действий.
19. Фb7 — d5 Фd8 — с8
20. Лb1 — b6 Ла8 — а7
Уводя ладью из-под удара белого ферзя и угрожая при случае жертвой слона на h3.
21. Крg1 — h2 f5 — f4
22. Сe3 — d2 g6 — g5
23. Фd5 — c4 Фc8 — d8
24. Лb6 — b1 . . .
Признавая свои ошибки. В данном случае, однако, поговорка «лучше поздно, чем никогда», не оправдывается, ибо в шахматной партии обычно «поздно» тождественно «никогда»
24. . . . Ке8 — f6
Любопытно, как экономно использует Стейниц этого коня. Освободив путь пешке f7 и защитив одновременно пешку d6, конь возвращается теперь для принятия участия в общем наступлении. Невозможно теперь 25. К:а4 из-за 25. . . . Фе8.
25. Крh2 — g1 Кf6 — h7
26. Крg1 — f1 . . .
Белый король мечется в собственном доме, не находя нигде безопасного уголка.
26. . . . h6 — h5
27. Кf3 — g1 g5 — g4
Движение черной пешечной фаланги логично и поэтому красиво и непреодолимо.
28. h3 : g4 . . .
Стейниц убедительно демонстрирует Андерсену слабость его 6-го хода. Если бы пешка стояла на h2, а не на h3, прорыв был бы для черных много труднее.
28. . . . h5 : g4
29. f2 — f3 Фd8 — h4
Любопытно сравнить роли белого и черного ферзей.
30. Кс3 — d1 Кh7 — g5
31. Сd2 — e1 Фh4 — h2
32. d3 — d4 . . .
Чтобы как-нибудь освободить ладью. Черные, однако, оставляют без внимания умилостивительную жертву пешки и наносят сразу решающий удар.
32. . . . g4 : f3
33. g2 : f3 . . .
Немногим лучше 33. К:f3 К:f3 34. Л:f3 Сg4 и т. д.
33. . . . Кg5 — h3
Любопытное положение. Белый конь g1 атакован, но ни разменяться на h3, ни уйти на е2 белые не могут, так как в первом случае последует 34. . . . С:h3 мат, а во втором 34 . . . Фh1+ и т. д.
34. Сe1 — f2 . . .
Но и это не спасает, так как после 34. . . . К:g1 35. С:g1 последует снова 35. . . . Сh3+.
34. . . . Кh3 : g1
35. d4 : с5 Фh2 — h3+
Демонстрируя полную неприкосновенность коня g1, так как после 36. Кр:g1 черные быстро выиграли бы посредством 36. . . . Лg8.
36. Крf1 — e1 Кg1 : f3+
37. Ла3 : f3 Фh3 : f3
и белые сдались через несколько ходов.
1. d2 — d4 d7 — d5
2. c2 — c4 e7 — e6
3. Кb1 — c3 Кg8 — f6
4. Кg1 — f3 d5 : c4
5. e2 — e3 c7 — c5
6. Сf1 : c4 c5 : d4
7. e3 : d4 Сf8 — e7
8. 0 — 0 0 — 0
До сих пор белые только развивались. В этом Цукерторт был мастер. Стейниц уже в этой ранней стадии игры преследует план — изолировать ферзевую пешку противника и таким путем получить преимущество; поэтому он отстал в развитии
9. Фd1 — е2 . . .
Цукерторт собирается комбинировать. Вместо этого он должен был планомерно строить свою позицию, постепенно накапливая маленькие преимущества, но этого он как раз и не умеет.
9. . . . Кb8 — d7
10. Сс4 — b3 Кd7 — b6
И. Сc1 — f4 Кb6 — d5
12. Сf4 — g3 . . .
Эта потеря времени, связанная с ходом слона, уже ясно показывает, что Цукерторт играет без всякого плана. Он надеется на осложнение, которое даст повод к комбинациям, а до этого он играет почти как придется.
12. . . . Фd8 — а5
13. Ла1 — c1 Сс8 — d7
14. Кf3 — е5 Лf8 — d8
Каждый ход черных связан с планом, и черные, закончив свое развитие, обладают уже некоторым позиционным преимуществом.
15. Фе2 — f3 Сd7 — е8
16. Лf1 — e1 Ла8 — с8
17. Сg3 — h4 . . .
Белые грозят теперь комбинацией Сh4:f6, чтобы ослабить позицию коня d5.
17. . . . Кd5 : с3
18. b2 : с3 Фа5 — с7
19. Фf3 — d3 Кf6 — d5
Инициатива в руках черных. Белые ведут только тактическую контр-игру.
20. Сh4 : е7 Фс7 : е7
21. Сb3 : d5 . . .
Этого прекрасного слона белые должны были бы сохранить, но в погоне за форсирующими ходами и связанными с ними комбинациями они отдают даже свои сильные фигуры.
21. . . . Лd8 : d5
22. с3 — с4 Лd5 — d8
23. Лe1 — е3 . . .
Эта атака на невероятно сильную позицию неприятельского короля предпринята с недостаточными средствами, а следовательно — неосновательна.
23. . . . Фе7 — d6
В противовес этому — планомерное давление на пешечную фалангу.
24. Лс1 — d1 f7 — f6
25. Ле3 — h3 . . .
В поисках комбинации.
25. . . . h7 — h6
26. Ке5 — g4 Фd6 — f4
Черные принимают меры против пожертвования.
27. Кg4 — е3
Атака кончилась, ладья h3 депласирована. Начинается контр-атака.
27. . . . Се8 — а4
Чтобы удалить ладью с первой горизонтали, которой вскоре овладеют черные.
28. Лh3 — f3 Фf4 — d6
29. Лd1 — d2 Са4 — с6
30. Лf3 — g3 f6 — f5
Депласированные фигуры вынуждены отступить. Цукерторт вновь ищет комбинаций.
31. Лg3 — g6 Сс6 — е4
32. Фd3 — b3 . . .
Комбинация заключается в угрозе выиграть пешку е5 посредством с4—с5, вследствие чего черные не могут играть f5—f4.
32. . . . Крg8 — h7
Меры приняты! Теперь комбинируй!
33. с4 — с5 Лс8 : с5
34. Лg6 : е6 Лс5 — c1+
35. Кс3 — d1 Фd6 — f4
36. Фb3 — b2 Лc1 — b1
37. Фb2 — с3 Лd8 — с8
38. Ле6 : е4 Фf4 : е4
Белые сдались.
(Примечания Э. Ласкера из «Учебника шахм. игры»)
1. Кg1 — f3 d7 — d5
2. d2 — d4 Кg8 — f6
3. e2 — е3 e7 — е6
4. c2 — c4 Сf8 — e7
Проще всего черным играть здесь 4. с7—с5 с последующим Кb8—с6.
5. Кb1 — с3 Кb8 — d7
6. с4 — с5 . . .
Этот несколько преждевременный ход часто применялся Стейницем в подобных позициях, являясь началом атаки стесненного ферзевого фланга черных. Обычно противники Стейница, как в данном случае Чигорин, не понимавшие всей глубины его стратегических идей, недооценивали его атаку и, вместо того, чтобы, организовав защиту, вскрыть тактическую слабость некоторых его ходов, делали кардинальную ошибку, безудержно и во что бы то ни стало стремясь к атаке на другом фланге.
6. . . . с7 — с6
7. b2 — b4 0 — 0
8. Сс1 — b2 Фd8 — с7
9. Сf1 — е2 Кf6 — е8
10. 0 — 0 f7 — f5
Предопределяя все дальнейшее течение партии. Вместо того, чтобы путем 10. . . . Се7—f6 подготовить продвижение е6—е5, что вело к полновесной контр игре в центре и одновременно освобождало запертого слона с8, Чигорин начинает атаку на королевском фланге. Стейницу представляется блестящая возможность на практике доказать правильность своего теоретического положения о том, что подобная атака может иметь успех т о л ь к о при наличии у атакующей стороны преимущества в силах (или в пространстве) на данном участке или при наличии в позиции атакуемой стороны конкретных слабостей. Поскольку в данном случае ни одно из этих условий места не имеет, атака черных заранее обречена на неуспех.
11. Фd1 — с2 Ке8 — f6
12. а2 — а4 Кf6 — е4
13. b4 — b5 Лf8 — f6
14. а4 — а5 Ке4 : с3
Чрезвычайно интересный момент. Следовало во всяком случае продолжать атаку посредством 14. . . . Лf6—h6. Чигорин, смущенный, однако, хладнокровием Стейница, не обращающего никакого внимания на его атаку и с железной последовательностью проводящего свой план, теряет уверенность в правоте своих замыслов и переходит к обороне. Таким образом, психологически партия уже решена.
15. Сb2 : с3 а7 — а6
В довершение всего — тактическая ошибка, правда, в тяжелом уже положении, значительно ослабляющая ферзевый фланг и облегчающая белым ведение атаки. Дело в том, что Чигорин опасается хода а5—а6 и провоцирует 16. b5—b6, после которого он почувствовал бы себя в безопасности. Если бы черными играл Стейниц, он ни за что добровольно не сыграл бы а7—а6 и, вероятно, отдал бы предпочтение, — хотя бы из любви к парадоксальным ходам, — маневру Кd7—b8 с последующим при случае с6:b5 и Кb8—с6, повышающему обороноспособность позиции черных. Во всяком случае противнику Стейница пришлось бы основательно поработать для того, чтобы добиться победы, ибо именно в защите таких, на первый взгляд безнадежно стесненных позиций Стейниц был необычайно силен, умело и экономно используя все ресурсы.
16. b5 : а6 b7 : а6
17. Лf1 — b1 Лf6 — f8
Печальное отступление.
18. Лb1 — b2 Сс8 — b7
19. Ла1 — b1 Лf8 — b8
20. Кf3 — e1 Сb7 — с8
21. Кe1 — d3 . . .
Все ходы белых строго подчинены одному плану и поэтому легко понятны Конь угрожает стать на е5 или b4 с усилением давления на слабые пешки черных.
21. . . . Лb8 : b2
22. Лb1 : b2 Се7 — f6
23. Фс2 — а4 Крg8 — f7
Этот ход, защищающий на всякий случай слабую пешку е6, не был еще необходим. Черные, как сказал бы Ласкер, «расточают средства защиты». Возможно, что Чигорин завлекал Стейница в ловушку: 24. Кd3—b4 Кd7:с5.
24. Фа4 — а3 Сf6 — d8
25. Се2 — d1 Ла8 — b8
26. Лb2 — b6! . . .
Посредством этой жертвы качества, являющейся естественным завершением всей предыдущей игры белых, Стейниц окончательно сковывает все фигуры черных и добивается открытия новых линий для собственных фигур.
26. . . . Кd7 : b6
27. с5 : b6 . . .
Обнажая беззащитную пешку с6.
27. . . . Фс7 — b7
28. Кd3 — е5+ Крf7 — g8
29. Сd1 — а4 Фb7 — с7
Если 29. . . . Сс8—d7, то 30. Фа3—d6.
30. Сс3 — b4 Фе7 — f6
31. Фа3 — с3 . . .
Фигуры черных запатованы. Белые спокойно подготовляют решительный удар.
31. . . . h7 — h6
32. Сb4 — d6 Лb8 : b6
Или 32. . . . Лb8—b7 (а8) 33. Фс3:с6.
33. а5 : b6 Сd8 : b6
34. Фс3 : с6 Фf6 — d8
35. Сd6 — с5 Сb6 — с7
36. Ке5 — g6 Крg8 — h7
37. Сс5 — е7 . . .
Стейниц мог придать Чигорину решимость сдать наконец давно уже проигранную партию путем 37. Кg6—е7 с последующим 38. Ке7:с8 Фd8:с8 39. Сс5—b6 (но не 39. Сd6 из-за 39. . . . Фb8!).
37. . . . Сс8 — d7
38. Се7 : d8 Сd7 : с6
39. Са4 : с6 Сс7 : d8
40. Кg6 — f8+ Крh7 — g8
41. Кf8 : е6 Черные сдались.
1. е2 — е4 е7 — е5
2. Кg1 — f3 Кb8 — с6
3. Сf1— с4 Сf8 — с5
4. с2 — с3 Кg8 — f6
5. d2 — d4 e5 : d4
6. c3 : d4 Сc5 — b4+
7. Кb1 — c3 . . .
Гамбит Греко, охотно применявшийся Стейницем.
7. . . . d7 — d5
Барделебен опасается принять жертву пешки, вероятно, из-за следующего варианта, изобретенного Стейницем: 7. . . . К:е4 8. 0—0 С:с3 9. bс (в то время еще неизвестна была атака Меллера: 9. d5!) 10. Са3. В настоящее время доказано, что эта жертва фигуры неправильна.
8. e4 : d5 Кf6 : d5
9. 0 — 0 Сc8 — e6
Сейчас действительно нельзя было играть на выигрыш пешки: 9. . . . К:с3 10. bс С:с3 11. Фb3 С:а1 12. С:f7+ Крf8 13. Сa3+ Кe7 14. Л:а1, с последующим Ле1; или 9. . . . С:с3 10. bс К:с3? 11. Фе1+.
10. Сc1 — g5 Сb4 — е7
Черные добились на первый взгляд прочной позиции.
Однако Стейниц правильно нащупывает единственную слабость, имеющуюся в лагере черных, и следующим троекратным разменом, ведущим как будто к упрощению позиции, препятствует их рокировке.
11. Сс4 : d5 Се6 : d5
12. Кс3 : d5 Фd8 : d5
Нельзя 12. . . . С:g5 из-за 13. К:с7+.
13. Сg5 : e7 Кc6 : е7
14. Лf1 — e1! . . .
К этой позиции и стремился Стейниц: черный король удержан в центре и представляет собой хороший объект для атаки.
14. . . . f7 — f6
Черные хотят подготовить так называемую искусственную рокировку, уведя короля на f7 и освободив ладью h8. Одновременно у белого коня отнимаются важные поля е5 и g5. Недостаток хода f6 в том, что поле е6 становится очень слабым.
15. Фd1 — е2 Фd5 — d7
16. Лa1 — c1 с7 — с6
Впоследствии было доказано, что лучшую защиту здесь давало 16. . . . Крf7. Однако не приходится ставить в вину Барделебену, что он остановился на естественном ходе в тексте, укрепляющем пункт d5 и линию c, так как последовавшая в партии комбинация Стейница принадлежит к самым сложным и длинным, когда-либо встречавшимся на шахматной доске.
Как белым продолжать атаку? У них явное преимущество в развитии, однако слишком мало фигур осталось на доске. В том, что предыдущие ходы белых были правильны и целесообразны, так как отвечали требованию позиции, Стейниц очевидно ни минуты не сомневался. Значит, нужно найти атаку. «Владеющий преимуществом должен атаковать под угрозой потери своего преимущества».
17. d4 — d5! . . .
Жертва пешки, типичная для стиля Морфи: белые открывают линии для атаки. Однако в этом положении жертва преследует еще одну цель: использовать слабый пункт е6 — и таким образом отвечает стилю самого Стейница.
17. . . . с6 : d5
18. Кf3 — d4 Кре8 — f7
19. Кd4 — е6 Лh8 — c8
Защищаясь от угрозы Лс7 и готовясь уйти королем на g8, не запирая при этом ладью.
20. Фе2 — g4 g7 — g6
Единственный ход. Нельзя 20. . . . Кg6 из-за 21. Кg5+, выигрывая ферзя.
21. Кe6 — g5+ . . .
Начало 14-ходовой, точно рассчитанной комбинации.
21. . . . Крf7 — е8
Король все же вынужден остаться в центре.
22. Ле1 : е7+!! . . .
Грандиозный замысел! Нельзя брать ладью ни ферзем, ни королем: 22. . . . Ф:е7 23. Л:с8+ и выигр.; или 22. . . . Кр:е7 23. Лe1+ Крd6 (если 23. . . . Крd8, то 24. Ке6+ Кре7 25. Кс5+) 24. Фb4+ Крс7 (Если 24. . . . Крс6, то 25. Лс1 мат; если же 24. . . . Лс5, то 25. Ле6+) 25. Ке6+ Крb8 26. Фf4+ Лс7 27. К:с7 Ф:с7 28. Ле8 мат. Однако у черных находится еще одна защита.
22. . . . Крe8 — f8!
Создалось совершенно исключительное положение, единственное в шахматной литературе. Все четыре атакующие фигуры белых, как говорится, «висят», т. е. в свою очередь атакованы и не защищены. Особенно занимательно положение обоих ферзей. На первый взгляд может показаться, что в виду страшной угрозы мата на c1 (до или после размена на с8) белые вынуждены сами искать спасения от крупных материальных потерь.
Но теперь начинается главный вариант комбинации Стейница, который, оказывается, задолго предвидел и правильно оценил это положение.
23. Лe7 — f7+! Крf8 — g8
Нельзя играть ни 23. . . . Ф:f7 из-за 24. Л:с8+, ни 23. . . . Кре8 24. Ф:d7 мат.
24. Лf7 — g7+!! . . .
Незащищенная ладья продолжает преследование, оставаясь неприкосновенной.
24. . . . Крg8 — h8
По прежнему нельзя брать ладью ни ферзем из-за 25. Л:c8+, ни королем из-за того, что черный ферзь берется в этом случае с ш а х о м. Если же 24. . . . Крf8, то 25. К:h7+ Кре8 26. К:f6+ и выигр.
25. Лg7 : h7+ Крh8 — g8
26. Лh7 — g7+ Крg8 — h8
27. Фg4 — h4+ Крh8 : g7
Наконец-то белые заставили черных взять ладью.
28. Фh4 — h7+ Крg7 — f8
29. Фh7 — h8+ . . .
Черного ферзя все еще нельзя взять из-за мата на c1.
29. . . . Крf8 — е7
30. Фh8 — g7+ Кре7 — е8
Если 30. . . . Крd6, то 31. Ф:f6 и мат следующим ходом; если же 30. . . . Крd8, то 31. Кf7+ и т. д., как случилось в партии.
31. Фg7 — g8+ Кре8 — е7
32. Фg8 — f7+ Кре7 — d8
33. Фf7 — f8+ Фd7 — е8
34. Кg5 — f7+ Крd8 — d7
35. Фf8 — d6 мат.
Партия эта, проведенная 59-летним Стейницем с юношеской свежестью и премированная первым призом за красоту, — замечательный образец его блестящего комбинационного дарования.
Избранные партии Ласкера.
1. е2 — e4 e7 — e5
2. Кg1 — f3 Кb8 — c6
3. Сf1 — b5 Кg8 — f6
4. 0 — 0 d7 — d6
5. d2 — d4 Сc8 — d7
6. Кb1 — c3 Сf8 — e7
7. Лf1 — e1 e5 : d4
8. Кf3 : d4 . . .
Получилось положение, в котором белые могут развивать свои боевые силы на первых четырех-пяти линиях, в то время как в распоряжении черных только три—четыре линии. У черных стесненное положение, и они ищут возможности освободить игру посредством размена.
8. . . . Кc6 : d4
9. Фd1 : d4 Сd7 : b5
10. Кc3 : b5 . . .
Теперь с обеих сторон следуют, согласно известному принципу, нормальные, развивающие ходы.
10. . . . 0 — 0
11, Сc1 — g5 Лf8 — е8
12. Лa1 — d1 h7 — h6
13. Сg5 — h4 Кf6 — d7
Конь стоит на f6 плохо, так как черные не могут помешать белым овладеть полями е4 и d5. Кроме того, конь запирает слона е7, который в свою очередь закрывает единственную открытую линию для ладьи. Из этих соображений, а также из стремления к дальнейшему размену и последовал ход 13. . . . Кf6—d7.
14. Сh4 : е7 Ле8 : е7
15. Фd4 — c4 . . .
Белые уже хорошо развиты. Коня b5 они хотят перевести через d4 на f5.
15. . . . Ле7 — е5!
Белые очевидно не могут брать пешку c7.
Черные до некоторой степени преодолели трудности своего стесненного положения благодаря размену нескольких фигур. Однако один минус у черных еще на-лицо. В то время как белые имеют в своем распоряжении для развития ладей линии e и d, у черных только одна открытая линия e, и это создает им затруднения в использовании обеих ладей. Как же выходит Ласкер из этого положения? Благодаря идее, в которой дилетант не найдет, быть может, ничего любопытного, но которая покажется оригинальной и смелой знатоку. Он собирается ввести ладью в игру через поле e5, учитывая, что в середине доски ей не опасны никакие атаки, в то время как сама она будет сильно стеснять ферзевый фланг противника.
16. Кb5 — d4 Лe5 — c5!
17. Фc4 — b3 Кd7 — b6!
Конь необходим для поддержки ладьи, как мы увидим из дальнейшего течения партии.
18. f2 — f4 . . .
Игра Тарраша в данной партии не стоит на равной высоте с игрой его противника. Он не предпринимает никаких контрманевров, а делает наиболее очевидное, само собой понятное. Он отрезает ладье поля для отступления, прежде всего поле е5, считая ладейный маневр Ласкера ошибочным, но Ласкер, конечно, не имел намерения, переведя только что ладью на поле c5, вернуть ее тотчас же на линию e.
18. . . . Фd8 — f6
19. Фb3 — f3 Лa8 — е8
20. c2 — c3 a7 — a5
Чтобы атаковать ферзевый фланг посредством продвижения a5—a4—a3.
21. b2 — b3 . . .
Чтобы после хода белых a5—a4 окончательно запереть ладью посредством 22. b3—b4. При положении пешки на b2 черные могли бы бить ее «еn passant» («на проходе»).
21. . . . a5 — a4
22. b3 — b4 Лc5 — c4
Теперь у ладьи нет ни одного хода:
23. g2 — g3 . . .
3ащищая f4, чтобы освободить ферзя.
23. . . . Ле8 — d8!
Ход, вскрывающий слабость ферзевого фланга белых и выявляющий силу положения ладьи c4. Черные грозят теперь прорвать ходом c7—c5 ферзевый фланг белых и освободить свою ладью; тогда черные получили бы преимущество, вследствие слабости белых пешек. Ошибкой было бы сразу 23. . . . c7—c5 вследствие контр-атаки белых 24. Кb5.
24. Ле1 — е3 . . .
Черные позиционно переиграли противника, так как у белых нет никакой позиционной защиты против угрозы c7—c5. Поэтому они пускаются на комбинацию, которая, однако, не удается, как и большинство вызванных отчаянием комбинаций. Мы увидим сейчас, что ход 24. Ле1—е3 является необходимой подготовкой к задуманной комбинации, направленной против угрозы 23. c7—c5.
24. . . . c7 — c5
25. Кd4 — b5 c5 : b4
26. Лd1 : d6 . . .
В этом и заключается комбинация.
26. . . . Лd8 : d6
27. е4 — е5 . . .
Если бы ладья е3 стояла еще на e1, то черные получили бы преимущество посредством 27. . . . Фf6—е7 28. К:d6 Л:c3.
27. . . . Лc4 : f4!
Неожиданный ход, опровергающий комбинацию белых. Как бы белые ни играли, черные удерживают пешечный перевес.
28. g3 : f4 Фf6 — g6+
и белые выиграли благодаря пешечному преимуществу на ферзевом фланге.
Что же нам нравится в этой партии? Для дилетанта, который, не вдумываясь, переиграет ее, в лучшем случае представит некоторый интерес неожиданный ход 27 . . . Лc4:f4. Но знаток с величайшим напряжением будет следить за столь же оригинальной, сколь и глубокой идеей Ласкера, который, чтобы освободиться из стесненного положения, переводит свою ладью на рискованную с виду позицию. И нам хочется, чтобы эта смелая и гениальная идея восторжествовала над прозаическими, бесцветными. Далее мы видим, как Тарраш начинает систематически теснить вторгшуюся ладью, и мы уже близки к тому, чтобы считать проигранной партию черных, завоевавшую наши симпатии. Но тут неожиданный ход 23 . . . Ле8—d8 с угрозой освободить ладью и разрушить позицию белых; затем контр-комбинацня белых. Драма приближается к кульминационному пункту. А когда все разрешилось (27, . . . Лc4:f4), мы радуемся, что чудо свершилось, что гениальный замысел, которому каждый педант предсказал бы печальный конец, все же восторжествовал над всякой систематикой, над всеми правилами.
Итак, мы видим: то, что нас восхищает в шахматах, взятое в своей сущности, для всех нас — и для дилетанта, идеал которого — комбинация с пожертвованиями, и для знатока, которого большей частью восхищает глубина замысла, одно и то же: торжество глубокой, гениальной идеи над сухой рассудительностью, победа индивидуального над тривиальным.
(Примечания Р. Рети[4])
1. е2 — е4 e7 — e5
2. Кg1 — f3 Кb8 —c6
3. Сf1 — b5 Кg8—f6
4. 0 — 0 d7 — d6
5. d2 — d4 Сc8—d7
6. Кb1 —c3 Сf8 — e7
7. Лf1 — e1 e5 : d4
8. Кf3 : d4 0 — 0
Перед черными, после отдачи ими центра, открываются два пути. Первый, избранный в данной партии Ласкером, состоит в попытке подготовить d6—d5 (или, при случае, f7—f5) и, разрушив таким образом выгодную для белых пешечную конфигурацию в центре, добиться полного уравнения игры. Как известно, ход е4—е5 в ответ на d6—d5 обычно весьма сомнительной ценности.
Другой, более скромный план защиты сводится к тому, чтобы, не стремясь к полному уравнению игры, удовольствоваться своим стесненным положением и только получше его организовать. Мы знаем, что в стесненном положении полезно бывает разменять как можно больше фигур. Поэтому черным, если уж они избрали этот путь, лучше всего начать с К:d4 и С:b5.
9. Кd4 : c6 . . .
Все предложенные в этой позиции солидные продолжения исходят из замысла предотвратить двойной размен фигур. По этому обычно здесь играют С:c6 или К:c6, ограничиваясь одним разменом, либо же уводят одну из фигур из-под удара: Кde2 или Сf1. Этот последний увод слона считается сильнейшим продолжением атаки, так как после него черным крайне трудно освободить свою игру.
Избранным в данной партии продолжением Тарраш одержал блестящую победу над Стейницем в Вене в 1898 году, и с тех пор оно долго считалось сильнейшим. Но в настоящей партии оно было простейшим способом опровергнуто Ласкером (под «опровержением» мы, понятно, разумеем здесь не достижение черными преимущества, а легкое преодоление ими тех дебютных трудностей, которые доставляет им естественное преимущество выступки при наилучшей игре белых).
9. . . . Сd7 : c6
Стейниц сыграл в упомянутой партии менее сильно, b7:c6. После хода в тексте белым трудно надолго задержать освободительный ход d6—d5.
10. Сb5 : c6 b7 : c6
11. Кc3 — е2 . . .
Не в силах будучи помешать d6—d5, белые пускаются на разные хитрости.
Черным нельзя, конечно, играть 11. . . . К:е4, так как посредством 12. Кd4 и 13. К:c6 белые получают преимущество.
11. . . . Фd8 — d7
Проще было сразу d6—d5, но Ласкер, согласно своему усложняющему стилю игры, хочет сначала развить свои ладьи, чтобы затем сыграть d6—d5 с большей силой. План этот сам по себе не плох, но только в выполнении его Ласкер допускает ошибку: ему следовало развить ладьи не на d8 и е8, а на b8 и d8, сохраняя поле е8 для отступления коня.
12. Ке2 — g3 Лf8 — е8?
13. b2 — b3 Лa8 — d8
14. Сc1 — b2 . . .
Теперь ясна невыгода позиции ладьи на е8. Черные сами отрезали себе возможность хода d6—d5, так как белые ответят на это 15. е4—е5, пользуясь отсутствием у коня f6 удобного поля для отступления. Итак, черным приходится довольствоваться стесненным положением, имея при этом своим противником Тарраша — величайшего мастера в использовании таких положений!
Всякий другой, кроме Ласкера, наверное проиграл бы эту партию. Но Ласкер, правильно оценив положение, становится опять на свою любимую психологическую дорожку. Следующий ход его выглядит просмотром. На самом же деле это сознательная жертва пешки с целью изолировать пешку е4. Главная выгода изолированной пешки состоит для противника не в атаке на нее, а в обладании сильным лежащим перед ней полем (здесь поле е5), которое он может занять своими фигурами. В дальнейшем течении партии Ласкер искусно использует этот ресурс. Но так как игра, полная разнообразных шансов и контршансов, более чужда стилю Тарраша, чем планомерное ослабление неприятельской позиции, завершающееся ее штурмом, без каких-либо контршансов у противника, то следующий ход Ласкера, объективно рассуждая, ошибочный, с точки зрения психологической является необычайно мастерским.
14. . . . Кf6 — g4
15. Сb2 : g7 Кg4 : f2!
На 15. ... Кр : g7 последовало бы, понятно, 16. Кf5+. Теперь же пешка е белых изолируется.
16. Крg1 : f2 . . .
Вместо того, чтобы играть на выигрыш пешки, белые могли посредством 16. Фd4 получить сильнейшую, неотразимую атаку. Игрок атакующего стиля без сомнения выиграл бы эту партию у Ласкера. Вернее сказать, против игрока атакующего стиля. Ласкер наверное не избрал бы обоюдоострого продолжения 14. ... Кg4.
16. . . . Крg8 : g7
17. Кg3 — f5+ Крg7 — h8
18. Фd1 — d4+ f7 — f6
19. Фd4 : a7 . . .
Можно было бы предположить, что белые, выиграв пешку, сохранят при этом еще атаку в виду растрепанной позиции черной рокировки. На самом же деле атака их иллюзорна, так как все усилия их разбиваются о твердыню позиции черных е5.
19. . . . Сe7 — f8
20. Фa7 — d4 Ле8 — е5!
Игра белых заторможена. Правда, на ферзевом фланге у них лишняя проходная пешка, но до ее реализации еще очень далеко. В центре же у черных теперь перевес. Объективно рассуждая, белые все еще стоят лучше, но в таких трудных положениях Ласкер играет гораздо энергичнее, чем Тарраш, в данном случае свое преимущество он, в конце концов, доводит до выигрыша, между тем как проходная пешка белых так и остается неиспользованной.
21. Лa1 — d1 Лd8 — e8
22. Фd4 — c3 Фd7 — f7
23. Кf5 — g3 . . .
Белый конь, стоявший до сих пор весьма агрессивно, отступает в целях защиты, между тем как слон черных, раньше замурованный, с силой вступает в игру. Все это — результат изолирования пешки е.
23. . . . Сf8 — h6
24. Фc3 — f3 d6 — d5
25. c4 : d5 Сh6 — е3+
26. Крf2 — f1 c6 : d5
27. Лd1 — d3 . . .
Тарраш заявлял потом, что здесь он упустил последний шанс реализовать свое материальное преимущество, снова введя в игру коня посредством 27. Кf5.
27. . . . Фf7 — e6
28. Лe1 — е2 f6 — f5
29. Лd3 — d1 f5 — f4
30. Кg3 — h1 d5 — d4
31. Кh1 — f2 . . .
Теперь Ласкер двумя красивыми ходами ферзя (31-й и 33-й) форсирует победу.
31. . . . Фe6 — a6
32. Кf2 — d3 Лe5 — g5
33. Лd1 — a1 . . .
Еще хуже было 33. a2—a4, королю необходимо предоставить для отступления поле d1 (см. 35-й ход).
33. . . . Фe6 — h6
Пешку h2 спасти нельзя, так как на 34. h3 последует Лg3 и затем жертва ферзя Ф:h3!.
34. Крf1 — e1 Фh6 : h2
35. Крe1 — d1 Фh2 — g1+
36. Кd3 — e1 Лg5 — e5
37. Фf3 — c6 . . .
Чтобы на Сf2 ответить 38. Ф:e8+
37. . . . Лe5 — e6
38. Фc6 : c7 Лe8 — e7
39. Фc7 — d8+ Крh8 — g7
40. a2 — a4 f4 — f3!
Жертва пешки с целью, отступив слоном на g5, помешать белым отдать ферзя за две ладьи.
41. g2 : f3 Се3 — g5
Белые погибли, так как на 42. Л:e6 черные отвечают Л:e6 43. Фd7+ Лe7.
Белые сдались.
(Примечания Р. Рети[5])
1. d2 — d4 Кg8 — f6
2. c2 — c4 d7 — d6
Ласкер с первых же ходов играет эту партию, как говорят «на выигрыш». Это значит, что он избирает намеренно необычное и плохое начало и создает рискованные и невыгодные положения в надежде, что противник запутается при реализации своего преимущества. В данной партии эта надежда оправдывается, и поэтому мы имеем здесь классический пример игры «на выигрыш». Ну, а если эта надежда потерпит крушение? Тогда мы сможем сказать, что игра велась не «на выигрыш», а «на проигрыш».
3. Кb1 — c3 Кb8 — d7
4. Кg1 — f3 е7 — е5
5. е2 — е3 . . .
В этом положении Рубинштейн против Нимцовича (Сан-Себастьян 1912 г.) сыграл е2—е4. Однако многое имеет за себя защитить пешкой атакованную пешку. При этом, правда, ферзевый слон остается запертым, но белые все же получают очень хорошую игру.
5. . . . Сf8 — е7
6. Сf1 — d3 0 — 0
7. Фd1 — c2 Лf8 — е8
8. 0 — 0 Се7 — f8
Черные стоят стесненно — результат необычного дебюта.
9. Кf3 — g5 . . .
3десь видна разница в стиле Маршалла и Рубинштейна: Рубинштейн в упомянутой партии против Нимцовича развивался обдуманно и осторожно (b3, Сb2, Лad1) и получил такую хорошую позицию, что его противника охватило отчаяние и он бросился головой в стену, при чем последняя, естественно, оказалась крепче... Маршалл же сразу начинает стремительную атаку, чтобы... потерпеть неудачу. Много путей ведет в Рим, но мне кажется, что Маршалл был прав со своим продолжением, если б только, конечно, он дальше играл правильно и сильно. Но в том то и заключается все дело: посередине победного шествия американца Ласкер ставит дьявольскую ловушку, «внушает» Маршаллу один плохой ход и — трудно даже понять, как это произошло, — чемпион мира внезапно получает выигранную позицию.
9. . . . g7 — g6
10. f2 — f4 . . .
Необходимое продолжение.
10. . . . e5 : d4
11. e3 : d4 Сf8 — g7
Теперь черные фигуры в общем занимают хорошие позиции кроме ферзевого коня.
12. f4 — f5 . . .
3десь Маршалл был на распутьи. Еще и сейчас он мог, играя Сd2 и Лае1, может быть предварительно еще h3, полностью закончить свое развитие, чему его противник долгое время не смог бы последовать. Но ходом в партии он сжигает свои корабли. Пункт е5 защищен теперь лишь пешкой d4, и если черным удастся устранить ее ходом c5, прежде чем атака белых увенчается успехом, конь попадет на е5 и все черные фигуры будут занимать блестящие позиции. Таким образом ходом в партии Маршалл говорит: «Победить или умереть».
12. . . . Кf6 — g4
13. Кg5 — f3 . . .
Это лучшая защита ферзевой пешки, так как на 13. Ке2 песледовало бы 13. . . . Ке3 14. С:е3 Л:е3 и белый конь все-таки должен отступить.
13. . . . c7 — c5
14. f5 : g6 f7 : g6
15. h2 — h3? . . .
Очень слабо сыграно и у такого шахматиста как Маршалл объяснимо только «внушением». Играя с любым другим противником, он избрал бы бросающийся в глаза ход 15. Сg5, сила которого очевидна. На 15. . . . Сf6? решает жертва слона на g6. На 15. . . . Кgf6 следует 16. Кd5 и положение черных если не безнадежно, то во всяком случае очень сомнительно; этот же ход (16. Кd5) препятствует и маневру Фb6. Если же черные сперва берут пешку d4 с шахом, то после Крh1 положение черных еще хуже вследствие удаления слона, защищающего королевский фланг. После Ке3 белые играют С:е3 с последующей жертвой слона на g6 и матовой атакой путем Ф:g6+ и Кg5. И наконец после лучшего продолжения 15. . . . Кdf6 белые посредством 16. dc выигрывают пешку, так как слишком опасно было бы 16. . . . dc из-за 17. Лad1. После 16. dc черным пришлось бы играть 16. . . . Ке3 17. С:е3 Л:е3, в ответ на что все же последовал бы ход 18. Лad1 и у белых была бы прекрасная партия и к тому же лишняя пешка. Из этих вариантов видно, что атака Маршалла была совершенно корректной. Но кто может сражаться против волшебства!
15. . . . c5 : d4
Конечно!
16. Сc1 — g5 . . .
Слишком поздно.
16. . . . Кg4 — е3
Теперь возможна эта сильная контр-атака. Ходом раньше она вела бы к невыгоде черных, так как, поскольку на d4 стояла белая пешка, белые ходом Фc1 выиграли бы коня; а если на d4 стоял бы черный слон (после С:d4+), то белые после С:е3 Л:е3 С:g6 hg взяли бы пешку с ш а х о м и выиграли бы ходом Кg5. Теперь же при этом продолжении вторжение белого ферзя на g6 произошло бы без этого акустического сопровождения (шаха), что позволило бы черным организовать победоносную защиту путем Кf8, Фh5, Кh7.
17. Фc2 — f2 Фd8 — b6
18. Кc3 — d5 Ке3 : d5
19. c4 : d5 Кa7 — c5
Теперь черные стоят великолепно, имея к тому же лишнюю и притом проходную пешку. Однако не устранена еще опасность для их королевского фланга.
20. Лa1 — d1 Сc8 — d7
21. Фf2 — h4 Сd7 — a4
Ни к чему не вело 21. . . . К:d3 с последующим 22. . . . Сb5 из-за 23. Лb3. Но теперь после 22. b3 черные разменяли бы слона и на 23. b:а продолжали бы 23. . . . Кb2 и d3 в то время как надежды белых на атаку королевского фланга значительно уменьшились бы.
22. Сd3 : g6 . . .
Это еще лучший шанс для белых.
22. . . . h7 : g6
23. Сg5 — d8 . . .
Выигрывает ферзя, но слишком дорогой ценой. Но и попытка 23. Сf6 (с угрозой С:g7 с последующим Кg5 или сразу Кg5) не проходила из-за Ке4!
23. . . . Фb6 : d8
24. Кf3 — g5 Фd8 : g5
25. Фh4 : g5 Сa4 : d1
При подсчете кассы обнаруживается большой дефицит.
26. Фg5 : g6 . . .
Угрожая выигрышем после Лf7.
26. . . . Сd1 — c2
Щедрость богатого человека. На шахматной доске она встречается гораздо чаще, чем в жизни.
27. Фg6 : c2 d4 — d3
28. Фc2 — d1 . . .
Ласкер оказался прав, играя «на выигрыш»: его перевес — три легкие фигуры и сильная проходная пешка за ферзя — громаден, от атаки белых не осталось и следа. Это было прекрасное сражение.
28. . . . a7 — a5
Препятствуя b4.
29. Фd1 — g4 Ле8 — f8
30. Лf1 — d1 Лa8 — e8
31. Фg4 — g6 Лe8 — e2
32. Лd1 — f1 . . .
Черные не удовлетворились бы принятием жертвы качества за пешку d3. На 32. Л:d3 последовало бы 32. . . . Ле1+ 33. Крh2 Се5+ 34. g3? Лf2 мат.
32. . . . d3 — d2
33. Лf1 : f8+ Крg8 : f8
34. Фg6 : d6+ Крf8 — g8
35. Фd6 — d8+ Крg8 — h7
36. Фd8 — h4+ Сg7 — h6
Белые сдались.
(Примечания З. Тарраша[7])
1. е2 — е4 е7 — е5
2. Кg1 — f3 Кb8 — c6
3. Сf1 — b5 a7 — a6
4. Сb5 : c6 . . .
Первая неожиданность для Капабланки: Ласкер, вынужденный по положению в турнире играть на выигрыш, избирает так называемый «разменный вариант», ведущий к значительному упрощению игры.
4. . . . d7 : c6
5. d2 — d4 е5 : d4
6. Фd1 : d4 Фd8: d4
7. Кf3 : d4 Сf8 — d6
Современная теория, отчасти на основании опыта именно этой партии, отдает предпочтение 7 . . . . Сd7 в связи с длинной рокировкой.
8. Кb1 — c3 Кg8 — е7
9. 0 — 0 0 — 0
10. f2 — f4 . . .
Обоюдоострый ход. Хотя пешки е4 и f4 и стесняют игру черных, однако пешка е4 становится несколько слабой.
10. . . . Лf8 — e8
По мнению Капабланки лучший ход, препятствующий продолжению 11. Се3 в виду 11. . . . Кd5 или Кf5. Одновременно грозит 11. ... Сc5 12. Се3 Кd5. Тарраш считает, что проще было сразу играть 10. . . . Сc5 11. Се3 f5 12. е5 С:d4 13. С:d4 14. Кd5.
11. Кd4 — b3 f7 — f6
Препятствуя продвижению е5 и подготовляя b6 и затем c5 и Сb7 в связи с Кg6, чтобы организовать атаку на обе центральные пешки белых.
12. f4 — f5 . . .
Один из самых знаменитых ходов во всей шахматной литературе. Белые хотя и стесняют противника, но уступают черным пункт е5 и намеренно делают и без того слабую пешку е4 к тому же и отсталой и таким образом как-будто обрекают ее на гибель. «Но, — пишет Ласкер, — в этой партии я играл против всяких правил и теорий». Действительно, Капабланка, ошеломленный антипозиционным ходом f5, не находит за доской правильного продолжения (см. примечание к 13-му ходу). Таким образом и здесь мы имеем яркий пример игры Ласкера «на выигрыш».
12. . . . b7 — b6
13. Сc1 — f4 Сc8 — b7
Следовало играть 13. . . . С:f4 14. Л:f4 c5 15. Лd1 Сb7 16. Лf2 Лаc8! с последующим Кc6 и Ке5 с угрозой Кc4 и партия черных во всяком случае не хуже.
14. Сf4 : d6 c7 : d6
Теперь у черных слаба пешка d6, и это имеет большее значение, чем слабость белой пешки е4.
15. Кb3 — d4 Лa8 — d8
16. Кd4 — e6 . . .
Теперь конь господствует над всей доской.
16. . . . Лd8 — d7
17. Лa1 — d1 Ке7 — c8
Лучше было, как указывает Капабланка, 17. . . . c5 и если 17. Кd5, то 18. . . . С:d5 19. ed b5.
18. Лf1 — f2 b6 — b5
19. Лf2 — d2 Лd7 — е7
20. b2 — b4! . . .
Предупреждая попытку к освобождению путем c5.
20. . . . Крg8 — f7
21. a2 — a3 Сb7 — a8
По мнению Капабланки, жертва качества на e6 давала черным шансы на ничью.
22. Крg1 — f2 Ле7 — a7
23. g2 — g4 . . .
Ласкер, окончательно стеснив противника и обезопасив от прорывов свой ферзевый фланг, переходит в решительное наступление на королевском.
23. . . . h7 — h6
24. Лd2 — d3 a6 — a5
25. h2 — h4 a5 : b4
26. a3 : b4 Лa7 — е7
Это, конечно, непоследовательно и свидетельствует о полной растерянности Капабланки. Лучше было 26. . . . Лa6 и затем при случае Кb6 и Кc4.
27. Крf2 — f3 . . .
Точнее было сразу играть 27. Лg3.
27. . . . Ле8 — g8
28. Крf3 — f4 g7 — g6
Более упорное сопротивление черные могли оказать, играя 28. . . . g5+. Теперь Ласкер, как признает сам Капабланка, наилучшим образом проводит конец партии.
29. Лd3 — g3 g6 — g5+
30. Крf4 — f3 Кc8 — b6
С тем, чтобы на 31. Л:d6 играть Кc4, Ке5+ и gh.
31. h4 : g5 h6 : g5
32. Лg3 — h3 . . .
И сейчас нехорошо 32. Л:d6 в виду Лh8 и Кc4 и черные добивались удовлетворительной партии.
32. . . . Ле7 — d7
33. Крf3 — g3! . . .
Белые уводят короля в безопасное от шахов место и подготовляют следующую решительную комбинацию.
33. . . . Крf7 — е8
34. Лd1 — h1 Сa8 — b7
35. е4 — е5! . . .
Элегантный прорыв, посредством которого белые вводят в игру коня c3 и овладевают пунктом c5.
35. . . . d6 : е5
36. Кc3 — e4 Кb6 — d5
37. Кe6 — c5 Сb7 — c8
На ход ладьей последовало бы 38. К:b7 и Кd6+.
38. Кc5 : d7 Сc8 : d7
39. Лh3 — h7 Лg8 — f8
40. Лh1 — a1 . . .
Вся белая армия вторгается в лагерь черных.
40. . . . Кре8 — d8
41. Лa1 — a8+ Сd7 — c8
42. Ке4 — c5
Черные сдались.
1. е2 — е4 c7 — c5
2. Кb1 — c3 е7 — е6
3. Кg1 — f3 d7 — d6
4. g2 — g3 . . .
Продолжение 4. d4 cd 6. К:d4 Кf6 приводит к хорошо известным вариантам.
4. . . . Кg8 — f6
5. Сf1 — g2 Сf8 — e7
6. 0 — 0 0 — 0
7. b2 — b3 . . .
Белые не хотят получить слабый пункт на c4, что обычно случается при других продолжениях.
7. . . . Кb8 — c6
8. Сc1 — b2 Сc8 — d7
9. d2 — d4 c5 : d4
10. Кf3 : d4 Фd8 — a5
11. Фd1 — d2 Лa8 — c8
12. Лa1 — d1 Крg8 — h8
Грозило К:c6 и затем Кd5!.
13. Кc3 — е2! . . .
13. . . . Фa5 : a2?!
Оригинальная комбинация со стороны Ласкера! Правда, после гибели ферзя черные приобретают очень крепкое положение, но все же возможность проигрыша для них после этого отнюдь не исключена. Повидимому, Ласкер опасался, что после размена или отступления ферзя белые ходом c4 могут получать позиционно лучшую партию.
14. Лd1 — a1 Фa2 : b2
15. Лf1 — b1 Фb2 : b1+
16. Лa1 : b1 Лf8 — d8
17. c2 — c4 Кf6 — е8
18. f2 — f4 . . .
Чересчур стремительно и ведет лишь к ослабление собственной позиции. Правильнее было К:c6.
18. . . . a7 — a6
19. Крg1 — h1 Ке8 — c7
20. Фd2 — е3 Лc8 — b8
21. Лb1 — d1 Кc6 — b4
В то время, как черные с каждым ходом усиливают свою позицию, белые бродят ощупью без определенного плана.
22. Фe3 — c3 a6 — a5
23. Лd1 — a1 . . .
Ладье сейчас здесь делать нечего.
23. . . . b7 — b6
24. Фc3 — е3? . . .
Досадная ошибка в положении, таившем в себе еще много возможностей.
24. . . . e6 — е5!
Черные выигрывают качество, после чего проводят эндшпиль просто и энергично.
25. Кd4 — f5 Сd7 : f5
26. e4 : f5 Кb4 — c2
27. Фе3 — c3 Кc2 : a1
28. Фc3 : a1 Сe7 — f6
29. Фa1 — g1 d6 — d5
30. c4 : d5 Кc7 : d5
31. f4 : e5 Сf6 : e5
32. g3 — g4 f7 — f6
33. h2 — h4 b6 — b5
34. Кe2 — d4 Кd5 — e3!
35. Фg1 : е3 Лd8 : d4
36. Сg2 — f3 a5 — a4
37. h4 — h5 a4 — a3
38. Фе3 — e2 Лb8 — d8
Белые сдались.
Партия, обнаруживающая всю силу и тонкость тактики
Ласкера! Вероятно, ни одному из современных мастеров не пришла бы в голову мысль пожертвовать ферзя в подобном положении!
(Примечания Е. Боголюбова[8])
Бауэр
Ласкер
Положение это случилось в партии, игранной в первом международном турнире, в котором принимал участие молодой Ласкер (Амстердам, 1889 г.). Последний ход черных был Кf6:h5. Вместо, казалось бы, естественного ответа Фе2:h5, после которого черные могли бы ходом f7—f5 удовлетворительно защититься, последовала эффектная комбинация, ставшая после этой партии типичной для подобных положений (см., например, известную партию Нимцович—Тарраш, Петербург, 1914 г.):
1. Сd3 : h7+! Крg8 : h7
2. Фе2 : h5+ Крh7 — g8
3. Сe5 : g7! Крg8 : g7
4. Фh5 — g4+ Крg7 — h7
5. Лf1 — f3 e6 — e5
6. Лf3 — h3+ Фc6 — h6
7. Лh3 : h6+ Крh7 : h6
8. Фg4 — d7
3аключительный ход всей комбинации. Белые выигрывают одного из слонов и — благодаря материальному перевесу — и партию.
Через сорок шесть лет в последнем туре длинного и напряженного Московского турнира 1935 г. 67-летний Ласкер, играя против молодого Пирца, энергичной атакой заканчивает партию и вместе с ней весь блестяще проведенный турнир.
Пирц
Ласкер
1. Лf1 : f6!! g7 : f6
2. Фd1 — h5+ Крe8 — d8
Красивые варианты получались после 2. . . . Кре7 3. Кf5+! ef 4. Кd5+ Крd8 (Крd7 Кb6+) 5. Сb6+ Крd7 6. Фf7+ Крc6 7. Фc7+ Крb5 8. a4+ Ф:a4 9 c4+ Ф:c4 10. Лa5 мат.
Если же после 2. . . . Кре7 3. Кf5+ черные сыграют 3. . . . Крd7, то последует 4. Фf7+ Крc6 5. Кd4+ Крc5 (Крb6 . . . 6. Кb3+ и 7. Кa5+) 6. Кdb5+ Крc6 7. Фc7 мат. Или 6. . . . Крb4 7. a3+ и 8. b4+. Если 2. . . . Крd7, то 3. Фf7+ Сe7 4. Кf5! Ле8 5. Лd1 d5 6. К:d5 и белые выигрывают.
3. Фh5 — f7 Сc8 — d7
Нельзя 3. ... Се7 из-за 4. Кf5 Фc7 5. Сb6 Ф:b6 6. Ф:е7 мат. Или 4. . . . Ле8 5. К:d6! С:d6 (если 5. . . . Фc6, то 6. К:е8 Ф:е8 7. Сb6+ Крd7 8. Лd1+) 6. Сb6+ Сc7 7. Лd1+ и выигр.
4. Фf7 : f6+ Крd8 — c7
5. Фf6 : h8 Сf8 — h6
6. Кd4 : е6+ Фc4 : e6
7. Фh8 : a8 Сh6 : е3+
8. Крg1 — h1 Черные сдались.