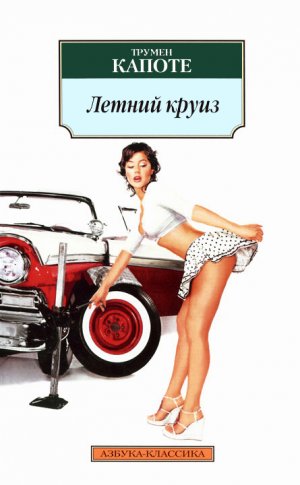
ГЛАВА 1
— Ты странно ведешь себя, милая, — сказала мать, и Грейди, пристально глядевшая сквозь букет из папоротника и роз, стоявший на середине стола, снисходительно улыбнулась: да, я непостижимая — ей нравилось так думать.
Но тут Эппл, старше на восемь лет, к тому же замужем, — вот уж в ком не было ничего непостижимого, — заявила:
— Грейди просто дурочка, я бы с радостью поехала с вами. Ах, мамочка, подумать только: через неделю в это самое время вы будете завтракать в Париже! Джордж все обещает, что мы тоже съездим… но я не знаю, получится ли. — Она замолчала, взглянув на сестру. — Грейди, ради бога, ну зачем тебе торчать в Нью-Йорке в такую жару?
Грейди хотела одного: чтобы ее оставили в покое; но нет, опять завели свою волынку, а ведь пароход отплывает уже сегодня, и все, что она могла им сказать, уже сказано. Не хватает только открыть им правду, а это совершенно не входило в ее планы.
— Я еще ни разу не оставалась здесь летом, — сказала она, переводя взгляд на окно: из-за блеска несущихся по дороге машин июньская утренняя тишина Сентрал-парка казалась особенно благодатной. Ярко-зеленая глазурь весны подсыхала на солнце, которое, припекая совсем по-летнему, купалось в листве деревьев, росших возле отеля «Плаза», где они завтракали. — Можете считать меня сумасбродкой — ну и пожалуйста.
Она улыбнулась, подумав, что ляпнула что-то не то: родные и так уже почти считали ее сумасбродкой. Когда Грейди было четырнадцать, однажды она вдруг с ужасом осознала, и очень остро, что не нравится матери, хотя та ее и любит. Сперва она думала, что мать считает ее менее красивой, менее веселой и куда более упрямой, чем Эппл. Однако позже, к великому разочарованию сестры, стало очевидно, что Грейди гораздо привлекательнее, и она перестала выискивать причины материнской неприязни. Ведь все дело было, разумеется, в том — теперь-то Грейди это прекрасно понимала, — что и сама она подспудно всегда, с самого раннего детства, недолюбливала мать. И все же этим чувствам недоставало огня, и обитель их враждебности была, правда скромно, украшена взаимной любовью, которую миссис Макнил на сей раз выразила тем, что прикрыла руку дочери ладонью и проговорила:
— И все равно, доченька, мы будем о тебе беспокоиться. Как же иначе? Я просто не знаю. Просто не знаю. Отнюдь не уверена, что ты справишься. Тебе ведь только семнадцать лет, и ты никогда не оставалась одна, совсем одна.
Мистер Макнил, всегда говоривший таким тоном, будто делает ставку в покере, но вообще-то чаще помалкивавший — отчасти потому, что жена его не любила, когда ее перебивают, отчасти же потому, что он был сильно утомлен жизнью, — сунул сигару в кофейную чашку, чем вызвал содрогание у Эппл и миссис Макнил, а затем изрек:
— Черт возьми, когда мне было восемнадцать, я уехал в Калифорнию на целых три года!
— Но Леймонт… ты же мужчина.
— Какая разница? — проворчал он. — Между мужчинами и женщинами уже давно нет никакой разницы. Ты сама мне говорила.
Разговор принимал неприятный оборот, и миссис Макнил, откашлявшись, возразила:
— И все равно, Леймонт, меня очень беспокоит наш отъезд…
На Грейди накатила волна неудержимого смеха, радостного волнения, от которого грядущее лето казалось ей нетронутым белым холстом, на который ей предстояло нанести первые, пусть неумелые, но самостоятельные мазки. И еще ее веселило то — хотя лицо ее ни чуточки не дрогнуло, — что они ничего не заподозрили. То есть вообще ничего. Искорки света, подрагивавшие на серебряных столовых приборах, словно бы поощряли ее восторг и в то же время предупреждали: осторожнее, милая. Но вдруг откуда-то донеслось: «Грейди, тебе есть чем гордиться, ты сумеешь высоко держать свое знамя, и пусть оно вьется на ветру». Чей же это голос? Быть может, одной из роз? Ведь розы умеют говорить, Грейди где-то читала, что они — средоточие мудрости. Она снова взглянула в окно; смех рвался наружу, разжимал ее губы: этот сияющий, весь в солнечных пятнах, весенний денек предназначен ей, Грейди Макнил, розам, умеющим говорить!
— Что тут смешного, Грейди? — Голос Эппл прозвучал не очень-то ласково, будто она разговаривала с назойливым капризным ребенком. — Мама задала тебе простой вопрос, а ты смеешься, как будто она сморозила глупость.
— Грейди вовсе не считает меня глупой, разумеется нет, — всполошилась миссис Макнил, но прозвучало это не слишком убедительно.
Глаза матери, прикрытые паутинкой вуали, которую она при этих словах опустила на лицо, приобрели несколько смущенное выражение, как всегда, когда Грейди бывала, по ее мнению, чересчур надменна и строптива. Они с дочерью никогда не были особенно близки, и миссис Макнил считала, что это даже к лучшему: слишком плохо они понимали друг друга. И все же невыносимо было думать, что Грейди, поскольку они так далеки, смеет смотреть на мать свысока; при одной этой мысли у миссис Макнил начинали дрожать руки. Однажды, когда Грейди была еще девчушкой-сорванцом со стрижеными волосами и шершавыми коленками, мать не смогла справиться с ними, со своими руками: когда это случилось, разумеется не в самый легкий для любой женщины период, она, не выдержав холодного равнодушия Грейди, сильно ее отшлепала. Впоследствии, если вдруг накатывало раздражение, миссис Макнил покрепче цеплялась руками за что-нибудь твердое: ведь в тот раз она сорвалась потому, что Грейди удалось смутить ее оценивающим взглядом своих зеленых глаз, похожих на два маленьких моря, удалось увидеть ее насквозь и словно направить прожектор на кривое зеркало ее тщеславия; и поскольку миссис Макнил была женщиной ограниченной, то впервые столкнулась с волей более сильной, чем ее собственная.
— Разумеется, нет, — повторила она шутливо, вся светясь напускной веселостью.
— Извини, — сказала Грейди, — ты о чем-то спросила? Похоже, у меня что-то со слухом.
Она специально произнесла последнюю фразу так, чтобы та прозвучала скорее как печальное откровение, чем как извинение.
Неужели! — прощебетала Эппл. — Уж не влюбилась ли ты?
Сердце Грейди застучало чаще, словно отбивая сигнал тревоги, серебряная ложка дрогнула в ее руке, и колечко лимона, которое она лишь наполовину успела выдавить в чай, перестало истекать соком. Девушка метнула быстрый взгляд на сестру, чтобы проверить, чего больше в ее глазах — прозорливости или глупости? Удовлетворенная результатом своих наблюдений, она выжала лимон до конца.
— Мы о платье, дорогая, — объяснила мать. — Просто я подумала, что его можно заказать и в Париже — Диор, Фат, что-нибудь в этом роде. В конце концов, это может оказаться даже дешевле. Бледно-зеленый смотрелся бы божественно, это же твой цвет, и он так пошел бы к твоим волосам… Напрасно ты так коротко подстриглась, тебе не идет, и это не очень-то… не очень-то женственно. Жаль, что на первый выход в свет нельзя надевать зеленое. Но у меня возникла другая идея: как тебе белый муаровый шелк?
Грейди раздраженно ее перебила:
— Если вы опять о бальном платье, то мне ничего не надо. Не надо мне никаких балов, я вообще не собираюсь на них ходить, во всяком случае на такие, вы понимаете, о чем я. Не позволю делать из себя дуру.
Из множества испытаний, уготованных миссис Макнил в этой жизни, это было самым невыносимым: ее всю затрясло, будто какие-то сверхъестественные колебания наполнили вдруг пределы столовой отеля «Плаза», который являл собой воплощение устойчивости и трезвого благоразумия. «Я тоже не позволю делать из себя дуру», — могла бы она ответить дочери, ибо, продумывая предстоящий ее выход в свет, она уже постаралась на славу. И хотела даже нанять специального секретаря. Более того, она имела полное право сказать, что вся ее светская жизнь, каждый смертельно скучный обед, каждое дурацкое чаепитие (именно так — дурацкое!) были выстраданы ею ради будущего дочерей: чтобы их выход в свет ознаменовался блестящим приемом. Надо сказать, светский дебют самой Люси Макнил был событием громким и запоминающимся: ее бабка, которая справедливо слыла одной из первых красавиц Нового Орлеана и вышла замуж за мистера Ла Тротта, сенатора от Южной Каролины, одновременно представила свету Люси и двух ее сестер — случилось это на Балу камелий, который был дан в Чарльстоне в апреле 1920 года. Вот уж был выход так выход: все три сестры Ла Тротта тогда еще учились в школе, и их светские похождения ограничивались посещением церкви. Той ночью Люси с такой жадностью кинулась в водоворот танца, что много дней потом не сходили с ее ног синяки, оставленные этим первым выходом в жизнь. С такой жадностью целовала она губернаторского сына, что не один месяц потом ее щеки пылали от стыда и раскаяния, потому что сестры — они тогда были девушками, ими же и остались — утверждали, будто от поцелуев рождаются дети. Но бабушка, которой Люси со слезами во всем призналась, сказала, что нет, дети от поцелуев не рождаются — леди, впрочем, тоже. Вздохнув с облегчением, Люси продолжила в том же духе, и ее первый год прошел триумфально. Оно и понятно: на нее было приятно взглянуть и к тому же не слишком противно слушать — это давало огромные преимущества, поскольку девушек на выданье было не много, и молодым кавалерам приходилось выбирать между такими несоблазнительными яблочками, как Хейзл Вир Намланд и барышни Линкольн. Кроме того, во время зимних каникул родные матери, урожденной Фермонт, коренные ньюйоркцы, устроили в честь Люси роскошный бал, в этом самом отеле, в «Плазе». И хотя сейчас она была почти в том же самом месте и изо всех сил старалась вспомнить хоть что-нибудь — воспоминания ускользали, — она была уверена только в одном: все тогда сияло золотом и белизной, и на ней было жемчужное ожерелье матери, и — ах да! — тогда она и познакомилась с Леймонтом Макнилом — не ахти какое событие: потанцевала с ним один раз и тут же забыла об этом. На мать он, однако, произвел впечатление: хотя Леймонт Макнил не был известен в свете и ему не исполнилось еще тридцати, тень этого молодого человека уже маячила над Уолл-стрит, а посему он считался выгодной партией — заключение это было вынесено если не в сонме ангелов, то по крайней мере в кругу людей лишь не намного ниже статусом. И молодого человека позвали на обед. А отец Люси пригласил его в Южную Каролину, на утиную охоту. «Бравый юноша» — таков был вердикт старой доброй миссис Ла Тротта, и поскольку для нее это было главным критерием, считалось, что Макнил прошел испытание. Семь месяцев спустя Леймонт Макнил, приглушив свой зычный «покерный» голос до нежной дрожи, произнес полагающуюся реплику, и Люси, которой до этого делали предложение лишь дважды, причем одно из них было нелепым, другое — шутливым, ответила: «Ах, Леймонт, я самая счастливая девушка на свете!» Ей было девятнадцать, когда у них родился первый ребенок — Эппл: забавно, но девочку назвали так потому, что Люси Макнил во время беременности поедала яблоки корзинами.[1] Однако ее бабушка, приехавшая на крестины, сочла это скандальной вольностью: она сказала, что это джаз и непутевые двадцатые ударили Люси в голову. Но выбор яблочного имени оказался последним озорным взмахом руки вослед затянувшемуся детству: год спустя Люси потеряла второго ребенка, который родился мертвым. Это был сын, и она назвала его Грейди в память о брате, погибшем на войне. Люси долго тосковала; Леймонт нанял яхту, и они отправились в круиз по Средиземному морю. И в каждом ярко-синем порту, от Сен-Тропе до Таормины, она устраивала грустные, слезливые вечеринки с мороженым для местных на редкость стеснительных мальчишек, которых ватагами пригонял для нее с берега пароходный стюард.
Но по возвращении в Америку этот слезливый туман внезапно улетучился: Люси вдруг обнаружила, что существуют Красный Крест, Гарлем, бридж, стала всерьез интересоваться деятельностью церкви Святой Троицы, журналом «Космополитен», республиканской партией; не было организации, которую она не опекала бы, не поддерживала бы деньгами и личным сочувствием. Одни говорили, что она восхитительна, другие — что она отважна, а кое-кто попросту ее презирал. Однако эти немногие составляли энергичную клику, и за несколько лет совместными усилиями им удалось загубить ряд начинаний Люси. Она выжидала; она ждала Эппл: если выход девушки в свет становится триумфом, в распоряжении ее матери оказывается, фигурально выражаясь, атомное оружие. Но судьба обвела Люси вокруг пальца: началась новая война, а в военное время торжественный вывод в свет дочурки выглядел бы вульгарно; вместо этого Макнилы снарядили для Англии санитарный отряд. А теперь и Грейди пыталась обвести Люси вокруг пальца. Руки ее укоризненно постукивали по столу, взлетали к лацканам жакета, теребили брошь с бриллиантами коричного цвета: это было уже слишком, Грейди всегда норовила обвести ее вокруг пальца — уже тем, что не родилась мальчиком. Но она все равно назвала ребенка Грейди, и бедная миссис Ла Тротта, в раздражении доживавшая последний год своей жизни, рассердилась настолько, что объявила Люси ненормальной. А Грейди так и не стала Грейди — ребенком, о котором Люси мечтала. И в данном случае Грейди тоже слишком далеко до идеала: Эппл — вот кому, при ее милой игривости, при ее чувстве стиля, перенятым у Люси, успех был бы обеспечен, тогда как перспективы Грейди вызывали сомнения — хотя бы уже потому, что она никогда не пользовалась благосклонностью молодых людей. Если же она не будет слушаться матери — провала не избежать.
— Грейди Макнил, твой выход в свет состоится во что бы то ни стало, — объявила Люси, натягивая перчатки. — Ты будешь в белом шелковом платье, с букетом зеленых орхидей: это слегка оттенит цвет твоих глаз и рыжие волосы. И мы наймем оркестр, который Беллы приглашали для Харриет. И, Грейди, учти: если ты намерена и дальше капризничать по этому поводу, я никогда больше не стану с тобой разговаривать. Леймонт, попроси, пожалуйста, счет.
Грейди предпочла промолчать; она знала, что отец и сестра не так спокойны, как может показаться: они ждут, что она снова начнет препираться, — и это лишний раз показывало, как они к ней невнимательны, как плохо знают ее характер. Еще месяц-два назад, если бы кто-то посмел вот так унизить ее достоинство, она немедленно помчалась бы к машине и, до отказа вдавив педаль, рванула бы прочь; потом она нашла бы Питера Белла и излила бы ему свою злость в каком-нибудь придорожном кабаке — она бы заставила всех их поволноваться. Но теперь ей было совершенно безразлично. Отчасти она даже сочувствовала честолюбивым замыслам Люси. Но до всего этого еще так далеко, впереди — целое лето; и ничто не предвещало того, что это вообще когда-нибудь случится, это белое шелковое платье и оркестр, который Беллы приглашали для Харриет. Пока мистер Макнил оплачивал счет, а остальные направились к выходу, Грейди приобняла Люси и с отроческой (подростковой) неловкостью нежно чмокнула ее в щеку. Этот ее жест неожиданно всех объединил; они стали семьей: Люси вся засветилась — ее муж, ее дочки… ей есть чем гордиться; а Грейди, при всех ее странностях и упрямстве, что бы там кто ни говорил, — просто чудесный ребенок, и незаурядная личность.
— Дорогая моя, — сказала Люси, — я буду по тебе скучать.
Шедшая впереди Эппл вдруг обернулась:
— Грейди, а ты сегодня на машине?
Грейди помедлила с ответом: в последнее время все, что бы Эппл ни говорила, казалось ей подозрительным — в самом деле, почему ее так интересует, на чем она приехала? А что если Эппл знает? Только не это…
— Я приехала гринвичским поездом.
— Так ты оставила машину дома?
— А что, это важно?
— Нет, то есть да. И нечего на меня рявкать. Я просто думала, что ты подбросишь меня на Лонг-Айленд. Я обещала Джорджу заехать домой и взять его энциклопедию, тяжеленную такую. Уж очень не хочется тащить ее в поезд. Если мы обернемся быстро, ты могла бы искупаться.
— Извини, Эппл, не могу. Машина в мастерской; я отдала ее еще позавчера: спидометр заклинило. Наверное, уже починили, но у меня, вообще-то, еще встреча в городе.
— Ага, — проворчала Эппл. — И с кем же, если не секрет?
Это был очень даже секрет, но Грейди ответила:
— С Питером Беллом.
— С Питером Беллом? Господи! Ну почему же все с ним да с ним? Он считает себя очень умным.
— Он действительно умный.
— Эппл, — одернула ее Люси, — с кем дружит Грейди — не твое дело. Питер — чудесный мальчик, а его мать была подружкой невесты у меня на свадьбе. Помнишь, Леймонт? Она тогда поймала букет. Но разве Питер еще не в Кембридже?
И тут Грейди услышала, как с другого конца холла донеслось:
— Эй, Макнил!
Только один человек на свете так ее называл, и с сделанным восторгом, поскольку момент для встречи был не самый удачный, она обернулась и убедилась, что опасения ее оправдались. Молодой человек, одетый хорошо, но как-то нелепо (строгий фланелевый костюм с белым вечерним галстуком, ковбойский ремень с блестящими побрякушками, а на ногах — теннисные туфли), стоял у табачного прилавка и запихивал в карман сдачу. Он двинулся к Грейди, и она сама пошла ему навстречу; в его походке была небрежная грация, присущая баловням судьбы, ждущим от жизни только самого лучшего.
— Выглядишь сногсшибательно, Макнил. — Он по-свойски ее приобнял. — Но до меня тебе далеко: я только что из парикмахерской.
Справедливость сего заявления подтверждалась безупречной свежестью его аккуратно выбритого, тонко очерченного лица, а новая стрижка придавала ему вид невинный и беззащитный.
Грейди с ребяческой грубоватостью пихнула его в плечо:
— А почему ты не в Кембридже? Неужели юриспруденция — это так скучно?
— Очень скучно, но еще скучнее мне станет, когда мое семейство узнает, что меня выперли.
— Ты врешь, — рассмеялась Грейди. — Но все равно, я хочу услышать подробности. Правда, сейчас мы ужасно спешим. Папа с мамой плывут в Европу, и мне нужно посадить их на пароход.
— А можно мне с вами? Ну пожалуйста, мисс!
Грейди задумалась, но потом крикнула:
— Эппл, скажи мамочке, что Питер поедет с нами!
И Питер Белл, стоявший за спиной Эппл, показал ей нос и побежал на улицу ловить такси.
Им пришлось взять два такси; Грейди и Питер сели во второе — задержались, чтобы забрать из гардероба собаку Люси, маленькую таксу со злыми глазками. В крыше машины был люк; над ними проносились летящие голуби, облака и башни; солнце, метавшее стрелы, оперенные летом, звенело в стриженых волосах Грейди, сиявших, как новенький пенни, а ее худенькое подвижное лицо, на котором проступали изящные, словно рыбий хребет, косточки, вспыхивало румянцем под ударами стрел медового света.
— Если тебя вдруг спросят, — предупредила она, зажигая Питеру сигарету, — Эппл или кто-нибудь еще, пожалуйста, скажи им, что у нас с тобой свидание.
— Это что, новая мода — зажигать джентльменам сигареты? А эта зажигалка… Макнил, откуда она у тебя? Она чудовищна.
Питер был прав. Хотя до сих пор Грейди об этом не задумывалась. Такие зажигалки, отполированные как зеркало и с блестящим вензелем, совсем недавно появились на аптечных прилавках.
— Я ее купила, — ответила Грейди. — Отлично работает. Ну так ты не забудешь, о чем я тебя попросила?
— О нет, любовь моя, ты ее не покупала. Боюсь, ты не настолько вульгарна, хотя очень стараешься.
— Питер, ты меня нарочно дразнишь?
— Ну разумеется.
Он рассмеялся, и Грейди дернула его за волосы, смеясь в ответ. Не будучи родственниками, Грейди и Питер были друг другу как родные — не по крови, но по взаимопониманию. Это была нежнейшая из дружб; всякий раз при встрече с Питером Грейди с наслаждением окуналась в ее спасительное тепло.
— Почему бы мне не подразнить тебя? Разве ты меня не дразнишь? Вот только не надо качать головой. Ты что-то задумала и не хочешь мне об этом рассказывать. Не волнуйся, милая, я не буду ничего из тебя вытягивать. А насчет свидания — почему бы и нет? Я готов на что угодно — лишь бы сбежать от моих безутешных родителей. Но с условием — платишь ты: какой смысл тратить на тебя деньги? А то я уж лучше поошиваюсь вокруг ненаглядной сестрицы Харриет: она, по крайней мере, знает все про астрономию. Кстати, ты слышала, что учинила эта мерзкая девчонка? Отправилась на остров Нантакет и будет там все лето изучать звезды. Это и есть их корабль? «Куин Мэри»? А я надеялся увидеть что-нибудь забавное, польский танкер какой-нибудь. Того, кто придумал этого злобного кита, неплохо бы самого отравить газом, правду вы, ирландцы, говорите: англичане — жуткие типы. Хотя и французы не лучше. Жаль, что «Нормандия» не сгорела раньше.[2] Хотя на американском корабле я бы все равно не поплыл, даже если бы мне…
Каюта Макнилов находилась на первой палубе; люкс с лакированной мебелью и фальшивыми каминами. Люси носилась туда-сюда по каюте, на лацкане ее жакета подрагивали свежие орхидеи; Эппл ходила за ней по пятам и зачитывала вслух рекламные листки, предлагавшие цветы и фрукты. Секретарша мистера Макнила, величественная мисс Сид, проскочила между ними с бутылкой «Пипер-Айдсик» в руке и со слегка перекошенным лицом: еще бы — шампанское утром! (Питер Белл сказал ей, что искать бокал не обязательно: он допьет все, что останется в бутылке); сам же мистер Макнил, в весьма благодушном настроении, стоял в дверях и подбадривал парня, приставленного обслуживать важных пассажиров:
— Прости, старина, забыл припудриться… ха-ха!
Шутки мистера Макнила нравились исключительно мужчинам и мисс Сид — ей только потому, что она, по утверждению Люси, была в него влюблена. Такса разодрала чулки репортерше, которая запечатлела миссис Макнил в самой строгой из всех ее поз, предназначенных для газет и журналов.
— Что мы собираемся делать за границей? — переспросила Люси. — Пока не знаю, что и сказать. У нас есть дом в Каннах, мы не были в нем с самой войны; думаю, там и остановимся. А насчет покупок… разумеется, что-нибудь купим, — она растерянно замешкалась, — но… но главное — само путешествие по морю. Пересечь летом Атлантику — это лучший способ отвлечься от будничной рутины.
Стащив шампанское, Питер Белл повел Грейди через салон на открытую палубу, где пассажиры уже гордо фланировали вместе с провожающими, любуясь панорамой города и пошатываясь от качки. У палубного ограждения в одиночестве стоял мальчуган, печально запуская в воздух конфетти; Питер предложил ему глотнуть шампанского, но тут появилась мамаша, настоящая великанша, и громоподобные звуки ее шагов заставили Питера и Грейди ретироваться на собачью палубу.
— О боже, — удивился Питер, — псарня! Видать, таков наш удел.
Тесно прижавшись друг к другу, они втиснулись на островок солнечного света и были теперь надежно скрыты от чужих глаз, будто сообщники, тайно проникшие на судно, собравшиеся совершить побег. Из дымовых труб с надсадой вырвался нетерпеливый рев, и Питер сказал, что было бы чудесно здесь уснуть и, проснувшись уже посреди океана, увидеть над головой звездное небо. Когда-то, бегая по берегам реки Коннектикут и глядя через пролив Зунд, они целыми днями строили планы путешествий — тщательно продуманные и совершенно неосуществимые, хотя Питер всегда трудился с большим воодушевлением, будто ничуть не сомневался, что на резиновом плоту они смогут доплыть до Испании… И теперь в его голосе задрожали те, прежние, нотки.
— Наверное, хорошо, что мы уже не дети, — сказал он, по-братски поделившись с Грейди остатками вина. — Слишком уж глупо мы себя вели. Хотя жаль, что мы недостаточно юны, чтобы здесь остаться.
Грейди вытянула загорелые голые ноги и мотнула головой:
— Я бы тогда добралась до берега вплавь.
— Похоже, я знаю тебя уже не так хорошо, как прежде. Слишком долго я был в отъезде. Но скажи, Макнил, как ты могла отказаться от Европы? Или я слишком назойлив? Ну то есть выпытываю твою тайну?
— Да нет никакой тайны, — ответила она, хотя знала, что это не совсем так, — и понимание этого и раздражало и воодушевляло. — Тайна — это уж слишком. Скорее просто секрет. Маленький секрет, который мне пока что не хочется раскрывать. Но только пока — недельку, или день, или даже пару часов. Знаешь, это как подарок, который держишь в ящике стола: скоро ты его отдашь, но хочешь, чтобы пока о нем никто не знал.
Грейди понимала, что не очень внятно выразила свои чувства, но была уверена, что увидит на лице Питера привычное понимание, однако увидела лишь отсутствующее выражение и встревожилась. Питер будто разом полинял: будто от этого внезапного нападения солнца вдруг выгорели все краски. Догадавшись, что он не слышал ни одного слова, Грейди потрясла его за плечо.
— Я вот о чем думаю… — проговорил он. — Возможно, отсутствие интереса к твоей персоне и есть, в сущности, лучшая награда?
Этот вопрос возник не на пустом месте. Но Грейди, для которой ответ на него заключался в жизни самого Питера, была удивлена, даже слегка шокирована тем, что он говорит с такой тоской, и тем, что он вообще его задал. Питер никогда не был популярной личностью — что правда, то правда — ни в школе, ни в клубе, ни среди тех людей, на общение с которыми Питер, как он сам выражался, был обречен. И все же именно его непопулярность свела их вместе, потому что Грейди, которой было на это наплевать, Питер нравился, и она с легкостью вошла в его обособленный мир, будто бы и ее загнали туда те же проблемы… Именно Питер приучил Грейди к мысли, что ее тоже все недолюбливают, что оба они чересчур умны и тонки для своего времени, для этой эпохи инфантильных недорослей; он говорил, что лишь в будущем их сумеют оценить. Грейди это все не слишком волновало. И теперь, оглядываясь на свое прошлое, она поняла, что для нее самой проблемы отчужденности, которая казалась теперь такой ужасной, в действительности не существовало. Просто она никогда не стремилась к популярности, у нее не было ощущения, что это так уж важно — нравиться окружающим. А вот Питера это очень угнетало. Все детские годы она помогала ему возводить песочный замок, который, вопреки всей своей непрочности, смог бы защитить ее друга. Такие замки обычно постепенно разрушаются реальными событиями, невыдуманным счастьем. И то, что замок Питера до сих пор уцелел, было поистине невероятно. Грейди по-прежнему с удовольствием заглядывала в папку накопленных ими за много лет забавных воспоминаний, печальных происшествий и трогательных детских вымыслов, но песочный замок был ей не нужен. Как Питер не понимает, что золотое время, о котором он говорил, их звездный час — уже настал?
— Я знаю, — сказал он, будто разгадав ее мысли и отвечая на них. — И все-таки.
Я знаю. И все-таки. Питер вздохнул, произнеся эту сентенцию.
— Ты, наверное, решила, что я пошутил. Насчет университета. Меня и вправду выгнали. Не потому, что я сказал что-то неправильно, наоборот: возможно, я сказал кое-что слишком правильно. Как выяснилось, и то и другое спорно. — Безудержная живость, которая так к нему шла, вдруг преобразила лицо этого смутьяна. — Я рад за тебя, — неожиданно произнес он, обдав Грейди волной такой теплоты, что она порывисто прижалась щекою к его щеке. — Если бы я признался тебе в любви, это был бы инцест — правда, Макнил?
Гонги забили сигнал «всем на берег», и палубу покрыли серые, как зола, тени, разбавленные тенями невесть откуда набежавших облаков. На мгновение Грейди овладело чувство невосполнимой утраты. Бедняжка Питер — она вдруг поняла, что он знает ее еще хуже, чем Эппл, — но он ее единственный друг, и потому она обязательно обо всем ему расскажет — не сейчас, как-нибудь потом. Что он ей ответит? Поскольку это был не кто-то там, а Питер, Грейди надеялась, что он только сильнее полюбит ее; если же нет — пусть море поглотит их замок. Не тот, что они возвели когда-то, защищаясь от жизни, — того уже не существовало, по крайней мере для Грейди, — но другой замок, хранящий дружбу и данные обещания.
Как только солнечные лучи вырвались из облаков, Питер встал и рывком помог Грейди подняться, а потом спросил:
— Ну и где же мы пируем сегодня вечером?
И Грейди, все собиравшаяся объяснить, что не сможет с ним встретиться, опять промолчала, потому что, как только они спустились по лестнице, стюард, весь в медных бликах от сияющего гонга, строго их поторопил, а потом было бурное прощание с Люси, и после столь серьезного испытания Грейди вообще обо всем забыла.
Сморкаясь в платок и судорожно обнимая дочерей, Люси проводила их до самого трапа; увидев, что они вошли в парусиновый туннель, она поспешила на палубу, чтобы не пропустить момент, когда они появятся за зеленым ограждением. Когда же Люси вновь увидела их, стиснутых толпой и растерянно ищущих ее глазами, она принялась размахивать платком, чтобы они ее заметили, но рука ее вдруг странно ослабла, и она, с терзающим чувством недосказанности, неполноты, будто оставила какое-то дело незавершенным, позволила ей бессильно упасть. Люси крепко прижала платок к глазам, а в дрожащем мареве перед нею маячил образ Грейди. (Она ведь любила ее! Бог свидетель, она любила Грейди так сильно, как только это дитя ей позволяло.) Наступали тяжелые, мучительные дни. Грейди отличалась от нее не меньше, чем сама Люси от собственной матери, — была увереннее и жестче, — но все равно, она еще совсем ребенок, маленькая девочка, и они все совершали страшную ошибку, нельзя было ее оставлять, Люси не должна была оставлять свое дитя, недорастив его, недовоспитав; надо поторопиться, надо скорее сказать Леймонту, что им нельзя уезжать. Но не успела она сделать и шага, как муж стиснул ее в объятиях; он махал дочкам рукой; Люси, помешкав, тоже стала махать.
ГЛАВА 2
Бродвей — не просто улица; Бродвей — это ее собственный мир, особая атмосфера. Начиная с тринадцати лет, все зимы, проведенные в пансионе мисс Рисдейл, Грейди еженедельно совершала туда тайные вылазки — даже если приходилось прогуливать уроки, что бывало нередко. Сначала ее привлекали джазовые представления в «Парамаунте», «Стрэнде», чудные фильмы, каких не показывали ни в кинотеатрах восточнее Пятой авеню, ни в Стэмфорде, ни в Гринвиче. Ну а в последний год ей больше нравилось просто бродить туда-сюда или стоять на перекрестке, затерявшись в толпе. Так она проводила весь день, порой до самой темноты. Но там никогда не было темно: огни, горевшие и при солнечном свете, в сумерках становились желтыми, а ночью — белыми, а лица — лица, плененные мечтой, казались на Бродвее особенно открытыми. Ее здесь никто не знал, и это тоже приятно будоражило, но поскольку она была уже как бы не она, не Грейди Макнил, а кто-то еще, то и не смогла бы сказать, что за порох питает самые яркие вспышки ее восторгов. Она никогда и никому об этом не рассказывала — о надушенных неграх с жемчужными глазами, о мужчинах в шелковых рубашках или матросках, о буянах и изнеженных щеголях, о мужчинах, которые смотрели, улыбались, шли следом: а вам куда? Некоторые лица, как у той дамы, что меняла деньги в «Никс эмьюзментс», были поистине лицами призраков: зеленоватые тени под зеленоватым макияжем, вечерние скитальцы, похожие на мумий, словно бы парящие в этом карамельном воздухе. Скорее. Печальный рев, бешено рвущийся из дверных мегафонов, вливается в ритм улицы, напрягает все чувства до предела: бежать — прочь от яркого света, от джаза, в естественную, полную тихого безгрешного блаженства тьму… Об этих притягательных страхах Грейди никому не рассказывала.
На одной из боковых улочек, идущих от Бродвея, неподалеку от театра «Рокси», находилась парковка. Безлюдное, неприглядное место, где и взгляду зацепиться не за что, кроме вереницы лавок, торгующих воздушной кукурузой и черепаховым супом. Вывеска у въезда гласила: «Парковка Немо». Останавливаться здесь было дорого, и вообще неудобно, но в начале года, когда Макнилы перебрались из нью-йоркской квартиры в Коннектикут, Грейди, приезжая в город, именно тут оставляла машину.
Как-то в апреле на парковку нанялся молодой парень. Звали его Клайд Манцер.
Еще не доехав до парковки, Грейди принялась его высматривать: если утром заняться было нечем, он иногда шатался в окрестностях или сидел в местном кафе «Автомат» и пил кофе. Но на сей раз его нигде не было видно; не нашла она его и на самой парковке. Был полдень, и от гравия поднимался жаркий запах бензина. Клайд как в воду канул, и все же Грейди прошлась по парковке, нетерпеливо выкрикивая его имя; и чувство облегчения от отъезда Люси, и год или час ожидания встречи с ним — все то, что целое утро держало ее на плаву, в эту секунду вдруг ускользнуло; она наконец сдалась и обреченно замерла под пульсирующим сиянием лучей. Но потом вспомнила, что иногда он устраивается подремать в какой-нибудь машине.
Ее собственный синий «бьюик» с откидным верхом, с коннектикутским номером, на котором были указаны и инициалы владелицы, стоял в самом конце ряда, и еще не дойдя до него, заглядывая в другие автомобили, Грейди уже знала, где нужно искать. Клайд спал на заднем сиденье. Верх у машины был опущен, но она заметила Клайда только сейчас — он весь обмяк и не был виден. На коленях у него лежал открытый детектив; радио тихонько бормотало последние новости. Среди множества чудес, существующих на свете, есть и такое — наблюдать за спящим возлюбленным: пока он не видит, как вы на него смотрите, можно какое-то мгновение держать в руках его сердце. Совершенно беззащитный, в такие минуты он, как это ни глупо звучит, воплощает в себе все то, что вы надеялись в нем найти, — истинное мужество и детскую нежность. Грейди склонилась над ним, заглянула в лицо, и прядь ее волос упала ему на глаза. Тот, на кого она смотрела, был парнем лет двадцати трех, довольно простым и невзрачным. Прямо скажем, идя по Нью-Йорку, таких можно встретить на каждом шагу; впрочем, у этого, в отличие от многих, было гораздо более обветренное лицо, поскольку он почти все время проводил на воздухе. В его фигуре, впрочем, была какая-то ладность и пластичность, а темные, в мелких кудрях, волосы напоминали дорогую каракулевую шапку и очень его красили. Нос с небольшой горбинкой придавал лицу, по-деревенски румяному и не лишенному лукавой сметливости, необычайную мужественность. Его веки дрогнули, и Грейди, чувствуя, как сердце любимого выскальзывает у нее из рук, вся напряглась в ожидании его взгляда.
— Клайд, — шепнула она.
Он не был ее первой любовью. Два года назад, когда Грейди было шестнадцать и у нее только появилась машина, она как-то подвезла молодую пару из Нью-Йорка. Произошло это в Коннектикуте: они искали дом. К моменту, когда они его наконец нашли, — миленький домик, стоящий на земле загородного клуба, рядом с небольшим озерцом, — эти неразговорчивые Болтоны уже не чаяли в Грейди души, она же приняла живейшее участие в их судьбе: с необыкновенным воодушевлением руководила переездом, построила в саду альпийские горки, нашла прислугу, а по субботам играла со Стивом в гольф или помогала ему косить газон. Дженет Болтон — хорошенькая, застенчивая и безобидная, только что окончившая Брин-Морский женский колледж, была на пятом месяце беременности и потому не слишком расположена к занятиям, требующим усилий. Стив был юристом, и поскольку фирма, где он работал, вела дела с отцом Грейди, то Болтонов часто приглашали в «Старое дерево» — так Макнилы нарекли свои земельные владения. Стив плавал в их бассейне и пользовался теннисными кортами. Там стоял дом, прежде принадлежавший Эппл, и миссис Макнил отдала его почти в полное распоряжение Стива. Питер Белл и еще кое-кто из друзей Грейди были не слишком-то этому рады, ибо она общалась только с Болтонами, точнее говоря, она общалась только со Стивом; впрочем, сколько бы времени они вместе ни проводили, ей все казалось мало, и она взяла за привычку иногда ездить в город на том же поезде, что и Стив. На Бродвее она шаталась из одного кинотеатра в другой, дожидаясь вечернего поезда, чтобы поехать вместе со Стивом домой. Но это не успокаивало; она никак не могла понять, почему ощущение восторга непременно должно было превратиться в боль, а теперь и в настоящее страдание. Ведь он знал. Она была уверена, что он знал. Его глаза, следящие за тем, как она пересекает комнату или как она плывет ему навстречу в бассейне, эти глаза знали, но в них не было отпора и недовольства. Так, вместе с любовью, она отчасти изведала и ненависть, потому что Стив Болтон обо всем догадался — и не делал ничего, чтобы ей помочь. И Грейди каждый день творила что-то несусветное: топтала муравьев, мучила светлячков, крепко держа их за крылышки, словно хотела выместить на этих беспомощных тварях злобу на собственную беспомощность, презрение к самой себе. А еще она стала носить совсем легкие платья — выбирала те, что сшиты из самого тонкого материала, и теперь тень от каждого листика и малейшее дуновение ветерка дарили ей ласкающую прохладу; но вот есть совсем не хотелось, ей нравилось только пить кока-колу, курить сигареты и кататься на своей машине, и она страшно исхудала, кожа да кости, легкие платья сидели на ней как какие-то балахоны.
Стив Болтон имел обыкновение плавать перед завтраком в небольшом озерце возле своего дома, и Грейди, узнав об этом, никак не могла успокоиться: проснувшись утром, она представляла себе, как он стоит неподалеку от берега, среди камышей, как диковинная, позолоченная утренними лучами птица. Однажды утром Грейди наконец пошла туда. Возле озера был небольшой сосняк — там-то она и спряталась, прижавшись к земле, покрытой росистыми иглами. Над озером расстилался сумрачный осенний туман: он, конечно же, не придет, слишком долго она ждала, лето пролетело, а она даже не заметила. И тут на тропинке она увидела его — будничного, что-то насвистывающего, в одной руке сигарета, в другой полотенце, на нем был только халат; подойдя к озеру, он стянул его и кинул на камень. У Грейди было такое чувство, будто упала наконец ее звезда — из тех, что, ударившись о землю, не обугливаются, но вспыхивают еще ярче, еще ослепительнее. Грейди приподнялась на коленях, вытянула руки, будто желая прикоснуться, благоговейно поприветствовать его, пока он входит в воду, превращаясь в сказочного великана, которому ничего не стоило бы дотянуться до нее, — и вдруг он абсолютно неожиданно нырнул в глубину под самые камыши. У Грейди, вопреки всем ее предосторожностям, вырвался крик; она скользнула за дерево и обняла ствол, будто тот хранил в себе долю любви Стива, частицу его великолепия.
Ребенок Дженет Болтон появился на свет в конце сезона — осенью, на той самой неделе, пестрой, как перышки фазана, когда Макнилы собрались покинуть «Старое дерево» и переехать в город, в свои зимние апартаменты. Дженет Болтон была на грани отчаяния: она дважды чуть не потеряла ребенка, а ее сиделка победила на каком-то конкурсе танцев и с тех пор вела себя все более и более нахально. Чаще всего она просто не являлась, и, если бы не Грейди, Дженет просто не знала бы, что поделать. Грейди приходила к ней, готовила легкий обед, наскоро прибиралась; а одно из домашних дел ей очень даже нравилось — забирать из стирки вещи Стива и вешать их в шкаф. В тот день, когда родился ребенок, Грейди, придя к Болтонам, увидела, что Дженет вся скрючилась от боли, исходя стонами и криком. Надо сказать, Грейди порою сама не могла понять, что заставляет ее быть по отношению к Дженет такой нежной, такой заботливой. К этому невзрачному существу, которое, как морскую ракушку, можно подобрать, прельстившись ее розовой гофрированной красотой, можно ею любоваться, но никто не станет хранить ее вместе с по-настоящему ценными вещами. В этой скромной непритязательности таились и ее очарование, и ее надежная защищенность, поскольку невозможно было бояться ее или испытывать к ней ревность, — Грейди уж точно ничего подобного не испытывала. Но тем утром, войдя в дом и услышав крик Дженет, Грейди почувствовала удовлетворение. Именно эта жестокость, пусть и неосознанная, помешала ей тут же броситься на помощь: будто все страдания, пережитые самой Грейди, во всей полноте отразились в мучениях Дженет Болтон. Когда Грейди наконец взялась за дело, то справилась со всем очень хорошо: вызвала врача, отвезла Дженет в больницу, потом позвонила Стиву в Нью-Йорк.
Он приехал первым же поездом; они провели весь день в больнице в тревожном ожидании; потом настала ночь, и по-прежнему не было новостей; Стив, выдавивший из себя за весь день пару шуток, неловких каламбуров, забился в угол, и между ними пролегло неодолимое молчание. Казалось, все обыденные огорчения по поводу железнодорожного расписания, служебных дел, платежных квитанций слетели с него, как застарелая пыль. Он сидел и пускал колечки дыма, похожие на нули, и Грейди вдруг почувствовала себя так, будто взмывает в небо, прочь от него, будто тот его, озерный, образ — сказочного великана — отступал, исчезая, и она наконец увидела его настоящего. Это зрелище, бесконечно трогательное, запало ей в самое сердце, потому что он целиком и полностью — и эти устало опущенные плечи, и эта слеза в уголке глаза — принадлежал Дженет и ее ребенку. Охваченная желанием выразить свою любовь — не как к возлюбленному, но как к мужчине, оглушенному любовью и рождением новой жизни, — она подошла к нему. В дверях появилась медсестра; услышав, что у него сын, Стив Болтон никак на это не отреагировал. Потом медленно поднялся и, глядя перед собой невидящими бесцветными глазами, со вздохом, от которого покачнулась комната, уронил голову на плечо Грейди.
— Я самый счастливый человек, — сказал он.
Это свершилось в тот самый момент, ей больше ничего не было от него нужно, семена летних желаний осыпались на зимнюю почву, и ветры унесли их далеко-далеко, прежде чем новый апрель выгнал из них новые бутоны.
— Зажги-ка мне сигаретку.
Голос Клайда Манцера, со сна брюзгливый и, как всегда, чуть охрипший и словно бы ворсистый, имел одно уникальное свойство: что бы Клайд ни говорил, сразу было понятно, какие чувства он вкладывает в свои слова, потому что ощущалась в этом голосе какая-то подспудная мощь, чей напор сдерживался устьем глотки; эта сила пронзала каждый слог мужественностью, как бикфордовым шнуром. При этом Клайд то и дело запинался, а паузы были такими нелепыми, что смысл высказывания куда-то улетучивался.
— Не слюнявь ее, детка. Вечно ты слюнявишь.
Голос Клайда, по-своему неотразимый, мог ввести и в заблуждение: из-за голоса многие считали его дураком, что говорило лишь о том, какие они слепцы: Клайд Манцер был вовсе не дурак, а очень даже смышленый малый, и, чтобы заметить это, не нужно было долго приглядываться. Немудреный курс обучения, который помогает овладеть серьезнейшими предметами — как быстро бегать, где лучше прятаться, как, не тратя ни гроша, ездить в метро, ходить в кино и пользоваться таксофоном, — эти знания, прерогатива дворового детства, обретенные в уличных боях и отчаянных стычках, в которых лишь жестокие и умные, быстрые и смелые имели шанс выжить, — все эти испытания придавали его взгляду яркость и глубину.
— Ну вот, обслюнявила. Черт, я так и знал, что обслюнявишь.
— Я сама ее выкурю, — сказала Грейди и зажгла еще одну сигарету — зажигалкой, которая так поразила Питера своей вульгарностью.
Как-то в понедельник, когда у Клайда выходной, они пошли в тир; там он выиграл эту зажигалку и отдал Грейди. С тех пор у нее завелась привычка давать всем прикурить: было особое удовольствие в том, что ее тайна, обернувшись крошечным огоньком, вспыхивала между нею самой и кем-то еще, кто ничего не знает, но вдруг догадается…
— Спасибо, детка, — сказал он и взял вторую сигарету. — Крошка, ты чудо, ты ее не обслюнявила. Знаешь, просто настроение паршивое. Зря я тут отключился. Сны всякие снились.
— Надеюсь, я тебе тоже снилась?
— Я никогда не помню, что мне снится, — ответил он и потер подбородок, будто раздумывая, не пора ли побриться. — Ну и как, удалось тебе сплавить предков?
— Только что. Эппл попросила, чтобы я подвезла ее домой, да еще один старый друг заявился — словом, сплошная суета, я прямо из порта приехала.
— А я тут жду, когда мой старый друг заявится, — объявил Клайд и сплюнул. — Минк. Знаешь Минка? Я тебе рассказывал, мы в армии вместе были. По случаю того, что ты только что сказала, я попросил его, чтобы он сменил меня тут. Этот ублюдок должен мне пару долларов, ну я и сказал, чтобы подежурил за меня — и тогда мы в расчете. Так что, крошка, — он протянул руку и прикоснулся к прохладному шелку ее блузки, — если он не заявится, — рука мягко скользнула по ее груди, — боюсь, я тут застряну.
Их взгляды встретились, и, пока они смотрели друг на друга, слезинка пота успела скатиться со лба Клайда и пробежать по его щеке.
— Я скучал, — сказал он. И хотел добавить еще что-то, но тут на площадку въехала машина.
В ней оказались три дамы из Вестчестера: они приехали пообедать и посмотреть какой-то дневной спектакль. Грейди осталась в своем «бьюике», ожидая, пока Клайд их обслужит. Ей нравилась его походка — как двигаются его ноги, с неспешной вальяжностью совершая каждый шаг, несколько неуклюже ставя ступни, — походка высокого мужчины, хотя Клайд был не намного выше Грейди. На работе он всегда носил летние штаны цвета хаки и фланелевую рубашку или старый свитер: эта одежда шла ему и оттого смотрелась гораздо лучше, чем костюмчик, которым он так гордился. Но почему-то в ее снах он неизменно появлялся в этом двубортном костюмчике, синем, в тонкую полоску; да что там костюмчик — все ее сны о Клайде были очень и очень странными, лишенными здравого смысла. В этих снах она непременно стояла в стороне и наблюдала, а он всегда был с кем-то еще, с другой девушкой, и они проходили мимо Грейди, презрительно ухмыляясь или делая вид, что не замечают ее, — огромное унижение; но ревность ее была еще сильнее — и это противоречило всякому здравому смыслу. Ее беспокойство, впрочем, было не праздным: она была абсолютно уверена, что пару-тройку раз Клайд ездил куда-то на ее «бьюике», и, однажды оставив машину на ночь, на следующий день она обнаружила между подушек сиденья безвкусно-яркую маленькую пудреницу, точно не ее. Но Грейди ничего не сказала Клайду, только сохранила пудреницу, не упомянув о ней ни разу.
— Ты, часом, не баба Манцера?
Грейди крутила ручку настройки радио, пытаясь найти какую-нибудь музыку, и не услышала шагов; подняв взгляд и увидев мужчину, облокотившегося на капот, она вздрогнула от неожиданности. Мужчина сверлил Грейди глазами, криво ухмыляясь уголком рта, обнажив пару зубов — один был золотым, другой серебряным.
— Слышь, ты ведь баба Манцера, да? Мы твое фото в журнале видели. Такое классное фото — с ума сойти. Винифред, моей подруге — Манцер ведь рассказывал тебе про Винифред? — уж очень оно понравилось. Как думаешь, тот парень, который тебя снимал, мог бы щелкнуть и Винифред? Она бы обалдела от счастья.
Грейди только и могла, что молча смотреть на него, но и это давалось ей с трудом. Этот тип был похож на жирного, в трясущихся складках, младенца, по какому-то недоразумению вдруг выросшего размером с быка: он хлопал глазками и надувал губки.
— Я — Минк, — сообщил он и вытянул из пачки сигарету, которую ему пришлось прикурить самостоятельно, поскольку Грейди в этот момент изо всех сил давила на клаксон, отчаянно сигналя.
Однако ж заставить Клайда поторопиться было невозможно; разобравшись с машиной вестчестерских дам, он возвращался неспешной походкой — так, как ему было удобно.
— И в честь чего этот гам? — спросил он.
— Ну, этот человек… вот, он пришел.
— Думаешь, я не вижу? Здорово, Минк.
Повернувшись к ней спиной, он перевел взгляд на улыбающуюся, похожую на кусок теста физиономию Минка, и Грейди снова принялась сражаться с приемником. Она редко обижалась на выпады Клайда: его несдержанность лишь давала ей повод почувствовать их близость — ведь то, что он позволял себе так дерзить, отражало степень их близости. Она бы, впрочем, предпочла ничего такого не являть перед этим быкообразным младенцем: ты, часом, не баба Манцера? Она, конечно, представляла себе, как Клайд рассказывает о ней друзьям, и даже показывает им ее фотографию в журнале, — это естественно, почему бы и нет? Но представить, что это за люди, разумеется, не могла. Однако лезть на рожон было не время, а потому, пытаясь побороть себя, она улыбнулась и сказала:
— А Клайд боялся, что вы не сможете прийти. Очень любезно с вашей стороны, что согласились нас выручить.
Минк весь вспыхнул, будто она нажала на выключатель — у него внутри. Видеть это было больно, потому что по его изменившемуся лицу Грейди поняла: он почувствовал, что не понравился ей, и его это задело.
— Ну что вы, что вы, как же я могу подвести Манцера. Я бы раньше пришел, все она, Винифред, сами знаете, какая она, у них там забастовка, и она попросила меня приехать, сказать пару ласковых одному большому… гм… извиняюсь.
Грейди беспокойно посматривала в сторону маленькой офисной будки: Клайд ушел туда переодеться, и она с нетерпением ждала, когда же он вернется, и не только потому, что Минк действовал ей на нервы. Расставшись с Клайдом всего на минуту, она уже скучала по нему так, будто они не виделись целую неделю.
— А тачка у тебя отличная, ничего не скажешь. Дядюшка Винифред, который в Бруклине живет, скупает подержанные машины — так вот, зуб даю, он отвалил бы за нее кучу денег. Слышь, а что если нам всем вместе, вчетвером, как-нибудь на танцульки съездить, ты поняла, о чем я?
Тут вернулся Клайд, избавив ее от необходимости отвечать. Под кожаную куртку он надел чистую белую рубашку и галстук, его волосы были расчесаны и разделены каким-никаким пробором, а ботинки сияли. Он встал перед Грейди, не глядя ей в глаза и лихо подбоченившись. Из-за яркого солнца он ужасно хмурился, но всем своим видом вопрошал: ну, как я выгляжу? И Грейди ответила:
— Милый, ты выглядишь просто замечательно!
ГЛАВА 3
Пообедать в Сентрал-парке, в закусочной, примыкающей к зоопарку, предложила она. Поскольку квартира Макнилов находилась на Пятой авеню, почти напротив зоопарка, Грейди это место уже давно надоело, но сегодня, обновленное возможностью поесть на свежем воздухе, заведение это казалось просто роскошным. К тому же Клайду все будет в новинку: оказалось, что некоторые части города для него словно затянуты глухой завесой — например, весь район, который начинается от «Плазы» и тянется к востоку. А Грейди этот мир восточной части Парк-авеню был знаком лучше всего: за его пределы она выбиралась лишь изредка — если не считать Бродвея, конечно. Поэтому она решила, что Клайд шутит, когда он сказал, будто и не знал, что в Сентрал-парке есть зоопарк, или просто об этом забыл. Это потрясающее неведение усугубляло загадочность его прошлого, и без того туманного. Грейди знала, сколько человек у него в семье и как их зовут: мать, две сестры (обе работают) и младший брат. Отец, ныне покойный, был сержантом полиции. Где они живут, Грейди знала только примерно: где-то в Бруклине, в доме возле самого океана, куда на метро нужно добираться больше часа. Были еще несколько друзей, чьи имена Грейди слышала достаточно часто, чтобы запомнить: Минк, с которым она только что познакомилась, другого звали Баббл, а третьего — Гамп. Однажды она спросила, настоящие ли это имена, и Клайд ответил: конечно.[3]
Но картина, которую ей удалось собрать из этих разрозненных сведений, оказалась слишком невнятной и не заслуживала даже самой скромной рамки: ей не хватало перспективы и прорисовки деталей. Виноват в этом был, разумеется, Клайд — человек не слишком разговорчивый. Но зато он и сам не проявлял особого любопытства. Грейди порой беспокоило такое вот отсутствие интереса: возможно, это просто безразличие? И она добровольно снабжала Клайда информацией о себе. Это не значит, впрочем, что она всегда говорила правду — многие ли влюбленные ее говорят? Или могут сказать? Но она сообщала ему достаточно, и он мог составить себе более или менее точное представление обо всей ее жизни, прожитой вдали от него. У нее, правда, создавалось впечатление, что он не слишком охотно выслушивает ее исповеди: ему хотелось, чтобы она была так же неуловима, так же скрытна, как и он. Впрочем, упрекнуть Клайда в скрытности тоже было нельзя: если она спрашивала о чем-то, он всегда отвечал, но это напоминало попытки заглянуть в окно сквозь жалюзи. (Мир, где они встретились, напоминал корабль, мирно дрейфующий между двух островов, которые и есть они сами: Клайд, приглядевшись, мог различить берег Грейди, а вот его берега были покрыты непроглядным туманом.) Однажды, вооружившись несколько экзотической идеей, она спустилась в метро и отправилась в Бруклин, уверенная, что стоит ей увидеть дом, где он живет, и пройтись по улицам, по которым он ходит, как она тут же его поймет и узнает о нем все, что так ее интересует. Но она никогда еще не бывала в Бруклине, и призрачные, безлюдные улицы, эта низина, простирающаяся вдаль и покрытая мешаниной из безликих бунгало, свободных парковок и безмолвной пустоты, так напугали ее, что, не пройдя и двадцати шагов, она развернулась и бросилась назад, в подземку. Позже она поняла, что с самого начала знала: ничего из этого паломничества не выйдет. Возможно, Клайд, обогнувший острова и отдавший предпочтение уединению на корабле, сам не отдавая себе в том отчета, принял единственно верное решение. Но корабль их, казалось, не стремился ни к какому порту. И теперь, когда они сидели на террасе закусочной, укрытые тенью зонтика, Грейди вдруг снова ощутила потребность очутиться на надежной суше.
Ей хотелось, чтобы было весело, чтобы получился праздник в их честь; так и вышло: тюлени дружно их развлекали, орешки были горячими, пиво холодным. Но Клайд был каким-то зажатым. Он очень серьезно подошел к обязанностям кавалера, сопровождающего даму на прогулку: Питер Белл купил бы воздушный шарик ради смеха, Клайд же преподнес ей его как атрибут незыблемого ритуала. Это было так трогательно и так глупо, что какое-то время Грейди стеснялась смотреть на Клайда. Весь обед она крепко держала шарик, как будто это ее собственное счастье дергалось и подпрыгивало на тоненькой ниточке. Но уже в конце обеда Клайд вдруг заявил:
— Слушай, ты же знаешь, я бы хотел остаться! Но тут всплыло одно дело, и мне пораньше нужно домой. Совсем вылетело из головы, иначе бы я тебя предупредил.
Грейди не дрогнула; лишь закусила губу, прежде чем ответить.
— Очень жаль, — сказала она, — да, действительно, очень обидно. — И с раздражением, которого не смогла скрыть, добавила: — Да, тебе действительно стоило предупредить меня об этом. Я бы не строила никаких планов.
— А чем же ты хотела заняться, детка?
Эти слова Клайд произнес с чуть непристойной улыбкой: молодой человек, который смеялся над тюленями и покупал воздушные шарики, предстал в другом ракурсе, и эта проявившаяся сейчас более жесткая сторона его натуры всегда вызывала у Грейди чувство беззащитности: его дерзость так привлекала, так обезоруживала, что оставалось лишь одно желание — подчиниться.
— Да так, пустяки, — сказала она, тоже с легким намеком на непристойность. — В нашей квартире сейчас никого нет, и я думала, что мы могли бы пойти туда и приготовить ужин.
Она указала ему на окна квартиры, которые были видны с террасы закусочной — идущие вдоль половины фасада и высокие, как башни. Но мысль о том, чтобы пойти туда, похоже, расстроила Клайда: он пригладил волосы и потуже затянул узел на галстуке.
— Тебе когда нужно домой? Ведь не сию секунду?
Он помотал головой, а потом сообщил ей то, что ей хотелось узнать больше всего, — почему он, собственно, должен уйти:
— Это из-за брата. У мальца сегодня бар-мицва, и будет правильно, если я приду.
— Бар-мицва? А я думала, это что-то еврейское.
Внезапно его лицо окаменело. Он даже не взглянул, когда бесстыжий голубь как ни в чем не бывало подобрал крошку со стола.
— Так это действительно что-то еврейское?
— А я еврей. Моя мать еврейка.
Грейди молчала, чувствуя, как удивление от этой фразы обвивает ее, точно лоза; и тут, среди плеска голосов, волнами набегающих с соседних столиков, она осознала, насколько далеко они от берега. Ну и что, что еврей? Эппл могла бы устроить из этого проблему, но Грейди и в голову не пришло бы оценивать человека исходя из этого — тем более Клайда; но тон, которым было сделано признание, не только подразумевал, что ей не все равно, но и лишний раз подчеркивал, насколько мало она его знает. Вместо того чтобы стать четче, картина его жизни еще больше размылась, и Грейди почувствовала, что придется начинать все заново.
— Ясно, — начала она медленно. — И что же, предполагается, что меня это должно беспокоить? Вообще-то мне, знаешь ли, все равно.
— Что значит «беспокоить», черт возьми? Кем ты, черт возьми, себя возомнила? Побеспокойся лучше о себе. Я для тебя ничего не значу!
Старомодная дама с сиамской кошкой на поводке с суровым видом вслушивалась в их разговор. Только ее присутствие заставило Грейди сдержаться. Шарик немного сдулся, его верхушка слегка сморщилась; все еще сжимая его в руке, Грейди выскочила из-за стола, сбежала по ступенькам террасы и пошла по дорожке. Клайд смог нагнать ее лишь через несколько минут, а гнев к тому времени уже испарился — тот гнев, что вывел Грейди из себя и погнал ее прочь. Но Клайд схватил обе ее руки, будто боялся, что она попытается вырваться. Хлопья солнечного света, падавшие сквозь крону, весело порхали вокруг, словно бабочки; на скамейку неподалеку уселся мальчик с патефоном «Виктрола», который он поставил на коленки. Из «Виктролы», извиваясь, подобно угрю, на трепещущий воздух рвалась, скручиваясь в спираль, мелодия одинокого кларнета.
— Нет, ты для меня кое-что значишь, Клайд, и даже больше. Но я не могу в этом признаться, потому что мы с тобой, похоже, все время говорим на разных языках.
Она замолчала: под напором его взгляда все слова становились лживыми, и в чем бы ни состояло предназначение их любви — казалось, известно оно было лишь Клайду.
— Конечно, детка, — сказал он, — все будет как скажешь.
И он купил ей еще один шар, потому что старый сморщился, как высохшее яблоко. Новый шарик был гораздо лучше: белый, в форме кошки, и на нем были нарисованы фиолетовые глаза и фиолетовые усы. Грейди была в восторге:
— Пойдем покажем его львам!
В вольере с кошачьими была кошмарная вонь; по воздуху крадучись бродили сны, все в коросте спертых дыханий и мертвых желаний. Забавно и грустно было смотреть на растрепанную львицу, которая раскинулась в своей клетке, как томная звезда немого кино, а также на ее уморительно-неуклюжего дружка, который пялился на публику, то и дело жмурясь, будто ему не хватало очков с бифокальными линзами. Вот леопард чувствовал себя очень неплохо и пантера: от их развязной походки невольно екало сердце, ведь даже унизительная клетка не в состоянии притушить опасность, сверкающую в их азиатских глазах, этих имбирно-золотых цветах, источающих в сумрак неволи свирепую отвагу. Во время кормежки вольер превращается в грозные джунгли, поскольку служитель с окровавленными руками не всегда бывает расторопен, и его питомцы, ревнуя к тем, кого накормили раньше, кричат так, что трясется крыша и сталь грохочет от алчного рева.
Когда началось это буйство, кучка детей, втиснувшихся между Клайдом и Грейди, принялась толкаться и вопить; но рев все нарастал, и постепенно сорванцы притихли и придвинулись поближе друг к дружке. Грейди попыталась протолкнуться через них; в какой-то момент она случайно выпустила воздушный шарик, и маленькая тихоня с недобрым взглядом схватила его и унеслась прочь: ни воровку, ни само воровство Грейди не очень-то и заметила. Ее всю бросало в жар от утробных звериных воплей, и она думала только о том, как бы добраться до Клайда и, подобно листу, гнущемуся под напором ветра, или цветку, распластавшемуся под ногой леопарда, предать себя его силе. Не нужно было ничего объяснять: дрожащая рука сказала все за нее — как и ответное прикосновение руки Клайда.
В квартире Макнилов, казалось, прошел сильный снегопад: он водворил тишину в больших парадных комнатах, а мебель окутал морозными сугробами: бархат и шитье, благородная патина и непрочная позолота — все было призрачно-белым под чехлами, служащими защитой от летней копоти. Где-то в сумрачной глубине этих снежных покровов звонил телефон.
Грейди услышала его, как только вошла. Прежде чем снять трубку, она провела Клайда через коридор — такой огромный, что на одном его конце не было слышно, что говорят на другом. Дверь в ее комнату была последней в длинном ряду. Закрывая квартиру на лето, эту комнату экономка оставила точно в том виде, в каком она была зимой. Раньше комната принадлежала Эппл, но после ее замужества перешла по наследству к Грейди. И как ни старалась она изгнать отсюда все вычурные бирюльки Эппл, от многого избавиться не удалось: остались мерзкие маленькие парфюмерные полочки, пуфик размером с кровать и кровать размером с облако. Но Грейди все равно хотелось перебраться в эту комнату, потому что тут была большая стеклянная дверь, выходившая на балкон с роскошным видом на парк.
Возле двери Клайд замялся: он не хотел сюда идти — сказал, что неподходяще оделся; и казалось, звонок телефона усиливает его неуверенность. Грейди усадила его на пуф, посреди которого стоял патефон с кипой пластинок. Иногда, в одиночестве, Грейди любила растянуться на нем и слушать вялые мелодии, на удивление созвучные всяким странным мыслям.
— Заведи машинку, — предложила она и поспешила к телефону, молча вопрошая, почему же, во имя всего святого, он до сих пор не заткнулся.
Звонил Питер Белл. Ужин? Ну конечно, она не забыла, только где-нибудь в другом месте и, пожалуйста, не в «Плазе», и — нет, китайской кухни ей не хочется; и — нет, ну какое веселье, она совершенно одна… ах, патефон — ну да, Билли Холидей; ладно, договорились — в «Пом Суфле», ровно в семь, до встречи. Вешая трубку, Грейди загадала желание: пусть Клайд спросит, с кем она говорила.
Но желанию этому не суждено было сбыться. Поэтому она добровольно созналась:
— Вот это удача! Мне все-таки не придется есть в одиночестве — Питер Белл пригласил меня на ужин.
— Угу. — Клайд рылся в пластинках. — Слушай, а «В долине красной реки» у тебя есть?
— Никогда о такой не слышала, — резко ответила она и распахнула дверь на балкон.
Мог бы, по крайней мере, поинтересоваться, кто такой Питер Белл. С балкона виднелись реющие над городом флаги и шпили, чуть подрагивающие в густом послеполуденном воздухе, хотя небо уже становилось хрупким, готовое вскоре осыпаться сумерками. Возможно, Клайд к тому времени уже уйдет, и Грейди обернулась и заглянула в комнату — в ожидании, вся напрягшись.
Он перебрался с пуфа на кровать: уселся на краешек, и кровать была такой большой, а он казался на ней таким маленьким и несчастным — и настороженным, будто ждал, что кто-то вот-вот зайдет и застукает его там, где делать ему решительно нечего. Будто ища в ней защиты, он обвил Грейди руками и, притянув к себе, уложил рядом.
— Давненько мы с тобой этого ждали, — сказал он. — Неплохо бы сейчас в кровать, а, милая?
Кровать была застелена синим покрывалом, и синева эта расстилалась перед Грейди, как бездонное небо; но все было так незнакомо — она могла бы поклясться, что впервые видит эту кровать, — на шелковой глади зыбились таинственные световые озера, взбитые подушки казались горами неисследованного материка. Раньше, в машине или в тени деревьев на той стороне реки, и даже на скалах парка «Пэлисейдс», ей ни разу не было страшно; но в кровати, с ее озерами, небесами и горами, все казалось так головокружительно, так серьезно, что она испугалась.
— Ты чего, замерзла, что ли? — спросил он.
Она крепко-крепко прижалась к нему; ей хотелось протиснуться сквозь его тело.
— Так, ерунда, знобит слегка. — И потом, слегка отстранясь, добавила: — Скажи, что любишь меня.
— Я уже говорил.
— Нет, нет, ты не говорил. Я внимательно слушала. Ты никогда мне этого не говоришь.
— Дай мне время.
— Ну пожалуйста.
Он снова сел и посмотрел на часы, висящие на стене напротив. Шестой час. Он решительно скинул с себя кожаную куртку и принялся расшнуровывать ботинки.
— Клайд, ведь ты же не собираешься?..
Он с усмешкой обернулся:
— Ну да, собираюсь.
— Я не это имела в виду; и вообще мне эта идея не нравится: у тебя такой голос, будто ты говоришь со шлюхой.
— Не дури, детка. Ведь ты же меня притащила сюда не для того, чтобы поговорить о любви.
— Ты мне противен, — заявила она.
— Ишь ты, надулась.
Молчание закружило над их головами, как печальная птица.
— Хочешь оскорбить меня, да? — заговорил Клайд. — Очень на тебя похоже — грубить, когда дуешься. Да уж, паршивая девчонка… — И Грейди вся засветилась в его объятиях, когда он поднял ее и поцеловал. — Все еще хочешь, чтобы я это сказал? — Голова ее откинулась на его плечо. — А я скажу! — пообещал он, погружая пальцы в ее волосы. — Только разденься — и еще как скажу!
В гардеробной у Грейди стояло трюмо с тройным зеркалом. И, расстегивая браслет, она видела в зеркале каждое движение Клайда, который остался в соседней комнате. Он быстро разоблачился, бросая одежду прямо себе под ноги; оставшись в одних трусах, закурил и потянулся; на его теле заплясали отблески заката. Затем он обернулся к ней с улыбкой, скинул трусы и подошел к двери в гардеробную:
— Ты это серьезно? Что я тебе противен? — Она тихонько покачала головой. И тогда он добавил: — Сейчас убедишься, что не противен!
А зеркало, задрожавшее при падении стула, метнуло в сумрак стрелы ослепительного света.
Уже перевалило за полночь, и Питер, перекрикивая оркестрик, игравший румбу, велел бармену принести еще стакан шотландского виски. Глядя поверх танцпола, крошечного и настолько забитого людьми, что они сливались в одну кучу, Питер гадал, вернется Грейди или нет. С полчаса назад она извинилась и вышла — вероятно, в дамскую комнату; но теперь он подумывал, не ушла ли она домой, — правда, с чего бы вдруг? Из-за того, что он не принялся аплодировать, когда она, хотя довольно уклончиво, описала свои чудненькие романтические переживания? Пусть радуется, что он не сказал ей кое-чего, что собирался сказать. Она влюблена — ладно, придется поверить, хотя эта необходимость его раздражала; и все же, собирается ли она замуж за этого, как там его? Спросить Питер не решился. Мысль о том, что это может случиться, была невыносима и так его потрясла, что даже теперь, после множества бокалов мартини и неисчислимых стаканов виски, он оставался досадно трезвым. За последние пять часов он понял, что влюблен в Грейди Макнил.
Поразительно, как это раньше не пришло ему в голову, ведь все улики налицо. Слишком многое он упустил, строя кучи песочных замков и лелея нежную дружбу, скрепленную кровью. И это при том, что признаки чего-то более серьезного присутствовали всегда, как осадок на дне чашки: в конце концов, именно с нею сравнивал он каждую девушку; именно она, Грейди, была и трогательной, и забавной, и проницательной; снова и снова она помогала ему почувствовать себя мужчиной. Более того, было в ней кое-что, привитое самим Питером, — ее элегантность и вкус; сила воли, которую Грейди проявляла столь пылко, не его заслуга, на это он не претендовал, зная, что она намного превосходит его собственную. Эта-то воля его и пугала: Грейди поддавалась его влиянию лишь до какой-то черты, за которой начинала вести себя так, как ей хочется. Видит Бог, предложить ему нечего — в самом деле. Возможно, он даже не смог бы заняться с ней любовью, а если б попробовал, все перешло бы в смех или в слезы и закончилось детской возней. Было бы странно, если бы между ними вспыхнула страсть, даже нелепо, — да, он это прекрасно чувствовал (хотя и не сознавал до конца), — и на мгновение его охватило презрение к Грейди.
Но тут она проскользнула за веревку у входа, приветственно махнула ему рукой — и он поспешил ей навстречу, думая лишь о том, и сознавая это необычайно остро, насколько она мила и с каким превосходством держится в окружении сверкающего эскадрона этих важных попугаев. Ее озорная прическа напоминала хризантему цвета ржавчины — лепестки непринужденно спадали Грейди на лоб, а ее глаза, так изумительно гармонирующие с ее изысканным, не тронутым макияжем лицом, живо цепляли все вокруг, блестя зелеными искрами. Именно Питер подсказал, что ей не стоит пользоваться косметикой; он же посоветовал ей носить черное и белое — такая одежда шла Грейди больше всего, сама она была настолько яркой, что с более насыщенными цветами конфликт был неизбежен. Питеру льстило, что на ней свободная блуза с капюшоном и летящая длинная черная юбка. Пока он вел Грейди к столику, юбка колыхалась в такт музыке; по пути он украдкой оценил взглядом удельный вес внимания, направленного на его спутницу.
Обычно на нее смотрели многие — одни потому, что она была очаровательной юной дамой, которой приятно быть представленным, другие — потому, что знали: она — Грейди Макнил, дочь известного человека. И лишь взгляды немногих тянулись к ней по другой причине: за окружавшей ее аурой очарования и материального благополучия они видели не просто девушку, а девушку, с которой что-то должно произойти.
— Угадай-ка, кого я встретил на прошлой неделе? В Бостоне, в кафе «Локе-обер»? — спросил он, как только они уселись под мишурной кроной белого пластмассового дерева. — А, Макнил, ты ведь помнишь «Локе-обер», с немецкой кухней? Я как-то пригласил тебя туда поужинать, и тебе понравилось, потому что снаружи, на бульваре, сидел человек с банджо и в шляпе с медными колокольцами. Впрочем, не важно, просто я встретил там нашего старого приятеля, Стива Болтона.
Не то чтобы Питер только сейчас вспомнил об этой встрече — скорее, он решил о ней вспомнить, чтобы Грейди задумалась о том, к чему привело ее прежнее чувство, ведь эти мысли о прошлом, в свою очередь, могли пошатнуть ее уверенность в ценности чувства теперешнего. Решил вспомнить, несмотря на то что лишь смутно подозревал о том, что испытывала она когда-то к Стиву Болтону.
— Мы с ним выпили.
— Стив, боже мой, кажется, прошло сто лет! — воскликнула Грейди. — Хотя нет, я преувеличиваю. Но что же он делает в Бостоне?
Этот ее вопрос сразу все прояснил. Память о том, что она любила Стива, не легла Грейди на душу тяжким грузом, вопреки расчетам Питера; к тому же она никогда не стыдилась этого чувства. Она не вспоминала о Стиве уже несколько месяцев, и теперь ей казалось, что он остался где-то в прошлом веке, как и песни, которые пелись тем летом.
— Полагаю, у него там какие-то дела. Или встреча выпускников — это вполне в его духе. Мне он, знаешь ли, никогда не нравился, хотя у меня уже нет причин его недолюбливать: он выглядел довольно измотанным, вроде бы уже и не Стив. Просил передать тебе при случае самые искренние и наилучшие.
— А Дженет? Как там Дженет и малыш?
Как только Питер убедился, что имя Стива Болтона не вызвало никакого волнения, этот разговор тут же ему наскучил. Но Грейди с нетерпением ждала ответа, и ее интерес к Дженет был совершенно искренним. Дженет, в отличие от Стива, виделась ей не в окуляре повернутой наоборот подзорной трубы, а близко, лицом к лицу, вызвав угрызения совести, — Грейди вспомнила то утро, как она намеренно затянула мучения Дженет. Впервые она ощутила раскаяние настолько остро.
— Он что, ничего о них не сказал?
— Ну что ты, конечно сказал. Сказал, что все отлично. У них и второй ребенок родился, на этот раз девочка. И можешь не сомневаться, он показал мне фотографию — почему все всегда их показывают? Глянцевые снимки каких-то приторных недоносков! Что с людьми делается — не узнать. Надеюсь, у тебя детей не будет.
— Господи, да почему же? А я бы не отказалась от маленького косолапого малыша: я бы его купала, подбрасывала к потолку…
Тут возникла пауза, и Питер ею воспользовался:
— Косолапого малыша? А как ты думаешь, милая, что бы он на это сказал?
— Кто? — не поняла Грейди.
— Прости, пожалуйста, но имя джентльмена мне неизвестно, — ответил Питер, надеясь добиться ясности. — Осмелюсь, впрочем, предположить, что он человек довольно известный — признайся, ведь поэтому ты не называешь его имени? Что он какой-нибудь интеллектуал и по крайней мере двадцатью годами старше тебя: нервные барышни с обостренной чувствительностью всегда в восторге от таких папочек.
Грейди расхохоталась, хотя ее смех, и она поняла это слишком поздно, подсказал Питеру, что он нарисовал карикатуру, а не истинную картину. Впрочем, Грейди было даже приятно доставить ему это удовольствие — за услугу, которую он оказал ей нынче вечером и суть которой объяснить невозможно, ибо состояла она лишь в том, что теперь он знал о существовании Клайда Манцера, отчего тот вдруг обрел нормальные пропорции: живого человека, а не идеального возлюбленного. Она так долго окутывала его полумраком тайны, что он разросся до размеров, совершенно не соответствующих реальности. То, что кто-то еще знал о нем, истончило завесу тайны и умерило боязнь Грейди, что он может раствориться в воздухе: наконец-то Клайд обрел плоть, перестал быть призраком, существующим только в ее сознании, и она мысленно потянулась ему навстречу, спеша обнять новый образ — Клайда во плоти. Питер был собой доволен:
— Можешь не отвечать, но скажи, я ведь прав?
— Не скажу, иначе ты не поделишься со мной остальными теориями.
— Ты действительно хочешь выслушать мои теории?
— Нет, вообще-то не хочу, — ответила она, хотя вообще-то хотела: это была возможность вернуть ощущение, что секрет остается секретом.
— Ответь мне на один вопрос. — Питер положил на стол коктейльную палочку, которую прежде держал в руке. — Ты собираешься за него замуж?
Грейди почувствовала, что вопрос не праздный, и смутилась, поскольку уже настроилась на шутливый тон.
— Я не знаю, — ответила она, и в ее голосе прозвучала обиженная нотка. — А что, всегда нужно непременно собираться замуж? Наверняка бывают такие случаи, когда об этом речи не идет.
— Бывают, но разве не являются любовь и брак непременно синонимами в сознании большинства женщин? И разумеется, мало кому из мужчин удается добиться первого, не пообещав второе, — я про любовь: если речь идет лишь о том, чтобы заставить женщину раздвинуть ноги, — она скорее всего не согласится ни за какие коврижки. Ну ладно, дорогуша, а если серьезно?
— Хорошо, давай серьезно, хотя несерьезен здесь, по-моему, только ты: я не могу ответить на твой вопрос. Откуда у меня ответ, если я сама об этом еще никогда не думала? Ладно, милый: мы пришли сюда танцевать. Так потанцуем?
Когда они вернулись, их поджидал фотограф — разумеется, совершенно случайно и без задней мысли, а также пресс-агент из клуба «Бамбук», который держался вызывающе и дулся; при этом его руки, усыпанные перстнями, порхали над столом, расставляя всякие праздничные причиндалы: ведерко с бутылкой шампанского, вазу с цветами, чудовищных габаритов пепельницу, на которой красовалось название клуба, до неприличия четкое.
— Отлично, мисс Макнил, один малюсенький снимок, вы не против? Так-так, не надо таращиться в объектив, отлично, посмотрите друг на друга: прелестно, вы просто душки, милее не бывает! Арти, ты делаешь шикарный снимок, запечатлеваешь юную любовь, вот что ты делаешь. О, мисс Макнил, уж я-то знаю, — слышите, даже ваш спутник говорит, что я угадал. Не так ли, молодой человек? А кто вы такой, кстати? Постойте-ка, я запишу. А мне казалось, Уолт Уитмен — это кто-то жутко старый, или покойный, или знаменитый, или что-то в этом роде. Ах вот оно что, вы — Уолт Уитмен-второй — внук, не так ли? О, это просто замечательно. Благодарю вас, мисс Макнил, и вас, мистер Уитмен; вы оба были просто прелестны, такие душки! — И он не забыл прихватить с собой цветы, шампанское и пепельницу.
Средства, вложенные Питером в виски, начали наконец приносить дивиденды: иными словами, его чувство юмора достигло того предела, когда перестало чем-либо брезговать, и он готов был пойти вразнос. К несчастью, ему дали повод. И сделал это седенький, слегка пришибленный маленький человечек за соседним столиком: подстрекаемый своей спутницей, землянично-розовой дамочкой, которая потягивала бренди, он перегнулся через проход и робко тронул Питера за руку.
— Прошу прощения, — промямлил он, — мы тут сидим и гадаем, вы, случайно, не из британской королевской семьи? Моя подруга говорит, что раз они вас фотографировали, значит, вы из британской королевской семьи.
— Нет. — Питер снисходительно улыбнулся. — Мы — из американской королевской семьи.
Грейди поняла, что пора уходить: еще минута — и начнется драка, — однако Питер, похоже, уходить не хотел.
— Хоть постыдился бы, — проворчал он и с трудом доплелся до танцпола, но там завяз, объявив, что они будут танцевать, и требуя, чтобы оркестр сыграл его любимую мелодию: «Лишь одного хочу я».
Грейди просила, чтобы он перестал петь ей в ухо: «Только лететь с тобою…» — но в конце концов сама стала подпевать. Диск потолка мерцал вереницей бегущих алых звездочек, и Грейди, усыпанная отблесками, закружившись в их вихре, растворилась в этой небесной круговерти; а снизу, с земли, доносился голос: ты слышала? я сказал, что ты — королевских кровей! Она представила себе, что это голос Клайда… хотя так похоже на Питера! И ее летящие волосы развевались в танце, как победное знамя. Они танцевали до тех пор, пока внезапно и в одно мгновение не стихла музыка и не погасли звезды.
ГЛАВА 4
— Вот, мне привратник дал, — сказал Клайд почти неделю спустя.
Он протянул Грейди две телеграммы, но она взяла их лишь после того, как открыла кухонный кран и сполоснула руки, выпачканные в креме для вафель.
— Так бы и накостылял этому парню: он просто придурок! Ты бы видела, как он на меня пялится. А молокосос у лифта, тот просто какой-то гном, уж я дам ему на орехи.
Грейди и прежде слышала подобные жалобы, и комментариев от нее не требовалось, поэтому она сказала:
— Милый, а где сливочное масло? И ты купил сироп, который я просила?
Она готовила очень поздний завтрак: они поднялись с постели только в двенадцатом часу. Автостоянка была закрыта вот уже пару дней: у владельца возникли какие-то проблемы с лицензией. А вчера вместе с Минком и его подругой они ездили на пикник в Катскиллские горы. На обратном пути у них лопнула шина, и, когда они въехали на мост Джорджа Вашингтона, шел уже третий час ночи.
— На тот сироп золотишка не хватило, так что я взял «Лог кэбин»,[4] сойдет? — бросил он, усаживаясь возле вафельницы и разворачивая бульварную газету, которую купил по пути.
Читая, он хмурил брови, как школьник, и бормоча по очереди грыз ногти.
— Тут пишут, что шестое июля было самым жарким с тысяча девятисотого года: в Кони[5] набилось больше миллиона народу — как тебе это?
Грейди вспоминала сверкающее поле, усыпанное валунами, по которому они бродили, воюя с насекомыми и поедая вареные яйца без соли, и потому сказать ей было нечего. Она вытерла руки, присела и стала вскрывать конверты.
Одна телеграмма, на дорогущей открытке, оказалась от Люси, из Парижа:
«Доехали нормально тчк дорога ужасная папа забыл костюм смокингом пришлось сидеть вечерами каюте тчк срочно вышли костюм авиапочтой тчк мой шиньон тоже тчк выключай свет тчк не кури постели тчк завтра встречаюсь насчет твоего платья тчк вышлю образцы тчк как у тебя дела тчк пусть Гермиона Бенсьюзен вышлет мне твой гороскоп на июль и август тчк волнуюсь за тебя тчк обнимаю
мама».
Грейди, поморщившись, сложила телеграмму пополам: неужели мама действительно думает, что она поможет ей снова связаться с Гермионой Бенсьюзен? Мисс Бенсьюзен была астрологом, и Люси на ней просто помешалась.
— Эй, поторопись там со своими вафлями. Сейчас по радио бейсбол начнется.
— На буфете стоит приемник, — сказала Грейди, не отрывая глаз от странного сообщения, содержащегося во второй телеграмме. — Если хочешь, можешь его включить.
Клайд нежно коснулся ее руки:
— Что случилось? Плохие новости?
— Да нет, — рассмеялась она в ответ, — просто глупость какая-то. — И она прочла вслух:
Ночное зеркало мне говорит, что ты богиня,
Дневное зеркало — что ты моя отныне.[6]
— Кто прислал?
— Уолт Уитмен-второй.
Клайд продолжал возиться с радио.
— Ты этого парня знаешь?
— Отчасти.
— Шутник, наверно. Или просто с придурью?
— Не без того, — сказала Грейди, причем вполне серьезно.
Однажды, когда Питер служил во флоте, его корабль зашел в какой-то порт на Дальнем Востоке, и он прислал ей оттуда трубку для курения опиума и пятнадцать шелковых кимоно. Все кимоно, кроме одного, Грейди отдала на благотворительный аукцион; позже этот благой порыв вышел ей боком, поскольку оказалось, что в простом орнаменте, которым кимоно были украшены, скрыт фокус: при определенном освещении в нем проступают жуткие непристойности. Мистер Макнил, который оказался в центре скандала, заявил, что все это ерунда и кимоно должны только вырасти в цене; он даже не возражал, чтобы Грейди носила одно из них. Вообще-то она и сейчас была в нем, хотя чересчур уж длинные рукава имели досадную привычку соскальзывать в миску, пока Грейди взбивала крем для вафель.
Она бы ни за что не призналась, что у нее все идет кувырком. Бекон уже съежился на сковородке, а кофе остыл, но Грейди это ничуть не смущало: она вылила приготовленную смесь в вафельницу, которую забыла смазать маслом, и сказала:
— Как я люблю готовить! В голове при этом такая блаженная пустота… Вот что, раз уж ты собираешься слушать бейсбол, то почему бы мне не испечь шоколадный кекс, — хочешь?
В этот самый момент из вафельницы вырвался клуб дыма, это означало, что ее содержимое обуглилось; минут двадцать спустя, очистив вафельницу, Грейди весело и не без гордости объявила:
— Завтрак готов!
Клайд сел за стол и посмотрел на тарелку с такой улыбкой, что Грейди спросила:
— Что-то не так, милый? Ты не смог поймать нужную станцию?
Хм… да нет, он нашел нужную станцию, просто матч еще не начался, но не могла бы она подогреть кофе?
— Питер терпеть не может бейсбол, — сказала Грейди просто потому, что ей вдруг вспомнилась эта его черта.
В отличие от Клайда, который тщательно следил за тем, что говорит, она в последнее время стала лепить все, что приходило в голову, порою не очень-то кстати…
— Осторожно, — сказала она, снимая с плиты кофейник и доливая Клайду кофе. — На сей раз можно язык обжечь.
Клайд поймал руку Грейди и слегка покачал ею туда-сюда.
— Спасибо, — прошептала она.
— За что? — не понял Клайд.
— За счастье. Я счастлива, — ответила Грейди и отняла у него руку.
— Странно… Странно, что ты счастлива не всегда.
И он обвел рукой по кругу — жест, который тут же заставил Грейди пожалеть о сказанном, потому что слишком явно давал понять: Клайд ни на секунду не забывает о преимуществах ее положения; забавно, но сама она никогда не считала, что Клайд обижен судьбой.
— Счастье всегда относительно, — проговорила она: это был самый простой ответ.
— Относительно чего — денег?
Собственное остроумие, похоже, придало Клайду уверенности. Он потянулся, зевнул и попросил Грейди зажечь ему сигаретку.
— Следующую зажжешь сам, — ответила она, — потому что я буду очень занята — буду готовить шоколадный кекс. А ты мог бы купить мороженого в «Шраффтс» — это было бы божественно. — Освободив место на столе, она положила перед собой кулинарную книгу. — Здесь столько чудесных рецептов, только послушай…
Но Клайд перебил ее:
— Я тут вот о чем подумал: ты говорила Винифред, что она может устроить здесь вечеринку, — это не шутка? Просто я знаю Винифред, она все принимает всерьез.
Этот вопрос отвлек Грейди от рецептов: что еще за вечеринка? И тут воспоминания хлынули ливнем, застав ее врасплох, и она вспомнила, что Винифред — это темноволосая, грузная, здоровенная девица, которую Минк притащил с собой на пикник в горы, в Катскилл, — пикник, на котором благодаря Винифред помимо фунта салями оказалось около двухсот фунтов хихикающего жира и мяса. Это было нечто среднее между носорогом и лесной нимфой, облаченное в спортивные шаровары — наследие школьных уроков физкультуры. Весь вечер она шумно возилась со всякими травинками-былинками и не выпускала из потной ладони букетик ромашек. Некоторые, сказала она, считают это очень забавным — то, что она так любит цветы, но вообще-то она любит цветы больше всего на свете, так уж она устроена, такая у нее натура.
И все же, по-своему конечно, она была восхитительна, эта Винифред. В ее непосредственности, в щенячьем выражении глаз чувствовались нежность, доброта, тепло; к тому же она обожала Минка, так им гордилась и была так внимательна к нему. Грейди подумала, что сроду не видела никого более противного, чем Минк, или более нелепого, чем Винифред; и все же, когда они были вместе, от них веяло каким-то светом и теплом. Казалось, будто из их привычной сущности, из этих громоздких, неотесанных натур, высвобождалось нечто бесценное — некий дух безупречной чистоты и музыкальности, и Грейди невольно испытывала к ним уважение. Похоже, Клайд нарочно представил Грейди эту парочку, чтобы показать, насколько чуждо ей то, что дорого ему, — и очень удивился, когда понял, что Минк и Винифред ей понравились. А дальше происходило вот что. В дороге лопнула шина, и пока мужчины с ней возились, Грейди с Винифред остались в машине вдвоем. И та, заманив Грейди в тайник женских откровенностей, мигом нашла с ней общий язык, хотя до этого у Грейди никогда не было так называемых закадычных подруг. Они рассказали друг другу свои истории. Рассказ Винифред оказался грустным: она работает телефонисткой, и ей нравится эта работа, но отношения с домашними — хуже некуда, а все потому, что она решила выйти замуж за Минка. Хотела вот устроить вечеринку в честь их помолвки, а ее семейство, которое считает Минка никчемным человеком, запретило ей приводить домой гостей — господи боже, ну что ей теперь делать? И тогда Грейди брякнула: раз так, раз это всего лишь вечеринка, почему бы не устроить ее в квартире Макнилов. Винифред тут же разразилась бурными слезами: о да, это было бы чудно!
— Даже если ты и вправду решила это все устроить, — продолжал Клайд, — не думаю, что это такая уж блестящая идея. Если твоя семья об этом узнает, с тебя три шкуры сдерут.
— Странно, что тебя так волнуют чувства моей семьи, — заметила Грейди, и вдруг ее осенило: Клайд просто ревнует — не ее, а Минка и Винифред, — похоже, он решил, что она переманивает их от него, подкупив. — Не хочешь устраивать вечеринку — не надо, уж мне-то точно все равно. Я предложила это только потому, что хотела сделать тебе приятно. В конце концов, это твои друзья, а не мои.
— Послушай, детка, ты же знаешь, какие у нас отношения. И не надо мешать это с другими вещами.
Грейди его слова задели за живое: она почувствовала себя довольно мерзко и, решив в отместку поиграть в молчанку, спряталась за кулинарной книгой. Ей так хотелось сказать ему, что он трус: она прекрасно понимала, что только трус мог прибегнуть к подобной тактике. Кроме того, ее бесило молчание, которое Клайд ей навязал. Сам он, похоже, так привык к молчанию и так спокойно к нему относился, что, видимо, даже не понял, в чем дело: что сама она ни чуточки не чувствует себя виноватой — по крайней мере, перед ним… Она раздраженно вслушивалась в шелест его газеты, и рецепт пятном расплывался перед ней на странице. Стул Клайда качнулся назад и вдруг с грохотом встал на место.
— Господи, — сказал он, — да тут твоя фотография.
Он развернулся, чтобы Грейди могла заглянуть ему через плечо. На газетном листе красовалось смазанное, словно засиженное мухами, их с Питером изображение: они пялились в объектив, оба похожие на заспиртованных лягушек. Ведя по строчке пальцем, Клайд прочел:
— «Грейди Макнил, юная дочь финансиста Леймонта Макнила, и ее жених, Уолт Уитмен-второй, за частной беседой в клубе „Атриум“. Уитмен — внук великого поэта».
«Это просто возмутительно», — услышала она точно наяву голос Эппл; но на самом деле безудержный смех Грейди оборвала жесткая реплика Клайда:
— Никому больше не хочешь объяснить, в чем шутка?
— Ах, дорогой, это так сложно… — сказала она, вытирая глаза. — К тому же все это чепуха.
Ткнув пальцем в фотографию, Клайд спросил:
— Не от него ли была телеграмма?
— И да и нет, — ответила Грейди и сама ужаснулась этой идиотской фразе.
Но Клайд, казалось, пропустил ее мимо ушей. Щурясь и глядя куда-то вдаль, он глубоко затянулся и медленно выпустил дым из ноздрей.
— Это правда? — спросил он. — Ты и вправду помолвлена с этим… как там его?..
— Ты сам прекрасно знаешь, что нет. Он — просто старый друг, я знаю его всю жизнь.
Нахмурившись, Клайд задумчиво начертил на столе круг, вновь и вновь обводя его пальцем, и Грейди, решившая уже было, что вопрос исчерпан, поняла вдруг, что это не конец. Уверенность в этом росла по мере того, как новый круг возникал на скатерти, вновь оставаясь незримым. Встревожившись, Грейди встала из-за стола. Она стояла и смотрела на него — сверху вниз — и ждала. Но у нее было такое чувство, что Клайд никак не может решить, что именно ему следует сказать.
— Мы с Питером выросли вместе, и мы…
Клайд решительно прокашлялся:
— Думаю, вряд ли ты в курсе, наверное, ты не знала — но я помолвлен.
Самые ничтожные кухонные мелочи вдруг атаковали ее сознание: секунды, слетающие с невидимых часов, алая вена термометра, паучок солнечного света, пробившийся сквозь гардины, водяная слеза, набухшая в кране, но так и не упавшая в раковину, — Грейди спряталась за всеми этими мелочами, но стена оказалась слишком тонкой, слишком непрочной и не смогла заглушить голос Клайда:
— Я прислал ей кольцо из Германии. Вроде бы это считается помолвкой. Ну вот, — продолжал он, — я ведь говорил тебе, я еврей, то есть мама моя еврейка, а она от Ребекки просто с ума сходит. Вообще-то Ребекка и вправду милая девушка: когда я был в армии, она мне каждый день писала.
Где-то вдалеке звонил телефон; ни один звонок еще не был для Грейди так важен: не обращая внимания на то, что аппарат есть и на кухне, она кинулась через лабиринт служебных помещений в парадную часть квартиры, а оттуда — в свою комнату. Звонок был от Эппл из Истгемптона. Грейди попросила ее говорить помедленнее, потому что с другого конца провода доносились только шипение и невразумительный поток слов. «Пытается разрушить семью?» — повторила она, когда поняла, что драматический монолог Эппл вызван историей с Питером Беллом и фотографией в газете: увы, кто-то ей показал. В другой ситуации Грейди просто повесила бы трубку, но сейчас, когда ей казалось, что даже пол под ногами, того и гляди, провалится, она цеплялась за голос сестры как за соломинку. Она подлизывалась, пыталась объяснить, выслушивала оскорбления. Постепенно Эппл настолько смягчилась, что дала трубку своему маленькому сыну, и тот сказал: «Привет, тетя Грейди, когда ты к нам придешь?» А когда Эппл, подхватив эту идею, предложила ей приехать в Истгемптон и погостить у них недельку, Грейди не оказала ни малейшего сопротивления: они тут же договорились, что она выедет на следующее же утро.
Возле ее кровати лежала тряпичная кукла, невзрачная выцветшая девчушка с ворохом спутанных рыжих волос. Звали ее Маргарет, и было ей двенадцать лет, а то и больше, потому что, когда Грейди нашла ее на скамейке в парке, где ее бросил какой-то другой ребенок, вид у нее был уже порядком потрепанный. Дома все сказали, что они с Грейди очень похожи: обе были худенькие, лохматые и рыжие. Грейди взбила кукле волосы и разгладила юбчонку: все как в старые добрые времена, ведь Маргарет частенько становилась для нее отдушиной.
— Ах, Маргарет… — начала Грейди и вдруг замолчала, с испугом заметив, что глаза у Маргарет — пустые и холодные, это всего лишь синие пуговицы, что Маргарет изменилась.
Она тихонько подошла к зеркалу и подняла взгляд: да, Грейди тоже изменилась. Она уже не была ребенком. До сих пор она упорно внушала себе, что детство еще не закончилось, и во многих случаях это было идеальным оправданием: например, говоря Питеру, что ей не приходило в голову задуматься о том, собирается ли она замуж за Клайда, Грейди не солгала — так оно и было, но только потому, что ей это казалось взрослой проблемой. Время свадеб — это далекое будущее, когда жизнь станет бесцветной и серьезной, но Грейди была уверена, что ее собственная жизнь еще даже не началась. И вот теперь, глядя на свое отражение в зеркале, сумрачное и бледное, она вдруг поняла, что жизнь ее началась уже давно.
Да, давно — и Клайд вошел в нее слишком прочно; Грейди хотелось, чтобы он умер. Но она могла сколько угодно кричать: «Отрубите ему голову!» — подобно кэрролловской Королеве Червей, — она казнила бы его только в своем воображении, поскольку Клайд не совершил ничего, что было бы достойно столь сурового наказания. Помолвка не преступление, он имел на нее полное право, и в чем, собственно, могли состоять ее претензии? Ей не в чем было его винить, потому что в глубине души она всегда понимала, что все это недолговечно, что к практичной материи ее будущего столь яркий лоскуток никак не подходит. В сущности, потому-то она и полюбила Клайда: он должен был стать отблеском огня былого на снегах, которые вскоре покроют ее жизнь. Стоя перед зеркалом, она убедилась, что погоду предсказать невозможно: уже сейчас холодало, и начинался снегопад.
Она то злилась, то жалела себя — ее кидало из одной крайности в другую, как на детских качелях. Есть предел обвинениям, которые можно выдвинуть против себя: она припасла парочку и для Клайда. И козырем среди них была пудреница, найденная в машине. Драматическим жестом Грейди извлекла ее из ящика стола: отныне пусть катает свою Ребекку на трамвае.
Кухню наполняли возгласы и рев, доносившиеся из радиоприемника: кусая ногти, Клайд припал к нему, слушая бейсбол, но когда Грейди вошла, его взгляд беспокойно метнулся в ее сторону. И она засомневалась — а стоит ли? Тем не менее мгновение спустя она все-таки выложила пудреницу перед ним.
— Я тут подумала, что твоей подружке она может еще пригодиться: ведь это ее пудреница? Я нашла ее в машине.
Шею Клайда залила краска стыда; но затем, сунув пудреницу в карман, он весь словно окаменел, и его хрипловатый голос стал почти сиплым, когда он выдавил:
— Спасибо, Грейди. Она ее обыскалась.
У Клайда в голове словно включился вентилятор, от стрекота которого выкрики комментатора теперь напоминали громкие хлопки. Клайд нащупал в кармане пудреницу, крепко сжал ее в руке: щелчок, легкий звон — и она треснула; осколки зеркала впились ему в ладонь, на порезах выступили капельки крови.
Клайду было жаль, что пудреница сломалась, потому что она принадлежала той, кого он очень любил, — его сестре Анне.
В апреле, когда они с Грейди только познакомились, у ее «бьюика» прогорел глушитель. Похоже было, что самому ему решить проблему не удастся, поэтому он перегнал машину в Бруклин, чтобы показать своему приятелю Гампу, который работал в автомастерской. А Анна целыми днями болталась возле этой мастерской. Эта чахлая, худенькая девушка, которая в свои девятнадцать выглядела не старше десяти-одиннадцати лет, в моторах разбиралась не хуже мужчины. Дома у нее лежала огромная, с нее ростом, кипа альбомов, и все они были изрисованы чертежами ее изобретений — сверхскоростных автомобилей и межпланетных аэропланов. Это были труды всей ее жизни, все ее знания, потому что в возрасте трех лет она перенесла сердечный приступ и никогда не ходила в школу. Несмотря на усилия всей семьи, им так и не удалось научить ее читать и писать: все попытки Анна отвергала, упрямо занимаясь более важным делом — расчетами размаха крыльев и мощности двигателя, необходимых для передвижения в космосе. Дома было строгое правило — никто не смел поднимать голос на Анну: все, за исключением Клайда, обращались с ней нарочито вежливо, как с человеком, который должен вскоре умереть. Клайд же и помыслить этого не мог, не мог представить себе, что однажды в доме не станет слышно ее болтовни о моторах и звяканья инструментов, что он не сможет больше увидеть, с каким восторженным удивлением она прислушивается к звуку летящего аэроплана или разглядывает новую машину, будто это какие-то сказочные чудеса. И сам он обращался с Анной с нормальной, естественной грубоватостью, и она его за это обожала. Мы ведь братья, правда, Клайд? — именно так она воспринимала их близость. И Клайд не стыдился Анны. А вот остальные что-то такое испытывали. Например, сестрица Ида злилась оттого, что Анна целыми днями околачивалась в мастерской: что обо мне люди думают, а, ведь моя родная сестра одевается, как шлюха, да еще якшается со всеми подонками в округе? Клайд на это справедливо заметил, что парни, которых Ида называет «подонками», от Анны просто без ума; и к тому же они ее единственные друзья. Гораздо сложнее было найти оправдание ее манере одеваться. До семнадцати Анна носила одежду, купленную в детском отделе универмага «Орбах», но потом, в один прекрасный день, она вдруг присмотрела себе туфли на трехдюймовом каблуке, парочку экстравагантных платьев, накладной бюст, пудреницу и флакончик перламутрового лака для ногтей. Разгуливая по улицам в своем новом наряде, она была похожа на ребенка в маскарадном костюме — и прохожие смеялись. Клайд однажды побил насмешника, который потешался над ней. И сказал Анне: пусть не берет в голову, что там болтают Ида и остальные, пусть носит что хочет. А она ответила, что вообще-то ей все равно, что носить, но ей хочется быть красивой из-за Гампа. Она ни с того ни с сего вдруг сделала Гампу предложение; Гамп, молодец, не подвел, заверил ее, что если когда-нибудь женится, то непременно на Анне. Вот поэтому Клайд считал Гампа своим лучшим другом и никогда не возмущался, если тот жульничал, играя в карты. Когда Клайд завез машину Грейди в мастерскую, Анна была там: стоя на высоченных каблуках, с гребешком в волосах, украшенным фальшивыми бриллиантами, она помогала Гампу разобраться, почему у одной из машин стучит двигатель. В небе сияла весенняя радуга, и ее отражение на синей блестящей поверхности авто с откидным верхом привело Анну в восторг: упрашивая Клайда прокатить ее, она сказала, что, пока радуга не исчезла, в такой машине можно до другого ее конца доехать, правда-правда. И Клайд объехал с Анной все окрестные кварталы, пронесся мимо школы, откуда как раз выходили дети (здесь даже самые маленькие знают больше, чем я, но зато они никогда не катались на такой шикарной машине); усевшись, как воробушек, на спинку сиденья и болтая ногами, Анна приветственно махала всем подряд, будто участница какого-нибудь большого парада. А когда Клайд высадил ее возле дома, она, уже стоя на краю тротуара, потянулась и поцеловала его, и ему подумалось, что он в жизни не видел более хорошенькой девушки. Пару минут спустя, взбегая по лестнице, она оступилась, упала на спину и скатилась вниз. Господь смилостивился, сказала Ида: кроме нее, дома никого больше не было, а она вовремя не подоспела.
Клайд вспоминал: в те дни, когда Ида, их мать, и Берни, и Кристал принимали соболезнования и скорбели по умершей, сам он домой не показывался и неплохо проводил время с Грейди. С такой сумасшедшей девчонкой говорить об Анне ему не хотелось. В армии он перезнакомился с кучей девушек; иногда все ограничивалось болтовней, что было тоже неплохо: ведь им можно было наплести что угодно, потому что при мимолетной встрече нет большой разницы между правдой и ложью, и можно быть таким, каким хочешь. В то утро, когда Клайд впервые увидел Грейди на стоянке, и позже, когда она еще пару раз заезжала и он уже что-то такое почуял, он принял ее за одну из тех девиц, из разряда случайных попутчиц, и подумал: какого черта — хватай что дают; ну он и пригласил ее на свидание. Потом он никак не мог ее понять: Грейди в каком-то смысле обскакала его, превысила меру всех его ожиданий. Сумасшедшая девчонка, ворчал он, прекрасно понимая, как не подходит ей этот ярлык, и все же, обезоруженный широтой ее чувства и узостью собственного, он никак не мог придумать для нее другой. Отступление было для него единственным шансом удержать свои позиции: чем больше Грейди для него значила, тем меньше он это показывал — иначе что ему делать, скажите на милость, когда она вдруг уйдет? А это случится, рано или поздно. Если бы Клайд надеялся на что-то другое, он раскрылся бы перед ней так, как она того хотела, но перед ним была мрачная перспектива, только сплошной темный туннель и только Ребекка. Понимая это, он не мог относиться всерьез к такой девушке, как Грейди Макнил. Это было нелегко. И становилось все труднее. На пикнике Клайд ненадолго уснул, положив голову ей на колени; ему снилось, будто кто-то сказал, что умерла не Анна, а Грейди. Когда он проснулся и увидел ее лицо в венке солнечного света, его пронзила дрожь: в этот момент он готов был сбросить с себя личину безразличия — но не знал, как это сделать.
Он вытряхнул обломки пудреницы из кармана в мусорное ведро; заметила Грейди или нет, он не знал: при каждом его движении она отворачивалась, будто боясь, что их взгляды встретятся или что Клайд прикоснется к ней. Словно оцепенев и двигаясь с какой-то неуклюжей непринужденностью, она приготовила все ингредиенты для кекса, но тут же уронила желток в миску с белками и теперь стояла, глядя на дело рук своих, будто на непреодолимую глухую стену. Клайду стало ее жаль: захотелось подойти и показать, что нерастекшийся желток можно легко вытащить. Но из радиоприемника послышался оглушительный рев: кто-то сделал хоумран, и Клайду хотелось знать кто. При этом, опять-таки, следить за игрой он был по-прежнему не в состоянии — и резко выключил радио. Все равно бейсбол — штука невеселая: эта игра напоминала Клайду о былых удачах и несбывшихся надеждах и о мечтах, улетевших в трубу. Когда-то, много лет назад, никто не сомневался, что Клайд Манцер станет великим бейсболистом: все считали его лучшим подающим в лиге юниоров. Однажды, после победы «всухую», толпа болельщиков вынесла его с поля на плечах, а путь ей расчищал оркестр из старших классов. Он тогда плакал, и мама его тоже плакала, хотя ее слезы были вызваны не только гордостью за сына — она была уверена, что жизнь Клайда отныне разрушена и что не сбудутся теперь ее надежды, не быть ему адвокатом. Забавно, как это все накрылось — вмиг. Им не заинтересовался ни один «охотник за талантами», ни один колледж не предложил ему стипендии. Он еще немного поиграл в армии, но там никто не обратил на него внимания. Теперь же, чтобы он согласился поиграть, его приходилось долго уговаривать, и во всем Бруклине не было для него звука тоскливее, чем удар мяча о биту. Кинувшись на поиски новой профессии, он решил, что будет летчиком-испытателем; и вот, оказавшись в армии, он подал заявление в военно-воздушные силы. В качестве причины для отказа командование указало недостаток образования. Бедняжка Анна. Она усадила Иду за стол и продиктовала ей письмо: «Пусть они сквозь землю провалятся, милый брат. Они болваны. На одном из моих космических кораблей первым полетишь ты. Настанет день, когда мы ступим на Луну». Ида приписала еще одну фразу, имеющую большее отношение к реальности: «Подумай лучше насчет дядюшки Эла». У дядюшки Эла была небольшая чемоданная фабрика в Акроне, и он не единожды предлагал взять в дело братнина сына. Клайда, великого бейсболиста, такое предложение лишь оскорбляло. Однако, вернувшись из армии, после пары месяцев разгульной жизни, когда все перевернулось с ног на голову и он спал дни напролет, а ночами носился по городу, однажды утром он вдруг очутился в автобусе на Акрон — город, который он с полпути уже возненавидел. Но ведь он ненавидел почти все города, кроме Нью-Йорка. Стоило Клайду уехать из Нью-Йорка, и очень скоро он буквально начинал по нему сохнуть; за пределами Нью-Йорка ему казалось, что жизнь проходит зря, что он отбился от основного течения и его вынесло в один из заболоченных рукавов, где все скучно и не по-настоящему. В Акроне, правда, было не так уж тоскливо. Клайду нравилась работа — хотя бы уже потому, что он был облечен некоторой властью: под его началом работали четыре человека. Да, сэр! так-то, сынок! — сказал дядюшка Эл, вместе, дескать, мы быстро монет накуем. И все бы оно, возможно, как-то наладилось, если бы не Вероника. Она была единственным чадом дядюшки Эла, эта рано созревшая, избалованная вертихвостка с безумными молочно-голубыми глазами и склонностью к истерии. Невинности в ней не было ни на грош; с самого начала было ясно, что у нее в запасе есть пара трюков. Не прошло и недели, как она предприняла решительное наступление. Клайд жил в доме у дядюшки; однажды за ужином он почувствовал под столом прикосновение Вероникиной ноги: она сняла туфлю и провела теплой шелковой ступней снизу вверх, взбудоражив Клайда так, что у него в руках задрожала вилка. Именно этот случай он потом вспоминал с наибольшим стыдом: то, что ребенок смог так его возбудить, казалось противоестественным и попросту пугало. Клайд пытался перебраться в центр Акрона, в общежитие Молодежной христианской организации — но дядюшка Эл и слышать об этом не желал: мы рады принять тебя в этом доме, сынок, — вот Вероника только позавчера говорила, что ей стало намного веселее с тех пор, как кузен Клайд к нам переехал. Прошло время, и вот как-то раз, вытираясь после душа, Клайд заметил в замочной скважине бледно-голубое пятнышко — хорошо знакомый любопытный глаз. И вся копившаяся в нем ярость вдруг вскипела и выплеснулась наружу. Обернувшись полотенцем, он настежь распахнул дверь ванной, и Вероника, забившись на ощупь в угол, молча, не издав ни единого звука, застыла с виноватым видом, а он изливал на нее грязный поток армейских ругательств: слишком поздно он понял, что жена дядюшки Эла стоит наверху, на лестнице, и все слышит. «Почему ты так говоришь с ребенком?» — тихо спросила она. Не тратя слов на объяснения, Клайд оделся, собрал вещи и ушел. Через два дня он уже был в Нью-Йорке. Ида сказала, как жаль, что ему не понравилось делать чемоданы.
А сейчас… сейчас словно бы тысячи неугомонных муравьев, карабкаясь по его мышцам, жалили: скопившаяся энергия требовала выхода. Клайд был сыт по горло и собой, и грустной задумчивостью Грейди, которая угнетала его не меньше, чем длинные скорбные отповеди, на которые так щедра была его мать. В юности его непреодолимо тянуло к воровству, потому что связанные с этим опасности были лучшим лекарством от скуки. В армии, примерно по тем же причинам, он однажды стащил электрическую бритву. Вот и теперь он почувствовал, что должен отколоть что-то в этом духе.
— Пойдем-ка отсюда куда-нибудь к черту! — взорвался он вдруг, и потом, чуть тише, добавил: — В «Лоуз» сегодня кино с Бобом Хоупом.
Грейди вилкой вытащила непутевый яичный желток.
— Да, можно и туда, — ответила она.
На Лексингтон-авеню было душно, особенно после кинозала с кондиционерами, откуда они только что вышли; лица их при каждом шаге опаляло душащее дыхание жары. Беззвездное сумеречное небо словно гробовой крышкой накрыло город, и улица, уставленная газетными щитами, где что ни новость — то катастрофа, и наполненная пчелиным жужжанием неоновых ламп, походила на длинный застывший труп. Мостовая была залита разноцветным дождем электрического света; прохожий, угодив во влажные блики этого сверкания, каждую секунду менял цвет, словно хамелеон: у Грейди губы стали сначала зелеными, потом фиолетовыми. Убийство! Вот группа людей, истекающих потом, под светом уличного фонаря; их лица спрятаны под масками развернутых бульварных газет, они ждут автобуса, заглядывая в оттиснутые на бумаге глаза молодого убийцы. Клайд тоже купил газету.
Грейди никогда еще не оставалась летом в Нью-Йорке и никогда еще не видела такой ночи. Жара вскрывает городу череп, обнажая его белый мозг и узлы нервов, шипящих, как провода в лампах ночных фонарей. И тогда изо всех пор выступает тот кислый, сугубо человеческий запах, от которого даже камни кажутся живой пульсирующей плотью. Грейди, конечно, знакомо было это напряженное отчаяние, порождаемое городом, — ведь на Бродвее она ощущала его в полной мере. Но там это было нечто чуждое, ощущение, которого она сама не испытывала. А теперь ей деваться было некуда: она стала одной из этих людей.
Она остановилась, чтобы поправить носки, которые сползли в туфли, и решила немного повременить — посмотреть, скоро ли Клайд заметит, что она отстала. На углу стоял открытый прилавок; тротуар в этом месте был похож на дивный сад: фонтаны из фруктов и букеты цветов под огромными зонтиками от солнца. На мгновение Клайд задержался возле прилавка, а потом быстрым шагом вернулся к Грейди. Она хотела поскорее увести его прочь в тень улиц и затаиться вместе с ним во мраке квартиры, но он сказал:
— Иди на ту сторону. И жди меня у той аптеки.
Лицо его казалось таким беззащитным от непонятного волнения, что Грейди и не спросила, почему она должна ждать именно там. Она могла разглядеть Клайда только урывками, в зияющих, как вспышки, промежутках среди проносящихся мимо машин. В конце концов Грейди увидела, что он вертится возле прилавка с фруктами и цветами. В ту же секунду она узнала в девушке, идущей навстречу, свою одноклассницу по пансиону мисс Рисдейл — и, отвернувшись, принялась изучать сияющую аптечную витрину, в которой были выставлены бандажи. Тело ее содрогнулось от рева подземки: под ногами у нее оказалась вентиляционная решетка метро. Из этой бездны доносился скрежет железных колес, а потом, уже гораздо ближе, раздались более резкие звуки: зазвенели клаксоны, грохнули крылья машин, завизжали шины! Грейди резко обернулась и увидела шофера, проклинающего Клайда, который несся через улицу во все лопатки.
Схватив Грейди за руку, он потянул ее за собой, и они бежали до тех пор, пока не свернули в боковую улочку, укрытую деревьями, тихую и всю в чудных деревьях. Когда, задыхаясь, они повисли друг на друге, Клайд сунул ей в руку букетик фиалок — и она поняла, так отчетливо, будто видела все своими глазами, что цветы эти он стащил. В прожилках фиалковых листьев струилось совсем иное лето, мшистое и тенистое, и Грейди прижалась к этой прохладе щекой.
Вернувшись домой, она позвонила Эппл и сказала, что в Истгемптон все-таки не приедет. Вместо этого она отправилась с Клайдом в Ред-Бэнк, что в Нью-Джерси, и там около двух часов ночи они поженились.
ГЛАВА 5
Мать Клайда, дородная, смуглая женщина, выглядела измотанной и расстроенной, как будто всю жизнь ей приходилось делать все за других. Порой даже казалось, что она в этом раскаивается, когда в ее голосе проскальзывали жалобные задумчивые нотки.
— Kinder, kinder,[7] прошу вас, спокойнее, — произнесла она, прикоснувшись ко лбу кончиками пальцев. По ее волосам, волнистым, как стиральная доска, крепко прижатым к голове крошечными гребешками, серебристым зигзагом пробежал блик света. — Берни, милый, послушай, что тебе говорит Ида, не играй в мяч дома. Ради мамочки, поди на кухню, помоги своему брату с холодильником.
— Не толкайся!
— Не толкаться? — возмутилась Ида, только что хорошенько подтолкнувшая Берни. — Да я этого придурка сейчас изуродую. Ты понял, Берни? Если будешь играть дома в мяч, я тебя изуродую.
В ответ на это миссис Манцер снова стала молить Берни послушаться мамочки. В ушах ее висели серьги из черного янтаря, и, когда она качала головой, еле слышно бормоча невнятные причитания, эти бусины тряслись, как колокольчики. На столике перед ней стоял горшочек с небольшим кактусом, и она трамбовала вокруг него землю. Грейди, сидевшая напротив, отметила про себя, что миссис Манцер уже в девятый или десятый раз приминает землю в горшке; это говорило о том, что мать Клайда тоже чувствует себя неловко: этот вывод немного успокоил Грейди.
— Видите, что творится, милочка? А, конечно, вы улыбаетесь, вы киваете; но вам этого не понять, у вас ведь нет братьев.
— Нет, — ответила Грейди, — вообще-то у меня только сестра.
Она запустила руку в сумочку, чтобы достать сигарету, но поскольку вокруг не было видно ни одной пепельницы, она подумала, что курить в присутствии миссис Манцер, возможно, не стоит, поэтому извлекла руку из сумки и замешкалась, не зная, куда теперь ее девать. Грейди вдруг почувствовала себя дико неуклюжей, и виновата в этом была главным образом Ида. Последние два часа она изучала Грейди так тщательно, будто перед ней был образчик затейливого кружева.
— Только сестра? Очень жаль. Но ничего, надеюсь, у вас будут сыновья. Женщина без сыновей не имеет никакого смысла. Ее не будут уважать.
— Вот уж дудки! — вмешалась Ида. Девица эта была жутко вредной, со злобным, угрюмым взглядом, курчавыми волосами и землистым цветом лица. — Мальчишки все противные, и мужчины тоже. По мне, чем их меньше, тем лучше.
— Ида, родная, ты глупости говоришь, — одернула ее мать, переставляя кактус со столика на подоконник, и бруклинское солнце уронило на несчастное растение квадратное световое пятно. — Такие мысли иссушают: в тебе не хватает соку, Ида. Ты бы съездила в горы, как дочка Минни в прошлом году.
— Не ездила она ни в какие горы. Ты уж мне поверь, я знаю, что говорю.
Они были поразительно похожи — миссис Манцер и ее старший сын, — повадка, жесты, эта смутная, загадочная полуулыбка, эти выразительные глаза, и говорит она так же медленно… Сердце Грейди билось часто-часто: такие знакомые черты — и такие незнакомые, воспринимаются совсем иначе.
— Мужчина — это всё, абсолютно всё, — сказала миссис Манцер, словно не замечая ехидных реплик дочери, — совсем как Клайд, тоже умевший не замечать того, чего не хотел. — И ребенок — будущий мужчина, каждая мама должна холить его и лелеять. Вот мой Берни такой сладкий мальчик, так любит маму, настоящий ангелок. И мой Клайд был такой же. Тоже ангелок. Если у него был батончик «Милки уэй», он всегда половинку отдавал маме. Я очень люблю «Милки уэй». Теперь все по-другому. Да, мальчики вырастают, меняются и теперь уже меньше думают о маме.
— Вот видишь? И я то же самое говорю. Мужчины — существа неблагодарные.
— Ида, родная, ведь я же не жалуюсь. Ребенок и не должен любить маму так же сильно, как мама любит его. Дети стыдятся материнской любви, и никуда от этого не деться. Когда мальчик вырастает и становится мужчиной, он должен думать о других женщинах.
В комнате повисло молчание, которое вовсе не казалось напряженным, как это часто случается при встрече малознакомых людей. Грейди вспомнила собственную мать, их непростые отношения, моменты, когда к ней обращались с любовью, которую — из-за недоверия или из-за злопамятства? — она отвергла. И она задумалась: можно ли еще что-то наладить? И поняла, что нет, ведь только ребенку такое под силу, а ребенок этот уже остался в прошлом, как и сама возможность что-то изменить.
— Ах, что может быть хуже старухи, которая слишком много болтает, хуже сплетницы? — сказала миссис Манцер с глубоким вздохом.
Она внимательно смотрела на Грейди, и взгляд ее не спрашивал: почему мой сын на тебе женился? — ведь она не знала, что они женаты. Есть и другой вопрос, для матери гораздо более важный: за что мой сын любит эту девушку? — И Грейди прочла в устремленном на нее взгляде: «Ты вежливая, умеешь слушать. Но теперь я лучше придержу язык и послушаю, что скажешь ты».
Представляя, как она приедет в Бруклин, Грейди всегда воображала вот что: она, никем не видимая, проникнет в ту часть жизни Клайда, куда можно за час доехать на метро. И лишь оказавшись под дверью его дома, она вдруг поняла, какой была наивной. Ведь она и сама станет предметом изучения: кто ты такая? что ты можешь нам сказать? Миссис Манцер имела полное право задавать вопросы, и Грейди, принимая вызов, сама кинулась в атаку:
— Я думаю, то есть я уверена, что вы ошибаетесь насчет Клайда, — промямлила она, ухватившись за первую попавшуюся тему. — Клайд в вас просто души не чает.
Грейди поняла, что ляпнула что-то не то, и Ида, тут же скривив надменную гримасу, не замедлила ей об этом сообщить:
— Все мамины дети души в ней не чают, в этом ей, безусловно, очень повезло.
Чужак, позволивший себе высказаться об отношениях в семье, не должен обижаться, когда его ставят на место, и Грейди приняла выпад Иды с учтивостью, призванной продемонстрировать, что она не хотела показаться нескромной. Ведь у Манцеров была настоящая семья: застарелые запахи и потертые вещи, наполнявшие дом, свидетельствовали о жизни сообща, об узах, которые не смог бы разорвать самый страшный скандал. Все это принадлежало им — здешняя их жизнь, эти комнаты; а сами они принадлежали друг другу, и Клайд даже не подозревал, насколько сильно со всем этим связан. Грейди, у которой не было столь тесного контакта с семьей, здешняя теплая атмосфера была в диковинку, казалась почти экзотической. Как бы то ни было, ей самой подобные условия не подошли бы: от этого спертого воздуха, под бременем семейной близости, от которой некуда деться, она быстро зачахла бы — ее собственная капризная природа требовала комфортного, прохладного климата независимости. Она бы не постеснялась признать: да, я богата, и деньги — моя опора, ибо вполне отдавала себе отчет в том, насколько важна для нее эта опора, эта почва, в которую она пустила корни. Благодаря деньгам она могла найти замену чему угодно: дому, мебели, людям. Манцеры иначе смотрели на жизнь только потому, что не были приучены к подобным преимуществам; зато они сильнее были привязаны к тому, что имеют, и, конечно же, ритм их жизни, отбиваемый на барабане поменьше, был все-таки более интенсивным. Это были два разных способа существования — так, по крайней мере, подумалось Грейди. И все же, что ни говори, у каждого должно быть свое место: даже сокол, парящий в небе, возвращается на руку хозяина.
Миссис Манцер улыбнулась ей. Тихим, размеренным, уютным голосом, каким рассказывают сказки у камина, она сказала:
— В детстве я жила в маленьком городке на склоне горы. На вершине всегда лежал снег, а у подножия текла зеленая речка — представили? А теперь прислушайтесь и скажите: слышите ли вы колокола? Дюжина звонниц, и колокола все время звонят.
— Слышу, — ответила Грейди, и это было правдой.
Ида нетерпеливо спросила:
— Мама, ты про птиц?
— Приезжие называли это место городом птиц. Очень верно. Вечерами, почти в полной темноте, они прилетали целыми тучами, и иногда даже восходящую луну не было видно — так много их собиралось. Но приходила злая зима, и по утрам стоял такой мороз, что мы лед не могли разбить, чтобы умыться. И в эти утра можно было увидеть печальное зрелище: покрывала из перьев лежали там, где упали замерзшие птицы, — вы уж мне поверьте. Моему отцу приходилось их сметать, как прошлогодние листья, а потом их сжигали. Но некоторых он приносил домой. Мама и все мы ухаживали за ними, кормили, и они набирались сил и снова могли летать. Они улетали именно тогда, когда мы любили их сильнее всего. Ах, совсем как дети! Понимаете? Потом снова наступала зима, и мы смотрели на замерзших птиц и сердцем чувствовали, что есть среди них и те, кого мы спасли в прошлую зиму.
Последний яркий уголек в ее голосе вспыхнул и погас. В тихой задумчивости она глубоко, прерывисто вздохнула:
— Именно тогда, когда мы любили их сильнее всего. Да, так и было.
Затем, коснувшись руки Грейди, она произнесла:
— Можно спросить, сколько вам лет?
Грейди показалось, будто прямо у нее перед глазами щелкнул пальцами гипнотизер; ее словно вырвали из сна, где несчастные существа, окруженные заботой, сраженные зимними холодами, горели в огненных сполохах, трепещущих, как птичьи крылья; моргнув от неожиданности, она ответила:
— Восемнадцать.
Вообще-то нет, пока еще нет, до него еще оставалось несколько недель, до дня ее рождения, почти два месяца еще не прожитых дней, похожих на еще не разрезанный вишневый пирог, на не поблекшие еще цветы, — и Грейди вдруг захотелось в этом признаться:
— Вообще-то семнадцать. Восемнадцать мне будет только в октябре.
— В семнадцать я уже вышла замуж, в восемнадцать стала матерью Иды. Так и должно быть: молодые должны жениться молодыми. И тогда мужчина начинает работать. — Голос ее звучал страстно, пожалуй даже чересчур; но огонь этот быстро угас, и снова возобладала тихая задумчивость. — Клайд обязательно женится. Об этом я могу не беспокоиться.
Ида захихикала:
— Ты-то можешь, а вот Клайд… ему придется побеспокоиться. Сегодня утром в супермаркете я видела Бекки, она была злая как черт. Я спросила, дорогая, что тебя так гложет? А она мне — Ида, можешь передать своему братцу, пусть катится ко всем чертям.
Грейди будто вдруг резко подкинули на страшную высоту, так что в ушах зазвенело. Она напряженно ждала, не зная, как теперь спуститься вниз.
— Ребекка сердится? — удивилась миссис Манцер, и в ее голосе промелькнуло легкое беспокойство. — И почему на этот раз, Ида?
Та только пожала плечами:
— Не знаю. Откуда мне знать, что там у этой парочки происходит? Во всяком случае, я предложила ей зайти сегодня.
— Ида!
— Мама, ну что «Ида»? Еды на всех хватит.
— Кошмар, придется тебе купить новый холодильник, этот уже никто не починит.
Эти слова произнес Клайд, появления которого никто не заметил: он стоял у кухонной двери, весь перепачканный, держа в руках изношенный приводной ремень.
— И послушай, ма, попроси Кристал все там прибрать: ты же знаешь, я должен к четырем вернуться на работу.
У него за спиной мигом возникла Кристал, приготовившаяся к обороне.
— Мама, скажи на милость, за кого ты меня тут держишь? Я что, лошадь? Или осьминог? Я весь день торчу на кухне, пока вы тут прохлаждаетесь, да еще Берни ко мне подослали, он меня скоро с ума сведет, да еще Клайд с этим холодильником — все по полу раскидал.
Миссис Манцер подняла руку — и все препирательства тут же смолкли: она знала, как надо обращаться с ее детьми.
— Кристал, дорогая, замолчи немедленно. Я сейчас приду и сама все сделаю. Клайд, приведи себя в порядок; а ты, Ида, поди накрой на стол.
Все разошлись, только Клайд немного замешкался: он стоял в стороне, похожий на статую. Его мокрая от пота рубашка отсвечивала влажным шелком и липла к телу, покрывая его тончайшим слоем мрамора. Давным-давно, в апреле, Грейди сделала с него мысленный снимок, получилось очень контрастное и чувственное изображение, словно вырезанное из белой бумаги: часто, оставшись одна в плену у полуночи, она извлекала фотографию из памяти, и этот пьянящий образ заставлял ее кровь течь быстрее. И теперь, когда Клайд подошел к ней, она зажмурилась, чтобы не исчез любимый образ, так как ее муж, стоявший рядом, казался подделкой, другим человеком.
— Все нормально? — спросил он.
— Да, а почему ты спрашиваешь?
— Ну ладно. — И он хлопнул себя по бедру приводным ремнем. — Не забывай, ты сама хотела прийти сюда.
— Клайд, я все обдумала. По-моему, лучше все им рассказать.
— Но я не могу. Любимая, послушай, ты же знаешь, я не могу, надо подождать.
— Но, Клайд, сам подумай, ведь я…
— Не волнуйся, детка.
Еще пару минут в воздухе висел приятный кисловатый запах его пота, как зыбкое напоминание о том, что он только что был тут, но потом легкий ветерок пробежал по комнате и унес запах: и тогда Грейди открыла глаза, уже в одиночестве. Она подошла к окну и прислонилась к холодной батарее. Скрипучие роликовые коньки скребли асфальт, как мелок, жалобно скулящий от соприкосновения со школьной доской. Мимо проехал коричневый седан, из его радио доносился государственный гимн. По тротуару прошли две девушки с купальниками в руках. Снаружи дом Манцеров был почти таким же безликим, как и внутри: один из пятнадцати домиков, стоящих стена к стене; от тротуара его отделяла живая изгородь игрушечной высоты. Эти домики были не то чтобы совсем одинаковы, просто коллажи из шершавой, неровной штукатурки и ярко-красного кирпича вообще мало отличаются друг от друга. Мебель миссис Манцер тоже была безликой: необходимое количество стульев, светильников тоже достаточно, но побрякушек многовато. Побрякушки эти, правда, были неслучайными: два Будды поддерживали с двух сторон какой-то трехтомник; на каминной полке два хмельных ирландца, прикладываясь к бутылочке, со смехом танцевали джигу; индийская красотка из розового воска, с мечтательной улыбкой, упорно флиртовала с Микки-Маусом, который, сам размером с куколку, ухмыляясь, глядел на нее с крышки радиоприемника; и с высоты книжной полки за всем этим наблюдала веселая компания тряпичных клоунов. Вот такими были этот дом, эта улица, эта комната, а миссис Манцер жила между зеленой речкой и белоснежной горной вершиной, в городе, полном птиц.
Меля языком, держа перед собой модель аэроплана, подвешенную на ниточке, в комнату влетел Берни. Это был шумный, белый, как глист, своенравный мальчишка, с разбитыми забинтованными коленками, с наглым взглядом, с бритой головой.
— Ида сказала, чтобы я тут поболтал с тобой, — заявил он, со свистом кружась по комнате, как летучая мышь, выпорхнувшая из преисподней, и Грейди подумала, что и вправду с Иды станется. — Она уронила лучшую тарелку ма, но тарелка не разбилась, а ма все равно злится, потому что Кристал спалила мясо, а у Клайда потек холодильник, — Берни рухнул на пол и стал извиваться, будто его кто-то щекотал. — Вот только чего она из-за Бекки злится?
Грейди одернула блузку и, уступив нечестивому порыву, спросила:
— А я и не знала, правда, что ли?
— Да уж точно; только как-то чудно все это, вот что.
Он крутанул пропеллер своего аэроплана и добавил:
— Ида сказала, что Кристал ее позвала, — чудно. Бекки и так приходит сюда когда хочет, никто ее не зовет. Будь я тут главным, я бы сказал ей, чтоб дома сидела. Она меня не любит.
— Какой красивый самолетик! Ты сам его сделал? — спросила вдруг Грейди: в прихожей послышались шаги, и она занервничала.
Впрочем, аэроплан ей действительно нравился, он был необычным: его хрупкий каркас и крылья были скреплены с восточной тщательностью.
Берни с гордостью указал на рамку из искусственной кожи, в которую были вставлены несколько фотографий.
— Вот она, видишь? Это Анна. Самолет она сделала. Она таких тыщи наделала, мильёны, всяких разных.
Девочку, похожую не то на гнома, не то на привидение, Грейди приняла за подружку Берни и тут же о ней забыла, потому что слева от нее была фотография Клайда, элегантно затянутого в военную форму: его рука небрежно лежала на талии у какой-то девушки, не слишком выразительной, но симпатичной. Девушка в очень уж короткой юбке и кофте, чересчур широкой под грудью, держала в руке американский флаг. При виде этого фото на Грейди повеяло холодком: так бывает, когда, впервые попав в какую-то ситуацию, вы вдруг чувствуете, что с вами это уже было; если прошлое нам известно, а в настоящем мы живем, возможно, во сне мы видим будущее? Ведь именно во сне Грейди видела их — Клайда и эту девушку. Они бежали, держась за руки, а она, в немой ярости, проходила мимо и исчезала прочь. Значит, этому суждено было случиться: не только во сне ей придется страдать. Размышляя об этом, она услышала голос Иды, — казалось, высокое дерево подломилось и упало на землю. Под его тяжестью Грейди сжалась на своем стуле.
— Я сама все это сняла, обожаю фотографировать, они милые, правда? Ты посмотри на Клайда! Он тогда только вернулся из армии, и его послали в Северную Каролину, и Бекки меня тоже туда притащила, вот смеху-то было! Там я встретила Фила. Это тот, что в плавках. Я с ним больше не встречаюсь, но в первый год после армии мы с ним были помолвлены, и он водил меня на танцы тридцать шесть раз — в «Бриллиантовую подкову» и во всякие такие места.
У каждой фотографии была своя история, и Ида рассказала их все, а Берни создавал музыкальный фон: крутил на старом патефоне ковбойские песни.
Как много энергии мы тратим, закаляя себя на всякий случай, на случай кризиса, который настигает, в общем-то, очень редко: копим силы, способные горы свернуть. Но, возможно, именно эти колоссальные затраты, это мучительное ожидание чего-то, что никогда не происходит, подготавливают нас к самому худшему, помогают с суровым спокойствием встретить зверя, когда тот покажется наконец на тропе. Услышав звук дверного звонка, Грейди безропотно приготовилась встретить судьбу, хотя спокойствие всех остальных (за исключением Клайда, который мыл руки наверху) было подорвано этим звоном, пронзившим их, словно инъекционная игла. Грейди имела полное моральное право встать и уйти в этот момент, но она решила не устраивать дешевых спектаклей, и, когда Ида сказала: «Ну вот и она», Грейди только подняла взгляд на ватагу ангелочков-клоунов и тайком показала им язык.
ГЛАВА 6
На другой день, в понедельник, началась страшная жара, которая запомнилась всем надолго. И хотя утренние газеты обещали, что будет просто «тепло и солнечно», к полудню стало уже понятно, что происходит нечто из ряда вон. У изумленных служащих, возвращавшихся после обеда в свои конторы, лица были как у испуганных детей — и они тут же начинали звонить в метеослужбу. Ближе к вечеру, когда жара сомкнула руки на горле своей жертвы, город заметался, забился, но вопль застрял у него в глотке, суета затихла, жизнь замерла, он стал похож на пересохший фонтан, этот никому не нужный монумент, — и впал в кому. Как искалеченные конечности, протягивал Сентрал-парк свои ивовые ветви, исходящие паром: он теперь напоминал поле боя, где полегло множество воинов. Обессилевшие раненые лежали рядами в мертвенно-тихой тени, а между ними, фиксируя катастрофу, с мрачными физиономиями протискивались газетные фотографы. В зоопарке из вольера со львами доносился мучительный рев.
Грейди бесцельно бродила из комнаты в комнату, и на каждом углу ей злобно подмигивали часы — они все стояли, двое показывали двенадцать, еще одни — три, а четвертые — без четверти десять. Обезумев, как эти часы, время струилось в ее жилах — густое, как мед, то и дело замирая, отказываясь течь дальше: тянулось и тянулось, как звучный, берущий за душу львиный плач, приглушенный окнами и потому едва слышный, — она даже никак не могла определить, что это за звук. Из маминой спальни доносился ностальгический, имбирный запах герани, и Люси, усыпанная бриллиантами, в горностаевом боа, закрученном поверх роскошного, шуршащего вечернего платья, словно призрак прошествовала мимо; издалека донесся только ее по-праздничному притворный голос: «Ложись спать, милая, приятных снов, милая», и дополнением к аромату герани были звонкие смех и слава, Нью-Йорк и зима.
Грейди остановилась на пороге великолепной зеленой комнаты, пребывавшей в страшном беспорядке: летние покрывала откинуты, содержимое опрокинутой пепельницы разлетелось по серебристому ковру, в смятой постели рассыпаны крошки и сигаретный пепел; среди простыней валялась рубашка Клайда, его шорты и красивый старинный веер из коллекции Люси. Клайду, который ночевал у Грейди три-четыре раза в неделю, эта комната нравилась, он считал ее своей. Смену одежды он хранил в личной гардеробной комнате Люси, отчего штаны его цвета хаки всегда попахивали геранью. Но Грейди будто не понимала, почему все здесь выглядит как после набега грабителей, и выругалась в адрес комнаты. Лишь одна мысль билась в мозгу: здесь произошло нечто страшное, нечто столь жестокое, за что ей не будет прощения. Она осторожно прошлась по комнате, пытаясь прийти в себя, подняла его рубашку и замерла, прижавшись щекой к рукаву.
Ведь он любил ее, любил, и, пока он любил ее, она не боялась оставаться одна, но вообще-то ей нравилось оставаться одной, даже слишком. Еще в школе, когда все девочки увлекались друг другом и всюду ходили влюбленными парочками, Грейди держалась особняком; лишь один раз она позволила Ноами выразить ей свое восхищение. Ноами, отличница и мещанка до мозга костей, писала ей страстные стихи, даже в рифму, и однажды Грейди разрешила Ноами поцеловать себя в губы. Но Грейди ее не любила: мы редко любим тех, кому не можем хоть в чем-то завидовать, а Грейди могла бы позавидовать только мужчине, а не какой-то там девице. Так что Ноами сначала затерялась где-то в ее мыслях, а потом и вовсе была забыта, как старое письмо, которое так как следует и не прочли. Да, Грейди действительно нравилось одиночество, но, вопреки мнению Люси, отнюдь не предавалась вялой хандре: хандра — слабость существ домашних, ручных от природы. А в Грейди бурлила необузданная жизненная энергия, которая толкала ее на все более дерзкие подвиги, требовавшие все более напряженных усилий. Из-за ее лихачества мистер Макнил получил предупреждение от полиции: дважды ее останавливали на Меррит-парквей, когда она разгонялась до восьмидесяти и выше. Уверяя полицейских, будто она и понятия не имела, что превысила скорость, Грейди не лгала: скорость ее завораживала, отключала рассудок и лучше всего приглушала избыточную чувствительность, из-за которой так больно было общаться с людьми. Слишком уж сильно лупили они по клавишам, и неистовыми аккордами отзывалась ее душа. Взять хотя бы Стива Болтона. Да и Клайда. Но он ведь ее любил. Он любил ее. Вот бы сейчас зазвонил телефон. Может быть, это случится, если я перестану на него смотреть, — так бывает. А что если с ним стряслось что-то ужасное, поэтому телефон и молчит? Бедная миссис Манцер, она плакала, а Ида кричала, а Клайд сказал: иди домой, я позвоню тебе — именно так, слово в слово, и сколько еще она должна мучиться, одна, в окружении замерших часов и звуков города, приглушенных жарой, тающих на оконных стеклах? Она легла на кровать, и ее голова, готовая взорваться, устало утонула в подушках.
— Макнил, господи, в чем дело? Разве звонок не работает? Я уже полчаса стою под дверью.
— Я спала, — ответила Грейди, глядя на Питера разочарованными, припухшими со сна глазами.
Она тревожно метнулась к двери: что если Клайд придет и застанет здесь Питера? Сейчас совсем не время им встречаться.
— И вовсе не обязательно глазеть на меня, как на ночной кошмар, — сказал Питер, дружелюбно протискиваясь мимо нее. — Хотя, должен признаться, именно таким я себя и чувствую. Отвратительный день, я провел его в автобусе, в окружении маленьких бандитов, которые не знали, куда девать энергию, накопленную за две недели на свежем воздухе. Надеюсь, ты позволишь мне принять душ?
Грейди не хотелось, чтобы Питер увидел разгром, учиненный в комнате матери, поэтому, слегка его обогнав, она повела его дальше по коридору.
— Я помню: ты ездил на Нантакет, — сказала она, как только они вошли в ее комнату, где Питер тут же расстегнул свою льняную полосатую рубашку. — Я получила твою открытку.
— Серьезно, я послал тебе открытку? Очень мило с моей стороны. Вообще-то мы хотели, чтобы ты тоже приехала; я звонил тысячу раз, но ты не снимала трубку. Мы катались на паруснике Фредди Крукшенка, и было очень весело. Меня, правда, укусил краб — в такое место, которое я не могу тебе показать, и раз уж о нем зашла речь, отвернись, мне нужно снять брюки.
Сидя к нему спиной, Грейди закурила сигарету.
— Еще бы вам не было весело, — сказала она, вспомнив прошлые годы: летние дни у моря, белые от парусов, с морскими звездами, — совсем другие дни. — Я не выбиралась из города с нашей последней встречи.
— И это видно с первого взгляда. Ты думала, нет? Ты похожа на лилию: на мой вкус, вид у тебя чересчур похоронный.
Питер явно рисовался: его собственное чистое, ухоженное тело обрело цвет чая, а в волосах мелькали солнечные пряди.
— Я думал, ты поклонница отдыха на свежем воздухе, или страсть к природе прошла вместе с юностью?
— Я не очень хорошо себя чувствовала, — ответила Грейди.
И Питер, уже забравшийся в ванную, выглянул, чтобы поинтересоваться, не случилось ли чего серьезного.
— Да нет, что ты. Наверное, это все жара. Ты же знаешь, я никогда не болею.
Правда, вчера… Это случилось в Бруклине; она помнила, как проехала по мосту, потом остановилась перед светофором.
— Правда, вчера я упала в обморок.
И стоило ей это произнести, как внутри у нее что-то перевернулось, оборвалось. Примерно то же самое она почувствовала, когда сигнал светофора начал выписывать спираль, а потом — темнота. Это продолжалось всего мгновение, вообще-то зеленый свет едва успел загореться, но все равно ее оглушили сигналы стоящих сзади машин; извините, сказала она и рванула вперед.
— Я не слышу, Макнил. Говори громче.
— Не обращай внимания. Это я сама с собой разговариваю.
— Уже до этого дошло? Плохо дело. Нам обоим не помешает расслабиться. Бокал-другой мартини, например. Ты помнишь, что не стоит брать для него сладкий вермут? Я тебе много раз говорил, но, по-моему, без толку.
Когда Питер вышел из ванной, весь сверкающий и словно оживший, то обнаружил в комнате перемену: шейкер с неплохим мартини, патефон, играющий «Как приятно обманываться», за стеклянными дверями — закатный фейерверк и прекрасный вид, достойный открытки.
— Жаль, что у меня мало времени, — сказал он, падая на диванные подушки. — Идиотизм, конечно, но я ужинаю сегодня с одним типом, который может пристроить меня на радио, подумать только. — И они подняли бокалы за успех Питера. — Впрочем, за это пить не обязательно, мне и так везет. Вот погоди, к тридцати годам я достигну невероятнейшего успеха, стану трудолюбивым, организованным и буду смеяться над теми, кто обожает валяться под деревом.
Это пророчество не было просто болтовней, в чем Питер, потягивая свой мартини, прекрасно отдавал себе отчет; он сознавал, что такая судьба, возможно, была бы для него самой удачной, ибо втайне он, безусловно, восхищался тем солидным господином, которого только что описал. А Грейди стала бы дамой, у которой есть дивный, весь в цветах, сад, женой, достойной жемчуга на Рождество, занимающей гостей за изысканным ужином. Ее изящество и благородство — лучшая рекомендация мужу. Именно такой Грейди представала в его мечтах, и теперь, глядя, как она доливает ему коктейль, и воображая, что это может продолжаться хотя бы ближайшие пять лет, Питер удивлялся, как же это он прожил лето, ни разу с ней не повидавшись, не позвонив, встречая каждый новый день как очередной шаг к тому заветному дню, когда, утомленная этим, как там его, она наконец обернется к нему и скажет: «Питер, неужели это ты?» Да. Передавая ему бокал, Грейди с беспокойством заметила невольный блеск в глазах Питера и плотоядную складку у рта, столь чуждую его подвижному лицу. Когда их пальцы соприкоснулись, сомкнувшись вокруг ножки бокала, Грейди вдруг осенила нелепая мысль: неужели такое возможно, неужели ты в меня влюблен? Мысль эта пронеслась подобно чайке, которую она прогнала вон: слишком уж странное это было существо, — но настырная птица вернулась и возвращалась снова и снова, и Грейди пришлось всерьез задуматься о своем отношении к Питеру. Итак, она дорожила его расположением, уважала его суждения, ценила его мнение — именно поэтому сейчас она старательно прислушивалась к звукам в коридоре, смертельно боясь, что появится Клайд. И тогда Питер, вынеся свой вердикт, тем самым заставит ее осмыслить то, что она натворила, а у нее не хватило бы духу на это, нет, только не теперь. В комнате сгустились сумерки, и звуки их голосов, мягких, податливых, колебались и вздыхали вокруг; тема разговора, казалось, не имела ни малейшего значения — достаточно было и того, что они говорят на одном языке и видят все в одинаковом ракурсе. И Грейди спросила:
— Питер, как давно мы с тобой знакомы?
Тот ответил:
— С тех самых пор, как ты довела меня до слез. Это был чей-то день рождения: ты опрокинула торт вперемешку с мороженым прямо на мой матросский костюмчик. Ты была очень мерзким ребенком.
— Думаешь, с тех пор я сильно изменилась? Думаешь, ты видишь меня насквозь?
— О нет, — рассмеялся Питер, — и мне бы очень этого не хотелось.
— Боишься, что тогда бы я тебе не понравилась?
— Если бы я заявил, что вижу тебя насквозь, это значило бы, что я не желаю больше с тобой общаться, так как считаю тебя мелкой и скучной занудой.
— Ну, это еще не самые страшные мои пороки.
Силуэт Питера на фоне потемневших от сумерек зеленоватых дверей пошевелился, и блеснули в улыбке зубы, совсем как огни над парком. Питер чувствовал, что Грейди плутует, ведет с ним какую-то призрачную борьбу, у него было такое ощущение, будто они оба, завернувшись в простыни, прыгают по комнате и мутузят воздух. Грейди хочет снять с себя какую-то вину, притом не признавшись, почему у него должны быть причины считать ее виноватой.
— Что же может быть страшнее зануды? — спросил он, и улыбка мгновенно сошла с его лица. — Но раз может, ты очень вовремя пожелала мне удачи.
Вскоре он ушел, и Грейди осталась одна в темной комнате, освещаемой лишь внезапными вспышками зарниц, и все ждала: вот сейчас начнется дождь, а он все не начинался, вот сейчас он придет, а он все не шел. Грейди зажигала все новые и новые сигареты, но не затягивалась; они таяли, зажатые между ее губ, и время, все в терниях, как распятие, ждало вместе с нею и вслушивалось; вслушивалась и она, а он все не шел. Уже за полночь Грейди позвонила вниз и попросила швейцара, чтобы он подогнал машину. Молния перескакивала с тучи на тучу — зловещий, безмолвный гонец, и машина, как грянувший удар грома, колесила по окраинам города, по сереньким деревенькам, спящим мертвым сном. А на рассвете Грейди увидела море.
Оставь меня в покое — так он сказал Иде, когда та пришла к нему на парковку. А Ида сказала: ты что, самый умный, да? Ударил собственную маму, она теперь в постели лежит, ты ей сердце разбил. Не говорю уже о Бекки, а она говорит, ее брат сказал, что убьет тебя. И слушай, я тебя предупредила, а там — как знаешь. Но он ведь маму не бил, Ида говорит так для того, чтобы ему хуже сделать, — или вправду ударил? Ему просто пелена на глаза упала, когда он этих хитрецов увидел в прихожей, и как же он их здорово огорошил! Он сказал им, это моя жена, и как они все стали клясться Иисусом, что ноги его больше в их доме не будет. Будто он не знал, почему они так за него держатся. Конечно, неплохо иметь под рукой лишний кошелек. А любовь… да разве они любили Анну? Правда, если он ударил маму, то ему очень жаль, он так надеялся — Господи, ну пожалуйста, — что не ударил ее. В детстве он постоянно воровал батончики «Бэби Рут» и приносил ей. И еще «Милки уэй»: они держали их в холодильнике, а потом резали тоненькими ломтиками. Мой Клайд — просто ангел, он покупает своей маме конфетки. Мой Клайд станет известным адвокатом. Неужели она думает, что ему нравится работать на парковке? Что он занимается этим ей назло, хотя мог бы быть известным адвокатом, известным кем угодно? Жизнь складывается по-разному, мама. И Грейди Макнил — тоже часть этой жизни. Так уж сложилось. А что Грейди? Она скрылась за дверью, и больше он ее не видел. Баббл посоветовал: оставь в покое телефон, побереги мелочь, она просто стерва. Но она не была стервой, так что получилась полная ерунда; может быть, правда, так вышло потому, что он не пришел в тот день ночевать? Ну и что с того, он пошел в бар, где работал Баббл, и погулял на славу — подумаешь, ведь может же человек иногда побыть сам с собой? И если она собирается и впредь оставаться его женой, пусть привыкает жить по-новому. Для начала она должна съехать с этой квартиры. Он знал один домик на 28-й улице, где они могли бы снять пару комнат. Но куда же она запропастилась? Да сиди ты спокойно, сказал Баббл. Бабблу было за тридцать, он работал барменом в захолустном ночном клубе. Это был армейский приятель. Он совершенно оправдывал свое имя — круглый, лысый, тонкокожий.
Однажды утром, когда жара простояла уже три дня, Клайд проснулся с ощущением, что вокруг его тела обвилась чья-то рука. Он подумал, что рядом с ним Грейди, и его сердце радостно забилось. Детка, позвал он, придвинувшись ближе, родная, как здорово, я очень скучал. Но тут Баббл издал оглушительный храп, и Клайд отпихнул его прочь. Он жил у Баббла: тот снимал меблированную комнату в дальней части города. Внизу была китайская прачечная, и детвора, заморенная изнуряющим солнцем, все время кричала с улицы: китаеза! китаеза! А по утрам иногда приходил шарманщик: вот сегодня, например, — и его грошовые мелодии дребезжали, как монеты, которые домохозяйки кидали на мостовую. Клайд скучал по ней; цветные воздушные шарики и тележки с цветами не давали ему забыться, и он перекатился поближе к краю кровати. Он лежал, лелея ее образ в своих мыслях, лаская себя скользящим движением руки. Брось это дело, сказал Баббл, твоему парню тоже надо немного поспать, — и пристыженный Клайд убрал руку с паха, но Грейди никуда не исчезла, она осталась эфемерной, недовоплощенной. И он вспомнил другую девушку, которую видел в Германии: был весенний день, ясный, безоблачный, он прогуливался за городом и, поднявшись на мост, перекинутый через узкую, словно хрустальную речушку, посмотрел вниз и увидел двух белых лошадей, запряженных в повозку и, казалось, продолжавших скакать под водой. Их поводья опутали руки молоденькой девушки, и ее разбитое лицо тускло мерцало под пляшущей речной рябью. Клайд разделся: он хотел броситься в воду и освободить ее, но испугался. Там она и осталась — эфемерная, недовоплощенная, отнятая смертью, как теперь Грейди была отнята у него жизнью.
Двигаясь на цыпочках по комнате, Клайд собрал свою одежду и выскользнул за дверь. В коридоре стоял телефон-автомат. Он набрал ее номер, но ему, как всегда, никто не ответил. Вокруг Клайда, на нижней площадке, галдела стайка ребятишек: эй, мистер, дай сигарету, и он протолкался сквозь них, размахивая локтями, и одна языкастая язва, худая девчушка в побитом молью купальнике, сказала: эй, мистер, ширинку-то застегни, и побежала за ним следом, тыча пальцем. Господи, прошипел он и схватил ее за плечи: волосы девчушки вспыхнули, взметнулись, рассыпались, а лицо, искаженное ужасом, словно пошло волнами, как у той девушки в реке, словно расплылось, как лицо Грейди, когда он пытался представить себе ее во плоти, целиком, в своей власти, и руки его онемели, он бросился на другую сторону улицы, а дети орали ему вслед: малолеток не замай, не твой размер. А кто, кто ему сейчас по размеру, если он чувствует себя таким жалким и ничтожным?
В «Белом замке» он подсел к барной стойке и заказал апельсиновый сок; для других напитков было слишком жарко. Не то чтобы жара его раздражала, напротив: в такую погоду в Нью-Йорке, покинутом половиной горожан, он чувствовал себя полноправным хозяином. Дожидаясь, пока подадут сок, он закатал рукав и стал внимательно рассматривать свежую жгучую татуировку, опоясавшую запястье на манер браслета. Это случилось позавчера вечером, когда они с Гампом шлялись по городу. Гамп и его чертовы шаманы забили ему пару косяков, а Гампу от марихуаны всегда лезет в башку всякая дрянь, например: я знаю одного типчика, он нам бесплатно сделает шикарную наколку. Да уж, Гамп знал всяких типчиков. Этот жил в квартире без горячей воды на Парадиз-элли, в полном одиночестве, если не считать шестерых сиамских кошек и чучела питона по имени Мейбел. Да, парни, видели бы вы времена, когда Мейбел была жива! Мы были мировая команда, веселились на полную катушку, нас все обожали, даже денежные мешки, а уж дамы и подавно, ха-ха, да уж, весь мир был наш, мы танцевали, все время танцевали, три месяца в одном только Лондоне, Вальдо и Синистра: Синистра — это ее сценическое имя; ах, бедняжка, если бы не эти мерзкие самолеты, она и сейчас бы была жива, даже вспомнить тошно. Понимаете, Мейбел не пускали в самолет. Это случилось в Танжере, нас срочно вызвали в Мадрид. Так вот, я ее вокруг себя обмотал, а сверху пальтишко накинул. И все бы ничего, да только она сжиматься начала, над Испанией уже дело было. Представляю себе, ей-то каково было, бедная моя задыхавшаяся крошка, но я просто помирал, Мейбел сжимала меня все крепче и крепче, и в конце концов я потерял сознание. И пока я был в отключке, они ее распилили пополам, ножиком. Сказали, иначе меня было не вытащить. Мясники поганые!.. Ой, что это я… чего желаете: государственный флаг, цветок, имя возлюбленной? Не, больно вообще не будет.
Но больно было. Г-Р-Е-Й-Д-И: эти буквы, составляющие ее имя, иссиня-красные, горели до сих пор. Он купил флакон масла для кожи младенцев, забрался на открытый второй этаж автобуса, идущего до Пятой авеню, и стал втирать масло в запястье. Он сошел возле Музея Фрика; пройдя вдоль парка под ветвями деревьев, повернул к центру города, обстреливая взглядом поверхность мостовой, выложенной восьмиугольными кирпичами, — старая привычка: вдруг кто-то обронил что-нибудь ценное — деньги, например? Два раза Клайд находил кольца, однажды — двадцатидолларовую купюру, и вот — он наклонился и подобрал пятицентовую монетку. Выпрямившись, он бросил взгляд через улицу и увидел, что уже пришел: вот он, тот самый дом, где живут Макнилы.
А вот и мистер Толстозад — швейцар, весь затянутый в униформу, в белых трикотажных перчатках, да что этот ублюдок о себе думает, что он пыжится как индюк? Ах, мне очень жаль, сэр, но мисс Макнил дома нет, ах нет, сэр, боюсь, никакой записки она не передавала. Но поставить швейцара на место он не мог, разве что только сплюнуть у того за спиной. Он снова перешел на другую сторону улицы и принялся прохаживаться в тени деревьев, туда-сюда, втянув голову в плечи. И тут он увидел Лесли, мальчишку-лифтера, розовощекого херувимчика с сахарными губками. Парнишка бегом кинулся под деревья, в тень: здорово, сказал он, и любовь робко наполнила его взгляд, слушай, я знаю, где она, только ему не говори, что от меня узнал. И парень сообщил, что швейцар пересылал письмо для мисс Макнил к ее сестре, в Истгемптон. Когда Клайд предложил парню полдоллара, тот, казалось, обиделся. А что ты от меня хочешь, чтоб я поцеловал тебя, что ли? — спросил Клайд, и крошка Лесли, уходя восвояси, свирепо прошипел: да ты ваще, что ли? Шутник нашелся!
Клайду казалось, он с ума сойдет — один, на пылающем острове раскаленного гравия; вечер повис над его головой, как набухший масляный пузырь, который все никак не хотел лопнуть; но тут явился Гамп с целой пригоршней настоящих кубинских сигар и бутылкой джина. Гамп был в отпуске, так что они забрались в сторожку при парковке и принялись играть в покер и наслаждаться джином и сигарами. Но Клайд никак не мог сосредоточиться и проиграл на двадцати двух раздачах подряд; в конце концов он бросил карты, встал и с мрачным видом прислонился к дверной притолоке. Вечерние тени колыхались, набегали волнами, надвигалась ночь, и Клайд сказал, слушай, не хочешь со мной прокатиться? На самом деле он просто боялся ехать один.
Все это останется: эти волны, эти розы у моря, роняющие на песок высушенные солнцем лепестки; если я умру — все это останется. Смириться с этой мыслью было трудно. Она встала в полный рост среди дюн и повязала на бедра шарф, но, когда он соскользнул вниз, не стала его поправлять — все равно кругом ни души, и наготу скрывать не от кого. Она стояла на полудиком огромном неухоженном пляже, покрытом полуистлевшими костями древесного плавника. Люди солидные сюда не приходили, предпочитая клубный пляж, хотя некоторые, вроде Эппл и ее мужа, построили рядом дома. Каждое утро после завтрака Грейди собирала себе обед в корзинку и скрывалась в дюнах, возвращаясь лишь когда солнце пряталось в море и остывал песок. Иногда она заходила в воду и смотрела на пену, омывающую ей лодыжки. Она никогда не боялась воды, но теперь всякий раз, когда ей хотелось поплескаться в волнах, ей казалось, что в них таятся смертоносные челюсти или щупальца. Как не могла она окунуться в воду — так не могла и переступить порог комнаты, полной людей. Эппл уже отчаялась уговорить ее пообщаться хоть с кем-нибудь; дважды они ругались из-за этого, особенно серьезно, когда Грейди, собираясь на танцы в Мейдстоун-клаб, уже совсем было оделась, но вдруг передумала и сказала, что останется дома. Эппл тогда саркастически заметила: по-моему, тебе стоит показаться врачу, ты как полагаешь? Грейди могла бы ответить, что уже показалась: доктору Ангусу Беллу, кузену Питера, он работает в Саутгемптоне. После ей представилось, что она знала все гораздо раньше, чем это было возможно, учитывая, что она была только на шестой неделе беременности. Дома она отыскала какую-то книжку по медицине, и по ночам, запершись в комнате, изучала картинки со страшненькими, сжавшимися в кулачок эмбрионами, с кружевными венами, полупрозрачной кожей и неподвижными глазами, — прикрытые, будто во сне, эти глаза насквозь пронзали ее сердце. Когда это случилось? В какой момент? Неужели в тот дождливый день? Да, она была в этом уверена, ведь тогда все было так замечательно: она лежала в постели, укрытая от холодного, туманного дождя, а Клайд откинул одеяло и соединился с ней — нежнее, чем смыкаются два века над глазом. Если я умру (в Гринвиче она часто слышала о Лизе Эш, Лиза была всеобщей любимицей, знала наизусть все песни — и эта самая Лиза Эш истекла кровью в туалете метро), все это останется. И ракушки в волнах прилива, и корабли вдалеке — поплывут все дальше и дальше.
Или, наоборот, приплывут. В письме, которое Эппл только что получила, сообщалось, что мать и «ваш бедный папочка» отплывают из Шербура шестнадцатого сентября, — это значило, что дома они будут раньше чем через месяц: «Скажи пожалуйста Грейди пусть позвонит миссис Ферри и вызовет ее в город а то в квартире наверняка полный беспорядок — надо было оставить миссис Ферри на хозяйстве — потому что я не хочу больше видеть беспорядка насмотревшись на то что немцы сотворили с нашим домом в Каннах это просто невероятно и еще скажи Грейди что ее платье прекраснее чем мечта просто невероятно».
Всегда рано или поздно приходит время спросить себя: что же я наделала? И для Грейди оно настало в то утро, когда Эппл, читая письмо вслух, дошла до упоминания о платье; забыв, что она не хотела этого платья, и помня лишь о том, что она уже никогда его не наденет, Грейди скатилась в бездну нового, неведомого горя — что же я наделала? Море задавало ей тот же вопрос, и чайки вторили морю. Жизнь по большей части настолько скучна, что и говорить не стоит, — и от возраста это не зависит. Меняя марку сигарет, переезжая в другой район, подписываясь на новую газету, влюбляясь и теряя любовь — мы легкомысленно и всерьез восстаем против неизбывной скуки повседневного существования. К несчастью, у всех зеркал предательский нрав, и на определенном этапе любой авантюры они отражают тщеславное, недовольное лицо, поэтому, спрашивая себя: «Что же я наделала?» — на самом деле она хочет спросить: «Что же я делаю?» — ведь именно так обычно и бывает.
Солнечный свет тускнел, и Грейди вспомнила, что у сынишки Эппл день рождения, и она — о господи! — обещала придумать игры. Она натянула купальный костюм и уже собиралась выбраться из-за дюны, как вдруг увидела двух лошадей, легким галопом бегущих в полосе прибоя. Верхом на них сидели молодой человек и хорошенькая девушка с черными струящимися волосами. Грейди узнала их — прошлым летом они вместе играли в теннис, — но фамилию ей было не вспомнить: что-то на «П» и еще что-то подростковое и безумное — они были очень симпатичные, особенно жена. Они проехали по пляжу, и голоса их сливались в дружное «эге-гей», потом они понеслись обратно, а мокрые лошади блестели, как стекло. Спешившись неподалеку от того места, где лежала, затаившись, Грейди, они отпустили лошадей порезвиться, а сами перебрались через дюны и с милым смехом повалились в заросли высокой травы. Наступила тишина, в небе бесшумно скользили чайки, морской бриз колыхал траву, и Грейди представила себе, как они лежат там, сплетенные, под защитой целого мира, который желает им только добра. Злобное чувство шепнуло ей, чтобы она вышла из укрытия. Поднявшись, Грейди прошла мимо них, рассчитывая, что ее тень, скользнув по счастливой паре, подобно крылу, разрушит их блаженство. Однако ничего не вышло, потому что эти двое на «П», которых мир, по своей доброте, сотворил невинными, не заметили никакой тени. Грейди побежала по пляжу, окрыленная их победой: в этой паре она увидела будущее, которое могло быть вполне сносным, и, поднимаясь по лестнице, ведущей с пляжа к дому, она вдруг почувствовала, что ей хочется увидеть детей, ощутить праздник.
На верхних ступенях она столкнулась с Эппл, которая, как оказалось, как раз собиралась спускаться. Обе удивились этой встрече и отступили на шаг, воинственно глядя друг на друга. Грейди спросила:
— Как там праздник? Извини, если я опоздала.
Но Эппл, нарочитым жестом поправляя сережку, будто та разболталась от встречи с Грейди, смотрела на сестру так, будто не узнавала ее, будто они вообще не были знакомы. Грейди этот взгляд одновременно насторожил и успокоил.
— В самом деле, извини, если я опоздала. Я мигом, только платье накину.
Но Эппл спросила:
— Ты Жабушку на пляже не видела? — Этим обидным прозвищем, Жабушка, она дразнила своего мужа, Джорджа. — Он пошел тебя искать.
— Наверное, он пошел в другую сторону. Но, по-моему, это глупость какая-то: с чего ему вдруг искать меня? Я же обещала, что вернусь и помогу все устроить.
Но Эппл ответила:
— Насчет праздничного сборища не беспокойся. — И уголки ее рта беспокойно дернулись. — Я отправила детей по домам, а Джонни рыдает, просто надрывается, бедный малыш.
— Вряд ли я в этом виновата, правда? — неуверенно спросила Грейди. — Я хочу сказать, зачем ты меня пугаешь?
— Да неужели? По-моему, это я должна спросить, почему ты меня пугаешь.
— Я?
И тут Эппл наконец объяснилась. Она бросила:
— Кто такой Клайд Манцер?
Касатик, распустившийся на длинном стебле рядом с тропинкой, был растерзан пальцами Грейди, и цветные лоскутки разлетелись, как ошметки старых декораций. Прошла целая вечность, прежде чем она произнесла:
— А почему ты спрашиваешь?
— Да потому, что минут двадцать назад мне сказали, что он — твой муж.
— Кто сказал?
Эппл ответила коротко:
— Он сам и сказал. — И ее милое личико вдруг перекосилось. — Он приехал из города на такси. С ним был еще какой-то парень, и Нетти впустила их — наверное, подумала, они что-то готовят для праздника…
— Так ты его видела, — мягко сказала Грейди.
— Он попросил позвать тебя, тот, что поменьше ростом, а я спросила: вы друг моей сестры? Понимаешь, мне показалось, что вряд ли ты можешь быть знакома с таким человеком. А он ответил, что нет, мы с ней не друзья, я ее муж.
Повисла пауза, лишь ропот волн нарушал тишину, а потом, когда сестры, боясь поднять друг на друга взгляд, рассматривали ошметки разодранного касатика, Эппл спросила, правда ли это.
— Что мы с ним не друзья? В общем-то да.
— Сестричка, пожалуйста, я не злюсь, совсем не злюсь, но ты должна мне сказать, что ты натворила?
Что ты натворила, что я натворила — так эхо в пещере повторяет слова, лишая их смысла. Грейди предпочла бы, чтобы кто-нибудь выплеснул на нее свой гнев, — к этому она была внутренне готова.
— Да ты просто дурочка, — сказала она в ответ, и смех ее прозвучал на удивление естественно. — Это очередная идиотская шутка Питера. Клайд Манцер — это его приятель по колледжу.
Я была бы дурочкой, если бы в это поверила, — произнесла Эппл таким же тоном, как у Люси. — Думаешь, я испортила бы малышу Джонни день рождения из-за какой-то шутки? И тот парень уж точно не приятель Питера по колледжу.
Закурив, Грейди присела на валун.
— Конечно же нет. Вообще-то Питер с ним даже не знаком. Он работает на парковке, там мы и встретились, это было в апреле. Мы поженились меньше двух месяцев назад.
Эппл сделала пару шагов вверх по тропинке. Казалось, она ничего не слышала, но в конце концов сказала:
— Но ведь об этом никто не знает? — (Грейди в ответ помотала головой.) — Тогда, я думаю, и не следует никому об этом говорить. И вообще это наверняка незаконно, тебе еще нет восемнадцати, двадцати одного или скольких там полагается. Джордж наверняка подтвердит, что это незаконно. Главное — сохранять спокойствие, а уж он разберется.
Ее муж шел по пляжу и махал им рукой, и Эппл с криками «Джордж! Джордж!» поспешила ему навстречу.
У него за спиной Грейди увидела лошадей: они рассекали копытами воду, великолепные, как цирковые кони, — и, вспомнив вызванные ими предчувствия, она схватила Эппл за руку:
— Не говори ему ничего! Скажи, что эго шутка Питера. Ну пожалуйста, Эппл, послушай меня, мне нужно еще несколько недель, сделай мне этот подарок!
Они стояли, держась друг за друга и стараясь при этом не упасть, и Эппл прошептала:
— Прекрати! — как будто у нее пропал голос. — Отпусти мою руку.
Но как только Грейди попыталась ее отпустить, выяснилось, что на самом деле это Эппл ее держит, и она кинулась к сестре в объятия, подавленная столькими переживаниями сразу: лошади рвались вперед, Джордж стоял на ступенях, и Клайд — она это чувствовала — теперь совсем недалеко.
— Эппл, я обещаю, всего лишь три недели.
Эппл отвернулась и направилась к дому.
— Он ждет тебя в «Ветряной мельнице», — бросила она не оборачиваясь.
Над водой поднялся туман, и лошади, уже едва заметные, неслись сквозь его полосу, будто птицы.
Официантка в фартучке с аппликацией — ситцевые ветряные мельницы — поставила на стол две кружки пива и зажгла лампу.
— А поужинать джентльмены не желают?
Гамп обрезал ногти перочинным ножиком. Один из обрезков полетел прямо в официантку.
— А что у вас есть?
— Ну, например, есть устрицы с Трескового мыса, креветки по-новоорлеански, суп из моллюсков по-новоанглийски…
— Давай суп, — сказал Клайд: ему хотелось, чтобы она поскорее заткнулась.
Гамп был совершенно доволен: он неплохо провел время, листая комиксы и болтая с девицами на неторопливом лонг-айлендском наречии, на почве которого они и разговорились; а вот Клайд всю дорогу чувствовал себя как на «русских горках». На одной из остановок в открытое окно вагона лениво впорхнула бабочка. Клайд поймал ее и посадил в пакет из-под мятных леденцов — теперь этот пакетик лежал перед ним на столе. Подарок для Грейди.
Грейди закрыла дверь, звякнул колокольчик, и она увидела лицо Клайда — осунувшееся и побледневшее, ярко освещенное лампой. Какой-то незнакомец пожал ей руку — оказалось, Гамп, долговязый парень с нечистой кожей, в аляповатой летней рубашке с кокетливо изгибающимися гавайскими танцовщицами, — и щеки ее коснулся колючий небритый подбородок Клайда.
— Я знаю, знаю, — сказала она, не слушая его виноватый шепот. — Сейчас не время об этом говорить; не здесь.
— Эй, а кто за это заплатит? — крикнула официантка, покачивая в воздухе мисками с супом.
И Гамп, выходя вслед за Клайдом и Грейди, пробурчал ей в ответ:
— Пришли мне счет, дорогуша.
Они забрались в машину Грейди, втиснувшись втроем на переднее сиденье. Клайд сел за руль, а она оказалась между ним и Гампом. Выражение ее лица не вдохновляло на разговоры, поэтому ехали молча; нарезая круги, машина тянула за собой шлейф напряжения. Не то чтобы Грейди хотела держаться холодно — нет, она вообще ничего не хотела и почти ничего не чувствовала — только глубокое, спокойное безразличие. Рыжая луна поднималась по небу, как дирижабль, и застекленные дорожные знаки, вспыхивая в свете фар, словно кошачьи глаза, сообщали, что до Нью-Йорка осталось 98 миль, 85…
— Засыпаешь? — спросил Клайд.
— Ой, да, совсем, — ответила Грейди.
— У меня есть отличная штука. — И Гамп вытряхнул себе на ладонь содержимое бумажного конверта — около дюжины косяков. — Тут одни бычки, но взбодриться хватит.
— Да ну, Гамп, убери эту дрянь.
— Иди ты к черту! — ответил Гамп и закурил. — Смотри, — обратился он к Грейди, — это очень просто. — И он заглотнул дым, будто это было что-то съедобное. — Хочешь затянуться?
Как сонный пациент, которому все равно, чем его пичкает сиделка, Грейди послушно взяла косяк и держала его в руке, пока Клайд не отобрал. Она думала, он его выкинет, но вместе этого Клайд затянулся сам.
— В общем, ты поняла: хочешь сдохнуть — слушайся доктора Гампа.
Они, теперь уже все вместе, вытянули еще по косяку, и кто-то включил радио: «Вы слушаете программу „Любимые пластинки“». Вспыхивали и разлетались в стороны крошки пепла, и лица всех троих казались гладкими, как молодая луна. «Поплывем на каяке до Куинси и Найака, прочь отсюда с тобой поплывем».
— Ну как тебе, нравится? — спросил Гамп, а Грейди сказала, что ей никак, но при этом у нее вырвался смешок, и в ответ она услышала:
— Ты молодчина, детка; продолжай в том же духе. — Это уже говорил Клайд. — Я забыл на столе подарок, у меня был подарок для тебя, бабочка в пакете из-под конфет.
И тут ее словно прорвало, сдавленные смешки раздувались, как пузырьки воздуха под водой, и, лопаясь, выпускали рвущийся наружу хохот. Она мотала головой и смеялась:
— Не могу больше! Хватит! Ой, как смешно!
Никто толком не понял, что же так ее развеселило, но через миг уже все трое сотрясались от хохота; Клайд с трудом удерживал руль. Мальчик на велосипеде пронесся под скачущим прицелом фар и врезался в ограждение. Но даже сбей они этого мальчика, они не смогли бы справиться со смехом — до того было весело. Шарф на шее у Грейди распустился и ручейком убежал в темноту, и Гамп, извлекая свой конверт, произнес:
— Ну, еще по одной.
Красноватая, как отсвет жертвенного огня, тусклая дымка повисла над Нью-Йорком, но едва они пронеслись через Квинс-бридж, город, внезапно развернувшийся во всю ширь, вспыхнул, как бенгальская свеча, каждый небоскреб рассыпался фейерверком цветных искр, и Грейди воскликнула: «Хочу танцевать! — аплодируя этой роскошной панораме. — Сбросить туфли и танцевать!»
«Бумажная кукла» — это захолустное заведение, расположенное в переулке рядом с Тридцать-какой-то Ист-стрит, но Клайд привез их туда, потому что барменом в этом клубе был Баббл. Завидев их на пороге, Баббл тут же подбежал и прошипел:
— Вы что, с ума сошли? Уведите ее отсюда. Она же под кайфом.
Но Грейди даже не думала уходить. Ее радовали и бессонный свет неоновых ламп, и посерьезневшие лица мужчин, и Клайду пришлось тащиться с ней на танцпол, настолько маленький и забитый людьми, что танцевать на нем было невозможно: им пришлось просто топтаться, держась друг за друга.
— Все это время я думал, что ты меня бросила, — сказал Клайд.
— Нельзя бросить другого человека — бросить можно только себя, — ответила Грейди. — Ну а теперь? Все в порядке?
— Конечно, — шепнул Клайд. — Теперь все в порядке.
И он осторожно переступил ногами, сделав шаг-другой под музыку, которую исполняло забавное трио: молоденькая китаянка, вся шелковая (фортепиано), мулатка (ударные), чинно посматривавшая на публику сквозь учительские очки в стальной оправе, и еще одна негритянка — высокая и совсем черная, ее гладкая точеная головка поблескивала в зеленоватом свете ламп (гитара). Мелодии ничем не отличались одна от другой, потому что вся эта музыка звучала одинаково — она была тягучей и глубокой — джазовой.
— Ты же не хочешь больше танцевать, — сказал Клайд, когда музыканты доиграли очередную композицию.
— Вот и нет, я не хочу домой, — пробормотала Грейди, но послушно последовала за ним в угол к столику, который занял Гамп, пока они танцевали.
К ним подсела гитаристка.
— Меня зовут Индия Браун, — представилась она, протягивая Грейди руку. На ощупь эта рука напоминала дорогую перчатку, правда, пальцы были чересчур длинные и толстые, как бананы. — Баббл говорит, нам с тобой пора сходить припудрить носик.
— Баббл-баббл-баббл, — передразнила Грейди.
Чернокожая девушка облокотилась на столик; глаза ее напоминали осколки темного кварца, они были будто подернуты дымкой и не видели Грейди. Тоненьким, доверительным голоском она проговорила:
— Послушайте, парни, ваши планы, конечно, не мое дело. Но вы видите того жирного верзилу у стойки? Он только и ищет, как бы нас на чем-нибудь застукать и закрыть заведение. Стоит только пискнуть птенчику вроде нее — и нас выставят. Я серьезно говорю.
Пискнуть? В голове у Грейди зашумело, и взгляд ее упал на толстяка: тот пялился на нее поверх пивной кружки. Рядом, у стойки, стоял загорелый молодой человек в льняном полосатом костюме; взяв свой бокал, он направился прямо к ним.
— Собирайся, Макнил, — сказал он, и казалось, что слова долетают откуда-то с огромной вышины, — пора кому-то отвезти тебя домой.
— Эй, дружище, давай-ка разберемся, — ответил Клайд и привстал на стуле.
— Да это же Питер, — сказала Грейди; как и многое из того, что происходило в последнее время, появление Питера не показалось ей странным, и она встретила его так, будто разучилась удивляться. — Питер, дорогой, садись, познакомься с моими друзьями, ну улыбнись же мне.
Но Питер только повторил:
— Давай-ка я лучше отвезу тебя домой, — и взял со стола ее сумочку.
Официант, державший поднос с напитками, отскочил в сторону, и Баббл, чей рот нервно округлился, став похожим на букву «О», перегнулся через стойку: увешанный мишурой зальчик сотрясся от смутного грохота надвигающихся событий. Клайд встал и вышел из-за стола; силы были неравны: Питер был хоть и выше ростом, но почти лишен мускулатуры — не сравнить с Клайдом, у которого под кожей повсюду вздувались бугорки мускулов. И все же Питер с готовностью встретил его оценивающий взгляд. Рука Клайда вылетела вперед мгновенно, как разъяренная змея; он выхватил у соперника сумочку и положил ее обратно на стол, рядом с Грейди, чей взгляд только сейчас упал на его оголившееся запястье.
— Ты себя поранил, — произнесла она еле слышно и прикоснулась к выстроившимся в ряд буквам, составляющим ее имя, — ради меня. — И она подняла взгляд сперва на Клайда, которого не смогла разглядеть, а затем на Питера, чье белое, нестерпимо мрачное лицо расплывалось у нее перед глазами. — Питер, — сказала она странным голосом и вздохнула: — Клайд поранил себя. Ради меня.
Самой предприимчивой оказалась негритяночка; она приобняла Грейди, и они вместе, слегка покачиваясь, удалились в дамскую комнату.
«Пока я здесь, со мной ничего не случится», — подумала Грейди, роняя голову на упругую грудь гитаристки.
— Он мне бабочку привез, — произнесла она, обращаясь к потемневшему, щербатому зеркалу. — Она осталась в пакете из-под мятных конфет.
Гитаристка сказала:
— Там есть выход на улицу: пройдешь в эту дверь, а потом через кухню.
Но Грейди с улыбкой ответила:
— Вот я и то подумала, что это мятная конфетка, она ведь и сладкой была, как конфета. Чувствуешь, как она кружится, моя голова?
Ей было приятно ощущать, как ее голову поддерживают: это умиротворяло, успокаивало качку, заглушало рев мотора, почему-то раздававшегося в ушах.
— А иногда у меня и в других местах кружится — то в горле, то в сердце…
Дверь отворилась, и вошла маленькая барабанщица; с видом этакой распутной училки она, оглушительно щелкнув пальцами, доложила:
— Путь свободен. Хупер выставил этих сучьих детей, так что пока без жертв. Ты ни при чем, — добавила она, обращаясь к Грейди. — Мне до чертиков жалко, когда тут ошиваются пташки вроде тебя.
Но гитаристка, ласково поглаживая Грейди по голове своими банановыми пальцами, сказала:
— Заткнись, Эмма, — она даже не понимает, в чем дело.
Маленькая барабанщица внимательно взглянула на Грейди:
— Не понимаешь, в чем дело, солнышко? Да уж!
На обочине стоял матрос и мочился; кроме него, на улице не было ни души — на той самой улице с домами из бурого песчаника, на которой они оставили машину. Но машины видно не было. Грейди топталась под фонарем, пытаясь трезво оценить ситуацию: либо машину угнали, либо — что? Каменные трубы, часть каких-то конструкций, выбрасывали темные потоки дыма, и матрос, весь покрытый этими испарениями, шатался туда-сюда по мостовой. Грейди побежала в сторону Третьей авеню, как вдруг в глаза ей ударил колеблющийся свет автомобильных фар.
— Эй, ты! — заорал водитель, и Грейди зажмурилась: это была ее собственная машина, и за баранкой сидел Гамп. — Точно, это она, — сказал он, а затем послышался голос Клайда:
— Давай скорее, сажай ее рядом с собой.
Клайд был на заднем сиденье, там же она увидела и Питера Белла; сидя рядом, крепко прижавшись друг к другу, они походили на единое двухголовое существо со щупальцами. У Питера одна рука была заломлена за спину, весь он как-то перекрутился, и его лицо, сморщенное, как фольга, и окровавленное, так потрясло Грейди, что в ней что-то надломилось. Она закричала так, будто крик этот копился в ней несколько месяцев, но услышать его было некому — ни в каменной пустоте кружащихся улиц, ни в машине: и Гамп, и Клайд, и даже Питер — все они были повязаны немотой и глухотой восторженного исступления: в сокрушительных ударах Клайдова кулака была даже какая-то особая радость, и, пока машина со скрипом ползла по Третьей авеню, уворачиваясь от фонарных столбов, не замечая сигналов светофора, Грейди молча смотрела перед собой, как оглушенная птица, которая долго билась о стены и оконные стекла.
Потому что, когда ужас рвется наружу, разум становится бессилен, как лопнувшая парашютная стропа, и человек продолжает падать. При повороте направо, на Пятьдесят девятую, машину занесло, и она выскочила на Квинсборо-бридж — и тут, при свете встающего утра, которое никогда для него не наступит, перекрывая пустопорожний галдеж автомобильных гудков, Гамп закричал:
— Дьявольщина, из-за тебя мы разобьемся! — но не смог оторвать ее рук от руля, и она ответила:
— Я знаю.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Послесловие
Едва ли не с первой нашей встречи я был для Трумена avvocato — его адвокатом. Но, кроме того, мы были друзьями. Мы познакомились в 1969 году, когда он был плотно окружен друзьями — людьми известными и неизвестными. Безо всяких усилий он становился душой любой компании, и люди к нему тянулись. К 1984 году, когда Трумен умер, немного недотянув до шестидесятилетия (случилось это в доме Джоанны Карсон, в Лос-Анджелесе), друзей у него оставалось совсем мало: остроты его стали язвительны, а воображение искажало действительность почти до полной неузнаваемости. В течение многих лет я пытался спасти его от неблагоразумных и даже откровенно опасных отношений — и мне это удавалось лучше, чем многим другим. За эти годы, особенно ближе к концу, мне приходилось неоднократно выполнять печальную, можно сказать скорбную, обязанность — определять его в различные центры реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Впрочем, он неизменно оттуда сбегал, о чем частенько рассказывал потом невероятно забавные и совершенно неправдоподобные истории.
В последний раз я общался с Труменом в ресторане напротив его дома — «Юнайтид нейшнз плаза» в Нью-Йорке. Мы часто там обедали. По своей тогдашней привычке он пришел пораньше, и официант поставил перед ним большой стакан апельсинового сока — так утверждал Трумен, — но мы с официантом прекрасно знали, что наполовину он был разбавлен водкой. И что это уже не первый стакан. Я довольно жестко настоял на срочной встрече, потому что мне позвонил врач, осмотревший Трумена после того, как он потерял сознание в Саутгемптоне, на Лонг-Айленде, и сообщил, что если Трумен не бросит пить, то через полгода умрет, и что в его мозге уже начались необратимые изменения. Я напрямик сказал об этом Трумену и взмолился, чтобы он вернулся в реабилитационный центр: если ему дорога жизнь, он должен бросить пить и принимать наркотики. Трумен поднял на меня глаза, полные слез. Он сжал мое запястье, посмотрел прямо в глаза и сказал: «Алан, пожалуйста, дай мне уйти. Я хочу уйти». У него уже не было выбора, и мы оба это понимали. Обсуждать было нечего.
Трумен упорно отказывался составить завещание. Ему, как и многим, было неприятно просчитывать такие вещи. Однако, когда его здоровье стало слабеть, мне удалось убедить Трумена, что плоды его творчества необходимо как-то защитить на случай его смерти. В конце концов он согласился составить очень короткое и простое завещание, в котором, отписав кое-что своему другу и бывшему любовнику Джеку Данфи, все остальное, включая интеллектуальную собственность, он передал фонду и настоял, чтобы я стал его единоличным попечителем. Трумен распорядился, чтобы я организовал ежегодную премию по литературной критике, посвященную памяти его близкого друга, Ньютона Арвина. Когда я спросил его, что делать с оставшимися деньгами, Трумен усомнился в том, что что-то еще останется, но на всякий случай велел отдать их в университеты и колледжи, по моему усмотрению, на стипендии по литературному творчеству. Тщетно пытался я вытянуть из него более точные указания. Он твердил, что я наверняка сделаю именно то, что нужно, причем гораздо лучше, чем сделал бы это он сам, — очень в духе Трумена.
После его смерти я прилагал все усилия к тому, чтобы выполнить его волю, и моя жена, Луиза, оказывает мне неоценимую помощь. Стипендии Капоте существуют в целом ряде университетов: Стэнфордском, университете Айовы, университете Зейвира, Аппалачском государственном, и в идеале их предназначение — это рождение новых блестящих писателей, новых Капоте, со своим неповторимым голосом и мощью.
Как попечителю Литературного фонда Трумена Капоте, мне, с тех пор как он умер, неоднократно приходилось принимать решения относительно публикации и других форм использования его литературного наследия в различных странах мира. До знаменательного воскресения романа «Летний круиз», которое произошло в конце 2004 года, самое трудное решение, которое мне пришлось принять, касалось самостоятельной публикации трех глав неоконченного произведения Трумена — большого романа под заглавием «Услышанные молитвы». Мистификация была одним из талантов Трумена, и часто случалось, что в его россказнях нелегко было отделить факты от вымысла. По мере того как его здоровье и способности шли на спад, он все больше склонялся к мистификации, особенно в том, что касалось его литературного творчества. После огромного успеха романа «Хладнокровное убийство» у меня появилась возможность заключить чрезвычайно выгодный контракт с издательством, где он был опубликован — с «Рэндом хауз», — на публикацию дальнейших сочинений. Краеугольным камнем в дальнейшем сотрудничестве должен был стать роман «Услышанные молитвы» — произведение, которое Трумен обожал в подробностях пересказывать мне и своему редактору Джо Фоксу, что и делал за ужином или за стаканчиком чего-нибудь при каждом удобном случае. Роман обещал быть нетривиальным, живым, остроумным и немного хулиганским. Повествование велось от лица незабываемого персонажа, во многом напоминавшего Трумену самого Трумена. Говоря его собственными словами, это должен был быть длиннохвостый воздушный змей, состоящий из множества глав, названия которых Трумен порой заговорщически нашептывал в наши доверчивые уши. Да, он пишет вовсю — да, он уже написал по крайней мере половину — да, он скоро закончит… И год пролетал за годом, а я все торговался и перезаключал контракты. И порою действительно брезжила надежда. Три главы были напечатаны в журналах. Но на этом все и кончилось. Не единожды он уверял нас, будто роман готов и его осталось лишь отредактировать, или будто он почти готов, или будто часть его готова. А потом Трумен умер.
Я никогда не забуду те многие, многие и многие часы, что потратили мы с Джо Фоксом и биографом Трумена Джеральдом Кларком на поиски оставшейся части рукописи. Мы перерыли всю квартиру Трумена и его дом в Бриджгемптоне. Мы опрашивали тех, кто с ним жил. Мы проверили множество версий, но все без толку. И тогда мы поняли. Не было никакой оставшейся части. Великий мистификатор попросту обвел своих ближайших и преданнейших друзей вокруг пальца. И больше ничего не было, потому что он не мог больше писать.
Джо уже нет на этом свете, и я не могу призвать его в свидетели, но, думаю, он подтвердил бы, что оба мы чувствовали себя обманутыми и даже отчасти обиженными, хотя кто знает — может быть, Трумену, в его полубредовом состоянии, действительно казалось, что он завершил этот роман и запер в каком-нибудь ящике и что его покровители, как он нас называл, обнаружат его и торжественно извлекут на свет божий.
В конце концов Джо Фокс предложил издать три имеющиеся главы «Услышанных молитв» в виде отдельной книги. Его аргументы состояли в том, что все три главы уже публиковались в журналах, были хорошо написаны и каким-то непостижимым образом складывались в единую структуру — быть может, небесспорную, но логически выдержанную. Я долго и тщательно взвешивал это предложение: ведь, вообще-то говоря, Трумен не просил ни меня, ни Джо, ни кого-либо еще публиковать начало того, что должно было стать объемным романом. С другой стороны, эти фрагменты были последними публикациями Трумена; к тому же так сложилось, что один из них, озаглавленный «La Côte Basque» и представляющий собой почти не дополненное вымыслом описание кое-кого из знаменитых друзей Трумена, являет собой очередной его шаг к грядущей гибели. Для большинства его друзей это оказалось невыносимым. Мало того, что они от него отвернулись и даже обратились против него: к тому времени Трумен уже опустился настолько, что, вообще-то говоря, и сам обратился против себя. Мы решили издать эту книгу, и она вышла в свет в 1987 году.
Впоследствии стало ясно, что это решение далось мне сравнительно легко. В конце 2004 года передо мной встала гораздо более сложная дилемма, решение которой затянулось до начала 2005 года. Осенью 2004 года я получил письмо от представителей аукционной фирмы «Сотбис» в Нью-Йорке. Они сообщали, что к ним для продажи поступило собрание реликвий, связанных с Капоте, среди них — рукописи некоторых опубликованных произведений, много писем и фотографий и что-то похожее на неизданный роман. Никто из нас даже не подозревал о существовании подобных документов. В письме от «Сотбис» упоминался некто неизвестный, сообщивший, что его дяде пришлось как-то присматривать за квартирой на первом этаже Бруклин-Хайтс, где Трумен жил около 1950 года. Он сказал, что Трумен ненадолго уехал, но потом решил в эту квартиру не возвращаться и распорядился, чтобы управдом вынес все оставшиеся вещи на улицу, где их подберет мусорная машина. И когда дядюшка этого неизвестного увидел, что происходит, он решил, что не даст всем этим материалам погибнуть, и оставил их у себя. С тех пор прошло пятьдесят лет, и старый джентльмен скончался, а спасенные документы перешли во владение его родственника, который пожелал их продать.
Я тут же понял, что фирма «Сотбис» хочет пригласить меня не просто как попечителя Литературного фонда Трумена Капоте для экспертизы документов, но и надеется получить согласие на их продажу. К письму прилагался каталог с перечислением всех материалов и даже с некоторыми фотографиями. Среди прочего попались и фотографии пары страниц из неопубликованной рукописи: это были листки из тетради, в каких Трумен действительно обычно писал.
Из доступных мне источников информации о том периоде жизни Трумена, когда мы с ним еще не были знакомы, самым надежным был его биограф Джеральд Кларк. Этот человек не только написал блестящую биографическую книгу о Трумене, но еще и дотошно фиксировал все события его жизни. В издательстве «Рэндом хауз» вышло собрание писем Трумена под редакцией Джеральда Кларка: к этому изданию он и посоветовал мне обратиться. В письмах Трумен рассказывает о том, что некоторое время назад долго мучился над этой рукописью, над романом «Летний круиз», и в конце концов решил к нему не возвращаться. Дальше начинаются расхождения. Есть данные, свидетельствующие о том, что он не хотел публиковать этот роман, и в то же время в одном из поздних дружеских писем есть указания на то, что он подумывал о публикации. При мне Трумен никогда не упоминал о «Летнем круизе». Джеральд Кларк также не знал наверняка, каковы были его намерения относительно этого романа. А Джо Фокс скончался в 1995 году.
Джеральд Кларк отправился в «Сотбис» взглянуть на коллекцию. Оказалось, что входящие в нее письма адресованы матери и отчиму (ценнейший раритет и уникальное свидетельство того, что отношения эти не были окончательно разорваны, как мы полагали прежде). Кроме того, множество писем было адресовано его близкому другу Ньютону Арвину. Обнаружились также фотографии Трумена в молодости, аннотированные рукописи нескольких ранних произведений и, наконец, насколько можно было судить, полная рукопись романа под заглавием «Летний круиз».
Оставалось найти возможность ее прочесть. Я обратился к Дэвиду Эберсхоффу, который курировал публикацию произведений Трумена в издательстве «Рэндом хауз», с просьбой договориться с «Сотбис», чтобы они сняли с романа копию. А сам я тем временем должен был удостовериться, что если документы будут выставлены на аукцион, то всех потенциальных покупателей предупредят: права на публикацию принадлежат Литературному фонду Трумена Капоте и объектом продажи не являются. Мне также хотелось сделать все возможное, чтобы эти документы и реликвии оказались в том же месте, где хранятся все остальные бумаги, документы и рукописи Трумена, то есть в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Я связался с руководством библиотеки и попросил, чтобы они осмотрели найденные материалы и предприняли все возможные попытки их приобрести. Аналогичный запрос поступил и от Джеральда Кларка. Дабы удостовериться в том, что фирма «Сотбис» намерена предупредить всех об исключительном праве Литературного фонда Трумена Капоте на публикацию всех материалов, я попросил, чтобы перед началом аукциона на все стулья были разложены специальные уведомления и чтобы торги начались с объявления о продаже только самих бумаг; права же на их публикацию принадлежат фонду. На всякий случай я попросил своего сына, писателя Джона Бернема Шварца, человека, который с детства знал Трумена, проверить, все ли прошло как полагается. Закончилась эта история самым неожиданным образом: никто не захотел участвовать в торгах за коллекцию. И тому было две причины. Во-первых, начальная цена оказалась слишком высока, во-вторых, предупреждение о правах на публикацию отпугнуло покупателей.
Джеральд Кларк, Дэвид Эберсхофф и я попытались убедить руководство Нью-Йоркской публичной библиотеки в необходимости приобрести эти документы и поместить их в уже существующий в библиотеке Фонд Трумена Капоте. В результате между библиотекой и фирмой «Сотбис» было заключено соответствующее соглашение, и я с удовольствием сообщаю о том, что найденные документы хранятся теперь вместе с другими бумагами Трумена, что они доступны исследователям и всем, кто интересуется историей литературы.
Рукопись «Летнего круиза» я прочел с большим увлечением и даже благоговением. С одной стороны, я старался не забывать, что Трумен мог просто не захотеть, чтобы роман был опубликован. С другой же стороны, я надеялся, что он прольет свет на ранний этап творчества Трумена, предшествующий созданию его первого значительного произведения «Другие голоса, другие комнаты». Конечно же, я не мог целиком полагаться на собственный вкус. Поэтому я попросил Дэвида Эберсхоффа и Роберта Лумиса, который был редактором Трумена в издательстве «Рэндом хауз», а также Джеральда Кларка и мою жену прочесть рукопись и обсудить ее. И, надо сказать, нас ожидал приятный сюрприз. Несмотря на то что произведение оказалось «неотшлифованным», оно уже в полной мере отражает индивидуальную манеру автора, его особенный голос, и явно принадлежит перу необыкновенно виртуозного мастера.
Разумеется, не мне было судить о литературных достоинствах романа. Но после обстоятельной дискуссии мы все вчетвером пришли к выводу, что рукопись следует опубликовать. По мнению моих помощников, роман представляет собой вполне зрелое произведение, обладающее бесспорными достоинствами, и зачатки позднейшего более зрелого стиля и мастерства, которые воплотились впоследствии в «Завтраке у Тиффани», имеют несомненную ценность и не должны быть оставлены без внимания. Прежде чем принять окончательное решение, я попросил своего друга Джеймса Солтера взять на себя часть ответственности и стать еще одним, пятым, читателем рукописи. Джим не только мой хороший друг, но и один из самых блестящих в нашем поколении стилистов — и это общепризнанный факт. Джим любезно выполнил мою просьбу и через некоторое время сообщил, что поддерживает мнение остальных и готов высказать примерно те же соображениям. Мне оставалось только принять решение.
Поскольку я юрист, то лучше многих представляю себе круг обязанностей, лежащих на попечителе благотворительного фонда. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что он должен принимать свои решения с величайшей осмотрительностью. Однако не часто случается попечителю или даже литературному душеприказчику принимать решение о публикации произведения, принадлежащего перу выдающегося писателя, особенно если писатель этот скорее всего при жизни не стал бы это произведение публиковать. Трумен умер в 1984 году. Что бы он сказал нам сейчас? Смог бы он увидеть роман в исторической перспективе, взвесить все за и против и решить, как с ним следует поступить? В конце концов после долгих размышлений я пришел к выводу, что сам роман должен расставить все по местам. Пусть это — незавершенное произведение, но его высокие литературные качества, казалось, требовали, чтобы их выпустили из многолетнего заключения. И я решил, что роман будет опубликован.
Я хочу поблагодарить своих консультантов и всех, кто внес вклад в публикацию романа. Хотя в конечном счете, разумеется, ответственность за это решение — юридическая, этическая и эстетическая — лежит на мне одном. И, помня об этом, я размышляю об иронии судьбы, лишившей нас возможности издать роман, который Трумен считал законченным («Услышанные молитвы»), но позволившей опубликовать другое произведение, которое сам автор скорее всего издавать не хотел. Дописывая эти строки, я представляю себе Трумена: лукаво усмехаясь, он грозит мне пальцем и говорит: «А ты нехороший avvocato!» Но на лице его играет улыбка.
Алан У. Шварц Октябрь 2005
Текстологические замечания
Данное, первое, издание романа Трумена Капоте «Летний круиз» основано на авторской рукописи. Рукопись представляет собой четыре школьные тетради и шестьдесят два дополнительных листа, которые хранятся в Фонде Трумена Капоте Нью-Йоркской публичной библиотеки. Грамматические и орфографические ошибки при подготовке издания подвергались исправлению. В тех случаях, когда смысл отдельных высказываний оставался неясен, редакторы по своему усмотрению добавляли в текст знаки препинания, например запятые. В единичных случаях вставлялись и пропущенные слова. Свою основную задачу редакторы видели в максимально точном воспроизведении текста автографа. Все исправления были сделаны исключительно ради того, чтобы прояснить смысл отдельных предложений.
Фонд Трумена Капоте в Нью-Йоркской публичной библиотеке
Рукопись романа «Летний круиз» состоит из четырех тетрадей, заполненных от руки, чернилами, с густой авторской правкой. К автографу прилагаются шестьдесят два листа дополнений. И тетради, и дополнительные листы составляют часть коллекции Фонда Трумена Капоте в архивно-рукописном отделе зала гуманитарных наук и искусства Нью-Йоркской публичной библиотеки. Большая часть документов была принесена в дар библиотеке Наследственным фондом Капоте (The Capote Estate) в 1985 году. Дальнейшее пополнение собрания происходило за счет сделанных библиотекой приобретений, в число которых входит и рукопись «Летнего круиза».
Фонд Трумена Капоте составляют автографы и машинописные тексты опубликованных и неопубликованных произведений писателя, заметки и другие вспомогательные материалы, работы, написанные Капоте в школьный период, переписка, фотографии, рисунки, всевозможные личные документы, печатные материалы и записные книжки.
В состав архивно-рукописного отдела входят более трех тысяч собраний, содержащих документы, датируемые с третьего тысячелетия до н. э. по сегодняшний день. Особую ценность для отдела представляют официальные документы и записи частных лиц, семей и организаций, в первую очередь из Нью-Йорка. Такие собрания, относящиеся к периоду с XVIII по XX в., представляют собой уникальный материал для исследований в области политической, экономической, социальной и культурной истории Нью-Йорка и Соединенных Штатов в целом. Здесь следует отметить собрания, включающие документы журнала «Нью-Йоркер», издательства «Макмиллан», Национального общества Одюбона, Нью-Йоркской всемирной выставки, а также личные архивы таких выдающихся деятелей, как Томас Джефферсон, Лиллиан Уолд, Генри Луис Менкен и Роберт Мозес.