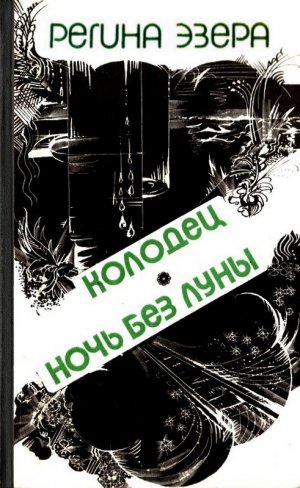
КОЛОДЕЦ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Настал тот час, который отделяет день от ночи: когда Рудольф шагал по аллее в Томарини, солнце у него на глазах медленно садилось за горизонт и наконец совсем скрылось. Теперь лучился лишь самый край неба, и первая звезда поспешно зажгла свой тусклый огонек. На фоне алого, пока еще светлого неба постройки хутора казались величавыми и тяжелыми, как груженые баржи, и, только подойдя совсем близко, он с удивлением заметил, какое все тут ветхое. Даже мягкий золотой свет закатного солнца не в силах был что-то приукрасить и утаить. Крыши пестрели заплатами, почти белой и темно-желтой дранкой, и провисали — одна больше, другая меньше, как впалые бока у голодных собак. Дом с небольшими окошками близоруко, подозрительно глядел из разросшихся кустов сирени и жасмина, которые вымахали по стреху, а местами и выше. В пору цветения хутор, наверно, тонул в душистом лилово-белом облаке, теперь же ветви были похожи на скрюченные пальцы, прижатые к бревенчатым степам. Яблони тоже стояли безлистые, поросшие лишаем, обломанные осенними ветрами; им было добрых полсотни лет, и яблоки на их седых увечных ветвях, налитые светом, как маленькие солнца, казались чересчур нарядными в этом захудалом царстве и оттого ненастоящими.
Хутор на берегу озера был слишком удален от центральной усадьбы колхоза, чтобы здесь что-нибудь подновляли или строили, но, видно, все же и мешать не мешал — не вклинивался в сплошные поля. Пока тут люди, старые постройки еще кое-как держатся, но, покинутые, они давно бы превратились в развалины, поросли травой и полевицей. Дольше всего, как всегда и везде, простояла бы сирень.
Сюда долетали лишь отдаленные звуки, более или менее ясные. На том берегу кто-то аукался; соскучившись по хлеву, мычала корова; в Вязах полаяла и снова умолкла Леда, а здесь даже собака не выбежала Рудольфу навстречу. Он остановился в надежде услышать голоса или обнаружить другие признаки жизни, но поблизости не уловил ни звука. Хлев был распахнут настежь, но в куче навоза не копошились ни петух, ни куры. Кто-то взялся чинить ворот колодца, да все бросил, как видно, в большой спешке: снятую крышку, вырытую гнилую стойку, прислоненную к срубу лопату. Хутор казался покинутым. Дверь в дом была только притворена. Рудольф постучал, почему-то подумав при этом, что в доме никто не отзовется, и не удивился, когда так оно и вышло. Пройдя через сени и полутемное помещение с вешалкой, корзинами и ведрами, он оказался на кухне. В плите мигал огонек — беззвучный и неживой, как в электрических каминах. Рудольфу показалось, что за стеной ходят.
Он позвал:
— Тут есть Кто-нибудь?
В комнате раздалось сперва хриплое сипение, потом — тяжелые глухие удары.
Бум… бум…
На столе, обсыпанном хлебными крошками, лежал начатый каравай и косарь, над плитой висели на веревке две пары детских носков, белые и синие, на полу валялся медвежонок. Рудольф машинально наклонился и поднял его. Тот был хромой, без одной ноги.
…бум…бум.
Ходики задохнулись, стихли, и дом снова, будто заколдованный, погрузился в полную тишину. Томарини напоминали крестьянский двор в Музее народного быта: все разложено и расставлено так, чтобы создать иллюзию действительной жизни, зажжен даже искусственный камелек, и ни живой души вокруг, одна только утварь, когда-то служившая людям.
Рудольф положил мишку на лавку и возвратился во двор. Вдруг да вернется кто-нибудь из хозяев, застанет чужого человека — испугается, а то и подумает бог знает что. Он побродил по двору, не зная, куда податься, подошел к колодцу, заглянул в сруб — его поразила глубина: далеко-далеко внизу блестел, как монета, небольшой серый кружок, оттуда тянуло сыростью. Когда крикнешь в такой колодец, он швырнет из недр утробное эхо; вода в таких колодцах чистая как слеза и студеная, с металлическим привкусом, если пить из ковша или прямо из ведра, а если набрать в глиняную посуду, кажется сладковатой, как свежий березовый сок. Стоило только вспомнить, вообразить себе все это, и Рудольфу тут же захотелось пить. Но в ведре не было ни капли, ворот валялся в траве, обмотанный цепью-змеей, и вода серо мерцала лишь глубоко-глубоко на дне.
Точно воробышки, где-то защебетали, засмеялись дети. Но где? На озере? Смех повторился. Ага, за садом, наверно на берегу Уж-озера. Он направился туда, стараясь не наступать на блестевшие в траве яблоки с белыми и розовыми боками. Однако здесь было вовсе не так пустынно. Когда деревья расступились, перед Рудольфом открылось озеро, лежавшее внизу широким полукругом. По тропинке, ведущей вверх от заливного луга, пожилая женщина вела на цепи корову, а две овцы с ягнятами бежали за ними вольно, без привязи. На фоне матовой, точно застывшей глади озера двигались еще три фигурки: мальчик, девочка и собачонка, которая время от времени тявкала щенячьим фальцетом. Этот восторженный лай отнюдь не был вызван появлением Рудольфа — пришельца никто так и не заметил. Ребята носились вдоль берега, волоча за собой зеленые космы водорослей, и нестройно кричали:
— Борода Карабаса Барабаса… Борода Карабаса Ба-ра-ба-а…
Что-то бухнуло оземь почти рядом с Рудольфом, он оглянулся — яблоко. В саду пахло спелыми плодами. Ему все еще хотелось пить, но у него не хватало смелости нагнуться и поднять яблоко: это ведь не совсем одно и то же, что напиться у колодца…
— Борода Карабаса Барабаса, борода…
В «бороду» вцепился песик, оторвал зубами прядь и пустился наутек, ребята кинулись вдогонку — только брызги полетели.
Как далеко внизу это было, как глубоко, будто он все еще смотрел в колодец…
Тишину внезапно разорвал визг пилы. Рудольф огляделся. Звук исходил, по всей вероятности, из сарая. Он подошел к открытой двери и заглянул вовнутрь: по одну сторону были сложены дрова, лежали чурбаки и доски для поделок, инструмент, а по другую земля была усыпана сенной трухой, — зимой, как видно, здесь хранилось сено. Рудольф почему-то был уверен, что пилой орудует мужчина, — с мужчиной, кстати, и проще уладить то дело, за которым он явился в Томарини, — тем не менее выяснилось, что это женщина. Положив на козлы толстую доску, она резала ее небольшой и, как ему показалось, не очень-то острой пилой. Вид у женщины был довольно невзрачный: линялая блузка, потертые джинсы с заклепками, босые, покрытые пылью ноги, и только длинные рыжие волосы, стянутые на затылке черной резинкой, блестели роскошно, не сочетаясь со всем остальным.
За визгом пилы женщина вряд ли могла услыхать шаги Рудольфа, скорее она заметила его тень и резко повернула голову, на лице промелькнуло какое-то странное, трудно объяснимое выражение — то ли испуг, то ли совсем напротив — внезапная радость, которую тотчас сменило явное смущение.
— Это вы?! — проговорила она в ответ на запоздалое приветствие Рудольфа, но и этот возглас не возглас, вопрос не вопрос ничего ему не объяснил. Возможно, что в первую секунду она приняла его за кого-то другого, однако вполне вероятно также, что это были первые подвернувшиеся слова, — ведь они же не были друг с другом знакомы. Прислонив пилу к стене, женщина повернулась к Рудольфу. На брюки она зачем-то повязала клеенчатый фартук, тонкая ткань блузки, местами прилипшая к телу, обрисовывала худые плечи, а светлые огромные глаза на узком, совсем незагорелом лице придавали ему почти аскетическое выражение.
«Тип, предрасположенный к ТБЦ», — невольно отметил про себя Рудольф.
— Да? — с вопросом в голосе сказала она.
— Я вас испугал. По правде говоря, это скверное начало для моей миссии. — Все время, пока Рудольф говорил, женщина не сводила с него глаз, последнее слово вызвало у нее улыбку — мелькнули крупные, ровные и белые передние зубы. — Меня прислал Эйдис. Лодка в Вязах совсем прохудилась, и он сказал, что…
— Вам надолго?
— Мне даже страшно сказать.
Женщина засмеялась, и смех удивительно преобразил ее лицо, оно стало молодым, черты ожили.
— Сам не знаю, сколько я здесь пробуду, может быть две недели, может и месяц.
Рудольф сам испугался собственных слов — кто же отдаст первому встречному что бы то ни было на целый месяц! — и поспешил дипломатично добавить, что с благодарностью согласился бы пользоваться лодкой хотя бы изредка, если ему, конечно, вообще ее доверят. Это был ход конем, и уголки губ у женщины едва заметно дрогнули. В скрытой усмешке? Иронической улыбке? Вот и пойми!
— Не знаю даже, — колебалась она. — Иногда свекровь ездит на ту сторону в магазин, бывает понадобится Вие…
Когда женщина сказала «Вие», Рудольф испытал мальчишеское желание спросить — а как зовут ее саму? Но нет, лучше не надо! Раз ты явился просителем, развязный тон может оказать плохую услугу, может испортить все. К тому же в женщине чувствовалась сдержанность, гордость? Замкнутость? Ему вежливо откажут и любезнейшим образом выпроводят с хутора.
После короткого раздумья она добавила:
— До завтрашнего вечера я могу обещать более или менее наверняка. Это, конечно, совсем мало, но в понедельник утром я обязательно должна быть в Заречном.
— Поставлю на место точно, во сколько скажете.
Она опять улыбнулась.
— Особой точности вовсе не требуется. Можете поставить хоть совсем поздно. Пойдемте, я дам вам ключ и покажу, где спрятаны весла.
Женщина развязала негнущийся фартук, бросила на козлы и, сразу став стройной и легкой, повела его во двор. Сколько ей лет? Около тридцати. По фигуре можно дать меньше, по лицу, — за тридцать,
По обе стороны дорожки огромными кустами росли георгины, одни — ему по плечо, другие — и того выше.
— Какие чудесные цветы! — удивился Рудольф.
— Что вы сказали? — переспросила она оборачиваясь, и его опять поразила спокойная внимательность ее светло-серых глаз. — Ах, цветы! Баловство, конечно, но разводим понемножку. И земля тут хорошая, глина, только в сушь такую, как сейчас, сильно горят.
С озера прибежали дети со щенком, тот заметил Рудольфа первым и, путаясь в тысячелистнике, подковылял ближе. С солидным опозданием он возвестил наконец о появлении в Томаринях чужого. Не в пример ему дети, босоногие и забрызганные, при виде Рудольфа замялись и остановились поодаль.
— Зайга, принеси ключ от лодки!
Девчушка побежала, взмахивая светлыми косичками. А мальчик, на голову ниже ее, смуглый и кудрявый, как цыганенок, издали воззрился на Рудольфа такими же карими и почти круглыми, как у хромого медвежонка, глазами.
— Как тебя зовут? — заговорил с мальчиком Рудольф. Однако тот не ответил, только смотрел на него с любопытством, внимательно и даже плутовато.
— Поди сюда, Марис! — подозвала женщина.
Мальчонка медленно приблизился и ухватился за ее руку:
— Мама!
— Что?
— Это папа?
Женщина покачала головой, на лице ее не отразилось ничего, она только быстро отвела взгляд и вся как-то подобралась, словно в ожидании удара. Однако у мальчика и после недвусмысленного жеста матери интереса к Рудольфу не убавилось. Марис оглядел его с головы до ног — волосы, очки, застежку «молнию», часы на руке, сандалии — с нескрываемым, пристальным вниманием, как рассматривают зверей в зоологическом саду, и Рудольф невольно засмеялся. Лицо Мариса тоже осветилось сперва несмелой, потом широкой улыбкой, которая привела в смущение его самого. Мальчик вдруг сконфузился, спрятался за спину матери и только изредка поглядывал на Рудольфа блестящим глазом.
Вернулась Зайга, принесла, ключ на шнурке с деревянной биркой. Рудольф обратил внимание, до чего они с матерью похожи — те же черты, те же глаза, только у девочки волосы еще совсем светлые, но со временем они, наверно, потемнеют и приобретут, как у матери, каштановый оттенок.
— Пойдемте вниз, — суховато предложила женщина, и они направились к озеру. Щенок быстро потерял интерес к пришельцу, зато Рудольф все время чувствовал на себе неотступный взгляд мальчика. Смеркалось. Берег озера с черными деревьями, лодкой и причалом напоминал рисунок лаком на розовом стекле.
— Такая тишина и покой, что просто уму непостижимо, — нарушил затянувшееся молчание Рудольф.
Она не сказала ни да ни нет, только чуть заметно улыбнулась.
— Ни моторных лодок, ни транзисторов…
В эту минуту с озера неясно донеслась музыка.
— Про волка речь, а волк навстречь!.. — искренне развеселился он. — Кажется, на том берегу.
Она кивнула.
Вовлечь женщину в разговор ему так и не удалось. Опять наступила тишина, которую заполняли и не могли заполнить музыка по ту сторону озера и шелест травы под ногами.
— Весла — в ольховом кусте.
Это прозвучало весьма деловито и притом запоздало — дети уже вынули весла и тащили каждый свое, сперва по траве, потом по песку, затем перекинули их через борт на дно лодки. Этот двойной удар о настил прогремел в прозрачном вечернем воздухе над водным простором, как дуплет из охотничьего ружья, спугнул в камыше диких уток, которые уже расположились на ночлег. Нырки поднялись на крыло и полетели, отражаясь в воде, над озером.
— Утки! У-у-уточки! — закричал им вслед Марис.
Щенок взбудораженно побегал взад-вперед вдоль берега, даже забрел в воду по брюхо.
— У-у-уточки…
Птицы скрылись за полуостровом по направлению к Вязам, Марис успокоился, собака вернулась, и после короткого переполоха озеро вновь погрузилось в дрему.
Женщина отомкнула и отвязала синюю плоскодонку, подала ключ Рудольфу, но уходить медлила.
«Сейчас пойдут наставления, запреты, указания — не дай бог что-нибудь потерять, уронить в воду, сломать или забыть…» — решил он, готовый все это принять как неизбежное приложение к оказанной ему услуге и с легкой иронией глядя на женщину. Но та ничего не сказала, и Рудольф, выждав немного для приличия, шагнул в лодку и оттолкнулся от берега.
— Ну, значит, до завтра! — крикнул он, садясь на весла.
— До свидания, доктор!
Рудольф подумал, что с его стороны было немного наивно полагать, будто на соседних хуторах о нем еще не проведали. В деревне все узнается быстро, люди сразу примечают новые лица, а информацию, сдобренную некоторой долей фантазии, можно получить у Марии. Интересно, что о нем известно в Томаринях? Он ехидно хмыкнул, а тем временем лодка с тихим шумом удалялась от мостков. Сглаженные чужими ладонями, точно отполированные, весла удобно лежали в руках и с приглушенным плеском рассекали воду, к берегу плыла легкая рябь, собирая в морщины зеркальную поверхность. Женщина все еще стояла на прежнем месте, по-вечернему грустный неяркий свет озарял ее стройную фигуру. Рудольф помахал рукой, но она не ответила и вообще не проявила признаков того, что она это видела. Он греб медленно, но ритмичными взмахами, откидываясь назад, отчего напрягались и даже ныли мышцы спины и живота, и вода вокруг лодки журчала. От Вязов при полном безветрии легонько тянуло дымом из бани, в воздухе пахло субботним вечером.
Рудольф не заметил, когда и в каком направлении скрылась женщина, просто берег вдруг опустел, она растаяла как призрак. Ни в воде, ни на косогоре, ни в саду между стволами яблонь не мелькнул ее гибкий стан, только изба с горы смотрела на озеро желтыми кошачьими глазами. Полумрак скрывал разрушения, причиненные хутору временем. По мере удаления от старого хутора он волшебно преображался — крыши вновь обретали внушительность и, обрамленные зелеными кронами, уплывали все дальше, в былое величие,
«Мария мне что-то рассказывала о Томаринях, По какому поводу?»
Он не мог вспомнить,
Полуостров с редкими ивами, ольхами и единственной сосной заслонил ему вид на берег.
2
На какой-то миг Лауре показалось, что свекровь уже включила свет в доме. Но, подойдя ближе, она поняла, что обманулась — это вечерняя заря зажгла медью окна. Дети взобрались на гору. Оттуда слышался смех, гомон, визг — сначала из сада (похоже, они кидались опавшими яблоками), потом со двора (теперь, наверно, брызгались из корыта). Лязгнула цепь, звякнуло ведро, Альвина забранилась — и все стихло. Только внизу, на озере, все тише и тише скрипели уключины давно уже невидимой лодки. В недвижной тишине это был единственный звук, которому аккомпанировал сонный стрекот кузнечиков.
Лаура возвратилась в сарай, однако в двери еще постояла, глядя во двор. Волнами набегал аромат скошенной травы, яблок и озера. Тихий субботний вечер настраивал на ничегонеделанье. Стоять бы вот так и стоять, прислонясь к косяку, ощущая в руках приятную усталость от тяжести лейки, стоять, пока не надоест, потом спуститься к озеру, выкупаться, а там уж юркнуть в постель, натянув до подбородка прохладную хрустящую простыню. Уключины больше не скрипели. С того берега опять послышалась музыка. Вия говорила, что Элина накроет стол в саду… Одна за другой вспыхнули звезды. Вечера в августе уже не светлые, не зеленоватые, а темные и синие.
Козлы с доской были едва видны. Она взялась за пилу. Ж-жик, ж-жик… Не режет, а просто дерет. Но как наточить? Лаура уже пробовала напильником — она видела, как точат мужчины. Да не понять, стала пила острее или не стала. Ж-жик, ж-жик, ж-жик… Ничего, как-нибудь домучит. Ворот надо приладить, хоть кое-как, чтобы утром достать воды на завтрак. Она, правда, налила давеча полное корыто, вровень с краями, чтобы запас был и не пришлось бы идти на озеро. Но ясно, что за день в корыте успели поболтаться не только дети, наверняка мимоходом напилась и корова, не без того, чтобы полакал и Тобик. Ж-жик… Ну вот, наконец-то готово.
Срез получился неровный (точно зубами изгрызенный) и к тому же косой. Ничего, этим концом она забьет стойку в землю, а выемку сделает на другом конце. Не все ли равно… Однако шершавую доску в зазубринах не мешало бы обстругать. Но не было ни рубанка (задевали куда-то), ни времени — того и гляди стемнеет, придется оставить так. И, выйдя за дверь сарая, где светлее, Лаура стала долбить полукруглую выемку для рукоятки ворота; стамеской и молотком долбила как дятел, оглашая стуком всю округу, и не слыхала — так же, как недавно шагов Рудольфа, — как подошла Альвина.
— Выйдет ли чего у тебя? — с сомнением проговорила свекровь, сложив руки на переднике.
— Что мама?
Стамеска, соскочив с дерева, высекла искру о камень.
— Я говорю — навряд достанешь воду с таким…
— Почему же?
Альвина вздохнула.
— Был бы Рич дома, так…
Лаура ничего не ответила и продолжала делать свое дело. Когда она кончила долбить, Альвина взялась за другой конец стойки. Вдвоем они без труда оттащили доску к колодцу. Лаура закапывала, свекровь придерживала, чтобы стойка не покосилась, потом вместе укрепили барабан ворота. Ведро, которое Лаура не догадалась снять с цепи, стукнулось о сруб, раздался гул, похожий на удар гонга, и заглох вдали. Ручка вращалась, щелкая, как аист клювом.
— Чего это она так скачет? — спросила Альвина.
— Завтра поставлю железную скобу, и будет скользить ровно.
В недрах колодца глухо булькнуло, ведро стало медленно подниматься кверху, со звоном падали вниз тяжелые капли.
— И-и, ползет как миленькое! — обрадовалась Альвина, сразу оживившись, и потянулась за дужкой. — Мастер ты, Лаура, мастер! Я уж боялась, рухнет у нас в колодец эта чертовина, тогда хоть караул кричи.
Она поставила ведро на край сруба и напилась прямо из ведра, пила, точно пробуя на язык, не изменился ли у воды вкус.
— Все такая же, — уверила ее Лаура, и обе засмеялись.
Альвина перевела дух, сказала: «Хороша!» — как о вине, и ладонью утерла рот, тоже как после чарки вина. Потом вынесла из дому, покачивая на дужках, два старых, уже потускневших подойника, в которых держали питьевую воду.
— Налей, Лаура, полные, да пойдем ужинать, суп стынет, — поторапливала она и, в то время как невестка, зачерпнув, вытягивала ведро, чуткими ноздрями, как лосиха, потянула воздух. — Путрамы, ишь, баню истопили, славно горчит дымок. Как ударит в нос, так спина и зачешется. Прямо зло берет: чего ж это мы, дурехи, не истопим, дров нету, что ли?
— Подайте мне, мама, подойники!
Было слышно, как в Вязах громко разговаривают. Гулкий воздух доносил голоса, но слов было не разобрать.
Обе женщины думали каждая о своем.
— В баню-то их, поди, там не водят? — засомневалась Альвина.
— Кого? А-а! В душ, мама.
Лаура налила и другой подойник, взяла на плечи коромысло и пошла к двери.
— Оно лучше, чем совсем ничего, — идя следом, рассуждала свекровь, — хоть побрызгает. Но с баней ихний душ не равняй. Грязь-то смыть можно и тут, в озере, — солнце печет в полдень как следует, а с паром да чтобы косточки размякли, совсем другое дело… — Над их головами совершенно беззвучно, черной пленкой пролетела летучая мышь. — II Рич так любил попариться… Давай открою дверь.
Дети уже сидели за столом, сонные какие-то и на удивление смирные. Даже Марис едва разевал рот, мял в руке хлеб с маслом. Прохладными влажными пальцами Лаура почесала ему шею за воротником, сказала:
— Не пронеси ложку мимо рта!
— Ай!
Она засмеялась.
— Проснись! А ты что, доченька, так сидишь? Невкусно?
— Вкусно, — тихо ответила девочка, а сама, глядя куда-то вверх, больше размазывала клецки по тарелке, чем ела.
Подняла взгляд и Лаура. Вокруг лампы кружила розовая ночная бабочка. По столу, стенам и лицам порхала тень беспокойным темным пламенем.
— Ну, Зайга, что же ты?
— Совсем не ест девчонка, — пожаловалась Альвина, наливая у плиты суп Лауре и себе. — Как бы не захворала. Пришла в мокром платье.
— Вода же совсем теплая, мама. Просто ужинать сели поздно.
Свекровь, очевидно, восприняла ее слова как упрек и стала монотонно перечислять, сколько дел она сегодня переделала: столько-то прополола, то-то и то-то полила, вычерпала навозную яму, посолила огурцы… Лаура слушала и не слушала, вытирая руки полотенцем — оно пахло дымом. Плита опять плохо тянет. Давление воздуха такое или снова трубу надо чистить?..
— Иди садись! — позвала Альвина, поставила тарелку на Лаурино место, между детьми, и пошла за своей миской. — Картошки не хочешь?
— Спасибо, я с хлебом. — Лаура взяла нож и отрезала через весь каравай толстый ломоть. — Кому еще?
— Нынче клубни совсем мелкие. Копнула я куста два из поздних — один дьявол… Отрежь и мне… Снизу их пропасть, да как овечий помет. Ох, дождя бы надо! В Пличах вон «Камой», электричеством, поливают, так, известное дело, все полить можно. Сорок рублей, говорят, цена, но оно того стоит.
— Вы же знаете, мама, как у нас с деньгами, — отвечала Лаура, берясь за ложку.
— Твоя правда, — кротко согласилась Альвина, присела в конце стола, намазала хлеб маслом и стала есть суп. Незанятым осталось только одно место — Виино, так как на стуле Рихарда теперь сидел Марис. — И то сказать, куда уж нам, бабам, с такой машиной сладить. У тебя есть хватка, этого не отнимешь — и детям пошьешь, и крышу починишь, и полы вон как покрасила, колодец и тот сделала… А мотор — тут нужна мужская голова, и звать па подмогу ты никого не хочешь.
Лаура не ответила, но свекровь ответа и не ждала — кусала хлеб, черпала ложкой клецки и время от времени заговаривала с невесткой. Кисти рук у нее были темные, жесткие от работы, с короткими пальцами, и по сравнению с ними голые до локтя руки казались удивительно белыми и даже нежными. В открытое окно влился гул проходящего поезда, скорее всего товарного. До железной дороги отсюда было больше пяти километров, и лишь редкий вечер, когда воздух был особенно прозрачен и чист, в Томаринях слышался стук колес, и они обе невольно к нему прислушивались.
— Это к дождю, — обрадовалась Альвина, даже перестала жевать. Черты лица смягчились, по нему скользнула тень бабочки, словно потаенная дума; глаза стали еще темнее, бархатно-черные, и в ее облике проступили следы былой незаурядной красоты. Даже алюминиевую ложку она держала так, как держат свечу или цветок. Перестук колес постепенно перешел в неясный шум, но Альвина все еще к нему прислушивалась. На столе среди посуды что-то прошелестело. Бабочка, та самая, которая все летала вокруг лампы, притягивая к себе взгляд Зайги. Пушистые крылья судорожно трепыхались,
— Ишь, дрянь какая, чуть в суп не угодила! — воскликнула Альвина.
Странное очарование минуты тут же развеялось: перед Лаурой сидела старая тучная баба, которая взяла мотылька в горсть и понесла к плите.
— Бабушка, не надо! — умоляюще вскрикнула Зайга.
Лязгнула дверь топки, Альвина вернулась и, взяв ложку, продолжала есть. Воцарилось молчание.
— Молодцы, куда там — жалеть такую заразу! — немного погодя строго сказала Альвина, притом во множественном числе, хотя за ночного мотылька вступилась одна Зайга.
Альвина еще откусила хлеба.
Молчание.
— Нынче яблоки так источены — глаза бы не глядели, больше червивых, чем целых… Подай соли, Лаура! Вроде недосолила… А капуста на что похожа! Одни жилы вместо коча… Да ты что?
Ресницы у Зайги встрепенулись, как только что розовые бархатные крылья у бабочки, и в суп упала слеза,
— Она еще куксится! Из-за такой пакости! — проговорила Альвина сердито и в то же время огорченно,
— Она была такая красивая! — сказала девочка, и по ее щеке скатилась вторая слеза.
— Какая там может быть красота? — Альвина с искренним удивлением уставилась на Зайгу, перевела взгляд на Лауру, потом опять на девочку. — Красивая? Вредитель это. Он пожирает сад…
Молчание.
— Хочешь, сметанки добавлю? — примирительно спросила Альвнна.
Зайга помотала головой, старательно изучая узор на клеенке — стертые синеватые кружочки.
— Все у тебя какие-то фокусы! — недовольно сказала Альвина, слегка задетая. — Видишь, как Марис — тихо, смирно…
Но старый добрый метод воспитания со ссылкой на положительные примеры на этот раз не сработал — Марис просто заснул: круглое лицо с ямочкой на подбородке свесилось на грудь, длинные ресницы бросали тени на щеки, черные кудри падали на загорелый лоб. Он сейчас удивительно, как две капли воды был похож на Рича… когда Рич на этом самом месте спал за столом, так же свесив кудрявую голову, с такой же вмятинкой на упрямом подбородке. Лаура кинула быстрый взгляд на свекровь, полагая, что и та сразу заметит это поразительное сходство и…
— Положи спать этого героя — навоевался, — только сказала Альвина, и Лаура вздохнула с облегчением.
Она взяла руку сына, разжала стиснутые пальцы и вынула надкушенный хлеб. Масло в теплой ладони почти растаяло. И пока она все это делала — разжала кисть и вынула хлеб, взяла мальчика на руки, отнесла в комнату, раздела и уложила, — Марис лишь раза два что-то пробормотал и, только положив голову на подушку, вдруг открыл сонные глаза.
— Хочу Котьку.
— Сейчас позову.
Лаура знала-звала, прямо обыскалась котенка, даже вышла во двор, но Котька пропал куда-то, не отзывался и не показывался. Тогда она взяла со скамьи хромого медвежонка, все еще лежавшего там, где его положил Рудольф, и возвратилась в комнату. Но Марису уже не нужно было ни медвежонка, ни кошки и вообще ничего… Она потушила свет и слушала в темноте ровное дыхание сына, не в силах избавиться от воспоминаний, как за столом спал Рич, перебирала в уме подробности, все то, что, по сути, давно бы следовало забыть.
По комнате скользнула полоса света, тихонечко, как мышка, вошла Зайга.
— Помылась?
— Угу.
— Раздеться тебе видно?
— Угу.
Прошелестело платье, звякнули пружины, Зайга улеглась и — Лауре видно было — в темноте смотрела на нее. Склонившись над узеньким диваном, Лаура коснулась лица дочери, оно было как яблоко в росе: гладкое, прохладное и немного влажное.
— Холодно?
— Не-е.
— Хочешь мишку? — спросила Лаура, зная наперед, что предлагать бесполезно. Так и вышло: Зайга не протянула руку, — скатившись с одеяла, игрушка сухо, с глухим звуком стукнулась об пол.
— Мама, впусти Тобика!
— Но…
— Я завтра подотру.
Лаура приоткрыла дверь на кухню, позвала в щелку:
— Тоби!
Щенок вбежал, царапая когтями пол, сперва направился к постели Мариса, но, встретив холодный прием, помчался к Зайге, и в темной комнате раздался тихий счастливый смех.
— Долго не играй, спать пора.
— Ладно, — послушно отозвалась девочка.
Лаурину тарелку с супом свекровь поставила на теплую плиту, но клецки и там все же остыли. Они были совсем невкусные и, пожалуй, действительно недосолены, а может, ей просто не хотелось есть. Вылив остатки щенку в алюминиевую плошку, Лаура накрошила туда хлеба, поставила миску в угол и стала убирать со стола, С краю уже примостилась свекровь с корзиной и глиняным горшком — брала по яблоку из корзины, чистила и складывала в горшок, прикрывая смоченной в уксусе тряпкой, чтобы до утра не побурели.
— Лаура, кто давеча забрал нашу лодку?
Нож тихо шуршал под кожурой и лишь время от времени звякал, ударяясь о стол или о край горшка, будто ставя точку над какой-то мыслью Альвины.
— Один рыболов из Вязов. Путрамы прислали. — Лаура палила воды в таз и стала мыть ложки и тарелки. — Дала ему до завтрашнего вечера.
Кожура сходила тонкая, почти прозрачная, как у луковицы. Очистив одно яблоко, Альвина принималась за следующее, ловко перехватывая пальцами нежный плод.
— Давеча-то, как увидала издали, прямо сердце зашлось — Рич! Вот дурья голова. Присмотрелась получше — куда там! Похож как гвоздь на панихиду, большой из себя да здоровый…
Лаура с удивлением подумала, что и она в первую минуту приняла незнакомца за Рихарда, но лишь на одно мгновенье.
— Лодка, смотрю, наша и такая же синяя рубашка, какую ты привезла ему из Валмиеры, — как обычно, не дожидаясь ответа, ровным голосом продолжала Альвина. — Ишь, опять червивое, все яблоко испаскудили!
Лаура пыталась вспомнить, в синей ли рубашке был рижанин, но ее старания ни к чему не привели, выпало из головы, и все тут.
— Сели бы с ребятами в лодку — завтра воскресенье — и съездили на почту, — снова заговорила Альвина; ее работящие руки ни на секунду не прекращали двигаться. — Вдруг да есть весточка от Рича.
— В понедельник зайду на почту.
— Иной раз письмо по два, по три дня лежит в ящике… — Альвина подняла голову. — Ты куда собралась?
— Спущусь к озеру.
— В такую темень? — удивилась Альвина.
— Вспотела я, хочу вымыться, — ответила Лаура, снимая с крючка полотенце и все время чувствуя на себе взгляд свекрови. Недоумевающий? Подозрительный? Или она догадалась, что Лауре претят разговоры о Рихарде?
«Я просто хочу искупаться!» — думала Лаура, словно оправдываясь и даже себе не желая признаться, что на самом деле она бежит от вечных разговоров об одном и том же, одном и том же.
Нож со звоном покатился под стол. Наклонясь, Альвина шарила по полу негнущимися пальцами, пока наконец не нашла. Задерживать Лауру она не стала, и упрекать тоже, и сетовать, что ей приходится одной корпеть над яблоками, а только тяжело вздохнула, и кожица опять потекла с ножа, тонкая и длинная. Сгорбленная, с поникшей головой, Альвина была похожа на статую скорбящей матери, от нее веяло безнадежностью, одиночеством, и Лауру охватила жалость. У порога она заколебалась, раздумывая — идти или не идти. Но стоит только вернуться, и все начнется сначала, как в любой другой вечер, как в бесчисленные вечера, завертится каруселью по кругу… по кругу… по кругу. Лаура нажала на ручку двери и вышла. Небо сияло звездами. Вспыхнув и почти тут же погаснув, упал метеор. За полуостровом, наверное в Вязах, скрипнули дверные петли, давно из видавшие смазки, но и этот звук растаял в тишине и больше не повторялся. Лаура медленно шла к озеру. Поднимался туман, скрывая от глаз другой берег, и вода тоже казалась непрозрачной, дымчатой, будто забеленной молоком. На берегу Лаура скинула и положила на мостки одежду, затем долго брела по мелководью, прежде чем добралась до глубины и окунулась, — туман и ее обнял со всех сторон. Она плыла, почти ничего не видя и не слыша, в призрачной, словно нереальной среде; таинственный, скрытый туманом простор влек к себе кажущейся беспредельностью, Лаура плыла и плыла ему навстречу, не ощущая усталости, вода поддерживала ее тело, плотная и тяжелая, скользила под ним, как транспортер. Но, повернув назад, она увидала, как вновь показался темный берег, знакомый и привычный, массивный и надежный, он будто держал ее на серой шелковой нити, и она покорно возвращалась, долго и медленно брела сначала по твердой ребристой мели, затем по песку, в котором ноги увязали по щиколотки, как в пепле. Было прохладно; она растерлась полотенцем, оделась и поднялась в гору, сорвав по дороге несколько георгинов.
«Какие прекрасные цветы!» — вдруг вспомнила она и улыбнулась в темноте. На голый локоть с цветов упали холодные капли росы.
Внизу кто-то засмеялся. Удивленная, Лаура посмотрела на озеро, дымившееся, как огромный котел, прислушалась — это были всего лишь утки.
В комнате свекрови горел свет, и в то время как Лаура приближалось к дому, за окном дважды промелькнула фигура — первый раз в платье, потом в рубашке. Альвина ложилась спать — видно, бросила чистить яблоки, все равно за вечер не перечистишь, а в саду уже новых полно нападало. Свет потух… Хутор погрузился в полную темноту. На озере опять словно кричал кто-то. Утки тревожно переговаривались в камышах, не находя почему-то покоя и в этот поздний тихий час.
Лаура заперла дверь на щеколду, поставила цветы в вазу и по пути в свою комнату зашла к детям. Ни шороха, ни звука. Марис спал, как всегда прижав к груди подбородок, на кроличьей шкурке свернулся клубком Тобик, а диван в углу тонул в густой темноте.
— Мама…
— Ты еще не спишь, детка?
— Посиди со мной.
— А ты засыпай, ладно?
Молчание.
— Кто там кричит так?
— Где?
— На озере.
— Это дикие утки
— …угу… — пробормотала девочка, по-видимому совсем сонная, но вдруг, неожиданно встрепенувшись, добавила: — А… а у нее было такое странное личико… как у человека.
— У кого, Зайга?
— У бабочки. С большими черными глазами.
Лауриной руки коснулись маленькие пальцы.
Обманчиво близко, точно прямо за окном, крякали утки. Размеренно тикали ходики.
— Мама…
За стеной скрипнули старые пружины Альвининой кровати. Ночь набросила на все покров темноты, под которым жили только звуки.
— Мама, скажи, это папа?
Вечерняя свежесть лилась в открытое окно и растекалась по комнате, постепенно обволакивая мебель, одежду, лица.
— Почему Марита со мной не разговаривает, мама?
Безветрие — ни лист не шелохнется, ни занавеска.
— Мама, что это значит… преступник?..
Лаура принуждала себя думать о чем-нибудь другом. О том, что надо заштопать носки сыну; стоптанные, бывшие Зайгины сандалии ужасно протирают дыры, а босиком пускать нельзя — нога может загноиться, резиновые тапки в такую жаркую, сухую погоду тоже не годятся, а покупать новые сандалии к концу лета нет смысла, ведь до весны нога вырастет… О том, что надо посмотреть, нет ли в зареченском магазине синего вельветона; правда, он узковат, но зато, хотя бы пока новый, вид имеет — лучше, чем дешевые, вечно мятые шерстяные ткани, из которых шьют школьную форму… Что надо помочь Альвине чистить яблоки и наварить заодно большую кастрюлю яблочного повидла. Дети охотно едят его с хлебом и с блинами, намажешь хлеб повидлом — вот тебе и ужин, а если маслом — надо положить еще сыру или колбасы… Что надо не забыть поинтересоваться у Бениты, когда привезут ячневую крупу-сечку по шестнадцать копеек кило…
У Зайги ровно вздымалась грудь. За окном падали летние яблоки, шлепались в траву, стукались о тропинку. Казалось, будто по саду кто-то ходит, то приближаясь, то удаляясь и вновь приближаясь. Ходит-бродит как неприкаянный…
3
На темном звездном небе, точно искра от паровоза, сверкнул и тут же погас метеор, и в Вязах тоже при полном безветрии нет-нет и падали яблоки. Дверные петли скрипнули визгливо, негодующе, словно недовольные, что их потревожили, и на Рудольфа пахнуло дымной горечью, глубоко въевшейся с годами в закопченные бревна. Он чиркнул спичкой — из мрака выступили крючки для одежды, на одном висело забытое полотенце, на другом — высохший серый дубовый венок, какие плетут на Иванов день, неизвестно зачем и каким путем здесь очутившийся; на кривой лавке мелькнул бесформенный ворох, который при свете второй спички оказался банным веником. У окна, как и говорил Эйдис, стояла свеча, белая и оплывшая, как сосулька. Он зажег свечу, трепетный язычок пламени рассеял тьму, и тень Рудольфа заплясала на стене, как Махмуд Эсамбаев. Из щелей скрипучего пола тянуло холодком, и, раздевшись, Рудольф быстро прошмыгнул дальше, из прохладного предбанника в тропическую влажность бани, поддал пару жестяным черпаком и залез на полок, который в этом шатком и зыбком царстве выглядел неожиданно прочным, устойчивым и широким, как кровать Эйдиса и Марии.
Тело покрылось мелкими каплями, очки запотели. Он лежал на спине, слыша, как в висках у него бьется пульс. Стены то и дело похрустывали, видимо трещали старые бревна. Иногда ему чудились приближающиеся шаги Эйдиса, но всякий раз он принимал за шаги неясные шумы — в саду или в бане. Эйдис, наверно, еще возился со злополучным фонарем, который никак не хотел разгораться. В конце концов они прекрасно обошлись бы этой свечой, она теперь горела спокойно, не трепыхалась, иногда шипела от сырости, разливая вокруг тусклый свет и наполняя парную густыми жирными тенями.
Прошло порядком времени, прежде чем скрипнула дверь и раздался хрипловатый голос Эйдиса. Что он говорил и кому, было не понять.
— С кем ты там? — крикнул Рудольф с полка.
— Леда за мной увязалась. Гоню — не уходит.
— Впусти ее.
— Э-э, нельзя, еще блох подцепим.
— Блохи что, бывает — и не то еще подцепишь, — отозвался Рудольф. Из предбанника ему ответил глухо, как из бочки, мефистофельский смех Эйдиса. Потом послышалось, как об пол шмякнулся сапог.
— Тебе свеча нужна?
— Чего? — не понял Эйдис, и в это время упал на пол другой сапог.
— Свеча!
— У меня есть фонарь.
— Загорелся все-таки?
— Влил карасинцу, и загорелся, — миролюбиво объяснил Эйдис, и Рудольф, развеселившись, вспомнил, как старик ругательски ругал фитиль — крутил туда-сюда, то вывернет, то увернет, винил бедный фонарь во всех смертных грехах.
— Небось Мария задала тебе жару?
— Это уж как водится, — с несокрушимым спокойствием подтвердил Эйдис. — Не без того… Вот черт, так и тянет по икрам! — Пол под его ногами скрипел и трещал. — Все не может…
Но кто не может и чего не может, Рудольф за скрипом и треском не расслышал. Наконец Эйдис вошел, напустив из предбанника холодного воздуха, с веником под мышкой и фонарем в руке, постоял на пороге, будто примериваясь и прикидывая, как тут насчет жара, пробурчал: «Плюнул, значит, на утюг и думает — есть пар, готово дело!» — и плеснул воды на камни еще раз, по-своему. Баня наполнилась белым паром, у Рудольфа занялся дух, стекла очков затянулись точно полиэтиленовой пленкой. Эйдис блаженно поскреб себе грудь, с сипотцой проговорил: «Э-та-та-та!» — и протянул велик.
— На-ка вот, постегай себя хорошенько по мослам, не жалей шкуру. Хворь выгоняет лучше всех твоих капель.
— С меня уже хватит, я слезаю, — отнекивался Рудольф, чувствуя легкое головокружение. Он еще подумал: только того не хватало, чтобы этот старый щуплый мужичок оказывал ему первую помощь, и попробовал незаметно сползти вниз. Но Эйдис был не согласен.
— Не-ет, брат! Дай-ка я тебя похлестаю, ты ж не умеешь. Горожане этому не учены, лежат в ванне как утопленники. Ну, давай поворачивайся…
Шлеп-шлеп-шлеп!..
— Может, наддать крепче?
Жертва безмолвствовала. Эйдис истолковал молчание как знак согласия, и Рудольф тут же на собственной шкуре — в буквальном смысле слова — испытал последствия своей оплошности.
От клубов жаркого воздуха, поднятых веником, у Рудольфа сперва запылали уши, а в запотелых очках он был все равно что слепой.
— Э-та-та-та-та… — пыхтел от садистского наслаждения Эйдис. — Глянь, Руди, ты хоть закраснелся чуть-чуть, а то все бледный такой, как брошенная невеста. Подставляй другую сторону!
И опять начал охаживать веником.
Под дверью громко, со свистом тянула ноздрями воздух Леда.
— Вот я тебе! — услыхав ее, заругался Эйдис, не прекращая экзекуцию. — Ты еще живой, Руди? А? Не отвечает… Ей-богу, окочурился и не пикает. Много ли толку, что косая сажень в плечах, если от такой малости — с копыт долой…
— De mortuis aut bene, aut nihil[1], — отозвался Рудольф.
— Уже бредит, — струхнув, решил Эйдис и тут же прекратил хлестать. — Хлипкие нынче люди против прежнего времени… Иди к холодной бадье.
Советом Эйдиса не следовало пренебрегать. Вода из холодной бадьи, хотя и успела чуть нагреться в жарком воздухе, текла по разгоряченной, распаренной коже, слегка пощипывая, и удивительно освежала, к тому же здесь из-под двери тянуло прохладой. По телу разливалась приятная расслабленность, усталость, только голова гудела, точно с похмелья после трехзвездочного коньяка.
Эйдис, сопя и покряхтывая, теперь парился сам, — мокрый, блестящий от пота, он постепенно делался все краснее. С полка белыми клубами валил пар.
— Сколько же тебе лет, Эйдис?
— Чего? — переспросил тот, и веник замер в его руке. — Лет? Осенью семьдесят стукнет. А зачем тебе?
— Сердце у тебя еще хоть куда,
— Помаленьку, брат, еще действует насос! — согласился Эйдис, и, словно в подтверждение тому, сверху снова донеслись энергичные шлепки веником.
— А смолоду… сердце у меня было — хоть в музее выставляй. Теперь уже не то… Чего уж теперь! Погреешь немножко бока и с полка долой… Э-та-та-та… Подай-ка и мне ковшик!
Свесив тонкие ноги с лавки, Эйдис потянулся за ковшом, отпил два-три глотка воды и, сопя и кряхтя, принялся обмывать лицо, грудь и темя, на котором ершился мокрый пух, как у вымокшего цыпленка. Его тень на стене, похожая на большую хищную птицу с крючковатым носом, вертела головой.
— Да-а, брат, раньше я парился так парился, — с гордостью проговорил Эйдис, спускаясь вниз. Налив горячей воды в огромный таз, эмаль на котором точно мыши погрызли, он взял мочалку и стал натирать ее почти еще целым бруском хозяйственного мыла. Рудольф пододвинул ему пластмассовую крышечку с туалетным мылом, Эйдис оттянул ее, говоря: — Краску да запах в твое мыло добавили, вот и вся разница, — и стал намыливаться. — Да, на всю волость был только один такой же охотник до бани, как я, рядом тут, за озером, батрачил у Штамеров, Янка… На, Руди, потри мне спину! Про нас говорили… Три сильнее!.. Про нас говорили: вот было бы дело, если б Эйдис Путрам да с Янкой сошлися в одной бане, на одном полке! Мы оба с ним, брат, на одну девку заглядывались, красивую Марту. Лицом на Альвину Цируле смахивает, только светлой масти, и ростом… Теперь пройдись мочалкой по ребрам! Ростом выше, а груди — во! Только пуговки на кофтах отлетали. Я, брат, без памяти влюбился, молодой был да глупый, не умел от людей скрыть. И Янка… Теперь еще разок мылом, и хорош! Янка хвастал, что выкурит из бани этого мозгляка, меня то есть. Детина он был могучий, здоровше тебя, одно слово — племенной бык, а у меня, брат, и смолоду не больно кости мясом обрастали, такая порода… А теперь давай я потру тебя!
Однако Рудольф еще не забыл, как тот хлестал его веником, да вспомнил к тому же, что Эйдис в свое время работал конюхом, и поспешил отказаться.
— Ну, как знаешь. — На этот раз Эйдис особенно не настаивал и принялся намыливать голову.
— А как же с Янкой? Так у вас ничего и не вышло?
— Хе, — бодро отозвался Эйдис, а пена текла у него по лбу, вискам и по жилистой шее, — еще как вышло! Встретились мы с ним на полке! На следующий год он нанялся работником в Пличи, по соседству, теперь там телячья ферма. А я той весной батрачил в Томаринях. У соседей не топилась баня, они ходили к нам, так мы и сошлись.
— Ну-ну? — подзадорил Рудольф.
Острые плечи Эйдиса затряслись от беззвучного смеха.
— Поддаем мы с ним, значит, пару и поддаем. Не так много времени прошло — другие шасть в предбанник, удрал и старый Томаринь, а он мужик не последнего разбору. Выбегут за дверь и в щель подглядывают: что-то будет? Помню, Янка еще зашумел на них — нечего, мол, баню выстужать, ему, видишь ли, холодно. А какой там холод, того и гляди волосы загорятся. «Ну, спрашивает, поддадим еще?» Ладно, поддадим еще. Жарища, братец, такая… ну-у, сказать невозможно. Чую, долго не продержусь, опрокинусь, как жук, кверху лапами. Креплюсь изо всех сил, голова идет кругом, как сепаратор. Под конец так про себя решил: досчитаю до десяти — и будь что будет. Как дошел до восьми, что ли, так — хлоп!
— Свалился? — вырвалось у Рудольфа.
Эйдис обиделся.
— Я-а? За кого ты меня принимаешь? Янка! Брык на пол, раскорячился, воздух хватает. «Холодной водицы не надо?» — кричу ему с полка. А он, веришь ли, как рыба рот разинул, глаза круглые — и ни гугу. Окатил я его как следует — ничего, очухался. Встал, — засмеялся Эйдис. — И вот угадай — ты считаешься умный, ученый человек, — какие были его первые слова?
— Наверно: «Марта — твоя».
— Не в точку, брат.
— Ну, может быть: «Поделим пополам!»
— Опять, братец, не в точку! Как отдышался Янка, так заорал: «Подвох! Эдуард намылил полок, чтобы я себе шею сломал!» Что ты на это скажешь?
— Что я могу сказать? Тут главное, что сказало яблоко раздора.
— Какое яблоко? — не понял Эйдис.
— Марта.
— А-а, Марта! То-то и оно, что ничего не сказала. Получилось так, как оно бывает: пока быки бодались, ясли подчистил козел. Марту просватали в Пиебалгу за плотника. Народила ему це-елую кучу детей, восьмерых, а то и десяток, точно не скажу. Не знаю, жива ли еще, последний раз встретились лет пять-шесть тому назад. Ездил я в Цесис за резиновыми сапогами — к нам в Заречное, дьяволы, одни маленькие номера возят! И там, возле магазина, подходит ко мне сухонькая такая, сморщенная старушка. А поодаль стоит и тоже на меня смотрит пригожая такая барышня. Ну, подходит, значит, старая, дорогу спросить хочет или еще чего. И вдруг: «Эйдис?» «Да», — отвечаю, а сам, хочешь верь, хочешь не верь, все ее не узнаю. «Марту не помнишь такую?» — это она мне. Тут я в конце-то концов узнал. Потолковали — муж, говорит, уж давненько помер, сама живет у дочери, в Цесисе, старший сын в Риге, уже степени защитил… Поболтали о том о сем. И вдруг она меня спрашивает: «А помнишь, как вы с Янкой в Томаринях из-за меня на спор парились?» «А как же», — смеюсь. А она чудная такая сделалась, гляжу — ей-богу, правда! — слезы как горох сыплются. Подбегает барышня. «Не надо, бабушка!» — говорит и на меня сердито глаза пялит, думает, наверно, я ее обидел. Взяла Марту под руку и увела. Так я больше ее и не видел… Знаешь, Руди, только Марии про это ни-ни, — добавил Эйдис, оттирая ступни мочалкой.
— А Янка? — поинтересовался Рудольф. — Его ты не встречал?
Эйдис поднял голову.
— Как не встречал!.. Одно время он у нас в начальниках ходил в колхозе. Сам по себе он человек не плохой и не хороший. Помню, придет на конюшню, руку подаст… Да дело с места не стронулось. Грамотешки нету, и разворотлив не больно. Председатель, брат, должен быть как угорь верткий, тут силой не возьмешь. Да и юбка ему попалась негодящая…
— Юбка?
— Жена то есть. Не баба, а солдат. Печати-то он ставит, а делами ворочает она. Растили мы, братец, все подряд, не отставали от моды — кукурузу, уток, индюков. Про Янку даже в газете писали: «Уверенно держит руку на пульсе жизни!» Мы еще смеялись — прямо как доктор! Ну, держал он, сталбыть, руку до тех пор, пока коровам в ясли класть стало нечего. Он согласен бы, хе-хе, и крупу сеять, да скинули. За приписки, говорят… Выбрали мы нового, теперешнего… А как ты живешь-можешь? Все кости правишь?
— Правлю понемножку.
— А жену, видать, новую не завел.
— С меня теперь на всю жизнь хватит, — сказал Рудольф со смехом.
— Ну, бабенка-то какая-нибудь у тебя есть?
— И не одна.
— Ой, смотри, брат, пропадешь ни за что!
— От этого, дружище, не пропадают, — отозвался Рудольф, не переставая смеяться, и выкатил на себя целый ушат холодной воды, обрызгав немного и старика.
— Ч-чумовой, — отряхнулся Эйдис, — еще простынешь!
— Ко мне болезни не пристают.
— Ну-ну, не хвастай! Доктора, они в ту же землю ложатся, куда и все люди. Там и встречаются, значит, врач со своим больным и…
— …в полночь выходят под ручку за кладбищенские ворота — пугать прохожих!
— Я серьезно, а он… — Эйдис крякнул, тоже проглотив смешок, и махнул костлявой рукой. — Тебя разве переговоришь. Эй, возьми фонарь! — крикнул он вдогонку, так как Рудольф пошел одеваться, но тот возвращаться не стал — найдет одежду и так, к тому же есть спички, зажжет, если понадобится.
В темноте предбанника что-то холодное толкнулось о горячие ноги Рудольфа, тот вздрогнул от неожиданности, но потом сообразил, что это Леда.
— Ну, сударыня, ты что людей пугаешь? — сказал он, и теперь его ноги коснулся виляющий кончик хвоста.
Пальцы сразу нащупали на лавке мягкое махровое полотенце. Первым делом Рудольф протер стекла очков, потом стал вытираться. Разгоряченное тело омывал свежий воздух, проникавший не только сквозь щели в полу, но и, как он догадался, откуда-то сверху. Рудольф поднял голову, через отверстие в крыше робко мерцала синяя звездочка. Когда глаза привыкли, оказалось, что не такая уж здесь тьма-тьмущая, как представлялось вначале, — бледно-желтая полоса из-под двери освещала маленькое помещение. Рудольф вытирался долго, чувствуя в теле бодрость, довольство, потом медленно и лениво, с приятным сознанием, что спешить некуда, обувался и одевался, и к тому времени, когда явился Эйдис с фонарем, он был уже одет.
Домой они шли вместе, впереди трусцой бежала Леда. Ночь была прохладная, над озером курился туман, но, разморенные баней, они не замечали свежести, ни тот, ни другой.
— Надо Макса перевязать, — вспомнил Эйдис и без дороги, по траве пошел на полянку, где в белом тумане маячил темный силуэт коня.
Вызвездило, то тут, то там падали звезды. Глубокую тишину нарушал все приближающийся рокот мотоцикла. Одно время казалось, что мотоцикл свернет сюда, и Рудольф ожидал — вот-вот между стволов вынырнет пучок света. Однако шум пронесся мимо поворота на Вязы и стал удаляться, потом вдруг резко оборвался. Немного погодя мотоцикл снова зафырчал, затарахтел ровно, и этот звук долго угасал и угасал, пока наконец далеко-далеко полностью не слился с тишиной. То ли у запоздалого ездока заглох мотор, или он свернул в Томарини и потом двинулся дальше…
Привязав лошадь на новом месте, вернулся Эйдис, в карманах и в руках у него были яблоки.
— Бери, эти вкусные, с большой розовой яблони, — угощал он, выбирая, какое побольше да покраснее. — Вот это хорошее. После бани, брат, пить хочется.
Яблоко было прохладное и росистое.
— Как зовут ту женщину в Томаринях, которая дала мне лодку? — спросил Рудольф.
— Молодая или старая? — уточнил Эйдис, кусая яблоко коренными зубами, так как передних ни верхних, ни нижних у него не было.
— Скорее молодая, чем старая, — подумав, ответил Рудольф.
— Если низкая, тогда Вия, в сельсовете работает… Чего ты не ешь?.. А если такая высокая, то Лаура, учительница.
— Значит, это была Лаура, — проговорил Рудольф, вслушиваясь в это непривычное имя.
— А в чем дело?
— Да так просто пришло в голову.
Они молча хрупали яблоки, как лошади.
— Уж они там бьются, — сказал Эйдис, кидая через плечо сердцевину.
— Почему «бьются»? — удивился Рудольф.
— Одни бабы… Не хочешь еще?
— А где же мужчины?
— Альвина, старуха — та вдовая, Вия пока не замужняя, а Лаурин мужик сидит.
— Тот самый, который…
— Он самый.
— А за что он все-таки застрелил того человека? — спросил Рудольф, постепенно припоминая то, что он уже слышал о Томаринях и о жителях этого хутора.
— Вилиса Дадзишана? Да ни за что. Нечаянно, понимаешь, на охоте. Пошли ночью на кабана, дождичек брызгал, оттепель. Вилис пошел загонять, а Рихард в темноте принял его за зверя, пальнул и… Оба были в дымину пьяные. Теперь вот один в земле, а другой в каталажке.
На полянке сонно ржал конь и поглядывал сюда, в их сторону.
Расставшись со стариком во дворе, Рудольф по приставной лесенке взобрался на сеновал, ощупью нашел постель и растянулся на своем ложе. Все было непривычно — простыня от вечерней сырости стала волглой, сквозь нее кололись сухие стебли, пахло травяным настоем. Уже погружаясь в сон, он вздрогнул, заслышав то ли стоны, то ли вздохи. Ему чудилось, будто он задремал во время ночного дежурства, но, проснувшись, догадался, что это внизу, в хлеву, вздыхает корова и тяжело дышит свинья, и усмехнулся. Засыпая второй раз, Рудольф услыхал тихие шуршащие шаги. Кто-то крадучись подобрался к нему и, помедлив немного, свернулся рядом калачиком. Он протянул руку, нащупал мягкую густую шубу и ощутил под ладонью мелкое дрожание.
— Ты, Шашлык? — сонно пробормотал он.
Кошачье урчанье представлялось ему во сне скрипом снега под лыжами. На солнце снег лежал синевато-сверкающий, а в тени — бархатно-фиолетовый.
4
Ее разбудил треск мотоцикла. Лаура открыла глаза, не понимая сначала, где находится, потом догадалась, что она еще сидит у Зайги на диване, с мокрыми волосами, и уже успела сильно замерзнуть. Она не имела понятия, сколько сейчас времени, на дворе стояла синяя звездная ночь. По стене скользнул отблеск фары, осветив на секунду узкое личико Зайги с закрытыми глазами, и тут же исчез. Было слышно, что мотоцикл остановился во дворе. Донеслись приглушенные голоса, мужской и женский, сдавленный смех, и визгливо затявкал спросонья Тобик. Поежившись от холода, Лаура цыкнула на собаку и поднялась — открыть щеколду, но когда она отворила дверь, во дворе никого уже не было, только в воздухе стояла бензиновая гарь и слышался рокот мотора, который постепенно удалялся.
— Вия? — наудачу окликнула Лаура.
За домом что-то зашуршало, из темноты вынырнула невысокая фигура.
— Я бы и в окно влезла, — сказала Вия, как журавль поднимая ноги, чтобы не замочить туфли в росистой траве.
— Кто тебя привез?
— Эгил.
Вия казалась слегка навеселе, но это угадывалось больше по учащенному дыханию, чем по движениям и походке. В сенях высокие каблуки ступали по полу твердо и звонко, маленькая ладонь энергично сжала ручку двери и сразу же, не шаря по стене, нашла выключатель. Кухню залило светом. Новое серо-серебристое платье Вии выглядело сильно помятым, под мышками проступали темные пятна, от высокой прически, которую она соорудила, чтобы казаться выше, осталось нечто похожее на Пизанскую башню — ни лак, ни заколки уже не могли удержать ее в прежнем положении.
— Лаура, нет ли у тебя чего-нибудь попить? — попросила Вия.
— Тише, Вия… — шепотом сказала Лаура, — перебудишь всех. У нас был на ужин молочный суп с клецками, может быть…
Вия только выразительно покривилась, взяла с полки глиняную кружку и, стуча каблуками, направилась к ведру.
— Тогда уж лучше пустую воду! — сказала она, зачерпнув, и поднесла к губам кружку. — Сжалься, дорогуша, дай подсластить вареньица. Только, ради Христа, не этот противный яблочный джем. Лучше всего черной смородинки.
Черная смородина у них на горе росла плохо, два дня назад, собрав ягоды, Лаура сварила несколько пол-литровых банок на зиму, на тот случай, если кто-нибудь заболеет. По правде говоря, ей было немного жаль варенья, но и жаться тоже не хотелось, и она пошла в кладовку. Когда вернулась, Вия, сняв туфли, разглядывала чулок, по которому сбегала дорожка шириной в несколько петель.
— Первый раз надела — и уже готово, — огорчилась Вия. — Такой красивый цвет — загара, дедероновые, по три тридцать.
— Может, зашить можно? — заметила Лаура.
— Можно, конечно, — согласилась Вия, — только они уже не выходные… Когда в коляску садилась, порвала или во время танцев…
— Вы и танцевали у Зариней? — ставя банку на стол, спросила Лаура.
Все еще с грустью разглядывая дырку, Вия кивнула, утвердительно помычала, потом, вздохнув, сняла чулки и, повесив их на спинку стула, взялась за банку: нижними зубами сняла пластмассовую крышку, запустила туда ложку, размешала варенье в воде и жадно поднесла к губам кружку.
Лаура присела напротив на скамейке, сидела и смотрела, как от порывистых движений колышется башня Вииных волос.
— А тебе не хочется? — предложила Вия, покачивая ногой, закинутой на другую ногу.
— Не-ет… Я слыхала, как у вас играла музыка.
— Был магнитофон с шикарными записями, — рассказывала Вия в промежутках между глотками. — Джонс, Рафаэль, Адамо… Элина постаралась, чтобы все по высшему разряду — к самому концу кофе по-турецки и торт со сливками. Старику дали Почетную грамоту Президиума Верховного Совета. Так вот, чтобы звону было на все Заречное.
— Много было гостей? — полюбопытствовала Лаура.
— Весь цвет здешнего общества. И, кроме того, Зандберг из райисполкома, — с воодушевлением сообщила Вия, мешая ложечкой в кружке. — Между прочим, сам именинник про тебя спрашивал.
— Про меня? — удивилась Лаура.
— Спрашивал, почему тебя нет. Пришлось выдумать что-то дипломатичное. Могла бы прийти, честное слово. Ваши учителя были почти в полном составе во главе с самим дирдиром.
— У меня… — немного подумав, уклончиво сказала Лаура, — у меня надеть нечего.
— А синее платье с рюшами? — воскликнула Вия, и за дверью кашлянула Альвина.
— Тсс, — напомнила Лаура.
— Никогда не скажешь, что оно перелицовано, — продолжала Вия, слегка понизив голос. — В синем ты похожа на Даниэль Дарье.
Лаура усмехнулась. Не понять было, то ли ей польстили слона золовки, то ли напротив — она не придала им никакого значения. Вия отвела кружку ото рта, подняла небольшие, близоруко прищуренные глаза и разглядывала ее так же, как недавно чулок.
— Что ты на меня уставилась? — чувствуя неловкость, улыбнулась Лаура.
— Не могу понять, — откровенно призналась Вия, — или тебе и правда никогда не хочется потанцевать, или ты, прости меня, так ловко притворяешься?
В ответ Лаура только пожала плечами, как бы говоря: «Зачем бы я стала притворяться?» Но ее лицо, на которое по-прежнему с недоумением, с каким-то странным, жадным любопытством был устремлен Виин взгляд, осталось непроницаемо.
— Я знаю, тебе нравится ореол мученицы, тебе нравится быть святой! — заключила Вия.
Лаура не ответила, тишину заполняло лишь тиканье часов. Под Вией затрещал старый расшатанный стул.
— Ты всего на несколько лет старше меня, — продолжала она, будто думая вслух. — А что ты видела? Где была? Дети в школе, дети дома, вечно без денег… Тебе когда-нибудь приходило в голову посчитать, сколько часов в день ты работаешь?
— Ну?
— Часов шестнадцать.
— Какая точность! — с иронией сказала Лаура, пряча неудовольствие. Наверное, опять о ней… о них шли пересуды.
Вия машинально черпала ложкой из банки варенье и подносила ко рту, губы ее постепенно становились лиловыми, но вкуса она, казалось, вовсе не чувствовала.
— Ты прости меня, — заговорила она немного погодя, — но я случайно наткнулась на письмо Рича и прочитала.
Молчание.
— Я… я надеюсь, что ты по крайней мере не пересказывала содержание этого письма…
— Где? — вырвалось у Вии.
— У Зариней.
— За кого ты меня принимаешь! — воскликнула Вия, не в силах скрыть легкого замешательства. — Я просто сама… прочла, положила обратно и… — В комнате Альвины пробили часы. — …и мне стало завидно.
— Поздно уже, — поднимаясь, сказала Лаура.
Вия смотрела в сторону, куда-то в пространство, и глубокая, щемящая грусть в ее таких ясных обычно глазах никак не вязалась с вызывающей, почти бесстыдной чувственностью, написанной на лиловых, липких от варенья губах.
— И знаешь, мне вдруг пришло в голову: что, если бы это письмо было написано мне? — Ее голос дрогнул. — Хватило бы у меня сил вынести все, что выносишь ты? Если бы мне написали: «Когда становится невыносимо тяжело, я стараюсь думать о Тебе и…»
Лаура сделала движение.
— Давай обойдемся без цитат.
Однако Вия, поглощенная своими чувствами, как токующий тетерев брачной песней, ничего не слышала, кроме самой себя. Может быть, в действительности она выпила больше, чем кажется?
— Смогла бы я жить, ничего не зная, кроме работы и детей, кроме грядок и кастрюль? — горячо продолжала она. — Отправлять посылки и выносить сплетни? Годами ходить в одном платьишке и бессильно смотреть, как проходит жизнь? Смогла бы я заплатить такую ужасную цену за эти слова?
Вопросы, которые она приглушенно выкрикивала в ночной кухне, были чисто риторическими и вовсе не требовали ответа, и Вия будто проснулась, когда Лаура сказала:
— Нет.
Они смотрели друг на друга — Лаура серьезно и спокойно, а Вия — вопрошающе, тревожно.
— Нет? — переспросила Вия, вдруг став неприязненной, резкой. — Ты права, поменяться с тобой местами я все же не поменялась бы, хотя меня никто и не любит так, как… твой рыцарь Рич, и на мою долю остаются одни Эгилы — одни кастрированные бараны.
На глазах у Лауры с Вией произошла точно такая же перемена, как недавно с Альвиной, в этом смысле она целиком пошла в мать: свет грусти, раздумий, только что озарявший ее лицо, развеялся без следа, и черты стали грубыми, бездуховными. Лаура подумала, что, оберегая себя от страданий, она взбаламутила что-то в золовке, она видела это и понимала, но поправить не умела, зная, что Вия, стыдясь своей минутной слабости, будет отвечать теперь только грубостью.
Вия отставила кружку, повынимала заколки из волос, которые пепельно-желтыми прядями рассыпались по серебристому шелку, сняла платье и накинула на спинку стула, где висели чулки.
— Знаешь, когда он привез меня домой, я предложила ему — зайдем, останешься до утра…
В одной комбинации, шлепая по полу босыми ногами, она прошла в угол и налила воды в таз. Потом направилась за полотенцем.
— Если бы ты видела, Лаура, как Эгил стал мяться, заикаться. Комедия! Боится, что разбудит мать и тебя, чего только не молол. Я говорю — залезем в окно, но тут залаял этот дурак Тобик… Фу, как от полотенца разит дымом. Не буду больше вешать на кухне… Да, и мой Эгил, можно сказать, позорно бежал. Начитался наших брошюр о любви и браке…
Вия презрительно хмыкнула и начала мыться: черпая полные пригоршни воды, поливала, мылила и терла лицо, шею и плечи, будто стараясь вместе с пылью и пудрой смыть и пьяное уныние. Гладкая кожа ее покраснела и, чистая, заскрипела под ладонями. Потом она долго и с удовольствием вытиралась. Плечи в свете матовой лампы белели округлые, соблазнительные, движения были исполнены довольства и лености сытой кошки.
— Иной раз, честное слово, так и кажется — он еще верит, что детей приносят аисты! Вежливый… до ужаса, до тошноты. «Спасибо» да «пожалуйста», и за локоток придержит, чтобы не упала в темноте. А ночь такая… звездная. Хочется, чтобы обнял тебя, стиснул так, чтоб дышать было нечем, чтобы душа запела…
— Спокойной ночи, — тихо сказала Лаура.
Она прошла в комнату, разделась и легла, чувствуя смертельную усталость. Но сон бежал от нее. Сухой треск мотоцикла во дворе расколол ночь на две части, которые теперь удалялись друг от друга, как куски треснувшей льдины на быстром течении. Лаура лежала, заложив руки за голову, глядя в темноту, которая обволакивала привычные вещи мутной серостью, делая их чужими, незнакомыми…
«Когда мне становится невыносимо тяжело, я стараюсь думать о Тебе. И считаю оставшиеся месяцы. Потом перевожу месяцы в дни, дни в часы, часы в минуты, минуты в секунды. И хотя их получаются миллионы, секунда — это что-то короткое-короткое…»
Лаура вновь старалась уйти от воспоминаний извилистыми окольными тропами, однако на сей раз это не удалось, и, не в силах противиться им, она погружалась в прошлое, как всегда, каждый раз, когда разворошат пепел забвения. Она умела только скрывать свою боль, прятаться за безразличием, за иронией, но не более того.
Почему она не порвала, не сожгла этого письма Рича?
«Я часто вспоминаю ту ночь, которую нам разрешили провести вдвоем. Я видел, как все тебе здесь было непривычно. Ты съежилась, когда за нами заперли дверь. Тебе, наверное, казалось, что под замок посадили и тебя. Никогда прежде я не понимал, как виноват я перед Тобой, и никогда мне так сильно не хотелось быть человеком, как в ту ночь…»
Рич был прав. Когда за ними закрылась дверь, Лаура не чувствовала ничего, кроме отчаянного, жгучего стыда. В ней застряла мысль, что, наверное, требовалось разрешение начальства, чтобы у заключенного Рихарда Датава осталась жена, что где-то что-то говорилось по этому поводу, согласовывалось, и всему свету теперь известно, зачем она сюда приехала. Ей хотелось броситься к двери, постучать, чтобы ее выпустили, но ее обхватили руки Рича, она стояла точно в столбняке, глядя на него — на его обритую наголо и оттого словно квадратную голову, на похудевшее лицо, которое при тусклом освещении казалось совсем чужим, на черные, глубоко запавшие цыганские глаза. Он прикоснулся щекой к ее щеке, и Лаура почувствовала на его лице слезы.
— Если бы не было тебя… я не знаю, что бы со мной было… — шептал он, стиснув ее плечи до боли.
Она не сомкнула глаз до утра, В жестком сплющенном изголовье сухо шуршало, Лаура чувствовала грубую ладонь Рича на своем бедре, его дыхание на своем лице, поняла, что не спит и он, мучительно сознавала, что надо сказать что-то хорошее, но ничего не могла придумать. Все казалось ненастоящим. Стараясь хоть как-то подбодрить его, она протянула руку, легонько коснулась висков Рича, потом щеки, подбородка, ее руку обхватила нежная горячая ладонь. Но и эта ласка не изменила ничего и оставила в ней лишь смутное разочарование и чувство вины…
«Знаешь, накануне мы грузили свежие сосновые бревна. Я испачкался в смоле и, как ни тер, ни скоблил, никак не мог отчистить руки, весь пропах смолой, а в памяти она осталась как запах Твоей кожи…»
Боже мой, и это тоже читала Вия? Что именно из всего этого она разболтала в гостях у Зариня между шейком и кофе по-турецки?
Перед людскими пересудами Лаура всегда чувствовала себя беспомощной, беззащитной, хотя за прошедшие годы, казалось бы, ко всему можно было привыкнуть. В каких только вариантах не доходила до нее молва, чтобы ее могло еще что-то удивить! Начиная с проклятий и кончая жалостью и сочувствием, намеками на то, что тень Августа Томариня висит над их родом…
Альвина снова беззвучно, старчески кашляла в своей комнате. Лаура прислушалась — возможно, не спит и свекровь, предаваясь своим неизбывным мыслям о Риче…
Кашель затих, и вновь наступила мертвая тишина.
Когда возвратится Рич, надо уехать отсюда и начать все сначала. У Рича золотые руки. Если бы он не пил так… если он не будет так пить, его возьмут где угодно. Жизнь в Томаринях никому из них не принесла счастья. В эту дверь вынесли Рейниса Цирулиса, отсюда увели Рича… Почему из всех брошенных хуторов Альвина выбрала именно Томарини? Почему она не хотела допустить, чтобы все тут сгнило, развалилось и осталось пустое, голое место? Может быть, в ней еще жили, теплились воспоминания? Или она желала быть хозяйкой там, откуда ее некогда выгнали как собаку?..
За окном брезжил серый, сонный рассвет. В хлеву прокукарекал петух. Через открытое окно было слышно, как в Вязах ему звонко отозвался другой. А немного погодя пение петухов долетело из Пличей. Петухи возвестили наступление утра, тот час, когда исчезают призраки прошлого. Из сумерек проступили очертания мебели и стали привычными, спокойными. Почти голые, узловатые ветки сирени сплетались на фоне предрассветного неба в ажурный узор, похожий на вышивку гладью. Снизу поднималось влажное дыхание озера, и, когда уже пора было вставать, Лаура наконец уснула, совсем незаметно, как в тихую воду, погрузилась в сон.
5
Когда забрезжил рассвет, Рудольф уже был на озере, которое все еще курилось, сильнее даже, чем ночью. Водный простор казался бескрайним, лишь время от времени стальную гладь прочерчивала рыба — она охотится, пасется или просто резвится на утренней заре. Раздался тихий всплеск, мелкими кругами пошли волны и снова улеглись, и опять все смолкло, успокоилось.
Удивительно тихое утро!
Когда Рудольф покачнулся, о борт глухо ударилось весло, но шум, который вчера вечером раскатился бы выстрелом, сейчас тут же заглох. Звуки были бескрылые, они застревали, как в вате, вязли в тишине. Лодка стояла незыблемо, точно вмерзшая, и листья кубышек на стальной поверхности воды, которая сливалась с молочно-белым туманом и растворялась в нем, напоминали чьи-то следы. Казалось, в темноте тут бродили люди, топтались и даже танцевали, а на рассвете исчезли, оставив после своих ночных развлечений улики: зеленые округлые следы и бело-красный пластмассовый футляр от губной помады, на который издали смахивал поплавок Рудольфовой удочки. Петухи возвестили утро, передавая эстафету от хутора к хутору: Вязы — Томарини — Пличи… Затем петушиные крики, становясь все тише, донеслись с хуторов, названия которых Рудольф не знал, и постепенно стихли.
Поплавок едва заметно дернулся и тут же замер, словно испугавшись своего движения, но немного погодя опять нервно вздрогнул и вдруг, подскочив, резко нырнул и ушел в глубину. Рудольф подсек и вытащил первую плотву. Снова насадив личинку, осторожно опустил наживку в то же окно между кубышками. Поплавок пошел книзу почти тотчас же. Рудольф решил, что крючок зацепился, хотел поднять удочку и забросить снова, но заметил, что леска медленно уходит вбок. Он вновь подсек. В водорослях юлила стайка плотвы, и он за довольно короткое время поймал восемь штук. Потом столь же внезапно рыба перестала клевать. Он переменил место и приманку, опускал ее то глубже, то выше, но поплавок не оживал. Рудольф оглянулся, и яркий свет ослепил его — взошло солнце. Увлекшись ловлей, он этого не заметил. Солнце сияло огромное и оранжевое, как на картинах импрессионистов, вода превратилась в апельсиновый сок, белесый занавес тумана раздвигался, как бы открывая огромную сцену — берег: прямо напротив горбилась избенка в Вязах, издали еще приземистей, чем на самом деле, серыми баржами выплыли постройки Томариней, а еще дальше — покосившиеся крыши в Пличах.
Он пробовал забрасывать спиннинг, но, зацепив два раза пучок водорослей и однажды вытащив улитку, решил, что рыбалку пора кончать, смотал на катушку леску, закрепил блесну и, сидя праздно, ничего не делая, наблюдал пробуждение дня. Одна за другой задымили трубы. Со скрипом закивал колодезный журавль в Вязах. Старая крестьянка, что вчера вела корову в Томарини, привязывала ее на берегу озера — деревянной колотушкой загоняла в дерн колышек, и желтым пятном на зеленой траве мелькал щенок. Спустился к лошади и опять ушел Эйдис. Потом к озеру сошла и Мария, что-то перемыла в ведре, наверное картошку, и, увидав Рудольфа, крикнула ему что-то, возможно звала завтракать. Из всего, что сказала Мария, он разобрал только свое имя и помахал рукой. Есть не хотелось, в кармане куртки лежала сухая горбушка черного хлеба, а больше ему ничего и не надо. У мостков против Томариней показались детишки, забрели в воду и с шумом и гамом стали брызгаться. На человека в лодке они не обратили внимания, выкупались и побежали домой.
Солнце поднималось все выше, разливая над озером и над пересохшей, выжженной землей неподвижную палящую духоту. Весла лениво повисли в уключинах. Осоловевшие и уже вялые плотвички, пущенные в небольшой садок, едва шевелили жабрами. Жизнь на берегу шла привычным порядком, но все, что видел Рудольф, текло стороной, не доходило до него, даже слова Марии. И, как ни странно, в этот погожий летний день он почувствовал себя одиноким.
Вспомнилось, что нечто похожее на теперешнюю тоску он испытал вчера в пустой кухне в Томаринях, когда раздался бой часов за стеной, да и потом в бане, когда слышался только треск старых бревен да в висках стучала кровь. Среди тишины и покоя, столь не похожих на безумный ритм его будней, он невольно прислушивался к себе…
Над водой носились стрижи,
Рудольф взялся за весла, он правил на середину озера, подальше отсюда. Сквозь синеватую дымку постепенно обозначался другой берег с постройками и деревьями, со стадом бурых коров и серым жуком-автомобилем — убежать тут никуда не убежишь. Но разве он хотел бежать? Смешно.
Вспотев от жары, он зачерпнул в ладони воды, смочил лицо, плечи и грудь, кожа стала блестящей, будто маслянистой, но капли испарились на солнце в считанные секунды. Ему захотелось выкупаться. С кормы он прыгнул в озеро, над ним сомкнулась плотная прохлада, вода освежила его, смыла пот и грусть. Рудольф плыл, меняя стиль и темп, его движения еще не утратили ритмичности, приобретенной в студенческие годы. Потом, набрав в легкие воздуха, он нырнул с открытыми глазами. Перед ним предстало сумеречное царство. Дно озера покрывали странные круглые строения из планктона или же ила, напоминающие восточные мечети. Неясно мелькнуло что-то полосатое, может быть — элодеи, но не менее вероятно — бока крупных окуней. Мерцая серебром, проплыла мимо стайка рыбешек, он не успел разглядеть, плотвички это или красноперки. Подводный мир был полон жизни. Когда Рудольф выплыл на поверхность, стеклянный купол неба над землей был совершенно пуст — ни облаков, ни птиц, ни самолетов, совсем ничего, одна синяя бесконечность. Случайно его взгляд скользнул и по Томариням. Во дворе стояла женщина и смотрела в его сторону. В порыве мальчишеского удальства Рудольф пошел красивым размашистым кролем, но, проплыв метров сто, немного устал от непривычно быстрого темпа, заметил, что во дворе никого нет, теперь он даже не поручился бы, что совсем недавно там кого-то видел. И только лодка преданно ждала его, похожая издали на большую птицу с поникшими крыльями-веслами. Рудольф длинными гребками подплыл к лодке, перелез через борт и, энергично работая веслами, ушел под прикрытие полуострова. В затоне он решил съесть завтрак, но, отыскав часы, увидел, что дело уже идет к обеду. Вытащив из кармана горбушку хлеба, он отламывал небольшие кусочки и кидал в рот, потом обнаружил складку берега, откуда в озеро сочился тихий родник, и напился из ладони холодной как лёд воды. На полуострове не селились — тут для скотины травы не накосишь, кругом только редкая синяя осока, чахлые одинокие деревца и малина, невысокая, опаленная солнцем, как и все в эту сухую знойную пору, но обильные спелые ягоды блестели, точно красные узелки. Рудольф пристал к берегу, прошел по траве в колючий ягодник, царапая о кусты голые ноги и распугивая птиц, которые здесь лакомились. Кругом пьяняще, дурманно пахло привядшими листьями и малиной, темные переспелые ягоды падали, чуть только тронь, а в ладони источали хмельной аромат лета. Наевшись ягод, он вернулся на берег и лег под молодой сосенкой, которая была здесь самым большим деревом. Сквозь хвою сверкала небесная синева. Положив голову на песчаный бугорок, Рудольф незаметно уснул. Он очнулся, как ему показалось, от шепота, но, проснувшись окончательно, сообразил, что это не человеческие голоса, — поднялся ветер, вечнозеленое дерево шумело над Рудольфом, и легкие волны робко бились о лодку.
Он чувствовал себя отдохнувшим, свежим, но подниматься не хотелось, и он все лежал на каленом августовском песке, глядя вверх, полный ощущения непонятного, спокойного счастья, которому сам не находил ни объяснения, ни причины. Ему просто было хорошо и ничего не хотелось. Тревоги, заботы опали с него как шелуха. Когда ветки над ним качались, Рудольфу слепил глаза игравший в хвое яркий свет, — значит, солнце не спряталось в облака, хотя небо сейчас казалось блеклым. Он лениво поднес к глазам руку с часами и, к своему удивлению, обнаружил, что проспал несколько часов, что близится вечер, но никакого сожаления по этому поводу не почувствовал.
Где-то далеко-далеко послышался грохот. Рудольф прислушался, но шум не повторился. Он решил, что это рокотал трактор или на большой высоте пролетел самолет, и, только сев на песке, увидал, что надвигается гроза. Озеро зыбилось мелкими волнами, черными молниями метались стрижи, небосклон затянуло плотной дымкой. Когда Рудольф выгреб на глубину и закинул удочку, ветер упорно стал отгонять лодку назад, к полуострову, иной раз начинали клевать окуни, но, постоянно дрейфуя, Рудольф вскоре терял хорошее место, и поплавок опять только плясал на волнах. В лодке не было камня и веревки, чтобы стать на якорь, и против Томариней, где он снова вытащил трех славных окуней подряд, он продел в уключину пучок камыша и туго затянул его, — теперь плоскодонка, хотя и ерзала, с места не трогалась.
Над горизонтом быстро росла грозная клубящаяся туча, и вечернее солнце покорно плыло ей навстречу, излучая необычайный — малиновый, почти лиловый свет. Громовые раскаты сотрясали небо, гроза шла прямо сюда. Самым разумным сейчас было бы смотать удочку и грести к берегу, чтобы успеть занести ключ и сухим добраться до Вязов, но окуни перед дождем ловились один за другим — бойкие, с карминно-красными растопыренными плавниками, — и Рудольф не устоял перед искушением. Нехотя поглядывая через плечо на облака, он все откладывал возвращение на берег. Иногда поднимал глаза и на Томарини, словно пытаясь угадать, не ждут ли там лодку, пока не сообразил, что ни со двора, ни из сада его за стеной камыша, наверное, не видно, разве что из какого-нибудь окна. Еще пять… ну десять минут, и он пойдет к берегу. Окуни все еще клевали на удивленье.
Быстро темнело. Закатное солнце садилось в тучу. На зеленом фоне берега внезапно мелькнула женская фигура. В тени она казалась почти белой, но, ступив в воду, женщина вышла из тени, окунулась в поток лилового света, и ее очень светлая кожа сразу приобрела бронзовый отлив. Медленно, словно в глубокой задумчивости, она шла навстречу отделявшейся от горизонта туче. На лице, как и вчера, была легкая грусть, а в стройном тонком стане было что-то неуловимо поэтичное. Рудольф смотрел на нее не дыша, боясь, что она повернет голову и вдруг увидит его, и в то же время был не в силах противиться очарованию минуты: это было не только и не просто обнаженное женское тело. Но она Рудольфа не заметила, удалилась, и вода постепенно скрыла ее — бедра, спину, плечи.
Он сидел, словно обалделый, удивляясь себе, себя не понимая, но ничего не мог с собой поделать — волшебство мгновения оказалось сильнее его. Потом, опомнившись, он отвязал уключину и поспешно, без шума, скрылся в камышах. Отсюда ему был слышен только всплеск воды, когда она выходила на берег, и видно низкое черное небо, которое пронзали стрелы молний.
Четверть часа спустя, когда Рудольф наконец выбрался на берег, там уже никого не было, только на песке остались узкие следы босых ног. Смотав удочку, с которой в камышах сорвало крючок, он засунул весла в ольховый куст, запер лодку и с садком в одной руке, удочкой и спиннингом в другой побежал на гору в Томарини. В любую минуту мог начаться дождь, потемневшие деревья шумели тревожно, пугливо, ветер катил по двору обрывки бумаги, небо, трещавшее, как рвущийся холст, раскалывалось прямо над крышами.
На кухне была одна Альвина. Он вернул ключ и поблагодарил. Никто больше не появился. Тобик все же оказался не на высоте. Мог бы выбежать, залаять на весь дом, извещая, что… Так нет же, забрался куда-то и, наверное, спит, перед дождем хорошо спится. Рудольф стал прощаться, первые крупные капли срывались с неба. Ему не предложили переждать, пока минует гроза, — возможно, Альвина не заметила, что уже начался дождь.
Шагая через сад, Рудольф еще торопился, а потом уже нет. Дождь набрал силу, перешел в ливень, редкие деревья все равно не могли задержать белых потоков воды, низвергавшихся с неба. Так что терять было нечего… Капли, нет, не капли — целые струи били ему в лицо, на мокрой глине разъезжались ноги, над головой стоял беспрерывный грохот, а он шел и шел, не ускоряя и не замедляя шага, только замечая, что рыба в садке ожила, затрепыхалась, радуясь влаге.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Дождь все еще шел, но уже не такой сильный, капли стучали, хлопали, барабанили, изредка падали Рудольфу на ноги, но он не отодвигался от люка, сидел, обхватив руками колени, и смотрел, как гроза постепенно удаляется. Он сидел в полном одиночестве, не полез на сеновал даже Шашлык, не иначе как пристроился на кухне, в сухости и тепле. Время от времени капало и за спиной у Рудольфа, в сено. Высушенная солнцем крыша кое-где пропускала воду, она и будет течь, пока древесина не набухнет. Или, может быть, выкрошилась дранка? Надо в ясную погоду приглядеться, где именно светится крыша, в чем там дело, и подправить. Эйдису уже не все под силу, он-то держит фасон, но заметно: состарился за эти пять лет… Неужели правда уже прошло пять лет? Странно, но именно сейчас, когда он бездельничает и минуты ползут улитками, ему вдруг пришла в голову мысль о жестоком, неумолимом беге времени.
Мы не замечаем, думал он, как мчится время, так же как не ощущаем движения Земли в мировом пространстве…
Сверкнула молния. Четырехугольник люка проступил мутно-желтой заплатой на черной ткани тьмы, выплыли из мрака контуры пуни, колодезный журавль, яблони и сбитые ветром яблоки. Бледный свет вспыхнул и погас, ночь опять сомкнулась, воздух струился, полный влаги и свежести, а дождь, как оркестр, под сурдинку аккомпанировал далекой валторне грома.
И Рудольфа вновь охватило чувство одиночества. Что с ним стряслось? Почему в тиши на него снова и снова накатывало гнетущее чувство сиротливости? Ведь он ездил сюда именно ради тишины, уединения, — приезжал утомленный лихорадочным темпом жизни, пациентами, женщинами, и здесь, в Вязах, среди полного покоя оживал. Ловил рыбу, ходил за грибами, колол дрова и носил воду, даже чистил рыбу и картофель, чего никогда, кроме как тут, не делал, или же, выйдя из лодки на дикий, заросший берег, ходил босой и голый, коричневый от загара, пел про себя, валялся где-нибудь на полянке, наблюдая, как мимо проплывают парусники-облака, и не желал никого и ничего… Он никогда не успевал соскучиться. Едва подступала тоска по привычному, он тут же уезжал.
Уехать?
Но куда?
Он очень смутно представлял себе, куда и зачем он мог бы отправиться. Приехал он только позавчера, на сей раз тоже по зову той странной, но теперь уже привычной тоски по отчему дому, что ли, которую вызвало длинное-длинное письмо Путрамов, где рукою Эйдиса, еще достаточно твердо державшей молоток, но не ручку с пером, было коряво нацарапано неизменное обращение: «Здраствуй друк! Окуни в нашем озере уже по тебе соскучились…» Эйдис и особенно Мария огорчатся, если он уедет. Да и вообще, разве ему хочется уезжать?
Виновата бессонница, валяешься, глядя в потолок, так недолго и до депрессии…
В ясную ночь можно побродить, при дневном свете — почитать, привезенная бутылка «Плиски», и та осталась в комнате, в чемодане под бельем, если только, — Рудольф усмехнулся — если только про нее еще не пронюхала Мария. За пять летних сезонов в Вязах он привык к тому, что ни одну вещь не удавалось утаить так, чтобы про нее не узнала Мария, у которой нюх прирожденного детектива. Будь то письма или кошелек, бутылка коньяку или еще что-нибудь, их невозможно было спрятать, разве только постоянно носить с собой. Но в то же время у него никогда ничего не пропадало, великому богу любопытства Мария служила бескорыстно, как служат искусству, ее надо было принимать такой, какая она есть…
Да, в свое время это удержало Рудольфа от того, чтобы поселиться в Вязах, так как Ольгерт, его коллега, рассказавший ему о стариках Путрамах («Там тебе обеспечены лодка, молоко, а в случае надобности и ночлег»), под конец напугал его («В первый же вечер тебе придется изложить хозяйке свою автобиографию подробней, чем в ином отделе кадров… Дорогое удовольствие? Смотря как к этому относиться!»). Не испытывая потребности ни в исповеди, ни в душевных излияниях, Рудольф стоически отклонял предложения Эйдиса поселиться в сарае либо на сеновале даже тогда, когда зачастили дожди: он боялся утратить независимость (которую давала одноместная палатка, темная брезентовая нора, где нельзя было ни стоять в рост, ни как следует сидеть), и возможно, он бы продержался до конца, не случись некое интермеццо. Неподалеку от Рудольфа расположились туристы, бездетная пара средних лет. Супруга упорно купалась там, где Рудольф ловил рыбу, и, когда муж отбывал в зареченский магазин, миловалась с Рудольфом в ольшанике. Как ее звали? Вроде бы Инта… или Инга?
Благо бы, супружеская чета, как было решено, уехала назавтра, но Илга… да, правильно, Илга!.. вдруг надумала остаться еще на два дня. Женщины почему-то всегда жаждут повторений и продолжений, которые фактически портят все. Рудольф отнюдь не имел желания пощекотать себе нервы, попав в атмосферу классического треугольника, и ретировался в Вязы на сеновал…
Он поднес к глазам часы: только двадцать пять двенадцатого, ночи уже стали длинные. Дождь шумел скучно, монотонно. Как и тогда, в первый вечер на этом хуторе, когда Рудольфу (его приятель как в воду глядел!) пришлось рассказать Марии о себе. Если говорить откровенно, больше всего его беспокоила профессия. Он по опыту знал: стоит только признаться, что ты врач, как люди становятся либо чрезмерно почтительны, либо начинают приставать с действительными и мнимыми хворями, развлекая себя (и его тоже) подробными рассказами о рвотах, икотах и ломотах. Однако на сей раз его опасения не оправдались, возможно потому, что Марию заинтересовал другой факт его биографии, а именно — что он рано остался круглым сиротой. Градом посыпались вопросы: когда? почему и отчего? Интерес казался слишком горячим и оттого неискренним. Рудольф отвечал кратко, почти односложно («да», «нет»), решив про себя, что все же он охотнее бы выслушал жалобы по поводу ревматизма, изжоги и метеоризма. Но тут неожиданно Мария всплакнула и рассказала, что они потеряли обоих сыновей: старшего, Мика, убили бандиты вскоре после начала войны, а младший, Даумант, погиб в Курземе перед концом войны. Глядя на Рудольфа удивительно синими глазами, полными слез и сочувствия, она сказала, что он немного напоминает ей старшего и, порывшись в выдвижном ящике шкафа, принесла его фотографию. Рудольф смотрел на худую шею подростка, нежное, почти девичье лицо с внимательным взглядом, пристально и не без опаски устремленным в объектив. При всем желании он не мог уловить решительно никакого сходства с собой, однако спорить не стал, да это, наверно, и не имело смысла. Человек, которого еще неделю назад Мария даже не знала, стал для нее «объектом нерастраченных материнских чувств», как втайне иронизировал Рудольф, стараясь не поддаться сентиментальному умилению, которое иногда к нему подкрадывалось…
Он улыбнулся в темноте, вспомнив, какое продолжение имел столь неожиданный поворот событий. Назавтра вечером Мария ошарашила его вопросом, на каком языке «та пухлая красивая книжица» и не про болезни ли там писано. Поскольку «Кентавр» Джона Апдайка, в оригинале, хранился в полиэтиленовом пакете на дне рюкзака, оставалось заключить, что содержимое сумки проверено. Потом Марии понадобилось узнать, почему Рудольф развелся с женой (значит, сунула нос и в паспорт!). Стараясь не выказать раздражения и не желая вдаваться в подробности, он ответил: «Мы до смерти устали друг от друга!», что было не так уж далеко от истины. Марию, однако, такой ответ не удовлетворил. «Как… как это устали? Устать можно от работы… от дороги…» Пошли бесконечные расспросы и допросы, к этому пункту она возвращалась вновь и вновь, пока Рудольф не догадался, — Марию надо угостить тем, что ей будет понятно и что она хочет услышать: чем-нибудь вроде скандалов, бесхозяйственности, измены. И у него хватило воображения, чтобы придумать даже несколько версий, опровергавших одна другую, и Мария удивлялась, жалела, порицала и ужасалась, но неизменно всему верила. Он испытывал ее легковерие и собственную фантазию, порой забавляясь, порой чувствуя себя подлецом. То была игра в правдоподобные варианты, приключенческий роман с продолжениями, эта ложь никому не вредила, и меньше всего Марии…
Его мысль оборвалась — во время вспышки молнии Рудольф увидел между яблонь чью-то фигуру в блестящем дождевике. И опять, как черная вода, над землей сомкнулась темень, он даже не успел разобрать, мужчина это или женщина. Может быть, под прикрытием ночи и грозы кто-то вздумал лезть за яблоками? Он прислушался, но услыхал только гром. Скорей всего ему померещилось, свет молнии делал все призрачным, неузнаваемым, и то, что он принял за человека, вполне могло оказаться стволом яблони. Опять полыхнула зарница. В саду, разумеется, никого не было…
Но Рудольф тут же убедился, что ошибся. Подала голос запертая в сенях Леда, и по желтому блику, падавшему на красную смородину перед окном дома, он догадался, что в доме зажгли свет. Значит, все же кто-то пожаловал. Рудольф удивился, он даже не представлял себе, кто бы это мог явиться в Вязы и за какой надобностью в такой поздний час.
Немного погодя внизу раздались шаркающие шаги.
— Руди!
Он отозвался и высунулся в люк.
— Ты еще не спишь? — сказал в темноте Эйдис. — Залазь, брат, в штаны и спустись вниз.
Рудольф еще не разделся, накинул на голову куртку и по скользким перекладинам лестницы кое-как слез,
Эйдис завернулся в полиэтиленовую скатерть, седая непокрытая голова выглядывала из нее, как отцветший одуванчик.
— Тут к тебе пришли.
— Ко мне? Кому я обязан такой честью?
— Какой честью? — не понял Эйдис.
— Ну, кто там меня спрашивает?
— Лаура из Томариней. Ребенок у нее заболел. Вот и зовет тебя.
— Разве тут нет педиатра?
— Воскресный день, фельдшерица закрутилась на гулянке, — или не расслышав, или не поняв вопроса, пробурчал Эйдис и, оскальзываясь на грязи, неловкой, старческой рысцой затрусил в избу, под крышу, так как опять припустил дождь.
Рудольф широко шагал за ним следом, дождь барабанил по брезенту куртки, а еще раз вымокнуть вовсе не хотелось, ведь не так давно он вернулся из Томариней — на нем сухой нитки не было. Перед крыльцом разлилась огромная лужа, — озаренная светом из окна, она лоснилась и пузырилась. Первым побрел через нее Эйдис, за ним Рудольф. По сравнению с мокрой землей вода в ней казалась удивительно теплой.
В доме слышались женские голоса. На скрип двери Лаура оглянулась. Если бы Эйдис не предупредил его заранее, Рудольф, пожалуй, ее бы не узнал — она была в длинном черном, как видно, мужском плаще и в большом темном платке, настоящей шали.
— Добрый вечер! — тихо поздоровался он.
— Добрый вечер, — ответила Лаура и, неслышно ступая босыми мокрыми ногами, через кухню направилась к Рудольфу, который, как вошел, так и остался стоять у двери. По пути она сдвинула шаль на затылок и расстегнула под горлом плащ, — она делала это, казалось, желая скрыть неловкость и не зная, с чего начать.
— Простите, пожалуйста, что я так поздно… — Ее волосы, вымокшие и под платком, темными прядями падали на виски. — У Зайги… у дочери вдруг поднялась температура. Чуть не сорок…
Лаура смотрела на него уже знакомым ему спокойным, внимательным взглядом, ее лицо ничем не выдавало волнения, только пальцы нервно крутили пуговицу.
— Я была и Пличах, но до фельдшера не дозвониться, — добавила они. — Извините.
Рудольф спохватился, что все это время он просто невежливо, если не по-дурацки молчал, и предложил Лауре сесть, она поблагодарила, но продолжала стоять, с подола плаща на пол стекали крупные капли. А когда Рудольф приступил к обычным вопросам (Какие жалобы? Есть ли боли? Какие делали прививки? Давали медикаменты и какие?), она отвечала тихо, коротко и точно.
— Хорошо, я посмотрю, что с ней и насколько это серьезно. Одну минутку, я загляну в свою аптечку.
Он исчез в комнате и вскоре вернулся, досадуя на себя: как всегда, с собой было все вплоть до жгутов и шин (профессиональная ограниченность хирурга!), за исключением самого нужного — фонендоскопа. Вот и изволь теперь допотопным способом отличить, скажем, острый бронхит от крупозного воспаления легких.
— Я к вашим услугам.
Когда они вышли на крыльцо, в темноте блестела только лужа, за ней не было видно ни зги. Вдали глухо прогремел гром.
— Я проведу вас тропинкой. Так ближе, — услыхал Рудольф голос Лауры.
— Поедем лучше на машине.
Он вернулся за ключом от «Победы». Лаура ждала его там же; на фоне светлой, вспученной дождевыми каплями лужи маячила ее высокая фигура, застывшая и совершенно черная.
Полыхнуло зарево.
Рудольф невольно напряг слух в ожидании грома, но слышалась только дробь дождя. Это был немой свет зарницы.
— Бежим! — сказал он, схватив Лауру за локоть, и они побежали сквозь темноту и дождь.
Пока Рудольф снимал с машины чехол, Лаура пряталась под козырьком крыши, слившись со стеной. Огибая лужи, он развернул машину, открыл дверцу: «Прошу!» — и Лаура села. На горизонте мерцали бледные сполохи, капли стучали о ветровое стекло и дрожа стекали вниз, «Победа» тяжело колыхалась на ухабах. Лаура сидела, забившись в угол, съежившись, точно от холода, ни плечи их, ни локти не соприкасались,
— Она у вас часто болеет?
— Частенько… Чем только не переболела: свинка, ветряная оспа, корь, скарлатина. Как объявится где-нибудь грипп, так она первая. Фельдшер направила нас в Цесис к детскому врачу. Тот сказал — закалять надо. Да как закалять и когда, если она болеет, вы видите, даже летом, в жару…
— А сами босиком?
— Я-то что… — смущенно сказала она и, потеряв равновесие, когда «Победа» качнулась, ухватилась рукой за сиденье.
— Дверцу хорошо захлопнули? А то на повороте вы у меня выпадете.
Лаура ничего не ответила и, когда Рудольф потянулся к ручке, совсем съежилась в комок. На фоне забрызганного дождем стекла он видел резко очерченный профиль в обрамлении платка. И ни с того ни с сего ему живо представилось, как Лаура — белая, точно мраморное изваяние, а потом словно отлитая в меди — брела по воде навстречу грозовой туче. Он старался уловить в ее облике загадочность, поэтичность, поразившую его там, на озере. Она повернула голову и взглянула на Рудольфа, казалось, с удивлением, он убрал руку и отвернулся, однако продолжал думать о том же, между тем как Лаура сидела рядом, бесцветная, обыкновенная, совсем не похожая на то одухотворенное, погруженное в тихую задумчивость существо. Рудольф поймал себя на том, что он действительно думает как бы о двух женщинах, пытаясь найти хотя бы тонкую нить, их связывающую, но это не удавалось.
Возможно, тогда ее преобразил сказочный фиолетовый свет? Или же в нем самом тогда еще жило ощущение тихого счастья, с каким он проснулся на полуострове под зеленым шумящим деревом? А может быть, в Лауре, не подозревавшей о присутствии другого человека, па миг приоткрылось нечто такое, что она обычно прятала от людей и чему Рудольф благодаря случаю стал невольным свидетелем?
Что же это все-таки — его фантазия или ее истинная суть?
Он снова искоса бросил короткий взгляд: все тот же профиль на сероватом стекле, те же почти застывшие черты, ни тени волнения, ни следов улыбки, ничего…
В свете фар деревья возникали, проплывали мимо и скрывались из виду. Дорога, по которой Рудольф ходил и ездил бесчисленное множество раз, сейчас затуманенная дождем, выглядела совсем незнакомой, он чуть не проскочил аллею, ведущую в Томарини. Окна в доме были освещены, издали могло показаться, что здесь справляют праздник. Лаура вышла из машины первая, взбежала по ступенькам, и дверь, в которую несколько часов тому назад Рудольфа только что не вытолкали в непогодь, теперь, скрипя ржавыми петлями, гостеприимно отворилась. Альвина уже выходила навстречу, не успел Рудольф снять куртку, ее тут же приняли у него из рук и повесили, а когда он, желая вымыть руки, сам зачерпнул воды из ведра, Альвина чуть не бегом бросилась к нему.
— Я налью вам комнатной, профессор.
Уголки его губ тронула язвительная усмешка.
— Здравствуйте! — раздалось позади приятное сопрано.
Рудольф обернулся — вошла молодая пухлая женщина и в упор оглядела его чуть прищуренными ясно-серыми глазами. «Ну и взгляд — прямо следователь уголовного розыска!» — с иронией отметил он про себя.
— Принеси, Вия, чистое полотенце! — пропела Альвина, а у него заботливо осведомилась: — Может, налить потеплее? Вот мыльце… Когда у Зайги стал жар подыматься, я тут же затопила. Да разве дождешься, пока плита нагреется. Тяги нету… Когда был сын — тот на все руки мастер…
— Ну, больше-то всего он выпивать мастер, — поправила Вия и, подавая полотенце, улыбнулась Рудольфу.
Он рассеянно огляделся, будто искал кого-то.
— Сюда, пожалуйста! — пригласила Вия и провела его в комнату, тонувшую в зеленоватом сумраке.
В глубине комнаты, там, где на тумбочке слабо горел ночник, тускло освещая мебель, словно обводя ее расплывчатыми линиями, Рудольф увидел Лауру, и неожиданно, к его собственному удивлению, в нем опять что-то всколыхнулось. Лаура сидела, склоняясь над девочкой, длинные волосы стекали на подушку, обрамляя светлое лицо, которое лучилось нежностью.
«Где я мог это видеть?..»
Часы били двенадцать. Как и вчера, падали уже знакомые Рудольфу глухие удары: бум… бум…
— Сюда, пожалуйста! — повторила Вия и провела его мимо белой деревянной кроватки, где спал Марис.
Стараясь не скрипеть половицами, Рудольф последовал за ней. Из-под одеяла беспечно выглядывала темная от загара, исцарапанная нога. Мальчику все было нипочем — и свет, и шаги, и голоса. А с тахты на Рудольфа смотрели лихорадочно блестящие, настороженные, даже испуганные глаза девочки. Он сел на стул, пододвинутый кем-то, и, стараясь унять странное, непонятное волнение, насмешливо подумал, что не слишком-то уверенно чувствует себя «в шкуре педиатра».
— Ну, что у нас болит?
Никакого ответа, только дрогнули светлые Зайгины ресницы.
«На редкость ловко и ясно поставлен вопрос!»
Он потянулся к руке ребенка и бережно взял запястье. Кожа была влажная, пульс быстрый, частый и довольно слабого наполнения. Глаза девочки следили за каждым его движением, вглядывались в лицо, стараясь угадать по его выражению мысли Рудольфа, однако на его улыбку Зайга не ответила.
— Ложечку, пожалуйста!
Ему принесли из кухни ложку. Рудольф пригнул абажур так, чтобы свет падал на лицо Зайге, — ребенок поморщился.
— Посмотрим горлышко, ладно?
В глубине глотки была краснота, на миндалинах блестели желтые узелки, налеты отделялись свободно. Ангина, к тому же весьма типичная.
— Глотать больно, да?
Немного помедлив, Зайга легонько кивнула.
— Угу.
Это было ее первое слово, если вообще его можно назвать словом.
— Ангиной она болела?
— Сколько раз, — за пределами светового круга отозвался голос Лауры.
— Отоларингологу вы ее когда-нибудь показывали?
— Прошлой весной, когда собирали документы для школы… Что-нибудь серьезное?
— Похоже на ангину. Но все-таки мне надо бы прослушать легкие, только… — Он улыбнулся несколько смущенно. — …только без фонендоскопа маленькой пациентке это будет не очень приятно.
— Пожалуйста, доктор, делайте как можете.
Рудольф простукал ее, затем, потерев ладонью ухо, которое ему самому казалось противным — холодным и мокрым, приложил к Зайгиной груди, замечая, как непроизвольно сжалось, протестуя, горячее хрупкое тельце.
— Спокойно… спокойненько, не бойся, — сказал он тихо и очень мягко. — Немножко подышим и… Глубже! Ну, опять так же… еще разок… А теперь не дыши!.. Поверни спину, и сейчас будет все… Так, не буду тебя больше мучить. Полежишь с недельку и встанешь на ноги.
Распрямившись, он увидел на подушке два мокрых пятнышка. Рудольфа поразило не то, что ребенок плакал, а как плакал.
— Отчего ты?.. — удивился он, но, сообразив, что вопрос его наивен, добавил: — Оттого, что у меня ухо как лягушка, да?
В глазах девочки сквозь слезы блеснул лучик улыбки.
— И чего ты вечно пищишь, детка? — вмешалась в разговор Альвина. — Доктор же тебе….
— Не хочу бабушку! — вскрикнула Зайга и заплакала, шумно всхлипывая.
— За что она на меня так-то?
— Мама, — мягко попросила Лаура, и Рудольф услыхал тяжелые шаркающие шаги, нехотя удалявшиеся.
— Простите, — чувствуя неловкость, сказала, не глядя на него, Лаура, в то время как ее рука гладила дрожащее плечо девочки.
Рудольф не отводил глаз от лица Лауры, по-прежнему озаренного внутренним светом, который скрадывал остроту черт, между тем как его голос монотонно, механически перечислял, что и как надо делать: во-первых… во-вторых… в-третьих… И Лаура, все еще не глядя на него, временами отзывалась: «Да, доктор…», «Хорошо, положу в своей комнате…», «Спасибо, доктор!».
Рудольф поднялся.
— Ну, спокойной ночи, Зайга.
Молчание.
— Спокойной ночи… дядя, — еле слышно ответила наконец девочка.
На кухне Альвина подала ему куртку и держала распятой, как гардеробщица в ресторане, притом неумело. Рудольф никак не мог попасть в рукав левой рукой. Потом медленно и долго застегивал пуговицы, все время словно ожидая чего-то, и только когда Альвина помянула насчет того, что они, конечно, его отблагодарят, он заторопился, испугавшись, что ему могут всучить молодого петушка и десяток яиц (как было однажды в Курземе, где он вправил мальчику вывих локтевого сустава).
— Поди, Вия, доченька, проводи доктора до машины, — распорядилась Альвина.
Он попрощался с Альвиной и задумчиво двинулся следом за Вией. Его не покидало ощущение, будто он что-то забыл.
— Может быть, нужно еще какое-то лекарство, доктор? Я могу привезти из Заречного.
— У меня нет рецептурных бланков.
Она улыбнулась.
— Я могу достать и так.
— Вы тоже медик?
Она обернулась и засмеялась, у нее были мелкие, но ровные зубки и влажные яркие губы. Мужским чутьем Рудольф сразу угадал ее особый к себе интерес и доступность и привычным взглядом знатока окинул невысокую ладную фигуру с округлой, плавной линией бедер. Но мысли его были далеки от всего этого. По правде говоря, он слабо сознавал, идет кто-то с ним или не идет, хотя Вия щебетала без умолку и он что-то отвечал ей. Сев в машину и захлопнув дверцу, он спохватился, что вообще не помнит, попрощался ли он с Вией, но исправлять промах было уже поздно, к тому же получилось бы ужасно глупо, если он машинально все же попрощался. «Победа» тронулась. По-прежнему шел дождь. В конце аллеи Рудольф хотел уж было повернуть на Вязы, но вдруг передумал. Его охватило сильное волнение, он понимал, что скорее всего не сможет уснуть, и подсознательно боялся вновь поддаться чувству глубокого одиночества. Повернув в противоположную сторону, он гнал машину по раскисшим, хлюпающим дорогам, мимо спящих, скрытых темнотой и завесой дождя хуторов, садов и полей, раза два чуть не застрял в грязи, один раз угодил на чужой двор и наконец, усталый как собака и опустошенный, затормозил в Вязах.
На часах было почти половина второго.
2
— Жарко… Жарко… Бабушка бросила меня в плиту… Открой дверцу, жарко!
— Никто не бросил, дружок. И не бросит… — вполголоса уговаривала девочку Лаура, нежно касаясь прохладной ладонью ее лба.
— Держи так… так хорошо, — утихая, бормотала Зайга, только губы еще шевелились беззвучно.
Ходики пробили один раз. Час или полвторого? Половина второго. На дворе шумел дождь. Ветер то и дело стучал в окно веткой жасмина. Придется спилить. В июне оно красиво, цветы сами тянутся в комнату и пьяняще пахнут, зато осенью длинными вечерами будут стукаться, скрестись в окно, как чужие пальцы, воскрешая в памяти Лауры ночи, проведенные без сна, ночи любви и черные ночи тревожных ожиданий.
Через щель в двери, оставленную свекровью, чтобы в комнату шел теплый дух, было слышно, что и она, стараясь не шуметь, еще возится на кухне: под ногами скрипнула половица, лязгнули на плите сдвинутые кольца, что-то упало звякнув, — наверно, чайная ложка, сбежал вскипевший чай, и из кухни пахнуло ароматом липового цвета и малины, забивая кислый запах уксуса. Не так давно Альвина внесла смоченный уксусом платок — положить Зайге на лоб: жар как рукой снимет; когда Рич лежал больной, только тем его и спасла; захворал чем-то да еще добавил простуды, большие мальчишки взяли его с собой на речку бродить, когда лед еще путем не сошел… Но Зайга ни про бабушку, ни про ее компрессы и слышать не хотела, опять разрыдалась («Уйди, уходи отсюда!»), и Альвине не осталось ничего другого, как снова удалиться. Лауре пришло в голову, что свекровь всегда любила Рича больше, чем Вию, хотя Рич волей-неволей должен был напоминать ей об Августе Томарине… Или нет? Может быть, со временем такая связь для нее перестала существовать, как если б у Рича вообще не было отца… Не потому ли она его выделяла, что сын пошел весь в нее, а дочь — нет? Тогда и Лаура должна бы Зайгу любить больше, чем Мариса, но ведь это не так. Наверно, Альвину мучают угрызения совести за то, что Рич всегда был несчастным… несчастнее, чем Вия.
Лаура потянулась к выключателю и погасила ночник. Зайга беспокойно шевельнулась, горячие пальцы искали Лаурину руку.
— Не уходи!
Какой хрупкий, неспокойный сон! Если бы она совсем проснулась, можно было бы дать таблетку димедрола, оставленную врачом, а так… Не хотелось тревожить, На кухне все звуки смолкли, хотя свет еще горел. Либо свекровь наконец ушла спать, либо дремлет там, сидя, по привычке сложив руки на коленях. Спать хотелось и Лауре. Завтра будет тряпка из рук падать, неизвестно еще, явится ли помогать хоть чья-то мама или бабушка. У одной работа, у другой огород, кому есть дело до ремонта школы. Как-нибудь Лаура справится и вдвоем с нянечкой…
Дождь шумел ровно, усыпляюще, только резкие удары ветки неизменно вырывали Лауру из дремы. В блике света с кухни было видно узкое разгоряченное личико Зайги.
Пылающее жаром узкое личико…
Лауре вдруг вспомнилось: точно такое личико у нее было, когда они вдвоем отплясывали твист. Трехлетняя Зайга с комичной грацией придерживала короткую замусленную юбчонку, из-под которой то и дело выглядывали пестрые резинки. И Рич — огромный по сравнению с ребенком, взлохмаченный, потный, красивый как черт при всем при том, что пьяный, — сотрясал пол в комнате.
— …йе…йе…йе… — ломким детским голоском выкрикивала вместе с ним Зайга, а он заливался смехом, белые зубы сверкают, в черных глазах огонь и удаль — настоящий цыган.
Альвина стояла в двери и, то ли восхищаясь, то ли ужасаясь, повторяла:
— Ну цирк, ну чистый цирк!
Лаура сидела сбоку на кровати и, расстегнув блузку, молча кормила Мариса.
С тех пор прошла, казалось, целая вечность!
Чуяло ли тогда ее сердце, что грядет беда?
Пожалуй… пожалуй. Правда, она представляла себе это иначе. Всякий раз, когда Рич сильно задерживался после работы (значит, опять где-то пил), она воображала себе, как он, подгулявший, а нередко и в дым пьяный, мчится на мотоцикле в темень, и сердце сжималось в недобром предчувствии: а что, если именно в этот раз… Ветка жасмина точно так барабанила в окно — как перст судьбы. И только заслышав треск Ричева мотоцикла, она с облегчением забывалась сном.
«Ты совсем не думаешь обо мне», — до смерти устав от такой жизни, упрекала она.
Рич не понимал ее, не мог или не хотел понять.
«О ком же я думаю, дорогая, как не о тебе. С тех пор как мы поженились, у меня, честное слово, никого, кроме тебя, не было».
Они говорили на разных языках.
Что-то из сказанных ею слов все же, как видно, застряло в мозгу Рича, так как в следующий раз он привез полные карманы «Мишек» и, включив этот самый ночник, который стоял тогда возле их кровати, с упорным, неловким усердием пьяного вытаскивал из карманов конфеты и рядком складывал на одеяле, то и дело с улыбкой взглядывая на Лауру. Она чувствовала, как слезы беззвучно текли по ее щекам и промокались в подушку.
«О чем ты, Лаура?» — с испугом спросил он.
Но она молчала, только губы сложились в кривую улыбку.
«Стоит ли говорить, — безнадежно думала она, — все равно это ни к чему не приведет… Так будет всегда… всю жизнь… до самой смерти…»
Лаура, которая пришла в Томарини с розовыми надеждами, с твердой верой, что ей удастся все изменить к лучшему, в ту минуту сдалась, признала свое поражение.
Если бы у нее хватило сил, терпения, а главное — веры, беды, может, и не случилось бы. Может быть… Возможно, что это и не зависело от нее… но ведь она смирилась, сдалась… и ничем на свете не искупить ей вины за то, что произошло вскоре…
Она возвратилась позднее обычного, после родительского собрания. Золовка была на каком-то вечере, дети спали. Альвина сказала: Рич приезжал, забрал с собой что-то и снова уехал. Лаура не стала расспрашивать. Подождав еще какое-то время, они вдвоем поужинали, хотя есть ни той, ни другой не хотелось, и собирались ложиться спать. Рич вернулся пешком, что было очень странно, в сенях послышались нетвердые шаги, он долго нашаривал ручку. Рич появился в двери без шапки, заляпанный грязью, повел вокруг невидящим взглядом.
— Мать… Лаура… я убил человека.
Альвина разозлилась:
— Опять нажрался! Что ты мелешь, голова дубовая? Иди проспись!
Возможно, она сердилась, чтобы оттянуть страшную минуту, когда уже нельзя будет не верить, заслонялась этой злостью, как умела, от свалившейся беды. А Лаура? Лаура поняла, что это правда. Рич был ужасен, вид у него был такой, будто его оглушили ударом по голове и он все еще не мог сообразить, где находится и что произошло.
— Я застрелил Вилиса… — упрямо повторял он.
— Матерь божья, из чего?
— Из ружья, Вилиса Дадзишана… из ружья… как зверя…
— Господи Исусе! — снова произнесла Альвина одними губами.
— Его увезли в больницу, но… ему крышка. Я знаю… ему крышка! Черт бы меня побрал, зачем я хорошо стреляю! — Рич умолк, мучительно силясь вспомнить что-то важное. — Это у меня, наверно, в крови, от фатера… — наконец вспомнил он. — Я пошел к милиционеру — пускай арестует. Его дома нету, а благоверная выставила меня за дверь: иди проспись… «Так я же у-бпй-ца!» — говорю ей. А она свое: «Ступай, ступай домой, завтра успеешь рассказать!» Не поверила… так же, как ты, мать…
Тут Альвина заплакала в голос. Странно — ее причитания были не в силах заполнить глухую застывшую тишину и кухне.
Шатаясь, Рич двинулся к столу, он неуверенно переставлял ноги, словно шел по тонкому льду, который в любую минуту мог под ним проломиться, сел на свое обычное место — старый венский стул, на котором теперь сидит Марис, и, подперев голову ладонями, уставился в стену. Казалось, он ничего не видит и не слышит. Его тупое равнодушие наконец взорвало Альвину.
В отчаянии, сама не своя, она закричала:
— Что же теперь с нами будет, ирод? Всю жизнь от тебя я видела одно горе! Зачем… зачем только ты на свет уродился?
Рич поднял голову и вдруг засмеялся. Удивительно! И этот страшный, пугающий смех, сквозь который прорывались рыдания, не рассеял царившей на кухне тишины.
— Я тоже сколько раз задавал себе этот вопрос. Скорей всего, у меня согласия не спрашивали… — сказал он и, свесив голову, почти мгновенно уснул. Он спал сидя, уронив на грудь подбородок с ямочкой.
«Вот оно и случилось!» — в оцепенении думала Лаура, будто наконец что-то разрешилось, стало ясным. Эта фраза кружила, кружила вокруг нее, как карусель, не давала выбраться из заколдованного круга. Она смотрела на мужа, стараясь понять, изменилось ли что-нибудь в нем и что именно, с тех пор как… Преступник, убийца… Нет, ничего. Кудрявые черные волосы падали на высокий лоб совершенно так же, как в тот раз, когда он в хмельном бесшабашном веселье отплясывал с Зайгой твист, на смуглых щеках лежали тени от длинных ресниц. Во сне он выглядел беззаботным, совсем как мальчишка. И тем не менее, вопреки этому, вопреки всему, случилось непоправимое.
— Ты плачешь, мама?
— Нет,
— Но… ты же плачешь! Потому что я больна, да?
— Как ты себя чувствуешь, дружок? Опять не спится?
— Я мокрая-мокрая… как лягушка.
Лаура принесла сухую рубашку и свежие простыни.
— Может быть, выпьешь лекарство?
— О-пять лекарство! — тяжело вздохнула Зайга.
Лаура пошла на кухню. Она не ошиблась: Альвина, не то дремала сидя, не то задумалась, от шагов Лауры вздрогнула и вскинула голову. Но и сейчас сказать было трудно, спала она или так просто сидела пригорюнившись.
— Шли бы вы отдыхать, мама! Какая польза оттого, что мы всю ночь глаз не сомкнем обе?
— Лечь-то бы надо тебе, Лаура, а я бы с ней посидела, да… Ты сама видишь — не хочет она ни в какую.
Глаза свекрови глубоко запали и потухли. Лаура налила в кружку чаю.
— Ну, как она? — спросила Альвина.
— Отпустило как будто. Вспотела, точно мышь мокрая и уже не такая горячая.
Альвина кивнула.
— Дай-то бог. Рич тоже, когда маленький был, то и дело горит, весь горит огнем, а…
Лаура достала сахару, насыпала, размешала.
— …а пропотеет, и, глядь, жар спадет, куда и денется.
— Я понесу, чай стынет.
Она вернулась в комнату, вынула таблетку.
— Мамочка, открой окно!
— Нельзя, дружок…
— Ну, самую чуточку?
Лаура улыбнулась.
— Хорошо, выпей лекарство, я тебя укрою, тогда уж на минутку…
— Горькое?
— А ты быстро: раскуси, раз-раз — и запей чаем.
Лаура приподняла ее за плечи. Таблетка хрустнула на зубах. Зайга осторожно отпила несколько глотков горячего чая.
— Вот видишь, не так уж и страшно.
— Еще как страшно.
Лаура засмеялась.
— Допей все. Вот так. А теперь я тебя хорошенько укрою.
Она отворила окно. Дождь перестал. Облака неслись и неслись, растрепанные, низкие, словно поздней осенью. Но в воздухе еще веяло пряным ароматом лета. Сырость для сада благодать, давно нужен был дождь, теперь деревья воспрянут, только для некоторых, наверно, будет уже поздно.
— Что там такое, мама?
— Ничего… Вон блеснула первая звезда. Может быть, утро будет ясное, солнечное.
Ветка жасмина, шевельнувшись под ветром, коснулась Лауриной руки мягкими, еще влажными зелеными листьями. Странно, почему же тогда о стекло билось что-то сухое, будто неживое?
— Завтра я буду здорова, — пообещала Зайга. — Правда, мама? — И в темноте раздался тихий смех.
— Наверное, дружок…
3
В сумерках сеновала нитями протянулись солнечные лучи, будто здесь развесили сушить желтую пряжу. Батюшки, сколько дырочек и щелей в крыше — макет звездного неба, да и только. Немного фантазии, и можно разглядеть целые созвездия. Прямо вдоль конька проходит Млечный Путь (просто удивительно, как это ночью Рудольф не вымок до нитки!), справа сияет Большая Медведица, а там вон, пожалуйста, всенепременная Полярная звезда — где ей и должно быть, точно на севере. Гораздо больше воображения понадобится, чтобы найти Малую Медведицу…
На дворе, облепив провода, неистово галдели ласточки, молодые вместе со старыми, в голосах молодых порой слышалось нечто вроде нетерпения, нетерпимости, возможно, назревал конфликт между отцами и детьми. Утро было солнечное, ласковое. Рудольф догадался, что проспал долго. Половина десятого, вот и прекрасно. Дрых, как медведь в зимней берлоге! Он не слыхал ни того, как Мария выпустила кур, ни того, как доила корову, хотя обе процедуры каждое утро сопровождались зычными монологами, так что Рудольф всегда просыпался и потом, в зависимости от «планов на будущее», либо вставал, либо поворачивался на другой бок.
Он нехотя вылез из-под одеяла и прямо так, как спал, в одних трусах спустился вниз.
А-а-а-а…
Стыд и позор зевать во весь рот в половине десятого! У него было такое ощущение, будто его здорово помяли. И все же машина пострадала больше. Вид у нее такой, словно она прошла через глиняное творило. Чертовски удачно он выбирал дорогу, ничего не скажешь. Теперь грязь хоть зубами отдирай. Это тебе не песочек, который чуть ли не сам осыпается, стоит ему обсохнуть. Глина держится как замазка, попотеешь, пока дымчато-серые хромированные бока обретут свой исконный цвет. Ничего, ему полезно поработать, мытье автомашины всегда удивительно прочищает мозги и повышает сознательность, побуждает к раскаянию в грехах и подвигает вести более благонравный образ жизни.
Рудольф бегом спустился к озеру, выкупался, слегка размялся гимнастикой и, вполне придя в норму, стал медленно взбираться на гору. Из кухонной двери плыли навстречу аппетитные запахи. Вареная картошка — раз, соленые огурцы — два, что-то жареное — три, ага, жареная рыба, значит, пошел в дело вчерашний улов, брошенный им во дворе, он уже не помнит — на лавке или в траве?
— Пламенный пионерский привет! — крикнул он Марии.
— Здравствуй, здравствуй, — отвечала она. — Что, опять мокрый?
— Насквозь.
— Тебе бы только в воде торчать. Позавчера — баня, вчера под дождем вымок, как бездомный пес. Штаны еще на лежанке сохнут, а он уж на озеро бегом, как на пожар! Гляжу — ну да, он самый на берегу выламывается.
— Вот тебе раз — выламывается! Я делал глубокие приседания.
— Иди, иди в тепло-то, надень чего-нибудь сухое. Вот полотенце, вытрись как следует.
Вытираясь на ходу и оставляя мокрые следы на чистом, добела выскобленном полу, Рудольф прошмыгнул в дом. Эйдиса не было. В стекло билась и свирепо жужжала, не находя выхода, оса. Рудольф взялся за чемодан. Какой легкий! Не надо быть ясновидцем, чтобы угадать — он пуст, и приложила тут руки, он невольно вздохнул, наверняка Мария, больше некому.
— Пока ты спал, я разложила твои вещички на полки. Чтобы за каждым пустяком не лазить в чумадам, — призналась она и повела Рудольфа к шкафу показать, где что лежит.
Перечисление вещей под аккомпанемент осиного гуденья походило на мелодекламацию.
— Тут твоя бритва, тут гляделки, тут галстуки, тут рубашки.
Рудольф слушал вполуха, что говорила Мария, глядя на ее затылок, где тонкие с сединой косички были уложены в виде котлеты. С его сатиновых трусов, щекоча холодком ноги, стекала вода.
— …зеленая небось заграничная, больно тонкая.
— Что, Мария? — рассеянно переспросил он. — Зеленая? Да, кажется, чешская.
— …носки положила, глянь, в самый уголок. Трусы… — Мария поглядела назад. — Да ты и не слушаешь, что я говорю!
— Я слушаю. Носки в уголок и так далее, — поспешно возразил Рудольф, Он не мог дождаться, когда кончится инвентаризация, он и в самом деле уже начинал мерзнуть.
— Книжки во-он, на самом верху! — продолжала Мария. — Коробочка с крючками и — как их? — золотыми рыбками прибрана сюда. Там и твои лекарства. У тебя нету ничего от сердца?
Она справилась так просто, как спросила бы «от поноса» или «от клопов».
— У меня только ядовитые, — засмеялся Рудольф.
— Будет тебе болтать, озорник! — заругалась Мария, но на коробку с медикаментами взглянула косо. — Примочка твоя…
— Это мужской одеколон.
— А не все равно? — удивилась она. — И пахнет не то цветиками, не то листушками… Ну, чего смеешься? А пузатую бутылку, — Мария понизила голос, хотя дома, если не считать Шашлыка, только они вдвоем и были, — пузатую бутылку, которая была под бельем, па дне чумадама, я сунула, глянь, за шкаф, чтобы старик не унюхал. Насосется сам как комар и тебя собьет с пути.
— Я, Мария, уже лет двадцать как сбился.
— Смотри, не спейся! — остерегла его Мария от пьянства, так же как накануне вечером Эйдис остерегал от женщин: где-где, а уж в Вязах у Рудольфа не было никаких шансов сбиться с пути истинного. — Мужик, он до гроба все равно что дитя малое, — добавила она, пораздумав. — Накорми его, обиходь, доглядывай за ним, заставляй щетину скоблить, гони в баню. А пол-литра завидит, тут уж сам бежит, да еще вприпрыжку.
— И девочек.
Мария оглянулась.
— Кого?
— Девочек.
— Твоя правда. И мой тоже. Когда пошустрей был, так глазами и зыркал за каждой юбкой. Теперь-то уж что! Один только поганый язык остался. А в прежнее-то время, как бывало…
— Я вам, Мария, пол закапаю, — дипломатично напомнил о себе Рудольф.
И Мария, вспомнив наконец, что он все еще стоит, завернувшись в полотенце, мокрый и полуголый, засуетилась, стала его торопить:
— Одевайся, одевайся, а то простынешь! — Она скрылась в кухне и загремела посудой, всячески давая понять, что он может переодеваться без опасений.
Рудольф с удовольствием это и сделал, все же спрятавшись на всякий случай за спинкой кровати, так как Мария могла неожиданно вспомнить что-нибудь, не терпящее отлагательств, и нежданно появиться в двери. Но она вошла лишь после того, как услыхала жужжание электробритвы.
— Иди, Рудольф, завтракать!
«Харьков» вкрадчиво жужжал ему в самое ухо.
— Что вы сказали?
— Есть иди, говорю.
— Сейчас, Мария. Соскоблю бороду.
— Так это больно долго и…
— Две минутки!
— …и все остынет.
— Я, Мария, раз-два — и готово.
Она не настаивала, но и уходить не уходила, и, наблюдая, как Рудольф бреется, опять принялась неторопливо рассуждать о неполноценности мужского сословия. Разве у мужика, к примеру, дрогнет сердце, оттого что добро пропадает, разве ты заставишь мужика съесть лишнюю миску супа, который, того и гляди, скиснет? А уж если что пригорело или пересохло, воркотни не оберешься… Это был очередной Мариин монолог, если не считать, что Рудольф, энергично водя бритвой по щекам и подбородку, время от времени вставлял: «Где там!», «Ни в жизнь!», «За добро не жди добра», «Путь к сердцу мужчины ведет через желудок…».
— Так. — Рудольф выдернул вилку из розетки, и «Харьков» замолк. — Я к вашим услугам и, между прочим, голоден как волк.
— Так ты задай рыбке жару. Я вот грибков принесла. Знаю, что любишь.
— А сами? — спросил он, видя, что стол накрыт на одну персону.
— Я поела со стариком.
— Эйдис ушел?
— Ну да, поехал на Максе за отрубями. В Пличах кончились. Кто же станет из-за трех-четырех мешков машину гонять. — Мария устроилась против Рудольфа и не то прислуживала ему, не то им командовала. — На, возьми огурчик. Помажь маслицем. Грибов положить? А сметана — не взыщи уж. Два раза пропустила, а все редкая. Не иначе как в сепараторе сменить резинку нужно. Если б ты в Риге поглядел, а, сынок?
— Надо посмотреть, как она, эта резинка, выглядит, — отозвался он, вынимая кости из плотвы с поджаристой корочкой.
Мария принесла резинку, пожаловалась:
— Пока машина была новая, сметану такую делала — прямо хоть ножом режь, а теперь…
— Sic transit Gloria mundi![2] В молодости и мы были хваты, — не переставая есть, согласился Рудольф.
— Постыдился бы про старость говорить! — чуть не всерьез рассердилась Мария. — Ты еще дите настоящее.
— Ничего себе дите, уже седина пробивается.
— В двое очков твоей седины не углядеть. А ты посмотри на меня!
— Вам, Мария, покрасить бы волосы (она замахала на него руками), щеки у вас как маков цвет (она неожиданно зарделась, и произошло чудо!), вставить зубы («Есть у меня, милок, есть чужие зубы, да от них голову ломит, ношу только по большим праздникам!»), затянуться в корсет («Дурной, что я — по смерти соскучилась?»), надеть туфли на высоких каблуках («Каблуки твои в глине завязнут — в низинке у бани»), а если еще подкрасить губы («Тут уж все собаки следом кинутся!»), никто не даст больше сорока — сорока пяти…
— Ишь, озорник! — засмеялась Мария; было видно, что слова Рудольфа ей не так уж неприятны — все же она женщина. — А ты хитрая лиса! В мои-то годы лишь бы руки-ноги слушались, и то благодать… Кислое молоко будешь или кофий?
— Если горячий еще, то лучше кофе.
Мария пошла к плите и пощупала кофейник.
— Не то чтобы с пылу, с жару, а рука не терпит. Может, подогреть?
— И так хорошо, Мария.
Наливая кофе и размешивая сахар, она продолжала:
— Человек… он все равно как дом. Сперва и не заметно, что стареет. А приходит время, смотришь, двери защемляет — стены садятся. Потом зимой невесть откуда холодом тянет, летом дымит плита, весной с потолка капает, а осенью по углам плесень заводится. Дальше — больше. Я по себе вижу и по Эйдису. Ведро с водой тяжельше кажется, земля кочковатей, хлеб не угрызешь. Самой чудно, как я раньше все успевала. И колхозных коров подою — одиннадцать, и свою не забуду, одной ногой на ферме, другой — в своем саду, и мужик тоже в рваном-грязном не хаживал… На вот, пей! Дали пенсию. «Ну, — говорит Эйдис, — теперь буду греть кости на солнышке да покуривать, а бегом побегу, только когда прохватит понос…» А придет бригадирша с фермы — то загон починить надо, привезти что-нибудь или отвезти — и нету моего Эйдиса, поминай как звали.
— «Фигаро здесь, Фигаро там…»
— Так и носится, — согласилась Мария, — А как не пойти? Взять хотя бы трактор с плугом — за час-два всю пашню перевернет. А какой машиной загородку свинье починишь? То-то и оно. Иной раз такое зло берет: дров дома не нарублено, на забор дунь — завалится, крыши худые — насквозь светятся, а его где-то черти носят. «Пусть их молодые, говорю, почешутся или ты, старый хрыч, мало поработал па своем веку?»
— А Эйдис?
— Эйдис! «Где ты видишь молодых-то, балаболка, покажи мне!» Что правда, то правда. В Заречном, там еще да, а на этом берегу озера только сын Залита в колхозе шофером — прошлый год из армии вернулся. Остальные разбежались кто куда. Ну, мы тут, в Вязах, два пня. В Пличах телятницы — любую возьми — пять десятков стукнуло. Залит сам — какой он работник, с одной ногой, другую в Риге отняли, пальцы чернеть стали.
— Гангрена?
— Ну нет! Еще в войну отморозил… И теперь, когда Рича нету, из Томариней тоже в колхоз ходить некому. Альвина — у нее, верно, уж года вышли, а у молодых своя работа, почище.
— А кем он был, этот Рихард?
— Рич? На тракторе ездил, трактор его и погубил.
— Кто? — но понял Рудольф.
— Трактор, трактор! Позовут приусадебную землю вспахать — ставят бутылку. Где пашет, там и пьет, к ночи трактор по дороге вихляется, как цыганский конь… Когда суд грянул, они все глотки драли. Кто больше всех поил, тот больше и драл глотку. Люди, они как собаки: стоит одной тявкнуть, все лают, одна другой громче. Не стерпела я тогда: «А раньше? Где вы раньше были?» А они: «Кто бы кто его защищал, но не ты! Правда что сдурела!» — Мария помолчала, по круглому лицу прошла тень грусти, она глубоко, судорожно вздохнула. — Люди говорят, — продолжала она, — что Август Томаринь… на нем вина, что наш Мик… нашего Мика… С теми, кто пришел за Миком, Августа не было. Но с повязкой на рукаве шастал и он, и другие. И грозить он грозил, это да… «Ну погоди, красный щенок, комсомолец…» А что наш Мик кому плохого сделал? Все из-за этой земли, Рудольф, из-за десяти гектаров полей, которые нам от Томариней отрезали. Земля, земля… Где же она теперь? Там она, где и была, и всем хватило ее — и Августу, и Мику, и нам хватит по три аршина, в обиде никто не останется…
Она снова замолкла, сидела, неподвижно глядя в сторону, словно прислушиваясь к далеким, ей одной слышным звукам. В стекло вес еще отчаянно билась оса. Рудольф потянулся и положил руку на Мариин кулак, который она сжала, произнося слово «земля», будто сгребая ее в пригоршню.
— Мария…
Она вздрогнула, глаза затуманились слезами, но напряжение стало понемногу ее отпускать.
— Скажи мне, милок, — отчего рождается зло в человеке? — снова заговорила она. — Пристает оно, что ли, как зараза? Или от рождения оно в груди и спит там; спит, пока придет день и оно, как семя сорняка, пустит росток?.. До войны Август Томаринь казался таким, как все. В земле копаться, правда, не любил, зато в лошадях души не чаял. У него лошади не знали кнута, сами шли за ним, ногу давали, как собака лапу, за кусочек хлеба, и был у него вороной жеребец, Музыкантом звали, тот, бывало, подогнет колени — просит сахару. Театр, да и только! Человек, который так любил живую тварь, — как он мог людей убивать? Как он мог отогревать в тулупе народившегося жеребенка и плевать на своего родного сына?
— Пожалуй, он не исключение, Мария. В это трудно поверить, и все же многие кровавые убийцы не только нежно любили своих жен, но и были безумно привязаны ко всяким пуделям, кошкам, канарейкам.
Мария кивнула.
— Стало быть, не может сердце вместить столько зла, — рассудила она. — Каждому, даже последней дряни, хочется быть добрым хоть для кого-нибудь, хоть для птицы, хоть для червя.
— Не знаю, Мария, может быть, вы и правы. Видимо, туг и действует, если можно так выразиться, принцип равновесия, хотя с таким же успехом это может быть и принцип мусорной свалки. В каждой мусорной яме, на каждой помойке всегда найдется какая-то годная или относительно годная вещь. Или же принцип вакуума — просто заполняется пустое место.
Мария поняла его буквально.
— Ты думаешь, у Августа не нашлось места для Рича? — усомнилась она. — Навряд ли. Ведь оно как бывает; когда на свет родится первый ребенок, думаешь — всю свою любовь ты отдала ему, ничего не осталось, ни капли. А народится второй, смотришь — и на него хватает. И на десятого, оказывается, довольно. И твоя большая любовь не распадается на десять маленьких, а все десять — большие. Для ребенка любви всегда хватит, он с ней на свет родится… Ну ладно, не впервой парень не хочет жениться на девке, с которой спал, но так-то выгнать со двора, как собаку! Люди говорят, Альвина прижила ребенка, Рича, когда батрачила в Томаринях. Как сумел Август к ней подъехать, уму непостижимо, все удивлялись, ни ростом не вышел, ни лицом, ну богат — это да. Вся земля по эту сторону озера, до самого леса, в ульмановское время Томариням принадлежала и Пличам. Может, возмечтала Альвина заделаться хозяйкой? Смолоду красивая была как картинка, парни за ней ухлестывали, в драку лезли, она могла выбирать, какого душа пожелает. Так нет, попала как кур в ощип… Родила прежде времени, только семь месяцев носила. Этот Рич родился малюсенький, точно обваренный, глядеть страшно. Так и думали — не жилец на этом свете. Чах, чах, а потом все ж выкарабкался. У батрачек дети живучие. И какой видный парень вымахал, если б ты видел. Ничего от отца, разве что супротивный нрав. Лицом в Альвину как две капли воды. На вечерках петь да плясать он первый. Если б не пил горькую… Намаялась с ним бедная Лаура. Ни приведи бог быть за пьяницей. Иной раз встречу на дороге — на ней лица нет. «Ну, Лаура, как живешь?» — «Спасибо, хорошо». А по ней видать, какое там хорошо. Гордая! Альвина — та плакала в голос. Шутка ли: и чужого ребенка сиротой сделал, и своих все равно что сиротами оставил. Лаура? Лаура каменная сделалась, только сумочку стиснет — даже пальцы побелеют.
Черная кожаная сумочка с металлической пряжкой, сжатая тонкими пальцами так, что побелели косточки суставов…
Странно, Рудольф удивился, как внезапно и живо эта мелочь, эта маленькая деталь отозвалась в нем. Да, он знал… он видел, что волнение Лауры выдают только руки.
Она стоит, отвечая на вопросы судьи: гладко зачесанные медные волосы, стройная и прямая в темном платье, как черная свечка, серые глаза смотрят открыто, губы шевелятся, порой открывая крупные влажные зубы, шевелятся беззвучно на фоне рыданий Альвины, и ничто не выдает ее горя, лишь беспомощные, сжатые в отчаянии руки.
«Проклятая фантазия!» — досадует он на себя.
— Как поешь, сходи, Рудольф, — задумчиво продолжала Мария, — посмотри девчоночку. Все людям спокойнее, будет.
— А не покажется им это… — рассеянно начал он и не сразу нашел нужное слово, — назойливым?
Мария всплеснула руками.
— Послушаешь тебя — диву дашься! Назойливым! По-твоему, в Томаринях прынцы какие живут или… короли?
— Я хотел крышу починить в хлеве.
— И думать забудь про крышу! Сколько их там у тебя, вольных денечков-то? Заездят тебя в твоей Риге до нового лета, как соседскую клячу. Отдыхай, кидай свой шпиннинг, а то сходи по грибы, если уж хочешь быть такой хороший.
— Вымою машину, тогда посмотрим, — неопределенно ответил Рудольф.
Он долго чистил «Победу», однако возня с машиной на сей раз не принесла ему того удовлетворения, какое обычно давал физический труд. Во время работы его не покидала нервозность, смутное ощущение, что надо куда-то спешить, он только забыл, куда и зачем. Рудольф начистил до блеска сперва стекла «Победы», потом серые бока, натянул чехол — все делал привычно, по порядку. Затем вымылся сам, переоделся и, помедлив, вышел со двора на аллею. Непонятно почему, он чувствовал жгучее нетерпение и в то же время недовольство собой, как будто он поддался — и вот… Чему поддался? Зачем поддался? Взбредет же в голову…
В каждой рытвине после дождя блестели лужи и лужицы, глинистая земля напоминала красноватый гранит с блестками слюды. Груженые деревья были унизаны мелкими темными плодами, которые созревали поздно, лишь в октябре, и опадали на ветру, точно камешки, с громким стуком. Только сейчас, при свете дня, Рудольф по следу от шин воочию убедился, как он трясся тут прошлой ночью. Низинка, в которой Мария грозилась увязнуть на высоких-то каблуках, была изрыта словно гусеничным трактором. Он пробрался по самому краю и вышел на дорогу. Над зеленой землей простиралось чистое как стекло небо, воздух был свеж, как вышедший из бани человек, как огурец, сорванный на утренней росе, как окунь, только что вытянутый из воды. Крыши Томариней снова медленно плыли ему навстречу.
Выбежала собачонка и для виду полаяла на Рудольфа, в остальном все было так, как и в прошлый раз, дверь хлева открыта, нигде ни живой души… Однако нет. Неожиданно кто-то сказал, обращаясь к нему:
— Никого нету дома.
Голос раздался почти рядом, из куста красной смородины, и Рудольф увидел Мариса.
— А тебя, выходит, тоже нету?
— Меня? — Мальчик лукаво засмеялся. — Я есть.
— А где же остальные?
— Бабушка на озере белье полощет, тетя Вия на работе, а мама уехала мыть школу. Ре… ремонт, — важно объявил мальчик, чуть запнувшись на трудном слове, и, выйдя на тропинку, спросил без обиняков: — Тебе что нужно?
Рубашка у него выбилась из штанишек, одна нога — босая, другая — в стоптанной сандалии.
— Где другая туфля?
— Под кроватью.
— А почему не обул обе?
— Эта нога здоровая.
— А с другой что?
— Наколол.
— Дай я посмотрю.
— А ты… щекотать не будешь?
Ха-ха, в его практике такого еще не бывало, обычно все боялись боли.
— Честное слово, не буду… А как себя чувствует сестренка?
— Спит. Плакала, а теперь спит. — Марис бросил на него короткий виноватый взгляд. — Я съел мышиный сыр.
— Что-что?
— Мы-ши-ный сыр.
— Что это за странный сыр?
— В доме есть нора. Зайга кладет туда сыр для мыши, — объяснил мальчик и, чуть прихрамывая, двинулся за Рудольфом. Не понять было, хромает он от боли или оттого просто, что одна нога обута, а другая нет.
— Болит?
— Что?
— Нога?
В ответ последовал выразительный, исполненный мужского достоинства отрицательный жест.
— Покажи-ка!
Они сели на скамейку, Марис нехотя снял сандалию, Рудольф взял его за ступню, хотел осмотреть.
— Но ты только… — еще раз предупредил Марис.
— Нет, да нет же.
Но едва Рудольф коснулся ступни, чтобы ощупать больное место, как началось:
— Ай-й-й-й!
— Да я же ничего не делаю.
— Ты… хи-хи-хи… ужасно щекочешь…
— Ну, раз щекотно, значит, ничего серьезного нет. Только завязать надо и купаться не ходи. Ты не знаешь — бинт у вас есть?
— Есть у Вии. Только она не дает. «У меня не аптека. Покупайте сами». А бабушка говорит: «Чего ты как баба-яга си-идишь на своем бинте?» Хочешь, я… стащу немножко?
— Как бы нам обоим не досталось на орехи'. (Марис снова махнул рукой.) Лучше подождем бабушку и возьмем бинт законным путем.
— Как это… законным путем?
— Ну, хм… Если человек что-то делает законным путем, то… то взбучки не получит, а если незаконным, то…
— По-лу-чит! — выкрикнул Марис, обрадовавшись, что вполне освоил незнакомое понятие.
— Ну, другого такого мальчишку поискать надо!
— Мама тоже так сказала, когда я утопил ключ от погреба. А бабушка заворчала: «Вот увидишь, Лаура, скоро он нас обеих в гроб вгонит!» — добавил Марис вроде бы даже с некоторой гордостью.
В ожидании бабушки они сидели перед домом, мальчик беззаботно болтал ногами. Подошел Тобик, приласкался к Марису и застенчиво обнюхал Рудольфа. Тот наклонился и погладил собачонку, она повиляла хвостом.
— Дурной еще! — пренебрежительно сказал Марис. — Ты не хочешь красной смородины, доктор?
— Меня зовут Рудольф. Можешь меня так называть.
— Можно… — согласился мальчик и, подумав, добавил: — В Пличах была собака Рудик. Только ее застрелили. По сукам шлялась.
Рудольф не мог сдержать усмешки.
— Ну, хочешь ягод? — еще раз предложил Марис.
— Знаешь, я лучше наведаюсь к Зайге.
— Мама сказала, что мне туда нельзя.
— А то заболеешь и ты.
— Да ну, так уж и заболею, — отвечал Марис, однако навязываться не стал. Как видно, он был дипломат: зачем ломиться силой, если можно потом, когда никто не видит, торчать там сколько душе угодно…
Зайга не спала, она полусидела-полулежала на двух подушках и вертела в руках что-то крохотное. Что именно, Рудольф не успел заметить: когда он вошел, она живо сунула это «что-то» в щель между диваном и стеной, и оно упало па пол.
— Здравствуй!
Зайга отозвалась беззвучно:
— …ствуй…
— Как ты себя чувствуешь сегодня? Я вижу — лучше.
Никакого ответа.
Заметив на тумбочке градусник, Рудольф хотел его посмотреть, но термометр уже стряхнули.
— Померим?
Никакого ответа.
Рудольф поставил градусник Зайге под мышку и сел на стул рядом с диваном, наверное, на тот самый, который ему пододвинули ночью. Тут он заметил норку в противоположном углу, возле нее был положен светлый кусочек — Рудольф пригляделся — белого хлеба. Кто же еще, понятно — Зайга сама вставала и бегала через комнату — ясное дело, босиком — положить эту крошку вместо предательски съеденного кусочка сыра.
— Это для мышки, да?
— Угу, — отозвалась Зайга, и ее щеки чуть порозовели.
— Что же, она приходит?
— Угу… Иногда одна приходит, а иногда две.
— Ты видела?
— Угу. Они выползают, когда гасишь лампу. Впотьмах. Лампы боятся, а луны нет. Когда луна светит, можно посмотреть. Поедят и потом танцуют.
— Танцуют?
— Угу, — порывисто подтвердила Зайга. — Танцуют и попискивают тонко-тонко.
Он не понял, то ли это плод ее воображения, то ли так было на самом деле. Танцующие мыши… Как в оперетте или как эстрадный ансамбль. А почему бы и нет? Почему это невозможно? Не потому ли, что до сих пор ему приходилось видеть только мышей, спасающих бегством свою серую шкуру? Может быть, это их брачный танец?..
— Я никогда не видел, как танцуют мыши, — признался Рудольф.
— Да?
— А что они едят?
— Они любят сыр, сало и очень-очень — подсолнухи, — охотно сообщила Зайга. — Зернышки вылущат и съедят, а шелуха остается,
— Правда? — переспросил Рудольф, удивляясь и мышам, и этой странной девочке, из которой до сих пор нельзя было слова вытянуть и которая вдруг разговорилась. Он подумал, что ребята чувствуют себя непринужденней без родных, присутствие которых их как-то сковывает. — Ну хорошо, давай вынем термометр. Наверное, хватит держать. Тридцать семь и два — прекрасно. Теперь посмотрим горлышко. Где у вас лежат чайные ложки?
— На кухне.
Он пошел на кухню. Марис, судорожно прижимая к груди каравай черного хлеба, отпиливал косарем толстый кривой ломоть.
— Ты что, с ума сошел? — испуганно вскрикнул Рудольф. — Порежешься!
— Да ну! — невозмутимо ответил мальчик, не прекращая пилить до тех пор, пока ломоть не отвалился и не шлепнулся на пол. Мальчик поднял хлеб, обдул соринки и стал намазывать маслом.
— Так ты когда-нибудь оттяпаешь себя голову, — припугнул его Рудольф. — Хотел бы я посмотреть, как ты будешь выглядеть без головы.
По смешинкам в глазах мальчика Рудольф понял, что добился как раз обратного эффекта (Марис не без интереса обдумывал и представлял себе такой случай!), и решил: «Педагог из меня, наверное, никудышный!»
— Где чайные ложки?
— Здесь. — Держа в одной руке подкову хлеба с маслом, Марис другой рукой потарахтел по выдвижному ящику, спросил:
— Тебе гладкую или в клеточку?
Не представляя себе, что значит «в клеточку», Рудольф на всякий случай выбрал гладкую. Немного погодя, когда он вернулся, Марис уже намазывал новый кусок. Ясное дело, опять резал!
— Если ты много есть будешь, растолстеешь, — сказал Рудольф.
— Как ты? — деловито поинтересовался Марис, вкусно вонзая зубы в хлебную мякоть.
Рудольф усмехнулся.
«Один — ноль, в его пользу!»
— Ну, что мы будем с твоей ногой делать? Бабушки все нет.
— Белье вешает. На, откуси! — вдруг угостил Марис, возможно предположив, что в Рудольфе говорит зависть, и поднес ломоть к его рту. Когда Рудольф забавы ради действительно откусил, сам собой раскрылся рот и у мальчика: — Вкусно?
— Ага.
В сенях раздались шаги, стук, и Марис заговорщицки шепнул:
— Бабушке не скажешь?
«Значит, это была взятка за молчание!» — догадался Рудольф.
Вошла Альвина.
— Слышу, будто разговор в кухне! — сказала она. — Батюшки, думаю, не девчонка ли с постели вскочила. Лауры-то еще не видать. А это доктор пожаловал!
Сегодня она его уже не называла профессором; подошла и, обтерев о платье чистую, добела вымокшую в озере, прохладную руку, вложила в его ладонь как неживой предмет, без пожатия.
— Девочка теперь уж ничего, веселей смотрит, — говорила Альвина, глядя на Рудольфа темными блестящими глазами. — В постели разве теперь удержишь — вставать, и никаких.
Наблюдая выразительное лицо Альвины, он вспомнил Мариины слова. Красива ли она? Красива даже теперь, когда правильные тонкие черты расплылись и в черных волосах белеет седина. Но и седина украшала ее, как серебристую лису украшает ость. Даже в штапельном платье, выгоревшем на плечах, наверно от работы на жгучем солнце, она держалась величаво, как королева. Рудольфу пришло в голову, что Рихард похож на мать, но его обычно столь живая, яркая фантазия сейчас ему отказывала. Представить себе Рихарда он не мог. Да и зачем это нужно?..
— Зайгу я посмотрел. Мне тоже кажется, что дело идет на поправку. Но таблетки еще давать и побольше чаю, полоскать горло, и пускай не бегает… — Рудольф хотел прибавить «босиком по полу», но вовремя спохватился, что чуть не совершил предательство, и неловко поправился: —…пусть не вздумает бегать раньше времени. А Марису надо перевязать пятку, если б нашлись бинт и…
— Есть, есть, как это нету! — воскликнула Альвина, скрылась в комнате и возвратилась с начатым бинтом и несколькими баночками.
Пока он перебирал их и разглядывал: цинковая мазь… ихтиоловая мазь… что-то непонятное с этикеткой гомеопатической аптеки, ему пришлось выслушать дифирамбы в свой адрес. Выбрав таблетку стрептоцида, он прервал хвалебную часть спектакля просьбой дать горячей воды. Пока Рудольф обрабатывал ногу Мариса, Альвина стояла над ним, поминутно одергивая мальчика, а потом заставила внука поблагодарить доктора — шаркнуть ножкой. Получилось все это ненатурально, натянуто, от былой прелести и непринужденности не осталось и следа. Рудольф вспомнил про Арманда, насупился и поспешил откланяться. Хорошо еще, что Альвина не стала его провожать, за ним прихрамывая вышел Марис.
— Ты знаешь тропинку, по которой можно пройти в Вязы? — спросил Рудольф, припомнив, что Лаура ночью шла не по дороге, а напрямик, садами.
— Ясное дело, знаю, — с достоинством отвечал Марис, — я тебя проведу, — и пошел впереди. Рудольф заметил, что на мальчике опять одна сандалия. Ведь только что в кухне он надел обе.
Они держали путь к озеру.
Марис оглянулся через плечо.
— Когда ты еще придешь?
— Не знаю.
— Приходи!
— А ты радушный хозяин! Предлагаешь ягоды, угощаешь хлебом, приглашаешь в гости.
— Может, хочешь яблок?
Рудольф рассмеялся.
— Дай тебе волю, ты быстро все раскассируешь.
— Как это — раскассируешь?
— Все раздашь, и ничего не останется.
— А-а! Ну, а… Видишь? Мама едет!
Вдалеке над неспокойным озером размеренно вздымались весла. Было даже трудно определить, сюда движется лодка или отсюда. Они стояли на косогоре, глядя в том направлении. В слепящих солнечных блестках весла казались черными, как и лодка, и человек в ней тоже. Только по мере приближения предметы постепенно обретали краски.
— Ма-ма! Ма-ма! — прыгая, кричал Марис, но расстояние, очевидно, было слишком велико чтобы она могла расслышать, во всяком случае, крылья лодки не изменили своего ритма: весла взлетали и опускались, взлетали и опускались. Ветер, набегавший с водной глади, развевал Рудольфу волосы, потом стал трепать и галстук.
— Ну, я пошел.
Марис взглянул на него.
— Дома тебя ругать будут, что так долго?
Рудольф улыбнулся.
— Можно сказать и так. Ну, до свидания, Марис!
— До свидания… Рудольф! Но ты только приходи! Ладно?
Рудольф шел, слыша собственные шаги по утоптанной, видно — много хоженной тропке. Кто по ней ходил, когда и зачем? Как и по дороге сюда, им вновь овладело противоречивое чувство вроде бы удовлетворения и вместе с тем разочарования.
4
Порывистый ветер, дувший с противоположного берега, разгонялся на просторах Уж-озера, относя слова мальчика, и Лаура не поняла, что кричал ей сын.
— Что?
Нет, не разобрать, долетали всего лишь бессвязные обрывки фраз. Плоскодонка выплыла на мель, стукнулась о мостки веслом, нос лодки со скрежетом проехал по мокрому плотному песку. Лаура поднялась, накинула цепь на причал, заперла висячий замок.
— Что ты привезла? — спросил Марис, переваливаясь через борт на настил.
— В магазине были баранки. Хочешь?
— Ага!
Баранки сильно зачерствели, возможно даже, их пекли в районом центре, и, разумеется, не сегодня и не вчера, а еще на прошлой неделе, но ведь в Заречном этот товар застанешь в кои-то веки, и Марис сразу принялся грызть баранку, как белка.
— Знаешь, — не переставая хрупать, говорил он, между тем как Лаура выгружала на берег сумку и сетку с бутылкой растительного масла, банкой килек и буханками хлеба, — приходил Рудольф.
— Кто? — переспросила Лаура.
— Ру-дольф.
— Кто это такой?
Марис замялся. Взрослых иной раз не поймешь, до того бестолковые, что просто не знаешь, как объяснить; ну, Рудольф есть Рудольф.
— Видишь, он мне завязал ногу,
— Доктор?
— Да!
— Так и надо говорить, а не…
— Так он сам сказал мне, что он Рудольф! — стоял на своем Марис.
— Мало ли что. Взрослых нельзя так называть.
— Почему?
— Они… сердятся.
— Ну да. Ничуть. Мы вместе хлеб ели. Я ему дал откусить.
Марис понял, что проболтался. Взрослые такие чудные, всего-то они боятся: ножа боятся, спичек… Чуть что — сразу прицепятся!
Но Лаурины мысли были, по счастью, о другом.
— А бабушка что? — рассеянно осведомилась она.
— Бабушка, на озере полоскала белье.
— Он просил лодку?
— Нет, ничего не просил… Я ему показал тропинку. Он увидал, что ты едешь, испугался и ушел.
— Да ну тебя, болтун! — сказала Лаура и смущенно засмеялась. — Возьми, Марис, поставь на место весла! Только носи по одному.
Однако мальчик впрягся в весла, как конь в оглобли, подтащил к кусту оба сразу, прочертив ими на песке извилистые полосы, и, вернувшись, ухватился за сетку:
— Дай мне!
— Она тяжелая. Возьми лучше сумку.
Но и сумка была не намного легче. Марис тащил ее, перегнувшись на одни бок, часто перекладывая ношу из одной руки в другую и сильно прихрамывая, однако от помощи наотрез отказался.
— Сам! Я сам!
— Зайгу тоже доктор посмотрел? — по дороге спросила Лаура.
— Да, шептались чего-то в комнате.
— И как она?
— Плакала, а теперь спит, — повторил Марис как заученный урок и еще раз чистосердечно рассказал, что съел приготовленный для мыши сыр.
— Беда с этими мышами, — посетовала Лаура. — Хорошо, что в магазин наконец привезли мышеловки.
Марис покосился на нее.
— И мыши в них… дохнут?
— Да.
— Вот визгу-то будет, — глубокомысленно заключил Марис, не предвидя ничего хорошего, и в который раз переложил сумку в другую руку.
Лаура вздохнула.
Конечно. Конечно, «визг» будет, как выразился Марис. А что делать? Старый дом весь изрешечен норами, оттого и тепло зимой совсем не держится… Странная девочка! Многие ребятишки в первых классах даже в школу, открыто и потихоньку, носят с собой кукол, зайчат, уток. Лаура не могла вспомнить ни одной игрушки, которую Зайга по-настоящему бы любила. Из поленьев, внесенных со двора топить печь, она строила дома, дружила с поросенком, который бегал за ней, тоненько хрюкая, привязалась к Пичу, смешному человечку, которого вырезала из огромного корявого клубня, когда чистила картошку. Ее сердце пугающе влеклось к недолговечному, чего не удержать. К поленьям дров, которые сгорали. К поросенку, который превратился в грязного, натужно пыхтящего борова. К Пичу, который в несколько дней утратил признаки жизни — почернел, высох, съежился, и куры, забравшиеся в кухню, выклевали ему лилово-синие выпуклые глаза-черничины. К мышам, которых Лаура собиралась вывести.
«Ну а что есть долговечного? — думала она, поднимаясь на гору вслед за сыном. — И разве вся наша жизнь в конце концов не есть стремление и невозможности что-то удержать?»
Нитяные ручки тяжелой сетки врезались в ладонь.
Она устала. Со стороны смотреть — прямо смешно. Что она — горы ворочала? Вымыла всего один класс, к тому же еще Эгил помог вставить рамы. Из родителей явилась только прабабушка второгодника Харальда, больше из любопытства — взглянуть, как выглядит школа после ремонта, а не пачкать руки. И какой с нее спрос? Человеку семьдесят лет, если не все семьдесят пять. Не заставишь же ее гнуть спину, весь пол заляпан мелом и краской, его только отскребать, больше ничего не остается.
Свекровь перед окнами пропалывала цветы.
— Долго ты провозилась.
— Все так позасыхало, что до трех раз мыть приходится. Пока еще пол мокрый, кажется чистым, а высохнет — и опять как инеем затянется, — говорила Лаура. — Завтра тоже ехать придется. Еще коридор остался.
— Так они тебе отпуск изгадят.
— Лапинь сказал, что дадут отгулы.
— Дожидайся! Учебный год начнется, опять будешь крутиться от темна до темна. — Альвина протянула руку за сумкой. — Дай сюда, помогу!
— Я сам! — закричал Марис, отворачиваясь, будто оберегая ношу.
— «Сам»! А согнулся кренделем. Писем нету? — справилась Альвина, шагая рядом по двору.
— Есть.
Лицо свекрови оживилось.
— Чуяло мое сердце, что должно быть. Давай его сюда, Лаура!
— На дне сумки, мама. Выложу, тогда почитаю, — пообещала Лаура.
Как скажешь свекрови, что это письмо опять ей одной, Лауре, что в нем нет ни слова, нет даже привета Альвине?
Лаура не могла этого сделать, это было бы равносильно удару.
Всю жизнь Альвина делала сыну только добро, можно ли ее винить за то, что в отчаянии, чуть не в помрачении, в ужасе за судьбу Рича она бросила ему в тот вечер страшные слова проклятия? И виноват ли Рич в том, что эти слова внезапно сломили его веру в нечто доброе, надежное, вечное? Его столько раз в жизни тыкали тем, что он сын Августа Томариня, доводя до ярости, до исступления. Когда он залез в чужой сад за яблоками, когда подрался с другим мальчишкой, когда хотел вступить в комсомол, когда он плыл по течению или, напротив, шел наперекор течению, — каждый раз злой язык напоминал об этом Ричу. С детских лет он как раненый зверь носил застрявшую в его теле занозу, он не умел ее вытащить, и другие с умыслом или без умысла прикасались к ней, причиняя боль, к которой, как ко всякой боли вообще, нельзя привыкнуть…
Должна ли была Лаура сказать свекрови, что именно этих слов никогда, ни при каких обстоятельствах не следовало говорить Ричу, даже в тот страшный вечер? Поняла бы это Альвина, если уж не поняла… не почувствовала сама? И что это могло бы изменить или поправить?
Свекровь часто, надоедливо часто предавалась воспоминаниям о Риче — из глубин памяти извлекала мелочи, покрытые пылью забвения, обтирала, выстраивала, как фарфоровых слоников, в ряд и переставляла на досуге до тех пор, пока начищенное до блеска прошлое не начинало казаться счастливой порой и, превратившись в облако, не возносилось все выше и выше, постепенно все более отрываясь от действительности. Ее любовь была готова на бесконечные жертвы, как всякая любовь, мучительная и тревожная, порой трагическая, порой смешная. В вечном напряжении, с каким она постоянно ждала вестей от сына, было что-то достойное восхищения и одновременно пугающее. Человеческое сердце, казалось бы, должно устать от постоянного накала чувств, хоть изредка забыться, найти какую-то отдушину, однако ничего похожего на самом деле не было.
Разве всего этого мало, чтобы искупить одну-единственную фразу?
Какая несправедливость, и все же, наверное, нет, наверное, все-таки нет…
Лаура выкладывала из сумки свертки и кульки.
— Где же у тебя письмо-то? — поторапливала свекровь.
— Сейчас, мама.
Альвина подошла к двери в комнату и, отворив, крикнула:
— Зайга, от папочки письмо!
Ответила та или нет, не было слышно. Альвина вернулась к столу и села, сложив руки, — приготовилась слушать. Лаура вынула густо исписанный листок в клеточку, развернула, откашлялась, как если бы что-то застряло в горле, и монотонным голосом прочла!
— «Дорогая Лаура!.. Милая мама!..»
Тяжелые веки Альвины дрогнули.
Лаура читала, спотыкаясь о слова, которые не могла произнести вслух, кое-где вставляла фразу, порой запиналась и, краснея, оправдывалась:
— На сгибе стерлось, не видно.
Письмо получилось корявое, путаное. Свекровь слушала молча, ее лицо озаряла улыбка. Из комнаты не доносилось ни звука. Пододвинув к себе кулек, Марис вкусно хрустел баранкой.
Лишь один-единственный раз Альвина прервала невестку вопросом:
— Кто ж это такой Ецис?
— Аист.
— И чего ему только в голову не взбредет! — нежно, как о малом ребенке, сказала Альвина.
Прочитав последние строчки: «Привет всем. Целую Зайгу и Мариса… и маму. Рич», — Лаура вздохнула е облегчением, как после тяжелой работы, сложила письмо, спрятала в карман и принялась раскладывать покупки. Глаза Альвины машинально следили за движениями невестки.
Ни та, ни другая не проронили ни слова.
Лаура зашла к Зайге и вскоре вернулась. Свекровь сидела на том же месте и в той же позе, «переваривая текст», как иронически выражалась Вия. При виде задумчивого, светящегося нежностью лица свекрови Лаура прониклась к ней жалостью и устыдилась.
— Мам, ты знаешь, что такое… раскассировать? — вдруг напомнил о себе Марис.
— Что?
— Раскассировать.
— А что это такое?
— Когда ничего не останется.
— Где ты это слышал?
— От Рудольфа.
— Ты, дружок, что-то путаешь.
— А вот и нет! Он так сказал. Я хотел дать ему яблок, а он засмеялся; «Не надо, а то ты все раскассируешь!»
Всеми мыслями Марис был еще с Рудольфом, отцово письмо для него ровным счетом ничего не значило. Мальчик лихо болтал под столом перевязанной ногой в старой Зайгиной сандалии, карие глаза светились озорством и лукавством. Лаура догадалась, что Марис вспоминает что-то смешное, чего она не знает. Чем они тут занимались, пока она была в школе?
Весть о том, что пришло письмо от Рихарда, совершенно не тронула и Вию.
— Да? — обронила она, явно думая о чем-то другом, и тут же прошла в свою комнату.
Это неживое, безличное «Да?» могло погасить всякую радость, Альвина замолкла на полуслове, и взгляд ее затуманился. Ну да, конечно, Вия с Ричем никогда особенно не ладили, дрались, спорили чуть не с пеленок. Казалось бы, чего им делить, сироты оба, тот и другой. А вот поди ж ты, одни распри между ними…
Она вытащила из духовки щавелевый суп, налила Вии, забелила сметаной, отрезала хлеба.
— Иди есть!
— Неохота, — отозвалась Вия из комнаты.
— Совсем не будешь? — удивилась Альвина.
— Нет.
Вия вошла в домашнем халатике, зажав что-то в обеих ладонях.
— Где ребята? Марис!
— Ты… Ты опять, Вия, выпила! — мрачно сказала Альвина.
— Опять ты, мама, за свое — нотации читать! Я уж, слава богу, давно совершеннолетняя. — Вия вышла за порог, покричала во двор: — Ма-рис!
Мальчик глухо, как из бочки, отозвался из уборной. Дверь мигом отворилась, с треском захлопнулась, и он бегом побежал к Вии.
— Что ты принесла?
— Откуда ты знаешь, что принесла? — со смехом спросила Вия.
— Знаю! Знаю! Знаю! — выкрикивал Марис, прыгая, как собачонка, вокруг Вии, поднявшей кверху обе руки со сжатыми ладонями. — Да-ай!
— Выбирай — в какой руке?
Марис глазами примерился, какой кулак больше, и неуверенно произнес:
— В левой… нет, в правой!
— Ну, левую или правую? — допытывалась Вия.
— Ле… правую!
Она разжала пальцы, на ладони аппетитно лежал «Красный мак».
— Ой! — Мальчик радостно схватил конфету, развернул, вонзил белые зубы в коричневый шоколад и, немного подумав, предложил и Вии: — Хочешь откусить?
— Нет.
— Нет так нет, — отвечал Марис, не притворяясь, будто огорчился, и запихал в рот весь остаток. — А в другой руке у тебя что? Пустая?
— В другой — вот что! — Перед самым его носом Вия потрясла за бумажный хохолок «Трюфелем» и бросилась наутек. Она бежала по двору петляя и в последний миг неизменно увертывалась от вытянутой, хватающей руки мальчика. А Марис все гнался за ней с криком:
— Вия, ну Вия!
Наконец она заскочила в дом, захлопнула за собой дверь и, подпирая ее круглым голым плечом, запыхавшаяся и усталая, засмеялась, а Марис тем временем, как кузнечик, прыгал за порогом, продолжая кричать:
— Вия, ну Ви-и-я!
— Как безмозглая девчонка, — с осуждением проговорила Альвина, и теперь уж настал ее черед испортить радость другому человеку.
— Мы не на кладбище и не на поминках, — грубовато отрезала Вия, но вся ее веселость тут же испарилась.
Она отпустила дверь, — спотыкаясь и падая, в нее ввалился Марис с криком «Пой-ма-ал!», однако сразу увидел, что игра, к сожалению, кончилась, сломалась окончательно, дожидайся теперь следующего раза.
С другой конфетой Вия вошла в комнату. Сняв скатерть, Лаура большими нескладными ножницами кроила Зайге школьное платье.
— Достала материю? — поинтересовалась Вия.
— Светлей, чем хотелось бы, но взяла какая есть, — отвечала Лаура, в то время как ножницы глухо лязгали о столешницу.
— А мне, интересно, к лицу? — с женским любопытством присматривалась Вия, взяла кусок ткани и, накинув на плечи, подошла к зеркалу. — Синий мне идет. Неплохо, правда же? Пока новый, вельветон от бархата прямо не отличить, а как выстираешь — ну, тряпка тряпкой.
— На работу хорош.
— Ну, мне и на работе надо быть похожей на человека. Всегда на людях, — спокойно заключила Вия и принесла обратно кусок ткани.
— Тебе привет от Эгила, — вспомнила Лаура.
— Да? — равнодушно отозвалась Вия и не стала расспрашивать.
— Тетя! — тихонько позвала Зайга.
Вия подошла к ней и положила на одеяло «Трюфель».
— Это тебе.
— Спасибо, — сказала девочка, зарумянившись от радости, потянулась тонкой рукой за конфетой, но есть не стала, положила на тумбочку.
— Хочу тебе показать, тетя, что я смастерила.
— Из чего? — Вия присела рядом.
— Сейчас увидишь.
Повернувшись на бок, Зайга долго шарила пальцами между диваном и стеной, пока наконец с трудом не нащупала то, что искала.
— Смотри!
От чрезмерного усилия девочка побагровела и даже вспотела, в руке у нее был бурый, скатанный из хлебного мякиша потешный цыпленок.
— Так это же прелесть что такое! — воскликнула Вия, и Зайгины глаза заблестели.
— Только у него одна ножка отвалилась, когда падал. Видишь?
— Это ерунда. С виду он такой аппетитный — прямо шоколадный. Так в рот и просится!
Лаура обернулась.
— Что у вас там такое?
Зайга хотела спрятать цыпленка под одеяло, боясь нагоняя — опять хлеб зря переводит!
Но Лаура на сей раз ничего не сказала. У обеих — и Зайги, и Вии — такое невинное выражение лица, что просто смех разбирает.
— Ты что, разбогатела — «Трюфели» покупаешь? — только и спросила Лаура.
— На свои деньги я буду покупать конфеты, когда мне стукнет пятьдесят, — весело отвечала Вия.
— Угостили?
— Да, и притом шикарнейшим образом. О господи, я должна тебе все рассказать, это же потрясающе! Сегодня у нас была регистрация брака, экскаваторщик Марцинкевич, ну, знаешь, цыган, женится. Комедия! Назначили им на четырнадцать, а невесте послышалось — на четыре. Сидит себе, будто так и надо, у парикмахерши и велит соорудить ей по журналу грандиозную прическу. Бедный жених тем временем мечется как угорелый — ее ищет, а гости в сирени у сельсовета уже вовсю закладывают. Ну, находит наконец Марцинкевич свою ненаглядную, а она в бигудях еще под аппаратом сушится. Пока высохла, пока расчесали, пока лаком сбрызнули… х-ха-ха… посаженый отец нашего жениха уже на ногах не стоит. Наконец с грехом пополам собрали всех в кучу, оформили. Марцинкевич, значит, обходит нас, жмет руки, благодарит, низко кланяется. Поклонился он, а у него — хлоп! — выпадает сверток. Заринь ему: «Товарищ Марцинкевич, вы пакет уронили!» А тот норовит к дверям, отказывается: знать ничего не знаю, это не мое, мне чужого не нужно… Мы потом развернули — бутылка «Виньяка» и кулек конфет. Если бы обыкновенно преподнес… ха-ха!.. разве кто-нибудь взял бы, ни в жизнь. А так… бесхозное имущество!
Продолжая кроить, Лаура слушала оживленную Виину болтовню. Она привыкла к тому, что в золовке уживались почти несовместимые черты: мрачная апатия со светлой, ребяческой, чуть ли не наивной жизнерадостностью, напоминавшей Рича в минуты бесшабашного веселья. В конце концов, должно же было быть и что-то общее в таких разных детях Альвины.
«Труднее всего тебе, бедняжке, будет ужиться с этой спесивой козой», — дружески предупреждал жену Рич перед тем, как ей перейти в Томарини. И был несказанно поражен, когда невестка с золовкой прекрасно поладили. Для него это было просто непостижимо — ведь ненависть всегда пристрастна и слепа.
Но где коренилось начало этой вражды? Что привело к тому, что брат и сестра, пусть сводные, но все же брат и сестра, так яро ненавидели друг друга?
Зависть?
Не она ли зажгла черное пламя в груди Рича, когда он, строптивый и угловатый, прячась за одноклассников, глядел через головы на сцену, где Вия, обводя зал ясным взглядом сине-серых, как у отца, глаз, чистым, звонким голосом иволги декламировала стих о павших героях, и старики украдкой смахивали непрошеную слезу, глядя на нее как на зримое воплощение мечты Рейниса Цирулиса.
А может быть, от нее, от зависти, екнуло сердце у Вии, когда она увидала на фотографии рядом со своим, таким обыкновенным — скорее невзрачным, чем красивым, — лицом правильные, точно резцом скульптура высеченные черты брата? Не тогда ли девочке-подростку впервые запала мысль о несправедливости: этот сын Томариня… бандитское отродье… унаследовал от матери то, что по праву принадлежит ей! Почему именно ей достались маленький рост, полнота, насчет которой скоро начнут острить злые языки, близорукость? Еще в школьные годы врач выписал Вии очки, она сидела в них только на уроках и тут же срывала, едва прозвенит звонок, так как они делали курносым, едва ли не смешным и без того коротенький нос. На вечерах Вия всегда декламировала, играла в спектаклях одну из главных ролей. Возможно, у нее был актерский талант, а может быть, она, как месяц, сияла только отраженным светом своего отца… Во всяком случае, на театральный факультет ее не приняли.
Она вернулась, тащилась с автобусной остановки, волоча сумку, точно пудовую тяжесть, хотя там, если не считать мелочей, были только выходные туфли и черное шелковое платье. Первым, кого она увидала, войдя во двор, был Рич. Привезли сено. Голый по пояс, он подавал трезубыми вилами целые вороха, которые на сеновале принимала Лаура. Заслышав шаги, обернулся. В черных кудрях блестела сенная труха, потная смуглая кожа лоснилась, в приоткрытом рту мерцал ослепительный ряд зубов. Он выглядел так… самоуверенно… так дерзко, что Вия вдруг отшвырнула сумку, закрыла лицо руками и, заплакав навзрыд, вбежала в дом.
А может быть, виновата была Альвина?
Трещина, расколовшая мир пополам на рубеже двух эпох, пролегла между ее детьми и через ее собственное сердце, и в слепой материнской любви она предалась тому, кому было труднее, Ричу, оттолкнув тем самым дочь, вызволяя и… губя сына…
А что, если это была вражда не между ними — Ричем и Вией, а между их отцами? Вражда не на жизнь, а на смерть…
Вия с Зайгой весело смеялись. Чему? Лаура не слыхала. Она сложила и спрятала выкройку, потом убрала и раскроенный материал. Сметает завтра-послезавтра, Зайга еще не так окрепла, чтобы мучить ее примеркой, да и время терпит.
— Уже уходишь? — разочарованно проговорила Вия, которой, видно, хотелось еще поболтать.
— Мать сказала — надо накопать картошки.
Поднялась и Вия.
— Не уходи, тетя! — стала упрашивать Зайга. — Мне скучно.
— Что поделаешь, — сказала Вия, скорее польщенная, чем недовольная. — Придется прийти сюда штопать чулки.
— Я тебе почитаю, тетя, — пообещала девочка, восприняв Виино согласие как некоторую жертву с ее стороны и стараясь хоть чем-то вознаградить ее.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Во сне Лаура видела Рича.
Они вместе шли по ровному серому полю, полю без конца и края. И низкое небо простиралось над ними серое, плоское, и у него тоже не было ни конца ни края.
«Покатаемся!» — сказал Рич, и она вдруг увидала, что они идут не полем, а по огромному, едва замерзшему озеру, в котором еще темнеют полыньи и можно различить элодеи, трепещущие в струях воды под синеватым осенним льдом. Лед с хрустом продавливается под их ногами, и Лауру охватывает страх. Она ищет глазами берег. Но черной полоски берега нигде не видно, серое небо на горизонте сливается с серым озером. Рич, смеясь, разбегается и катится, раскинув руки. На нем светлая куртка, он похож на яхту. Лаура провожает его взглядом, с ужасом ожидая, что вот-вот он провалится и уйдет под лед. Но Рич все удаляется, становится похож на чайку… потом на снежинку… Лаура стоит ни жива ни мертва, не слыша даже своего отчаянного крика, в ушах лишь треск льда и гулкое бульканье воды в полыньях. «Спокойно, спокойно… не бойся…» Она думает, что это Рич, но вокруг бескрайний простор, и в нем ни души. И голос чужой, не Рича, это Лаура поняла еще во сне…
Нехотя занимался рассвет. Все спали, даже Альвина. После двух бессонных ночей Лаура вчера легла рано, уснула сразу и крепко. И только сейчас, в сумерках серебристо-серого утра, ее точно колокол разбудил этот… Страх? Или нежный голос? Она все пыталась вспомнить, где она его слышала, но не могла, мозг еще был во власти сна, и мысли вязли в нем как в вате.
Лауре казалось, что стоит ей вспомнить, и привязчивый голос оставит ее в покое. Так иной, раз тебя преследует забытый мотив, забытое имя, строчка стиха. Но достаточно вспомнить мотив, слова, имя, чтобы все стало на место, улеглось и забылось…
Утро постепенно одевалось в краски. Верхние стекла окон, не заслоненные кустами, зажглись перламутрово-алым светом. Через приоткрытую дверь Лаура слышала ровное дыхание детей, и, когда Зайга ворочалась, под ней пела или звякала диванная пружина…
Лаура замерла — она вспомнила. Но это открытие не принесло ей ни радости, ни облегчения, напротив — вселило смутную тревогу.
«Какой странный сон! — растерянно думала она, стараясь стряхнуть с себя наваждение. — Надо встать. Встать и приняться за дело».
Она сняла платье со спинки стула. Зашуршала бумага — в кармане лежало письмо Рича. Лаура вынула его и положила на стол: не забыть бы потом сжечь, ведь и это письмо может попасть в чужие руки. Ее взгляд случайно упал на слова:
«Моя дорогая Лаура!»
Это был знакомый до боли голос Рича. И словно стараясь освободиться, уйти от другого, смущавшего, призывного голоса, она снова взяла письмо и, как встала с постели, босая, в ночной рубашке, подошла к окну, к свету, и стала читать.
«Так давно, кажется, Тебе не писал. А взял в руку карандаш — и рассказывать про свою жизнь вроде особенно нечего…»
В то время как Лаура читала, солнце поднялось выше и все позолотило.
«Когда я не на работе, только о вас и думаю, о Тебе, Лаура, и о детях. Ты пишешь про Мариса, а мне даже не верится, что мой сын такой большой вырос. Я ведь помню его только в пеленках. Вспоминаю, как ездил за вами в больницу и в снегу забуксовал «виллис». Пока мы с Глауданом расчищали дорогу, малыш кричал. Таким тоненьким голоском, скорее мяукал, чем плакал. Ты никак не могла его успокоить. Глаудан еще сказал: «Настойчивый, сразу видно — мужчина!» Тебе, наверно, смешно, милая, что я болтаю глупости. Сам не знаю, почему, лезут и лезут в голову разные мелочи, давно, как я думал, забытые…»
На жасминовый куст прямо перед окном села синица и, вертя головкой, озиралась, не опасаясь белой фигуры за окном. Потом снялась, и ветка долго еще качалась.
«Вчера, когда мы вкалывали, мне вдруг послышалось — комбайн вроде. Далеко-далеко где-то. И сразу вспомнился наш друг Ецис. Где мы, бывало, ни косим хлеба, он тут как тут. Жив ли он еще, Ецис? Ведь прошло больше пяти лет. Вот видишь, опять я о пустяках.
Напиши, моя Лаура, длинное-длинное письмо. О себе и о детях. Мне дорога каждая Твоя строчка.
— Целую Тебя, а также Зайгу и Мариса.
Рич».
Она сложила листок и прижалась лбом к прохладному стеклу. Лучи утреннего солнца озаряли и ее. Волосы, плечи…
Только когда за стеной скрипнула Альвинина кровать и послышалось старческое кряхтенье, Лаура, вздрогнув, выпрямилась и почувствовала, что замерзла. Одевшись, она прошла на кухню. С подстилки встал песик, смешно потянулся, как ребенок, и засеменил к ней.
— Ну, Тобик? — шепотом сказала Лаура и, нагнувшись, взъерошила мягкую шерсть щенка.
Когда она села на скамеечку растапливать плиту, Тобик пристроился рядом, положил морду ей на колено, глядя в лицо круглыми карими глазами.
— Ну, чего тебе, милый? — тихо повторила Лаура, чувствуя, как тесно прижался щепок теплым боком к ее голой ноге.
Тобик мешал ей, но пренебречь лаской собаки она не могла.
В Альвининой комнате раздалось шлепанье босых ног, потом шарканье тапок. Лаура взяла смолистые лучины, уложила в плиту и, сунув под низ письмо, чиркнула спичкой. По исписанному листу пополз синий огонек, лизнул щепки, и оранжевое пламя охватило поленья. Она смотрела, как сгорают Ричевы слова, превращаясь в черный пепел. Щенок не мигая глядел на пламя. Они сидели рядом, человек и собака, как и тысячелетия назад сидели, глядя на огонь и греясь у огня, далекий предок Лауры с далеким предком пса…
Зевая во весь рот, вошла Альвина.
— Кто это, думаю, там шебаршится? А это ты, ранняя пташка. Батюшки, уже и плиту растопила! — обрадовалась она.
Лаура притворила дверцу и поднялась.
— Дел много, — сказала она, — и в школу ехать надо.
— Носишься как угорелая! — проговорила Альвина, черпая ковшом со дна подойника. — Медаль все равно не повесят, не бойся… Сходи принеси водицы. А теплая пусть стоит умываться. На кофий хочется свежей.
Лаура отперла задвижку и вышла во двор, звеня ведрами. Утро было ясное, очень прохладное и звонкое-звонкое. Она обратила внимание на странный протяжный скрип. Поставив ведра, прислушалась и с удивлением поняла, что скрипит, видно, колодезный журавль в Вязах. Казалось, до него рукой подать… Она никогда этого не замечала.
Лаура спохватилась, что все еще стоит и слушает тот далекий и близкий звук, стала быстро крутить рукоятку, и пронзительный визг ворота заглушил все.
А когда она выехала на озеро, то услыхала стук молотка. Из-за полуострова постепенно выплыли Вязы, прошел через двор и скрылся из виду Эйдис, а возле дома скликала кур Мария.
— Цып, цып, цып! — явственно доносилось по ветру.
Но все перекрывал, точно раскалывая звуки, стук молотка, и Лаура увидала на крыше Рудольфа. Приколотив дранку, он распрямился, повернул голову и — она чутьем угадала — заметил ее. Он стоял у конька крыши, и ветер парусом надувал его рубашку. Но расстояние росло, фигура на крыше стала маленькой и казалась неподвижной.
2
По озеру бежали нервные волны, и лодка качалась среди солнечных бликов. Рудольфу хотелось помахать Лауре со своей высоты, но он не был уверен, что она его видит и тем более, что ответит. К тому же, наверно, он имел жалкий вид с этой брезентовой сумкой не сумкой, торбой не торбой, которую Эйдис, как пастуху или нищему, повесил ему на шею, — так с инструментом способнее лезть на крышу. Даль, казалось, была педантично выписана тонкой кистью: силикатно-белое Заречное под серым шифером, старинная под модерн (или модерн под старину) башня сушильни, рассыпанные хутора и широкой дугой леса, леса, леса, в долине — серьезные темные ельники, на взгорьях — веселые длинноногие сосны. Дым из труб реял флагами.
— Ноги замлели? — крикнул снизу Эйдис.
— С чего бы? — отозвался Рудольф.
И, хотя он ответил отрицательно, Эйдис продолжал:
— С непривычки, брат, не так оно легко, я знаю. Возьми пример — скакать верхом. Со стороны глядеть — подумаешь! Ты ведь сидишь на коне, а не он на тебе. А попробуй-ка без привычки, запоешь лазаря.
Внизу, наверно, совсем потеплело — Эйдис ходил в одной рубашке, а тут, наверху, Рудольфа обдувал ветер: во дворе, между стенами и заборами, ему было не разогнаться, зато над крышами да деревьями, на просторах озера ему была вольная воля.
— Эйдис!
— Чего?
— Гвозди кончились.
— Новых больше нету. Пойду возьму старые. Постукаю молотком, и порядок.
Он скрылся на гумне, вернулся с жестяной банкой из-под конфет, где лежали крючки, винты, пробойники, и, сев у камня, стал выпрямлять гвозди. Порой оттуда доносилось и сердитое сопенье: наверно, гвоздь сломался или угодил по пальцу молоток. А Рудольф, аккуратно приладив, прибивал дранку. Над ним носились ласточки. Новых дранок было не так много, дюжины три, не больше, да и те насилу отыскали. Где только они с Эйдисом не рылись, поднимая тучи пыли. На чердаке, в сарае, на гумне. Разворотили чурбаки для поделок, перекатили бочки, опрокинули лохань… А нашлась дранка в клети, в ларе. Как и во многих крестьянских дворах, все углы в Вязах были забиты старьем — там оно никому не мешало, но развороченное, при свете дня, оно имело жалкий вид. Кособокая кровать, хромые стулья, беззубые грабли, оббитая прялка, сундуки с пыльными, разного калибра бутылками и мышиным пометом. Никто тут и в мыслях не держал ни прясть, ни вино делать, просто у латышей такая натура — рука не подымается выбросить годную еще посуду или инструмент…
— Кш-ш-ш, окаянные! Шугани их, брат, сверху, опять в смородину залезли, ироды!
Дранка упала в самую гущу куриной компании, раздалось кудахтанье, хлопанье крыльев, только петух отступил с достоинством, как истинный полководец отступает с поля боя. Заслышав птичий гвалт, вышла Мария.
— Что вы делаете, баламуты! Я думала, не ястреб ли!
— Их не гоняй, так они волос с головы ощипят, — ругался Эйдис, — да еще глаза выклюют.
— Прямо уж ощипят, такие смирные птички!
— Смирные!.. Сходи на ферму, погляди: им хоть цельного быка свали в загон, недели не пройдет — одни косточки на солнце будут жариться. Чистые звери! Я бы их не держал, не-ет…
— А яйца сам нести будешь?
— Под замок их, сталбыть, упрятать, чтоб сад не разоряли.
— Упрячь, отец, упрячь, а я посмотрю, как ты на них ячменя напасешься!
— Ну, Мария, как со стороны смотрится? — крикнул с крыши Рудольф, вовремя вмешавшись в дискуссию насчет плюсов и минусов птицеводства.
— Куда уж лучше, — похвалила она.
— Недельку-другую так попотеет, смотришь — его и в колхоз возьмут кровельщиком, — согласился Эйдис.
— Дефицитная профессия. Кровельщики зарабатывают больше врачей. Вот втюрюсь в какую-нибудь девицу-колхозницу и… переквалифицируюсь.
— Ага, так и втюрился! Ты уж, брат, тертый калач, — сказал Эйдис, не преминув пофилософствовать. — Жениться — все одно что в холодную воду прыгать — надо не раздумывая. А то начнешь мяться, примериваться да прицеливаться — ни за какие коврижки потом не прыгнешь.
— Разве что сзади кто подтолкнет, — со смехом добавил Рудольф.
— Есть не захотел? — спросила Мария.
— Что? Опять есть? Вы меня пичкаете прямо как на убой. Сколько ж сейчас времени?
— Двенадцать, должно быть, а может час. Поставила варить суп. Только не взыщи — недосолен. Все последки выскребла. Как идешь в лавку, мыла да соли обязательно купить забудешь. Еще — спички, ну про спички отец всегда сам вспомнит. Хоть какой-то прок от его дымища да вонищи…
— Если надо, могу после обеда прокатиться в магазин, — предложил Рудольф.
— Что ты! Что ты, беспутный! Гонять машину по белу свету из-за такого-то… из-за пачки соли. К вечеру схожу в Пличи, займу щепоть у Лизаветы, а когда в лавку пойду, заодно и куплю.
Эйдис и тут не обошелся без рассуждений.
— Ох эти бабы! Будешь ей дело говорить — упрется, хоть кол на голове теши. Ну и махнешь рукой — раз нет, не надо, так она за тобой мелким бесом вприсыпку!
— Да уймешься ты, нечистый дух! — заругалась Мария, видно что-то вспомнив, но Эйдис только посмеялся.
— Ну, как ты, Руди, — поедим или сперва закончим?
— Я за то, чтобы кончить. Тут работы на час, не больше.
За час они действительно справились, вернее кончилась дранка. Крыша хлева светилась как решето, ее нужно было еще чинить и чинить. Собрав инструмент и оттащив длинную лестницу, они направились к колодцу умываться. Мария вынесла таз, полотенце и мыло.
— Сладковат получился… — посетовала она.
— Кто?
— Суп, кто же еще.
— У тебя, мать, только суп на уме…
— А как же? — заволновалась Мария. — Если сготовишь невкусно, кого ругают, как не хозяйку? Можно солеными грибами закусывать…
— Грибы утром, грибы вечером, а потом обзываешь меня старым сморчком! — пошутил Эйдис. Но и эти слова Мария приняла всерьез.
— Когда я тебя сморчком обзывала, шут гороховый? И кто тебя силком заставляет грибы есть? Мясом закусывай, не дают тебе, что ли?
— Ну ладно, мать, ладно, — примирительно сказал Эйдис.
Рудольф достал воды из колодца, налил в таз.
— Ну, Эйдис, давай!
Страшно фыркая, Эйдис умылся и, отвернувшись, трубно высморкался в траву.
— Фу! Чертова пыль, весь нос забился… Хе-хе-хе, расскажу тебе, брат, как мы однажды, мальцами еще, молотьбу устроили. Нонешняя пыль против того ерунда!
— Дай ты человеку умыться! — сказала Мария, протягивая Рудольфу мыльницу.
— А я мешаю? Не ушами же он моется, — кротко возразил Эйдис, утерев нос тыльной стороной ладони. — Я тогда уж был здоровый пострел, лет одиннадцать было, двенадцать, Ерману годов десять, Паулу шесть или семь. Осенью вечера темные, длинные, карасин, само собой, беречь надо, мать в хлеву скотину, убирает. Побаловаться охота страсть! А куда денешься? Ерман как-то и говорит: «Ребя, давайте играть в молотьбу!» Давайте. Один трясет солому из тюфяка, другой сыпет на прялку, третий жмет на педаль. То-то веселья! Хотели уж браться за другой тюфяк, как слышим — мать идет. Что делать? Раз-раз и сгребли солому под кровать. Да вот беда, пыли-ища — света белого не видно! Входит мать. «Свят-свят, что же это тут делается? Молотьба идет, что ли?» Мы глаза в потолок — ангелы безвинные. Но мать не проведёшь. Как увидала…
— …что и в самом деле молотили… — вытираясь, продолжил Рудольф.
— Ну да!.. Да как взялась нас самих молотить: зажмет голову промеж колен, штаны спустит и ну стегать отцовым ремнем. Всех по порядку. «И ты туда же, дылда!» Это на меня. Братья, те орут благим матом, а я терплю — ни звука. Зубы стиснул, а в голове, брат, одна дума жужжит как оса: «Ну погоди, ну погоди!» Мать порет, порет, но сколько ни секи, конец все равно будет. У меня от обиды сердце разрывается. Назавтра, как светать стало, беру вожжи и в лес. Вешаться…
— Ну-ну?
— Братья-иуды продали. Мать пошла искать, прямо позеленела от злости. «Ах так, ах вот как! Ну, гнида, ты у меня неделю на задницу не сядешь!» И выдрала еще раз. Этими вожжами. Неделю не неделю, а дня три стоя за столом ел, как конь…
— А прялка — та самая?
— Какая?
— Которую мы в клети видели.
— Нет, это моя прялка, из моего приданого, — умиленно сказала Мария и добавила: — Пусть ее стоит, покуда я жива.
— Ну, пошли, Руди, обедать! — поторопил Эйдис.
Чтобы из Вязов попасть в Заречное «по суше», надо пройти берегом озера километра четыре — четыре с половиной, так что на машине можно обернуться за полчаса (если очередь умеренная), в худшем случае за сорок пять минут (если привезли свежий хлеб). И все-таки под конец Рудольф передумал. Ну хорошо, скажем, через час он вернется — а потом что? Конечно, вечерком можно спуститься к воде с удочками, он так и не был на озере после грозы. Однако без лодки это занятие не сулило особого удовольствия. Берега Уж-озера пологие, до глубокого места идти и идти, это хорошо для ребятни, но плохо для рыболова. Вдоль берега ходят одни гольяны и мелкие светлые окуньки. Рассчитывать на что-то приличное можно только на глубине, а это значит — надо забрести подальше и часами стоять в воде по известное место, пока не сведет ноги судорогой. Для такого предприятия нужен немалый энтузиазм, которого — во всяком случае, сейчас — Рудольф в себе не чувствовал, и потому собрался в Заречное пешком.
Перекинув через плечо туристскую сумку, он медленно шагал по дороге. Возле редких хуторов, мимо которых он проходил, его облаивали собаки: одна, из породы формалистов, лениво потявкает со двора и угомонится, другая, из служак, гонится за чужим, надсаживая горло, чуть не до поселка, а то и дальше.
Но были и совсем тихие участки пути, когда к скрипу гравия и песка под его сандалиями примешивался только шелест листвы. Неторопливо пересек дорогу и скрылся заяц. Птичьего пения не было слышно, только раза два пропитым голосом крикнула сойка, предупреждая лесных зверюшек о появлении человека.
Впереди, в просвете между деревьями, зарокотали моторы, и, выйдя на опушку, Рудольф увидел, как в волны хлебов, совсем золотых на солнце, вошли, колыхаясь, два комбайна — громадные и неповоротливые, как динозавры, на небольшом ячменном поле. Над нивой парил аист, с каждым кругом все ниже, и наконец опустился на сжатую полосу между ворохами соломы. Птица важно, без малейшей опаски, шагала между двумя рычащими машинами, иногда подцепляя в жнивье лягушку или бежавшую с поля мышь. Комбайнеры не обращали на аиста никакого внимания, и птица им отвечала тем же — каждый занимался своим делом. Зрелище это было столь необыкновенное, что Рудольф остановился и, улыбаясь, наблюдал за аистом до тех пор, пока один из комбайнеров не крикнул ему что-то. За ревом машин Рудольф не разобрал слов, но ехидный смех парня внес ясность. Рудольф пошел дальше, поле осталось позади, только шум комбайнов слышался долго, порывы ветра то усиливали, то приглушали рокот, перекрывавший даже гул реактивного самолета: казалось, будто огромная кисть в полной тишине медленно проводит по синему небу белую полосу. Перейдя по новому, еще гулкому мостику ручей, впадающий в Уж-озеро, Рудольф вошел в Заречное и теперь уже стал объектом общего внимания. Женщины постарше — а такие, казалось, есть в каждом доме — смотрели ему вслед: одна поднимет голову от грядки, другая, идя по двору, убавит шаг, третья прервет разговор с соседкой. Над каждой второй крышей в Заречном торчала телевизионная антенна, на веревках висело нейлоновое белье, а дух провинции неистребимо жил в любопытных взглядах, которыми тут провожали, ощупывали каждого пришельца. Рудольфа позабавила мысль, что потом, возможно, последуют комментарии: его могут принять за очередного ревизора потребсоюза, за фотографа из Цесиса, мелиоратора или просто решат, что он подозрительный тип и на всякий случай снимут на ночь с веревки рубашку, запрут сараюшку, погреб…
Он не ускорил шага, шел размеренно, неторопливо, глядя по сторонам. Когда раньше он изредка на «Победе» проскакивал Заречное, спугнув разве что петуха или кошку и не находя тут ничего достопримечательного (если не считать, может быть, магазина, где иногда бывал дефицитный импорт), он не замечал школы, стоявшей поодаль от дороги. Разобрать надпись на двери на таком расстоянии было нельзя, тем не менее Рудольф сразу догадался, что это школа. Сейчас, во время каникул, здание скромно пряталось в больших величавых деревьях, недели через две оно огласится гомоном, смехом и визгом. На траве лежали залитые известью леса, некоторые окна еще были заплаканы белыми слезами. За углом мелькнул заляпанный краской человек в газетном колпаке, больше не видно было ни души, и в здании никакого движения. Школа точно дремала.
На сельсовете — красном кирпичном доме, какие строили вскоре после первой мировой войны, — развевался флаг. В скверике напротив стоял небольшой серый обелиск. Неспешный ритм жизни Заречного настраивал и Рудольфа на неторопливый лад, он свернул по дорожке, посыпанной крупной бело-серой галькой, подошел к обелиску, возле которого лежали разномастные, уже привядшие полевые цветы — люпин, льнянка и васильки, а в пол-литровой банке стоял в воде куцый гладиолус. В камне были высечены слова: «Они пали от руки бандитов» — и столбик имен и фамилий.
Мимо прогромыхал грузовик, где-то вдали, в кузнице или в механической мастерской, гремело железо — сонную тишину Заречного нарушил тяжелый хриплый звон. Из ближнего сада донесся детский голос: «Кис-кис-кис!» По деревьям прошелся ветер, зашумел листвой, и флаг на сельсовете натянулся струной, задрожал. Постояв у обелиска, Рудольф медленно вернулся на дорогу, галька трещала под ногами, как кусковой сахар, а асфальт звенел как лед.
У магазина, расположившись на травке, трое мужчин пили пиво. В тесном помещении пахло туалетным мылом, леденцами и хлебом, у прилавка стояла солидная очередь, значит, Рудольф явился не вовремя. Впрочем, спешить ему было некуда, можно прихватить для Марии пару буханок свежего хлеба. Сельские жители делают покупки долго, обстоятельно, иной живет за несколько километров от магазина. Очередь двигалась медленно. Немного погодя явился один из любителей пива — в руках пустые бутылки с остатками пены и обсосанными горлышками.
— Возьми тару, дорогуша! — крикнул он, подавая бутылки через головы.
Женщины заворчали, загомонили все разом:
— Куда лезешь, как лошадь!
— Не принимай у него, Бенита, пусть, как все люди, постоит в очереди!
— Ну погоди, Антон, приедет Велта, я молчать не стану. Дети небось дома сидят не евши, пока ты со своими дружками, как боров, на траве валяешься.
— Хоть бы побрился, что ли! Зарос до бровей, как босяк!
Тот, которого называли Антоном, сначала пытался подъехать по-хорошему, а потом разозлился:
— Вот бабы, чертовы бабы! Тьфу!
Он собрался было уходить, но, заметив в очереди единственного представителя сильного пола, подошел к Рудольфу и, дыша ему в лицо кислым пивным духом, в расчете на мужскую солидарность попросил:
— Не будь гадом, сдай! Куда мне с ними деваться?
Хотя и без энтузиазма, Рудольф все-таки бутылки взял и, чтобы избавиться от этого субъекта, тут же отсчитал ему сорок восемь копеек.
Выйдя из магазина, Рудольф увидел, что выпивохи уже разошлись, в траве валялись блестящие крышечки и окурки. Из-под навеса вынырнул Антон.
— У тебя не найдется закурить?
— Чего нету, того нету.
— Хотел купить, да это бабье мне голову задурило. Эх, башка трещит-раскалывается, — пожаловался Антон.
— Заложил вчера, наверное? — догадался Рудольф.
— Малость… Ты из Цесиса?
— Из Риги.
— А-а! — отозвался Антон и без видимой связи продолжал: — Моя Велта опять в Елгаву укатила. Поступать в академию… — Он помолчал. — А они меня пилят — зачем пустил: выучится, мол, и бросит…
— Кто они?
— Ну, они… — Он неопределенно махнул рукой через плечо, хотя сзади никого не было. — Жена будет агрономом, а…
— А сам кто?
— Да как сказать… Был шофером, а теперь ишачу в мастерской, — нехотя признался он.
— Почему — был?
— Да так… Права отобрали, черти.
— Может, пьешь лишнее?
— А кто не пьет? Ты, что ли, не пьешь?
Рудольф засмеялся.
— Под присягой утверждать не стану,
— Вот видишь, — сказал Антон и поддернул штаны. Судя по его щуплой, даже хрупкой фигуре, он был совсем молод, к тому же хорош собой, только очень опустился — замызганный комбинезон, не брит с неделю, а может, и больше. — Ты не удивляйся, что я зарос, — заметив взгляд Рудольфа, сказал он. — Хочу свою Велту удивить. Ей бородатые нравятся. Да не растет, проклятая, и рыжая, черт бы ее побрал! Тебе не кажется, что рыжая?
— Нет.
— Это хорошо, — обрадовался Антон, но тут же помрачнел, вспомнив, что пора возвращаться на работу. — Надо двигать помаленьку…
— Ну, так ни пуха ни пера! — пожелал на прощанье Рудольф.
Антон, видимо, не лишен был чувства юмора, он со смехом не то огладил, не то почесал взъерошенную щетину.
— Спасибо!
На том они распростились, и Рудольф опять остался один. Он снова прошел мимо сквера, потом мимо школы… Впереди него шла женщина. Он окинул взглядом стройную фигуру, после недолгих сомнений узнал и прибавил шагу. Женщина шла размеренным, неторопливым шагом, никуда не сворачивая и, казалось, ни на чем не задерживаясь взглядом, каблуки то стучали по асфальту, то мягко вязли в песке, рыжеватые волосы, блестя на солнце, колыхались от ее движений. Когда ветер раздувал волосы, она всякий раз их приглаживала жестом бессознательным и очень женственным, и Рудольфу вдруг подумалось: какие у нее волосы? Мягкие или жесткие? Наверное, мягкие — полощутся на ветру, скользят под ладонью послушно, как шелк… Ему захотелось сию же минуту увидеть ее лицо.
— Здравствуйте!
Она не ответила, даже не обернулась. Рудольф только заметил, как она вся напряглась, будто прислушиваясь, будто не веря, что обращаются к ней, хотя поблизости никого больше не было.
— Здравствуйте, Лаура!
Тогда она оглянулась стремительно, лицо залила краска — смущения, а может быть, и радости. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать.
— Позвольте, я понесу вашу сумку, — предложил Рудольф.
— Она почти пустая.
— Опять ездили мыть школу?
Она кивнула.
— А вы? Приехали, наверно, в магазин?
— Отчасти угадали. Своим ходом.
— Как? — переспросила она.
— Своим ходом.
— Ах, вот что! Далековато.
— Ничего. Зато с приключениями. Видел необыкновенного аиста — он ходит за комбайном, как скворец за пахарем.
— Это Ецис, — сказала Лаура. — Комбайнеры дали ему такое имя. Значит, Ецис еще жив, — добавила она задумчиво, почему-то с грустью, и замолчала.
Рудольф чувствовал, что Лаура отдалилась от него, ушла куда-то в свой мир, ему недоступный. И подсознательно стремясь этому помешать, он стал рассказывать о странном человеке, который в угоду жене растит бороду. Лаура слушала с легкой улыбкой, но сама, как ему казалось, думала о чем-то своем и, только когда он кончил, коротко заметила;
— Это Глаудан, шофер.
— Бывший.
Это уточнение она оставила без внимания.
— Вы, наверное, всех тут знаете.
— Не сказать, чтобы всех.
Рудольф подумал, что ее ответы, как и прежде, не располагают к расспросам. Они вежливы, даже любезны, но всегда словно предупреждают — не надо переходить черту.
Между тем за плетнем отворилось окно — Заречное есть Заречное. Бросив взгляд на окно, Лаура пошла вперед, Рудольф с обеими сумками шагал рядом. Они не разговаривали, только их обувь согласно стучала по асфальту.
— Если хотите, могу перевезти вас, — наконец проговорила Лаура, наверно догадавшись, что это по ее вине прервался разговор, и наступило неловкое молчание.
— Поеду с удовольствием.
Ветер на берегу дул сильный, взбаламутил озеро, и волны боком прижали лодку к берегу. Пока Рудольф сталкивал плоскодонку в воду, Лаура пошла за спрятанными в кусте веслами и, шагнув через борт, ловко вложила их в уключины.
— Садитесь, пожалуйста, доктор!
— Меня зовут Рудольф.
Она как будто хотела что-то сказать, но промолчала, Интересно; что она хотела сказать?
— Грести буду я, — заметил Рудольф.
— Но…
— Разве я выгляжу таким хилым?
Она посмотрела на него снизу вверх, в глазах, как у Мариса, мелькнула смешинка, которую она поспешно погасила, спокойно сказала: «Хорошо» — и перешла на корму.
Рудольф оттолкнулся. Ветер развевал им волосы, трепал одежду, и вместе с тем, только выйдя из-под защиты берега, они по-настоящему поняли, какой он яростный. Разлетаясь брызгами, в борт лодки ударяли волны, и, чтобы не дать им развернуть лодку поперек, приходилось грести больше одним, левым веслом, и сразу от натуги завизжала уключина.
— Интересно, сколько сейчас баллов? — гадал Рудольф.
— Что? — не расслышав, переспросила она.
— Наверное, семь-восемь…
Что ответила Лаура, теперь не расслышал он. Разговаривать было трудно. Озеро зыбилось, гудело, колыхалось, волны накатывались и отступали, набегали и с шумом откатывались, рассыпаясь пеной. От такой качки вверх-вниз, вверх-вниз у непривычного человека могла закружиться голова, но Рудольфу качка была не внове, и Лауре, как видно, тоже.
Между лодкой и берегом медленно ширилась сизая полоса взбаламученной воды, Заречное постепенно отдалялось, вздымаясь и опускаясь в ритме волн, как плавучий остров. А небо наперекор бушующему озеру казалось застывшим, бесстрастным и очень высоким.
От качки повалилась сумка. Лаура нагнулась поднять, и ее длинные распущенные волосы порывом ветра бросило в лицо Рудольфу.
— Ой, простите! — воскликнула она.
— Ничего, — сказал Рудольф с улыбкой.
Нагнуться еще раз Лаура не решалась. Обеими руками придерживая волосы, она смотрела на Рудольфа почти с испугом, и в ползавшей по настилу сумке время от времени что-то брякало — связка ключей или рассыпавшиеся монеты.
— Ничего, — зачем-то рассеянно повторил он, думая о том, что он все-таки угадал: волосы у нее были удивительные, мягкие, как шелк и здесь, на воде, пахли свежестью, как сохшие на воздухе льняные простыни.
Краска смущения постепенно сошла с лица Лауры, оно смягчилось, стало, по обыкновению, спокойным, только опять почему-то грустным.
«О чем она думает?»
Он даже примерно не мог себе этого представить. Ведь он по существу ничего не знал о ее жизни. Она была точно дом с закрытыми ставнями, доступный взгляду только снаружи, — лишь изредка внутри мелькнет и вновь погаснет луч невольной улыбки.
И вдруг перед ветром захлопнулись ворота — лодка зашла за полуостров. После бушующей стихии заводь казалась поразительно, невероятно спокойной. Порывами ветра гнуло, трепало на полуострове кусты, но по воде катились лишь редкие вялые волны, они чуть слышно плескались в камыше и, облизывая прибрежный песок, теряли последнюю силу. Сразу же пахнуло ароматом теплой земли, запахло мятой и яблоками.
Рудольф втянул весла, предоставляя лодке качаться на ленивой волне.
— Кажется, живы остались… — сказал он.
Ее глаза смотрели на него как два серых мягких котенка; он горько усмехнулся.
На косогоре пропел петух.
— Устали?
— Ничуть, — бодро ответил он, хотя запястье левой руки ныло и на ладони, видно… Ну, успеет посмотреть потом.
Течением медленно несло лодку — больше качало, чем несло, — к берегу, до которого осталось всего ничего, два десятка энергичных взмахов веслами. Но они не спешили. Рудольф все же немного устал, Лаура, наверное, это видела и не торопила. Но возможно также — им просто не хотелось никуда торопиться.
Лодку прибило к камышу. Тогда Рудольф снова взялся за весла и в несколько длинных гребков пригнал лодку к берегу; плоскодонка чиркнула по песку и стала как вкопанная.
— Если хотите, на несколько дней можете взять лодку. А понадобится, я пришлю к вам Мариса, — сказала Лаура.
Рудольф поблагодарил, сошел первый, подал Лауре руку, и она, почти не опираясь на нее, спрыгнула на берег.
— Спасибо!
Лаура больше не называла его доктором, но звать по имени, видно, стеснялась.
— Ма-ма-а!
По косогору, чуть прихрамывая, сбегал Марис. Ни туфли, ни бинта на ноге не было. Запыхавшись, влетел он в раскинутые руки Лауры.
— Я… я увидал вас.
— Бабушка пустила?
Но Марис, будто не слышал, выскользнул из ее объятий и подошел к Рудольфу.
— Здорово, что ты приехал! — обрадовался мальчик.
— Что сначала надо сказать? — напомнила Лаура.
— …здравствуй… — немного помедлив, поправился Марис. — Где ты был, Рудольф, в Заречном?
— Так точно. А где твоя повязка?
— Ну, мокрая…
— Бродил по воде, наверно?
— А ты… ты хочешь грибной соус?
— Что-что?
— Грибной соус.
— А ты, оказывается, к тому же большой дипломат! — посмеялся Рудольф.
— Кто это такой? — спросил мальчик, глядя на Рудольфа снизу, и тоже засмеялся.
— Дипломат… Как тебе сказать? Дипломат — это хитрая лиса.
— А! Ты хочешь соус? — повторил Марис и взял его за руку.
— Если я съем соус, может не хватить кому-нибудь из вас.
— Да ну! Большая сковорода полная — через край пошло. Как зашипел на плите! Вот дыму, ты бы видел! — чуть не с восторгом прибавил мальчик. — Бабушка сказала, чтобы ты приходил.
— Бабушка просила, — снова поправила Лаура, но это замечание Марис пропустил мимо ушей. Тогда она обратилась к Рудольфу: — В самом деле, пойдемте к нам ужинать!
Есть ему не хотелось, но и уезжать отсюда, правду говоря, тоже не хотелось.
— А можно все так оставить? — только спросил он, окидывая взглядом непривязанную лодку и. весла, еще не вынутые из уключин.
— Да кто тут возьмет, — ответила Лаура.
Действительно, кому да и зачем она нужна, обшарпанная плоскодонка, это старое, когда-то, очевидно, синее, а сейчас перепелесое корыто? Наверняка не Лаура придумала эти вечные запирания-отпирания.
Когда они взбирались на гору, Марис держал Рудольфа за руку, и тот все время чувствовал детские пальцы в своей ладони.
— У вас тоже есть сын? — вдруг спросила Лаура. Он не задал вопроса, откуда она знает.
— Да.
— Большой?
— Тринадцать… Нет, Арманду уже почти четырнадцать лет.
— Арманд… Красивое имя, — тихо проговорила она и не стала больше расспрашивать.
Навстречу вышла Альвина.
— А я гляжу — сидят себе, не то едут, не то нет. Уключина сломалась, что ли? Озеро сегодня лютое, не приведи бог. Говорю: «Сбегай, Вия, погляди, не надо ли чего-нибудь!» Да повернуться не успела, как этот пострел уже вон где. Выскочил в окно и бегом. Не оделся путем, не обулся… Горе мне с ним, такой неслух, — оправдывалась Альвина, что за Марисом не углядела, и припугнула внука: — Вот погоди, добегаешься, заберут тебя в больницу и, как дяде Залиту, отрежут ногу, будешь тогда на костылях прыгать…
Марис скосил глаза на Рудольфа и, не прочитав, как видно, на его лице ничего угрожающего, засмеялся светло, с облегчением.
— Да ну!
— Вот видите, вот видите! — воскликнула Альвина. — Хоть кол ему на голове теши. Какие нынче пошли дети! В прежнее-то время, когда мой…
За этим, вероятно, должно было последовать очередное сравнение с Ричем, но тут в двери показалась Вия.
— Мама, совещание по педагогике не обязательно проводить за порогом, — сказала она не без иронии и добавила: — Заходите, пожалуйста, доктор!
— Кто там пришел? — заслышав голоса, крикнула из комнаты Зайга.
— Я! — заглядывая в приотворенную дверь, ответил Рудольф,
— Вы? — сказала девочка и слегка покраснела.
И, направляясь к Зайге, он опять с удивлением подумал, как поразительно девочка похожа на Лауру: не только те же ясные серые глаза, но и та же способность внезапно краснеть, то же смущение и вопрос: «Вы?».
3
— Зайди с ним, Вия, — подсказала Альвина, — может, чего понадобится.
По привычке, пожалуй, почти машинально взбив пышный затылок, Вия сунула нос в комнату,
— Можно? — Вошла и закрыла за собой дверь. Теперь оттуда слышалось только бормотанье да иногда ее заливистый смех.
— Может, сервиз поставим на стол? — спросила свекровь.
— Что, мама?
Свекровь повторила, но, так и не дождавшись от Лауры ни «да» ни «нет», сама направилась к старомодному буфету и вытащила из его недр хорошую посуду, подаренную Лауре и Ричу на свадьбу, вернее, то, что от нее осталось. Как ее ни берегли, каждый год что-то билось — то чашка, то глубокая тарелка, то соусница. И со временем от сервиза на шесть или двенадцать персон осталось одно название.
— Запылились. Надо сполоснуть или хоть полотенцем протереть, — заметила Альвина, перебирая тарелки и стараясь подобрать всем одинаковые.
— Хорошо, я вымою, — согласилась Лаура.
Повязав фартук, она взялась за посуду. Тарелки звенели в ее руках, ложились в стопку чистые, блестящие, звякая не громче обычного, согласно и приглушенно.
— Давай я перетру, — предложила Альвина.
— Как хотите, мама. Могу и сама.
— Что ты сегодня будто не в духе? — Альвина подняла на невестку пристальный взгляд.
— Да так, мама… Немного болит голова.
— В школе небось сквозняком протянуло либо от девчонки заразилась.
— Да нет!
— Все нет и нет! Пока не свалишься. Доктор-то сказал давеча — заразная. — Она прислушалась к неясному говору за стеной. — Такой порядочный человек! Приглянулась бы ему наша Вия. Что Эгил — мальчишка, носится с сопляками вокруг школы. А тут доктор, и еще…
— Тише, мама!
— Что он — в замочную скважину слушает, что ли? — возразила Альвина, но голос понизила. — …и еще не старый. Сорок навряд будет. С виду еще хоть куда. Марис, что ты опять по кладовке лазаешь! Сбегай лучше, нарви укропа, быстрей за стол сядем. Только не дергай с корнем, — крикнула она вдогонку, — обрывай веточки!
Лаура вытерла тряпкой клеенку, постелила скатерть, расставила тарелки. С пучком укропа вернулся Марис, Вот и посылай его, одних верхушек нарвал, прямо с цветами…
— Зови, Лаура, к столу, — сказала Альвина.
— Сходите лучше вы, мама, — попросила Лаура.
Альвина восприняла это по-своему — что там ни говори, а все же она здесь хозяйка! — развязала фартук, отряхнула юбку, не то разглаживая на коленях, не то смахивая невидимые пылинки, и скрылась в комнате. Лаура стояла с посудным полотенцем на руке, глядя в окно и ничего не видя.
Наверно, она была слишком, до неприличия резка с Рудольфом, все время напряженно ожидая, что он спросит что-то такое… Но что именно? Что может интересовать Рудольфа в ее скромной, обыкновенной жизни? Где она училась? Замужество, в котором было больше горьких минут, чем счастливых? Дети? Вряд ли он решился бы расспрашивать и о далеком прошлом, тень которого тяготела над Ричем, Вией, в какой-то мере над ней и ее детьми, о том, чего лучше не трогать: прошлое не воскреснет, его нельзя ни изменить, ни исправить, и потому не надо его ворошить…
Они вошли втроем, смеясь и шумно разговаривая. Марис тотчас устроился рядом с Рудольфом. Лаура больше подавала, чем ела, садилась и снова вставала, ходила от плиты к столу и обратно.
— Зачем у тебя тут две пуговки? — с полным ртом спросил Марис, ткнув пальцем в ручные часы Рудольфа.
— Одна, как ты говоришь, пуговка — заводить часы, другая — заводить звонок, — объяснил Рудольф.
— Ну да! Разве они звонят? У нас часы большие, круглые, как банка, те звонят.
— Звонит не только «банка». Сейчас тебе покажу. Давай сюда свою лапу!
Рудольф снял с руки «Сигнал», перевел стрелку, подкрутил пружину звонка и застегнул мальчику ремешок выше запястья. На живом лицо ребенка читалось радостное ожидание, он смотрел на часы как на бабочку или птицу, которая того и гляди вспорхнет.
— Что же… ну, что же они? — нетерпеливо спрашивал он.
— Подожди немножко.
Наконец раздался звонок.
И хотя Марис ждал этого звука затаив дыхание, звон испугал его своей неожиданностью. Мальчик подскочил и с изумлением уставился на свою руку, потом бросил на Рудольфа лукавый взгляд и громко засмеялся.
— Звонят! Послушай, звонят!
Лаура сидела напротив, наблюдая за ними. Без какой бы то ни было связи она вспомнила, как Марис грыз баранки, равнодушно слушая письмо отца, и ей вдруг стало жаль Рича и почему-то стыдно. Стыдно чего? А те двое, пока часы звенели, весело смотрели друг на друга, не подозревая о мыслях Лауры, и она ничего не сказала, боясь быть несправедливой, только молча переводила взгляд с Рудольфа на Мариса и снова на Рудольфа.
— Теперь отдай, Марис, доктору, — когда кончился завод, распорядилась Альвина.
И мальчик, долго и неловко теребя ремешок, наконец отстегнул пряжку и с явным сожалением протянул «Сигнал» Рудольфу.
— На…
— Что у вас там такое? — снова раздался из комнаты Зайгин голос. — Я тоже хочу посмотреть.
— Извините!
Рудольф поднялся и снова исчез за дверью. Немного погодя и там заверещал звоночек «Сигнала», и Марис заерзал на стуле, намереваясь сползти на пол.
— У тебя в штанах блохи, что ли? — шутливо заругалась на него Вия.
— Ну да! — пристыженный, буркнул мальчик и угомонился, хотя все время настороженно прислушивался к звукам, доносившимся из комнаты.
Когда Рудольф вернулся, Лаура положила на тарелку немного грибов для Зайги, налила в стакан кислого молока, принесла дочери и поставила на тумбочку.
— Закуси, дружок!
Потом подошла к окну и стала смотреть в сад.
— Он хороший… — задумчиво сказала вполголоса Зайга.
Лаура не спросила — кто, не ответила, даже не обернулась. Сзади иногда звякала о тарелку вилка. Лаура стояла долго и, чувствуя смутный страх, на кухню больше не вернулась. И за ней никто не пришел. Она видела, как уходил Рудольф, его провожала Вия, и, держась за руку, рядом семенил Марис. Рудольф оглянулся на Томарини раз, потом еще раз. Когда он повернул голову в третий раз — уже с берега озера, — Лаура догадалась, что он ищет ее, и от этой мысли ее пронзила внезапная радость.
4
Да, она не ошиблась — Рудольф искал глазами именно ее. Но Лаура больше не показалась. И, шагая к озеру между Вией и Марисом, Рудольф подумал, что, пока они еще сидели за столом, нетрудно было найти повод спросить о ней, но теперь, конечно, уже поздно.
— Куда ты поедешь на лодке, Рудольф? — спросил Марис.
— Сначала домой. Потом накопаю червей и поставлю на ночь донки.
— Что такое донки?
— Удочки такие, крючок с червем у них лежит на дне, на дне озера. А чтобы не прозевать в темноте, когда рыба клюнет, к леске привязывают колокольчик.
— Да ну! — искренне удивился мальчик. — А большой?
— Нет, малюсенький. Когда рыба дернет леску, звякнет колокольчик.
Мальчик слушал с открытым ртом.
— А если рыба не клюет? — полюбопытствовала Вия.
Ветер то и дело раздувал ее пышную цветастую юбку, высоко обнажая стройные, хотя и коротковатые ноги; молодая, гладкая кожа блестела, смуглая от летнего солнца.
— Сижу и думаю о жизни.
— Один? — лукаво осведомилась Вия.
— Иногда вдвоем с Эйдисом.
— Воображаю, как это интересно! — пошутила она и, прищурясь, взглянула на Рудольфа. Как врач тот сразу определил у нее близорукость, которую Вия тщательно скрывала. А мужская интуиция подсказывала ему, что, если ей предложить порыбачить вдвоем, она скорее всего не откажется.
Странно, но не тянуло… Ха, он постепенно становится пуританином или просто стареет!
— Я ездила даже за раками, — говорила Вия, — только, конечно, компанией, с кострами, шашлыком и…
— …вином!
— Водкой, доктор! — поправила она. — Но чтобы я сидела одна или хотя бы — ха-ха! — вдвоем с Эйдисом в темнотище и в холоде: брр! Рыбалку я признаю только как коллективное развлечение, а…
— …а ловлю рыбы только как повод, но не цель! — снова продолжил за нее Рудольф, и они засмеялись.
Рудольф шутил, иронизировал. Но бездумно как-то, по привычке. Сознавая, что в действительности ему грустно, — в нем отдавалось эхом уныние Лауры. Непроизвольно, почти инстинктивно он оглянулся еще раз, как человек, почувствовавший, что на него смотрят. Но никого, разумеется, не было.
Небо уже не сияло стеклянной синевой, а замутилось, посерело. Такой сумасшедший ветер обычно к перемене погоды. Возможно, завтра пойдет дождь.
— Когда ты еще приедешь, Рудольф? — приставал Марис.
— Не знаю.
— Приезжай!
Рудольфу пришло в голову, что именно эти слова были сказаны на прощанье и в прошлый раз. Значит, у них уже создавались традиции.
— Приходи лучше ты ко мне в гости. Дорогу знаешь?
— Бабушка не пустит, И думать нечего, — серьезно ответил Марис,
— Почему?
— Боится, что потеряюсь, — сказал мальчик и, помолчав, добавил: — А как я могу потеряться?
— Ясное дело, — согласился Рудольф. — Ты же не иголка.
— Правда ведь? — живо откликнулся мальчик и предложил: — Лезь в лодку, я тебя подтолкну.
— Тебе не столкнуть, — сказал Рудольф, замечая, что у него чуть не вырвалась любимая присказка Мариса: «Да ну!»
Он с силой толкнул плоскодонку в воду, занес на корму одно колено и, пока лодка скользила по инерции, ехал так, без весел. Только потом перелез через борт и сел.
— До свидания!
Двое оставшихся на берегу нестройно ответили ему, и мальчик вовсю замахал рукой. Вия что-то сказала Марису, наверно, звала домой, но он не двинулся с места — все махал и махал. Тогда она потянула его за другую руку, а он, весь перекосившись набок, глядел назад, на лодку и, спотыкаясь, все махал и махал…
Эта картина так ясно напомнила Рудольфу давнюю, почти забытую картину, что у него сжалось сердце. Точно так же, скривившись набок, махал ему рукой Арманд. Поезд, стуча на стрелках, набирал скорость, Рудольф ехал на конференцию в Москву. Или это было не в тот раз? Не все ли равно…
Держа сына за руку, Рута уводила его по перрону, а ладошка Арманда в белой варежке отчаянно моталась над головой, посылая привет уходящему поезду, пока провожающие не скрылись из виду…
Полуостров медленно заслонял собой берег. Скрылись из глаз обе фигуры, поднятая рука. Только набегали и откатывались пенистые волны.
Рудольф вспомнил, что сегодня в разговоре с Лаурой чуть не перепутал, сколько Арманду лет. Само по себе это, конечно, пустяки. Но еще раньше — во время последней встречи особенно — Рудольф понял, насколько чужими друг другу стали они с сыном. Возможно, тот день рождения Арманда был поворотным пунктом? Или он только обнажил то, что созрело давно? Ведь ничего, в сущности, не произошло… Не было сказано ничего бестактного или оскорбительного, если не считать оскорбительным сознание, что ты лишний. Он решил, что ноги его больше там не будет, и держал слово. Тем не менее эта принципиальность не давала ему ни малейшего удовлетворения, напротив — лишь усугубляла грусть, охватившую Рудольфа за праздничным столом, с кренделем посередине и тринадцатью свечами.
С тех пор прошло одиннадцать месяцев, почти год. Рудольф надеялся, что Арманд как-нибудь придет к нему в институт или домой… или хотя бы позвонит. Но так и не дождался. Дважды звонил сам, с тайной надеждой, что к телефону подойдет сын. Однако первый раз ответил мужчина, и Рудольф положил трубку. Второй раз подошла Рута. Рудольф осведомился, как успехи сына, здоров ли. «Все в абсолютном порядке!» — ответили ему. Какой же вопрос мог он задать после этого холодно-вежливого, исчерпывающего ответа? И если он набирал номер с тайным волнением, с чувствами, которых сам стеснялся, боясь показаться сентиментальным, то после этой фразы сердце его ожесточилось, а голос звучал насмешливо, холодно. Не поняла Рута или притворилась, будто не поняла, что этот телефонный звонок был дружески протянутой рукой? Или ей непременно нужна повинная голова, публичное покаяние и публичное же прощение? Положим, ей всегда были по вкусу театральность, ритуалы, церемонии. День рождения Арманда тоже смахивал на заурядную комедию; все они играли как актеры, страдающие коликами. Рудольфа представили мужчине, фамилию которого он тут же забыл, но которого Арманд называл «дядя Харий». Не надо было большого ума, чтобы угадать в «дяде Харии» Рудольфова преемника. Рудольф сыпал шутками. Все смеялись, тайком поглядывая на часы и ожидая конца спектакля. Не совсем уютно чувствуя себя между бывшим и будущим мужем, Рута изображала из себя бесподобную хозяйку и демонстрировала кулинарию высшего класса. Арманд сидел почтительный, вышколенный и по своему почину в разговор не вмешивался. «Нет, папа», «Да, папа». Только глаза весь вечер перебегали с отца на дядю Хария и снова на отца, словно изучая, словно сравнивая обоих. Рудольф пытался прочесть на лице сына его чувства, но это ему не удалось. Разгадать мысли Арманда он не сумел. Вообще он даже не знал толком, о чем и как говорить с сыном. Пора переводных картинок и заводных игрушек миновала. Он спросил про школу, про учителей, надеясь, что Арманд расскажет какой-нибудь случай, может быть, поделится, как мальчишки прозвали классную руководительницу… Но вместо этого сын вышел в смежную комнату, принес дневник с первыми пятерками и, пока отец листал дневник, молча стоял рядом. Рудольф заметил, что у Арманда красивый Рутин почерк, ее тонкий профиль. Он обменялся с сыном несколькими словами, и Рута сторожила их как цербер, боясь Рудольфова «цинизма». Ну, Руту он знал достаточно хорошо, чтобы прочитать ее мысли. Когда он ушел, она, наверное, вздохнула с облегчением и перебралась в тапки. А он долго бродил по улицам — не хотелось возвращаться домой, зашел наконец в «Кавказ», где наскочил на бывшего однокурсника, прохлаждавшегося в ресторане с какими-то дамами, подсел к ним, в два счета напился и заснул как убитый. Открыв тяжелые веки, увидел на спинке стула голубой атласный пояс, с которого свисали капроновые чулки. В затуманенном мозгу мелькнуло удивление — с какой стати тут оказались эти вещи, пока не сообразил, что это не его стул и вообще он находится в чужой квартире и в чужой постели…
Наскочив на волну, нос лодки задрался, на какой-то миг повис в воздухе и ухнул вниз, шлепнувшись на воду. Ветер, казалось, уже не свирепствовал, как недавно, когда они ехали с Лаурой, к вечеру стал слабеть, но озеро, как большой растревоженный зверь, все не могло успокоиться — терлось о берега и тяжело, неровно дышало.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Лишь с наступлением темноты озеро утихло и покрылось черным блестящим лаком. Смолкли медные трубы ревущих стад, аистовы кастаньеты, утиный говор. Дольше всего лаяли собаки, потом все реже, ленивей, пока не угомонились и они, и только под настилом изредка плескалась рыба, пойманная Рудольфом перед заходом солнца. На фоне воды виднелись колокольчики донок, но ни один из них не дрожал, не звенел, как будто обитателей водного царства вдруг охватила дрема. Так могло продолжаться и до рассвета, разве что случайно подвернется угорь.
Освещенные окна, перекинувшие с берега к лодке желтые зыбкие мостки, одно за другим стали гаснуть, пока не осталось лишь единственное, в Томаринях, спокойно глядевшее сквозь темноту вдаль, за озеро. Небо было словно сукном затянуто, без луны и без звезд. И Рудольфа тоже охватил глубокий покой. Он свернул Эйдисов полушубок, положил под голову и улегся на дно лодки. Полушубок пах овчиной, рыбьей чешуей и табаком. Ночь была прохладная, но Рудольф не мерз, спать тоже не хотелось, по крайней мере пока. Вдали зародился и вдали же растаял гул поезда, вспыхнул и бесследно погас, как падучая звезда. И снова надо всем сомкнулась тишина…
Дзинь! Рудольф вскочил, протянул руку и подсек, но с первых же метров почувствовал, что леска идет податливо, без сопротивления. Одно из двух — или попался ерш, или он сам сплоховал. Может быть, рано подсек, надо было обождать, или… Так и есть, ерш! И бьется, как сатана! Пришлось включить карманный фонарик, чтобы снять буяна с крючка. Червь, конечно, пропал. Рудольф нашел банку и насадил нового. Просвистело над головой свинцовое грузило, скрылось в темноте и, взбив на воде круг, с плеском упало в озеро. Рудольф поправил съехавший колокольчик. Так. Поднял глаза — нигде ни огонька… До него не сразу дошло, что же за этот короткий миг переменилось. Ах да, и последнее окно потонуло в темноте. Дымка стерла линию берега, и, утратив связь с землей, призрачно плыли над ней крыши домов и кроны деревьев. Он посидел немного под тяжелым августовским небом, потом снова лег в лодку, наслаждаясь полным покоем. Где-то пролетел самолет, сюда опять донесся только звук, растворившийся скоро в невозмутимой тишине.
Рудольфу вспомнилось, что он так же лежал на полуострове в знойный день, когда собиралась гроза. Это были минуты тихого светлого счастья, слияния с природой и душевной умиротворенности, то настоящее и, может быть, единственное, что неизменно влекло его сюда, — потребность ощутить себя частью природы, как дерево на берегу, как рыба, как яблоко. В эти минуты становилось неважно не только — кто он, но и — какой он. У него не было никаких желаний, он просто лежал, заложив руки за голову — часы тикали у самого уха, — и слушал бег времени без страха и сожаления. Он сам был частью времени, как год или секунда…
Было еще темным-темно, когда Рудольф угадал приближение утра, и вскоре его догадку подтвердили петухи. Крыши построек на горе были похожи на большие и малые суда, ставшие на якорь. В камышах заговорили утки. Он различал не только голоса птиц, но и как они чистили перышки, странно чавкали. Воду сморщили полоски тусклых волн. Когда Рудольф поднял голову и сел, кряканье оборвалось, птицы чутко прислушивались к человеку, но немного погодя опять раздались всплески, пересвист, перепархиванье с места на место. А когда забрезжил рассвет, птицы снялись, пролетели над Рудольфом, тут же растворяясь в дымке, только все тише хлопали крылья.
Громко тенькнул колокольчик и тотчас смолк. Но какой? Леска одной удочки забилась нервной дрожью, колокольчик качнулся, сперва легонько, беззвучно, потом мелодично звякнул. Судя по медлительности и осторожности, червяка трогал лещ. Теперь только спокойствие! Не спугнуть бы… Взявшись за леску, Рудольф ждал. Колокольчик долго качался неслышно, как мышка, потом вдруг подпрыгнул — и Рудольф подсек. Он не ошибся: ха, славный лещик, грамм на четыреста, если не на пятьсот! Наживив, он снова забросил удочку, приготовившись к утренней страде, однако, вопреки ожиданиям, настало полное затишье. Тусклое зеркало серой воды тут и там пятнали мелкие пузыри: один за другим, один за другим, один за другим всплывали они из глубины, выстраиваясь цепочками. На дне озера жировала рыба — лещи или угри, и тем не менее к Рудольфовым удочкам не подходила, колокольчики висели безжизненно, как увядшие цветки вьюнка. Посидев так некоторое время, Рудольф вытащил и проверил наживку: черви были целы.
Утро вставало бледное, хмурое, а на горе жизнь шла обычным порядком — хлопали двери, гремели ведра, слышались голоса, по дороге тарахтела телега. Люди просыпались, вставали. Рудольфа же, наоборот, неодолимо клонило в сон. С полчаса он героически боролся с дремотой, пока наконец не сдался: смотал удочки, сел на весла и вдоль прибрежного камыша направил лодку к дому. Грести при безветрии было легко, лодка скользила сама, абсолютно неслышно, оставляя на гладком озере широкий, все дальше уходящий след.
— Ну иди сюда, пей! — вдруг раздался на берегу приветливый голос.
Ответа на приглашение не последовало, слышались только всплески, хлюпанье воды под тяжестью ног. За камышом Рудольфу было не разглядеть ни кто говорил, ни кому говорили, но голос он узнал и понял — это Лаура привела поить корову.
— Больше не хочешь, Росянка? — немного погодя снова услыхал он.
Опять раздались хлюпанье, плеск, затем, тоже незримая, визгливо залаяла собачонка — должно быть, заметила Рудольфа.
— Кто там? — спросил Лаурин голос. Вопрос, очевидно, был обращен к собаке, но как раз в это время лодка выехала на открытую полосу против мостков, Лаура увидела Рудольфа, а Тобик залаял еще пронзительней.
— Доброе утро! — крикнул Рудольф.
— Тобик, молчать! Доброе утро… — ответила Лаура.
На цепи она действительно держала корову, которая, подняв голову, с тупым удивлением взирала на Рудольфа, и крупные капли с ее морды падали в озеро. Сделав несколько гребков, он подъехал ближе и втянул весла.
— Вы так рано встали, Лаура?
— Уже совсем не рано.
— В вашем окне горел свет допоздна, — наудачу сказал он. — Когда везде давно погас.
— Да? — переспросила она (значит, Рудольф угадал— это ее окно) и, помолчав, добавила: — Я читала… А вы с вечера на озере?
— Как ночной сторож. И теперь… У вас есть кот?
— Конечно, а кто же мышей пугать будет? Недавно золовка привезла молоденького.
— …и теперь могу обеспечить рыбой не только Шашлыка, но и вашего кота.
— Значит, у нас нешуточный улов, — сказала она и засмеялась.
Как и в первый вечер, смех преобразил ее лицо, оно сразу ожило, помолодело; глядя на нее, хотелось улыбаться. На ней были, как и тогда, джинсы и блузка.
— Синеглавки, которых я накопал под клетью в поте лица, не пользовались успехом.
— Что это такое?
— Синеглавки? Дождевые черви.
Корове надоело стоять и глазеть на Рудольфа. Лязгая цепью, она вышла на берег и двинулась к ольховым кустам, где трава тучнее, и стала жадно щипать. Щенок сел, почесал за ухом, потом вскочил и давай носиться по лугу, ловя что-то, обнюхивая. Держа в руке цепь, Лаура стояла босая у воды на мокром, словно утрамбованном песке, и водная гладь в неярком, сером свете дня отражала ивы, ольховые кусты, мостки и ее фигуру. Рудольф спохватился, что глупо сидеть так, глядя на берег, пора уезжать, но руки не хотели браться за весла, которые мокли в стеклянной воде по обе стороны лодки. Корова щипала траву и отходила все дальше. Цепь натянулась, и Лаура сказала:
— Ну, мне пора.
Миновала прибрежную полосу, оставляя следы на сухом песке, и пошла за коровой. К Лауре подбежал щенок и, путаясь под ногами, затрусил рядом. Когда она скрылась из виду, Рудольф наконец очнулся и стал медленно удаляться, не сводя глаз с Томариней, но и они постепенно проплыли мимо, только труба дымилась еще над деревьями.
Возвратившись в Вязы, он залез на сеновал, но сна точно не бывало, он лежал бодрствуя, как и ночью в лодке. Под ним шуршало сено. На дворе слышался голос Марии. Говорила ли она с Эйдисом, с курами или сама с собой, было не ясно. Звуки доходили приглушенно и, в общем, не мешали. Перед закрытыми глазами немо качались колокольчики донок… Желтым клубком по зеленой траве катился щенок… Дым вился кверху, вился и рассеивался…
Его разбудила Мария, крикнув снизу, что к нему пришел гость. Рудольф вскочил, не представляя себе, долго ли он спал, но чувствуя себя бодрым и отдохнувшим. «Сейчас иду!» — отозвался он и стал быстро одеваться. Сквозь люк глядело ленивое бледное послеобеденное солнце. На сеновале было душно, как в бане. Одевшись, Рудольф посмотрел вниз, — задрав короткий нос, на него глядел Марис.
— Ты?
— Я! — радостно откликнулся мальчик. — Ты всегда там спишь? — полюбопытствовал он.
— Всегда.
— И зимой?
— Зимой нет, — ответил Рудольф, спускаясь по лестнице, — Не то в один прекрасный день я превратился бы в сосульку.
Во дворе не было ни ветерка, стоячий воздух тяжело и глухо, точно колпаком, накрыл землю. Марис был в одной майке и пестрых плавках.
— Смотри-ка, у тебя модные трусики, — сказал Рудольф, — цветастая ткань у мужчин как раз входит в моду.
— Это Зайгины трусы, — откровенно признался Марис. — Они малы ей. Рудольф!
— Да?
— Я принес тебе подарок.
— Да ну! — На сей раз привязчивое восклицание вырвалось у Рудольфа.
Мальчик кивнул, его глаза блестели от радости.
— Подожди, сейчас притащу, — весело крикнул он, забежал за угол, появился с ржавой консервной банкой, приоткрыл по дороге крышку, с любопытством заглянул вовнутрь, и Рудольф увидел, как лицо мальчика сразу погасло.
— Что там такое?
— Они… они умерли, — мрачно сообщил Марис.
Рудольф взял у него банку. Сперва показалось, что она пустая, но, когда он встряхнул ее, стали видны пять-шесть залипших песком, недвижимых червей.
— Ты, наверное, держал их на солнце, — догадался Рудольф.
— Не знаю, — растерянно сказал Марис. — Я нашел их, когда бабушка копала картошку.
— Червей надо посыпать мокрой землей или положить им кусочек дерна. Тогда они живут долго.
— Да? — проговорил мальчик. — Как же ты теперь будешь ловить рыбу?
— Накопаю новых. Вон там, в крапиве.
— Я помогу тебе, — тут же вызвался мальчуган.
— Надолго тебя ко мне отпустили? — догадался спросить Рудольф.
— Меня? К тебе? — переспросил Марис и, подумав, ответил: — Ну так… средне…
— Мама просила вернуть лодку?
— Лодку? Мама? Нет, не просила… Она завтра поедет в город автобусом. Ты знаешь конфеты «Буратино»? Ну, знаешь?
— Знаю.
— Она мне привезет «Буратино!» — с торжеством объявил мальчик, выжидая, какое впечатление произведет эта новость.
— Жалко, что я из Риги ничего тебе не привез. Но я ведь не знал, что ты есть.
Карие глаза ребенка смотрели на него удивленно, растерянно: чудно просто — Рудольф не знал, что он, Марис, есть на свете.
— Правда? — после короткого молчания недоверчиво переспросил мальчик и коснулся руки Рудольфа.
— Правда, — улыбнулся тот. — Странно, да?
Марис энергично кивнул.
— Это хорошо, что ты надумал прийти, но чем бы нам с тобой заняться? — сказал Рудольф. — Может быть, сходим искупаемся? Ах да, тебе же, дорогой, нельзя!
— Да ну! — беспечно откликнулся Марис.
— Хватит и того, что ты босиком носишься. А ну, покажи-ка ступню!
— Только ты… — как и в прошлый раз, предупредил Марис.
— Да нет, честное пионерское! Все-то ты меня подозреваешь. Давай ногу… Не дергайся ты так! Мне же ничего не видно.
Все повторилось, как в прошлый раз.
— Ой, не щекочи!
— Да я еще ничего не делаю.
— Ай-й-й… Хи-хи-хи!
Заслышав визг, прибежала испуганная Мария.
— Господи, думаю, не беда ли случилась! Не блажи так! Чего ты блажишь?
— Ай! Ай-й-й…
— Ничего, хорошо, на тебе заживает, как на собаке, — сказал Рудольф, отпуская его ногу. Мальчик сразу затих, он даже вспотел от визга и смеха.
Пока Рудольф ходил за висевшим в саду полотенцем и плавками, Мария спросила:
— Как вы живете-то там? Сестричка еще не поправилась?
— Спит и ест.
— Слава богу, — обрадовалась Мария, — раз ест, значит, скоро встанет на ноги. Может, и ты закусить хочешь?
— А что у тебя есть? — деловито осведомился Марис.
— Хлеба дам с медом.
— У тебя есть, мед?
— Пойдем, намажу.
Но уже сделав за Марией несколько шагов, мальчик оглянулся на Рудольфа и вдруг замялся.
— Ну иди! — позвала Мария.
— Знаешь… — с сомнением проговорил Марис и героически отказался: — Не пойду я. Некогда. Я должен… сторожить часы Рудольфа.
— Чего сторожить?
— Ча-сы.
— Господи прости, на что их сторожить?
— А мало что может случиться! — внушительно заметил Марис.
— Вот умная голова! — удивилась Мария.
— Все так говорят. Дядя Залит… и Вия, и Эгил. А бабушка говорит: «Увидим, увидим, что из него вырастет!» — с достоинством отвечал Марис.
— А у тебя, дорогой, нет склонности к хвастовству? — возвращаясь, сказал Рудольф, который часть разговора слышал.
— Что это — склонности?
— …и к расспросам тоже, а?
— Дай я понесу твое полотенце. — Марис ловко переменил тему разговора. Рудольф громко засмеялся; мальчик, видимо, задетый, искоса взглянул на него и сказал: — Думаешь, Зайга не расспрашивает?
— Пока, откровенно говоря, не замечал.
Марис шел рядом молча. Полотенце, которое он нес в руке, опускалось все ниже, пока не стало подметать тропку.
— До того доспрашивается, что мама плачет, — опять заговорил мальчик.
Рудольф уже успел забыть, о чем они спорили, и рассеянно переспросил:
— Кто?
— Ну, Зайга…
На сей раз поспешил переменить тему Рудольф:
— Смотри, Марис, какая большая птица! Ястреб это, по-твоему, или…
— Рудольф…
— А?
— Что такое у-бий-ца?
Рудольф молчал.
— Ну скажи — что это такое?
— Убийца… это человек, который убил кого-то…
Марис оживился.
— А! Тогда я знаю. Эгил — убийца, он зарезал нашу белую курицу.
— Кто такой Эгил?
— Ты не знаешь? — удивился Марис. — Виин жених, ну!
Рудольф решил, что больше расспрашивать не следует, иначе и его могут обвинить в чрезмерном любопытстве, однако мальчик, не дожидаясь вопросов, с откровенностью продолжал:
— Бабушке он не нравится. «Что-о Эгил — ма-аль-чишка, носится с ребятами вокруг школы, как жеребец. Вот рижскому доктору наша бы Вия приглянулась! Не старый еще и…» Чего ты смеешься, Рудольф?
Они пришли, и Марис стянул через голову майку.
— Договоримся так, — сказал Рудольф, — вместе будем купаться… скажем, послезавтра, а сегодня…
— Я посторожу твои часы, ладно? — воскликнул мальчик и нетерпеливо потянулся к «Сигналу».
— Только с условием — ничего не крутить. Договорились?
— Хм, — буркнул Марис несколько разочарованно. — Прицепи мне!
— Дай другую руку. Часы носят на левой. Вот так.
— Идут! — приложив «Сигнал» к уху и послушав немножко, объявил мальчик, как будто раньше он в этом сомневался. — А скоро звонить будут?
— Нет, сейчас не будут, — раздеваясь, ответил Рудольф.
— Рудольф!
— Что?
— Можно посидеть на твоей рубашке?
— Попробуй и узнаешь.
— Видишь — можно! — Марис устроился поудобней. — Рудольф!
— Да?
— Я могу постеречь и твои очки, — великодушно предложил мальчик. — Надень мне!
Пока Рудольф надевал ему очки на короткий нос и заправлял за уши оглобельки, тот все время тихонько хихикал от удовольствия.
— Ну что, я красивый? — поинтересовался Марис, часто мигая.
— Очень.
— Но я ничего не вижу… Ай-й, как чудно! Все кружится. Ты тоже в них ничего не видишь?
— Как раз наоборот, вижу гораздо лучше.
— Ну да! — искренне удивился Марис и пожаловался: — Вия мне никогда не дает примерить…
— Давай лучше снимем, а то будешь как пьяная муха, — сказал Рудольф и отцепил оглобельки.
Пока он заходил в воду, мальчик сидел на берегу, иногда поднося часы к уху и слушая, как они тикают, потом стал смотреть на Рудольфа, который заплыл далеко красивым кролем и нырнул — по глади кольцами пошли волны. Марис встал, чтобы лучше видеть, нетерпеливо топтался на рубашке и радостно вскрикнул, когда чуть в стороне вынырнула голова Рудольфа.
— Еще! Еще! Еще-е!
Рудольф опять нырнул, и снова кругами разошлись волны. Марис глядел затаив дыхание, стараясь угадать, где на этот раз выплывет мокрая темная голова, гадал до тех пор, пока… его сзади строго не схватили за руку.
— Ну что мне с тобой делать? — укоризненно сказала Лаура. — Я тебя ищу-ищу, думала — с тобой что-нибудь случилось, а ты…
— А я… — начал оправдываться Марис.
— Идем домой!
Марис открыл рот, готовый зареветь.
— На твоем месте мне было бы стыдно, — жестко сказала Лаура.
Она взяла сына за руку и повела домой. Рудольф был далеко и все еще нырял и плавал. Повернув наконец к берегу, он увидал, что как раз в этот момент за горой скрылись два человека. Один из них наверняка был Марис, а вторым могла быть как Вия, так и Лаура — он не успел разглядеть.
Марис шел рядом, сначала упираясь, отставая на полшага, словно протестуя против насилия, потом покорно и очень тихо. И только почти у дома она заметила, что по щекам у мальчика текут немые слезы обиды, текут, наверное, давно и проложили на чумазом лице светлые бороздки, а на руке выше запястья блестит знакомый Рудольфов «Сигнал».
2
Всю дорогу, то стихая, то усиливаясь, шел дождь, а Заречное встретило автобус настоящим ливнем. Спрыгнув с подножки, Лаура ступила в лужу и одновременно под струи дождя, за которыми ничего не было видно. Поспешно надвинув капюшон, она побежала под навес. Потоки воды с шумом низвергались с неба, стучали по ее полиэтиленовой накидке, барабанили по асфальту, рокотали в водосточных трубах, шелестели в листве. В какой-то момент ей показалось, что сзади ее окликнули, она заметила серую «Победу», мокшую в луже неподалеку от остановки, но одетого в плащ, вымокшего Рудольфа она не узнала.
— Лаура!
Он стремительно шел к ней, радостно говоря:
— Как хорошо, что я вас встретил!
— Извините, — стала неловко оправдываться она, — вчера так нехорошо получилось. Только потом я заметила, почти у самого дома…
Рудольф слушал и не понимал, о чем она говорит. Капли били ему в лицо, в стекла очков.
— …они в моем ящике, — продолжала она, — целы и невредимы.
— Простите, кто — они?
— Ваши часы.
— Ах, часы! — засмеялся он. — Совсем забыл. Если у вас нет на примете лучшего варианта, отвезу вас домой.
— Охотно поеду.
Сквозь потоки дождя они побежали к машине. В ней было сухо и тепло, Лаура выпросталась из мокрой накидки. Хорошо, что не надо брести по воде, ждать, нести тяжесть. Перегнувшись через спинку, Рудольф поставил Лаурину сумку на заднее сиденье. В железной коробке предательски загремели карандаши, и он с опаской спросил:
— Я не разбил там что-нибудь, не опрокинул?
— Нет, ничего хрупкого там нет, — отозвалась она и, откинувшись на сиденье, бодро прибавила: — Мне действительно повезло. Правда, меня собирался подвезти по пути «виллис» из лесничества. Но я задержалась, и как бы он не уехал.
— Пока я стоял здесь, ни одного «виллиса» не заметил.
— Вы ждали кого-то с автобуса?
— Да.
Разбрызгивая воду, «Победа» тронулась с места.
— И он, я вижу, не пришел…
— Почему же? — улыбаясь, вопросом на вопрос ответил Рудольф. — В конце концов все-таки пришел.
Она взглянула на него, стараясь угадать, так ли она его поняла, и он, почувствовав ее взгляд, повернул голову и посмотрел на нее светлыми смеющимися глазами.
Они ехали мимо сельсовета, сквера, школы, мимо всего этого в прошлый раз он проходил сначала один, а после встречи — вдвоем с Лаурой.
— Не сердитесь, — сказал он просто и сердечно. — Ведь я оккупировал вашу лодку, к тому же льет как из ведра — чего доброго намокнут «Буратино».
— Что? — не поняла она.
— Конфеты «Буратино», как мне стало известно из надежного источника.
— Тогда мне понятно, что это за источник!
Она втайне боялась, что вчера в Вязах Марис мог наболтать лишнего, но спросить стеснялась.
Машина качнулась на рытвине, асфальт кончился, они со свистом въехали на мостик. Под ним катил свои воды ручей, свирепый и мутный.
— Я была в гороно…
— Смотрите, ей-богу, яблоки! — удивленно воскликнул Рудольф: вместе с листьями, сбитыми ливнем, вниз по течению важно плыло и несколько красных пепинок. — А что вы преподаете, Лаура?
— В первых трех классах все, за исключением физкультуры…
— …которую, наверно, ведет единственный представитель сильного пола в сельской школе, — добавил Рудольф.
— Мы исключение, у нас и директор мужчина! — сказала Лаура, невольно поддаваясь его бодрому настроению. — А вообще вы правы, педагогика в Заречном, как и всюду, целиком в женских руках. Пока я здесь работаю, прибавился только один учитель, физкультурник, а на пенсию ушли трое.
— За сколько это?
— Сколько и здесь работаю? Скоро будет десять лет.
— А до того?
— Педагогическое училище. Там тоже были одни девушки. Мужчин эта профессия мало привлекает,
— Воздержусь от обобщений, но вы, очевидно, правы. Мне, по крайней мере, ни разу не приходил в голову такой вариант, хотя, в общем-то, нельзя сказать, что в своих планах на будущее я был очень постоянен и оригинален, — весело говорил Рудольф. — В детстве я мечтал стать извозчиком…
— Да? — засмеялась она.
— …потом пожарным, а затем боксером. Взрослые же старались сделать из меня музыканта…
— Вот как?
— Причем не тромбониста и не валторниста, как можно предположить по моей комплекции. Я играл на самом маленьком духовом инструменте — флейте-пикколо. Когда я связался с медициной, мой дядька Арнольд, тоже флейтист в оркестре оперного театра, заявил, что я пропащий человек. Променял высокое искусство на голый натурализм, кромсание трупов! И все же игра на флейте, по единодушному мнению наших студентов, сослужила мне службу потом… на экзаменах.
Она снова засмеялась.
— Так что видите — никто и не пытался сделать из меня учителя, считая, видимо, эту затею безнадежной. Если бы меня, например, вместо вас оставили в первом классе с двадцатью пятью — тридцатью карапузами…
— В этом году всего семнадцать.
— Все равно, с семнадцатью карапузами, я бы, наверно, совсем растерялся.
— Не думаю, — с улыбкой возразила она. — Мне кажется, вы бы с детьми поладили… Во всяком случае, мой Марис рвется к вам — хоть привязывай.
Лаура видела, что эти слова доставили ему удовольствие.
— А я понемножку усваиваю его лексику, — признался Рудольф.
— О, чего он только не наслушался у здешних стариков, Залита и Путрама! Всякие словечки липнут к нему как репей, иной раз просто краснеть приходится.
— Дело тут, наверно, в моих непедагогических наклонностях, но мне это нравится. В этом есть что-то первозданное, молодое, неиспорченное. А я немолодой уже, отпетый циник. Так что мы, выходит, взаимно притягиваемся, как плюс и минус.
«Победа» свернула в аллею, ведущую в Томарини.
— Уже приехали. Как быстро! Пока вы развернете машину, я вынесу ваши часы.
Рудольф подал Лауре сумку, и она бегом взбежала на крыльцо, потому что все еще сильно дождило. Когда она возвращалась, Рудольф вышел из машины.
— Вы промокнете, — сказала Лаура.
Он не ответил. Она протянула часы.
— Спасибо, что довезли, — наконец спохватилась она, что не поблагодарила, и подала руку. Его ладонь была большая, широкая, а пожатие чутких пальцев хирурга — сильное и теплое. Она взглянула на него испуганно, не зная, что сказать, и продолжала смотреть растерянно под его серьезным взглядом. Они сняли маски любезности. Над ними шумел дождь.
— Вы промокнете, Рудольф, — напомнила она, отнимая руку. — Всего хорошего!
— До свидания, Лаура!
Она повернулась и пошла, все время невольно ожидая, что вот-вот загудит мотор, но слышался лишь дробный стук дождя по лужам. Взойдя на крыльцо, она с удивлением увидала, что Рудольф еще стоит на том же месте, под серыми струями дождя. И лишь тогда, когда она закрыла за собой дверь, машина затарахтела, и этот звук вскоре растаял в шуме листвы. Она стояла в сумраке сеней, слыша, как у нее бьется сердце, потом поднесла руки к лицу, под мокрыми прохладными ладонями оно горело. Ей стало страшно войти в дом, как будто каждый при виде ее догадается… Но о чем? Ведь ничего не произошло…
Альвина слыхала, как Лаура в своей комнате пела. Правда, она не сразу сообразила, что это невестка, подумала сначала — радио включено, что ли. Потом прислушалась — нет, все же Лаура. Чудеса, вдруг пришло ей в голову, да бывало ли когда, чтобы Лаура пела? Она не могла припомнить такого случая. Разве в компании, за столом, а чтобы одна… Рич, тот да, тот, когда в настроении, заливался соловьем на всю округу. Альвина вздохнула. Рич был за тридевять земель, а Лаура пела. Слов было не понять, мурлыканье одно доносилось, какой-то незнакомый мотив… Подняв голову от шитья, Альвина сидела не шевелясь. В окно стучал дождь. Что там сейчас делает Рич? Она не могла себе представить. И где опять запропастилась Вия? С тех пор как стряслась беда с Ричем, нету сердцу покоя. Опять же Вия, не сидится ей дома. Ветер в голове! Ты ей дело говоришь, а она одно — зубы скалит, хохочет. Чужая, чужая… Кровное дитя, а поди ж ты — непонятная, чужая… Невестка и то, пожалуй, ближе, даром что со стороны в дом взяли. Хотя… Что она знает о Лауре?..
Голос звучал нежно, через стену тихо и глуховато.
Да, что она знает о Лауре? Иной раз сроду не угадаешь, о чем она думает, когда она радуется, когда печалится. Какая уехала к Ричу нынешней весной, такая и приехала. Чуть не клещами каждое слово тянуть приходилось — как да что? Хоть бы пожаловалась, вместе бы поплакали, смотришь — и полегчало бы. Куда там, не дождешься… А тощая стала, кожа да кости, и все-то — мужик мужиком! — в брюках. Плохого про нее не скажешь: крышу вон починила, колодец, опять же трубу прочистила, никогда голоса не повысит, на обновы лишней копейки не изведет, над детьми трясется, одно плохо — тиха больно. Иной раз даже боязно, в тихом омуте черти водятся. О чем Лаура сейчас думает, напевая тихонько в своей комнате? Гадать будешь — не угадаешь, все равно что книга за семью печатями…
У другой бабы гонору — не подходи близко. А у этой наоборот. Была бы понастырней, смотришь — и с Ричем, прости господи, до того бы дело не дошло. Трудно ли дойти до чайной, когда у Рича получка: посидела бы с ним, пока он свои сто грамм выпьет или пару бутылок пива, уговорила бы честь честью да привела домой. Так нет же, гордая! Приедет одна, стоит и смотрит в окно на озеро. И ни слова не проронит, ни полслова, ни укоров, ни жалоб, стоит и смотрит как слепая, не слышит даже, что спрашиваешь. Полчаса стоит, а то и час — тогда, берется за тетради. А что так выстоишь? Ждет она его? Или не ждет? Похоже, что ждет… И сейчас, должно быть, стоит у окна по привычке, только поет…
Это было так неожиданно, что у Альвины невольно сжалось сердце.
Не зашел ли кто со двора?
Нет.
Только дождь, передохнув немного, опять во всю мочь захлестал по окну. Давно пора ему уняться, развезет глину — комбайнам на поле не въехать. Взял бы и перестал, да где там, как зарядил… Такой же шел, когда, хоронили Рейниса. Лил как из ведра, и гроб на плечах провожающих лодкой плыл сквозь этот потоп.
3
Сквозь шум дождя раздалось громыханье телеги — вернулся Эйдис. Вскоре мимо окна процокали подковы и стихли у озера. Когда Эйдис привязал лошадь и вошел в дом, Мария сразу заметила, что он молчаливей обыкновенного. Не говоря ни слова, стряхнул и повесил на гвоздь шапку, снял пиджак, — из брюк на спине выглядывала рубаха.
— Гляжу я, отец, ты под мухой.
Тот ничего не ответил. Сел за стол и похлопал себя по карманам — в одном загремели спички; он вытащил коробок, потом достал курево и молча закурил.
— Чего-то с тобой не то…
Эйдис затягивался и пускал дым, окутываясь сизыми клубами. Прокашлялся.
— А где Руди?
— Да где-то пропадает. Погодка не приведи бог, так он взял автомобиль и уехал.
Эйдис выпустил новую струю дыма.
— Я, мать, наверно, делов наделал…
— Не удумал ли ты, старый шут, комбикормом торговать? Говорила я тебе: охотников на него вон сколько, собьют они тебя с пути!
Эйдис пренебрежительно махнул рукой.
— Что я, красная девка, что ли?
— Ну так небось в драку опять полез? — гадала Мария.
— Э, не то! Наболтал я, наверно, малость лишнего.
— А все твой язык долгий, встреваешь куда надо и не надо. (Эйдис хотел возразить.) Молчи лучше! А то я тебя не знаю! Как в сорок шестом году или в каком это было? Не вступись на тебя Цирулис, давно был бы в кутузке…
— Чего ты поешь отходную! Не встревал я никуда, Апинит сам позвал. Еду я, сталбыть, мимо, он рукой машет: «Товарищ Путрам, одну минуточку!» Ну, думаю, либо орден даст, — он мрачно усмехнулся, — либо по шее, если уж не Эйдисом — товарищем Путрамом величает…
Вошел Рудольф, вымокший, бодрый, повесил плащ и стал носовым платком протирать очки.
— Хлещет напропалую!.. Что это вы скучные, как на похоронах?
Эйдис через ноздри пускал дым и только крякнул, а Мария пожаловалась:
— Отец-то от агронома нагоняй получил. А все оттого, что язык без костей…
— От какого агронома? — возмутился Эйдис. — Со Звагулом я сцепился, известным дурошлепом. Тьфу!
— И отделал его? — спросил Рудольф.
— Как бы не он меня, — буркнул Эйдис и, помолчав, добавил: — Меня, брат, знаешь, сегодня инервировали.
— Как?
— Инервировали, или как его… ну, расспрашивали. Приехала барышня, с радио будто…
— А ты небритый, — всполошилась Мария, — ездит по колхозу как обормот.
— По радио все равно не видно, — весело вставил Рудольф.
— Вчера еще говорила ему, как в воду глядела: надень, отец, чистую рубаху. Так нет, понес его черт в замызганной.
— Да разве она смотрела на его рубаху?
— А ты думал! — сказала Мария. — Глаза на него пялила, как на чудо заморское. Ну так рассказывай, отец, как дело было… Слышь, Рудольф, старый шут наплел им не знай какой срамоты…
— Какой срамоты! Если не знаешь… Эх, погасла, окаянная!
Он чиркнул спичкой и снова закурил.
— Я уж тут начал Марии толковать: еду я, значит, с бидонами мимо конторы. Слышу — агроном в окно кличет. Замотал я вожжи за дерево, чтобы лошадь куда не уперла, и в контору. А бабы конторские: тсс да тшш! Девчонка там какая-то с этим… магнитофоном. Постучался я, снял шапку, захожу: «Разрешите?» Пусть не думают, что мы деревенщина неотесанная. А они, брат, кофий пьют. Апинит, сталбыть, зоотехник — дылда такая, потом Звагул — культорг, чтоб ему ни дна ни покрышки, и бойкая ненашенская барышня. Пока начальника в город вызвали, опять же к начальству, они в конторе орудуют. «А вот товарищ Эдуард Путрам, значит, старый кадр! — это Звагул. — С первого дня и по сегодняшний день рука об руку с колхозом, делил успехи и неудачи. Бывший батрак, а теперь хозяин своей земли, один из первых колхозников, еще и нынче в строю».
— Не бреши, старый шут!
— Да говорят тебе! А ведь года не прошло, как этот краснобай в нашем Заречном не то из Цесиса, не то из Сунтажей объявился. Расхваливает меня, как пастор на панихиде. Э, думаю, брат, это не к добру. Апинит, тот неречист, пять слов если в час скажет — и то много… Барышня руку подает: «Садитесь, сталбыть, товарищ!» Ноготки красные, кольца блестят, а знаешь, как руку сжала — ого! Как клещами. «Мы, товарищи, задумали передачу о вашем колхозе…» Не вспомню, как назвала… «День вчерашний и сегодняшний. Путь к светлому будущему. Вы меня понимаете? Вы принадлежите к тем, кто стоял у колыбели колхоза. Вам лучше всего видно его… как это… восхождение». Говорит, а сама, брат, в чумадамчике шурует, мотает и раскручивает тесемки не тесемки. Она будет вопросы задавать, а мне, значит, в ту машину говорить…
— Святые угодники! — не то вздохнула, не то простонала Мария, не ожидая ничего хорошего. — И что же ты наговорил?
— Сперва дело шло как по маслу — она знай рассказывает, а я знай поддакиваю. Да и как не согласиться? Все правильно говорит — как газету читает. Как вдруг — цок! — выключает свой ящичек, вынимает утирку, ко лбу прикладывает. Вот оно, брат, как: устают не только от работы, от разговору тоже. «Начнем сначала, — говорит. — Слушателей интересуют ваши мысли, а не мои, именно ваши взгляды…» Смех, да и только! Кому это надо слушать, что наплетет старый дурак. А наши подзуживают: «Смелей, смелей!» И она пристала как банный лист. «Как вы, товарищ Путрам, оцениваете свой колхоз сейчас, через двадцать лет после его основания? Каковы, по вашему мнению, самые важные достижения и, может быть, вы заметили также какие-то трудности роста?» Я говорю: у нас, конечно, нету таких пашен, как в Земгале, — одни бугры, словно кроты все поля изрыли, но землицу, слава богу, особо хаять нельзя, есть и глина. Если только лето не засушливое, никаких трудностей роста нету. Все так и прет из земли. И люди живут в достатке, голый да босый никто не ходит, дома построили, не дома — дворцы и знай на мотоциклах ездят. Только одно вот — пьют, дьяволы! Что есть, то есть. Деньжата водятся, а куда их девать? У кого еще на шее детей куча, там рубли плывут помаленьку. А иной всю получку спустит и тогда пойдет куролесить — глаза бы на него не глядели. Недаром же говорят: когда хмель в голове, мозги в ж…
— Матерь божья, ты так и сказал, старый шут?
— А что, не правда? Как в ту субботу Карл Екаупинь ехал на гусеничном тракторе через Рощи, да с клетью не сумел разминуться, так верь не верь — столкнул с фундамента… Барышня знай улыбается, Апинит ерзает на стуле, но говорить ничего не говорит. Тут Звагул затыкает мне рот: это не по существу… правление борется… он пишет в стенгазету… развешаны плакаты и черт его знает что еще… Рассказали бы вы лучше, как начинался колхоз. Про сегодняшний день вам судить трудно. Вы живете далеко от центра… и еще у вас узкий круг… кругозор… Раз такое дело, я встаю и надеваю картуз.
— Батюшки мои!
— Не говоря ни слова, кланяюсь — таким манером — и к двери. «Извиняйте, мол, меня на дворе кляча дожидает, и снятое молоко в бидонах киснет на солнце». Тут они, братец ты мой, разом заговорили, зовут меня назад, кофию наливают. А чего, выпить можно, если даром дают. Барышня сама сахарку кидает. Рассказать просит — может быть, я вспомню какой случай из первых лет колхозной жизни… насчет того, как берегли общественное имущество, верили в будущее… Сперва думаю: шарахну-ка я им про то, как Клейнберг Озолиня вожжами тузил, когда тот загнал жеребую кобылу Гайту. Тракторов-то у колхоза тогда не было, лошадь и была всему делу голова! Да решил так: Клейнберг в сырой земле, Озолинь тоже, чего, сталбыть, зря покойников тревожить. Взял да рассказал, как ты, мать, из моей калоши Лизавету поила. Сразу-то ничего путного в голову не пришло.
— Из калоши? — весело воскликнул Рудольф, а Мария чуть не плакала.
— Ну слушай, ну ты послушай… И с таким шутом мне жить всю жизнь! К чему ты еще меня приплел людям на смех?
— Как же дело было? — спросил Рудольф.
— Видишь, брат, раньше в Пличах была ферма, и коров пасти гнали тут, мимо поворота на наш хутор… Черт, как в горле пересохло. Подай, мать, ковшик!..
— Не иначе где-нибудь к бутылке приложился, — идя за водой, в сердцах заметила Мария, и черпак стукнул о ведро громко и глухо. — На!
— Прямо уж приложился! Одна маленькая на троих. Только разбередила, — кротко ответил Эйдис, большими громкими глотками опорожнил ковшик и тыльной стороной ладони утер губы. — Эх, надо бы еще позарез, да у всех в кармане пусто.
— У меня кое-что должно быть, — заметил Рудольф.
— Правда? — оживился Эйдис.
— Ну да, ну да, старый шут! — заругалась Мария. — Мало ему, что сам закладывает, он и человека с пути сбивает.
— Этот человек, Мария, давно сбился, — отозвался из комнаты Рудольф, шаря в потемках за шкафом, пока не нащупал горлышко «Плиски».
— Не зря ты? — сказала Мария, когда он вошел с бутылкой.
А Эйдис, довольный, не удержался:
— Что я вижу!
— Смотри только не насосись как клоп! — предупредила Мария, постепенно привыкая к мысли, что сегодня без выпивки дело не обойдется.
— Постыдилась бы, мать! Когда ты видала, чтобы я валялся на дороге или под стол съехал?
— «Под стол»! Только этого не хватало!
— Нельзя ли, Мария, попросить три рюмки? — сказал Рудольф, откупоривая бутылку.
— Кто ж из третьей пить будет?
— Вы, Мария, кто же еще.
— У меня, Рудольф, сердце прыгает… — еще сопротивлялась она, но больше так, для приличия; пошла к шкафу и воротилась с тремя разными рюмками — стопкой из толстого зеленого стекла, похожей на мензурку, пластмассовой крышечкой с фляжки «Капли» и рюмкой на тонком ножке с золотым ободком, — протерла полотенцем и поставила на стол, Рудольфу как гостю самую красивую. — А не больно крепкий?
— Ясным огнем горит, — отозвался Рудольф, наливая.
— Ты все шутишь… Чумовой, куда ты льешь полную! У меня, как у мухи, от одного запаха голова кружится… Не достать ли закуски?
— Первую чарочку пропустим так, а потом видно будет, — заторопился Эйдис и протянул руку за своей пластмассовой рюмкой. — Ну, будем!
Они чокнулись, но звякнула только рюмка на тонкой ножке.
— За здоровье твоего культорга!
— Да пошел он знаешь куда… — буркнул Эйдис, сразу вспомнив происшествие, и проглотил влагу точно ягодку. — Налетел прямо как ястреб.
— А что дама с радио? '
— Зоотехник и Апинит повели ее новый хлев смотреть, и тут Звагул… И понятия-то у меня неверные, и такой-то я и сякой. Одно только плохое вижу. Зачем было выбалтывать про Карла и про клеть…
— И правильно! А у тебя язык без костей! — вставила Мария.
— Подумаешь, говорю ему, — не слушая жену, продолжал Эйдис, — ведь это ж, брат, чистая правда. Ведь так оно и было. Поди сам посмотри! А он: неважно, как оно было. Ходит, ходит взад-вперед, как тигр в клетке, и шерстит меня. Так и этак. Наш колхоз, может, прогремел бы на всю республику, а ты все дело рушишь, как… ну это… дир… дивер…
— Диверсант.
— Во-во! Слушал я, слушал. Но когда он стал обзывать меня дир…
— Диверсантом, Эйдис!
— Ну да, диверсантом, душа не стерпела, зло взяло. Вы меня звали, говорю, или я вас? Вы меня заставляли в ихнюю машину говорить или я вас?
— Ох, горе ты мое…
— Ты меня тут расхваливал, говорю, как цыган хромую кобылу, а теперь, значит, мои понятия тебе не по вкусу! — Эйдис в запале повысил голос. — На свои понятия посмотри, а мои не трожь. У меня на дворе вон бидоны, снятое молоко киснет. Чего доброго телят пронесет, а кто отвечать будет? Ты, что ли? — Эйдис вытер пот и со вздохом закончил: — Вот, брат, какие дела.
— Со всеми ты цапаешься, отец, — жалобно проговорила Мария. — Жил бы себе тихо-мирно. Чего тебе не хватает?
— Налей еще, брат, — только и сказал Эйдис.
— Сколько мы натерпелись, Рудольф, из-за его языка! При немцах без малого… после войны снова…
— Глотни лучше, мать!
Выпили еще по чарочке.
— Эх, хорошо! — крякнул Эйдис. — Посмотри там, мать, чего-нибудь поплотнее для закуси.
Пока Мария собирала на стол, Рудольф опять наполнил рюмки.
— Так оно в жизни бывает, — постепенно смягчаясь, рассуждал Эйдис. — Кидает тебя как на волнах. Сколько всего позади, хорошего и плохого! В том же колхозе… И так бывало, что хоть караул кричи — ни скотине, ни людям жрать… Пока-то, пока выкарабкались… А нынче он: «Неважно, что было!» Что было, брат, все важно. Скажи, Руди, ей, ну, барышне этой, не влетит за то, что я наговорил лишнего?
— Они это вырежут.
— Как вырежут?
— Просто, ножницами. Возьмут магнитофонную ленту и кусок выхватят.
— Ну, чудеса! Тогда ладно… тогда хорошо. А остальное ерунда. Главное, чтоб из-за меня другому не досталось. Может, кой-чего и не надо было рассказывать? Все-таки чужой человек.
— Как ты Марию из калоши поил?
Эйдис проглотил смешок.
— Да не я Марию. Мария — Лизавету. Я говорил уж, в Пличах тогда не телят держали, а взрослых коров, и на выгон ходили этой дорогой, через мостик. Гонит их как-то вечером домой Лизавета, и девчонка ее Дзидра лет восьми-девяти ей помогает. Мостик уже ветхий, скрипит, да разве до него было, работы — не знаешь, за что раньше браться. Гоняют стадо туда и обратно, ничего вроде, и так каждый день… Ну, в тот вечер переходят мост все коровы — у скотины тоже своя судьба, — все перешли, значит, а последняя возьми и провались. Да так неладно: ноги еле достают до земли, грязь загребают, шея застряла промеж досок, корова тяжелая, она и повисла. Моя Мария была в саду, слышит: Дзидра орет дурным голосом. Мария туда во весь дух, по дороге башмаки растеряла…
— Любишь ты прикрашивать, отец, — сказала, внося тарелки, Мария.
— Не мешайся, мать! Прибегает, сталбыть, видит — страшное дело. Корова ревет, красная пена изо рта валится. А пастушка лежит у дороги навзничь, не шевелится — кончилась.
— Как — кончилась?
— Постой, Руди, не сбивай ты тоже! Мария: «Не ори ты, Дзидра, как резаная. Лети пулей за Эйдисом. И пусть возьмет пилу и топор!» Я и сам услыхал, брат. Бежим мы с девчонкой во все лопатки. Мария навстречу: «Гляди, гляди-ка, сразу два покойника. И Лизавета кончилась!» А я мигом смекнул — она без памяти просто, и говорю: «Пусть ее полежит Лизавета, давай спасать корову!» А она, милые вы мои, уж и глаза не открывает, хрипит только… Расхватил я пилой две доски — рухнула вниз, как мешок. Летом же, сам знаешь, воды там лягушке до пупа. Плескаю корове на голову, сдавленную шею растираю. Шутка ли! Говорю Марии: «Полей-ка и на Лизавету!» А она — да чем поливать, ни ковшика, ни ведра. На мне калоши были на босу ногу. Сталбыть, калошей. Какая-никакая, хе-хе, а посуда. Очухались обе покойницы. Лизавета открыла глаза, первым делом: «Где корова?» И ну вставать, и ну бежать. Да не тут-то было, слабость после обморока. Тут Мария ее и напоила. Видишь, брат, всяко бывало…
— Ну закусывайте, мужички! — потчевала Мария.
— Пропустим, что ли, еще по одной, а?
— Можно, — согласился Рудольф.
— Не лишняя будет? — обеспокоилась Мария.
— Не бойся, мать, мы с Руди отведем тебя в постель как графиню.
— Ах ты, старый шут! — засмеялась Мария.
— Ну, так давайте на посошок! Руди! Мать!
— Мелешь ты, отец, всякую нелепицу! Дал бы Рудольфу что-нибудь путное рассказать.
— Не люблю я длинные речи, дорогая Мария. Хотя сейчас мода такая. Как соберется хоть бы десяток людей посидеть-поужинать, сразу назначают старшего, тамаду. И он…
— Хе-хе, ты гляди, и выпивать тоже — по команде! — вставил Эйдис.
— …и он без умолку говорит сам и других заставляет говорить. Все боятся есть…
— Что так? — удивилась Мария.
— …потому что в любой момент тамада может дать тебе слово. Только я, например, положил в рот кусок жилистой ветчины, как вдруг: «Об этом хочет сказать Рудольф Сниедзе». И…
— Об чем, Рудольф?
— Обо всем, что тамаде придет в голову. И я побоюсь не только есть, но и пить — ведь надо сказать что-нибудь остроумное.
— Я бы там, брат, хе-хе, всех заговорил! Одно плохо — ни поесть, ни выпить.
— Ну, не так уж чтобы совсем. Ведь и тамада человек, да и сам ты говорил — человек устает не только от работы, но и от разговора. Рано или поздно он вытрет пот со лба и к общей радости успокоится. И тогда, была бы охота, можешь и наесться и напиться.
— Если так, тогда жить можно. У нас тоже, брат, в прошлом году на празднике урожая удумали речи говорить, да ничего не вышло. Мужики, как и водится, тяпнули раньше времени. Службу служить поставили парторга. У него голос как труба иерихонская, и то — куда ж там всех перекричать. Скомандовал только: «По коням!» — отступился. У него же работа какая — рот не закрывает, так хоть в праздник человеку отдохнуть хочется.
После «пятой ноги» (а может быть, и шестой, так как жидкости в пузатой бутылке осталось меньше половины) Мария запела:
Из большого чугуна, в котором кипела картошка для свиней, валил белый пар и стлался по закоптелому, будто лакированному потолку кухни, В коротких бурых пальцах Мария вертела отпитую до половины стопку.
пела Мария, а Эйдис, взяв Рудольфа за пуговицу, философствовал:
— Поживешь с мое, брат, сам увидишь — человек входит в разум только годов в шестьдесят. Не смейся! А до того он щенок бессмысленный…
— …посмотри хоть бы на наших правителей. Где же еще нужна умная голова, как не там! Поставь у кормила желторотых — все бы давно пошло прахом…
Эйдис отпустил пуговицу и незвучным, хриплым голосом неожиданно подтянул Марии:
По увядшим Марииным щекам одна за другой скатились две слезы.
— Что вы, Мария?
— Не смотри на меня, старую дуру, — сразу сконфузилась она и, отвернувшись, громко высморкалась. — Такая душевная, красивая песня…
— Ну что ты, мать, — сказал Эйдис.
— Да я ничего… так просто… Слышь, как на дворе шумит!
— Дождь льет.
— Завтра не воскресенье. Пора нам помаленьку кончать.
— Пока и мы не столкнули клеть с фундамента.
Дождь вовсю барабанил в окно.
4
Как в тот день, думает Альвина, как в тот день, когда хоронили Рейниса… Это же надо, застрянет в голове дума, и ничем ее оттуда не выбить. Разве мало лило с тех пор, как Рейнис на кладбище, батюшки-светы, целые реки пролились с неба. Двадцать… да, двадцать три года, шутка ли. Вия успела вырасти. Сама она — состариться. А Рич… Рич…
Она протяжно, судорожно вздыхает.
Говорят, каждому человеку на роду написаны три беды. Если так, она свою долю получила сполна. Когда ее выгнали из Томариней, ей казалось — никогда, никогда сердце не вынесет такого горя, разорвется и остановится. А она после того пережила и смерть Рейниса, и суд над Ричем — и осталась жива; стало быть, с горя люди не умирают.
Из Томариней она ушла в трескучий мороз, по замерзшему озеру, и направилась к тетке Карлине в Заречное. Пока спускалась с горы, ждала — вдруг Август все же… Услыхав позади скрип, обомлела, обернулась. Но это был всего лишь пес, овчарка. Как его звали? Дуксис? Нет, Дуксис, кажется, другой, рыжий… Да, Погис. Подошел, сел у ее ног и стал бить хвостом по утоптанной в снегу тропке, потом еще немного проводил — до того места, где кончается камыш, опять сел и повернул голову назад. Когда она с середины озера оглянулась, пес на фоне снежной белизны казался уже не серым, а черным и маленьким, как маковое зернышко. Дым из трубы вился и вился столбом, а постройки тонули в сугробах такие спокойные и довольные, что ей захотелось выть. И, стоя лицом к слепым окнам, она прокляла Томарини…
Альвина тогда не думала о том, сбудется ли когда-нибудь ее проклятие. Слова сами слетели с губ, растрескавшихся на холоде от слез. Она не знала, что впоследствии, войдя в Томарини, увидит — скорее с испугом, чем с удовлетворением, — что оно исполнилось. Входная дверь болталась на ветру, повизгивая петлями. В крыше зияла огромная, как яма, дыра, каким-то чудом постройки не сгорели, только в окнах с частым переплетом высыпались все стекла. Она взошла на крыльцо. Все казалось знакомым и в то же время совершенно чужим, как бывает во сне. Двери в комнаты и дверцы шкафов стояли настежь, на полу валялись солома и клочья «Тевии». Альвина медленно обошла запустелый дом, под ногами скрипел пол, казалось — и за стеной кто-то ходит. Но стоило ей остановиться, и ее обступала мертвая тишина опустелого жилья.
Дверь на хозяйскую половину совсем покоробилась и заклинилась. Насилу удалось ее оттянуть и пролезть через щель в комнату. Пол был весь в осколках стекла, со стены осыпалась штукатурка, оголив белые обрешетины. По другой стене тянулась щель, похожая на корявый древесный корень, а за печью — вот чудеса! — еще висели большие часы в деревянном домике. Целые и невредимые, только совсем белые, запорошенные известью, и с застывшим маятником. Как случилось, что часы не забрали? Может, не заметили? Альвина принесла из кухни чурбак, встала на него и поглядела, нельзя ли завести часы. Ходики молчали, точно раздумывая — идти или не идти? Потом маятник нехотя качнулся, и раздалось прерывистое тиканье: три-на-дцать, три-на-дцать… После чего ходики засипели, задохнулись и опять смолкли. Но если отдать хорошему мастеру… Такая дорогая вещь! Как ее бросить — зайдет кто-нибудь и приберет к рукам. В клети она наткнулась на железный ящик, порылась в нем: ага, амбарный замок, только заржавел немного. Вернулась, продела в петли и заперла. Так спокойней. Чье же оно, все это добро, как не Ричево: кровный сын Августа, ведь других детей у него нет.
От хлева тянуло холодным, кислым навозом. Тут к Альвине подбежал серый кот и, пока она обходила сад и сарай, трусил следом, не переставая мяукать. Проводил до конца аллеи, но дальше не пошел — кошки держатся ближе к дому.
Когда Альвине дали десять гектаров земли в Томаринях, тот же серый кот встретил подводу со скарбом и опять скулил как нечистый дух (не только мышей — птиц всех, наверно, повывел!)…
— Только тебя, дармоеда, мне не хватало! — сказала тогда Альвина, не по злобе, нет, пускай себе живет, мышей ловит, разве ей жалко?
За телегой шел Рич, ведя на веревке черно-пегую козу. Так вступил в Томарини «единственный наследник». Эта самая коза, поросенок, три курицы с петухом — вот и все, что у нее было, да, и еще приблудный кот. Коза была умная — давала жирное молоко и, будто зная, какие они с Ричем бедные, принесла парочку козлят.
Разве они были бедные? Альвина чувствовала себя богатой. Со временем они обзавелись коровой, потом лошадью и еще одной коровой, овцами. И все же никогда она не была такой богатой, как в тот день. Взяв сына за руку, она обходила свою землю, свою землицу, обдумывала, рассуждала, где да что будет сажать и сеять. Рич тащился за ней скучный, унылый. Ему было жаль Заречного, где остались его товарищи.
Не надо, не надо было сюда возвращаться!
Кто знает, может быть, у них… у него не было бы такой ярой, такой лютой ненависти к Рейнису, если бы он не жил именно здесь, в Томаринях…
Капли падали с крыши в лужу, но в стекло уже как будто не стучали. Или дождь перестал? Подойти бы к окну посмотреть. Но ей не хотелось вставать. Альвина сидела не шевелясь, с головой уйдя в прошлое. Стоит вспомнить, и… будто не минуло с тех пор двадцати трех долгих лет…
Грязь так и хлюпала под ногами — люди в черном, следы черные, а гроб, чуть покачиваясь, плыл красным факелом сквозь серую завесу дождя. Альвине потом каждую ночь снился красный огонь. Но признаться в этом кому-то она боялась — скажут еще, что помешалась. Бабы и так говорили, что при таком горе ее молоко станет вредным для ребенка, а то и вовсе перегорит. Когда она перебиралась из Заречного, вся рубашка на ней в молоке вымокла, но Альвина боялась дать грудь ребенку. Вия кричала-закатывалась, и Альвина не выдержала, расстегнула платье, взяла малышку, и та, наоравшись, жадно схватила сосок. Мать со страхом смотрела на ребенка, ожидая — вот-вот случится что-то ужасное. Но ничего не случилось. Наевшись, Вия заснула у нее на руках, только пухлые щечки иногда вздрагивали да шамкал беззубый рот. В другой комнате шумели вернувшиеся с похорон. Альвина смотрела, как спокойно спит Вия, и тогда впервые заметила, что девочка похожа на Рейниса. На живого Рейниса, не того, который лежал в гробу и которого — такого чужого и страшного — она боялась. Альвина прижала к себе спеленатого ребенка и, стиснув, держала в железных руках, словно кто-то грозился его отнять… Опомнилась — ну прямо как помешанная. Слышала сквозь пеленки, как бьется сердце, не понимая — свое или Виино?
Какая черная кошка пробежала между ними и когда? Мало-помалу они стали отдаляться друг от друга. Будто их несло течением на расколовшейся льдине: и видно друг друга, и слышно, а полоса студеной воды между ними все шире, и ничего тут не сделаешь. Уж она ли для детей не старалась? Поле и хлев, сад и дом — все на ней, и опять колхозное поле и свой сад, да лохань белья по воскресеньям, по грибы да по ягоды — тоже она, летом сено, зимой дрова, штопка, вязанье, господи твоя воля, работы воз, впрягайся как лошадь и вези. А выручит на рынке лишнюю копейку за чернику ли, за грибы ли — когда вкусненького чего купит, когда ситчику. Все им, Ричу и Вии, неужто себе? Что в брюхе у нее, никому не видать, а наряжаться ей не для кого.
Грешно сказать, что все их забыли. За Рейниса дали пенсию, всегда, бывало, пригонят трактор вспахать приусадебную землю, и осенью тоже, когда убирать картошку… А как в Заречном памятник сделали, их пригласили на открытие и в самый перед поставили. Вия с белыми бантами в косах так складно читала стихотворение и с лица была ну вылитый Рейнис — глаза, нос и рот, как две капли воды, — что многих слезой прошибло, и она, Альвина, то и дело сморкалась. Потом незнакомый приезжий пошептался с Заринем, а тот, подойдя к ней, шепнул — пусть скажет несколько слов и она, но Альвина спряталась за спины людей и не хотела выступить ни за что. Мыслимое ли дело — говорить, когда все на тебя смотрят! После митинга их с Вией отвезли на машине домой, и уже во дворе Альвина спохватилась, что от волнения они в Заречном забыли Рихарда. Куда он опять запропастился? И давеча нигде его не было видно…
«Придет, никуда не денется, — рассудительно, как взрослая, сказала Вия, выплетая из кос ленты, и ни с того ни с сего прибавила: «Мне было стыдно за тебя, мама…» «За что это?» — смутилась она. «Какое на тебе платье!» Альвина оглядела себя, боясь — вдруг да где измазалась или, упаси бог, порвала платье, но ничего такого не обнаружила, платье как платье, ну, может, только помялось немного, когда ехали. «Среди лета в таком… И за версту пахнет… шкафом».
У Альвины внутри похолодело, она стала упрекать дочь в неблагодарности. Та спокойно расплетала косы, казалось, даже толком не слушая и, наверно, перебирая в памяти сегодняшние события в Заречном.
Рич вернулся поздно, от него пахло водкой.
«Ты не мог прийти еще позже?» «Позже не мог», — дерзко ответил он и плотно сжал губы.
Они смотрели друг на друга одинаково карими блестящими глазами.
«Где ты был, Рич?» — «Я? Ну, у Микельсона… если тебе так хочется знать. Шел мимо, он и говорит: чего ты пойдешь туда слушать, как крестят крещеных, спасают спасенных, айда лучше к ребятам!» — «А кто еще там был?» — «Ну, Смилкстынь, Берз…» — «И ты вместе с этой мразью, с шуцманами, пил, пока я, пока мы…» — «А чем я лучше их, мать, бывших шуцманов? Сын банди…» — «Молчать!» — «Сын бандита!» Голос Рича надломился, он круто повернулся, плечи его беззвучно вздрагивали.
Тобик насторожился, но не залаял. Наверно, это опять дождь или… Нет, на дворе звякнул звонок велосипеда, послышались шаги. Слава богу, Вия приехала. Щенок бросился ей навстречу, прыгал на нее, и Вия, нагнувшись, тормошила собачонку и в то же время отпихивала.
— Эй-эй, осторожней с моими капронами!
Ее озорные ласки только будоражили щенка, он вцепился ей в подол.
— Тобик! — позвала Альвина. — Не давай ты ему, Вия, рвать и марать одежу!
— Я уж, пока доехала, вывозилась до бровей. Ну ладно, Тобик, не смей! С утра не погодка была — красота. Ну-ну, это еще что, сейчас же успокойся! Даже кофту не захватила,
— Что так поздно? — спросила Альвина и встала собирать ужин.
— Посидела у Зариней, пока дождь перестал, — ответила Вия.
— Смотрю я, ты на ночь глядя стала домой являться, — задумчиво проговорила Альвина, тарахтя посудой.
— Что? — переспросила Вия, расстегивая пряжку мокрой босоножки.
— Приезжаешь, говорю, совсем уж на ночь глядя…
Вия подняла глаза.
— Если это очередной выговор, мама, то скоро у меня вообще пропадет желание возвращаться в эту… счастливую гавань.
Лицо Альвины потемнело.
— Где тебя лучше приветят?
— Мир велик! — беспечно откликнулась Вия. — Супа мне не наливай, мама, не хочется.
— Какими же разносолами тебя там угощали?
— Пловом. Что ты на меня так смотришь, мама? По-твоему, это преступление? После работы зашла к знакомым, плов ела, смотрела телевизор! — с вызовом перечисляла Вия. Альвина молча глядела перед собой, держа в руке глиняную миску. — По-твоему, я должна мчаться домой сломя голову и тут же хвататься за тяпку или со всех ног бежать в лес — собирать чернику, чтобы потом загнать на рынке.
— Этой черникой, Вия, над которой ты насмехаешься, я вам обоим на одежу зарабатывала.
— И ты хочешь, чтобы так продолжалось вечно?
— По двадцать, двадцать пять литров — это тебе не банку набрать для своего удовольствия, поесть с молоком и с сахаром. Спину потом не разогнуть, и по ночам поясницу ломит не приведи бог.
— И я должна так жить только потому, что так жила ты?
Альвина стояла, под лампой с жестяным колпаком, и яркий свет, падавший сверху, резкими черными линиями обводил ее застывшие, похожие на маску черты.
— Ну, мама… Какая муха тебя укусила, что ты меня пилишь? Ведь я честно свой хлеб зарабатываю, хотя и хожу с маникюром, который тебе просто покоя не дает. Постукаешь день на машинке, так, поверь, тоже поясница заболит, а мозолей… Чего нет, того нет. Однако на службе никто не считает меня белоручкой, свою работу я сама делаю…
Вия заметила, что Альвина, пожалуй, ее не слушает, во всяком случае, лицо ее не выражало ничего и взгляд был обращен как бы в себя. Вия замолкла на полуслове, но Альвина, казалось, и этого не заметила, выражение ее глаз не изменилось. Вия прошла через кухню и приоткрыла дверь в Лаурину комнату. Лаура еще не спала, читала при зеленоватом свете настольной лампы и на скрип дверной ручки оглянулась.
— Ты? Я думала, мама.
Вия подошла к ней.
— Что читаешь? Опять свою «Учительскую газету», а лицо такое, как, будто стихи… В город ездила? Дождь лил, наверно?
— Там его как-то не замечаешь. А от Заречного меня по пути довез Рудольф… доктор.
— Счастливая! А я грязь месила — в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит. Мне туфли не посмотрела?
— Я заходила, но таких нету. Коричневые только тридцать девятого размера. А твой номер — черные с пряжкой, по двадцать семь рублей.
— Пусть сами такие носят! К чему я надену черные? — отозвалась Вия. — Договорюсь с Бенитой, чтоб позвонила мне, когда привезут обувь… Только маме не проболтайся, а то опять заведет волынку… Ее послушать, так можно ходить и в постолах.
Она стояла, прислонившись к столу, руки за спину. С кухни донеслось нервное покашливание Альвины.
— Вы случайно не повздорили?
— С матерью? — удивленно спросила Лаура.
— Ну да. Не успела я переступить порог, она на меня налетела как фурия. Я думала, не случилось ли чего, пока меня не было.
Вия заметила, как пробежала тень по лицу Лауры, но голос, как всегда, был спокоен:
— Нет.
— Боже мой! — вздохнула Вия. — Мать хочет, чтобы я постоянно доказывала ей, что я не забыла, что помню, как трудно ей было меня вырастить. Интересно: ей никогда не приходило и голову — а мне было легко?
Лаура сделала движение.
— Конечно, ты тоже сейчас скажешь — чего мне недоставало, сыта, одета. Это родительский… кретинизм — считать, что трудно только им. А каково было мне, когда мы ездили продавать ягоды и стояли обтрепанные, как нищие, и люди смотрели на нас, на наши обноски, а мать не давала надеть что получше, чтобы не трепать зря на рынке, но я-то понимала — она хочет разжалобить покупателей, и при людях называла меня сироткой, а я со стыда за нее готова была сквозь землю провалиться… А сколько охапок свеклы и сена мы ночью перетаскали из колхоза! Не видели нас? Или только молчали?.. Щадили из-за отца? «За что же тогда Рейнис сложил свою головушку!» — оправдывалась она и не хотела понять, что именно из уважения к его памяти мы не имеем права себя замарать…
На кухне снова покашляла Альвина.
— Вия! — тихо проговорила Лаура.
— Не успокаивай меня, Лаура. Я родилась и всю жизнь прожила под этим проклятым кровом, в доме Августа Томариня.
— Томариня давно нет в живых, Вия.
— Все равно. Сколько ни простоит этот поганый дом, для меня он всегда будет домом убийцы моего отца. И я всегда буду ненавидеть эту старую крышу, источенные стены, это… — У Альвины в комнате начали гулко бить старые часы. Вия бросила мрачный взгляд в ту сторону и закончила: —…это кулацкое барахло.
Часы пробили двенадцать раз, надсадно и очень медленно, будто сожалея, что время так быстротечно и никак его не удержать, и остается только отсчитывать его, отсчитывать…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Кухня в Томаринях была полна сладкого чада, и, когда Альвина открыла дверь, чтобы спастись от невыносимой духоты, со двора влетели две осы. Кружа под потолком, у полок с посудой и окон, они искали источник запаха, обнаружили наконец мисочку с пенками, сели на край и стали лакомиться.
— Хи-хи-хи! — болтая ногами под табуреткой, забавлялся Марис. — Посмотрите, как интересно они едят!
Однако ни Альвина, ни Лаура на его слова не обратили внимания. Натужно пыхтя и распространяя аромат, на плите кипела большая кастрюля с яблочным вареньем.
— Капни, Лаура, похоже, что готово, — подавая тарелку, сказала Альвина. — У-у, не растекается, пора снимать.
К заветной кастрюле потянулось и Марисово треснутое блюдце с красными розочками.
— Береги пальцы! — остерегла Лаура и налила ему целую деревянную ложку. — Хлебца нужно?
Ответ последовал отрицательный: конечно, с хлебом есть можно и потом, всю осень и зиму.
— Остуди только, не хватай как индюк! — предупредила Альвина. — Язык обожгешь… Если поварить еще, пока бурое станет, того вкуса нету, свекольным сиропом отдает.
— И по-моему как раз, — подув на ложку и немного попробовав варенья, согласилась Лаура.
— Тогда снимай, вот сюда, на лавку, да тряпки возьми! Стой, постелю газету. Или нет, лучше на пол. Как бы на ноги не опрокинулось. Марис, убери собаку, шастает тут, как…
Лаура сняла с огня кастрюлю, которая долго еще грозно фырчала, не в силах успокоиться. Лаура вспотела и раскраснелась.
— Где вышпаренные банки, мама?
— Тут они, в духовке. Только не ставь на холодный стол, когда лить будешь, лопнут.
На кухню зашла и Вия.
— Доброе утро! Милые вы мои, как здесь аппетитно пахнет! Но духота у вас кошмарная. Как вы только терпите?
Она достала в ящике чайную ложку, дружески потеснила боком Мариса: «Сократись-ка чуток!» — и подсела к нему на край табуретки.
— А мне дашь?
— Бери. — Марис был великодушен и подвинул к ней блюдце. — Вкусно?
— Ммм! Лопай смело, Марис! Нам обоим хватит. А нет, так еще попросим.
— Где ты была вчера? На вечере? — спросил мальчик.
— Ага, — кивнула Вия, облизывая ложку.
— И танцевала?
— Ага.
— Одна?
— Ты что, глупый? Ясное дело, нет. На вечерах танцуют парами.
— С Эгилом?
— С ним тоже.
— В обнимку? Так?
Марис обхватил ее за талию рукой, в которой еще была зажата ложка. С громким лаем и визгом между ними кинулся Тобик.
— Видишь, он… Тобик, хи-хи-хи, не любит… Когда мы с Зайгой так возьмемся, хи-хи, он всегда… подбежит и скулит как сумасшедший.
Альвина оглянулась.
— Сколько же сейчас на часах?
— Скоро двенадцать, — отозвалась Вия.
— И тебе не стыдно спать по сю пору?
Вия взглянула на мать с удивлением.
— Почему стыдно? Я ни у кого ничего не украла. Это во-первых. Во-вторых, сегодня воскресенье, в-третьих…
— Опять, наверно, заявилась ночью, где ж тебя, гулену, дождаться.
— Какое там ночью, уже светало! — откровенно призналась Вия и восторженно продолжала: — Был эстрадный оркестр из «Победы», так я вам скажу — это класс! Не хуже РЭО, честное слово. Познакомилась с мировым парнишкой. Шофер из Цесиса. Начальство возит. Приехал погостить в Малмейстары — Пупам родней доводится. Родня ли, не родня — мне что за дело. Занимается самбо. Черный как черт, белая битловка. А Эгил, ха-ха, прямо позеленел от ревности!
— Ну и… куда же ты катишься?
— А куда мне катиться, мама? — пожала плечами Вия. — Артистки из меня не получилось, а в остальном… — Хорошо выспавшаяся, веселая и довольная, она вовсе не желала ссориться.
Альвина хотела еще что-то сказать, но только вздохнула: говори не говори — какой толк.
— Может быть, пойдем искупаемся? — налакомившись, предложила Вия. Все равно без хлеба и чая какая это еда, одно баловство, еще мутить будет. — Такой день хороший, а вы запряглись…
— Пойдем, Вия! — радостно вскрикнул Марис, уцепившись за ее рукав.
— Лаура!
— Не сманивай ее у меня! — заругалась Альвина. — Надо разлить по банкам, пока горячее.
Вия смотрела на склоненную спину золовки, на острые, выпирающие под платьем лопатки.
— Ну пойдем, Лаура! Вода в озере, наверно, как парное молоко, солнце печет…
Лаура бросила короткий взгляд в открытую дверь, словно удивляясь, что не заметила, хмурый сегодня день или погожий.
— Огурцы в полдень полить надо. Пожелтели вон, — добавила Альвина.
— Если этим чахлым огурцам не помог позавчерашний ливень, так поливка им все равно что мертвому припарки.
— И капусту тоже…
— Осенью в колхозе по пяти копеек купим.
— Уж если за капусту деньги выбрасывать…
— Всего пять копеек кило, мама!
— Тут пять, там пять, где-то еще пять — и рубля нету. Если бы мы сами не растили огурцы, капусту, картошку и поросенка…
— Свинья да капуста, худые ботинки… — сказала Вия, глядя на склоненную спину Лауры.
А Марис, торопя ее, нетерпеливо ныл и зудел, как комар:
— Вия, ну пойдем, Ви-и-ия!
— Где у нас пластмассовые крышки, мама? — рассеянно спросила Лаура.
— В столе, в ящике, — ответила Альвина.
— …смотришь — и отпуск прошел, лето прошло… и жизнь прошла, — продолжала Вия, хотя никто ее не слушал.
— Ви-и-ия, ну пошли! — не отставал Марис.
Она посидела молча, потом вошла к Зайге, и немного погодя они вышли на кухню вместе.
— Стена с той стороны прямо раскаленная. И как только ребенок терпел, как не задохнулся!
Зайга повела вокруг сияющим взглядом, радуясь, что наконец выбралась из заточения. За время болезни девочка совсем побледнела; длинноногая, в желтом платьице, она походила на тонкую восковую свечку.
— Зайга, ты хочешь? — Марис кивком показал на блюдце с остатками варенья.
Бросив на блюдце мимолетный взгляд, девочка отказалась.
— Ничего не ест! — удивился Марис. — Еще возьмет в один прекрасный день и окочурится.
Вия засмеялась.
— Что ты зубы скалишь! — с осуждением бросила Альвина. — А ты болтаешь не знаешь чего! Еще беду накличешь.
— Какую беду! — махнула рукой Вия. — Девчонка на ноги встала. (Зайга ей улыбнулась.) Пойдем на озеро?
— Да, тетя! — горячо откликнулась девочка.
— Смотри не простуди ее. Давно ли с постели встала.
— Сейчас градусов двадцать пять, не меньше. Почти без ветра. Мечта!
— Это из окна глядеть только…
Вия опять прыснула.
— Стоит дойти хоть до уборной, сама увидишь. Лаура, я иду за купальниками, полотенцами, и мы втроем будем внизу тебя ждать.
— Меня? — переспросила Лаура, будто ничего не слыхала, и вдруг повеселела. — Хорошо бы выкупаться после такой жары. Вот разолью остатки…
Воскресенье действительно выдалось яркое, солнечное. Еще не запылившаяся после дождя зелень выглядела по-летнему свежей, и редкие пожелтевшие листья в кронах деревьев казались признаком скорее недавней засухи, чем близкой осени. Изредка над озером пробегал легкий ветерок, отчего вода серебрилась искрами. Звонкий воздух доносил с того берега обычный для воскресенья визг купальщиков. Там, насколько можно было разглядеть, стояло несколько легковых машин, подогнанных к самой воде.
— Кишмя кишит! — сказала Вия скорее радостно, чем сварливо. — Правильно я сделала, что взяла купальники. Нудистам сегодня хода нет, — прибавила она; как раз в этот момент вдали показалась лодка, темная на искристой поверхности воды, словно большая хлебная корка.
— Что это за ну… за нуди..? — тотчас подхватил Марис.
— Нудист — это голый человек.
— Так в бане я тоже… ну как его?..
— Нудист.
— …нудист, а?
Но Вия не успела ответить.
Мальчик вдруг отпустил ее руку, стремглав сорвался по косогору, и только тут она разглядела, что лодка на озере — их собственная плоскодонка.
— Ру-удольф!
Зайга тоже сделала несколько шагов, но потом застеснялась и вернулась к Вие. А мальчик, добежав до берега, вскарабкался на мостки, что есть силы замахал рукой и, качаясь на шатких досках, едва не потерял равновесия.
— Рудольф! Рудольф! Рудольф!
Тот помахал Марису и стал править к мосткам. Вия с Зайгой подошли к берегу одновременно с лодкой.
— Здравствуйте! Приятно видеть, что мои пациенты все на ногах! — втянув весла, приветствовал их Рудольф.
Мальчик спрыгнул в лодку и бухнулся на настил.
— Дай мне погрести!
— А ты умеешь?
— Не знаю.
— Вот попробую, тогда узнаю, так, что ли? — засмеялся Рудольф. — Давай подождем дам.
Марис повел взглядом — где же эти дамы, про которых говорит Рудольф?
— Мы можем предложить вам свои услуги! — крикнул Вии Рудольф.
— В каком смысле? — не сразу сообразила Вия.
— Пока — только покатать на лодке.
— Пока… Вы не слишком застенчивы.
Она обнажила мелкие белые зубы в широкой улыбке и сняла босоножки.
— Иди, Зайга, по мосткам, не замочи ноги, — войдя в воду, сказала Вия, — я тебя подсажу.
— Мы должны подождать маму, — вспомнила девочка и в конце мостков остановилась.
— Мы далеко не поедем. Тут только, — сказала Вия, бредя к лодке. — Когда мама будет спускаться, мы ее увидим и кликнем. Куда мне садиться?
— Если действительно будет грести Марис…
— Да, да! — закричал мальчик.
— …то вам придется идти на нос. А мы с Зайгой как самые тяжелые (девочка бросила на него робкий и в то же время лукавый взгляд) займем место на корме. Давай, Марис, берись за весла. Не так сел, наоборот! Куда же ты грести будешь, в гору, что ли, в Томарини?
Сперва посмеявшись вволю, мальчик перекинул ноги на другую сторону скамьи и взялся за весла. Но плоскодонка не двинулась с места.
— Подожди, оттолкнемся!
Упершись в мостки, Рудольф с силой толкнулся; лодка тронулась и по инерции какое-то время скользила — к радости Мариса, который усердно молотил по воде веслами.
— Ура-а! Едет!
— Не обливай меня! — защищаясь от брызг, вопила Вия. — У меня уже весь бок мокрый. Вы, доктор, нарочно меня сюда посадили, чтобы… Ай, Марис, ну, что это такое!
Несмотря на отчаянные усилия гребца, лодка больше переваливалась с боку на бок, чем продвигалась вперед.
— Подожди, — развеселившись, сказал Рудольф, — так дело не пойдет.
— Пойдет, пойдет! — уверял Марис.
— Ха-ха-ха!
Несколько капель воды попало и ему на рубашку.
— На, Зайга, мою кофту. Накинь на плечи.
— Мне, дядя, не холодно.
— Возьми! И запахнись вот так. Подожди, Марис, остановись на минутку!
Мальчик провел ладонью по лбу, огляделся и, точно проснувшись, сделал открытие:
— Как мало мы отъехали!
— Что, нелегкая работа у гондольера?
По своему обыкновению, Марис тотчас спросил:
— А кто это такой?
— Гондольер? Он делает примерно то же, что делаешь сейчас ты.
Поразмыслив, мальчик на всякий случай сказала
— Так зачем же сразу ругаться?
Воспользовавшись передышкой, Вия отряхивала мокрое платье, но без особого успеха: ведь это не шерсть, с которой капли скатываются, шелк есть шелк; мокрый, он сразу неприятно облепил бедро. Она расстегнула, сняла платье и осталась в цветастом купальном костюме.
— Ну, еще будешь пробовать или меня пустишь? — спросил мальчика Рудольф.
— Я сам!
— Тогда давай потихоньку-полегоньку, с умом.
Марис громко хихикнул.
— Что ты смеешься?
— Как же можно грести, хи-хи, с умом?
— Сейчас увидишь. Наклонись немножко вперед. Руки… руки держи вместе. Так! А теперь весла медленно опускай в воду… Спокойно! Куда ты торопишься? Не тяжело?
— Не-е.
— Так, так, так… Теперь еще раз! Видишь, едем.
— Хи-хи, пошла!
— Когда устанешь, ты…
— Ого, вот это да!
Весла погружались в воду не вместе, одно раньше, другое позже, иногда выскакивали из уключин, вздымая брызги («Ай, Марис, ты опять!»), и все-таки теперь, хоть и враскачку, хоть и вразвалку, это было движение вперед.
— Ну, довольно, — после пяти-шести взмахов сказал Рудольф. — Теперь пусти меня!
— Я хочу показать маме! — закричал Марис. — Ма-ма-а, ви-и-дишь?
Спустившись по косогору до половины, Лаура остановилась, в руке у нее что-то белело, наверное полотенце. Раздувая щеки, мальчик старался изо всех сил, но излишнее усердие не принесло успеха, скорее наоборот — без присмотра Рудольфа лодка стала вихляться как пьяная, от весел полетели брызги. Все — понятно, за исключением Мариса — махали Лауре. А она — странно! — постояв так немножко и не ответив на приветствия, повернулась, взошла на гору и скрылась из виду.
— Наверно, что-то забыла, — сказала Вия.
— Дай-ка весла мне, Марис, — строго сказал Рудольф, — и отправляйся на свое место…
Явно разочарованный тем, что не оценили его стараний, мальчик пересел на место Рудольфа рядом с Зайгой, и Рудольф в два счета подогнал лодку к мосткам.
Оба представителя сильного пола, оставшись в плавках, вошли в воду. Вия возвращалась из-за ольхового куста в голубом нейлоновом купальнике, неся в руках одежду.
— Теплая? — крикнула она издали.
— Да-а-а, — отозвался Марис, жестом приглашая следовать за ними. — Как молоко…
Осторожно ступила в озеро и Вия.
— Ну, не скажем, что кипяток, — вздрагивая, ответила она.
Зайга тихонько села на мостки и с завистью смотрела на купающихся. Ничего не говорила, не просилась и не хныкала — только смотрела. На плечах у нее все еще была серая вязаная кофта, которая защищала ее от брызг и которую она так и не догадалась положить на траву рядом с другими вещами Рудольфа.
Зайдя в воду по щиколотку, Рудольф обернулся и посмотрел на Томарини.
— Идем! — торопил его Марис и подергал за руку.
— Подожди немножко!
Вия заметила взгляд Рудольфа, удивилась:
— Что она так долго? — и тоже посмотрела на хутор.
Наверху не видно было ни души, труба дымиться перестала, — слава тебе господи, с этой ненормальной стряпней кончили.
— Может, сбегаешь, Зайга? Скажи, что мы заждались! — наконец попросила Вия.
— Сейчас.
Болтая рукавами кофты, девочка взбежала на гору и скоро возвратилась, за нею весело трусил Тобик.
— Где мама?
— Мама… — запыхавшись, выговорила Зайга, — мама не придет.
— Почему?
— Она огурцы поливает.
— Запрягла все же, — с усмешкой проговорила Вия.
— Что вы сказали? — спросил Рудольф.
— Это я о матери, — с улыбкой бросила она. — Ну что ж, ничего не поделаешь, идем одни.
Рудольф все еще смотрел наверх, на Томарини.
— Раз сказала — не придет, значит, и ждать нечего, — решительно произнесла Вия. — Пойдемте!
— Пой-дем! — эхом откликнулся Марис.
— Пойдем, — согласился и Рудольф, и они втроем побрели по воде, мальчик посередине, взяв взрослых за руки.
— Вы хорошо плаваете? — спросил по дороге Рудольф.
— Гораздо хуже, чем, например, вы, — лукаво ответила Вия.
— Приятно, что вы даете мне такую высокую оценку, — пошутил он. — Боюсь только, не слишком ли назойливо я себя рекламировал.
— Из Томариней все озеро, как на ладони. Тут ничего не скроешь.
— Рудольф, ты мне покажешь, как нырять? — потребовал Марис.
— Сперва надо научиться плавать. Ты умеешь?
— Смотри!
Пробежав несколько шагов вперед и повернувшись к взрослым, Марис неожиданно плюхнулся в воду, обдав брызгами их обоих, и стал энергично работать руками, продвигаясь к берегу, и взахлеб кричал:
— Я… я так же… как ты…
Это отдаленно походило на кроль.
— Марис, а где у тебя ноги?
— Че-во-о?
— Где у тебя ноги?
Мальчик встал и, отплевываясь, спросил:
— Как ты сказал?
— Ты же, дорогой, переступаешь по дну!
— Да ну!
— Вот тебе и да ну! Давай зайдем поглубже, я тебе покажу, как надо. Ложись грудью мне на руки. Смелей, не бойся!
— Ой, хи-хи…
— Я тебя немного опущу в воду. Когда лицо погрузится, задержи дыхание, а глаза не закрывай. Потом мне расскажешь, что ты…
— Тону-у!
— Не кричи.
— Так я же тону!
— Не можешь ты утонуть, Я тебя держу. Ну!
— Ой-й!
— Не дрыгайся, как лягушка.
— Держи крепче, только, хи-хи, не щекочи.
— Ну, смелей, и увидишь, что ничего нет страшного.
Марис фыркал, визжал и, захлебываясь, кашлял, отчаянно брыкаясь и взбивая брызги. Стоять рядом было просто невозможно, и Вия, зайдя по пояс, легла на воду. Плавала она действительно неважно и быстро устала. Но чтобы выбиваться из сил! В конце концов это же удовольствие поплескаться в летнюю жару, зачем его превращать в мученье… Сзади послышались всплески. Она бросила взгляд через плечо: сильными гребками ее нагонял Рудольф, вдали, у самого берега, скакал по воде Марис, а еще дальше, на мостках, серой птицей на солнечном берегу сидела съежившись бедная Зайга. Рудольф догнал Вию и поплыл рядом, стараясь подладиться под ее темп (она плыла «по-собачьи»).
— А правда, что тут есть места, где глубина доходит до тридцати метров? — спросил он.
— Ой, не пугайте меня! — коротко усмехнувшись, отозвалась она и чуть не захлебнулась.
— Сколько я ни мерил, больше восемнадцати мне пока не удалось обнаружить… если это вас может успокоить. Восемнадцать — максимальная глубина, два — минимальная, на Слезной мели.
— На Горе, — поправила Вия.
— На какой горе?
— То, что вы называете Слезной мелью, местные жители зовут Горой. Когда-то здесь был островок.
— Как романтично! Наверное, с замком, который затонул ночью, в бурю…
— Я не удивляюсь… что Марис льнет к вам… — уже задыхаясь, сказала Вия, — …вы оба настоящие Мюнхгаузены.
— Это что — критика или комплимент?
— Как вам больше нравится… А я поворачиваю назад. Пока!
Ага, Марис вылез из воды; сблизив головы, они с Зайгой копаются в песке. В Томаринях по-прежнему не видно никого, и на огороде тоже. Значит, Лаура уже полила огурцы? Но ведь тогда она могла бы прибежать искупаться. Такой денек, такая вода… Но это же известное дело: дай маме палец… И все-таки неловко перед доктором. Вначале даже казалось, что он обиделся, смотрел на гору, на хутор, но сказать, конечно, ничего не сказал…
Вия оглянулась назад — Рудольфа нигде не было видно, озеро играло искрами, и она тщетно пыталась разглядеть в этом мерцанье темную голову. Или заплыл бог знает куда… Голова показалась совсем близко, он просто нырнул, а теперь стремительно приближался и на мели снова догнал Вию.
— По правде говоря, я заехал сюда, чтобы задать свой неизменный вопрос, — бредя рядом с Вией к берегу сказал он.
— А именно? — заинтригованная, спросила она.
— Могу ли я еще подержать лодку? Возможно, она кому-то понадобится?
— Ах, вот что! — воскликнула она слегка разочарованная, хотя не смогла бы объяснить почему.
Рудольф взглянул на гору, и Вия поняла, что он имеет в виду Лауру.
— И верно, завтра Лаура едет на конференцию! — вспомнила она. — Но про лодку речи не было. Наверное, она опять договорилась с шофером из лесничества.
— Если маме будет нужна лодка… — услыхав разговор краем уха, поспешил вызваться Марис, — я прибегу к тебе в Вязы. Ладно?
— Ладно.
Вие пришло в голову, что она ведь могла бы позвать Рудольфа в гости, не выскочи этот постреленок… Да ладно уж. Дома такое пекло и хаос к тому же, черт ногу сломит, все заставлено банками, конечно, кроме Вииной комнаты. Кровать она застелила, это да, но не осталась ли на стуле голубая комбинашка? Ну, ясное дело, висит на спинке, напоказ выставлена…
— Ты меня будешь ждать, Рудольф? — идя ему навстречу, спросил Марис.
— Обязательно!
2
Но в тот день никто в Вязы так и не пришел. Вечером, уже в густые сумерки, Рудольф спустился к озеру, снова сел в лодку и поехал. Безо всякой цели, даже рыболовная снасть осталась дома, не собирался он идти и в Томарини. Так просто, проедется немного и повернет к дому…
С наступлением темноты стал подниматься туман, почти непременный спутник ночей на исходе лета. И постепенно завесил косогор белесой кисеей. Как обычно по вечерам, в камышах гомонили дикие утки. Полуостров вдавался в озеро, черной стеной возвышаясь на дымчато-сером фоне воды; под лодкой заскрежетал камень — Рудольф слишком близко подошел к мысу. Двумя-тремя гребками развернув плоскодонку, он медленно направил ее в заводь. В Томаринях светились два окна, недвижно проступали такие знакомые контуры ветхих построек и лохматые чубы старых деревьев. Внезапно с той стороны долетел ритмичный звук. Рудольф перестал грести, вслушался и наконец догадался — на берегу кто-то косит:
…вжик, вжик, вжик…
Смутно маячила фигура, а звон косы был мелодичен и серебрист, как пение коростеля в разгар лета:
…вжик, вжик, вжик, вжик…
Певучий звук затих, человек на берегу нагибался и разгибался, вероятно собирая траву, потом с усилием взвалил ношу на спину и пошел в гору. Узнать его было нельзя: огромная ноша, связанная в одеяло, будто сама на двух ногах взошла наверх и скрылась из виду. Рудольф подумал, что человек должен вернуться за косой, и действительно, немного погодя темная фигура выплыла из молочной мглы, держа в руке что-то бесформенное, тащившееся по земле. Он сообразил, что это одеяло. Теперь он узнал в косце Лауру (это не могла быть по сложению ни Вия, ни тем более Альвина). Спустившись вниз, она нагнулась и стала складывать траву на одеяло. Но пока Рудольф подогнал лодку и вышел на берег, Лаура уже была на склоне, и вскоре ее опять поглотил туман, который поднимался все выше и становился все гуще. Трава была волглая, тяжелая от росы и прохладная. Он прошел до выкошенного полукруга, с края белела коса и лежали грабли.
На этот раз Лаура появилась гораздо быстрее, во всяком случае раньше, чем он ожидал; она шла вниз прямо на Рудольфа, его не видя, шла легким шагом по росистой траве, все приближаясь и по-прежнему его не замечая, хотя он уже слышал шорох травы под ее босыми ногами. Казалось, она сейчас тихо пройдет в темноте мимо него, как мимо дерева, и вновь удалится, слившись с ночью. И все-таки, не доходя десяти — двенадцати шагов, Лаура его заметила. Ему показалось, что от неожиданности она съежилась. Конечно, ему следовало сделать несколько шагов навстречу, а не стоять столбом, или хотя бы окликнуть издали.
— Простите, если я опять испугал вас…
После короткого молчания она спросила:
— Почему «опять»?
Голос звучал глухо и не совсем обычно — наверно, она еще не оправилась от испуга.
— Как в первый раз, — сказал он.
Она не ответила.
Помолчал и он.
— Если бы у меня было на это право, я бы спросил, почему вы так и не пришли к нам днем на озеро.
Она только слегка пожала плечами.
— Я вас чем-нибудь… обидел?
— Нет, — просто ответила она. — Мать просила полить огород, и кроме того…
— Что? — так и не дождавшись продолженья, спросил он.
— Это все.
«Интересно, что она хотела добавить?»
— На что же мне обижаться? — неожиданно очень тепло сказала Лаура. — Вы для меня… для нас делали только хорошее.
Под прикрытием темноты у самого берега, почти рядом, закрякали дикие утки.
— Ну, мне пора, — сказала Лаура, как и в то утро, и наклонилась за граблями. Он подал ей и косу, все так же молча.
— До свидания, — сказала она.
— До свидания, Лаура!
Она пошла, и Рудольф неожиданно почувствовал, что не хочет с ней расставаться. Сделав несколько шагов, Лаура оглянулась, помедлила, словно удивляясь тому, что он не уходит. И Рудольфа вдруг осенило, что ей тоже не хочется уходить. Странно, ведь думать так не было никаких оснований — она только обернулась, и все, не проронив ни слона. Но прежде чем он успел открыть рот, она пошла дальше, казалось все быстрее, точно убегая, и постепенно исчезла в белом тумане. Он постоял еще, ожидая, а вдруг она вернется, хотя сам в такую возможность не верил, и Лаура действительно не вернулась.
На этот раз Тобик и тот не прибежал его облаять. Рудольф мог остаться здесь, если угодно, — ведь берег общий, мог и уехать, если пожелает. Никому до него нет дела. И, глядя вверх на освещенные окна, он почувствовал к себе жалость. Он мог идти куда вздумается, он был свободен как…
«Как бродячий пес, — подумалось ему, — скулящий под чужими окнами». Он криво усмехнулся и медленно зашагал к лодке, слыша только шарканье своих ног по траве да тихое кряканье в камыше диких уток. В поздние августовские вечера крики птиц обманчивы, их вполне можно принять за человеческие голоса и смех. Когда ближние утки, спугнутые Рудольфом, стихли, тогда и впрямь казалось, что вдали слышен разговор, только слов не разобрать. Но это была уже другая утиная стая, в другом окне между кубышками и камышом.
Он правил не в Вязы, а гнал лодку наугад в густой туман, ему было безразлично, куда ехать, все равно бежать некуда — беспредельность озера обманчива. Чувство полной свободы лишь усиливало сознание одиночества, и, удивляясь себе самому, он вспомнил, как еще совсем недавно, тоже в темноте, он лежал в лодке на полушубке под свинцовым ночным небом и был в полном согласии с собой, и окна перекидывали к лодке дрожащие мосты, будто связывая его и редкие дома на берегу желтыми светящимися нитями. И вот нити оборвались, берег растворился, и лодка скользила в никуда.
Гребок, еще гребок, еще и еще…
По бортам лодки тихо журчала вода. Этот мягкий шум да порою скрип уключин, только они нарушали тишину ночи. Кругом — ни огонька или хотя бы полосы камыша. Он плыл без цели, с одним желанием — устать до отупения, чтобы ни о чем не думать, плыл, не зная, что делать со своей безграничной свободой, которую прежде так ценил, выше всего, и ощущая человеческую потребность быть кому-то нужным, необходимым. Но насколько хватало глаз — молчала белая немая пустыня, в которой лодка скользила и скользила — в никуда. Гребок, еще гребок, еще и еще… Поискать хоть какой-то ориентир, вернуться в Вязы, за шкафом есть остатки «Плиски», вдвоем со стариной Эйдисом… а может, и в одиночку… Неужто до того дело дошло, что в одиночку? А дальше что? Нет, в одиночку он пока не пробовал, позвонит приятелю или приятельнице… В институте никто не считал его алкоголиком, никаких поводов для этого он не давал. Многим, наоборот, он казался удачливым. Почему, собственно, казался? Через двенадцать, то есть одиннадцать дней он возвратится, и все войдет в привычную колею. Он понял, что стосковался по работе. Но это была особая тоска, он жаждал работы как средства забыться.
Ха, ведь он удачлив, по крайней мере в глазах многих! Откуда же вдруг такая неприкаянность, точно у бездомного пса?
Вдруг? А может быть, вовсе не вдруг? Разве не угнетала его тишина в собственном доме? После дежурства (если не устанет до смерти) он не спешил домой — бродил по городу, а то, бывало, зайдет к кому-то или привезет кого-то к себе, чтобы не оставаться одному. С таким настроением, может, разумнее было закатиться на юг, смешаться с курортной толпой, а не ехать сюда. Но нельзя же до бесконечности трепать и без того истрепанные нервы, ему нужен отдых, покой, все то, что может дать Уж-озеро, по которому он блуждает сейчас в тумане и тьме, как Летучий голландец. Гребок, еще гребок… Автоматически, как машина…
Возможно, это и правда началось с того памятного дня рождения? В конце концов, с чего-то же это началось, ведь вначале Рудольф, наоборот, был просто опьянен своей неограниченной свободой, независимостью, тем, что ему не нужно больше изворачиваться, лгать… С Рутой он разошелся из-за женщины, хотя слово «женщина» не очень подходило к Иренке, которую он называл ребенком; несмотря на свои двадцать лет, она действительно выглядела подростком — большеглазая, длинноногая, угловатая, скорее некрасивая, чем миловидная. Если считать, что студенты-медики делятся, в общем, на энтузиастов и циников, то Ирена безусловно была из числа первых и в Рудольфе Сниедзе видела свой идеал. Это было смешно, однако и лестно. В его жизни она не играла никакой роли, с самого начала он знал, что это лишь эпизод, что Ирена — одна из многих и потом сольется в памяти с ей подобными. Тем не менее разразился банальный семейный скандал, подробности которого даже вспоминать не хотелось. Больше всего его поразило тогда, как может Рута ревновать его именно к Иренке, к этой долговязой невзрачной девчонке, одержимой идеей женской эмансипации. Такая ревность в его глазах страдала элементарным, поразительным отсутствием логики.
«Но ведь это так… невинно!»
«Невинно? Какой ты все-таки циник!»
Гребок, гребок, гребок… Зашелестел камыш о борт лодки, и Рудольф увидел крутой берег, выплывший из тумана желтым клубящимся облаком. Рудольф понятия не имел, где он находится, — ни освещенных окон, ни хутора, ни мостков на берегу не было видно, только размытые контуры деревьев и полная, стерильная тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Вскоре и след лодки на воде затянулся, плоскодонка будто вмерзла в серо-синий осенний лед. Влажный тяжелый воздух покрыл все блестящим, сырым и словно бы еще липким лаком — настил, весла, туфли, куртку, шапку; он провел ладонью по лицу — да, и лицо тоже. Сухая ладонь на мокрой прохладной щеке казалась горячей.
Рудольф сидел неподвижно, пока его не объяли ночная свежесть и апатия. Ха, а разве не к этому он стремился? Сколько сейчас времени, он не знал, да и не все ли равно. Часом больше, часом меньше… Вот передохнет немного и вдоль берега поедет тихонько в Вязы, залезет на сеновал и повалится в сено, как смертельно усталый зверь, ни о чем не думая, ничего не желая. Отдохнув, он опять взялся за весла, но греб медленно, не спеша, впереди у него была вся ночь. Черные заросли камыша сменялись серой гладью воды, полоса берега тут и там выгибалась кошачьим горбом, отдалялась и вновь приближалась, пока из белесой мглы вдруг не выплыли косые крыши Пличей. Странно, Рудольф считал, что он пересек озеро и плывет по другой его стороне, а на деле вышло, что он, сделав крюк, возвратился к тому же берегу, точно его водил леший. Это казалось почти невероятным: грести и грести битых два часа и вдруг очутиться здесь, у Пличей! Но разве у него была какая-то цель? И не все ли равно, где пристать к берегу?
Показался знакомый, поросший ивами мыс, который отгораживал заводь, и с левой стороны мелькнули Томарини. В одном окне еще мерцал свет, Рудольф теперь знал — это окно Лауры. И хотя было совершенно невероятно, чтобы кто-нибудь сверху его увидел, он налег на весла, желая уйти из бухты, прежде чем кому-то придет в голову, что он даже среди ночи, как лунатик, кружит у Томариней.
Сильная усталость и хандра сделали его раздражительным, он видел, что становится несправедливым, по отношению к Лауре во всяком случае, и ему стало стыдно. Свет ровно и бесстрастно горел в ее окне, ей было безразлично, есть ли кто-нибудь внизу, на озере, и кто именно, у нее были свои радости и печали, своя жизнь, в которую она никого не пускала.
3
Рудольф угадал, ей тоже не хотелось уходить. Она постояла во дворе, глядя вниз. Под горой берег сливался с озером, и все это вместе дымилось, как широкий котел с кипящим молоком, в котором нельзя было разглядеть решительно ничего. Не слышно было ни всплесков, ни стука весел, только по-прежнему разговаривали утки. И вдруг она поняла, что Рудольф еще не уехал, а стоит на том же месте, невидимый в темноте, или сидит в лодке, глядя наверх, и она смотрела вниз, сама не замечая, что слегка улыбается. Вместе с туманом, еще поднимавшимся с озера, ее обволакивала непонятная грусть, тоже белая и мягкая, как вечерний туман.
Утки внезапно смолкли. Послышался стук весла, взвизгнули уключины и все скрипели и скрипели, удаляясь, потом звуки заглохли. Тогда Лаура зашла на гумно — повесить косу и грабли. В хлеву, гремя цепью, переминалась корова, вздыхала свинья, чистил перья петух, будто прислушиваясь, не настало ли время петь. Но до этого часа было далеко, и скрип когтей о насест, сонные взмахи крыльев опять стихли.
В доме, однако, еще не спали. Дети, усевшись за стол, чиркали по бумаге тупыми огрызками карандашей.
— Не пора ли в постель? — сказала она.
— Не-ет! — хором ответили они, две головы разом поднялись от стола, две пары глаз, серые и карие, глядели на нее с одинаковым выражением — с мольбой и тревогой.
Подойдя ближе, она обняла ребят, одной рукой Зайгу, другой — Мариса, чувствуя сквозь тонкую ткань живое, знакомое тепло детских тел.
— Какая ты холодная, брр! — сказал Марис, но не отстранился. — Купалась?
— Косила траву на берегу… Где вы взяли такие карандаши? Не в моем ли ящике?
Они ответили опять хором:
— Не-ет!
— Тетя Вия дала, — добавила Зайга.
— А что это, что ты нарисовал?
Склонив голову набок, как птица, Марис пристально изучал рисунок в вытянутой руке.
— Разве… не угадать? — спросил он.
— Какие-то люди… и будто бы озеро…
— Наше озеро, а это лодка, а это мы, — объяснял Марис, тыча карандашом в каждый предмет, в каждую фигурку и сажая графитом круглую серую мушку. — Это Вия, она сейчас говорит: «Вода теплая?», а это, на мостках — это мостки, мама! — Зайга…
— А это — собака?
— Где?! Да ну… Это же Рудольф. Он просто наклонился и учит меня нырять. А я… я под водой… Вот это бабушка, она смотрит в окно. Знаешь, я хотел и тебя… Где тот лист, Зайга?.. Хотел и тебя нарисовать, но не хватило места, и я… Видишь, вот, я нарисовал отдельно…
Посередине другого листа стояла женщина, глядя в белую пустоту бумаги.
Лаура засмеялась.
— Тебе не нравится? — спросил Марис, пристально вглядываясь в ее лицо.
— Почему же? Очень симпатично.
— Да?
— Правда.
— Я… — вдруг великодушно предложил мальчик, — я нарисую рядом с тобой Тобика.
— А что у Зайги? — поинтересовалась Лаура.
— Цветок, — отвечала девочка, снимая ладони со своего рисунка.
На листе бумаги было только огромное солнце и большой диковинный цветок на высоком стебле, слишком для него слабом.
— Это тюльпан?
Зайга легонько пожала плечами.
— Я не знаю.
— Где же ты видела такой цветок?
— Во сне.
— Где?
— Во сне. — Зайга поднесла лист к носу Лауры. — Чувствуешь?
Бумага тоже явно происходила из Вииных запасов и пахла то ли лаком для ногтей, то ли ванилином, одним словом, цветок был таким, каким должен быть порядочный цветок, он издавал запах. А Марис тем временем рядом с женщиной нарисовал щенка, и теперь среди пустынной белизны она была не одна: ведь человек уже не одинок, если у него есть собака.
— Ну, а теперь живо-живо отправляйтесь спать, — сказала Лаура.
— Еще нет…
— Не нет, а да! На дворе ночь, а вы тут ковыряетесь, как будто завтра дня не будет. Зайга, быстро иди мыться! И ты, Марис.
— Я уже мылся.
— Интересно, когда ты успел?
— В озере.
— По-твоему, что — один раз искупаешься и месяц будешь ходить чистый?
— Да ну… — возразил мальчик, — так уж прямо и месяц…
— Не будем спорить. Ну, марш умываться!
Дети неохотно расстались с бумагой, на листах еще можно было рисовать и рисовать… Из кухни донеслись звон ковша, топот, крики, сдавленный смех: или они отпихивали друг друга от таза, или брызгались. Послышался голос Альвины, и кутерьма прекратилась, только время от времени кто-то из них тихо прыскал, наверное Марис, разбойник. Лаура снова повертела в руках брошенные на столе рисунки. Человечки у Мариса были темные, коренастые, в толстых жирных линиях карандаша проглядывала тяжеловатая рука Рича. Глазом опытного педагога Лаура определила, что с чистописанием в школе у сына будет неважно. У Зайги же линии казались легкими, почти воздушными, хотя в них тоже сквозило нечто от Рича — порывистость, нервозность. Она рассматривала странный цветок, стараясь вспомнить, снились ли ей когда-нибудь фантастические цветы, каких не бывает на свете, и не могла припомнить. Если и снились, это было слишком давно… И Зайгин мир казался ей таинственным, похожим на этот цветок, имевший даже свой запах, какого не было ни у одного цветка на свете. Как он поселился в душе ребенка?
В кухне опять раздался топот, что-то со звоном грохнулось на пол.
— И минутки не постоит смирно!
— И-и-и-и!
— Сейчас у меня отдай мыло Зайге!
— Так я…
— Да что же это за наказание господнее! Ох, плачет по тебе ремень!
«Надо пойти, опять они там воюют», — подумала Лаура и положила рисунки.
Но Альвина сумела навести порядок. Зайга вытиралась, лицо девочки от мыла и воды нежно порозовело, мокрые волосы на висках вились мелкими светлыми кольцами. Марис размазывал мыло по лицу кончиками пальцев.
— Марис, а шею?
— Я… я уже…
— На озере, там он расходится так, что чертям тошно, — пожаловалась Альвина, — а заставь его в тазу грязь сполоснуть, так палец намочить боится.
— Дай я тебя вымою.
— Я сам!
— Но тогда будь добр — как следует! Видишь, какие полосы.
— Где?
— Под подбородком.
— Там не видно, — сказал Марис и засмеялся.
— Слушай…
— Да тру же я, тру.
Началась обычная по вечерам перебранка, которая затягивалась или не затягивалась в зависимости от того, была ли Лаура дома. Если ее не было, ералаш продолжался долго, иногда Марис со смехом и визгом убегал от Альвины, не желая ложиться, а та гонялась за ним, грозясь пожаловаться, до тех пор пока оба не устанут и не поладят. Но засыпал мальчик мгновенно, едва донесет голову до подушки.
— Ну, хорошо? — спросил Марис, вскинув подбородок. Шея была натерта докрасна.
— Возьми свое полотенце.
— А теперь я тебе нравлюсь? — лукаво спросил он.
— Если не считать ноги.
Он критически осмотрел свои серые ступни.
— Не такие уж грязные, — заключил он.
— Ночью вытрутся о простыни — утром будут совсем чистые.
— Да ну! Я…
— Мне, что ли, за тебя браться?
— Не надо, хи-хи-хи, я сам.
— Хоть бы один вечер без озорства, так нет, — ворчала Альвина. — Вот косое веретено! Никак его не уложишь. С Ричем, бывало, тоже не сладить, когда был маленький. — Ее лицо озарил отблеск улыбки. — Намотается за день, набегается, только что с ног не валится, а спать — нет, ни в какую…
— Потри щеткой, Марис!
— …и умываться тоже — хоть на веревке тяни, как лошадь к кузнецу.
— Мама!
— А-а, у него все равно в одно ухо влетит, в другое вылетит.
— Ну да! — вставил виновник педагогического инцидента.
А Зайга стояла у двери, прислонясь к косяку, задумчивая, тихая и с виду уже сонная.
— Беги, детка, ложись.
Зайга встрепенулась.
— Еще немножко… — попросила она.
Румянец сбежал с ее лица, оно белело светлое, тонкое, бледная кожа казалась прозрачной. Хрупкая, вытянувшаяся за время болезни фигурка с тонкой шеей и легкими распущенными волосами — Зайга сама чем-то напоминала цветок с ее рисунка.
Наконец и Марис кончил разговоры разговаривать, как выражалась Альвина, и Лаура отвела детей в комнату.
— Ну, а теперь быстрее, — поторапливала она. — Марис, чего ты там застрял?
А тот, сунув руку под шкаф, шарил, искал что-то.
— Марис!
— Сейчас… возьму в постель котенка.
— Сегодня моя очередь! — запротестовала Зайга. — Он у тебя был вчера.
— Как бы не так! Ого, кусается, ты как думала.
— Не тяни, ему больно!
— Киска, хи-хи, ее оттуда не выманишь. Кис-кис…
— Оставь его, Марис! — сказала Лаура. — Опять будут грязные руки.
— А чего он прячется?
— Не хочет он к тебе, — опять крикнула Зайга, — Ты его душишь.
— Ну да! А ты нет? Возит в коляске…
— Зато ему не больно. А когда ты за лапки…
— Марис, прекрати сейчас же!
Мальчик нехотя поднялся с пола. Ладони, разумеется опять были серые. Незаметно оглядев руки, он украдкой обтер их о штаны. Увидят — опять погонят мыться.
— Раздевайся.
— А ты мне котенка…
— Раздевайся, пожалуйста. И ты, Зайга, тоже.
Еле поворачиваясь, Марис стягивал штаны, тихонько шуршала одеждой у своего дивана и Зайга. Из-под шкафа выглянул сперва нос, потом показались и озорные глаза.
— Вон, вон он! — заорал Марис.
— Кис-кис, киска!
Котенок рысцой подбежал к Лауре.
— Мне! — кричал мальчик, жадно протягивая руки.
Лаура бросила взгляд на Зайгу. Девочка смотрела на них большими влажными глазами, но не сказала ничего: она вышла из игры.
— Получит тот, кто первый будет в постели, — пыталась помирить их Лаура и сразу поняла тщету своих ухищрений. Зайга и не думала торопиться, все еще грустно смотрела на котенка, Марис же рванул с себя штаны так, что шов затрещал, прыгнул в кровать — она только охнула, и засмеялся довольно, смехом победителя:
— Я первый!
И котенок скрылся в его объятьях,
— Только осторожно, не дави.
— Хи-хи-хи! Он щекочет меня усами.
Зайга, не говоря ни слова, залезла под одеяло, и в углу воцарилась тишина.
— Ты не хочешь… Тобика? — спросила Лаура.
— Засну и так, — донеслось из угла.
С головой забравшись под одеяло, Марис продолжал хихикать.
— Если ты не будешь спать…
— Буду, почему не буду. Хи-хи-хи… Ай!
Кот выскочил из-под одеяла, перемахнул через Мариса, со всех ног бросился к двери и скрылся на кухне, сразу решив тем самым назревавший конфликт. Мальчик, конечно, хотел кинуться за ним, догнать беглеца и водворить на место, то есть в камеру пыток, однако вмешалась Лаура:
— Хватит, наконец!
— Так он…
— Успокойся и закрывай глаза.
— Так я…
— Марис!
Мальчик закрыл веки, только ресницы дрожали, и от сдерживаемого смеха дергался уголок рта. Один глаз приоткрылся.
— Марис, ну…
Веко мигом захлопнулось, мальчик шевельнулся, замычал, словно его потревожили во сне, только уголки рта по-прежнему дергались. Ясно — до тех пор, пока Лаура будет стоять над ним, он не уснет. Зайгины глаза провожали каждое ее движение и, когда Лаура потянулась к выключателю, были обращены к ней внимательные, ясные. Они обе серьезно посмотрели друг на друга.
— О чем ты думаешь? — невольно спросила Лаура.
Зайга рассеяно улыбнулась.
— Ни о чем…
Конечно, спрашивать так бессмысленно, Лаура это знала. Ведь ребенок не думает, он просто чего-то хочет, чем-то огорчается или чему-то радуется. Но как спросить? Не вызовет ли она против своей воли вопросы, которых сама боится, хотя от них все равно не уйти. Вот кончатся каникулы, Зайга пойдет в школу и вместе с задачками опять принесет оттуда вопросы, на которые трудно… да и нельзя ответить. Звирбуле из лучших побуждений посадила Зайгу на одну парту с Маритой Даудзишан. Эта наивная идея даже растрогала старую учительницу. «Дети ведь не виноваты», — произнесла она чуть не со слезами, взволнованная собственным благородством. А назавтра Марита решительно заявила, что сидеть с Зайгой Датавой не будет. «Что вы посоветуете, коллега?» Что Лаура могла посоветовать? Она привезла дочку из школы на раме Ричева велосипеда, обе молчали, будто забыв о случившемся. Только поздним вечером, в темноте, когда словно смазывались резкие, жесткие контуры действительности:
— Мама…
— Спи, моя хорошая, — беззвучно прошептала Лаура, проведя ладонью по светлым, рассыпанным на подушке волосам дочери, хотя между ними не было сказано ни слова.
— Марис заснул?
С его кровати доносилось ровное сопение. Наверное, опять согнулся в три погибели — с таким шумом дышит. Иной раз уткнется головой в подушку, прямо задыхается, а проснуться не может, до того сон крепкий. Лаура подошла взглянуть: так и есть. Повернула его на спину и укрыла — мальчик даже не заворчал, дыхание стало спокойное, почти неслышное.
— Потуши, деточка, свет.
— Ты хочешь уйти?
— Мне рано вставать, ты знаешь, я еду в город.
Лаура подумала — Зайга могла попросить привезти ей какой-нибудь пустяк, но та не попросила, а только, как показалось Лауре, вздохнула.
Свет потух.
— Спокойной ночи, дружок.
— Мне будет скучно.
— Когда, доченька?
— Завтра.
— Почитай… или порисуй. У тебя еще есть бумага?
— Ага. Но ты только скорее, ладно?
— Постараюсь. Хотя нам завтра сидеть долго.
Какое-то время слышалось только дыхание.
— Я тебе нарисую что-нибудь. Хочешь?
— Хочу.
— А что нарисовать?
— Мне все равно, дружок. Хотя бы цветок… или что-нибудь еще.
— Я нарисую снег. Белый такой, теплый снег.
— Что ты, дружок, разве снег теплый? Он бы тогда растаял. Ты, наверно, такой снег видела во сне.
— Не-ет. Снег, когда падает, теплый. Только люди не замечают.
— Кто же тогда замечает?
— Деревья и камни… и дома.
Голос в темноте звучал сонно и нежно.
«Где я это слышала?» — копалась в памяти Лаура и вдруг вспомнила: Рич!
Это было в тот день, когда они ехали из больницы с малышом и в пути застрял их «виллис». Запоздавший в ту зиму снег, будто наверстывая упущенное, валом валил с низкого, клубящегося неба, повисшего на дымовых трубах и елях. Все оделось, окуталось белизной, и Рич сказал, что, глядя на этот снег, чувствуешь тепло. Веселый, раскрасневшийся, он прямо не мог усидеть на месте, все рвался куда-то, суетился и, когда машина застряла, скорее обрадовался, чем огорчился. Копал снег с охотой, постепенно сам покрываясь снегом, и никак не хотел отдать лопату, они с Глауданом тянули ее каждый к себе; было так смешно, что взрослые мужчины, как дети, чуть не дерутся из-за лопаты, а малыш тем временем проснулся, заплакал, и невозможно было его успокоить, и Глаудан сказал: «Настойчивый ты, не хуже мальчонки!» — или что-то в этом роде. Рич глядел сквозь стекло, не решаясь открыть дверцу, чтобы не простудить Мариса, у которого имени еще не было, и снег таял на его смеющемся, разгоряченном лице…
— О чем ты думаешь, мама?
— Да так, детка…
Что из всего этого она могла рассказать дочери? Ведь ничего, в сущности, тогда не произошло… ничего особенного, просто это были светлые минуты в ее жизни, другому их не понять. Качели судьбы вознесли ее ввысь, к вершинам деревьев, и снова понесли вниз, к обыденности, к будням.
— Мама…
— Спи, детка, а я пойду. Спокойной ночи!
Может быть, счастье, выпавшее на долю Лауры, было скромным? Ведь когда она оглядывалась на свою жизнь, горными пиками в ней высились дни, когда родились дети. То были великие минуты просветления, которые природа подарила только женщине, как бы в награду за все, что и выстрадать суждено только ей. Она лежала тяжелая, как земля после грозы, не в силах пошевелить рукой, в измученном теле ныл каждый мускул, а в ушах, как чудо, звучал тоненький сиплый голос ребенка, заполнявший собой весь мир. Она слышала его и потом, уже в палате, через стену, отличая от других; удивительный приемник в ней был настроен на голос именно своего ребенка…
«Что передать вашему мужу, Датава? Он стоит, не уходит».
Потом уж Лауре сказали, что Рич прождал внизу пять с половиной часов, сначала шагал взад-вперед у парадного, пока кто-то из медперсонала не сжалился и не пустил его в коридор погреться.
«Опять ваш муж, Датава…»
Потом они виделись через окно. Лаура уже ходила, но открыть окно боялась — у нее была небольшая температура. Она не слыхала, что кричал ей Рич, только видела оживленное румяное лицо; стоя на ветру, он держал шапку в руке. Лаура сделала ему знак — пусть наденет, не мерзнет, но Рич не понял ее жеста, принял его за приглашение войти и с комичным сожалением развел руками. Ветер развевал его черные кудрявые волосы…
В эти минуты Лауре казалось, что она любит мужа. Но это был только мираж — отблеск тихого счастья, до краев наполнявшего Лауру. Сквозь расстояние и время, разделяющие их, как тогда разделяло стекло в больничном окне, Лаура видела, что она никогда по сути не понимала Рича, что ее всегда смущала, даже пугала противоречивость его характера, столь чуждая ее спокойной, уравновешенной натуре. Веселый, бесшабашный, он через каких-нибудь два часа мог без видимой причины впасть в крайнее уныние. С утра уедет сияющий, неотразимый в своей мужской красоте, а вечером притащится жалкий, грязный, как последний бродяга. Его руки от избытка сил были как натянутые тросы, и тем не менее при виде хмельного соседа, нетвердым шагом топающего в Томарини, он с неподдельным страхом вбегал в дом, беспомощно бормоча: «Лаура, дорогая, спаси, опять он идет со своей проклятой водкой!» Желание исправиться уравновешивалось в нем неспособностью исправиться. Он требовал терпения и был как ребенок: податливый и непостоянный, наивный и забывчивый, за ним надо было смотреть, остерегать его, отводить домой; быстрей всего выветривались из его головы собственные обещания и клятвы. Он был ласков и нетерпим в одно и то же время. Он был добрый и стал злодеем… Если бы Лауре, когда она пришла в Томарини, сказали, что Рича будут судить за убийство, она бы, наверно, засмеялась, настолько невероятно… просто чудовищно это звучало. Она шла сюда с верой, с решимостью, но ветер их с годами развеял, унес как сухой песок, и она сдалась…
Лаура стояла в своей любимой позе, глядя в окно, за которым не видно было почти ничего, — все, будто половодьем, залил туман, и дом был похож на затонувший корабль, вокруг которого слабо плескались мутные воды.
Но, может быть, причина в самом главном, думала она, может быть, мало горячей веры и моря терпения, если нет того, что делает человека мягким как воск и твердым как сталь, — если нет любви, заменить которую, видно, не могут другие, даже самые благородные чувства. Без нее благие намерения не покрываются золотым запасом.
Она легла. Перед закрытыми глазами встало лицо Рича, сухощавое, обветренное, задумчивое, каким Лаура видела его в последний раз, темные глаза с мольбой, покорно смотрели на нее, и она устыдилась своих мыслей. Волной нахлынула жалость и с шумом погребла, завертела ее в своих вихрях… С этим чувством она и заснула; а наутро проснулась с ликующим, непонятно откуда взявшимся предчувствием счастья.
«Что же мне снилось?» — старалась она вспомнить. Вспомнить не удалось, но светлое ощущение не проходило, изнутри озаряло ее лицо тихой улыбкой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Лаура шла навстречу Рудольфу, не видя вокруг никого и ничего, не удивляясь тому, что он оказался здесь, шла без колебаний и смущения, с тем волнующим ощущением счастья, с каким она проснулась сегодня и которое несло ее как весенний поток.
— Вы тоже в городе?
— Приехал за бензином и вдруг вспомнил, что у вас здесь совещание или заседание.
— Конференция.
— Хотел поискать, но боялся, что совсем потеряю вас в городской толчее. Решил подождать на автостанции, и мой расчет, как видите, оправдался.
Они посмотрели друг на друга и одновременно засмеялись.
Лауре невольно вспомнилась их мучительная вчерашняя встреча. Сейчас, когда они в пестрой шумной толпе шли по кишащей автобусами и машинами площади, залитой оранжевым светом вечернего солнца, их недавняя встреча у озера казалась почти невероятной. Неужели Рудольф, такой радостный сейчас, возбужденный, стоял вчера на берегу до тех пор, пока она не поднялась наверх? И лишь тогда его темная неподвижная фигура растаяла в мутной белизне тумана, и в тихом воздухе повис скрип уключин. И неужели она бросила его и, сама не зная почему, убежала? Идя с ним рядом и чувствуя тепло его ладони на своем голом локте, она удивлялась себе, себя не понимала. Сегодня их будто подменили.
Они подошли к его машине.
— Садитесь, пожалуйста… По пути ко мне просились пассажиры, но взять их без согласия вышестоящей инстанции я не решился.
Лаура, конечно, сразу догадалась, что это за пассажиры, и, когда они выезжали из города, Рудольф в том же бодром тоне рассказал, что у поворота на Томарини ему повстречались Зайга и Марис, он прокатил их немножко и на свой страх и риск почти обещал отвезти завтра в город — ведь у Лауры, насколько он слышал, конференция не кончилась. Она слушала с улыбкой и лишь под конец заметила, что, если начнешь им потакать, отпуска не увидишь, на что Рудольф со смехом возразил — он и не надеется, что отпуск будет продолжаться вечно, и в свою очередь спросил, чем во время отпуска занимается она. Лаура весело отвечала, что ее опыт вряд ли может быть ему полезен: она варит, шьет, чинит, полет, в общем, делает все то же, что обычно, если не считать, конечно, школы, не успеет оглянуться — и сентябрь наступит и все начнется сначала…
Разговор их был вовсе не интеллектуальный, отнюдь нет, они просто по-детски радовались тому, что они вместе, радовались всему вокруг. Сизый асфальт бегучей лентой стлался под колеса, они мчались навстречу низкому, уже краснеющему, ослепительно яркому диску солнца; сквозь опущенные ресницы свет казался золотым и омывал все своими чистыми водами. Мотор гудел ровно и сонно, и только шорох иногда примешивался к этому монотонному звуку, когда «Победа» обгоняла другую машину. За боковыми стеклами мелькали желтые стволы берез, желтые стены домов, желтые заборы, желтые ольхи, а там, куда они ехали, все заполняло собой сияющее солнце, огромное, как на Зайгином рисунке.
— Прямо как в песенке Ирмы Сохадзе, — сказал Рудольф.
— Не понимаю.
— «Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд…» — вдруг пропел он баритоном. — Хотя это и не верблюд, а обыкновенная корова. — Они свернули с шоссе и ехали мимо какой-то усадьбы. — Вот я — настоящий верблюд. Ведь вы наверняка голодны. Значит, я мог пригласить вас в кафе, но, как лопоухий верблюд, упустил эту возможность,
— У меня есть хлеб, — предложила Лаура.
Рудольф бросил на нее короткий взгляд, и она, думая, что он не расслышал или не понял, повторила:
— Хлеб. Хотите? Я купила, когда шла на автобус. Удивительно свежий, а тогда был даже теплый.
И она вынула из сумки белый батон.
— Вы так расхваливаете, что отказаться выше моих сил, — затормозив возле луга, ответил Рудольф.
Когда мотор заглох, их обняли мягкие вечерние звуки. Вдали многоголосо мычало стадо, тихо журчал ручей, текущий, наверно, из елового бора, дугой обрамлявшего луг, и пометивший ольхами свое русло. Ранней весной тут, должно быть, цвела калужница, позднее таволга, а сейчас из зеленой отавы серыми костями торчали вешала. Только по краю неровно обкошенной канавы тянулись малокровные стебли фацелий и курчавились седые головки красного клевера. Поднятая машиной пыль медленно, белым дымом плыла при безветрии. После шума на шоссе здесь казалось совсем тихо и уединенно.
— Пожалуйста, — сказала Лаура, подавая батон Рудольфу.
— Я типичный горожанин, и ножа у меня, разумеется, нет.
— Ломайте.
Он отломил горбушку, их руки соприкоснулись, и обоих пронзило внезапное ощущение близости. Аромат от разломанного батона шел сладкий, как фимиам. Рудольф ждал, чтобы первой начала есть Лаура, и опять, как вчера, их охватило смущение. Лаура откусила кусочек, но у хлеба был только запах, у него не было вкуса.
Вдали по-прежнему трубили в рога коровы. Солнце уже цеплялось за частокол леса, в пылающий диск вонзались черные зубы елей, и вскоре над бором сиял лишь венец слепящих лучей.
Им одновременно пришло в голову, что уезжать отсюда жалко.
— Вам пить не хочется? — спросила Лаура, слушая призывное журчание ручья.
— У меня должна быть в багажнике кружка.
— Не надо, не ищите. Вкуснее всего так, из ладони.
Они вышли из машины и сразу попали в гигантский аквариум, полный чистой алой воды и элодей. В вышине над ними сверкала серебряная звездочка. Самолет летел так высоко, что звук не достигал земли, до которой самолету, казалось, не было никакого дела, и малая ярко-серая точка неслышно плыла во вселенной. Лаура спустилась по насыпи, сняла на траве туфли и ступила в ручей. Вода была родниковая, студеная и удивительно прозрачная, сквозь нее виднелись цветные блестящие, точно маслом смазанные, камешки и крупный гравий. Она вымыла руки, провела холодными мокрыми ладонями по лицу, зачерпнула в пригоршню воды и, выпрямившись, оглянулась. Рудольф стоял наверху у дороги, его одинокая фигура темнела на фоне перламутрового неба.
— Идите сюда! — пригласила Лаура, и вода, сочась у нее между пальцев, крупными каплями падала в ручей.
Рудольф не ответил, он стоял молча и смотрел на Лауру. Нагнувшись, она стала пить, потом зачерпнула еще. В низине стлалась легкая дымка, нетерпеливо ждущая наступления темноты. Лаура больше не чувствовала жажды, но она пила, стараясь продлить это мгновенье, которое вместе с водой вытекало из ее горсти. Потом взяла туфли и поднялась наверх медленно, точно смирившись с тем, что оно кончилось. Рудольф подал ей руку, потом обнял за плечи, и Лаура к нему прижалась. Сверкающая точка в небе неслышно плыла уже над горизонтом, понизу белесо стлалась дымка, вода в ручье журчала, текла, бежала, как время, они были только вдвоем, две серых рыбы в аквариуме, заполненном алой водой и элодеями — черными елями. Но вдруг глубокую тишину взорвал нарастающий гул. Сюда гнали стадо, коровы двигались плотно, бок к боку, грузно топая и занимая всю ширину дороги, — не бурые — густо-черные в белом облаке пыли.
Лаура вздрогнула.
— Поедемте! — удрученно сказала она.
Они сели в машину, которая сразу набрала ход, и на повороте стадо скрылось из виду. Тем не менее Лауре все казалось, что сквозь шум мотора слышен ровный, несмолкающий гул, топот множества ног — будто за ними была погоня. Она невольно обернулась, ожидая увидеть черные морды с круглыми раздувающимися ноздрями, но ничего не смогла разглядеть, позади клубилась пыль.
Лаура попросила высадить ее у поворота на Томарини и потом медленно, долго тащилась по аллее домой. Никто не выбежал ей навстречу, и в голове у нее мелькнуло, что и сама она никого не желает видеть; хотелось побыть одной. «А что же дальше?» — спрашивала себя она, и в ней трубами звучали ожидание и одновременно топот, гул грядущей беды. «Зачем все это?» — говорило в ней раскаяние, а радость трепетала белым платком на ветру…
Альвина была в хлеву. В открытую дверь слышалось мягкое журчание молочных струй — дойка близилась к концу. Котенок лежал на высоком пороге, ждал пены, с озера тянуло теплом и влагой. Во дворе Лаура замялась, словно раздумывая — пройти ли в дом, или заглянуть в хлев к Альвине, сказать, что вернулась. Ну конечно, сначала домой, положить сумки, разуться, переодеться.
— Мама! — закричал Марис, когда она вошла, смеясь упал в ее объятия и, захлебываясь, стал выкладывать:
— Мы с Зайгой ходили тебя встречать на дорогу, а тебя долго не было. Зайга говорит — подождем еще, а мне ужас как захотелось есть и… Почему батон обгрызен? Тебе тоже есть захотелось? — глядя на нее снизу, лукаво спросил Марис, будто поймал взрослого на озорстве — ведь ломать хлеб строго-настрого запрещалось, и Лаура легонько кивнула. У нее не поворачивался язык сказать о своей поездке, тогда пришлось бы что-то недосказать, что-то утаить, а ей было стыдно это делать, глядя в широко открытые глаза ребенка.
— А что вы без меня делали? — спросила она, чтобы самой не пришлось рассказывать, и на нее градом посыпались новости: Рудольф прокатил до Пличей… собирали малину… рисовали… к ним забрела Мариина корова, погнали ее в Вязы… кот поймал птенчика — ласточку, но не успел задушить, отняли, хотели задать коту, но он озлился, стал царапаться… Она слушала их с рассеянной улыбкой, слова летали над ней, мимо нее, как птичьи перья.
— Хорошо, что вы не скучали, — проговорила она, тут же забыв, о чем толковали дети. — А теперь дайте мне переодеться.
Она зашла в комнату, закрыла за собой дверь, но идти за ней дети и не думали. Вытащив из сумки начатый батон, они ломали от него, не чувствуя угрызений совести, ведь пример показала мама.
Лаура села на стул разуться, посидела немного, точно пытаясь вспомнить, что она собиралась сделать, опять встала и легким шагом прошла через комнату к зеркалу. На нее смотрели задумчивые хмельные глаза, лицо покрывал нежный румянец, по плечам, отливая рыжиной, спадали волосы. Лаура смотрела на себя как на чудо, привычным движением взяла расческу, провела по волосам, они тихо потрескивали, и ни с того ни с сего вдруг засмеялась вполголоса, все еще изумленно глядя на свое отражение, будто желая удержать его в памяти, запомнить. Так она не разглядывала себя со школьных лет, когда с бьющимся сердцем сделала открытие, что из худого, долговязого подростка вдруг превратилась в грациозную девушку с женственным телом, что угловатые движения стали плавными, а неловкая, застенчивая улыбка — ослепительной и даже слегка лукавой. С таким же удивлением рассматривала себя Лаура и сейчас — как свой портрет, в котором художник уловил нечто, о чем она не подозревала и что лишь теперь внезапно открыла, не находя еще этому названия.
Скрипнула наружная дверь, кто-то вошел. Лаура видела, как ее лицо исказил страх — оно побледнело, подбородок вытянулся, глаза смотрели тревожно, испуганно, улыбка превратилась в неживую гримасу и лицо, только что сиявшее особенной, таинственной красотой, в мгновение ока осунулось, подурнело. Она бросила гребенку, разулась, переоделась в привычные джинсы и блузку, собрала волосы черной резинкой, больше не глядя в зеркало, ей больше глядеть не хотелось, она стала себе противна.
Щенок на кухне подъедал остатки батона, зажав горбушку, как кость, между передними лапами. Альвина процеживала молоко.
— Ты, Лаура? — удивилась она. — Я и не слыхала, как ты вернулась. Они, — свекровь кивнула на детей, — все глаза проглядели, тебя дожидаясь. На почту не заходила?
— Нет, — коротко ответила Лаура, опять со стыдом сознавая, что умалчивает о поездке. Точно смирившись с тем, что с этого дня уже нельзя будет обойтись без лжи, она все-таки старалась оттянуть тот миг, когда придется сказать неправду.
— Уже должно быть письмо от Рича. Как ты думаешь? — мечтательно говорила Альвина, не замечая, как неприятен невестке этот разговор.
— А где Вия? — спросила Лаура с деланной живостью, даже веселостью, так не вязавшейся с мертвенным выражением ее лица, и слегка покраснела: наигранный тон казался ей отвратительным.
Однако свекровь, занятая своим делом, ничего не заметила: кончив процеживать молоко, вытряхнула пену коту на блюдце, к которому сразу подбежал Тобик. Альвина замахала на него мокрой марлей и прогнала.
— Вон суп твой стоит с самого утра. Не жрет. Какой барин!.. Вия? — вспомнила она. — К Малде поехала, к портнихе…
Альвина бросила взгляд на невестку, но и бледное, неживое лицо Лауры ничего ей не сказало. Альвина была права, полагая, что не знает Лауру и по сути не знает ни ее мыслей, пи чувств. За все девять лет, прожитых вместе, Альвине, например, и в голову не пришло задуматься, любит ли невестка Рича. Мать была так привязана к сыну, что и мысли не допускала, что кто-то другой — тем более жена Рича — может его не любить. Эта привязанность делала ее слепой, она и сейчас не увидала в невестке того, что, вопреки стараниям Лауры, было написано на ее лице и говорило о перемене, грозившей потрясти жизнь в Томаринях…
— Долго вы там канителились, — немного погодя снова заговорила Альвина, но, к счастью, расспрашивать не стала и, как обычно, не ждала ответа: и так ясно, что собрание затянулось, а работой невестки она никогда не интересовалась, если это прямо не затрагивало домашнюю жизнь. Альвине было жаль только потерянных, по ее мнению, часов.
Лаура снова молча кивнула, довольная тем, что обошлось без вопросов и ей не надо лицемерить. Она все искала повод уйти из кухни, чтобы остаться одной, и тут заметила, что оба старых подойника пустые, подцепила их на коромысло и направилась к колодцу. Горизонт еще горел, но уже мерцали первые бледные звезды. Лаура машинально вертела ручку, цепь разматывалась с унылым визгом, и, лишь когда она раскрутилась до конца, Лаура поняла, что ведро ухнуло на дно, подняло ил и вода будет мутная. Но горевать было поздно, она вытянула ведро, поставила на сруб, однако разглядеть, мутная вода или нет, в сумерках не могла, на нее только пахнуло холодом.
«Что же произошло?» — неожиданно мелькнула у нее путаная мысль, будто она чувствовала себя обязанной перед кем-то оправдаться. «Ничего не произошло!» — уверяла, убеждала она себя, загоняя вглубь мысли, что тем не менее все же… произошло, притом нечто большее, чем слияние губ двух дочти чужих людей, что может и не означать решительно ничего. И это открытие вновь наполнило Лауру чувством раскаяния и одновременно счастья.
Она постояла под стемневшим небом, на котором загорались все новые звезды, обхватив руками плечи, вздрогнула от вечерней свежести, которая словно поднималась по ней от босых ног, постепенно охватывая все тело. Потом, чтобы сбросить оцепенение, энергичным движением вылила воду в подойник и еще раз опустила ведро в колодец, слыша только лязг цепи и звяканье жестяной дужки. Над двором пролетела летучая мышь, потом вернулась, но может быть, это была другая. Ночная летунья промчалась как подхваченный ветром лист черной копирки. Лаура запрокинула голову, ожидая, не покажется ли та еще раз, и она действительно вынырнула из тьмы, пронеслась прямо над воротом, Лауре казалось — она почувствовала на лице дуновение, как от взмаха птичьих крыльев. Летучие мыши не боялись человека, охотились за ночными мошками, зимовали под крышей погреба, а летом в дневное время прятались где придется: под стрехой, под навесом, в дровах. Как-то Рич, перекладывая дрова, придавил летучую мышь, она визжала и сипела от боли, разинув круглый рот, утыканный мелкими, острыми зубками. Он взял ее в ладонь и понес домой — как будто в доме ей будет легче; она шипела и плакала в его смуглой ладони, не пытаясь, а может, и просто не в силах его укусить, а он с состраданием смотрел на нее, не зная, что делать. Альвина сказала: как ему не противно трогать руками такую дрянь, а он все печально смотрел и смотрел на беспомощное создание, шевелившееся в его руке…
Лаура удивилась — отчего это воспоминание ей неприятно, ведь летучие мыши ей вовсе не противны, как Альвине, скорее симпатичны, и та мышь, придавленная дровами, которая все-таки выжила, вызывала в ней только жалость. Однако сейчас Лауре не хотелось вспоминать этот эпизод, она старалась его отринуть, безотчетно избегая всего, что могло причинить боль. И, заметив приближение боли, уходя от нее, она взяла на плечо коромысло и вернулась на кухню…
Большое зеркало в Томаринях было одно, в комнате Лауры, и, едва вернувшись из Заречного, Вия тут же вошла к ней с новым платьем на руке, чтобы не откладывая примерить.
— Готово? — спросила Лаура.
— Обожди, я покажу! — сразу же загорелась Вия и, переодеваясь, с воодушевлением говорила: — Мы сшили по немецкому журналу — миди и с широким поясом. Я видела похожее у одной на вокзале, только розовое и тут, сверху, маленькие защипы. Колоссально! А металлические пуговицы на синем еще лучше выглядят и как раз в тон пряжке на моей белой сумке.
Не переставая рассказывать, она нетерпеливо продевала блестящие пуговицы в жесткие, еще тугие петли, которые не хотели поддаваться.
— Еще не обмялись…
Платье действительно было прекрасное, но с одним изъяном — Вие оно не шло. Ее полную фигуру «миди» делало неуклюжей, широкий пояс, деливший и без того короткий торс па две части, укорачивал фигуру, а пуговицы своим наглым блеском подчеркивали ее высокий бюст с почти непристойной смелостью.
— Ну как? — спросила Вия, на одном каблуке поворачиваясь перед Лаурой, и в эту минуту главным, по-настоящему пленительным в ней была неподдельная радость, озарявшая ее молодое круглое лицо. — Ну, как все-таки, а? — нетерпеливо повторяла она, желая, чуть ли не требуя похвал.
— Платье хорошее, — сказала Лаура.
— Правда ведь? — горячо согласилась Вия. — Во всяком случае, в нашем захолустье, в Заречном, такого еще ни у кого нету.
Стуча каблуками («Не смотри, Лаура, на туфли, они не идут к платью!»), Вия наконец подошла к зеркалу и долго перед ним вертелась.
— Думаешь, легко было раздобыть все что нужно! Материал по блату, пуговицы — из Риги, из магазина на улице Ленина, фасон из… Лаура, примерь ты! Хочу посмотреть, как со стороны выглядит, — вдруг предложила она в приливе щедрости, свойственной счастливым людям.
— Разве мне годится твое платье, и потом…
— Надень! Что тебе — трудно? — приставала Вия, желая продлить удовольствие. — Ну, Лаура, миленькая!
— Ты прямо как ребенок, Вия! — отговаривалась Лаура, которой вовсе не хотелось опять переодеваться. — Для чего тебе это?
Но Вие втемяшился в голову этот каприз, и она ныла до тех пор («Ты прямо как Марис!»), пока Лаура не сдалась.
— Что с тобой делать, — сказала она и, улыбаясь, вздохнула.
Гладкий шелк холодком прошумел по плечам и спине, Лаура застегнулась. Золовка смотрела на нее, сразу умолкнув, задумчивая, серьезная.
— Что ты уставилась на меня?
— Какая ты все же красивая! — с искренним восхищением сказала Вия, как и тогда, когда прочитала письмо Рича. — Только ужасно бледная и глаза горят как свечи.
Лаура едва заметно усмехнулась.
— Ну, теперь можно снять?
— Посмотри хотя бы на себя.
Но Лаура, вспомнив мертвое, застывшее выражение своего лица, к зеркалу не пошла, ей не хотелось ни вспоминать, ни видеть эту горестную маску; и равнодушно, как и надела, она сняла платье, и материя, только теперь согретая, снова прошумела по спине и плечам. Виины глаза провожали каждое ее движение. Лаура чувствовала себя неловко под этим пытливым взглядом, хотя в нем не было ничего плохого, по-прежнему только немой восторг и что-то вроде недоумения.
— Я сильно устала, — точно оправдываясь, сказала наконец Лаура. — Пока другие обедали, ходила по магазинам. Потом разгорелся спор, и поздно кончили…
— О господи, да что вам делить, учителям!
И Лаура довольно путано — не столько желая поделиться с золовкой, сколько предупредить ее вопросы, что сама она ясно сознавала, — стала рассказывать об одной директорше, которая заявила с трибуны, что «педагог должен делать все возможное, чтобы маленький гражданин чувствовал, насколько он нужен учителям, родителям и обществу», что Лауре это показалось нелепым, она взяла слово, и кажется, даже наговорила дерзостей.
— Как же ты ее назвала?
— Теорией, которая предполагает воспитание человека потребителем.
— Я имею в виду директоршу.
— Ее… кажется, никак. Только сказала, что беда наша, по-моему, в другом — ребенок слишком рано начинает сознавать, что он всем нужен и, естественно, требует, требует и требует. А мы к месту и не к месту ахаем: какие наши детки умные, у них только и разговору — о марках машин, телевидении, космосе… И нас ничуть не тревожит, что многие из них не умеют держать в руках лопату и топор. Ведь лопата — это не просто лопата, а топор — не только топор. Дети должны понять, что труд — это пот, усилие, что труд никогда не будет развлечением…
Вия, которая вначале слушала со скукой, вдруг засмеялась.
— И тебя, конечно, разгромили? Да? Тебя упрекали в примитивных взглядах на труд, в отсталости, тебе сказали, что в нашу эпоху техники и автоматики…
— Но…
— …сказали, что ты против счастливого детства, сослались па Макаренко… Не удивляйся, эти басни мне тоже известны наизусть.
— Но так говорили не все. Другие наоборот…
— Ах, не все? — с горьким смехом продолжала Вия. — А мальчишки не выбили вам рогатками окна, пока вы там разглагольствовали, будут ли в светлом будущем топоры и лопаты? Ты идеалистка, Лаура. Сло-ва, сло-ва, красивые слова…
— Лучше быть идеалисткой, чем…
— Что же ты не договариваешь? Циником? А тебе не приходило в голову, что так называемый цинизм может быть и средством защиты?
— Интересно, от чего же?
— От чего? От того же — прости за грубость — недержания красивых слов. Я была, и не раз, свидетелем того, как малевали иконы с моего бедного отца. Меня сажали в президиум, — что было нужно и начальству и людям в зале не больше, чем нужны пуговки на рукавах пиджака, на которые нечего застегивать, — и начинали малевать. А я должна была сидеть как деревянный идол для всеобщего обозрения, не смея голоса подать, хотя мне, глядя на это, хотелось то смеяться, то плакать.
— Они это делали из добрых побуждений.
— К сожалению, далеко не всегда. Многие — только для галочки. Конечно, это большая честь, что мой отец похоронен в центре Заречного, только я никогда не могла просто, по-человечески поплакать на его могиле. Когда я однажды — еще совсем желторотая — туда прокралась, меня хотели сфотографировать. Получился бы трогательный фотоэтюд, правда? «Любящая скорбящая дочь у…» К счастью, я вовремя заметила. Высунула язык, прыгнула через изгородь и убежала. Можешь меня осуждать, но с тех пор у меня пропало желание туда наведываться. А дома… — Вия безнадежно махнула рукой, сказала не то себе, не то Лауре: — Ах, стоит ли себя растравлять! — точно устыдившись своей откровенности и уже сожалея о сказанном, круто переменила тему: — Может, хочешь взять мое платье на завтра? Ты ведь завтра опять поедешь? Тебе оно исключительно идет.
— Что ты! Таскать по автобусам и вообще…
Вия пожала плечами.
— Таскать не таскать… Не все ли равно.
— Чего ты это вдруг?
— Ты думаешь, я слепая? На кого я похожа с этими пуговицами! Хрюшка, и по брюху два ряда сосков! — заключила Вия с горькой иронией, перекинула платье через руку и вышла, только дверь хлопнула громче обычного.
Немного погодя в щелке показался Зайгин глаз, разглядывавший Лауру. Потом дверь приоткрылась шире, и теперь в комнату глядели два серых глаза.
— Заходи, детка! — заметив Зайгу, пригласила Лаура.
Войдя, девочка обвела взглядом мебель, вещи, будто искала причину ссоры.
— Тетя Вия сердится?
— Да нет, так просто, — ответила Лаура, — платье…
— Не нравится?
— Не нравится.
Зайга подошла к Лауре и слегка прижалась тельцем к ее боку. Лаура ждала, что девочка что-то скажет, но она стояла прижавшись и ничего не говорила. Послышались тихие всхлипывания.
— Что ты, дружок?
Но девочка так и не сказала ни слова, только слезы побежали быстрее.
— Бабушка поругала?
Зайга отрицательно покачала головой.
— Болит что-нибудь?
Тот же отрицательный жест.
— Что случилось? Скажи мне, дружок! Ну, расскажи!
Девочка порывисто обняла Лауру.
— Ничего… мы просто вышли на дорогу… Стояли долго. И мне пришло в голову, что… ты можешь совсем не приехать… и я…
— Как я могу совсем не приехать? Сама подумай!
— Не знаю… Мне просто пришло в голову. Мало ли что может случиться…
Детские руки нервно цеплялись за Лаурину блузку, за плечи. Быть может, сердце ребенка угадало в ней какую-то перемену? Или же в нем таилось предчувствие возможной беды, какое жило в ней самой когда-то, перед несчастьем с Ричем? И, гладя худую спину девочки, Лаура думала, что бури, пронесшиеся над взрослыми, наверное, надломили что-то и в этом хрупком ребенке… Ее охватило страстное желание защитить Зайгу. Но как? И… от чего?
2
Не дождавшись Рудольфа (а может, и не совсем полагаясь на его обещание), дети явились в Вязы сами, принаряженные и чуть-чуть торжественные — вероятно, дома прослушали лекцию, как надо себя вести. Войдя во двор, Зайга огляделась, наверно опасаясь собаки, а Марис, увидав Рудольфа, который возился у сарая с автомобилем, бросился к нему, крича на бегу:
— Ты еще не готов?
— Я готов уже больше сорока лет! — ответил тот остротой с солидным стажем.
— Ну да! Ты же без штанов.
— Как это без штанов?
— Разве ты… разве в таких можно ехать?
— А чем не штаны?
— В таких только мальчишки ходят. Зачем ты машину моешь?
— А зачем ты по вечерам моешься?
— Мама заставляет.
— Что надо сказать сначала? — подходя, напомнила Зайга брату, у которого наставления в голове не держались, и чинно сделала книксен. — Добрый день!
— Добрый день, Зайга, — ответил Рудольф, и в нем вдруг что-то шевельнулось. Он почувствовал прилив теплоты и лишь потом догадался о ее происхождении: серыми глазами ребенка на него смотрела Лаура.
Зайгины светлые волосы были заплетены в косички так аккуратно и туго, что напоминали бусы. Белая школьная блузка с тесными рукавами и едва заметной латкой на локте, синяя выцветшая и совсем короткая юбка, которую она привычным движением поминутно одергивала, говорили о том, как быстро девочка росла в последнее время.
— Скоро в школу? — спросил Рудольф.
— Да, — ответила Зайга, опять механически сделав книксен.
— В какой же класс ты пойдешь?
— Во второй, — ответила Зайга с легкой улыбкой, тоже показавшейся Рудольфу очень знакомой.
Ее тонкую шею обвивал фиолетовый сутаж, спереди спускавшийся под блузку. На таких шнурках носят медальон или крестик, и Рудольф с удивлением спросил:
— Что у тебя там?
— Где?
— На шнурке.
— Это от почтового ящика, — объяснила она и, вытянув ленточку, показала ключик. — Бабушка повесила, чтобы не потерялся.
— Один мы уже посеяли, — вставил Марис.
Зайга кивнула.
— На почте очень ругаются, когда потеряешь: приходится все переделывать… По дороге возьму газеты. Бабушка думает, что будет письмо от отца.
Зайга сказала yt от «папы», а от «отца». В устах ребенка это звучало холодно, отчужденно, и Рудольфу впервые пришло на ум, что он не может себе представить взаимоотношения детей с отцом, которого те не видели несколько лет. Он тоже мысленно употребил бездушное, официальное «взаимоотношения», а не «чувства». В нем говорило что-то похожее на ревность или зависть, и он, усмехнувшись, подумал с иронией, что начинает входить в роль собственника, хотел о чем-то спросить, но оставил эту мысль, вдруг устыдившись сам толком не зная чего.
— Ну, собирайся! — торопил Марис.
— Да, милые вы мои, куда нам спешить? Что мы там будем делать?
— Пострижемся, — важно заявил Марис.
— Это что же, как говорится, не указывая пальцем? — сказал Рудольф, ощупывая свой уже слегка заросший затылок.
— Бабушка сказала: если будет время, чтоб мы отвели Мариса в парикмахерскую, — объяснила Зайга. — В городе стригут лучше, чем в нашем Заречном.
— Под ноль?
— Как это под ноль?
— Ну, наголо. Голова гладкая, как…
— Хи-хи, как яйцо! — закончил Марис, но такая перспектива его, видно, скорее привлекала, чем отпугивала. — И я буду красивый?
— Ты так заботишься о своей внешности, прямо как жеманная барышня.
— Чубчик надо оставить! — обеспокоенная, возразила Зайга, принявшая их разговор всерьез.
— А то бабушке не за что таскать будет?
— О-ой! — вскрикнул Марис, хотя ни у кого и поползновений таких не было.
Теперь засмеялась наконец и Зайга, фиолетовая тесемка на светлой тонкой коже шеи вздрагивала, глаза ожили, стали выразительными, будто в доме вдруг открыли ставни и свет хлынул в окна. Рудольф, сам не замечая своей — скорее нежной, чем веселой, — улыбки, смотрел на девочку. Марис толканул его в бок.
— Ну!
— Ладно, я сейчас кончу, оденусь — и поедем!
Марис залез в машину.
— Где тут можно подудеть?
— Что?
— Я хочу по-ду-деть!
— А-а! Нажимай вот тут.
Мальчик ткнул пальцем в кнопку гудка, отдернул руку, точно обжегшись, и бросил быстрый взгляд на Рудольфа.
— Так?
— Жми крепче! Что, у тебя силы нету?
— Как это нету! — с достоинством ответил мальчик, надавил указательным пальцем еще раз, и в ответ раздалось короткое «ту». Осмелев и приладившись, он дудел еще и еще, вполголоса посмеиваясь от удовольствия.
— Перестань, — нахмурив брови, остановила его Зайга, но Марис ее не слушал; в азарте он жал и жал на кнопку сигнала, словно тревожные крики оленя оглашали хутор и озеро. — Ну перестань, Марис! А то я скажу маме. (Он украдкой показал ей фигу). Ты же портишь машину!
— Как это я порчу?
— А думаешь, если все время жать, она не портится?
— Да ну…
Заслышав беспрерывные отчаянные сигналы, показалась Мария.
— Это что тут за труба иерихонская? Ты смотри, гостюшки пожаловали! А нарядные какие, с капроновыми бантами! Куда же это мы собрались?
— В город! — ответила Зайга, опять чинно приседая.
А Марис, перестав дудеть, важно сообщил:
— Маму встречать!
— Заходите в дом! — пригласила Мария.
Сообразив, что будет угощение, мальчик не заставил себя ждать, а Зайга медлила и пошла лишь после повторного приглашения. Казалось, девочка охотнее осталась бы с Рудольфом.
Он вылил воду, отжал и повесил на плетень тряпку, ощущая перед поездкой невольное волнение, еще усилившееся, когда он остался один; прошел через кухню, где Мария потчевала детей, сменил в комнате шорты на брюки, достал чистую рубашку, но тут вспомнил, что он небритый. Услыхав жужжание «Харькова» и оставив недопитое молоко, тут же явились Зайга и Марис, они молча наблюдали за его занятием, дожевывая хлеб с медом, смотрели с интересом, с почтением, как на незнакомый ритуал.
— Чего она так рычит? — судорожно проглотив кусок, спросил Марис.
— В ней вращаются маленькие лезвия. Видишь?
— У нас дома такой нету. Есть бритва дяди Рейниса, — сказала Зайга. — Ей хорошо чинить карандаши, но бабушка не дает — еще обрежемся.
— А может она… отхватить нос? — из осторожности справился Марис и, получив отрицательный ответ, подставил Рудольфу круглую, надутую щеку. — Поводи немножко. Ну! Дай попробовать, что тебе — жалко?
— Да что брить-то? У тебя же, дорогой, нет бороды.
— А ты — как будто она есть. Ну капельку! Что твоя бритва — сразу сломается?
— И не боишься?
— Чего бояться, — храбро ответил Марис. — Мало ли чего я дома беру, что не разрешают. И ничего.
Рудольф легонько провел бритвой по детскому подбородку. Марис прыснул.
— Ну как?
— Терпеть можно. Только ужасно щекотно, — сказал Марис, ощупывая ладонью подбородок.
Рудольф» заметил, что и Зайга, хоть ничего и не говорит, смотрит на бритву как завороженная, и шутки ради предложил:
— Может, и ты хочешь попробовать?
— Да, — беззвучно произнесла девочка, подошла к нему и приблизила лицо с зажмуренными глазами, дрожащими ресницами, будто готовая к опасности или наслаждению. Поза девочки была исполнена доверия к Рудольфу, и она остро напомнила ему нечто, очень знакомое и близкое.
— Спасибо, — сказала девочка, открывая глаза, в которых было легкое разочарование: наверно, она ожидала большего.
— У тебя нету еще чего-нибудь… такого? — деловито осведомился Марис, описывая руками в воздухе нечто неопределенное, а глазами скользя по часам.
Зайга бросила на него укоризненный взгляд, но Марис был из породы толстокожих: он мог стоически переносить не только замечания, но даже тумаки, не говоря уж о таких пустяках, как — подумаешь! — укоризненные взгляды.
— Чего, например?
— Аппарат у тебя есть?
— Какой аппарат?
— Которым делают карточки.
— Есть. Только я оставил его в Риге. Мне и в голову не пришло, что здесь найдется тип, интересующийся фотографией.
— Что такое тип?
— Покажи ему трубку, пусть его поглазеет, — вставила Мария.
— Что это за трубка? — тут же спросил Марис.
— Большие такие окуляры, в них далеко видно.
— Очки?
— Еще дальше видать, чем в очки.
— Покажи, Рудольф! — потребовал Марис.
Рудольф достал из шкафа бинокль.
— Для чего этот ремешок?
— На шею вешать.
— Повесь! И куда смотреть?
— В стеклышки.
— Ой, какая Мария маленькая.
— Те-тя Мария, — раздельно произнося каждый слог, поправила Зайга.
— Ты не тем концом держишь.
— А как надо? Так?
— Конечно, так.
— Так я ничего не вижу.
— Дай я отрегулирую. И выходи во двор, здесь же смотреть не на что.
Сквозь увеличительные стекла знакомая местность предстала перед мальчиком чужой, полной неожиданностей.
— Лошадь! — шепнул Марис почти восторженно. — Вон дядя Залит. И трубка во рту. А вон телята в Пличах, хи-хи, бегают. Прямо как в кино!
— И мне дай! — протягивая руку, робко попросила Зайга, но Марис вцепился в бинокль и не выпускал из рук.
— Подожди, машина едет. Ой, как ползет!
— Ма-а-арис… — просила Зайга.
— По-до-жди!
— Марис!
— И лодка на озере, и…
— Ну, Ма-а-рис!..
Лишь после долгих пререканий мальчик выпустил бинокль из жадных рук и отдал сестре, не забыв предупредить:
— Только не долго! Слышишь?
Зайга припала к биноклю, направляя его то в одну, то в другую сторону, и лишь невольная улыбка, сдвинутые брови и вздрагивающие уголки рта выдавали ее чувства.
— Ну, довольно, — напомнил Марис.
— Ага, — продолжая смотреть, рассеянно согласилась девочка.
— Отдай! — потребовал брат тоном собственника.
— Ага, — думая о чем-то своем, опять повторила Зайга; на ее личике отражалась таинственная игра воображения — радость и тень задумчивости попеременно сменяли друг друга.
— Ну, от-дай! — скулил теперь Марис, дергая сестру за локоть, а она, увертываясь от брата, все смотрела и смотрела, не отрывая глаз. — Зайга-а!
— Давайте положим в шкаф, — предупредил назревавшую ссору Рудольф. — Едем мы в конце концов или?..
Девочка сразу послушалась, протянула Рудольфу бинокль, — глаза у нее были затуманены.
— Возьмем с собой! — предложил Марис.
Но во избежание новой ссоры Рудольф решительно отклонил это предложение.
— Лучше оставим. А то еще потеряем.
— Да ну! Я его стеречь буду.
— И если мы думаем попасть в парикмахерскую, надо ехать. Нет-нет, оба на заднее сиденье! Здесь сядет мама.
Марис никак не мог усидеть спокойно. Рудольф слышал, как мальчик все время вертелся, ерзал. Марис больше стоял, навалившись локтями на спинку, чем сидел, все смотрел из-за Рудольфова плеча вперед и дышал ему в ухо, тараторя без умолку:
— Во как летит! Теперь через мостик. Ух, как подбросило! Повор-рачиваем направо… Смотри, как корова на нас глаза вылупила! Хи-хи-хи…
Девочка же сидела так тихо, будто ее тут вообще не было, и, только бросив короткий взгляд назад, Рудольф увидел расширенные восторженные глаза.
— Тебе удобно, Зайга? — спросил он, чтобы что-то сказать.
— Ага, — послышалось сзади, и больше ни слова. Она предоставляла брату рассказывать обо всем, что он и делал, — подробно, взахлеб, без умолку, как футбольный комментатор:
— Проезжаем Пличи… Лизавета белье вешает… Вон, вон они, гуси! Гусак задирает голову, на нас таращится! Ишь, пугает, хорохорится! Загоны. Телята пьют. Картофельное поле. Лесок, где повесили дядю Рейниса… Вон косу-уля! Ну смотри, косуля! Бежит, смотри, сейчас скроется…
— Не кричи, я ведь тоже не слепой.
Пока косуля перебегала дорогу, Марис шумно дышал Рудольфу прямо в ухо, потом в зелени кустов еще мелькнул ее красный бок, и все снова стихло, погрузилось в дрему.
— Убежала… — перевел дух Марис.
— Кто такой дядя Рейнис?
— Ты не знаешь? Ну, наш дядя Рейнис! — с ударением сказал Марис, не умея объяснить то, что и так само собой понятно, и Зайга сказала:
— Его бандиты повесили. Он ехал на лошади, и лошадь вернулась домой одна. В телеге лежала его шапка. Бабушка закричала, заплакала… Но это было давно… — торопливо добавила она, будто успокаивая, ободряя Рудольфа, и, подумав немножко, повторила еще раз: — Очень, очень давно. Меня тогда еще не было, Мариса не было, одна тетя Вия…
— Трактор, — возобновил свои комментарии Марис. — Это «Беларусь», знаешь?
Зайга опять сидела тихая-тихая. Казалось странным, что этот хрупкий ребенок старался успокоить, ободрить Рудольфа — большого, сильного мужчину.
— С прицепом, — возвестил Марис. — Везет в Пличи корма для телят. Эйдису одному не справиться.
Рудольф почувствовал на себе Зайгин взгляд. Он почему-то ожидал, что девочка снова скажет, успокаивая: «Это было очень, очень давно». Ждал ли ребенок от него обещания… заверения, что это больше не может, не должно повториться? Или Зайга искала у него заступничества, защиты?
— Заречное, — объявил Марис.
Рудольф затормозил у почты.
— Помочь тебе или сумеешь отпереть сама?
— Сама, — отозвалась девочка, легко взбежала по крутой лестнице здания и тут же воротилась с целой пачкой назад.
Ключик висел у нее на груди поверх блузки, в руке она держала журнал, несколько газет и сверху два письма в разных конвертах. Сев в машину, она захлопнула дверцу и, пригладив мелкие вьющиеся прядки на висках, сказала:
— Готово!
— «С-е-ль-с-к-а-я жи… жи… знь», — читал по складам за спиной Марис. — «П-р-о… про-л-е-т…»
— Ты что, уже читать умеешь? — удивился Рудольф.
— Немножко умею. «…Проле-т-а-н-и-и…»
— «…тарии!» — поправила тоже смотревшая в журнал Зайга.
— Кто тебя учил?
— Читать? — рассеянно переспросил Марис, боясь поднять глаза от журнала и потерять незнакомое слово. От напряжения он судорожно стискивал журнал. — «…про-ле-та-ни-и…» Чуть-чуть Вия, чуть-чуть Зайга, так понемножку и… «в-с-е-х с-т-р-а-н…»
Письма лежали теперь на сиденье поверх газет. Спрашивать, от кого и кому они, Рудольфу было неловко.
— Что такое пролетании?
Увидев Рудольфа, Лаура просияла, и он, держа в своей руке ее узкую ладонь, радостно смотрел в порозовевшее, поразительно молодое лицо, озаренное счастьем, которого она не могла скрыть — с лица ее будто спала пелена. От Лауры пахло незнакомыми духами. Сначала Рудольф просто не знал, что сказать, говорить ли ей «ты» или «вы», токи близости струились между ними, и казалось, они оба чувствовали это.
— Вы долго ждали? — спросила Лаура.
Но прежде чем Рудольф успел ответить, Марис воскликнул:
— Мама, смотри, что мы купили!
Ему не терпелось открыть коробку с акварельными красками, и та в конце концов поддалась.
— Видишь? Мы были в универмаге. Прошли по всем этажам. Знаешь, Рудольф купил мыло в бутылке и хотел купить сандалии с ремешками. Но оказались малы.
Лаура засмеялась, узкая рука ее все еще мягко лежала в его теплой ладони, и, наконец, спохватившись, она отняла руку. Он помог Лауре сесть в машину, нечаянное прикосновение длинных шелковистых волос обожгло его как огнем.
— Чем тут пахнет? — глубоко втянув воздух, спросила Лаура.
— Это мы пахнем, — радостно возвестил Марис.
— Кто это мы?
— Я и Рудольф. Мы были в парикмахерской, и тетенька нас опрыскала. Видишь? — Мальчик повертел головой, давая осмотреть себя со всех сторон. — Красиво меня подстригли?
— По-моему, да.
— А его?
Лаура с Рудольфом взглянули друг на друга и засмеялись, их взгляды не хотели расставаться, как недавно их руки.
— Его тоже, — сказала Лаура.
— Он сбрил мне бороду!
— Что, что?
— Бо-ро-ду! По правде! Такой маленькой машинкой.
«Победа» вырулила на главную улицу и выехала из города.
— Зайге тоже, — сообщил Марис. — И дал трубку.
— Бинокль, — включившись наконец в разговор, поправила Зайга.
— У него дома есть аппарат, который делает карточки. Только он не взял с собой — он не знал, что здесь есть… тип.
— Тип?
— Да.
Уши Рудольфа опять щекотало дыхание Мариса, тот все время висел на спинке переднего сиденья, и Зайга потянула брата за рукав.
— Чего тебе?
— Не ерзай.
— А тебе какое дело?
Лаура обернулась.
— Опять ссоры?
— А что Марис все время виснет у дяди на шее!
— Вот еще… На какой шее? — возмутился мальчик.
— Мне это не мешает, — заверил Рудольф, причем не лицемеря: теплое дыхание у его щеки, вся эта суматоха за спиной напоминали ему что-то близкое, только давно забытое, от этого веяло прошлым.
— Рудольф!
— Да?
— А ты быстрей ехать не можешь?
— Почему же. Могу.
Он переключил скорость, прибавил газу, теперь деревья только мелькали перед глазами. Марис был доволен.
— Хи-хи, вот это да! Хутор… двор… опять хутор… мост. Дом… еще дом.
Стремительный бег машины оборвался у переезда, дорогу им преградил полосатый шлагбаум, и хотя ни с той, ни с другой стороны поезда видно не было, им пришлось ждать. Рудольф выключил мотор, однако и в тишине поезда не было слышно. Возле сторожевой будки бродило с десяток голубей, один сидел на дереве, вопреки устоявшемуся мнению, будто домашние голуби на ветки не садятся. Железнодорожный сторож женского пола стоял с флажком у полотна, — значит, поезд в недалеком будущем должен проследовать, да и спешить им было некуда. Все же Марис, нетерпеливо поерзав, потыкал Рудольфу в спину.
— Что ты?
— Дай подудеть!
— Думаешь, это подействует? — усомнился Рудольф: спина сторожа выглядела неумолимой. — Только ты не очень!
«Ту! ту! ту-ту…»
Разумеется, не подействовало. Женщина оглянулась, и до них донеслось:
— Всё спешат — видно, жить надоело…
Скорей всего это была старая дева или пожилая вдова, злая на всех и на все. Изрекла свою мудрость и повернулась опять к полотну, а к ним — черной неприступной спиной.
— Можно еще? — приставал Марис.
— Не надо, — коротко сказала Лаура.
Наконец показался поезд, длиннющий товарный состав: платформы с бревнами, цистерны с бензином и коричневые вагоны с неизвестным грузом, стуча колесами, точно прихрамывая на стрелках, катились и катились не спеша однообразной чередой, которой не было конца.
— …двадцать четыре, двадцать пять… — считала вполголоса Зайга.
— Ползет как улитка, — сказал Марис.
— …двадцать… Не мешай!.. девять, тридцать, тридцать один…
Рудольф посмотрел на тонкий, словно острым карандашом очерченный профиль Лауры.
«Ну, взгляни на меня!» — думал он, обращаясь к ней на «ты».
Лаура заметила его взгляд, ее ресницы дрогнули. Она повернула голову, глаза ее потеплели. Их руки остались на прежнем месте: у Рудольфа — на руле, Лаурины обхватили сумочку. При детях они не могли ничего сказать друг другу, но это было и не нужно.
— …сорок один, сорок два…
Рудольфа охватило давно забытое волнение, удивлявшее его самого своей юношеской свежестью. Кто бы подумал, что его можно еще чем-то удивить, в сорок лет он испытал и повидал как будто все: чистое, наивное, ранимое ядро в нем покрылось скорлупой снобизма, деланного оптимизма. Тем не менее сейчас он чувствовал себя молодым и счастливым, сознавал, что выглядит глупо, но не стеснялся этого, как не стыдится своей наготы ребенок.
— …пятьдесят шесть, — объявила Зайга. — Пятьдесят шесть вагонов.
— Пятьдесят… семь! — возразил Марис для того только, чтобы подразнить сестру, ведь он совсем не считал.
— Пять-де-сят шесть! — отчеканивая каждый слог, повторила Зайга.
Прогрохотал последний вагон, шлагбаум стал нехотя, медленно подниматься.
— Пять-де-сят семь!
— Дети!
— А чего она… — задиристо начал Марис, но вдруг, зажав ладонью рот, на полуслове смолк, потом, наклонившись к Лауре, прошептал ей что-то. Слышны были только первые слова: — Мама-а, у меня опять…
— Может быть, остановимся у того кудрявого лесочка? — спросил Рудольф, кивнув на облезлый ольшаник у дороги.
— Да ну… — сконфузился Марис. — Что я, худое решето, что ли? У меня зуб выпал. Еще бы немножко — и проглотил.
— Зуб?
— Да. Шатался, шатался и вдруг… — говорил мальчик, протягивая для всеобщего обозрения ладонь с трофеем.
— А красавец был! — пошутил Рудольф.
— Мне тоже немного жалко, да чего зря горевать, — серьезно ответил Марис. — Живи себе и поплевывай! Языком… э-э… уже можно нащупать новый. — Мальчик снова потыкал Рудольфа в спину, и, когда тот обернулся, он, задрав голову, показал темную дыру на верхней челюсти. — Видишь новый?
— К сожалению, нет.
— А он правда есть. Честное слово! Остренький такой… Погляди лучше. Э-э-э, вот тут!
— Не садись на письма, — охладила его пыл Зайга.
Лаура обернулась.
— Ты была на почте?
Девочка кивнула, подала Лауре всю пачку и, сняв через голову ленточку, отдала и ключик.
— Одно тете Вие, другое…
— Опять небось от жениха! — вставил мальчик.
— Марис!
— …другое от папы.
Не разглядывая, Лаура положила письма в сумку.
На проселочной дороге, когда машину подбросило на ухабе, старый зуб выпал у Мариса из кулака и куда-то закатился. Сопя и пыхтя в тесном пространстве между сиденьями, мальчик нагнувшись шарил по полу, Зайга ему усердно помогала, но все поиски были тщетны — зуб как в воду канул.
— Вот, вот он!
— Ну да… Разве это мой зуб? Это дрянь какая-то…
— Не знаешь, как надо сказать: это мусор. Подними ноги! Да не брыкайся, Марис! Как я могу искать — ты все время тычешь мне ногами в лицо.
— Куда я тычу? Я держу ноги.
— Держи и не дрыгай ими!
— А ты не щипайся!
— Я и не думаю…
Толкаясь и прыская со смеху, дети продолжали забавляться игрой. Лаура их не останавливала, она все смотрела перед собой, уйдя в какие-то свои мысли, которые Рудольф теперь не мог угадать, — на ее недавно столь открытое лицо точно опустилось забрало.
«Ну, посмотри на меня!» — молча просил он, стараясь вернуть волнующую радостную близость. Но Лаура не чувствовала его взгляда. Как две планеты, они двигались каждая по своей орбите, сближались… сближались… минуту назад были в положении великого противостояния, а теперь медленно, но верно удалялись друг от друга.
— Вот он! — закричал сзади Марис, и немного погодя, после шумной возни, потерянный зуб был снова извлечен на свет божий.
— Дай сюда, а то опять потеряешь.
— Не трогай, он мой!
Наконец успокоившись и помирившись, дети опять раскрыли купленные в универмаге коробки, пересмотрели и сравнили краски. Особых споров больше не возникало — содержимое коробок было совершенно одинаковое. На взрослых они не обращали внимания. И только у поворота на Томарини, уже прощаясь, крепко прижав к груди краски и стискивая в ладони свой драгоценный зуб, Марис спросил вдруг:
— А чего ты, Рудольф, такой печальный?
— Я не печальный.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Ну, смотри у меня! — сказал мальчик, пристально глядя на него блестящими карими глазами.
— До свидания, Лаура!
Она протянула руку, лицо у нее было измученное, беспомощное и жалкое.
Уходя по аллее, дети не раз оглядывались и, пятясь задом, дружно махали руками. Только Лаура ни разу не обернулась. Рудольф смотрел, как она удалялась, постепенно все уменьшаясь, и наконец скрылась из виду в зелени кустарника. Который раз он так глядел ей вслед с щемящей болью, которая стала уже знакомой, привычной… Он думал: не оттого ли эта боль, что с самого начала он инстинктивно боялся потерять Лауру, предчувствуя неизбежность потери? И его охватило такое знакомое теперь, привычное чувство одиночества.
3
Радостно тявкая, навстречу им выбежал Тобик. Тогда заметила своих и Альвина. Неловко, грузно перешагивая через грядки, она что-то несла в фартуке.
— Что у тебя там? — не утерпел Марис.
Альвина раскрыла фартук, в нем были огурцы и укроп.
— А у нас есть краски! — крикнул мальчик, размахивая коробкой. — А тут у меня зуб.
— Что? — удивилась Альвина.
— Зу-уб! Ну, хорошо меня постригли? Понюхай, как пахнет!
— Есть письмо от папы, — сообщила Зайга, и Альвина оживилась, сразу потеряла интерес ко всему остальному.
— Чуяло мое сердце, что должно быть. — И пошла с ними в дом.
Перебивая и дополняя друг друга, дети рассказывали о поездке, Лаура молча шла сзади, и рядом с ней, учуяв колбасу в сетке, преданно держался песик; всех их овевал запах укропа. Увидав на дворе хозяйку, подняла голову и замычала — просилась в хлев — корова.
— Схожу за Росянкой, — предложила Лаура, отдала покупки Зайге и побрела прямо по траве к озеру.
— Да что, я не привела бы? Ничего ей не сделается, — возразила Альвина, которой не терпелось послушать письмо.
Лауре же, напротив, хотелось этот момент оттянуть. Что изменится от того, прочтет она получасом раньше или позже? Ничего. Еще она поймала себя на мысли, что хотела бы сперва прочесть одна, как будто стыдилась того, что делала не раз и опять собиралась сделать.
Выдернув железный кол из влажной земли, Лаура, как обычно, повела корову поить. Потянув за собой цепь, Росянка зашла в озеро и, наклонившись, пила, шлепая толстыми губами. В той стороне, где Заречное, гудел трактор; над камышом носились стрижи. Напившись, корова вышла на берег.
— Ну, пошли!
Они взобрались на гору, по пути Росянка подняла в траве и сгрызла яблоко…
— Что так долго?
— Разве долго?
— Давай отведу и привяжу.
Им было не о чем говорить. Лаура заметила нетерпение свекрови. Из хлева Альвина вернулась очень быстро, вошла в Лаурину комнату и, хотя невестку не подгоняла, своим молчаливым присутствием все время напоминала: быстрее, быстрее… В приотворенную дверь из кухни шмыгнул котенок, за которым, видно, гонялся Марис, подбежал, и, мяукая, терся об ноги то Альвины, то Лауры.
— Смотри, как бы хорошие чулки не разорвал, — предупредила Альвина.
— Молока ждет.
— Подождет, не помрет. Вот подою, тогда получит.
Вскоре, конечно, ворвался разгоряченный погоней Марис, он хотел во что бы то ни стало схватить беглеца,
— Вы не видали?.. А-а, вот он!
Котенок укрылся под шкафом.
— Не трожь ты его!
— Так я…
— Сейчас будем от папочки письмо читать, — пообещала Альвина.
Однако это не соблазнило Мариса, напротив — он тут же поставил свое условие:
— Дайте котенка, тогда буду слушать!
— Марис!
— Пусть его, Лаура, берет, раз ему охота, — сразу уступила Альвина и даже помогла внуку вытащить из-под шкафа котенка, который отчаянно мяукал и упирался. — Ты глянь на него, сатана, а не котенок! Зайга!
— Что, бабушка? — отозвалась девочка из кухни.
— Иди, письмо читать будем!
Зайга явилась со стаканом воды, кистью, красками и бумагой и, низко склонившись над столом, тут же взялась за работу; прямой, точно по линейке проведенный пробор делил ее затылок на два равных светлых полушария.
— Марис, и ты садись хоть тут! Марис!
— А он барахтается, не дается. Ой, вот нечистый дух!
— Ну, цыц у меня!
— А чего он…
— Надаю по заднице! Сиди, тебе говорят!
Лаура вынула из сумки письмо.
— Погоди, принесу ножницы, — вызвалась Альвина, но, пока она ходила, Лаура вскрыла конверт и развернула сложенный лист.
— Ну, начинай! — садясь на диван, поторапливала Альвина невестку, и та прочла:
— «Моя дорогая Лаура!»
…Все последние дни Рич был мертв, погребен под толстым слоем земли, слоем времени, расстояния, быть он был, но его в то же время как бы не было, и Лаура легким шагом шла по мхам и травам былого. Теперь же он сидел на грубо сбитой скамье, зажав в мозолистых пальцах огрызок карандаша, и писал… Бритая голова, склоненная от усердия набок, казалась четырехгранной… верхняя часть лба, белая, постоянно закрытая шапкой, была точно приставлена к медному лицу. Он поднял глаза, что-то обдумывая, чуть шевеля шершавыми, растресканными губами, глаза у него были как у Мариса, живые, темные и блестящие… С левой стороны рта — маленький светлый шрам, который не загорал…
— Чего ж ты не читаешь?
Лаура нервно откашлялась и начала:
— «Здравствуйте все, мои дорогие!
На прошлой неделе у нас прошел жуткий дождь. Два дня лил без передыху. Все развезло, не земля кругом, а творило, так что месим грязь, хорошо еще, что тепло. Но Ты… но вы не думайте, что я жалуюсь. Это я так, ведь Ты писала, что дома, наоборот, сильная сушь. Когда вернусь, приладим мотор, чтобы не таскаться в гору с ведрами и бидонами. У нас все по-старому, происшествий не было — ни плохих, ни хороших. У двоих из наших срок подходит к концу. Прямо не верится, что скоро и я буду на их месте. Еще год. Так хочется видеть Тебя, милая, и детей…»
Марис ерзал, под ним скрипел стул. Альвина подалась вперед, легонько толкнула мальчика: «Цыть!» — и снова застыла.
— «…и детей и всех вас. Но один из двоих, которые скоро выйдут на волю, мой кореш — есть у нас тут шофер Вася, я Тебе про него, кажется, писал — совсем извелся. Получил известие, что жена с ним разводится. Его домой отпускают, и вот тебе на — идти не хочет. Бродит чернее тучи. Стал я его уговаривать. Он глянул на меня волком, покрыл трехэтажным и говорит: разве я могу его понять? Он знает про Тебя, Лаура, я ему рассказывал. Верь не верь, но от его слов радостно стало на душе. Наверно, я действительно подлец. У человека горе, а я радуюсь. Но что же делать, если я горжусь Тобой… всеми вами. Представить себе не могу, что бы я делал, если б на свете не было Тебя…»
Монотонный, бесстрастный голос Лауры дрогнул, она быстро подняла взгляд: Альвина сидела просветленная, прикрыв веки, Марис гладил кошку, та успокоилась, довольная и ленивая, развалилась у него на коленях белым брюшком кверху; одна Зайга смотрела на мать с тихим недоумением, будто стараясь понять что-то туманное и таинственное.
— Все? — точно проснувшись, спросила Альвина,
— Нет, мама. Еще есть кусочек. «Когда от Тебя… от вас долго нет письма, иной раз ночью, когда не спится, я вспоминаю нашу прежнюю жизнь. И все мне кажется таким прекрасным, как в сказке. Думаешь так иногда, и прямо страшно становится — а вдруг оно может не воротиться! Разве заслужил это великое счастье такой подонок, такое чучело, как я, от которого Ты… и все вы… видела одно горе. А как придет от Тебя письмо, небо очистится, как после дождя, станет синим и ясным. И я становлюсь большим и сильным, себе самому на удивленье. И все мне по плечу…»
Под Марисом опять взвизгнул стул,
— Цыть ты!
— Сейчас кончаю, мама… «Спасибо за рисунки Зайги и Мариса. Показал своим. Одни сказали про его картину, что это конь, другие — что щипцы. Рука у Мариса, как у меня, тяжелая. У Зайги легкая, как птица, это у нее от Тебя. Целую их обоих и Тебя, милая… и также маму,
Ваш Рич.
Р. S. Если вы в последнее время фотографировались, пришли… пришлите карточку».
— Все?
— Да.
— Надо съездить в Цесис или в Валмиеру сняться, раз он хочет, — оживленно сказала Альвина. — Жалко, что не пишет, досыта ли кормят и не больно ли тяжелая работа…
Освободившись от нудной обязанности слушать, Марис живо вскочил на ноги.
— Что будет на ужин?
— Тебе бы только… есть, — тихо проговорила Зайга и ничего больше не прибавила.
— Вот подою корову и соберу на стол, — сказала Альвина, разгладила ладонями фартук и встала.
— Подоить могу я, — предложила Лаура.
— А не устала? — заботливо спросила Альвина.
— Целый день сидела.
— Посмотрю что-нибудь повкуснее. Хотела я оттопить кислое молоко из большого горшка. Поставила на плиту с краешку. Пока туда, пока сюда, глядь — уже перегрелось. Сухой творог получился, крошится. Но если как следует заправить сметаной…
— Я привезла колбасу.
— Вот и ладно! Огурцов порежем. Я малюсеньких нарвала, еще в пупырышках — посолить хотела. Да уж пусть! День сегодня такой, прямо праздничный… Кто их знает, дают им там огурцы или еще какую зелень?
— Не знаю, мама.
— То-то и оно. А послать все равно не пошлешь. Сгниют в дороге, — кротко говорила Альвина уже по пути на кухню.
— Зайга, беги, детка, помоги бабушке резать, — сказала Лаура.
Девочка нехотя слезла со стула; было видно — ей хотелось остаться и красить.
— Мама, где моя машина? — спросил Марис»
— Какая? Большая?
Мальчик кивнул.
— За диваном смотрел?
— Вот она! — возликовал Марис, вытащил красный грузовик, выкатил на середину комнаты и стал толкать к двери, ползая за ним на коленях.
— …трр… тр… трр…
— Смотри не занози ногу.
— Чего?
Когда он угомонился, стали слышны стук ножа о доску и тяжелые шаги Альвины, под которой скрипел расшатанный щелистый пол.
— Не занози ногу, говорю.
— Не заножу… Трр… трр…
Машина с трудом перевалила через порог, выкатилась на кухню, и стук ножа тотчас же прекратился.
— Марис, чего ты на меня едешь! — вскрикнула Зайга.
— Да ну! На тебя… Тут у моей машины гараж.
— Как раз там, где я стою!
— Ты что — стоишь под табуреткой?
— Под моей табуреткой нет никакого гаража.
— Под твоей! Это табуретка старого Томариня!
— Зайга… Марис! Угомону на вас нету, — урезонивала детей Альвина, но в голосе не было ни досады, ни злости, и Марис продолжал толкать свой обшарпанный грузовик под табуретку, гудя все оглушительней:
— …тррррр…трррррр… Видишь, как буксует, черт ли его загонит в гараж!
Лаура спохватилась, что все еще стоит в тупом оцепенении.
«Что я собиралась делать? Ах да, хотела идти в хлев».
После шума на кухне тишина во дворе показалась Лауре мертвой, как если б она оглохла, и лишь постепенно стали выделяться вечерние звуки. Корова в хлеву, заслышав шаги, повернула голову к двери и глядела из полутьмы фиолетовым глазом. Сразу поднялся боров, подошел к загородке и просительно, нежно — насколько это возможно хриплым басом — захрюкал. Лаура взяла низенькую скамейку («Ну повернись, Росянка!»), подсела к корове, обмыла вымя и стала доить; первые струи ударили в жесть туго и звонко, потом полились с мягким журчаньем. На пороге устроился котенок — ждал пены. Все было как обычно, как всегда… За открытой дверью смеркалось, мирно жевала Росянка, пахло парным молоком, рубленой травой и навозом, на насесте охорашивались куры. Иногда корова оглядывалась, ее выпученный глаз казался стеклянным. Лаура вполголоса заговаривала с ней, и та начинала опять лениво, размеренно двигать челюстями. Кончив доить, Лаура отставила скамейку, вернулась во двор и пошла к колодцу вымыть руки; котенок не отставал от нее ни на шаг.
Сверху долетел слабый рокот. Над землей, погружавшейся в густые сумерки, небо высилось громадное, светлое, и на восточном склоне вдруг сверкнул серебряной точкой невидимый самолет, напоминая Лауре о том, что она с тихой радостью и глубокой грустью вспоминала уже как далекое прошлое: с грустью оттого, что оно прошло, с радостью оттого, что оно было. Молоко в подойнике слегка дымилось. Лаура почему-то ждала, что появятся и летучие мыши, будут неслышно парить черными пленками. Но для них было еще рано, летучие мыши ждали густой темноты.
В кухне царили тишина и покой. Капризный Марисов грузовик наконец был благополучно водворен в гараж, дети, в который раз помирившись, дружно сидели на одной табуретке, прижавшись боками, и черпали столовыми ложками нарезанные огурцы, так прямо, без соли и сметаны, без хлеба.
— Кто разрешил?
— Мы только попробовать, — сказала Зайга, положила ложку и покраснела.
— Возьмите из сетки колбасу. Но только, пожалуйста, с хлебом.
— А ты… не придешь?
— Процежу молоко и приду. Ты не знаешь, где чистая марля?
— Не-ет.
— А где бабушка?
Черенком ложки Марис показал на дверь Альвининой боковушки.
— У тебя языка нету? — сделала ему замечание Зайга.
— Ну, у себя, — буркнул Марис.
— В своей комнате, — поправила девочка.
Лаура заглянула в дверь. Но тут старые стенные часы в углу захрипели, откашлялись, и хутор огласился гудящим неторопливым боем.
— Мама?
Альвина сидела на кровати, сгорбившись. Очки с шерстяной ниткой вместо оглобельки съехали на кончик носа, глаза закрыты, в руках стиснут исписанный листок.
— Мама!
Ее ресницы дрогнули как от яркого света, глаза открылись — бессмысленные, безумные. Казалось, она вот-вот закричит, как в тот далекий февральский вечер, когда Рич вернулся без шапки, без ружья, без мотоцикла…
— За что? За что, скажи ты мне на милость…
Письмо выпало у нее из рук, Лаура подняла его, сложила, не зная, что делать.
— Хоть бы единое словечко… — Она раскачивалась в такт словам взад и вперед, взад и вперед. — Лаура, дочушка, за что? За то, что я носилась с ним, как кошка с котенком, по чужим людям, из дома в дом? За то, что отрывала от себя последний кусок?
— Тише, мама, дети…
Но Альвина ничего не хотела слушать,
— Встретила давеча Гермину Даудзишан, поздоровалась с ней — не ответила, — продолжала Альвина надтреснутым голосом. — Подхожу, спрашиваю: «Долго ты меня признавать не будешь?» — «До самой смерти!» До смерти, значит, как злодейку какую. Мы, говорит, загубили им жизнь. А наша жизнь не загублена? Никто бы, говорит, не захотел быть на ее месте. А я… а на моем месте? Покажи ты мне хоть одного человека, который хотел бы оказаться на моем месте!
В приоткрытой двери показалась фигурка Зайги.
— Что тебе, дружок?
— Что с бабушкой?
Молчание.
Зайга робко вошла и стала у косяка. На одной косичке расплелась и свисала с плеча лента, девочка поминутно одергивала слишком короткую юбку.
— Что с бабушкой? — повторила она громче. — Болит что-нибудь?
— Дадим лекарства и пройдет.
— Принести воды?
— Зачерпни из ведра, дружок.
Девочка принесла чашку, Лаура нашла корвалол.
— Выпейте, мама!
Альвина не ответила, ее зубы стучали о чашку, а взгляд, вперенный в стену, был пуст. О чем она думала? О том ли, как уходила отсюда по замерзшему озеру и, оглянувшись назад, прокляла Томарини? Или как возвращалась с Ричем, который вел на веревке пегую козу с острым крестцом? Или как на двор шагом ступил Лысан, тянувший пустую телегу с шапкой Рейниса? И вожжи тащились по земле, в них запутались пучки травы и сухая ветка. Или о том, как тогда заявился Рич… Или она тупо сидела, не думая ни о чем?..
— Отнеси, Зайга, чашку. Я только уложу бабушку и сразу приду.
Но не прошло и минуты, девочка явилась опять:
— Мама, а Марис электричество портит.
— Как это портит?
— Без конца жмет на выключатель.
Стоя на кровати в одной рубашке, Марис дергал выключатель вверх и вниз, приговаривая:
— …погасни — зажгись… погасни — зажгись…
Спальня то озарялась светом, то погружалась во тьму.
— …погасай…
— Марис!
Мальчик с шумом бухнулся в постель, зарылся с головой под одеяло, его тело тряслось — он смеялся.
— Ты мылся?
— Да, — глухо раздалось из-под одеяла,
— Он двигает ушами, — сказала Зайга.
Высунулось раскрасневшееся лицо Мариса.
— Иди мыться, — потребовала Лаура.
— Так я…
— Ты опять за свое?
— Так я же…
— Ма-рис, прекрати!
— А я без штанов, — упрямился мальчик.
— Где твои штаны?
— Остались на кухне.
— Ну, принеси ему, Зайга, — вздохнув, попросила Лаура: рубашка сына кончалась именно там, где она больше всего необходима, а расхаживать в таком виде действительно неудобно. Потом она снова повела его на кухню и все время, пока он медленно, лениво мылся, стояла рядом.
— Дашь в кровать котенка? — вытираясь, спросил Марис.
— Ты его мучаешь, — жалостливо упрекнула Зайга.
— Он любит спать со мной.
— Любит… Чего ж он тогда все время кричит?
— Ничего и не кричит.
Началась ежедневная церемония: дети заспорили, чья очередь брать в постель Котьку, потом Лаура пошла во двор звать котенка, но тот, словно чуя недоброе, не показывался.
— Ки-сань-ка! — зазывал Марис.
— Нет кисаньки. Ну, живо в постель!
По дороге Марис схватил что-то со стола.
— Что у тебя в руке? — спросила она, заметив черный продолговатый предмет.
Оказалось — коробка с акварельными красками.
— Без нее лечь никак нельзя? — сказала Лаура с грустной улыбкой.
— Ко мне тоже приди! — звала Зайга,
— Сейчас.
Лаура потушила свет и подошла. Глаза понемногу привыкали к темноте, на подушке проступил овал Зайгиного лица.
— Посиди!
— У меня, дружок, еще много дел. Посуду надо вымыть…
— Чуть-чуть, самую капельку.
Лаура присела на край дивана, обе молчали, старый дом был полон таинственных шумов, в окно стукнула ветка.
— Кто там?
— Должно быть, ветер.
За стеной старчески ворочалась свекровь, и под тяжестью ее тела, точно жалуясь, стонали пружины. Она все еще не могла успокоиться. Думала ли она о Риче? Или ждала Вию, которая снова где-то пропадала, охотней проводя время у чужих людей?
— Мама!
— Да?
— Папино письмо… было плохое?
Ветка снова побарабанила в окно.
— Нет, — ответила Лаура, — папино письмо было хорошее.
Молчание.
— Марис заснул?
Они прислушались — из угла слышалось ровное дыхание.
— Мама…
— Что, дружок?
Молчание.
— Я тебя очень, очень люблю…
Детские пальчики коснулись Лауры. Она погладила дочь, волосы скользили под ладонью живые, теплые, а лицо было прохладное от воды и чуть влажное — как яблоко в росе.
«Так уже было, но когда?»
Она догадалась, что так было всегда.
В стенах и крыше время от времени что-то трещало, казалось — кто-то ходит по Томариням, не находя себе покоя и в этот поздний час.
— Зайга…
— Мм?
— Тебе спать хочется?
— Ага… Только ты посиди…
Когда уснула и Зайга, Лаура вернулась па кухню, где стояло еще не процеженное молоко и на столе был полный беспорядок — грязная посуда, шкурки от огурцов, кривые зубчатые ломти нарезанного детьми хлеба, крошки, рассыпанная соль. Она торопилась все это убрать, принесла воды, в ящике не нашлось ни полена дров, надо было сходить в сарай.
На дворе поднялся ветер. Когда зашумели яблони, слышно было, как падают наземь спелые плоды. Изредка ветер пел в проводах, звук был мелодичный, как у старинного клавесина. На небосклоне мерцал тусклый спокойный свет, всходила луна. Дверь сарая с визгом отворилась, на противоположной стене шевельнулась черная фигура, от неожиданности Лаура испугалась, но потом сообразила, что это ее тень, — над горизонтом взошла луна, пока еще огромная и оранжевая, одетая дымкой. В саду тени возникали десятками, они дрожали в призрачном полумраке, ступали гулкими шагами падающих яблок, являлись из прошлого и плясали при лунном свете вокруг Томариней.
«Надо уезжать отсюда, — думала Лаура, с суеверным, леденящим страхом глядя на танец теней под пение проводов-клавесина, — все равно куда, только бы уехать. Чтобы Ричу не пришлось сюда возвращаться… в развалины кулацкого рая. Пропади он пропадом!»
Все выше поднималась луна, и короче становились тени, но они по-прежнему витали, черные и глумливые.
4
Издали могло показаться, что в Вязах идет пир горой либо там затеяли свару. Окно было распахнуто, и в нем белым флагом реяла на сквозняке занавеска, из окна вырывалось сразу несколько голосов. По какому случаю у Путрамов народ, удивился Рудольф. Но как только мотор заглох, все прояснилось — это радио! Стариков нигде не было видно, дома хозяйничали чужие громкие голоса, вполне освоившиеся в обыкновенно тихих Вязах.
Путрамов он нашел в комнате у аппарата.
— Что это вы?.. — начал было Рудольф, морщась от оглушительных звуков.
— Тсс! — зашипела на него Мария и сказала еще что-то, во рту блеснул зубной протез, который она носила только по большим праздникам.
На Эйдисе была чистая глаженая рубашка, лицо тщательно выбрито (на подбородке еще держался приклеенный лоскуток газеты), — старики сидели торжественные и нарядные, как в президиуме.
Потянув Рудольфа за рукав, Мария жестом пригласила его сесть, и он подчинился. А тем временем глуховатый баритон монотонно и длинно приводил какие-то цифры.
Эйдис наклонился к Рудольфу?
— Апинит.
— Что ты говоришь?
— Апинит, агроном.
— А-а…
— Тсс! — замахала на них руками Мария.
— Чего ты шипишь как змея?
— Дай ты послушать!
Баритон сменило сопрано, и Эйдис опять наклонился к уху Рудольфа:
— Она.
— Корреспондентка?
— Она самая, с которой я, сталбыть, кофий…
В этот момент назвали фамилию Эйдиса:
«…а также Эдуард Путрам, из старой гвардии «Заречного», стоявший у колыбели колхоза. А вот как раз и он!»
Эйдис насторожился, жадно ловя каждое слово, будто из репродуктора шел не его собственный, только сдавленный, искаженный микрофоном и громкостью голос:
«Нету у нас, конечно, таких пашен, как в Земгале, — холмы все… а поля словно кротами изрыты… но землица — особо плакаться нечего… Если не очень сухое лето, все так и прет из земли…»
— Ей-богу, Эйдис! — заволновалась Мария.
«…и люди теперь едят досыта, дома понастроили… как дворцы, только и знай ездят на моциклетах…»
— Ей-богу, правда он, старый шут! — все еще не смея верить, повторила Мария.
«Спасибо, товарищ Путрам, за беседу, — надрывалось радио, — мы видим — вы торопитесь по делам на ферму молодняка. Желаем успеха! А теперь давайте отправимся на ферму «Гришли» к доярке Хильде Гринталь. Навстречу нам как раз выходит товарищ Гринталь, мы задаем ей вопрос…»
— И это все? — заметил Эйдис, ни к кому не обращаясь, его рука машинально потянулась в карман за куревом.
— Что? — переспросила Мария. — Ничего не слышу!
— Я-то думал, что наговорил им с три короба, — махнул он костлявой лапой. — Приверни тише эту балаболку. Того и гляди уши лопнут.
«Вы слушали радиорепортаж из колхоза «Заречное». Передачу подготовила…»
Мария повернула регулятор, и шум стих.
— Складно получилось, — высказала она свое мнение, — рассудительно так, не похоже на Эйдиса. А у меня уж сердце в пятки…
— Все-то оно у тебя трясется как овечий хвост!
— …ну как при народе что-нибудь отчебучит! Ведь потом от сраму глаза прятать будешь.
Эйдис достал папиросу, чиркнул спичкой, закурил.
— Чего ты нахохлился, старый шут? Чем ты еще недоволен?
— Я думаю.
Мария пожала плечами.
— Вы на него посмотрите, он думает!
Эйдис молча выпустил облачко сизого дыма, откашлялся и сказал:
— А все ж хитрая у барышни эта машина. Все равно как… дуршлак. Жижа, сталбыть, вытекает, остается одна гуща. — Эйдис выпустил еще облачко дыма. — Техника, брат…
— Техника, — согласился Рудольф, отказавшись от мысли объяснить принцип действия магнитофона.
Эйдис серьезно кивнул.
— Оно хорошо посидеть так, без дела, да надо вставать, идти в хлев, — проговорила Мария и нехотя поднялась, ушла на минуту и появилась в рабочей одежде, без зубного протеза, и говорила уже как обычно, пришепетывая: — Что у тебя там в зеленом пузырьке-то? Питье какое или мазать чего?
— В каком пузырьке?
— Который в твоей сумке.
Ну ясное дело, за какую-нибудь минуту Мария успела не только переодеться и вынуть вставные зубы, но и проверить содержимое его сумки.
— Это шампунь, Мария.
— А что им… шампионом делают?
— Голову моют.
— Выходит, это мыло?
— Вроде того.
— И я заметила, на язык возьмешь — мылом отдает, — обрадовалась Мария. — А голова от него как?..
— Вот попробуете и увидите.
— Так шампион этот — мне?
— Вам, Мария. И конфеты тоже, которые вы, наверно, видели.
— А как же, видала, видала, — бодро отозвалась Мария и прибавила: — Ох и балуешь ты меня, Рудольф. — И, потянувшись к нему, неожиданно громко чмокнула его в щеку старчески мягкими губами. — Спасибо тебе, уж какое спасибо!
— Пустяки это, ничего не стоят, — смущенно сказал Рудольф.
— Как не стоят! На этом, как его… на мыле писано — семьдесят пять копеек. И конфеты — шоколадные, небось по три рубля кило, а то и больше…
— Мерзавчика бы сегодня тоже не мешало, — заметил Эйдис.
— Ну да, ну да, ему бы только заложить. Выкинь из головы! Давайте лучше есть бонбонки! — сказала Мария и пошла за конфетами.
— На донышке-то хоть осталось с прошлого раза? — гнул свое Эйдис и украдкой мигнул Рудольфу.
Мария вернулась с кульком конфет.
— Тебя, мать, корова в хлев вызывает, — напомнил Эйдис.
— И чушки некормлены, — спокойно согласилась Мария и протянула кулек Рудольфу: — Бери! Отец, он сладкого не ест.
— Такую дрянь в жизни не брал в рот и на старости лет не возьму, — отрезал Эйдис и сплюнул.
— Дрянь! — возмутилась Мария, шелестя оберткой и со вкусом разжевывая конфету.
— Хоть убей, душа сладкого не примает. Как съем, понимаешь, прямо в жар кидает…
— Блажь, и больше ничего, — заключила Мария и сунула руку в кулек за новой конфетой. — Почему я ем — и никакого жару, а?
— Ну, у тебя, хе-хе, много чего по-другому…
— У-у, бесстыжие твои глаза!
— Это сенсибилизация, — сказал Рудольф. — Повышенная чувствительность к…
— Наговори еще ты ему, — заругалась Мария, — тогда он совсем из меня душу вытянет.
— Смилуйся, мать, когда я из тебя душу тянул? — взмолился Эйдис.
— А думаешь — нет? Морковку из супа вылавливает, кисель есть он не будет, хоть я тут лопни, хоть тресни…
— Да кто тебя заставляет варить? Не вари!
— …свеклы — не надо, булки — не надо… Оттого ты и тощий такой, на люди вывести стыдно.
— Да что я тебе — баран, что ли, чтобы меня выводить!
Мария заглянула в кулек, как бы в нерешительности — взять еще одну конфету или пока подождать. Она уже сладко пахла шоколадом.
— Мать!
— Ну? — нехотя отозвалась она.
— Ты что, сегодня в хлев так и не придешь?
— Батюшки мои! — схватилась Мария. — Как же не пойду! И на дворе уже ночь. Иди, отец, отнесешь пойло.
— Я отнесу, Мария.
— Сама, что ль, не дотащишь? — возразил Эйдис и опять энергично подмигнул Рудольфу.
— Постой, Рудольф, зажгем фонарь.
Мария нашла фонарь («Дай-ка, отец, огня!»), подняла стекло, чиркнула спичкой. Эйдис подтолкнул Рудольфа в бок и молча вытащил из кармана и вновь опустил туда знакомую пластмассовую стопку.
— Долго там, значит, не чешись.
— Я быстро.
— Вот, Рудольф, ведро, выльешь в ясли.
— Дайте мне и фонарь.
Мария надела кофту, взяла подойник.
— Ну, пошли!
Во дворе на них сразу налетел ветер, растрепал волосы Рудольфу, подхватил концы Марииного платка. С озера поднималась пронизывающая сырость.
— Ты без шапки, не простыл бы… Осень, осень, — говорила сама себе Мария, следуя за Рудольфом. — Опять будут длинные ночи, опять грязь, опять снега. Дай я открою дверь, у тебя руки заняты. — Из хлева шел тяжелый, застоявшийся дух. — А ну посвети — не вылить бы мимо.
— Надо и здесь электричество провести.
— Не слыхать, что говоришь, визжит как окаянный! Электричество? Хорошо еще — в доме есть. Нам тут, за озером, провели последним. Цыть ты, обождать не может!.. Не хотели делать. Только три хутора, говорят, а столбы ставить надо, провода тянуть. Ну, а как надумали в Пличах делать ферму, провели туда, а заодно и нам, и в Томарини… Фонарь поставь наверх, чтобы в руке не держать.
На дворе зашумели деревья.
Мария прислушалась, сказала:
— Если к ночи задует ветер, это на дождь, — и подсела к корове, зажав между колен подойник.
— Мария, кто такой… дядя Рейнис?
— Цирулис? В волости он был, в комитете ихнем, где теперь Заринь.
— Его что — повесили?
— Кто тебе говорил?
— Девочка их, Зайга.
Мария вздохнула.
— Бедные ребятишки… Чем они виноваты! — Под Марией скрипнула скамейка. — Ехал Залит домой, в Пличи, вон тем лесочком, темно уже — хоть глаз выколи, смотрит — висит что-то на дереве, вроде бы человек. Конь пугливый стал, голову кверху, кверху дерет. Слез это Залит с телеги, подходит — так и есть, человек! Зажег спичку. Сразу не узнать, вроде Цирулис. Смотрел, смотрел: точно, Цирулис! Достал нож, полоснул веревку, а тот уже кончился… Грозиться Томаринь грозился — лучше пусть не лезет в его дом красный Цирулис. Да Альвина не хотела идти куда-то, она тут привыкла… Ну, Буренка, ну-ну, сейчас подою. Лижет меня… Похоронили в Заречном, против комитета. Может, видал — такой камень?
— Видел.
В подойник брызнули первые струи.
— А Томаринь?
— Что ты сказал?
— А с Томаринем что?
— Август, говорят, живой в руки не дался…
Прислонясь к косяку, Рудольф стоял на грани между теплом хлева и вечерней прохладой, между ритмичным журчанием струй молока и шумом ветра. Кухонное окно сеяло над двором желтоватый свет, постепенно таявший в темноте, и там — как и в Томаринях — шлепались оземь, стукались и гудели яблоки.
Дверь дома на ветру хлопнула о стену.
— Руди!
Эйдис шел искать пропавшую душу.
— Чего ж ты? Канул, как нож в колодец, — упрекнул он и, понизив голос, добавил: — Одному, брат, в глотку не лезет. — Вопреки этому утверждению от него уже попахивало. — Эх, сейчас только угрей ловить! Поставить бы перемет… Угорь любит, когда ночь темная и волна высокая, клюет тогда как миленький. Чем погода злее, тем больше ему, сталбыть, по нраву.
— Луна будет.
— Где ты ее, луну, видишь?
Эйдис задрал голову — небо накрыло двор черным колпаком.
— Еще рано.
В круг мутного света ветер занес из сада желтый лист, прокатил по двору и снова загнал в темноту, где тот, кружась, исчез.
— Знаешь, Руди, один раз в такую вот ночь я улов взял так улов…
— Ну?
— Я не рассказывал?
— Не знаю, смотря что.
Эйдис весело крякнул.
— Сперва дерни чарочку, тогда расскажу.
На свет божий явилась бутылка «Плиски». Эйдис вынул из кармана стопку, налил.
— Ну, рвани!
— Унюхает Мария, задаст нам жару.
— Это уж как бог свят, — согласился Эйдис. — Но раз в брюхо попало, считай, хе-хе, что пропало. Пускай пилит лучше, когда выпьешь, чем натощак. Остаток она прошлый раз в комод спрятала, за Библию. На всякий случай, мол, если кто простынет… Давай! Время деньги, как говорят французы.
— Англичане.
— Все едино.
Эйдис и себе налил.
— Ну, поехали! Ух, огонь! — Он отер губы тыльной стороной ладони. — Закусить хочешь?
— Нет.
— Постой, — вспомнил Эйдис, — я же тебе, брат, не рассказал про угря… Время было, как теперь, к осени. Выехал я на озеро, зацепил перемет за кручу, против берез которая. Свежими червями наживил, все как положено… — Он взболтнул в бутылке остаток, будто на дно могла осесть гуща, и снова наполнил стопку. — Еще по одной?
— Можно.
— Наутро, сталбыть, чуть свет еду проверять. Тяну — а из воды вылазит не разбери-пойми что… Пей до дна! Хе-хе, целый клубок…
— Живой?
— Ну да! Ходуном ходит! Стал я распутывать, да куда там! Бьется, только хвосты хлопают…
— Что же, у него был не один хвост?
— Хе-хе-хе, слушай дальше… Пока-то, пока я распутал! И что ты думаешь — на крючке был угорь. Его возьми да проглоти сом. А угорь, шельмец, вылез у него в жаберную щель.
— Не лей…
— Не веришь? — обиделся Эйдис. — Разве я, брат, когда болтал тебе зря?
— Я говорю — не лей коньяк на пол!
Старик опомнился, опрокинул стопку и крякнул от удовольствия.
— Э-та-та-та… Да, вылез это он, а дальше ни взад, ни вперед, мотается у сома, как говорится, перед носом. Сом терпел-терпел, возьми да проглоти его второй раз. Но угорь есть угорь — вылазит через другую жабру. Переплелись, как парень с девкой, не разнять… — Эйдис оборвал свой рассказ, лицо его стало напряженным.
— Ветер, — сказал Рудольф.
— Ветер, — согласился старик. — Тьфу, мне показалось — Мария. Ну, брат, давай добьем, тут уж оставлять нечего.
Крышечка снова наполнилась.
— Руди, но ты скажи мне как на духу: хороша была моя речь?
— Хороша.
— Хороша, говоришь…
Его взгляд смягчился, зажатая в руке стопка дрожала, у старика, видно, зашумело в голове. Рудольф же, напротив, от двух-трех рюмок никакого опьянения не чувствовал, он пил, разговаривал, даже шутил, хотя беспокойство, тревога тлели в нем подспудно, так, как горит торф: огня сверху не видно, но его не погасить.
Когда он вышел во двор, над лесом по горизонту горело зарево. Ночь наступала бурная, кругом стоял шум, свист, шелест. Рудольф не знал, куда пойдет, что будет делать, он только чувствовал, что ему не уснуть. Когда стихал ветер, было слышно, как плескались о берег и бились о лодку волны, и он без всякой цели направился вниз, к озеру. Он был в одном свитере, без шапки, ветер трепал его волосы, дышал в лицо прохладой. Горбатые волны катились к берегу, Уж-озеро, сколько хватало глаз, зыбилось и волновалось. Блеснули огни Заречного, теплые и уютные, какими они кажутся в осеннюю пору; плоскодонка вздымалась и опускалась, как грудь спящего человека.
Рудольф нашарил в кусте и вытащил весла, вложил в уключины, не зная, куда собирается ехать и собирается ли вообще, оттолкнулся, залез в лодку, вода плескалась о борт, брызгая мелкими каплями на свитер, лицо и руки. Сглаженные ладонями, точно отполированные, весла удобно, привычно легли в его руки, он делал взмах и откидывался назад, делал еще взмах и вновь откидывался назад, лодка летела против ветра как птица, он ощущал свои мускулы, они не болели, только были напряжены, он чувствовал свою силу. Вокруг колыхалась тьма, лодка врезалась в нее ножом, он обогнул полуостров — в Томаринях светилось окно Лауры. Светилось как маяк, как сигнал, ее рука горела в его руке, прикосновение рыжих волос обжигало огнем, близость, как электрический ток, струилась от руки к руке, его обдало жаром. Он втянул весла и отдался на волю ветра — ветер нес к берегу, к Томариням. Он усмехнулся. Я пьян, думал он, пьян и сошел с ума… Окно горело как сигнал в кромешной тьме, как маяк.
И вдруг все преобразилось: вода заблестела, даль отступила, небо налилось тусклым светом. Удивленный, он повернул голову — ах да, взошла луна. Ожили уснувшие города теней, выплыли минареты, валы, башни и крыши, крыши, крыши — пологие, островерхие, круглые, односкатные и двухскатные, встрепенулись черные флаги, черное белье на черных веревках… Заскрипел песок под днищем, Рудольф спрыгнул, замотал цепь за ствол ивы, лязгнула на живой коре сталь. Он медленно поднимался в гору, яблони то прятали его в своих тенях, то выдавали с головой как вора, кругом белели яблоки, в траве было полно яблок, он старался на них не наступать. Навстречу выбежала собака. Та-ак, подумал Рудольф, так… Лихорадочно старался вспомнить имя щенка — Джерри… Джек… Тэдик… Собака подбежала, но не залаяла, может быть спутав его с кем-то, а может быть, уже считая его своим. Что я делаю, это безумие, думал он и все-таки назад не повернул.
До него долетел нежный и мелодичный, как у старинного инструмента, звук; Рудольф понял — это там, наверху, чем-то играет ветер; с порывами ветра звук усиливался. Тень от сарая лежала огромной прямоугольной ямой, он прокрался через нее.
В открытой двери стояла Лаура.
Он догадался сразу — Лаура его не видит. И, чтобы не испугать, вполголоса ее окликнул. Она подалась вперед, как будто хотела броситься к нему, а может, и убежать. Он обнял ее — от мягких волос исходил свежий, зеленый запах укропа и горький хмельной аромат духов; лицо, шея, плечи были холодные, под его горячими губами скользила прохладная гладкая кожа. И вдруг он почувствовал соленый вкус слез.
— Что случилось?
Она не ответила. Над садом вновь прошумел ветер, опять гулко падали яблоки, одно за другим, тяжело и покорно.
— Я вас… я тебя чем-нибудь обидел? — нежно спросил он.
— Почему мы все такие несчастные? — с отчаянием, с упреком неизвестно кому проговорила Лаура. — Почему?
Ее тело в объятиях Рудольфа было словно неживое. Они были так близко и так далеко друг от друга. Он хотел возразить… сказать, что… Но все слова стали банальными. Избитыми, плоскими, стертыми и бессильными… Его охватила тоска, он вяз в ней, будто в болоте, между тем как его руки еще гладили Лаурины волосы, ее плечи, точно стараясь удержать то, что безнадежно ускользало от него, что он не в силах был удержать, не сломав что-то в Лауре.
Он долго стоял на берегу. Погасло последнее окно, и хутор потонул в ночи. Луна сжалась, выцвела, она лила неживой синеватый свет, и Рудольф подумал — как удивительно она все преобразила: Томарини на фоне неба напоминали черные руины.
НОЧЬ БЕЗ ЛУНЫ
(МОЗАИКА)
АВТОР
Уважаемый читатель, действие нашего рассказа происходит сегодня ночью. Видите, вон там, вдалеке, где блестят два огонька, нет-нет, правее, те, что поярче, — это станция Дзеги. Первый огонек — лампа в домишке Салзирниса, а второй — одинокий фонарь на столбе под жестяным козырьком, точно глаз циклопа глядит на пустой перрон. По тусклым рельсам скользит низкая черная тень и скрывается за оголенной живой изгородью — это собака. Станция, небольшая деревянная постройка, появилась тут в первые послевоенные годы на месте прежнего навеса. Настоящее здание, хотя бы и совсем маленькое, что ни говорите, лучше навеса, который, правда, спрячет вас от дождя и снега, но зато открыт всем четырем ветрам. Кто-то — кто именно, в Дзегах никто уже не помнит, — посадил здесь отростки дикого винограда, который с северной стороны зачах, зато под тремя другими стенами прижился и пополз вверх, пока с годами не добрался до крыши; он заплел бы даже окна зала ожидания и комнаты дежурного, как и название станции, если бы каждую весну не обуздывали его норов. И теперь с мая по октябрь резные листья, зеленые или багряные — смотря по времени года — красят вишневые, скажем прямо, довольно облезлые стены, и никому от этого нет вреда. Я говорю «нет вреда» сознательно, так как по сути дела эту красоту видят только здешние, местные жители, поскольку пассажирские поезда, к вашему сведению, проезжают Дзеги ночью, когда темно: сперва из Риги, а потом, уже под утро, на Ригу. Вы скажете, что сообщение весьма неудобное? Но так кажется только па первый взгляд. Правда, кто живет на другом конце «Коммунара», в колхозе «Биркава» или в лесничестве, тому приходится поскучать на станции или топать ночью впотьмах. Однако такое расписание поездов имеет и свои преимущества, во всяком случае не слыхать, чтобы здесь на него жаловались. Представьте себе, что вам нужно из Дзег съездить в Ригу по делу. Утром вы уже в городе; успеете обойти нужные вам учреждения и магазины, сделать покупки, нагоститься, а ночью вы дома. Удобно? Конечно. И в конце концов на станции и в вагоне тоже можно подремать. В Дзегах, между прочим, никто еще не проспал поезда. Ложитесь спокойно спать — Салзирнис, дежурный и кассир в одном лице, вовремя вас разбудит.
Сейчас, поздней осенью, станция, конечно, выглядит довольно невзрачно, потому что роскошные листья дикого винограда опали и вязь голых плетей напоминает крупноячеистую рыбачью сеть, которая в ветреную погоду трется о стены и шуршит. Зал ожидания натоплен, здесь просто жарко, печурка раскалилась как утюг, даже чуть попахивает паленым. Дров в Дзегах не жалеют — куда ни глянь, кругом леса, — чего нельзя сказать об электричестве. Под самым потолком на короткой металлической ножке крепится что-то вроде небольшой снежной груши, которая скупо освещает зал, по существу только его середину — лавки вдоль стен тонут в сумраке. Перед тем как прийти поезду, загорится еще одна лампочка, над окошком кассы, но не раньше.
Я прошу извинить меня, если вам наскучило длинное описание станции. Однако это необходимо, так как здесь нынче ночью встретятся и вновь расстанутся наши герои. За дверью зала ожидания слышатся голоса и даже храп, значит, кое-кто уже явился: чета Олманов — Кристина и Теодор, Эмилия с Лиесмой и еще Язеп — все издалека. А храпит Теодор Олман. К сожалению, вы не видите его лица, потому что он сидит, свесившись вперед так низко, что видна только его гладкая, точно отполированная макушка, которую подковой обрамляют мягонькие как пух волосы. Шапка у него слетела на пол вниз тульей. Во сне Теодор то и дело кланяется, и я понимаю ваше желание подойти и бросить в шапку копейку. Но не делайте этого — такой поступок может иметь непредвиденные последствия, поскольку у Кристины нет чувства юмора, зато есть острый язык. Которая из двух пожилых женщин Кристина? Вон та, тощая как вобла, с юркими мышиными глазками, у ног ее под скамьей стоит обвязанное белой тряпищей эмалированное ведро, и время от времени она толкает Теодора, приговаривая «не клюй носом!» или «не вешай табак!», как когда. Теодор на это не отвечает — продолжает храпеть, только сбивается с ритма.
А крупная, с рубенсовскими формами и полным, уже поувядшим, но все еще миловидным лицом, это Эмилия. Одета она во все черное — черное пальто, черный платок, черные чулки. Вы догадываетесь, что Эмилия едет на похороны? Так оно и есть. Вас только немного смущают красные резиновые сапоги? Тут ничего не поделаешь, только такие привезли в здешний магазин. Прислоненный к стене венок в бумаге, распространяющий грустный, приятный аромат хвои, везет, конечно, Эмилия. Кристина считает, что надо было оставить его на дворе, но Эмилии неохота бегать туда-сюда — присматривать за ним, хотя и мало вероятно, чтобы кто-то позарился на кладбищенский венок. Кристина же боится всего такого — покойников, привидений, кладбища и так далее, с тех пор как Либерт… Но не будем забегать вперед.
В разговор Эмилии с Кристиной изредка вставляет слово Язеп. Чего ему мешаться, сидел бы себе и листал свой «Дадзис», аи нет — его так и подмывает подразнить обеих кумушек. Язеп сегодня вырядился, сразу видно, что едет в город. На нем новая мохнатая меховая шапка, которую он не снимает даже здесь, в тепле, шарф вразлет, из-под него выглядывает белая нейлоновая манишка с серым узлом галстука. К тому же он крепко надушился «Фигаро», чтобы заглушить одеколоном запах смазки, которым он насквозь пропитался.
А молодую девушку, блондинку, что сидит у окна, обхватив коричневую сумку на коленях, как кошку, и положив на нее круглый еще детский подбородок, зовут Лиесма. Со стороны кажется, что Лиесма заснула, но глаза у нее открыты и рассеянно смотрят вдаль, будто здесь ее никто и ничто не интересует.
Далеко отсюда, в доме лесного техника, который заслоняют от нас высокие мачтовые сосны, еще светятся три окна. В двух из них свет вот-вот погаснет, Бернаты-младшие лягут спать, а за третьим окном придет в движение тень, потом скрипнет дверь, во двор выйдет Бернат-старший и отправится запрягать лошадь — ехать на станцию встречать жену Гайду.
Но что там такое? Вас, наверно, слегка ослепил яркий свет в окнах лесного техника. Вам не кажется, что в темноте на дороге шевельнулось причудливое четвероногое? Доносится сдавленный женский смех, потом мужской, причем вполне реальный. Это обнявшись стоят два человека и время от времени целуются. Только и всего. Голоса как будто знакомые. Ну да — агроном Альфонс Скрастынь и Раса! Воздерживаясь пока от комментариев, приведу здесь только высказывание Кристины:
— Теперь все на молодых чисто помешались. Скрастынь-то, человек, можно сказать, в годах, а все никак не перебесится. Жену бросает, детей бросает — будет платить илименты и разводится через нее, учителеву дочку…
Скрастыню в глаза Кристина этого не скажет — все же начальство, так что не будем целиком полагаться на ее слова.
А вон в поле сквозь стволы деревьев блеснул еще один огонек. Это на хуторе Патмалниеки, дорога там идет почти вдоль самого забора. Теперь видите? Тот, что сейчас промелькнул за окном, в рубахе и подтяжках, это Волдемар Пиладзит. Не успели разглядеть? Не беда, скоро мы опять с ним встретимся. Вам послышалось приглушенное пение? Про каких-то пташек-канареек? Вполне возможно, потому что Пиладзит навесе… Но не будем торопиться, вы еще с ним познакомитесь.
Если мы прибавим шагу, то догоним Анну с малышкой Дайной, которая освещает им обеим дорогу карманным фонариком: горбы рытвин и слепые очи замерзших луж. Дайна в пальтишке свекольного цвета, белой вязаной шапочке и новеньких резиновых сапожках. Она все спрашивает Анну, и Анна отвечает. О чем спрашивает? О слонах, тиграх, о львах. Не смейтесь! Она ни разу еще не была в зоологическом саду и даже Ригу совсем не помнит. По правилу, Дайне пора бы спать, но такая уж эта ночь — не разбери-пойми — перед дорогой, и не будем пытаться навести порядок, пускай сперва встретится с Анной и Дайной последний герой нашего рассказа Том Мелналкснис. Для него это трудная дорога, так что не станем лишать его спутников. Возможно, в дальнейшем вы скажете: отчасти он сам виноват в том, что теперь ему грустно. Но не будем его осуждать, хотя судить и рядить о ближних самое приятное и нехлопотное занятие, не правда ли?
Том пересекает двор хутора, выходит на тропинку и шагает по ней к дороге.
Сколько сейчас времени?
Без трех минут десять, точнее — двадцать один час пятьдесят семь минут. А стенные часы в Патмалниеках уже начинают бить десять. Они всегда спешат, эти старые ходики, хотя на старости лет вроде бы и некуда особенно спешить.
Ну что ж, давайте считать по этим часам! Сейчас двадцать второе октября, двадцать два часа, и мы начинаем наш рассказ.
ТОМ
Когда я выхожу на дорогу и оглядываюсь на родной хутор, где у крыльца маленьким маяком еще светится отцовский фонарь, у меня вдруг что-то обрывается внутри. На фоне серого плоского неба смутно проступают постройки, тоже серые и плоские, как декорации. Может быть, я вижу все это в последний раз? И мне становится жаль самого себя… Я стыжусь этого малодушия, этих немужественных чувств, но ничего не могу поделать, и темнота без лунного света, без звезд, в которой теплится только далекий тусклый огонек фонаря, скрывает мое малодушие и мой стыд. Страшно хочется закурить, и папиросы при мне, в кармане пальто, но я не решаюсь зажечь спичку, пока отец, наверное, все еще стоит во дворе и глядит на дорогу. Не хочу, чтобы он догадался, что я тоже стою, оглядываясь на хутор. Наконец фонарь вздрагивает, скользит в темноте, исчезает — и тогда загорается свет в окне, за которым трепещут неясные тени. Пахнет опавшими листьями, картофельной ботвой, первым льдом — пахнет поздней осенью; легкий ветерок доносит запах хлева и кисловатый дух квашеной капусты. Ветер омывает лицо словно прохладной водой, но он, видно, слишком слабый, чтобы тронуть вершины деревьев. Молчаливые ели стоят недвижно, словно подпирая гигантскую крышку неба, и эти тяжелые облака внушают мне тоскливое чувство покинутости. Увидеть бы сейчас чистые, облитые зеленоватым лунным светом поля, черные заостренные башни — тени елей и прозрачный звездный купол неба, постепенно сливающийся с лиловой дымкой далеких лесов. А эта скудная ночь — обыкновенная, без красок, всего и света в ней — одно-единственное окно, да и то в любой момент может погаснуть, оставив меня в призрачном царстве кромешной тьмы. Не стану дожидаться, пока оно погаснет, — я всего только человек — а значит, мне не остается ничего иного как уходить.
И я ухожу, больше не оглядываясь. Под ногами потрескивает гравий, сонно мурлыкает в ладони ручка чемодана и, когда я бреду по лужам, тонкий ледок хрустит и ломается, вызванивая, как стекло. Мне этот звук кажется резким, пронзительным, хотя в действительности это, наверно, совсем не так — звуки, никого не потревожив, тонут в тишине без эха, точно камни в воде. Когда кончается ельник, неожиданно, будто подняли занавес, открываются Вецсникеры, потому что ольха теперь вырублена, и луг, где когда-то Юрка с Элгой пасли корову и двух овец с ягнятами, вспахан, насколько можно судить, совсем недавно. Поле похоже на темный морской залив во время шторма. Банька у самой дороги, рядом с тусклым четырехугольником пруда, который тоже затянут корочкой льда, дохнула горьковатым дымом. Мне почему-то пришло в голову, что за этой самой баней мы с Юркой дрались. Это было нечто среднее между боксом и греко-римской борьбой, поскольку началось с синяка, а кончилось «двойным нельсоном», который провел Юрка, и я дергался, как лягушка, чуть не плача от бессильной злобы, Из-за чего мы сцепились? Не могу вспомнить. Помню бешеный гнев и душившие меня слезы стыда, а причины потасовки не помню. Припоминаю только, что года два спустя я влюбился в Элгу и пытался даже ее поцеловать. Это был мой первый поцелуй, к тому же неудачный: Элга увернулась, как белка, и я поцеловал ее не в губы, ни даже в щеку, а где-то около виска, почувствовав прикосновение к своим губам мелких жестких кудряшек. Эти картинки — расплывчатые, с неясными контурами, как иллюстрации к прочитанной в детстве и после утерянной книжке.
В небо уперся палец колодезного журавля. В Вецсникерах еще спят, из собачьей конуры торчит как будто кусок цепи, а может быть, я ошибаюсь: никто на меня не лает, только за стеною хлева вздыхают во сне телки, которым снятся луга в одуванчиках, потому что в молодости снятся только хорошие сны. А вверху, над крышей, какой-то шум. Поднимаю голову — дуб. Старое дерево еще не сбросило последние листья, они шуршат и шелестят. Удаляясь, слышу этот сухой таинственный шепот дуба, он провожает меня, пока я медленно поднимаюсь в гору, невольно напоминая нечто, о чем не хочется думать.
Чемодан, наверное, все же тяжелый. Я устал, пока взошел на гору, рубашка слегка прилипает к спине. Но ветер здесь заметно свежее, и я отказываюсь от соблазна отдохнуть в этом живописном месте. К тому же и ночь скрывает всю красоту, какая видна при дневном свете: овраг, по которому извивается ручей, сверкая на поворотах, как рыбий бок, далекие, тающие в сизой дымке нивы, березы, которые зимой степенно и разумно несут вверх снежные беремя, а летом сбегают вниз с распущенными волосами. Сейчас все это можно только вообразить, и если бы порою не доносилось приглушенное журчание воды, казалось бы, что крутой склон ведет в никуда. Я приближаюсь, и постепенно журчание становится все громче, ольха у ручья и наконец мостки через ручей приобретают определенные контуры. У меня под ногами охают доски, вода, черная как деготь, течет под мостом, опавшие листья на ее поверхности кажутся большими звездами на угольном небе. Я ставлю свою ношу, присаживаюсь на краешек чемодана, достаю папиросу и чиркаю спичкой. Свод ладоней накрывает живое трепетное пламя, и я, забыв закурить, все смотрю, как спичка постепенно обугливается, скрючивается, чернеет.
И гаснет…
Тогда я вынимаю из коробки и зажигаю новую, закуриваю. Сгорбившись на чемодане, бородатый, издали я, наверно, кажусь стариком, но тут же нет никого и некому на меня смотреть, вокруг — тихое дыхание ночи, бережно окутавшей темнотою все: сны людские и бдение, счастье и горе, страсти и смерть.
Затягиваюсь поглубже, и сразу привычно кружится голова. Не надо было курить. Швыряю папиросу за перила, внизу она с шипением гаснет. Нигде ни огонька, облака медленно плывут грязными клочьями ваты, в ветвях шуршит кое-где одинокий сухой лист, и пока я сижу так, отдыхаю, один лист слетает на доски моста, а те, что давеча сверкали на воде как звезды, уже уплыли по течению и скрылись из виду, как уплывает и исчезает все — время и жизнь.
Грустно. Тускло и грустно.
Лучше бы ехать завтра, когда рассветет, автобусом через Цесис, но так и бывает — только потом увидишь, как оно лучше, а теперь остается только смириться с тем, что я сам выбрал, и не поддаваться топкой, как трясина, хандре… Помню, как я уезжал из дома в первый год студенческой жизни: в пути меня подобрал Варис, который вез в Цирули пустые бидоны, я взобрался наверх, в повозку, бидоны гудели, как большие колокола, дул совсем летний южный ветер — и вдруг мне захотелось петь. У меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, и я всегда чувствую себя неловко, когда другие затягивают песню, но в тот день я пел. Ветер срывал с губ слова и неловкие шаткие звуки; сам я их не слышал — только трезвон бидонов да свист ветра…
Незначительные воспоминания, которые годами, точно галька, лежали на дне памяти, теперь порою поражают меня самого, неожиданно всплывая из мути забвения. Может быть, их поднимает со дна простая человеческая потребность найти в своей жизни хоть что-то совершенно чистое? Но с другой стороны, то, что еще несколько месяцев назад казалось столь важным, существенным, поблекло и утратило ценность, как листья на старом дубе в Вецсникерах: они еще держатся на ветвях древа моей жизни, но уже сухие, словно бы ненужные, словно их надо сбросить. Но и над всем хорошим, что хочется удержать, лежит синяя тень грусти.
На мосту ни ветерка, только в небе тучи меняют свои очертания, форму и окраску, движутся плотно, бок о бок, как отара серых овец — ни на миг не откроется лукавый глазок звезды. Ниже по течению что-то затрещало, потом прошуршало по опавшим листьям на берегу ручья. Я собираюсь встать и уйти, чтобы меня не застали здесь в такой позе. Но потом догадываюсь, что шебаршится, шуршит там не человек. Под его ногами хлюпает грязь, доносится сиплое дыхание, на фоне тускло мерцающей поверхности ручья мелькает осанистый загривок, наклоняется тяжелая голова — я вижу ее очертания и слышу плеск воды. Животное не чувствует близости человека или, может быть, просто моя неподвижная фигура не внушает ему страха — и я смотрю на эту картину как на чудо. Лось поднимает голову, вслушиваясь в тишину или в самого себя, опять наклоняется, и опять хлюпает вода между толстыми губами. Напившись, он выпрямляется и важно уходит. Еще некоторое время слышатся его шаги, потом звуки глохнут в тишине. Не остается и следов, будто лось явился мне только в мыслях, — эта темная, обыкновенная ночь вовсе не так бедна, как мне казалось. Меня охватывает странное, уже забытое радостное волнение, и я вполголоса смеюсь в немой ночной тиши, но тут же одергиваю себя — еще напугаю кого-нибудь (люди почему-то боятся, когда человек смеется наедине с собой). И сейчас я кажусь себе сильным и здоровым, и мне кажется, что и чемодан свой я понесу, как прежде, почти не чувствуя веса. Но первые же шаги меня отрезвляют, моя ноша, конечно, не стала легче. Я просто обманулся, как-то наивно поверил, что случается со мной время от времени, особенно по утрам в те редкие дни, когда я просыпаюсь без головной боли, с благой мыслью, что, может быть, все дурное мне только приснилось. Конечно — чудес не бывает. И я медленно делаю шаг за шагом, стараясь хотя бы не растерять чудесное волнение, которое почему-то напоминает мне давнее предчувствие счастья, и меня это изумляет, потому что я видел почти все, чего когда-то жаждал, — Крым, Париж и Капри, и как-то привык к мысли, что по-настоящему меня теперь уже ничем не удивишь.
Выбравшись из оврага, я замечаю огонек между стволами деревьев. Ночью расстояния обманчивы, и я не сразу соображаю, в Араях что-то светится или в Патмалниеках. Только подойдя ближе, определяю, что в Патмалниеках, и что это освещенное окно. Дорога, которая еще в Вецсникерах жмется к постройкам, здесь бесцеремонно проходит вдоль самой избы и хлева. Как видно, Алиса по-прежнему каждую весну обносит палисадничек перед крыльцом этакой оградкой, понатыкает хворосту — ни от пыли, поднятой машинами, он не загородит, ни от кур и ни от чужих сапог. В отсвете горящей лампы плетень маячит и сейчас еще не убран, хотя охранять уже больше нечего: что летом росло по ту сторону плетня, то напоминает теперь старые метлы и пучки прошлогодней травы. Занавеска не задернута, лампа освещает комнату, словно сцену. Лицом к окну сидит мужчина. На столе стоит четвертинка, человек наливает себе в рюмку, чокается ножкой о бутылку — так пьют в одиночку, — опрокидывает рюмку, криво усмехается и смотрит… прямо на меня. В окне, словно в портретной раме, вижу его сухощавое лицо с морщинами по щекам, и густые тени делают их еще глубже, будто прочерчивая по обе стороны крупного рта. Все еще глядя в окно, он улыбается плутовато и чуть насмешливо. Мне он незнаком, однако, допуская, что он может меня знать — а так бывало не раз, — я останавливаюсь и приветствую его кивком головы. Человек за окном не отвечает, продолжая глядеть и странно улыбаться. Из освещенной комнаты в осенней темноте ему, конечно, ничего не видно, только собственное отражение в стекле, как в зеркале. Мне вдруг становится стыдно за то, что я остановился и поздоровался, хотя этого никто не видел. И я спешу уйти, стараясь не шуметь, как вор, как будто бы я заглянул не в чужое окно, а в чужую душу. К счастью, никто не видит и моего бегства из Патмалниеков, но глупое происшествие словно что-то разрушило, прогнало спокойное чувство единения с природой, охватившее меня на мосту, — и его мне жаль больше всего. Стараюсь вызвать его, восстанавливая мысленно деталь за деталью: сухой шорох мерзлой травы, медленный наклон тяжелой головы к тускло мерцающей воде, постепенно стихающий, замирающий шум шагов, — но мои усилия тщетны, в воспоминаниях нет души. Вновь безнадежно, безвозвратно утрачено нечто прекрасное. А я теперь уже не так богат, чтобы бросаться тем, что еще дарит мне жизнь.
От ходьбы лоб покрылся потом, и, остановившись, сдвинув берет на затылок, я замечаю — от кожи на легком морозе идет пар. Мать насильно навязала мне антоновские яблоки, крупные и нежные, тяжелые, как булыжник. Я не мог отказаться, чтобы не пришлось сказать правду, чего я решил не делать. И без того ее заботливый взгляд уловил перемены во мне, она сказала, что с бородой я выгляжу больно тощим. В конце концов неплохая была мысль — отрастить бороду.
Яблоки я взял, решив, что в случае чего по дороге можно выбросить часть балласта. Именно так я тогда и подумал — «в случае чего» и «балласт», не желая вложить истинный смысл в эти нейтральные слова. Но теперь, как подумаю об этом, меня берет непонятный, чуть ли не суеверный страх, и я знаю, что потащу эти несчастные яблоки до конца, как бы ни было тяжело…
Отыскав носовой платок, вытираю сперва лоб, потом все лицо. В небе рокочет самолет. То скрываясь в облаках, то снова появляясь и мигая сигнальным огоньком, он пролетает над лесом, над моей головой и удаляется в направлении к станции. Светлая точка вспыхивает все слабее, бледнее. Еще раз… Еще раз, пока не тает вдали. И опять хмурое небо простирается серое, равнодушное и огромное, и я стою под ним, черная, ничтожная, жалкая фигурка.
Ветер набирает силу. Облака плывут рваные, растрепанные — бедные родственники щеголеватых летних белых парусников. Неудивительно, если начнется дождь. В конце концов сейчас так холодно, что может пойти и мокрый снег. Холод заползает за воротник и в рукава. Невольно вздрагиваю. Хорошо, что взял с собой отцовы рукавицы, а свои кожаные перчатки я сунул в чемодан, хотя давеча в уютном тепле кухни они казались лишними, да и немножко смешными: в октябре в варежках! К тому же они зеленые, с коричневым узором, из грубой, колючей деревенской пряжи и совсем не идут к моему темно-синему пальто. Как все это неважно сейчас, в эту сиротливую осеннюю ночь, которую не в силах разогнать далекие, возникающие из мрака и снова гаснущие скудные огоньки. Какой-то леший уводит меня — все назад, назад и назад, туда, откуда я упорно стараюсь уйти. Понимаю, что самое худшее для меня сейчас — это опять погрузиться в самосозерцание, однако (ха-ха, когда-то я считал себя сильным человеком!) ничего не могу с собой поделать и снова чувствую, что поддаюсь, падаю, как в наркотический дурман, инстинктивно оглядываясь по сторонам — за кого бы, за что бы мне ухватиться.
И с радостью замечаю впереди светло-желтое пятно — по дороге идет кто-то, очевидно с карманным фонариком. Кружок света движется в трясине тьмы, как блуждающий огонь: скроется и вынырнет вновь, все время отдаляясь, как бы приманивая. Прибавляю шагу, а сам теряюсь в догадках, знакомый ли это человек или чужой, забывший осторожность; откровенно говоря, в последнее время я боюсь расспросов: хвастать нет охоты, а рассказывать, как оно есть на самом деле, — тем более. Однако сейчас по сравнению с тяжелым гнетущим одиночеством все остальное кажется терпимым; понимаю, что мне просто недостает хоть какого-то живого существа в черной немой тишине ночи. Со стороны это, наверно, выглядит сентиментальным.
Расстояние постепенно сокращается: человек с фонариком продвигается вперед медленно, и вскоре я различаю голоса — значит, путник не один. И немного погодя действительно впереди обрисовываются две фигуры — большая и маленькая. Большая с сумкой или с чемоданом, а маленькая освещает фонариком дорогу. Издали они кажутся детьми, взявшимися за руки, но подойдя ближе, я различаю низкий альт, которому вторит колокольчик детского голоса. Они не слышат моих шагов, под их ногами хрустит и ломается лед, к тому же малышка, как видно, нарочно топает по лужам, потому что за звоном раздается смех, а альт говорит:
— Дайна… не надо… порежешь сапожки!..
Внезапно мне в глаза бьет свет, неожиданный и потому резкий, и, ослепленный, я слышу детский возглас!
— А дяденька не цыган?
ПИЛАДЗИТ
Что ни говори, а в голову все же шибает. Ну да, косушку почти раздавил. Часы бьют половину одиннадцатого. Ясное дело, еще без трех-четырех минут, а это старое ботало, как всегда, спешит. Гудит, как в пустой бочке. И душа не на месте. Хорошо, что я пропустил малость, а то просто хоть волком вой. Как Алиса будет жить в Патмалниеках одна, когда я уеду? Ну, в конце концов это ее дело. Жива будет, не помрет. Я бы давно уж был отсюда на расстоянии пушечного выстрела. Но ничего не попишешь, поезд идет только под утро: хоть плачь, хоть пляши, а часок еще придется тут покуковать. Когда Алиса воротится из Цесиса, я буду уже в Риге, потом первым автобусом махну в Вецумниеки. Чего там, в святом писании, отец заколол в честь своего блудного сына? Ага, теленка. Ну, телка Эмма, хе-хе, на радостях не заколет, а насчет чего другого…
Выливаю из бутылки в рюмку последки и с расчетом отпиваю только половину. Скажи пожалуйста, и сам не думал на прощание такой мини-выпивон сообразить. А началось как всегда ни с чего…
За дверью мяукает кошка. Я допиваю остаток и встаю — надо впустить. На дворе темень-тьмущая и тишина. Иной раз в эту пору хоть товарняк прогромыхает мимо станции или по дороге проползет грузовик. Тогда хоть чувствуешь, что и кроме тебя есть на свете люди, что ты не один. Брр, тихо, как в кастрюле под крышкой! Кошка трется об ноги.
— Ну, Брыська?
Хочет, чтоб ее погладили. А я и без того сегодня наломался у Карклиней с полами, поясницу не разогнуть. То ли к старости дело идет, то ли к перемене погоды, пес его знает. Впускаю Брыську на кухню, а она мяучит и мяучит. Наверно, жрать хочет, старая перечница. Придется слазить в кладовку. И то сказать, самому тоже не грех чего-то пожевать.
Хлеб, масло, творог…
— Цыц, Брыська, ишь завякала!
…сало, яйца…
— Молоко пить будешь?
А то нет! Чего бы себе-то достать? Алиса обещалась привезти из Цесиса хорошей копченой колбасы. Н-ну, теперь это отпадает. В Риге пойду на Центральный рынок, в павильон, и налопаюсь до отвала сарделек. Холодненькое шипящее жигулевское под сардельки с горчичкой, эх! Пока это еще мечта, но только до утра. А жрать охота еще сегодня, и хочешь не хочешь придется жарить распроклятую яичницу, которая мне обрыдла, затоплять плиту и канителиться, да времени еще до черта. Затопляю плиту, нарезаю сала от самого толстого куска, чуток кидаю на пол Брыське, разбиваю на сковороду яйца, сперва два, а потом и третье. Больше не надо, человек же не свинья. Яйца фырчат, вкусно жарятся, закусон первый сорт, хорошо, что я не поленился. Не вредно бы еще хоть на донышке чего-нибудь покрепче. Карклини на прощание как нищему сунули в карман пальто косушку самой дешевой водки, только раздразнили. Теперь в глотке просто пересохло. Деньги-то есть, еще целехоньки те пятьдесят рубликов, — а где возьмешь водку? И то сказать, нету в ней, в жизни, ни складу ни ладу. Ходишь ты, бывало, вдоль прилавка, глазеешь на бутылки и бутылочки с ясными бочками, да в кармане у тебя звенят один медяки, а того чаще — не звенит ничего. Сейчас звонкая монета есть, да… Черт побери, сало горит! Быстро хватаю сковородку с огня и собираюсь есть прямо так, потому что Алиса ругается, — только зря, говорит, переводишь посуду. А кто я есть? Собака, что ли, чтобы мне жрать со сковородки? Теперь все, сударыня, откомандовалась!
Прохожу в комнату к буфету, вынимаю хорошие тарелки и чашку с золотой каемочкой. Сегодня вечером все буду делать так, как вы не разрешаете, уважаемая. Стол накрою в комнате хорошей посудой и на белой скатерти — как в ресторане.
Дверца шкафа отворяется со скрипом. Простыни и полотенца, наволочки… Где же скатерти? Шарю в белье, пальцы натыкаются на что-то твердое и круглое. Не веря в свое счастье, выворачиваю из ящика простыни, прямо руки дрожат. Отченашижеесинанебеси, румынский ром! И только початый!
Пою громко, расстилая белоснежную крахмальную скатерть. Брыська вскакивает на диван, смотрит круглыми зелеными глазами: прогоню или не прогоню?
— Валяй, валяй, старая перечница! Сегодня хозяин тут я. Ну, со свиданьицем!
Отхлебываю прямо из горлышка. Ух! Потом произвожу небольшую ревизию в недрах буфета. Ничего питейного там, как и водится, нет, но — и то сказать — человеку и не к лицу жадничать. А, печешки! Немножко, правда, припахивают — застарелые, но ничего, не помру, какой только дряни есть и пить не приходилось на моем веку! Сам удивляюсь, как я ноги не протянул. Баночка кофе… Хе, это же надо, у меня будет даже натуральный кофе. К нему бы лимончика! Жалко, что Алиса не растит лимонное дерево. Подошел бы к нему — чик! — и нарезал душистыми ломтиками. На подоконнике в горшке стоит всего один цветок, какая-то курелла-мурелла — никак не вспомнишь название. Так на этой самой мурелле распустился один задохлик — колокольчик, на который Алиса все не наглядится. Я колокольчик отщипываю и ставлю в маленькую скляночку. Теперь еще сахарницу, вилку… пахнет хорошим кофе и ромом. Ресторан!
Надеваю пиджак. Не то чтобы мне холодно, нет, печка раскалилась, как утюг. Просто хочется, чтобы сегодня вечером все было честь по чести. Потом перекидываю через руку чистое полотенце, как обер, и говорю самому себе с поклоном:
— Милости просим к столу!
Подхожу к зеркалу, репетирую еще раз:
— Прошу к столу!
Ниже, ниже, что это спина не гнется, что в ней — волчья кость, что ли? А ну еще разок! О черт, поясница!
Подноса в Патмалниеках нет, достаю из буфета блюдо для жаркого, ставлю на него бутылку с ромом и протягиваю над столом.
— Извольте!..
Отшвыриваю полотенце, важно надуваюсь и с видом занятого человека буркаю:
— Иду!
Сажусь за стол: откупориваю, наливаю в рюмку — ваше здоровье! — и опрокидываю разом.
Кошка, закрыв глаза, дремлет, только меленка ее тихонько жужжит и жужжит. Зеркало повторяет каждое мое движение. Разглядываю себя. М-да, потрепанный, замусоленный, не больно-то новый костюм. Вот если б заявиться в Вецумниеки к Эмме в новом костюме — мне пойдет синий в узкую полоску, — в белой нейлоновой рубашке, с бордовым галстуком. Не стар ведь я еще — и не урод какой-нибудь. Сходил бы к парикмахеру, пускай побреет шею, побрызгает одеколоном. В Вецумниеках, или нет — лучше в Риге, туда заявлюсь свежий как огурчик. Соседи меня, поди, сразу и не признают: хе-хе, пойдет шепоток — к Эмме хахаль пожаловал, пока Волдемар в отъезде…
Опять бьют часы. И я падаю с неба на землю. Зачем строить воздушные замки! Я кланяюсь в зеркало:
— Пожалуйте, жаркое стынет!
Но теперь и самому мне это кажется просто дурачеством. Каждая щетинка на щеках, вытертые рукава, заношенный воротничок — все видно как в увеличительное стекло. Наливаю — рука, будь она неладна, дрожит, будто я нищего ударил. Как выпьешь, тогда перестанет.
Выпиваю. Ух! Ром обжигает глотку как огонь! Теперь можно и закусить, хотя «жаркое» уже малость простыло.
Чтобы опять не полезла в голову пес его знает какая нелепица, стараюсь вспомнить, когда мы с Алисой вдвоем этот ром распечатали. Ага, когда я вернулся в дождь, промокнув до нитки. Малярничал я у Олманов, Кристина еще предложила мне зонт, а я, дурак, не взял… И Алиса раскупорила этого румына и налила мне две рюмашечки, чтоб я не слег от простуды. О господи, я прямо обыскался потом начатой бутылки — в кладовой, в буфете, в погребе! Разве я бы когда додумался, что она запихала ее в шкаф за скатерти? Ни в жисть! Теперь буду знать Алисины плутни. М-да, теперь-то мне это больше ни к чему…
— Ну, Брыська, за твое здоровье!
Услыхав свое имя, кошка чуть приоткрывает щелочки глаз, смотрит.
Ух ты! Кубинский ром вроде бы лучше, а этот отдает политурой. Но не будем плевать в колодец. И яичница не того — пережарилась, но тут никто не виноват. Какие только подошвы на своем веку я не едал, шатаясь по белу свету, господи боже мой! Да хоть тогда, в Инчукалне, с блинами было дело. Вдвоем с маленьким Фридисом спустили мы аванс, напекли блинов на трансформаторном масле, а потом всю ночь глаз не сомкнули: напеременку гоняли на двор, держась за порты. Всякое бывало, да…
Кошка мурлыкает громко — довольна. И у меня мало-помалу теплеет на душе. Воспоминания молодости поднимают настроение. И не так уж бесприютно сегодня в Патмалниеках, только до смерти охота с кем-то поболтать.
— Знаешь, Брыська, мы совсем не такие бедные,
Я вынимаю из внутреннего кармана пиджака две фиолетовые четвертные. Бумажки Карклини дали новенькие, еще даже не сложенные, хрустящие. Когда смотришь на свет, ясно видны водяные знаки. Костюма на это, конечно, не справишь. Если б не растранжирил все заработанное в Дзегах, тогда само собой — хватило бы с гаком. Если б да кабы во рту росли грибы… Да только ли это пошло прахом, боже ты мой!
— Выпьем на четвертую ногу — ваше здоровье!
Одну фиолетовую бумажку придется разменять. На дорогу надо, парикмахеру надо. Не худо бы отвезти гостинцев Эмме и мальцам. Те времена прошли, когда бабам дарили платочки, я куплю капроны. Без шва или… со швом. А ребятам шоколаду, лучше всего — соевый, вкусный и дешевый, сорок копеек плитка, по две штуки на брата — пускай едят, пока, хе-хе, не затошнит. Хватит тут еще на колбасу и на пиво. Если будет темное, возьму темного и пару порций сарделек. А может, хватит и одной, чего там лишку тратиться. Надо изловчиться так, чтобы другую четвертную не менять ни под каким видом. Отвезу Эмме такую, гладенькую и хрустящую… Хватит того, что весной я заявился как ощипанный гусак, просто вспоминать неохота. Деньги на автобус спустил в карты еще в поезде, добирался в Вецумниеки на попутках, трясся в грязных кузовах, хорошо еще, что в мае было дело, прости господи! Эмма, как всегда, не прогнала, накормила, обчинила. Если у кого жена — золото, так это у меня…
Эх, жалко, что денег на костюм в легкую полоску, как ни вертись, на скорую руку не спроворишь. А хотелось бы хоть раз вернуться так, чтобы ей за меня не было стыдно. Нейлоновую рубашку Алиса обещалась подарить мне на рождение. Ну, пускай она теперь ее засолит, я не нищий. И новый галстук куплю сам; сколько он там стоит — рубль небось, от силы полтора. Если в Риге выкрою время, вот честное слово, правда, куплю галстук, темно-красный, почти бордовый, как спелые литовские вишни. Повяжу на шею, расправлю узел гладко — и начну новую жизнь!
Верно, я пробовал уж, только все как-то не получалось. Но теперь шабаш: на прошлом поставлю крест! Поступлю на работу там, ближе к дому, хватит скитаться, будем ездить с мальчишками ставить донки. В конце концов я могу скопить не только что на хороший костюм, а и на мотоцикл. Паул дока насчет моторов. Другие люди живут так, а почему я не могу?
Кошка, соскучившись на диване, подходит ко мне, вспрыгивает на колени, трется об руку. Чует животина разлуку. Шерсть у нее мягкая, как женские волосы.
— Ну, Брыська, ну, ну… Не тужи. Чего тебе дать? На вот, вылижи тарелку! Так, так. Ах ты мой симпумпончик!
Подзаправился я теперь знатно, могу терпеть до утра, до Центрального рынка. И, рыгнув, стряхиваю кошку с колен и иду на кухню — собирать пожитки. Кисти стоят за дверью, отмокают в банке из-под огурцов. Вынимаю и, пошорхав об половую тряпку, завертываю их в старую газету. Если засохнут, отмочу в скипидаре. Линейка, ролики, шпахтель, банка с замазкой… Ну, это пусть останется Алисе. Я не жмот. Краску, какая осталась, и клей тоже не возьму. Я не лошадь, не потащу. А как быть с полотняными брюками? Брать или не брать? Рваные они и грязные — это да, но когда копаешься с известью и с мелом, особенно — моешь потолки, ничего путного и надеть нельзя, увозюкаешься с головы до ног, как цуцик. Лудис тем летом отчубучил в Калнциемсе: разделся голяком и давай мыть. Рационализация, говорит. Но выдержал недолго, щипет как черт, говорит, хе-хе, и под конец в чем мать родила рванул на Лиелупе, спасибо еще, что река близко. Старуха с соседнего хутора после нас еще и ославила: пьяные были в стельку! А с чего там пьяные, господи боже мой, почти что трезвые, в обед одну четвертинку на двоих раздавили «русской горькой»… или «зверобоя», нет, кажется «горькой». Вот была картина, как Лудис чесал на реку, в кино не надо ходить! Где-то он сейчас причалил? Как застрял я в Патмалниеках, так мы и расстались. Хотя б письмецо прислал. Вдвоем вкалывать — совсем другой табак. Козлы сколотить или там шкаф подвинуть — один ты жилы из себя тянешь, а вдвоем — раз-два и готово.
Нет, брюки я все-таки заверну, велика ли тяжесть, выкинуть всегда успею. Опять же сперва надо завести новые, а тогда и старые можно выбросить… Ага, еще пульверизатор. С этой нескладной дурындой всегда одна морока. Пеленаю его в клеенку чуть ли не как младенца, крепко обматываю веревкой и конец завязываю петлею — нести удобней. Потом принимаюсь за одежу. В нижнем ящике шкафа мои вещички: две пары кальсон, майки — все застиранные, серые, и не скажешь теперь, какая была раньше голубая, а какая желтая, носки и одна рубашка в клетку. Та, что на мне, уже мазаная, пропотела, поэтому надеваю клетчатую. Это другое дело — посвежел будто. Брюки, по правде говоря, надо бы поутюжить, штанины надуваются парусом, да ладно — неохота возиться, в дороге все одно изомнутся. Ничего, Эмма…
Черт побери, где же паспорт? У меня даже спина взмокла, как подумал, что Алиса его спрятала. Тогда… тогда мне крышка! Как ехать без паспорта? У порядочной собаки и то есть! Выхватываю из стола ящик, где у Алисы хранятся разные бумаги, роюсь в счетах, квитанциях, удостоверениях, страховках и фотографиях. Алиса в саду. Алиса у ручья. Алиса с мамой. Алиса с сестрой. А тут половина карточки оттяпана ножницами и осталась только Алиса и мужская рука у нее на талии. Наверно, прежний ухажер. Алиса думает, что я ревновать стану. Мне на это всегда было начхать, но пусть, пускай себе думает… С бабами надо только так — пускай себе думают что хотят. Хуже смерти боятся они правды. Скажешь правду — и прощай покой: и подлец ты, и обманщик, и жеребец, и хам, все шишки на твою голову. Женский пол ловится на три удочки: скажи ей, что она смазлива (даже если она на всех чертей похожа), скажи, что ты ее любишь, и ежели еще пообещаешь жениться, тогда — аллилуйя!
Гляжу на круглое Алисино лицо с приятным таким благодушным двойным подбородком. Больше я ее не увижу — откровенно говоря, уезжаю, чтобы не видеть. Фотографии эти только укрепляют меня в решении податься из Дзег и никогда сюда не возвращаться. Мало ли где жить можно, а хороший мастер везде нарасхват…:
Батюшки, да где же паспорт? Ведь не совсем же сдурела Алиса, чтобы таскать его с собой в Цесис. Или бабец учуял, что я собираюсь дать тягу? Или я сам — сохрани господь! — когда-нибудь с пьяных глаз проболтался? Нет, я никогда никому не обмолвился и словом, я был нем как рыба.
Роюсь как сумасшедший, все больше распаляюсь. Это ж погибель! То и дело кажется, что над самым моим ухом смеется Алиса, как иногда в постели. Может, я схожу с ума? Если у нее были хоть малейшие подозрения, тогда, само собой, она упрятала паспорт в такое место, что можно проискать его три недели, если уж несчастную бутылку рома она засунула в белье и… В белье… И я принимаюсь за шкаф. Только спокойствие, «спокойствие и правильное дыхание», как любил говорить Лудис. Все по порядку, полку за полкой. Тут спешить негоже. Нежно-розовые и зеленоватые Алисины шмутки я поднимаю и кладу с легким отвращением, как сброшенную змеиную кожу — лишнее напоминание, что пора отсюда уматывать, пока меня не выперли с позором из Патмалниеков, как кастрированного барана, Перебираю чулки, лифчики и натыкаюсь на корсет. Я и знать не знал, что Алиса затягивается в корсет! Похоже, наш брат мужчина так и помрет, много чего не узнавши… Глянь-ка, посажен на свинцовые пластинки! И в какие оковы эти бабы себя не втискивают, господи, твоя воля, пока тебя, голубчика, не заманят в свои сети и не наложат лапу! Щеточки и пилочки, ролики, пружиночки — прямо как в молотилке, затянет тебя туда со всеми потрохами, и тогда тебе каюк… Стоп, что это такое четырехугольное? Алисина сберкнижка и — слава тебе господи! — паспорт на имя Волдемара Пиладзита. Ну, скажите, люди добрые, можно ли жить с такой бабой, которая тебе не доверяет, будто ты вор, или разбойник, или… убийца? Паспорт в кор-се-те!
Но я не тот человек, чтобы долго пылать гневом праведным. Злость мало-помалу проходит, и меня окрыляет чувство свободы. Хочется петь. Надевая пальто, запеваю:
Нахлобучиваю замусоленную кепку, беру в одну руку узел с одежей, в другую — за веревочную петлю пульверизатор. И пальто и шапка летние, тонкие и светлые, потому что сюда я припожаловал перед Ивановым днем. Авось не замерзну. Отворяю дверь, и тут мне стукает в голову, что я — бог ты мой! — чуть не забыл на столе начатую бутылку рома. Вот дурак! Заодно прихватываю рюмку, потому как в журналах пишут — водку надо пить культурно. Потом как следует запираю дверь и засовываю ключ под деревянную решетку.
— Наше вам с кисточкой, почтеннейшая!
И ухожу по дороге. Чувствую себя как выпущенный на первую весеннюю траву телок и пою на радостях, даже с восторгом:
— …и… и… и… — в темном лесу дразнится эхо, и где-то на дальнем хуторе — в Вецсникерах или, может быть, даже в Мелналкснисах — скулит собака.
Ни разу не оглядываюсь на Патмалниеки. И то сказать: чего я там потерял или забыл?
АННА
— Нормунд сказал, что тигр — это большая кошка…
Всю дорогу Дайна расспрашивает меня про зоологический сад и ни разу ни единым словом не упоминает про Лауму. И я тоже не упоминаю про Лауму. В любви все мы эгоисты. Отвечаю — да, тигр это действительно большая кошка.
— Как Мурка у Атваров?
Объясняю, что гораздо, может, в десять раз больше. В темноте чувствую — Дайна с удивлением смотрит на меня. Даже пятно света от фонарика сбегает с рытвин на дороге и освещает пучки прошлогодней травы по краю луга. Осторожно, говорю, не споткнись.
— Ануля, а…
Она меня так и зовет, как повелось с первого раза. Мать с этим давно смирилась, а Лаума нет. Лауму Дайна зовет тетей. Сколько раз Лаума объясняла Дайне, что тетя — это я, а она — мама. Но девочка остается при своем: мамой она зовет бабушку, а меня тыкает пальцем в грудь, смотрит лукавыми глазами и ласково говорит:
— Ты ведь Ануля!
«Скажи, Дайна, кого ты больше любишь?»
Зачем Лаума задает такие вопросы? Однако можно понять и ее. Она хочет награды за то, что дала ребенку жизнь и привезла подарок. Когда Лаума так спрашивает, я спешу уйти. А когда возвращаюсь, она мрачно говорит:
— Ты настраиваешь ребенка против меня!
Упрек этот незаслуженный. Никогда я не сказала Дайне ни одного худого слова о Лауме. Только… я всегда страшилась той минуты, когда Лаума дождется благодарности от дочери за куклу или за кулек конфет. Пока она этого не дождалась. Над будущим я не властна, а что могла, я сделала. Больше четырех лет Дайна прожила у меня и нынче ночью уезжает. Лаума писала, что первое время мне вообще не следует приезжать к ним в гости. Я, конечно, и не поеду. Но… она никогда не задавалась вопросом, что думаю об этом, скажем, я. А если задалась бы, спросить уж будет нельзя. Поезд в Дзегах стоит три минуты, времени в обрез: только подойти к двери детского вагона, как мы договорились, поднять Дайну на ступеньки и передать с рук на руки Лауме. Ни на что больше времени не хватит…
Дайна шагает молодцом — от меня не отстает. Я боялась, что дойти до станции ей будет трудновато, я могла попросить лошадь у председателя. Он обязательно бы дал, я знаю. Мне только никому неохота объяснять, в чем дело, как-то совестно. Ничего, обойдемся и так — мы обе.
Я даже матери не призналась, как трудно мне расставаться с Дайной. Только заикнулась — мать поглядела на меня с удивлением. Она считает, что в Риге Дайне будет лучше. Новая двухкомнатная квартира, ванна, центральное отопление. Конечно, разве можно сравнить с этим наш дом, который и не натопишь никогда как следует. И у меня, откровенно говоря, было время привыкнуть к мысли, что с Дайной придется расстаться. Это длилось годами: квартиру Лауме обещали то к Майским, то к Октябрьским праздникам, то к Новому году — и снова к Первому мая. Казалось, этой карусели никогда не будет конца.
— Окна выходят на южную сторону. Комнаты, правда, малюсенькие, но уютные, не такие сараи, как наши, и полы как зеркало. Эдгар покрыл пол лаком. На кухне два крана, горячий и холодный, — с восторгом рассказывала мать, возвратившись из Риги, со свадьбы, радуясь тому, что у Ляумы наконец наладилась жизнь. Эдгар зарабатывает почти две сотни и, говорят, непьющий. Магазин под боком — в соседнем доме. Шкаф купили трехдверный, с лица полированный. Оба мне все как есть показали. Наконец-то и бедная Лаума нашла свое счастье. Хочешь, Дайнук, поехать в Ригу?
Дайна в это время тарахтела игрушечными кастрюлями. Подняла голову, но ничего не ответила. Ригу, откуда она уехала, когда ей не было еще и года, она не помнит. Тогда мать взяла ее на руки, стала рассказывать про новый дом, про балкон, с которого видно улицу и троллейбусы, и про белую гладкую ванну, но мысли девочки блуждали где-то далеко. И только когда мать упомянула зверинец, куда поведут теперь Дайну, та оживилась. Теперь все мы ухватились за этот зоологический сад… В представлении Дайны поездка в Ригу все еще — что-то очень кратковременное. Сходит в зоологический сад — и возвратится.
— Теперь ты в Риге всегда жить будешь.
Что значит «всегда»? Два дня? Три дня? «Всегда» действительно трудно для восприятия — как будто вполне ясное и в то же время совершенно непостижимое слово.
Я даже не видела своего зятя и знаю о нем только, что он зарабатывает двести рублей в месяц. И Эдгар тоже Дайну еще не видел. Будет ли она для него… или хотя бы станет ли со временем не только ребенком другого мужчины? Они оба, Лаума и Эдгар, заберут Дайну, проезжая мимо Дзег поездом, заберут по дороге… как посылку. И мне становится немножко страшно. Возможно, я несправедлива, но меня все время мучает мысль, что новая жизнь для Дайны начинается таким образом…
Но мне понятна и радость матери, ей так трудно досталось вырастить нас троих. И всякий раз, когда мне кажется, что она слишком большое значение придает деньгам и вещам, я вспоминаю, как она первое лето после войны пропахивала картошку. Широкими грубыми мужскими руками держала рукоятки сохи, кричала на Гнедого и на Зигриду, которая не по ее вела лошадь. В рыхлой земле потресканные ноги матери оставляли большие растоптанные, будто мужские следы. Она колола дрова, таскала на себе мешки, сеяла и косила… Сначала все надеялась, что отец вернется, потому что после войны возвратились многие, кого считали пропавшими без вести. Потом постепенно, с болью примирилась со смертью отца. Помню одну ночь, всю до последней подробности, даже свой сон.
Снились мне горы. Солнце постепенно садилось за вершины, снега стали сперва алые, потом фиолетовые, а потом синие… Я проснулась и слышу, как мать в темноте плачет. Мне было так жаль ее, так жаль, что я ничего не сказала — лучше не знать ей, что я слыхала, как она плачет. Я чувствовала: моя сильная, моя суровая мать будет стыдиться своих слез.
Несколько лет спустя, когда я училась в Смилтенском техникуме, отец отыскался. Он прислал письмо из Канады, а потом и посылку. Что было в том письме, не знаю, а посылку мать не приняла. Соседки говорили, что Апиниха дура, а те, что о житье-бытье ближних всегда лучше осведомлены, чем о своем собственном, добавляли, что она не имеет права лишать дочерей того, что посылает им родной отец. На ветхом «Зингере» мы перешивали себе одежду из старого тряпья и школьное платье передавали друг дружке как эстафету. Когда Зигриде оно стало коротко, платье досталось мне; когда я из него выросла, синее платьице, теперь уже с другими рукавами, перешло в собственность Лаумы.
Но мать была гордая и не могла простить, что он нас бросил… как котят. Если до того как пришло письмо, она в светлые минуты называла белокурую голубоглазую Лауму папиной дочкой, то после никогда мы от нее этого не слыхали, хотя Лауму она всегда жалела и берегла больше, чем нас с Зигридой. В это самое время исчез и портрет отца со стены и остался один гвоздик. Мы даже не заметили, в какой именно день это случилось. Зигрида сметала с лежанки и, слезая с табуретки, об этот кривой гвоздь порвала рукав и чуть оцарапала плечо. Тут мы и увидали, что отцова фотография снята. Я не чувствовала ни жалости к отцу, ни злости на мать, не чувствовала вообще ничего. По-моему, и Зигрида тоже. Мы сами вставили в рамку репродукцию картины, вырезанную из журнала, и повесили. Чтоб не торчал из стены гвоздь. Отец был теперь для нас все равно что ключ, упавший в колодец. Мы знали, где он, но он никогда больше не открывал нашу дверь и постепенно заржавел, лежа в воде.
Не знаю, рассказала ли мать все же кому-то содержание отцова письма, только я, как и сестры, от чужих людей потом слыхала, что он в Канаде женился на женщине с деньгами, но старше его, у которой детей нет и не будет, поэтому он хочет забрать к себе одну из нас, с дорогой душой взял бы Лауму. Не могу сказать, правду говорили или нет. Мать этого не отрицала и не подтверждала. Когда Лауму не приняли в медицинский институт, она кричала на мать, что это все из-за отца и что лучше бы мать пустила ее, раз теперь у нее нет никакой возможности по-человечески устроить свою жизнь. Мать сидела молча, сцепив руки, и смотрела, не возражала, не плакала, только смотрела.
После разочарования в отце что-то в ней будто сломалось, будто погасло, хотя внешне она осталась прежней — суровой, работящей и очень практичной. И потом, когда я уже работала в «Коммунаре» и жила с ней вместе, мать успевала и в колхозе выработать хотя бы минимум трудодней, и вынянчить моих ребят, а потом и Дайну, прополоть огород и сготовить поесть, насобирать ягод и грибов. Но у нее была навязчивая мысль, казалось бы, несовместимая с ее практическим умом, — что женщинам нашего рода не суждено счастье в личной жизни. Последующие события эту веру только укрепили. Зигрида не вышла замуж. В ближней округе глухой сельской начальной школы, где она работает, почти что нет свободных мужчин, а моя старшая сестра слишком много унаследовала от суровой гордости нашей матери, чтобы пойти на тайную связь. И я тоже осталась одна. Миервалдиса в живых я уже не застала. Когда от соседей ко мне прибежали с известием о несчастье, он уже был без сознания. И вообще после аварии он не пришел в себя. В больницу я поехала на попутной машине, а назад из Цирулей шла всю ночь эти одиннадцать километров. Мать еще не ложилась. Она ничего у меня не спрашивала, наверное, по виду моему поняла, что спрашивать уже нечего. Потом мы долго сидели вдвоем. Она держала мои руки в своих и говорила. Мать ни словом не обмолвилась про Миервалдиса, который в ту ночь умер. Все это время она говорила про ребенка, которого я ожидала, говорила так, словно он уже родился на свет. Только в одном она ошиблась — это была не девочка, а снова мальчик, Петер…
И когда у Лаумы родилась Дайна, внебрачный ребенок, мать и это приняла на удивление спокойно — как доказательство силы судьбы, против которой не пойдешь. И кроме того, у нее какое-то удивительное благоговение перед всем живым, будь то человек или животное, даже хотя бы стрекоза или бабочка. В этом у меня, пожалуй, есть что-то от нее. Во всяком случае хорошо, если б так было, потому что специальность у меня такая — как иногда презрительно говорят горожане, «лошадиный доктор». И на самом деле не доктор, а только ветеринарный фельдшер…
Дайна нарочно шлепает по лужам, затянутым первым тонким ледком. Под ее ногами он хрустит со звоном, и девочка смеется. Мне не хочется лишать ее этой маленькой радости, да боюсь, как бы она не порезала новые сапожки, а то промочит ноги и простудится.
— Не бойся — не порежу, Ануля! — рассудительно отвечает Дайна.
Сзади раздаются шаги. Мы оглядываемся. Нас нагоняет высокий мужчина с чемоданом в руке. Дайна светит ему в лицо.
— Дяденька — цыган? — громко спрашивает она.
А мне смешно, потому что это Том… Том Мелналкснис.
АВТОР
Так в полутора километрах от станции Дзеги встретились Том и Анна.
Анна. Мелналкснис! Еле узнала, отпустил бороду.
Том. Добрый вечер!
Анна. Ты в Ригу, Том?
Том. Да, а вы… (пауза)… а вы обе?
Дайна. Мы тоже! У меня мама вышла замуж — и теперь поведет меня в зоологический сад.
Том. Хорошо, у меня будут попутчицы.
Анна. Ты, наверно, был у родителей, Том?
Том. Погостил два дня.
Анна. Приезжал бы летом. Нынче было необыкновенное лето, теплое такое, устойчивое.
Том. Летом не вышло.
Анна. Знаю, ты был во Франции. Читала в «Литература ун Максла» твою статью.
Вы, читатель, наверное, заметили, как натянуты ответы Тома, к тому же он избегает называть Анну по имени. Это не случайно — в темноте он ее сразу не узнал. Ослепленный светом Дайниного фонарика, полуслепой, вслушивается он в Аннин голос: низкий бархатный альт кажется знакомым, а лицо, как на старинном рисунке — неясные черты. На бледном овале выделяются только живые, почти черные глаза и ровный ряд белых зубов. Светлый платок сбился на затылок, открывая гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор.
Одета Анна неважно. Толстое черное пальто, ношенное уже четыре зимы, потрепалось и вышло из моды. К ее стройной, почти хрупкой фигуре пошло бы приталенное коротенькое пальтецо, модные, в обхват кожаные сапожки до колен, а не эти резиновые корабли. Но Анна, как известно, содержит довольно большую семью, желаемое и возможное при таких обстоятельствах часто не совпадает. К тому же пальто теплое, на ватине в два слоя, и в сапогах ноги будут сухие, даже если пойдет дождь, что не исключено, если взглянуть на пасмурное низкое небо.
Надо сказать, что Том — как большинство мужчин — вовсе не замечает, как одета Анна, вслушивается только в ее голос, ломая себе голову над тем, где и при каких обстоятельствах они встречались. И только когда Дайна называет ее Анулей, Том наконец понимает, что перед ним «средняя Апине».
Том. Анна? Ведь мы не виделись больше двадцати лет!
Анна. Я тебя однажды летом видела тут, в Дзегах. Три или четыре года тому назад. Только не подошла.
Естественно было бы спросить — почему? Однако Том не спрашивает, интуитивно чувствуя, что лучше этого не делать, — и не ошибается. Он замечает, как набита сумка у Анны, даже молния не застегивается (а может, испортилась), по привычке хочет предложить свою помощь, но своевременно спохватывается, что не может больше позволить себе такой роскоши, и чувствует, как он жалок. Но Анна привыкла во всем полагаться на собственные силы, ей даже в голову не приходит, что Том должен тащить и ее багаж, так что Том совершенно напрасно мучается комплексом неполноценности. Но ведь недаром говорится — горбатому все кажется, что на его горб все смотрят…
Теперь они идут втроем. Дайна светит фонариком и Тому. А разговор не клеится. Почти всегда так бывает, когда люди не виделись много лет. Ни тот, ни другой не знает, с чего начать, что рассказывать, — прошедшие годы текут между ними, как воды реки. И хорошо, если есть третий — в данном случае Дайна. О чем может Дайна спросить у Тома? Вы не ошиблись — конечно, про зоологический сад, о чем же еще.
Дайна. Дядя, ты был в зоопарке?
Том. Был.
Дайна. Тебе понравились слоны?
Том. Кто?
Дайна. Сло-ны!
Том. Не особенно.
Дайна. Почему? (Пауза.) Почему тебе не понравились слоны?
Том. Видишь ли, в зоологическом саду все звери узники.
Дайна. Уз… узники?
Том. Да. Их посадили в клетки и за высокие решетки.
Дайна. Чтобы не кусались?
Том. И это тоже. Но главное — чтобы не убежали.
Дайна. Ануля говорит, что их кормят.
Том. Конечно, иначе они бы не выжили. И многие привыкают: греются на солнце и даже берут пищу из рук. Тем, которые привыкают, ничего больше и не надо, они довольны жизнью. Но есть и такие, которые не могут привыкнуть к неволе…
Пауза.
Дайна. Почему ты не рассказываешь дальше?
Том. Ну… те, которые не могут привыкнуть, бегают по загону или по клетке… не берут пищу и кричат.
Дайна. Кричат? (Пауза.) Как они кричат?
Том. По-разному. Например, один олень кричал каждое утро, как только начинало светать.
Дайна. А как?
Том. Бао-бао-бао!
Дайна. Бао-бао… Как чудно! (Пауза.) А потом?
Том. Когда потом?
Дайна. Ну, после? Уже не кричит?
Том. Нет.
Дайна. Что с ним случилось? (Пауза.) Он… он умер?
Пауза.
Том. Оленя опять пустили в лес.
Дайна. Правда? А откуда ты знаешь?
Том. Одно время я жил там неподалеку.
Дайна. В лесу?
Том. Нет. Недалеко от зоологического сада. У меня был там весьма оригинальный дом на берегу Киш-озера. (Смеется.)
Анна улавливает горечь в его смехе. Поднимает глаза на Тома. Но темнота скрывает выражение и его сухощавого бородатого лица.
Том. Сколько тебе лет, Дайна?
Дайна. Сколько и Петрику — пять с половиной.
Том. Вы что, близнецы?
Дайна. Ануля, мы что… близнецы?
Анна (смеется). Да нет, Том! Дайна — дочка Лаумы, а Петер — мой сын.
Дайна. У Анули еще есть Нормунд и Айвар.
Анна. Ну, маленькая болтушка, все обо мне рассказала.
Том. У тебя три сына, Анна?
Анна. Ты удивляешься?
Том. Ты еще так поразительно молода…
АННА
С Томом что-то случилось. Не знаю — что именно, только чувствую, что неладное. Он так сильно, так разительно изменился. В детстве он был долговязым, с большими кистями и стопами, несоразмерный, как щенок овчарки. Лучший рисовальщик в школе и сорвиголова. Том учился в одном классе с Зигридой. На переменках я бегала к ней — взять какую-нибудь мелочь или спортивные тапки, которые у нас с сестрой были одни на двоих. Он прозвал меня Средняя Апине и потихоньку терроризировал. То не пускает в класс, то не выпускает из класса, однажды схватил тапочки и бежать, а я — за ним и не могу догнать. Не думаю, чтобы он относился ко мне иначе, чем к другим девочкам. Просто я чаще, чем прочая «мелочь», забредала в его класс. Через стенку мы сколько раз на уроках слышали, как учителя делали Тому замечание: «Опять Мелналкснис!», «Мелналкснис, чем ты там опять занимаешься?», «Мелналкснис, стань у доски!».
В этом он похож на моего Айвара. В первом классе Айвар был круглым отличником. А теперь дневник пестрит замечаниями: «Мешает на уроке!», «Списывает!», «Кидается мелом!», «Нет тренировочного костюма!». А есть просто смешные замечания, например: «Трогает скелет!» Оказалось, что имеется в виду наглядное пособие в кабинете естествознания. Позавчера меня вызвали в школу. Я бросила поросят и поехала на велосипеде, опасаясь, что случилось действительно что-то ужасное. Он запустил ластиком, говорит учительница, в портрет Мичурина. Мне стало смешно, но я сдержалась. Тем не менее учительница сказала, что мне недостает серьезности, и долго распространялась об уважении к человеку и непочтительности, намекая то ли на меня и себя, то ли на Айвара и Мичурина…
Том уехал в Ригу, в художественную среднюю школу имени Розенталя, потом учился в Академии художеств и жил иногда по неделе на отцовском хуторе. Все это я знаю от других, потому что встречаться с ним мне тогда не приходилось. Позже я читала в газете, что на выставке молодых художников есть и несколько его картин, и, когда ездила за медикаментами, зашла посмотреть. В музее я видела его работы из цикла «Пейзажи Старой Риги». Особенно мне понравился один — «Крыши». Картину ведь не расскажешь, а пейзаж тем более, так же, как песню или стихотворение… На картине действительно почти одни крыши, будто лестницей ведут они вверх, к небу, на котором едва-едва, еще совсем нежный розовеет восход. Именно восход, а не закат, я сразу угадала это по серебристому свету. Крыши блестят, мокрые от ночной росы или недавнего дождя, чистые, будто умытые, и облака над ними простираются бескрайние и безмятежные, точно сонная гладь озера на утренней заре, когда еще полное безветрие и кругом мертвая тишина. Я долго стояла у пейзажей Тома, спокойная, зрелая сила которых никак не вязалась у меня с озорным мальчишкой, каким я его знала.
Потом я где-то читала похвальные отзывы о других картинах Тома, на которых изображены родные края — окрестности Дзегов и Цирулей. Но тогда только родился Петер, после смерти Миервалдиса я была сама не своя, и времени у меня не было и, по правде говоря, интереса тоже. После этого имя Тома Мелналксниса мне больше не попадалось, возможно потому, что я не слишком прилежно читаю газеты. В будние дни газеты часто даже не разворачиваю. Зато я встретилась с Томом самим. И было это здесь, в Дзегах. Навстречу мне шли мужчина и женщина, оба стройные, элегантные, улыбающиеся. Мужчина показался мне знакомым. Я пригляделась — и узнала Тома. Он был с женой. Говорили, что его жена балерина. Гайда? Вайра? Ах, да, Байба. Она и с виду похожа была на балерину. Высокая, гибкая, с красивыми длинными ногами. В руках у нее были цветы.
Я хотела подойти к ним, но как бы со стороны посмотрела на себя. На мне были черные резиновые тапочки, я шла с работы. Я побоялась, что прелестное создание может взглянуть на меня презрительно. И еще мне подумалось, что я им скажу, и что они мне ответят? Не покажусь ли я им навязчивой? Как только люди становятся известными, у них, наверное, сразу появляется масса знакомых, родственников и бывших школьных товарищей.
Они прошли мимо меня… как мимо пустого места, не удостоив и взглядом. Лица у них были счастливые и довольные, как на плакате, призывающем страховать свою жизнь. Мне не в чем их упрекнуть — они просто меня не видели…
После этого зимой я смотрела балет. В программке увидела и фамилию Б. Мелналксне, но со своего места, с галерки, не могла различить, которое из восьми белых грациозных созданий — жена Тома. Бинокля я не взяла. На бархате перил руки мои выглядели грубыми, обветренными и коричневыми. Вдруг я почувствовала как-то свое несоответствие со всем, что меня окружает, и мне ужасно захотелось домой. Я ушла после первого действия, чтобы успеть на поезд. Когда я заявилась ночью, мать сперва испугалась, подумала, не случилось ли чего-нибудь. Потом сказала, что звонили с Айрской фермы, меня вызывают к корове. До Айров от нас всего с километр. Никакого транспорта я не искала, только переоделась и пошла пешком, даже не дожидаясь утра.
И когда нынешним летом я читала путевые заметки Тома, я подумала, что никуда-то я толком не ездила из Дзегов и, наверное, уж не съезжу. Однажды осенью мы ездили из колхоза в Таллин. Собирались и в Вильнюс, но, еще не доезжая до Елгавы, машина испортилась, шофер провозился с двигателем весь день, и мы решили вернуться обратно. Мужчины в ожидании напились, женщины, которым до смерти надоело сидеть и ждать у моря погоды, только о том и мечтали, как бы добраться до своих постелей… Том казался мне настолько чужим, что я не могла его представить себе и Париже, который тоже был мне чужой.
А теперь? С тех пор как я видела его последний раз, он сильно изменился, заметно похудел. Но не это главное. В нем есть что-то неуловимо грустное. Грусть, кажется, не покидает его даже тогда, когда он смеется. Я не могу… не осмеливаюсь спросить, только чувствую, что в жизни Тома произошло что-то неладное. Наше с ним детство давно позади. Теперь мы просто чужие люди, случайно встретившиеся ночью на дороге. Каждый со своей судьбой, со своими радостями и бедами. И у каждого они свои, порою непонятные другому.
Это было очень смешно, когда Петер расплакался из-за Дайниной куклы. До того кукла эта считалась у них общей, хотя на самом деле она была Дайнина. Никому и в голову не приходило, что мальчику хочется иметь куклу, и это даже казалось смешным. Когда мы упаковали ее в сумку, чтобы взять с собой, Петер заплакал. Мы с матерью его стыдили, а Дайна его поняла. Ей не казалось это ни позорным, ни достойным осмеяния. Она еще не научилась делить, из-за чего стоит плакать, из-за чего не стоит, даже маленькая беда в ее глазах все же беда. Нам, взрослым, этого не понять. Мы идем рядом, порою нечаянно касаясь друг друга локтем или плечом, но все равно мы две планеты, вращающиеся каждая по своей орбите, которые нигде не пересекаются.
ТОМ
Как хорошо, что я теперь не один, я устал от одиночества. Рядом шагает Дайна, освещая дорогу. Когда мы проходим мимо ольшаника, свет от ее фонарика цепляется за ветки и веточки, которые бросают на белесую землю причудливые тени, похожие на ажурную чеканку. Иногда ее верткое плечо задевает мою руку. Впереди, где-то далеко, возможно уже в Дзегах, лениво лают собаки, проносятся автомашины, тоже очень далеко, наверное, по шоссе; на небосклоне не блеснет даже отсвет фар. И облака все плывут и плывут над головой, поднимаются ввысь западнее леса и немного погодя сливаются на востоке с хмарью неба, а за ними плывут новые.
Я прошу Анну рассказать мне о сыновьях, и она, сначала застенчиво, а потом смелее, иногда со смехом передает мне проделки Айвара и Нормунда, которые мне почему-то кажутся знакомыми. Голос у нее низкий и ласковый, а смех звонкий и чистый. Ее приятно слушать. Странно, что она узнала меня сразу, а я ее нет — хотя она мало изменилась. И Том Мелналкснис нашего детства даже мне самому кажется мальчиком из другого мира, в который давно разобраны мосты и который лишь изредка неясно мелькнет, как другой берег широкой реки…
Достиг ли я того, о чем тогда мечтал? И да и нет. Формально — да. Когда тебе пятнадцать лет, и планы на будущее у тебя весьма конкретные: поступить в такое-то училище, стать тем-то и тем-то. Понятие счастья как таковое не существует, вернее говоря — оно целиком сливается с практической программой. Эту программу в общих чертах я выполнил, даже слава, хотя и на короткий миг, заглянула в мою жизнь. Но сделал ли я нечто такое, что в состоянии сделать только я и никто другой за меня не сможет? И был ли я счастлив, чего тоже никто другой за меня не может? И когда и где именно?
Я не знаю.
Я видел почти все, что жаждал когда-то увидеть. Эрмитаж и озеро Рицу, Лувр и площадь Пикадилли, фрески в термах Помпеи и стамбульских нищих. Я видел оригиналы шедевров искусства, поглощал впечатления, как изголодавшийся хлеб, силясь найти… вернуть то, что я медленно, но верно растерял.
Теперь я знаю, что вернуть мне не удастся ничего, мои золотые дни безвозвратно скрылись за горизонтом. Временами я чувствую только бессильное отчаяние: почему никто не предостерег меня раньше, я бы не расточал свои сокровища как Крез…
Не предостерег — от чего? От того, что уходит время? Ты этого не знал? Эта азбучная истина известна всем.
Кого и в чем я упрекаю, как глупо…
Когда перед нами открываются Дзеги, мы ставим свою ношу и отдыхаем в последний раз. Я опять вынимаю носовой платок и вытираю лицо. В отблеске далекого света глаза Анны смотрят на меня с тревогой и сочувствием. Беспечно улыбаюсь, но она не отвечает на мою улыбку, смотрит испытующе, пристально, будто старается угадать, о чем я думаю. Отворачиваюсь, словно она может угадать, чувствую, что я бессознательно ищу сострадания, а сознательно бегу от него. Только не это, только не это — ни от какого коньяка не бывает такого отвратительного похмелья, как от душевных излияний. К тому же я не нуждаюсь и в совете, я сам знаю, как бы я поступил. Сослагательное наклонение. Выражает сожаление. Зачем мне было съезжать в это болото сожалений? Я мог бы ей рассказать по дороге, как одеваются парижанки, женщинам это всегда интересно…
Что меня выдает? Голос? Манера держаться? Лицо? Может быть, она видит на мне знак, которым метит лесник обреченное на вырубку дерево — печать близкой смерти?
Прошу разрешения закурить.
Анна кивает, стоит передо мной, ниже меня на полголовы, поставив на землю сумку. Она — мой антипод: крепкая, жизнестойкая и молодая, поразительно… завидно молодая. А я усталый, больной и старый как мир. Между нами разница всего два-три года — невероятно. Два-три года, которые она проживет, когда меня уже не будет, и во мраке ночи я устремляюсь навстречу другому существу, как мотылек к свету.
Как жила все это время она? Что с нею было?
Она рассказывает про сыновей, потом про мать, но решительно ничего о своем муже. Мне не хочется спрашивать; раз она не говорит сама, это значит, что и спрашивать не надо…
Отдохнувши, идем дальше. Времени хоть отбавляй — оно устало колышется, как вода в серых пологих берегах тишины. Огни в Дзегах теплые и спокойные, кажется, что они приближаются к нам, а не мы к ним. В этот поздний час редко в каком доме кто-то не спит. Считаю — шесть светлых окон, нет — семь: вдруг зажигается огонь еще в одном. Может быть, за этим окном заплакал ребенок или встала старушка — накапать сердечных капель на кусок сахара? Может быть, там кого-то ждут или наоборот — провожают? Жизнь незаметно идет своим ходом и под покровом ночи. Мне трудно угадать, я не знаю жизни этих людей, и хутора — темные и освещенные — проплывают мимо нас, как корабли.
На перроне людей не видно, железнодорожное полотно мирно попахивает смолой, большой фонарь на столбе сеет желтоватый свет. Откуда-то выныривает черный пес и бежит неспешной рысцой, не обращая на нас внимания и нигде не останавливаясь, будто направляется по важному делу. И только когда под моим каблуком громко хрустнула галька, собака вздрагивает, втягивает хвост между ног, приготовившись к прыжку, и бросает на нас пугливый взгляд. Я заговариваю с собакой, она прислушивается к моему голосу, смотрит бдительными огоньками глаз и не бежит от меня, но и не подходит. Может, заблудилась? Жаль, что в чемодане у меня только яблоки и ничего больше из съестного.
Собака разглядывает нас, но когда Дайна протягивает руку, чтобы ее погладить, пружинисто сигает через низкую, уже облетевшую живую изгородь и в несколько прыжков скрывается в тени. И снова все погружается в тишину, только голые плети дикого винограда шуршат о стену. Свет в окнах станции белеет тусклый, словно сонный, а за дверью слышится разговор и храп. Из зала ожидания тянет вроде гарью и еловой хвоей… Мы здороваемся, нам отвечает несколько голосов, но и храп не прекращается. Дайна перебегает через весь зал, садится на пустую скамейку поближе к печке и расставляет руки, как бы занимая места справа от себя и слева, для Анны и для меня — хотя здесь никто на них и не претендует — и шаловливо болтает ногами в красных сапожках. Когда я прохожу туда, позади слышу громкий шепот: «Старого… сын», но не ощущаю при этом ничего, кроме тупого абсолютного равнодушия, которое удивляет меня самого; ха-ха, всегда я придавал огромное значение тому, что обо мне думают, говорят или пишут.
Тут очень тепло, Анна раздевает Дайну, снимает шапку, стягивает пальтишко, под ним белая пушистая кофточка, как кроличья шубка. Малышка все еще болтает ногами, с любопытством оглядываясь по сторонам, и взгляд ее дольше задерживается на голом затылке храпящего дяденьки с потешным венцом серых пушистых волос. Анна снимает платок, волосы у нее длинные, русые, как у тициановых женщин, и еще без седины, только при свете вокруг глаз видны мелкие морщинки и в уголках рта две глубокие горькие складки, которые выдают ее возраст. Лицо у Анны все еще красивое, только усталое.
На дворе воет собака. Вижу, как Анна невольно вздрагивает, а Дайна сползает с лавки и прямо так, без пальто и шапки, в одной кофтенке, выскакивает на улицу, и в ночной тишине раздается ее голосок, звонкий, как колокольчик:
— Песик, песик!
Дверь приотворяется, и в щель протискивается та самая черная собака, которая встретилась нам давеча, и, коротко и радостно взвизгнув, бросается к храпящему и будит его.
— Ануля, — раздается рядом тихий голос Дайны.
— Что тебе, дружок?
— Отломи хлебушка.
— Есть захотелось?
Но Дайна кивает на собаку. Анна ставит на колени сумку, шуршит бумагой, вытаскивает бутерброд с маслом и, отломив кусок, подает Дайне. Девочка подходит к собаке, садится на корточки против нее и протягивает хлеб на ладошке.
Собака так и водит глазами за рукой девочки, влажный чуткий нос ее нервно дергается, но к хлебу собака не притрагивается и под конец даже отворачивается от душистого тминного сыра с мелкими черными крапинками и глядит в сторону пустым, ничего не выражающим взглядом. Дайна растерянно встает с корточек, хлеб чуть не падает у нее с ладони. Слышу, как она тихо говорит:
— Не хочет!
Дяденька, который недавно храпел, объясняет, что собака из чужих рук не ест, и берет у Дайны хлеб.
— Ну, Барон, служи!
Собака становится на задние лапы и стоит, пока не получает лакомство.
— Молодец, вот это я понимаю! — одобряет кто-то.
Мы все улыбаемся — умная собака, не берет еду от чужих и умеет стоять на задних лапах. Дайна медленно отворачивается, садится на прежнее место между мною и Анной и молчит. Вижу — она задумчиво оглядывает свою руку. Светлые мягкие волосы завитками свисают на круглую щеку с беззаботной лукавой ямочкой, а лицо будто потухло: наверно, она впервые столкнулась с тем, что жизнь впоследствии, возможно, не раз преподнесет ей — с отвергнутой добротой. Почувствовав на себе мой взгляд, она поворачивает голову и смотрит молча, с недоумением, словно ожидая ответа от меня. Глаза у нее такие же, как у Анны — карие и как будто влажные, похожие на спелые вишни.
АВТОР
Кристина. Говорила я тебе, Теодор, запри его на крючок в пуню! Так нет! Просто паскуда, а не собака! Ну, погоди у меня, только приеду в Ригу, сразу пойду на Мельничную в скобяной магазин. Куплю цепь и прибью к конуре. Посажу на цепь, тогда он, стервец…
Эмилия. Чего ты ругаешься, Кристина! Ведь он никого не покусал.
Кристина. А на кой ляд я кормлю этого дармоеда? Чтобы он гонял почем зря? Говорила я Теодору: принеси справного щенка, чтобы сторож из него был, а не…
Язеп. У вас, видно, мамаша, полно добра, есть чего сторожить?
Кристина. Я тебя не цепляю!.. А мой, ну Теодор, приволок этого ублюдка. И хвастает: у нас будет породистая собака, как у баронов — отец у него учителев колли, только мать — бригадирова дворняжка. Так и назвал Бароном… Да пойдешь ли ты домой, стервец!
Пес припадает к полу, кладет морду на лапы и просительно смотрит вверх, только самый кончик хвоста бегает, как мышь.
Теодор. Ладно, не шуми…
Уловив в голосе хозяина благосклонность, пес начинает быстро-быстро мести пол хвостом, потом поднимается и садится возле Теодора, прижимаясь теплым боком к его ноге. Теодор грубой рукой гладит мягкую пушистую спину пса, и лицо его покрывается сетью добродушных морщинок.
Теодор. От меня ни на шаг. Ни на колодец, ни, к примеру сказать, за нуждой чтоб тебе сходить одному — не моги думать. Только войдешь, умостишься, уже слышишь — так и есть, идем следом. (Пауза.) Был у нас кутенок — ну такой миляга, да мы его с Кристиной, стало быть, сгубили…
Кристина. Ты меня не припутывай!
Теодор.…после войны сразу, когда волки еще так и рыскали — страшное дело, сколько расплодилось серых, просто гибель. А он однажды приплелся за нами, стало быть, в баню. Оставили мы его в предбаннике, да разно он постоит смирно, скребется и скулит. До тех пор скулил, пока Кристина и не скажи: «Выпусти ты его, прямо голова болит!»
Кристина. Так это я сказала, трепло поганое? Ты, ты сам это и сказал.
Теодор. Не встревай, чего квохчешь!
Кристина. Ага, он будет напраслину на тебя возводить, а ты слушай, жена, разинув рот! Ты тогда еще у Римейки молотил, как сейчас помню. Пили самогон, домой пришел косой, ноги не держат. Потом с похмелья голова трещала. Правду я говорю или нет?
Теодор. Так не в том же дело.
Кристина. Как это не в том!
Теодор. Ну, рассказывай сама, если ты такая умная.
Кристина. И трогать я его не трогала, и знать я ничего не знаю.
Теодор. Встревать в разговор — это ты знаешь.
Эмилия. Дай ты ему досказать, Кристина.
Кристина. Кто ему не дает, кто ему рот затыкает?
Язеп. А дальше-то что?
Теодор. Ну, когда Кристина застонала — голова, мол, у ней болит, выхожу я, стало быть, в предбанник, беру его за шкирку, махонький такой воробушек, месяца два ему только было… беру я его, отворяю дверь и — за порог. Слышу: ай-ай-ай! Выбегаю, как говорится, в чем мать родила, а на дворе хоть глаз выколи. Слышу только — что-то хрустнуло, что-то хряснуло. Так и пропал щеночек. Сам, можно сказать, своими руками кинул волку в пасть. Кристина после говорит: чуял он смерть, оттого и скулил.
Кристина. За что ни хватись, все я виновата, и так всю жизнь.
Язеп (смеется). Волка он чуял, а не смерть.
Кристина. Будет тебе, Язеп, про смерть говорить. (Оглядывается на венок.)
Эмилия. Бойся не бойся, Кристина, все равно она придет. (Вздыхает.)
Кристина. Кто придет?
Язеп. Она самая, мамаша, вышеупомянутая.
Кристина. Ты перестанешь, греховодник! (Пауза.) Как Либерт застрелился, так я и смотреть не могу…
Язеп. Кем же он вам доводился, Либерт, что вы так переживаете, мамаша?
Кристина (возмущенная). Да кем он мне может доводиться, этот бандит!.. А уж страху я приняла, спасибо что была валерьянка. Облюбовал он Калмы, а у нас Юрка в Красной Армии. Явился бы Либерт ночью со своей бандой… (Пауза.) Так мы бы с Теодором сегодня тут не сидели!
Теодор. Так бы я и дался, чтоб меня подстрелили как зайца.
Кристина. А с чем бы ты на них — с фигой?
Теодор. Оно, конечно, говорят — лиса близко от своей норы не гадит, да поди узнай, как бы оно обернулось… Либерт жил у двоюродного брата под клетью, от нас — всего ничего. Из окна в кухне нам видать крышу Калмовой клети. Да разве тогда кто бы подумал? Кристина еще, бывало, трусит — времена, дескать, неспокойные, как бы нас из-за Юрки не стукнули. То говорят да это говорят. Я еще успокаиваю: пускай те боятся, кто на лесной опушке живет да по болотам, а нам чего — кругом люди, до Калмов рукой подать. А Калмы-то — вон чего оказалось! Я как-то ночью вышел по нужде, слышу — батюшки мои! — в той стороне собаки лают, двери скрипят, гомон. Я уж хотел идти посмотреть. Кристина не пустила, вцепилась в меня, кричит: «Вдовой меня хочешь оставить?».
Кристина. Ну, прямо уж… так и кричала…
Пауза.
Теодор. Люди говорят, может, Либерта и не нашли бы, хитро они под клетью там окопались, а он-то, как услыхал, что ходят уж прямо над головой, так — паф!..
Язеп. Нервы.
Теодор. А что ему оставалось? На что ему было надеяться?
Пауза.
Кристина. И по сегодняшний день в Калмах призрак ходит. Каждую ночь… И смеяться нечего!.. Каждую ночь, когда полная луна. Мария своими глазами видала. Караулила, как бы свинья не заспала поросенка, и когда ворочалась из клети, глядь — ходит мужик, увернутый в простынь, ноги длинные…
Язеп. А волосатые?
Все за исключением Кристины смеются.
Кристина. Ну и молодежь нынче пошла, им только зубы скалить… (Пауза.) Которые не своей смертью померли, те призраками так и бродят. Кто честно живет, тот на себя руки не наложит!
Эмилия. Не говори, Кристина! В жизни всяко бывает. Навалится беда как камень, человек себя не помнит. Сам уже не понимает, что и делает. Если рядом не найдется, кто его удержит, пропадет ни за что… (Пауза.) Расскажу я вам, как было дело с Эрной, когда мы еще с ней на пару в Сподришах коров доили. Поздняя такая, тяжелая выдалась весна, не помню теперь уж точно, в каком году, не то в пятьдесят пятом, не то в шестом. На дворе уже апрель, а снег сошел только плешинами на буграх с южной стороны. Мы там пасли свою лошадь, Журкой звали. Пускаем ее утром, не привязанную, не спутанную. Походит она себе, где оттаяло, пожует прошлогоднюю траву, так и перебьется до летних кормов. Умная была животина: сама придет, не какая-нибудь гулена. Ну а коров на эти плешины не выгонишь. Кормовой свеклы нету, сена нету, солома — и та кончилась. Хоть караул кричи. Рвали мы вереск, рубили хвою, оголодали не хуже нашей Журки, кожа да кости. Ждали травы, как… В жизни своей ничего я, наверно, так не ждала, как травы в ту весну. И коровы стали сдавать. Одна подохла, потом еще одна. Пришли из конторы, составили акт и увезли. Эрна поплакала и успокоилась. А что с ней дело-то неладно, мне и невдомек. (Пауза.) Назавтра утром она в хлев уходит первая. Немного погодя слышу: в сенях будто кто скребется. Эрнины дети в школе. Кто там может скрестись, думаю. Если вор — там взять нечего, и опять мне в голову не стукнуло, иду себе, и раз — в темноте на кого-то налетела. Эрна! «Хоть бы лампу засветила, чего ты в потемках!..» — это я ей. А она ни словечка. Отворяю дверь на кухню, чтоб впустить хоть маленько света. Гляжу: в руках у Эрны вожжи, стоит — перебирает, головы не поднимая. «Ты ехать куда собралась?» — спрашиваю. А она опять не отвечает, знай перебирает негнущимися пальцами. Толкаю ее в бок: «Не слышишь, что ли?» Тут Эрна глянула на меня такими… страшными глазами, как слепая — и тихонько так говорит, совсем без голоса: «У меня еще две не встают…» Только тогда я, дура, смекнула, чего она теребила Журкины вожжи — и как закричу! От моего крику она точно проснулась: глянула на меня — глаза полны слез, но уже осмысленные, упала мне на шею — вся так и трясется. Я ей говорю: «Дети ведь у тебя, Эрна, думай о детях…»
Пауза.
Теодор. Да…
Пауза.
Кристина. Ну, она и сроду была горячая, еще сызмала. Мы с ней вместе к пастору ходили, перед первым причастием… Хозяйская дочка и с лица тоже неплохая, а выскочила за Пашкевича, за этого вшивца. Сами голые, босые, они и лесных братьев украдкой привечали — знаю только, что после войны ей орден повесили.
Эмилия. Медаль.
Кристина. Не все равно — орден или медаль. Ни накормит он тебя, ни оденет, — как вкалывала она, так и вкалывает. В колхоз записалась — опять вези на себе воз. Характер у нее такой, не знает спокою.
Эмилия. Она же умерла, Кристина…
Кристина. А я разве что плохое?.. Ты сама завела, стала кости перемывать покойнице. Пускай будет пухом земля Эрне Пашкевич, жизнь у нее нелегкая была…
Женщины разговаривают, а Теодор тем временем начинает шарить по карманам. Кристине это движение знакомо.
Кристина. Ты смотри у меня — не вздумай здесь дымить.
И Теодор с невинным видом, даже с удивлением на лице — будто про курево он и думать забыл — вынимает большой клетчатый носовой платок и громко сморкается.
Снаружи вдруг доносится пение. Барон поднимается, подходит к двери и ласково виляет черным хвостом.
Теодор. Пиладзит, что ли?
Ручка дергается, но дверь не открывается, и в ночи явственно раздается песня про пять канареек, по которой вы, читатель, догадываетесь, что Теодор Олман попал в самую точку. Язеп встает, нажимает на ручку до конца и помогает открыть дверь.
Пиладзит (входя). Мерси!
Наш знакомый, похоже, все еще не очухался, хотя по дороге у него было время просвежиться. Сдается мне, что направляясь сюда, он под покровом темноты не раз отвинчивал металлическую головку и прикладывался к бутылке рома, которая торчит у него из кармана. В обеих руках узлы, кепка сбилась на затылок, пальто кое-как застегнуто на одну пуговицу, хотя и две другие целы.
Войдя, он обводит взглядом зал, будто ищет, где ему пристроиться.
ПИЛАДЗИТ
— Здрасте! Наше вам почтеньице! А, знакомые! Если меня не обманывают глаза — Олманы! Добрый вечер, хозяин, добрый вечер, хозяюшка! Снарядился я в дорогу? Угадал, хозяин! А вы оба куда путь держите? В Ригу? Не иначе как на рынок, вон оно ведерко под лавкой. Мед? Сметана? Сметанка… На проводы внука в армию? Да где ж ему столько одолеть, с собой ведь не возьмешь. Прохватит его как пить дать. Человек, хе-хе, не свинья: съест ведро и хватит… Чего ты сразу сердишься, хозяюшка? Пьяный я, говоришь? Господи, твоя воля, да разве это пьянство!.. Вот в шестидесятом году под Валмиерой, это да: выкатывает хозяин бочку, присаживаемся мы к ней. Вдвоем, значится. Пиво то ли от похорон осталось, то ли от крестин. А он знай наливает в кружки, и мы пьем до дна. За один вечер бочку усидели, и ноги заплетаются. Вот это пьянка, я понимаю! У хозяина дочь была, вековуха, лицо длинное, как пирог, а работала в лавке завмагом… Ну, сами понимаете. Когда я малевал, она приходила надо мной командовать. Одну стену пожелала чтоб в розовый, а другую в лиловый. Расписал я ей, как в ресторане, глазам глядеть больно…
А, это ты, дружок! Ну, как твои делишки? Меня еще помнишь. Граф? Барон? Правильно, Барон! И мягкая же у тебя шкура, только стричь да носки вязать… Не пойму, чего это бабы и собаки всегда ко мне липнут. И то сказать, не молоденький уже, а поди ж ты — прямо как репей. Если б мне еще зубы вставить — охо-хо! В молодости у меня были такие зубы — гвоздь перекусить мог. И с лица тоже как картинка. От девок нет отбоя — Волдемар. Волдис, Волдик… Что сказала Алиса, когда я собрался? Представь себе, хозяин, ничего не сказала! Что она могла сказать… раз она в Цесисе. Хе-хе! Удочки сматываю? Это я? Господи, твоя воля, зачем ты, хозяин, сразу так? Я просто возвращаюсь к своей законной супружнице.
Что я вижу, еще одно как будто знакомое лицо? Фельдшерица? Куда едем? Ах, только провожаем! Его, Иисусову бородку? Ах, девочку! А кто же он такой будет, бородатый господин с лаковым чемоданом? Говоришь, Кристина, художник? Значит мы, хе-хе, собратья по ремеслу. Если вас в случае выкинут из цеха художников, возьму вас к себе в подручные. Мой напарник сачканул, а одному трудновато — не с кем мебель передвинуть, некому лестницу подержать. Я не сквалыга, со мной работать можно. Хе-хе, да это я в шутку. А если всурьез: на хлеб-то заработать можно. Меня еще с малолетства так и тянуло к рисованию, да на тяге одной далеко не уедешь — выучка нужна и деньги тоже. Нас у отца было четверо, сам он малярил, как и я. Не то чтобы горький пьяница, а тоже кое-когда закладывал. И все только и знай тянут: девчонкам нужны юбки, мальчишкам — портки, и в животах тоже кишки играют марш. Где уж тут про высшие школы мечтать! Окончили по шесть классов, а старший брат и того нет — и на заработки! Я ходил в учениках у фатера — наловчился филенки проводить. Так прямо, без линейки. У отца рука дрожит, а у меня тогда небось не дрожала. У него выучился ремеслу на большой палец с присыпкой, все фокусы и ухватки перенял: и как краски мешать, что и как сверху класть, как замазать, если огрех какой получился. Прокатать по стенам малярным вальком всякий дурак сумеет. Да рябая стена получается, будто мухи ее засидели или курица лапой писала. Я выучился рисунок кой-какой наносить от руки — и сразу другой вид. Людям нравилось. До Пурвита мне, конечно, далеко, а все равно — угодишь человеку…
Один раз иду и вижу: в овражке художник! Не то на корточках, не то сидит на низенькой такой скамеечке и знай себе водит кисточкой. Подхожу сзади крадучись, затаил дыхание и смотрю во все глаза. А тот водяными красками, ну… акварелями. Стою и наблюдаю, рад, что он меня не видит и не гонит. Тут он и говорит: «Смотри шею не вывихни, а то прострел схватишь» и знай себе кисточкой водит, даже не оглянется. Стало быть, все время чувствовал, что я стою за спиной, как палач. Хотел я было уходить, когда он наконец оглядывается. А личностью скорей на прасола смахивает, чем на художника — щеки во-о! Черные усищи, глазами буравит, точно двумя шилами. Спрашивает — нравится? И уставился на меня, как удав на кролика. Я нарочно отвечаю — мол, не нравится. Думал, он озлится, ан нет. Засмеялся и спрашивает: почему? «Разве это дерево? — я ему. — Это костыль инвалидный, а не дерево! И где вы видали, чтоб у вяза были синие листья? И потом у вяза они острые, как коровий язык, а у вас на картинке — бумазеевые лоскутки какие-то…» Разобрал я таким манером все подряд, а тот все смеется и под конец говорит: «Соображенья у тебя мало, а фантазии много. Наверное, сам тоже рисуешь. Признайся!» — «Какой я художник — так, балуюсь…» Покажи, говорит. Как выбрался я из оврага, где меня ему уж не видно, припустил что есть мочи. Похватал, что попалось под руку, и назад. Тот берет один лист — хм, берет другой — хм… Стал выспрашивать, сколько лет, сколько классов окончил, студию какую-то помянул. Какая там студия, господи твоя воля, Рига за тридевять земель! А потом началась война… Так оно и пошло. И то сказать, товарищ художник, обернись оно по-другому, может, мы и стали бы коллегами. Как вас величают-то? Мелналкснис? Извиняйте, что-то не слыхал. Сейчас этой братии художников расплодилось страсть. Где тружусь? Так, ремонтом больше занимаемся. Должен кто-то, хе-хе, и стены красить, а дело я знаю будь здоров. Вот свидетели — Олманы. Я им делал ремонт нынешним летом. Комнаты запущены, кухня закоптилась, но… Ну, не ори ты сразу, хозяюшка, или я сказал, что у вас клопы водятся!.. А теперь все блестит… как в ресторане.
Уф, ну и жарища тут, прямо дышать нечем! Натопили, как в Африке. Вам, молодой человек, не жарко в пыжике? Как звать-то вас? Язеп? Тракторист? Законная специальность. Моего старшего сына тоже тянет к моторам… Куда едете? Что, за мясом? А я думал, к зазнобе — таким франтом. А сами не держите, к примеру, хрюшку? Расчета нету? Стало быть, хорошо зарабатываете? Ого! Да, на двести пятьдесят целковых в месяц можно возить сало из магазина. И у жены больше сотни? Куда можно столько денег распихать! Или семья большая? Ни стариков, ни детей? Хе-хе, тоже нету расчета, а?.. Ну и порядочки: из деревни ездят в город за мясом! При немцах только тот не подыхал с голоду, у кого где-нибудь в захолустье были родичи, а то хоть ложись да помирай. Как в песне поется:
Тс-сс, чего ты шипишь, как гадюка, Кристина! Разве тут кто-нибудь спит? Может, хорошенькая барышня спит? Нет, у барышни глаза открыты, барышня смеется. Как вас величать прикажете? Огненное имя — Лиесма! Куда едете? В Ригу? А по какому делу, если не секрет? Секрет? Ну, это вы шутите! Я из тех мужчин, которым женщины доверяют свои тайны. На конкурс исполнителей эстрадной песни? Потрясно! Тот — художник, эта — артистка! Только в самодеятельности? Вы застенчивая, Лиесма, а искусство любит застенчивых. Что, она заняла первое место в районе? Тогда спойте что-нибудь, Лиесма! Ну, не краснейте! Как же вы будете петь в Риге, перед жюри? Усядутся в ряд плешивые дяди и будут смотреть на ваши ножки. Дородные тети станут носы морщить: «Соль она взяла слишком низко, ля она взяла слишком высоко!» Я вас пугаю? Зачем же мне вас пугать, красоточка Лиесма? Я буду держать за вас кулак, чтобы вы заняли первое место! Когда вам будут хлопать, вспомните Волдемара Пиладзита! Куйте железо, пока горячо. Жизнь чертовски коротка, девочка… Что я вижу — кто-то уж распрощался с нею? Чей это венок? Ваш? Эмилии? Очень рад. Кто умер, если не секрет? Хороший человек? И все-то умирают хорошие люди, вот наказание! Иной раз читаешь в газете не… некро… Как? Да, некролог… и в пору прослезиться. И то сказать: жил на свете такой хороший человек, а ты про него и знать не знал — и только теперь узнаешь, когда он умер…
Кхм, кхм, просто в горле пересохло. Ром сушит, выжимает из тебя последние соки. Как приеду в Вецумниеки, так точка — и капли в рот не возьму. Войду к Эмме, перво-наперво деньги в руку, а потом скажу: «С нынешнего дня я непьющий!» Представляю себе, как Эмма обрадуется. Все ведь потягивают, один больше, другой меньше — святых нет, а я все же лишку разболтался. Мало разве у Эммы было передряг из-за меня? Ну господи боже мой! Другая б пустилась во все тяжкие, а Эмма не таковская! Золото! Как-то пили мы с ребятами в чайной. Один Луринь такой здорово набрался, берет меня за пуговицу и давай загибать, что младший сын будто бы не мой. Где-нибудь в кустах приблудила. Как вы думаете, что я сделал? Я ему — бац! — по физиономии. «Не поливай грязью честных женщин, мерзавец! Сам небось клинья подбивал, пока меня не было, да вылетел пробкой из окна».
Что это там звякнуло? А, бутылка! Вражья сила, когда это успело в ней так поубавиться? Отпивал помалу, все помалу, а поди ж ты… И то сказать — вся она, жизнь, так устроена: потихоньку идет, полегоньку, еще один денек, еще одна радость и глядишь — пролетела как единый миг, и выносят тебя ногами вперед, и нет тебя больше… Чтоб тебе пусто было — рюмка разбилась! Когда это откололась ножка? По дороге или сейчас, пока я вертелся? Надо было положить бутылку в один карман, а рюмку в другой. Ну, пить можно и без ножки. Глянь, стоит только взяться за бутылку — у Теодора Олмана кадык прямо ходуном ходит. Я не жмот — отвинчиваю пробочку, наливаю Олману. На что хошь спорю — Кристина сейчас взовьется. Так и есть — уже взвилась. Но если подумать хорошенько, наверно, на свете нужна и такая Кристина. А то не с кем было бы сравнивать Эмму… Белый свет и держится вроде как на парах. Белое и черное, мужчина и женщина… Как вы говорите, товарищ художник? На противоположностях? На них самых!.. Жар и холод, к примеру, огонь и вода, жизнь и смерть, Эмма и Кристина…
Выпей, хозяин! Это тебе не самогон, но штука первоклассная. Алиса достала по блату. Что, печет? Хе-хе. Закусить нечем? Вон, товарищ художник дает яблоки. У кого есть нож, отзовись!
Ну и косарь у тебя, хозяин, таким слона заколоть можно. Передайте, коллега, сюда ваши яблоки, мы их разрежем, так, так, так, на равные половинки. Закусон что надо! Где рюмка, хозяин? Древние латыши угощали, но не забывали и себя. Ух, прямо как жаркие уголья! Закусить? Это можно. Есть, правда, неохота, я дома смолотил яичницу из трех яиц. Однако закусить после стопки — это не обжорство. Это… ну, как в церкви… Что, товарищ художник? Ага, как ритуал…
Милая барышня, Лиесма, теперь ваша очередь. Не пьете? Да что за притча! Все артисты пьют. Почему же вы нет? Просто так? Женщины, они такие: одно они делают, другое не делают, и никогда они сами не знают, почему одно делают, а другое не делают… Ну хоть половинку! Я из тех мужчин, которым женщины не отказывают. Так вы будете первая? Не позорьте старого кавалера, девочка! Мне больше достанется? Вы меня считаете за пьяницу. Разве я вам навязываю, господи боже мой, да никогда я ни к кому не навязывался со своей водкой… Выпей ты, Кристина. Не обзывай чертовым зельем, хозяюшка, попробуй! Слаще меда. Из самой Румынии. Нет, нет, хозяюшка, Румыния не в России. Вот она бабская натура: губы говорят «нет» и «нет», а руку тянет, Ну вот, и не померла! Пожалуйте яблочка! Смотри-ка, и на щеках сразу две красные розы, как у девушки. Когда ты, хозяюшка, смеешься, так сразу будто десяток лет сбросила, а когда серчаешь — на десять лет старше кажешься. Намотай это себе на ус! К примеру, Алиса. Как только… Эх, да что старое вспоминать!
Держи, Язеп! Ну вот, шапку наконец-то все же сиял — как перед причастием. А волосы какие — рыжие, густые да пышные, как горящий лес. Мне бы такие волосы, я бы шапку сроду не покупал.
Ба, этот ром прямо на глазах черт знает куда девается! Ну, товарищ, теперь только по полрюмки, а то кому-то совсем не хватит. Сперва Эмилии. Ну, ну, ну! Берите пример с Кристины. На похороны если — в аккурат и надо выпить. Сердце бьется? А у кого оно не бьется, сударыня? Ну, нет так нет! Дадим лошадиному доктору. Нет, нет, не отрава. Вы же видели, как я лихо выпил. Смелее, смелее! И яблочком закусить, а то вон как скривилась. А теперь коллега… Ну, и мне еще с наперсток осталось. На, Барон, и тебе капельку. Облизывается, сукин сын. Я напою собаку? Что ты, Кристина! Там одна капля. Под Елгавой есть у меня знакомый барбос, так тот ест хлеб, намоченный в водке. Вот где потеха! Сперва станет такой ласковый-преласковый, рот разинет, язык вывалит, и всякому хвостом виляет. Потом давай бегать, да чудно так, и пошел ногами кренделя выписывать. Бегает-бегает — остановится, обнюхает свои следы, будто не поймет, в чем дело, почему ноги не хотят идти прямо. А еще немного погодя… сползает на задницу. Сползает, сползает и хлоп — завалится и храпит. В точности как человек, От смеху прямо животики надорвешь. Как? Как ты сказал, Язеп? «Типичная картина действия алкоголя»? Где это ты ума набрался? А, в «Здоровье»! И то сказать, собака — она ведь живая тварь, как же ей не захмелеть? У нас в Вецумниеках собаки нету, один кот. А кошка, известное дело, до страсти любит валерьянку, зато водку в рот не берет. Один раз накапал я ей валерьянки на хвост. Она чуять чует, а не поймет, откуда идет дух. И крутится, и вертится, и орет благим матом. Пришла Эмма: зачем, говорит, мучаешь кошку? А кто ее мучает, сама мучается. Взяла и вытерла ей хвост мокрой тряпкой. Она у меня такая — миротворица. Хоть что хошь делай, а голос никогда не повысит, руки распускать не станет. Придет бывало за мной: «Пойдем, Волдис, домой!» Если б она шумела или ругалась, тогда бы другое дело, можно отбрехиваться. А что же ты будешь делать, если тебя Волдиком называют?.. И портниха она первейшая. Мастер на все руки. Платье надо — пожалуйста. Костюм надо — пожалуйста. Пальто? Милости просим — и пальто. Из нового сошьет и из старого перелицует. Перевернет материал на другую сторону, потом на третью. Как в цирке!
Чего же я шляюсь от нее?
Э-эх, хозяин, если б кто мог мне это сказать! То ли привык — не могу отвыкнуть, то ли такая во мне цыганская кровь. Не задалась жизнь… Слабый, наверно, характер. Положу себе жить по-новому, честно-благородно, да… то с бутылкой свяжусь, то с бабой. Подберет меня, как медяк па дороге — и нет моих сил противиться. А как хочется быть хорошим, черт побери, сделать… ну, сделать что-нибудь такое, чтобы все рот разинули!
Вот вы хотя бы товарищ художник… Лиесма… Язеп… фельдшерица… ты… твоя благоверная… Все люди как люди, при своем месте, со смыслом… Один я… я не плачусь, хозяин, я не слюнтяй, а только как задумаешься, так на душе кошки скребут…
Наверно, мне малость в голову ударило, мешать не надо было. В меня много влезет, но только чур! — не мешать. А то сначала перцовка, сейчас — опять же ром. Совсем дрянь дело, если после водки вина выпить. Тогда мне крышка. Как однажды на взморье. Были мы у одного друга на рождении, здорово заложили — под завязку. Идем мы на станцию, видим — буфет. Ныряем. Только там ничего толкового нет — один шашлык и кислое. «Зажарь, нам, девочка, каждому по барашку!» — и садимся за столик, берем — что будешь делать — сухое вино. Как пили, еще помню, а как оттуда выбрались, хоть убей — пленка оборвалась. Друзья мне потом рассказывали, что я такое вытворял, господи боже мой, блевал, цеплялся на улице к какой-то бабе, схватился с милиционером. С тех пор я себе сказал: «Стоп! Выпей, Волдемар Пиладзит, если охота горло промочить, но никогда не превращайся в свинью!»
Давай споем, хозяин! Когда поешь, сразу веселей на душе, Кхм, кхм…
Ну, подтягивай, хозяин!
Теодор от меня все немножко отстает. Не больно-то согласный у нас дуэт. И то сказать, у нас тут и не опера! Подтягивайте и вы! Пойте, чего вы смеетесь!
ТОМ
Слушаю перебранку Теодора с Кристиной, и мне сразу вспоминается почему-то наша жизнь с Байбой. Ведь выглядело все это совсем иначе, можно даже сказать — прямо противоположным образом. Мы никогда не говорили друг другу «стерва», «не квохчи», «трепло» и тому подобное, никогда не забывались и не забывали, что мы интеллигентные люди. Но прожитое вместе время постепенно как бы разъело нас, точно кислота, и мы оба вздохнули с облегчением, когда все это кончилось. Финиш был связан с определенной датой, которая теперь и проставлена в моем паспорте.
Когда мы вышли из здания Верховного суда, в скверике напротив под апрельским ветром прямо на глазах таял белый мягкий, только утром выпавший снег, небо куполом висело над домами, высокое и чистое, солнце, отражаясь, на мокром тротуаре, сияло просто ослепительно, Я спросил, идет ли она сейчас в театр. Байба покачала головой и ответила, что сядет на троллейбус, я вызвался проводить ее до остановки и взял под руку, когда мы переходили улицу Ленина. Она взглянула на меня, будто удивляясь, зачем это теперь нужно, — мы притворялись друг перед другом все последние годы, отлично зная, что притворяемся. Я заметил, как Байба постарела. Нос с горбинкой в молодости придавал ей нечто пикантное, экзотичное, а теперь казался большим и горбатым на сухощавом лице, и при ярком солнце на нем проступали запудренные морщинки, которые скрывало электрическое освещение. Подбородок, казалось, заострился, а рот стал крупнее, уголки ярко-красных губ были опущены книзу в иронической, если не сардонической усмешке, которая ей не шла. Только фигура благодаря повседневным тренировкам сохранила грациозность, особенно красивые ноги, как у известной балерины Анны Приеде; издали Байба еще выглядела почти как прежде.
Мы шли под руку на остановку, и говорить нам было не о чем; за девять лет, наверно, все переговорили, только шаги наши по асфальту еще стучали вполне согласно. Троллейбус пришел быстро, избавив нас от гнетущего неприятного ожидания вдвоем. Байба протянула мне руку — в кожаной перчатке она походила на неодушевленный предмет. Она пожелала мне удачи, я ей тоже. Мы были, наверное, самой примерной парой, из тех, по крайней мере, которые разводились в тот день. Дверцы захлопнулись — слава богу, все кончилось благополучно.
Я свернул в Кировский парк и брел по месиву тающего снега к улице Кришьяна Барона. Где-то гомонили и смеялись мальчишки. И мне пришло в голову, что решительно ничто больше не связывает меня с Байбой — дом продан, вещи поделены, детей нет, — и это чувство даже поразило меня своей новизной. Байба ушла из моей жизни, не оставив и следа: у меня (а возможно, и у нее) не будет даже воспоминаний, на которых хотелось бы хоть когда-нибудь остановиться, потому что и на то хорошее, что было в нашей с ней жизни, легла тень последних мучительных лет…
Так выглядел финал.
«Но главное не конец, а то, что до этого было…» Когда это началось и с чего началось? Вначале мы были счастливы. Или, может быть, то была лишь иллюзия? Ну в конце концов счастье всегда в большей или меньшей степени — иллюзия.
Тут не примешивался расчет, даже тайный расчет — мы любили друг друга. Мой однокурсник Кристап познакомил меня с тоненькой девушкой из балета. В то время я добился первых успехов, и мне льстило, что Байба слышала обо мне и даже кое-что видела из моих «картинок», как я с легкой иронией говорил сам. (Я тогда не задавал себе вопроса, сыграл ли здесь какую-то роль Кристап и какую.) Поклонник балета я очень средний, но в те времена я часто сидел на спектаклях, чтобы потом встретить Байбу у актерского выхода. В кафе обыкновенно было уже не попасть, и чаще всего мы просто бродили по улицам, а когда настало лето, ездили на взморье и купались при луне.
Байба танцевала в кордебалете, правда, в первом ряду, но все же в кордебалете, и мечтала стать солисткой, как впрочем и все ее подружки. На совершенно пустынном взморье за Гарциемсом, на сыром, словно утрамбованном пляже она танцевала Одетту и Аврору, и я был единственным зрителем. Усталый, монотонный плеск волн о берег, металлический блеск воды и синеватый свет луны (а может быть, это только моя юношеская наивная восторженность?) придавали картине почти нереальную поэзию. Я пытался это написать, однако на полотне все выглядело весьма банально. Кристап заметил, что человеческая фигура (из деликатности он не сказал «Байба») нарушает общее настроение пейзажа и что мне лучше дается «чистый пейзаж». Байба от огорчения всплакнула. Тогда я ее не понял, мне казалось, что она переживает мою неудачу. Только гораздо позднее до меня дошло, что Байба нетерпеливо жаждала оставить след все равно в каком виде искусства, может быть, интуитивно чувствуя, что в том, которому она отдала свое детство и юность — в балете — ей это не суждено. Этот случай, может быть, вовсе и не самый яркий в начале нашей совместной жизни, но он завязал первый узелок на нити — мы впервые не сказали друг другу, что на самом деле думали. А потом это повторялось все чаще; более того — это стало нормой наших отношений. Притворство требовало от нас все новых и новых жертв, мы истекли кровью, устали. И вот…
Как и огромное большинство молодоженов, мы с Байбой собирались прожить вместе до конца наших дней. У меня была мансарда в Старой Риге, довольно просторная, но темноватая, писать я там не мог и ездил трамваем в мастерскую или ходил куда-нибудь на этюды. Воркование голубей под стрехой, прямо над окном нашей комнаты, будило меня ни свет ни заря, иногда еще до восхода солнца. У Байбы в эту пору был самый сладкий сон. Я на цыпочках прокрадывался на кухню, одевался, брал с собой ящик с красками и сбегал вниз по винтовой лестнице. Дворники на узеньких кривых улочках мели и поливали тротуары, воздух был напоен свежей влагой, торопливо шел редкий прохожий, всем было недосуг наблюдать за мной. Не могу работать в уличной толчее, когда меня обступают гурьбой «поклонники таланта»… Я огибал склад, на который можно было вылезти из чердачного окна. Оттуда открывались одни крыши да колокольни, а дальше мосты через Даугаву, и слышались далекие глухие шумы, будто биение сердца самого города. Летом через открытые окна я слышал, как звонили будильники, доносились сонные голоса, плакали младенцы, диктор читал по радио последние известия, звенели ложки и чашки, скрипели и хлопали двери внизу, подо мной нарастал и стихал шум шагов… Мы с Байбой прозвали старинный склад башней из слоновой кости; не знаю, что там хранилось и хранилось ли вообще что-нибудь, во всяком случае никогда я не видел и не слышал, чтоб окованная двухстворчатая дверь отворялась…
Однако зимой в нашей романтичной мансарде нам приходилось туго, печка дымила, углы обметывало инеем, и совершенно неожиданно Байба, которая, казалось, была почти застрахована от простуды (как все балерины), заболела воспалением легких. Эта болезнь внесла весьма существенные перемены в нашу жизнь — вдруг у нас, вернее, говоря, у Байбы объявились родственники, в том числе и тетка по отцовской линии. Увидав наше жилище, она предложила нам кров в своем трехкомнатном домишке по ту сторону Киш-озера. В одной комнате жила студентка-филолог, в другой — хозяйка, а в третьей — побольше и с верандой — устроились мы с Байбой, Через год тетка умерла от инсульта, и мы нежданно-негаданно стали владельцами дома. Первое время мы ходили точно пьяные, нам казалось совершенно невероятным, что ночью можно включить радио, целоваться на кухне, передвигать мебель, в голом виде загорать за живой изгородью, — то было время, когда в нашем жилище пахло скипидаром и пригоревшим мясом, потому что я много работал, а стряпали мы одинаково плохо…
Однажды в воскресенье, валяясь за нашей живой изгородью, мы услыхали разговор в соседнем саду.
Мужской голос. Кто же теперь живет здесь после смерти старухи?
Женский голос. Молодая пара — артисты, что ли.
Мужской голос. Артисты? В такой конуре? Наверное, захудалые какие-нибудь, раз лучше ничего не нашли.
Женский голос. Должно быть. Сама-то, говорят, прыгает в опере, а он шатается по берегу озера — малюет, Откуда им…
Собеседники удалились, а мы еще долго не решались подняться, растерянные и оробевшие, точно мы сделали что-то неприличное. Радостное опьянение сменилось похмельем — мы стыдились своей «конуры», затерянной среди чистеньких, благопристойных частных домиков, стоящих в ухоженных садах. Четыре сосны по краю дюны и вид на озеро были чуть ли не единственным ее украшением, а в остальном… С наружных стен нашего владения у фундамента осыпалась штукатурка, окошки с частым переплетом выглядели зарешеченными, шифер на крыше потрескался, грязно-серый, как заношенное белье. Мы немедленно принялись за «реставрацию и реконструкцию», как сами со смехом говорили: выбрасывали старье и покупали новые вещи. Сперва нас подстегивало в основном презрение соседей, но постепенно мы увлеклись и… Теперь уж не могу сказать в точности, когда дом перестал служить нам и мы стали служить ему. Может быть, в тот момент, когда мы польстились на черепицу, огромные сплошные окна, камин, розы, оригинальные фонари — лишь бы перещеголять других? Или когда нам начала льстить зависть и восхищение соседей («Вы-то можете это себе позволить!»), шепот прохожих:
— Что это за огромный аквариум?
— Мастерская.
— Мастерская? Кто же это живет в таком прекрасном доме?
— Художник Мелналкснис.
— А!
Большинство из них, наверное, не видали ни одной моей картины, но восклицания «а!» требовал хороший тон, потому что это должен быть хороший художник, раз он живет в таком доме…
Или же что-то существенное произошло тогда, когда мы начали приносить на его алтарь свою фантазию, энергию, время? Из всего, что я расточал в своей жизни, мне больше всего жалко того, чего у меня в обрез сейчас, — времени.
Я знаю — многие меня не поймут. И скажут в мое оправдание: «А что предосудительного делал Мелналкснис? Он только старался обставить свое жилье на современный лад и согласно своему общественному положению. Он делал это не ради корысти, к тому же не покупал краденых материалов, а деньги, которые он истратил, заработаны честным путем…»
Возможно, они и правы, потому что я в своем роде исключение. В тридцать семь лет обычно ведь еще не подводят черту, не правда ли? Но и я, между прочим, думать не думал, что стану исключением.
Пиладзит оптимист по сравнению со мной, он говорит: «Хочется сделать что-то такое, чтобы все рот разинули…» В такие «подвиги» я уже не верю… Большого художника из меня не вышло и теперь уже не выйдет. Чего мне недоставало? Таланта? Или духовности, окрыленности, одержимости, позволяющей довольствоваться салакой, черным хлебом и хоть какой-то крышей над головой, потому что все воздается сполна тем почти чувственным наслаждением, которое дают минуты вдохновения, когда ты ощущаешь себя творцом и властелином вселенной? Имеет ли… будет ли иметь какую-то ценность то, что я сделал? Что останется после меня?
Не знаю.
Мне хотелось бы оставить после себя хотя бы сыновей, как Анна, но и это несбыточно, потому что поздно. Оба раза, когда наш — Байбин и мой — ребенок заявлял свои права на существование, мы решали «подождать». Подождать — очень удобная, невинная формулировка. Подождать с отъездом, подождать с покупками… Первый раз это случилось, когда мы ютились в мансарде. Мы решили подождать, потому что не было человеческого жилья. А второй раз — у нас уже был собственный дом, но мы опять отложили до лучших времен…
Помню, как Байба мне сообщила об этом за ужином, отщипывая понемножку от бутерброда, будто играючи:
— Знаешь, Том, у меня опять будет ребенок… Но ты же понимаешь, что я не могу себе этого позволить.
Меня рассмешило ее детское «опять», но неприятно задел категорический тон, которым она объявила «я не могу себе этого позволить» (имея в виду свою артистическую карьеру).
— Если ты все сама решила, — отвечал я, — так о чем же нам говорить?
Байба задумчиво повертела хлеб, подняла на меня взгляд, словно хотела что-то сказать, — ее синие глаза смотрели тревожно, испытующе, но, так ничего и не сказав, она снова отвернулась.
Я обязан был тогда откровенно сказать Байбе, что ее жертва никому не нужна — и меньше всего искусству, потому что прима-балериной она никогда не станет (Байбе тогда было уже тридцать лет). Это было бы жестоко? Да, сознавать это для артиста всегда ужасно. Я представил себе, как она станет судорожно рыдать, может быть, начнет и упрекать, — у меня болела голова, и хотелось покоя, я уговорил себя, что надо ее щадить. Мы очень, очень (ха-ха!) щадили друг друга… пока не опротивели друг другу до смерти. И постоянно что-то приносили в жертву идолу Доброго Согласия: комплименты, реверансы, умолчания, ложь по мелочам, подновляя добрую славу своей семьи, как медную ручку парадной двери для обозрения прохожих. О нас говорили как о примерной паре, и мы охотно играли эту обворожительную роль, настолько увлекаясь, что не разгримировывались, даже когда оставались вдвоем. «Удивительное согласие» мы покупали ценой лицемерия, больше всего на свете боясь ссор (и правды!); оправдывали недостатки друг друга (зная, что это — недостатки), поддерживали друг в друге иллюзии (сознавая, что это только иллюзии). Наш брак напоминает танец Байбы при лунном свете на пляже в Гарциемсе — он тоже имел весьма условную связь с реальностью, то была игра, порою виртуозная, но тем не менее только игра…
Сейчас мне трудно сказать, кто из нас был истинный виновник, и какой смысл искать его, теперь уже ничем не помочь, да и не нужно. Я не могу также сказать, началась ли эта игра, когда кончилась любовь, или же любовь кончилась тогда, когда началась игра. Не знаю, поможет ли другим мой горький опыт, мне самому, к сожалению, уже нет…
Когда я узнал, что я болен (вернее, я прежде догадался по беспрестанной головной боли и головокружениям), меня потрясла только возможная ужасающая близость смерти, которая подкралась ко мне внезапно. Постепенно я привык к этой мысли — все мы знаем, что умирать придется, и смирились с тем, что умрем, а «близость» в конце концов понятие относительное. Теперь же больше, чем страх перед будущим, меня мучила неудовлетворенность прошлым и непреходящее гнетущее сознание, что ничего, решительно ничего я уже не успею, не успею, не успею…
— О чем ты думаешь, Том?
Я ощутил прикосновение Анниной руки к своей — ее теплых, живых пальцев и почувствовал ледяной холод своей ладони: руки у нас разные, как и наше будущее. Мне хотелось рассказать ей все, но… я представил себе, что за этим последует — Анна, наверное, станет меня успокаивать, что-де химиотерапия (об этом много писали в печати) делает чудеса, потом приедет в больницу (в зимний мороз раскрасневшаяся, свежая, пахнущая снегом), где я буду лежать, увядший в палатной духоте, с распатланной бородой (и судном под кроватью), и под самый конец, возможно, заберет из склада одежду (и отвезет моим родителям в этой же самой туристской сумке с испорченной молнией)… Пусть эта ночь останется такой, какая она есть: с серой крышей неба, звуком лосиных шагов в хрустальной тишине, чужими судьбами, кометой, пронзающей тьму, и теплым живыми пальцами Анны.
Она отнимает руку, смущенная своим прикосновением и моим молчанием. И мне вдруг становится жаль того неуловимого «чего-то», что связывало нас какое-то мгновение, как тонкая паутина, но все проходит безвозвратно, и этот миг уносит с собой река времени, в которой некогда озорной паренек и девочка с русой косой давно уже скрылись за горизонтом лет.
— Ребя-а… пошли кур-рнем! — предлагает Пиладзит, едва ворочая языком.
Мне действительно хочется курить, и моментально улетучивается благое намерение не делать этого. Вчетвером выходим на улицу. Земля кажется седой, точно от далекого серого света — пошел снег.
— Ребята, у кого есть… огонь?
«Огонь» есть у меня. Чиркаю спичкой и, пряча ее в ладонях, даю прикурить. Световые тени странно преображают лица, каждая морщина и складка прочерчены будто углем. Лицо Теодора… Лицо Язепа… Лицо Пиладзита…
Снежные хлопья в затишье задумчиво падают нам на головы и на плечи, а в лучах лампы нервно вихрятся, пока не проскользнут и не скроются за границей света и тьмы.
— Лиесма! — прислушавшись, говорит Язеп.
— Тсс!
Женщины, видно, уговорили девушку спеть, пока нет нас — тех, кого она стеснялась.
Слова песни кажутся мне несколько сентиментальными, но голос у Лиесмы звучный и чистый, как зов иволги.
Сперва я принял это за тающие снежинки, но потом увидал, что ошибся — по худым щекам Волдемара Пиладзита текут слезы.
Когда Лиесма смолкает, из зала неясным бормотанием доносятся только разговоры.
— Ну, почему я такая… свинья, а? — вдруг спрашивает Пиладзит, ни к кому не обращаясь,
— Ничего, мастер, все образуется, — говорит Теодор. — Смотри, какой белый снежок…
Пиладзит крепко затягивается и нервно кашляет.
— Скоро должен быть поезд из Риги, — опять изрекает Теодор, прислушиваясь к ночным шумам, а невдалеке, невидимые в темноте и вихре снежинок, то и дело переговариваются сосны. Первый снег, прямо как чудо, все падает и падает, и серая, иззябшая, уставшая от своей обнаженности земля становится белой. Снег хороший, он покрывает рытвины на дороге, шрамы на деревьях, отчаянную пустоту убранных полей, делая все чистым, сверкающим.
Когда я, запорошенный, возвращаюсь в зал ожидания, Дайна смотрит на меня с радостным изумлением, живо сползает со скамейки, подбегает ко мне, цепляется за руку и, только послушавшись Анну, нехотя, медленно отправляется за пальтишком. Втроем мы выходим наружу, голые плети дикого винограда уже превратились в светлые кружева.
— Как бело…
Кто это сказал? Анна?
Взглянув, вижу, как постепенно покрывается снегом и она: симметричные звездочки падают на темно-русые волосы и на пальто, цепляются за брови, ресницы. Прищурившись, Анна смотрит вверх, и хлопья дорогой света от лампы как бы текут ей навстречу.
— Знаешь, — говорит она мне, — есть такое поверье: надо выбрать одну снежинку и следить за ней. Если упадет на тебя, значит, исполнится. Если не упадет, то нет…
— Что исполнится?
— Желание.
Она опять глядит вверх, на ее выразительном лице — тихое удивление красотою мира.
— Что ты на меня так смотришь, Том?.. Тебе кажется это ребячеством?
— Ты хорошая, Анна. Какая-то очень чистая…
Маленький комочек снега разлетается об мою щеку, звенит прозрачный детский смех. Оглядываюсь: это, конечно, Дайна. Она дразнится, прыгая передо мной, потом кидается бежать, и я большой черной птицей бегу за ней по свежему нетронутому снегу, полы расстегнутого пальто вразлет, но пробежав немного, запыхавшись, останавливаюсь.
АВТОР
Деревья сумрачно шумят, словно вздыхают время от времени. В мягком снежном одеяле тонут конские копыта. На поворотах скрипят оглобли и колеса стучат глухо, чуть слышно, так что подвода прибывает на станцию никем не замеченная, только Барон в зале ожидания навостряет уши, и его рычание похоже на дальние раскаты грома.
— Ну, чего ты! — прикрикивает на него Кристина, и собака успокаивается.
Бернат заворачивает лошадь к коновязи — тпрр! — и выбирается из телеги. Слезает и Скрастынь, — его с Расой нагнал лесотехник и подобрал по дороге.
Раса спрыгивает, едва придерживаясь рукой за край телеги, гибкая, ловкая. И она тоже рада снегу. Надев новенькую короткую нейлоновую шубку, самую лучшую из своих вещей, она все время втайне опасалась, что будет выглядеть в Риге чучелом, ведь сейчас еще только октябрь. Теперь эти опасения отпадают, а что касается остального, стоит ли ломать себе голову, — Раса сама знает, что красива. Конечно, модный каштановый цвет волос, как у нее, можно, говорят, скомбинировать из хны и басмы, но такая белая и прозрачная кожа лица бывает только у рыжих от природы. У Расы стройная спортивная фигура, синие-синие, какие редко встречаются, глаза, ей двадцать лет. Кое-кто в «Биркаве» считает, что Раса могла бы найти мужа получше, чем Альфонс Скрастынь. Да неизвестно еще, сколько в этом искреннего сочувствия и сколько зависти! И что значит вообще — «получше»? Моложе? Конечно. Альфонсу тридцать пять лет. Но разве тридцатипятилетний мужчина — старик? Когда Расе было четырнадцать, она считала стариками всех старше двадцати лет… Конечно, в старших классах у нее было мальчишек хоть пруд пруди. А где сейчас большинство парней? Разлетелись кто куда: один в университете, другой служит в армии. Если бы Раса поступила в медицинский институт, как планировалось, да если бы… Она не прошла по конкурсу, возвратилась, поступила работать в колхоз счетоводом. Как это все надоело, как скучно, а главное — совсем бесперспективно, тут можно только постепенно состариться, засидеться в девках и больше ничего! В Риге с такой внешностью, как у нее, можно рассчитывать на место, по крайней мере, в «Сакте» или в «Детском мире», или даже пойти в Дом моделей — манекенщицей. Чтобы устроиться в Риге, надо где-то прописаться, а чтобы прописаться, нужна справка с места работы. Можно, конечно, на завод. На завод… В общежитие… Восемь, десять железных коек… Наивные картинки на стенах, наивные вязаные салфетки… Нет, это не то!
Почему Раса выбрала не такого уж молодого Скрастыня? Вы думаете — потому, что он агроном, «Все же начальство!» — как говорит Кристина. Нет, вы ошибаетесь, это не имеет значения, во всяком случае существенного значения. Для Расы главное нечто другое; сознание, что она для Скрастыня — все. Красивее всех на свете, лучше всех на свете. Как и к удобствам благоустроенного отцовского дома, она привыкла к этому сознанию еще с детства, точно к наркотику, и не может без него обойтись. А для Скрастыня Раса действительно лучше всех, красивее всех, потому что он ее любит.
А она Скрастыня?
Спросим у нее самой.
— Раса, вы любите Альфа?
— Да, — смело и твердо отвечает она, даже не смущаясь, открыто глядя на нас ясными синими глазами. Потом, возможно, уловив наши сомнения, она своим приятным сопрано без запинки, как выученный урок, рассказывает, какой Скрастынь внимательный и галантный.
Снег падает на ее шубку, цепляется, липнет к нейлоновому меху, и она тихо смеется, наклонившись, стряхивает его.
— А то в тепле стану как мокрая курица! — говорит она, уже думая о чем-то другом.
Бернат просит, чтоб его не ждали, еще надо задать корма Гнедому. Раса берет Скрастыня под руку, и они направляются к станции, оба одного роста, только Раса стройная, как молодое деревце, а Скрастынь массивный, как трактор.
Как хорошо, что они не едут завтра автобусом! Мать, конечно, настаивала именно на этом варианте, так — и все тут. Как обычно… Смешно — будто замуж выходит она, а не Раса! И как только в комнате родителей погас свет, Раса встала, написала записку и улизнула, Скрастынь ее уже поджидал. Когда мать утром обнаружит, что дверь всю ночь была открыта… Ха-ха-ха! Это будет незабываемая ночь. Они шли долго, прижимаясь друг к другу, и каждые два десятка шагов целовались. А когда пошел снег, они брели словно в сказке…
В зале ожидания на их приветствие отвечают все.
Кристина. Куда это ты, начальник?
Скрастынь. В «Весну».
Теодор (смеется). Тут, агроном, право слово, настоящей зимой попахивает.
Том. Это название магазина для новобрачных.
Теодор. Белые платья, черные пинжаки… Знаете, почему невесты, когда идут под венец, наряжаются в белое, а женихи в черное? А это потому, что…
Кристина. Старый, а бесстыжий! Чего тебе, дармоеду, не хватает? Как мы оженились, так ты обстиран, обчинен, куда уж лучше. Когда еще не ездила к нам машина с парикмахером, так я сама ему и волосы стригла.
Скрастынь. Под ноль.
Язеп. Чуб оставляла, чтоб было за что таскать,
Теодор. Оттого у меня теперь и лысина.
Кристина. Я всурьез, а им бы все зубы скалить… (Пауза.) Платье-то готовое покупать будешь, Раса, или наберешь матерьялу?
Раса. Капрона нигде не достать.
Эмилия. На фату, что ли?
Раса. У меня фаты вовсе не будет, а широкая такая длинная лента, перевитая розами.
Эмилия. Неужто простоволосая?
Раса. В белом мягком берете.
Кристина. И это ты под венец таким чучелом?
(Раса со Скрастынем переглядываются и смеются.)
Раса. Сейчас такая мода.
Пиладзит. Жалко, что Вецумниеки далеко… Моя Эмма… тебе б отгрохала такой наряд… что все бы только рот разинули. Из капрона, шифона, газа и…
Язеп.…и плазмы.
Пиладзит.…что все насквозь видно. Ты, Язеп, меня не сбивай!
Раса. Вы, дядечка, навеселе.
Пиладзит. Так, Волдемар, доехали… молодые хорошенькие девушки тебя уже дядечкой называют. А в молодости… Если б ты… если б ты видала меня в молодости, девонька!
Раса. Лучше ложитесь спать, дядечка!
Пиладзит. Не парень я был, а картина! Карти-на!
Язеп. Только забить гвоздь и на стену повесить.
Пиладзит (грустно). Никто меня не понимает… никто. Эх ты, Барон, мой старый дуралей, поди сюда, я тебя…: поцелую.
Пауза.
Кристина. А где жить-то будете после свадьбы? У отца, или агроному в поселке еще квартиру дадут?
Раса. Первое время там же. А потом увидим. Альфа сманивают в совхоз, квартиру обещают сразу. Там и к городу ближе.
Эмилия (с горечью). Все город да город! Землицу вы, молодые, не любите. Только бы отсюда! Бежали, когда в колхозе было плохо, бегут, когда в колхозе хорошо…
Язеп. Я не бегу, мамаша.
Эмилия. Пока не загляделся на какую-нибудь рижскую девку,
Язеп. Боже упаси, с меня и одной жены хватит!
Эмилия. Смех-то смехом, а поглядишь — так сердце болит. Мы здесь сто потов пролили. Покойница Эрна, сама я, Теодор вон со своей Кристиной, Анна… Все бы подались, и колхоз бы захирел. Мы остались, хотя и круто приходилось. Синими пальцами выбирали из-под снега сахарную свеклу. Нынешняя-то молодежь боится с ноготков красный лак ободрать… Глаза бы мои не глядели: на огород пойдет — напялит резиновые перчатки. Тьфу!
Скрастынь. Что поделаешь, если парням нравятся наманикюренные ногти и пудреные носы?
Эмилия. Нет, когда я была молодая…
Язеп.…сахар был слаще и вода мокрее.
Эмилия. Да что с вами говорить… Бегут даже те, про кого бы ни в жизнь не подумала. Да вот она, Лиесма! Уедет, и помяните мое слово — не вернется!
Пауза.
Лиесма (тихо). Может быть… (Пауза.) Если возьмут в ансамбль — не вернусь.
Эмилия. Какого тебе рожна не хватает? Зарабатываешь мало? Даже в газете про тебя писали…
Кристина. Вот погодите, приедет Лиесма лет через пяток в «Коммунар» на своей «Волге». Промчит мимо птицефермы, пыль столбом — не оглянется.
Лиесма. Мне не нужно «Волги»… (Пауза.) Я хочу только петь.
Анна. Лиесма ведь поет как Мирей Матье. Нельзя пропадать такому голосу.
Лиесма. Я не хочу, как Мирей Матье…
Эмилия. Сама ты не знаешь, чего хочешь, Лиесма, в том все и дело.
Лиесма. Нет, тетя, я знаю… (Пауза.) Все одно ладят: ты бежишь, ты бежишь! Когда я хотела уехать после школы, а класс остался в колхозе, меня обзывали предателем. Мне хотелось поступить в музыкальную школу, а это назвали предательством. Для меня это было так ужасно, что… я осталась. По-вашему, пение, в особенности эстрада, просто кривляние, а для меня…
Входит Альберт Бернат. Высокий, плечистый, но уже плотный мужчина в дерматиновой куртке и резиновых сапогах. С виду ему можно дать лет пятьдесят или около того.
Теодор. Снег не перестал?
Бернат. Сыплет, как нечистая сила.
Теодор. Стало быть, скоро можно в сани запрягать…
Бернат. Да, вроде того… Ежели не растает. А ветер повертывает на южный, пойдет дождь, и тогда прощай вся красота.
Пауза.
Теодор. Поезда из Риги не слыхать?
Бернат. Не время еще. Даже касса закрыта.
Он замечает Пиладзита, вглядывается и, как бы решившись, широким шагом через весь зал направляется к нему.
Бернат. Ты, Волдемар?
ПИЛАДЗИТ
Кого я вижу, или мне мерещится — Бернат! Альберт, старый друг! Ну, ну, такого силача, как ты, и правда не так просто скрутить. А сколько воды утекло с тех пор — господи боже мой! Сколько же мы не видались? Выходит, с сорок третьего, когда, хе-хе, мы дали деру по дороге на призывной пункт. Пришлют тебе повестку, за неявку грозят смертной казнью, а когда ты, голубчик, явишься, суют тебе под нос бумагу: подпиши, что в легион, дескать, вступаешь добровольно. Э, брат, дураков нет! Жалко только, что нам пришлось расстаться. И то сказать: могло ли нам тогда прийти в голову, что мы встретимся уже сивые, на какой-то там станции Дзеги, за двести километров от дома? Да ни в жизнь! Слыхал я, слыхал, что потом ты стал знаменитым партизаном. Обыкновенным? Господи твоя воля, да разве партизан может быть обыкновенным? Это же герой! Шапку долой и руки по швам! Встретил я, понимаешь, как-то в Скривери Карла Зиепниека — помнишь, такой конопатый? — стали лясы точить, зашел разговор и про тебя, тут он меня и просветил. Его братан партизанил вместе с тобой. Ну да, ну да, Рингольд, он самый… Ты небось теперь большой начальник? Всего только лесотехник? Ну-ну… Грешок стало быть за тобой есть, а, что получше должности тебе не дали? Привык к лесам? Брось ты заливать, у тебя что — слабое здоровье? Такая будка: похлопаешь, ишь, только гудит! Хе-хе! Такого медведя не так-то просто свалить! Что, чахотку подцепил? Да будет тебе! И то сказать… сырые землянки, грязь и снег, со жратвой когда как. Нет, не сладкая это жизнь. Тут и чахотку схватить недолго.
А вообще-то как? На хлеб заработать можно? Тогда хорошо. Жену встречать приехал? Есть, есть и у меня, а как же — Эмма. И двое сорванцов. У тебя тоже двое? Скажи на милость, мы с тобой как сговорились! Мальчишки, все мальчишки, хе-хе, это к войне! Мой старший помешался на моторах, прямо как малахольный. Где шофер какой копается в машине, и он туда своим носом. А младший играет на мандолине, Хотел, понимаешь, учиться на гитаре — оно теперь в моде, а в прокатном пункте остались одни мандолины. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. Взяли. Теперь набил руку и так бедово разные вещицы отрывает — будь здоров. «Откуда ты это выкопал?» — удивляюсь я. По радио слыхал. В молодости, ну, ты же помнишь, я помаленьку пиликал на гармошке. У мальчишки это от меня… Пою ли я еще? Альберт, дорогой ты мой друг, конечно, пою. Голос, известно, уже не тот. Но главное ведь не голос, главное — чтоб от души. Небось не в опере. Когда я еще вкалывал со своим напарником Фридисом, он меня часто просил, чтоб… Где я сейчас вкалываю? А где придется. Да, неразлучно с кистью, привык я к ней, как к своей Эмме. Объездил всю Латвию, только в том углу — в Барте и другом конце Латгалии — еще не был. А база, понимаешь, в Вецумниеках, Господи боже мой, ты не видал Вецумниеков! Приезжай ко мне в гости! У кого есть карандаш и бумага? Спасибо, товарищ художник! Альберт, я пишу тебе адрес. Ничего, если потеряешь, спроси только Волдемара Пиладзита, и каждый… Это разве далеко — утром ты в Риге и первым автобусом… Жена у тебя на сносях? Так тебе, что ли, ребенка грудью кормить, господи твоя воля! Как у меня, когда младший на свет появился… ту зиму я колесил по Курземе. И положил себе: как хочешь, а на роды надо быть дома. Заявляюсь — сын уже вот он! И весь в меня, хе-хе, такой же востроносый и беззубый. Да, вставить надо бы, да никак не собраться — все колесишь. Мясо жесткое кусать не могу, а я как раз люблю запеченное такое, поджаристое, чтоб хрустело на зубах. Эмма на это мастер. Приезжай! Покажу тебе сыновей… Эмму. Пропустим с тобой по маленькой.
Нет, водкой от меня не пахнет, Альберт. Это ром, классный импортный товар. Всей компанией вылакали. Если б знать, что мы встретимся, я бы капли в рот не взял без тебя… Не смейся, Альберт, для тебя я продам последние штаны. Друг молодости — это ж… святое дело! Ты не очень-то и пьешь? Правильно делаешь, и не надо, алкоголь — это яд. Я тоже лишнего не пью. Приму норму и — точка! Ты на меня не гляди, что я такой замызганный. Знаешь, как на работе. Ничего доброго надеть нельзя — увазюкаешься, как чушка. А дома, в Вецумниеках, у меня два… у меня висит три костюма. Моя Эмма первейшая портниха. «Купи, говорит, Волдис, только матерьялу, я тебе такой костюм сошью, что все рот разинут. Тебе идет синий в легкую полоску. И к нему вишневый галстук». Твоя работает в лесу? Не тяжело для бабы-то? Мало мы жалеем своих жен — истинная правда. Как приеду домой, скину пальто, топор в руки и — айда в сарай. Переколю все дрова, сложу аккуратно по стенке ровной поленницей. Эмма обрадуется. Прилажу где чего требуется. И то сказать, время, оно помаленьку точит не только тебя и меня — вещи тоже. Воротишься домой, смотришь: там крыша прохудилась, там дверь не хочет закрываться, или петли визжат, как душа грешника. В хозяйстве, сам знаешь, без мужских рук не обойтись. Как возьмусь за дело, через два дня все будет в лучшем виде. И пол выкрашу, пока больших морозов нет. Когда Эмма еще воском натрет — зеркало! Как в ресторане! Ребятам куплю шоколаду. Свожу Эмму в кино. Надо будет встать в очередь на «ИЖ». И чтоб обязательно с коляской! Мотоцикл с коляской — все равно что автомобиль. Ну, понятно, дождь тебя мочит, но — господи прости! — что мы сахарные, что ли? Нет, деньги копить я еще не начал. Что значит тысчонка для хорошего мастера — раз плюнуть! Спасибо за приглашение. Как спроворю, так обязательно рвану к тебе в Дзеги. Паул пройдет курсы и получит права. Его посажу за руль, если у меня голова неясная будет. Разбиться, хе-хе, я еще не хочу, друг, жизнь слишком хорошая штука, чтобы я полез в могилу прежде времени.
Что у меня в этом бауле? Да какая там лейка! Это пульверизатор, Альберт. Я везде со своим струментом. А без своего это не работа, а так, одно баловство. То за одним, то за другим надо идти одолжаться, то шпахтель без ручки. Половина времени коту под хвост, пока сбегаешь да приладишь. Инструменты должны быть как наточенные ножи, тогда можно сказать — это работа. Я делаю на совесть, с гарантией. Другой маляр как сапожник: когда никто не видит — валяй новую краску поверх старой, и хорош! А поскреби чуток ногтем, и грехи-то эти вылезут на свет божий. Я так не могу. Смою, соскоблю старую до штукатурки, все начисто, только тогда покрываю новой. И то сказать, разве я не мог бы тяп-ляп, спустя рукава, как ловчее? На этот хутор, к примеру, ведь я ни в жизнь не ворочусь. Ан нет, не позволяет… совесть не позволяет, Альберт. Не хочу, чтобы люди вслед мне плевали. Пусть лучше говорят: «Забулдыга он — это да, но зато мастер что надо!» Я вам сотворю такой колер, какой только душа пожелает. Хотите фрезовый? Пожалуйста вам фрезовый! Хотите цвет само? Пожалуйста. Когда мне заказывают цвет само, я не пачкаю стены клюквенным муссом. И если просят розмарин, так будет розмарин, а не элекро. Когда ты, Альберт, надумаешь делать ремонт, ты только свистни — явлюсь как штык. Все брошу — и к тебе. Из твоих комнат я сделаю ресторан и… Тебе не нужен ресторан? Сделаю Дворец культуры! Только не сейчас. Нет — и баста! Сейчас я собрался в дорогу. Ставлю крест на старом и начинаю новую жизнь…
Ну, что я тут болтаю и болтаю все о себе! Расскажи про себя и ты, Альберт! Не надоедает тебе зиму и лето по лесам шататься? Не в обиду тебе скажу, я б заскучал… А ты нет? Черт возьми, как хорошо ты это сказал: посадишь деревцо с ноготок и знаешь, что оно еще расти будет, когда тебя уже не будет на земле… Ты поэт, Альберт! Честное слово! Тебе бы написать это на бумаге и послать в какой-нибудь журнал. Я нисколько не смеюсь! «Будет расти, когда тебя уже не будет на земле…» Да-а, Альберт, не знаю, как тебе, а мне от этого становится грустно. Тебе нет? Придут другие люди, а ты лежишь в сырой земле… Будут жить, любить… выпивать… Я другой человек, не могу на одном месте усидеть, как ты. Пройдет время, чувствую — опять во мне какой-то зуд, ноги идут сами по себе. Как в песне поется: «В путь-дорогу, в путь-дорогу, больше быть здесь не могу…» Да, друг… Бродяга, говоришь? Тут ты не прав. Я работаю. Я, понимаешь ли, пропился, последнюю рубаху спустил, копейки у меня не было в кармане, но захребетником никогда не был. Погляди на мои лапы! Разве это ладони белоручки, а? Я на пятьдесят один день тебя старше, и ты мне не перечь! Паразитом я никогда не был и не буду, у меня… У меня просто судьба другая, чем у тебя. Сам выбрал? Ясно, что сам. Кто же еще! Пойти бы мне тогда с тобой, когда ты звал… Ты знаешь, я не хотел никого убивать. Вижу, что ты не понимаешь, Альберт. Никто меня не понимает… Я не хотел зла никому, не я эту войну затеял. Я хотел только переждать, когда эта заваруха кончится. Не выпачкать руки в крови. Мы ведь с тобой росли почти рядом, Альберт, ты знаешь, что я не мог видеть крови. Когда у вас кололи свиней, я забивался в подпол. Когда мой брат резал петуха, я убегал, чтоб не видеть. И брат с петухом без головы гонялся за мной по двору, измываясь над моим страхом. А я орал благим матом и летел себя не помня от ужаса…
Я не такой дурак, чтобы не понимать — стрелять приходится не только в легионе. И в партизанах надо пулять, это как закон. Что б я у них стал делать, такой слюнтяй? Варил бы в лесу кашу, как баба? Ты говоришь, хотя бы и кашу… Ты умный, Альберт… Тебе бы меня взять тогда вот так, за шкирку, и не пускать. Ты… ты прав. Если б я знал, что из этого выйдет… я бы все же пошел с тобой. Варил бы кашу… чистил ваксой чужие сапоги, только бы не это. Господи боже мой! Лучше накинуть петлю себе на шею, чем еще раз… это пережить.
Как мы с тобой расстались, подался я, значит, в Приежкалны. Ты, наверно, знаешь, у меня с Ариадной был… ну, роман. Сперва пристроился на сеновале. Да хозяйка здорово боялась, как бы с обыском не пришли, и упрятали они меня в картофельные ямы. Долго я там вытерпеть не мог и перекочевал в сенной сарай на лесной лужайке. Ариадна через два-три дня носила мне харчи. Они, наверно, выследили ее, Один раз слышу: кричит кто-то! По голосу Ариадна, Выскочил я из сарая — и бежать, и бежать.
Я не знал, что они из-за меня будут мучить Ариадну. Не знал! Надо было выйти, пусть бы схватили меня, правда? Тогда, может, они расстреляли бы только меня, правда? Ведь я не был партизан, только дезертир… Они ведь не пытали бы меня, правда? А это быстро: чик — и готово. Без мучений… Почему ты ничего не отвечаешь, Альберт? Я не знал, что они… что они Ариадну… Ну, чего ты молчишь!
Ладно, я виноват! Не надо мне было торчать на одном месте, как кроту. Надо было смываться и чесать в Лиепини, к родичу. Они, наверно, думали, что Ариадна носит еду партизанам. Они ее пытали, хотели дознаться, где партизаны… Мы договорились: если запахнет жареным, драпану в Лиепини к леснику. А когда заварилась эта каша, я побоялся туда идти. Скитался где придется. Однажды в кустах еще бы немножко — и меня кокнули. Не знаю, бандиты или кто там еще. Зря я мотался как неприкаянный — в Лиепинях никто меня не искал…
Проклятье на мне, Альберт! Ариадна камнем лежит на моей совести. Умирая, она, наверно, меня прокляла. Нет, что я порю…
Альберт, не слушай мою болтовню. Ариадна — и проклясть, господи боже мой, что я горожу, болван этакий! Ариадна была… Ну что я тебе рассказываю? Ты сам знаешь, какая она была. Такая светлая. Почему всегда умирают хорошие люди? А такая дрянь, как я, живет на свете, а? Мир устроен навыворот. Вверх ногами… Убить бы должны меня! Когда Эмма ходила беременная, я решил так: если родится дочка, назову Ариадной, Эмма не соглашалась. Нет, моя Эмма не ревнивая. Она только сказала, что злая судьба бросит тень и на нашу доченьку. Родился мальчишка, мы назвали его Паулом, да, как моего отца. Когда она разрешилась вторым, и тоже парнем, я сказал: «Ну теперь, Эмма, назовем как твоего отца». А Эмма — нет. Юкум ей не нравится, понимаешь, малое дитя Юкумом звать язык не повернется. И окрестили Илгонисом…
Так она, жизнь, полегоньку и катится. Плохое вспоминать никому неохота. Только никуда от него не денешься, беги не беги, а оно стоит за твоей спиной, как тень… и ходит за тобою следом. Оглянешься: никого. Идешь дальше, слышишь: нет, опять оно тут, опять тащится за тобой. Тихими, тихими шажками: тип-тип-тип-тип. Как тиканье часов. Да какие уж там часы…
Что вы, девонька ясноглазая, испугались? А что я такого сказал, что вы испугались? Пугать я вас не хочу. Фу, что же я — злодей?.. Ариадна… Вы не Ариадна? Раса? У вас такие же синие глаза-подснежники, как у А… Что это я опять мелю? Поезжайте в свою «Весну», милая Раса! И желаю вам всего наилучшего. В загсе вспомните Волдемара Пиладзита. Я за вас буду кулак держать, чтобы все было тип-топ.
Что это за свет? Касса открывается? Разве уже идет поезд? Ах, только еще из Риги? Подумать только; в Ригу — из Риги, в Ригу — из Риги. Каждую ночь, из года в год. И все куда-то спешат, куда-то едут, Так будет всегда, до скончания века, и после того, как тебя не станет, Альберт, и не будет на свете Волдемара Пиладзита. Эх-ма…
Почему жизнь так коротка, Альберт? В молодости нам казалось, что ей не будет ни конца ни краю. Сейчас Паул уже с меня ростом, того и гляди обгонит. «Ишь, вымахал, отца перерасти хочешь?» — спрашиваю его. Смеется. Прибежит, бросит сумку и пошел. «Ты куда?» — «На комсомольское собрание». — «А ты разве комсомолец?» — «Ага», — говорит. Ни у отца, понимаешь, не спросится, ни… Я ему не помеха, пускай вступает, если охота. Но ведь и не спросит… Оно, конечно, дома я живу мало. Ну, теперь этому конец. Буду жить при своем месте, в этот раз я и правда заскучал по Вецумниекам…
ТОМ
Когда над кассой зажигается лампочка, высветляется и окошко — дежурный начинает продавать билеты. По залу ожидания пробегает возбужденный шумок, оживляются и приходят в движение даже те, кто едет в Ригу, хотя до рижского, как здесь говорят, поезда еще почти два часа. Прибывают все новые пассажиры, одни входят, другие выходят, скрипит и хлопает дверь, кто-то смеется, что-то падает. Только двоим до всего этого нет никакого дела. Странно, что именно самые беспокойные и неугомонные из нас утихомирились первыми. Притулившись к Анниному боку, спит Дайна, неожиданно заснул и Волдемар Пиладзит. Дайна уморилась от дальней дороги, да и ночь на дворе, Пиладзит устал от рома и от исповеди. Сон дивно преобразил его подвижное лицо — оно застыло, как гипсовая маска, морщины расправились, и черты лица открылись тонкие, можно даже сказать, точеные. Может быть, он мечтает о чем-нибудь? И о чем именно? Этого не угадать… А как во сне выгляжу я? Проступает ли на моем лице то, что я стараюсь скрыть, когда бодрствую? Может быть, я взволнованно, бессвязно говорю, оправдываюсь? Или напротив, забываюсь совершенно, и черты мои покойные и чистые, как сейчас у Пиладзита? Этого я не знаю…
Когда окошко кассы не заслоняют черные, темно-синие и коричневые спины, я вижу в нем лицо Салзирниса и тулью форменной фуражки, висящей на вешалке. На сером фоне стены выделяются только эти два ярких цветовых пятна: розовое (лицо) и красное (фуражка). Потом, глядя в ином ракурсе, немного выше, я замечаю третий круг: стенные часы, от которых мои отстают на две минуты. Или «сигнал» начал барахлить? Подхожу с намерением спросить, правильно ли идут стенные ходики, но потом передумываю, ведь на станции всегда будут правы станционные часы (по ним прибывают и отправляются поезда), и я только прошу билет.
— На Ригу пока не продаю, — отвечает мне дежурный, но когда я поворачиваюсь и хочу отойти, добавляет! — Ладно уж, в порядке исключения…
Протягивает руку за билетом, он пробивает дату, подает мне… Смотрю: двадцать третье октября, правильно, уже двадцать третье. Отсчитывая сдачу, он дружески заводит разговор:
— Хороша погодка, а?
Отвечаю утвердительно.
Волосы у Салзирниса светлые, пышные и волнистые, как у женщины, на висках еще слегка мокрые от растаявшего снега, и щеки раскраснелись от ночной свежести, гладкие и румяные, как у Деда Мороза.
— Вы не знаете, — спрашивает он, понизив голос, — можно в Риге достать импортные ботинки сорок пятого размера на теплой подкладке? Хорошо в них по такой погоде.
Смотрю на его блестящие, точно лакированные, щеки… Ах, правильно, человеку нужны ботинки на зиму — чему же я удивляюсь?
Превратно истолковав мое молчание, Салзирнис говорит извиняющимся тоном:
— У вас, наверное, нет знакомства в торге?
И на это я отвечаю утвердительно и, засунув билет в нагрудный карман, отхожу от окошка.
Дайнино тельце совсем сползло набок, на лбу мелкие капельки пота, но и в этой суматохе она спит спокойно, от ее дыхания легко и ровно вздымается на груди белая вязаная кофточка. Только когда дверь сильно хлопнет, у нее, как от яркого света, вздрагивают ресницы. Я смотрю на Дайну, потом на Анну, ко мне обращен тяжелый взгляд ее темных глаз.
— А тебя… не клонит в сон, Анна?
Она качает головой, все еще глядя на меня снизу вверх.
— Вздремни и ты, я посижу…
— Я могу спать только в полной тишине, — говорит она.
— Да? — рассеянно переспрашиваю я. — А я… как раз наоборот. Первую ночь на хуторе совсем не мог заснуть с непривычки — в такой полной, абсолютной тишине. И только уже под утро, когда где-то затарахтел трактор или мотопила, точно в колодец провалился.
Она мимолетно усмехается:
— Ты заделался настоящим горожанином. Я в Риге долго не смогла бы жить. Уеду — и домой тянет.
— Но иногда ведь здесь скучно, правда? Хотя бы осенью, когда зелень опадет и все станет однообразно серым.
Чуть наклонив голову набок, она, верно, обдумывает мои слова — по лицу скользят тени неизвестных мне тревожных мыслей, словно пляшущий отблеск пламени.
— Тебе никогда не хотелось уехать отсюда, Анна?
Она что-то тихо мне отвечает, не понять — то ли «да», то ли «нет», и не знаю, как переспросить.
До нас долетают только обрывки чужих разговоров.
— Бывало, — наконец тихо произносит Анна. — Первое время после смерти мужа мне часто хотелось бросить все и уехать. Все равно куда, только бы отсюда. Но это не так легко и просто, как кажется: работа, дети, корова, хозяйство. Я осталась… И примирилась.
Анна машинально теребит уголок платка, пальцы у нее подвижные и чуткие, только глаза смотрят в одну точку мимо меня.
— Давно?
Она смотрит на меня в молчаливом недоумении («Что давно?»), блуждая где-то в воспоминаниях, потом спохватившись, отвечает:
— В феврале будет шесть лет, — и, помедлив, точно в нерешительности — рассказать или лучше не надо, наконец добавляет: — Он был шофером в нашем колхозе. Случилось это у Цирулей. Внезапно вынесло навстречу одного пьяного, а дорога там узкая… Ты, наверное, знаешь?
Я киваю.
— Был гололед. Миервалдис круто повернул, чтоб не столкнуться, налетел на столбики, сбил… и под гору, в овраг…
Она рассеянно и виновато улыбается, может быть, уже сожалея о своей откровенности. Я испытываю мучительную потребность сказать Анне что-то хорошее, но не могу придумать решительно ничего, что мне самому не казалось бы трафаретным, банальным выражением сочувствия, и в то же время чувствую необходимость защитить ее, уберечь. От чего? И почему?
— Подай мне, пожалуйста, Дайнино пальтишко, Том, — просит Анна, как бы ставя точку на нашем разговоре. — Уложим ее, так ей будет удобней.
Я подаю, Анна укладывает, девочку на лавке. Я смотрю на ее руки, как они принимают, свертывают и подкладывают в изголовье пальто, стягивают сапожки. Небольшие и сильные руки, живое тепло этих рук еще помнит моя прохладная ладонь. Одно мгновение я как бы чувствую их объятие — и вздрагиваю сам от своей фантазии…
— Поезд! — объявляет кто-то, приоткрыв наружную дверь.
— Пойдем и мы? — обращается ко мне Анна.
Мы выходим вместе с другими.
По-прежнему идет снег, только уже не такой густой, и хлопья стали крупнее. В курятнике у Салзирниса незвонко поет петух. В той стороне, где Рига, встает трепетная заря. Вон показался: из-за поворота брызнули огни паровоза, и огромные хлопья во встречных потоках ветра мотыльками порхают вокруг него. Пыхтя, паровоз медленно катит мимо нас, останавливается, дрожа как загнанный конь, со стуком открываются двери вагонов.
— Подсобите мне венок поднять!
Оглядываюсь — Эмилия. Она влезает по ступенькам, я подаю венок, на котором бумага с одной стороны растрепалась и, шурша на ветру, трепыхается, как сухой лист. Эмилия протягивает руку, желает мне счастливого пути. Паровоз дает свисток, вагон — сперва незаметно, потом все быстрее и быстрее — плывет мимо, следующий, еще один, еще, тусклые ряды окон, в дверях проводницы… Оглядываюсь: Анны нет, ушла. Мимо меня идут незнакомые люди с узлами, по ту сторону станции ржет лошадь, мелькает последний вагон, во тьме и снежном вихре скрывается сигнальный огонек, только земля еще сотрясается и гудит, постепенно затихая.
И стихла.
Какое странное ощущение пустоты…
Большими шагами медленно бреду вдоль железнодорожного пути. Белый перрон испещрен большими и маленькими следами, и снег торопится все снова сравнять и выбелить. На рукав мне садится огромная мохнатая снежинка и блестит в свете лампы. Опускается еще одна, потом третья. Мне не хочется никуда идти, не хочется никуда ехать. Хорошо бы стоять так и стоять, и чтоб совсем замело снегом, как дерево…
АВТОР
Тома выводит из задумчивости Кристина, которая возвращается из двухместного заведения в конце перрона, тоже заросшего диким виноградом.
Кристина. Потеряли чего, что ли?
Том. Нет, ничего.
Кристина. Иду и вижу — тащится, нос повесив, как за гробом. Кошелек, думаю, посеял в снегу, что ли.
Хлопья тихо падают и на ее платок с фантастическими лиловыми розами.
Кристина. Сыплет как окаянный. Мог бы еще обождать. Поля-то убраны, а все одно — когда навалит его так, и за порог не выйдешь. Сиди как мышь в норе. У вас в Риге все расчистят, вам и горя мало. Тогда, конечно, больно наплевать: снег ли, дождь ли — всегда ноги сухие… (Пауза.) Нынче тоже ранняя зима, как в тот год, когда мы с вами у Миериней на крестинах были.
Том. Мы?..
Кристина. Ну да, я вас еще на руках все нянькала… Вру, это, наверно, была свадьба. Ну да, Аустру Миеринь выдавали за Фреймана…
Пауза.
Том. Я что-то не могу вспомнить…
Кристина. Да вы и были совсем махонький. Еще и годочка, должно, не было. Еще при Улманисе. Ваша мать пришла к Миериням помогать стряпать и говорит мне: «Поноси, Кристина, моего постреленка, орет как оглашенный!» А вы, не обижайтесь только, злой тоже были. Еще и своими ногами не ходили, а укусили меня за нос.
Том (смеется). Укусил за нос? Тогда простите меня, хотя я действительно не помню. И сильно?
Кристина. Откуда же сила! Больше так, карактер свой показать, какие там зубы у такой козявки… Кто бы подумал, что из вас большой человек выйдет. Когда вы пришли сюда, я и заговорить-то боялась: лаковый чумадан, на голове блин, дорогой макинтош и сам из себя такой важный. (Том опять смеется.)
Разговаривая, он подошел к двери станции, за которой слышатся голоса. Вдруг оттуда доносится тяжелый сдавленный стон.
Кристина. Началось…
Том. Что началось?
Кристина. А, мужики все олухи. (Пауза.) Дожидалась в Риге как дура последнего денечка, что и домой уж не доехать. Если б еще впервой…
Кристина отворяет дверь, и они оба входят. Прямо напротив на скамье сидит жена Берната Гайда. У нее широкое, чуть одутловатое лицо с желтыми пятнами, какие бывают у беременных: вздутый живот она обхватила обеими руками.
Бернат. Ну, как ты? До телеги дойти сумеешь?
Кристина. Куда ты ее потащишь, дурила, в свою глухомань! Ведь схватит по дороге.
Анна. Надо звонить в больницу.
Входит и Салзирнис, круглые щеки дежурного от волнения еще больше раскраснелись. Таких происшествий на станции Дзеги еще не бывало ни при нем, ни, насколько ему известно, до него. Нельзя сказать, чтобы уж всегда все было чинно-благородно: немало здесь выпито; однажды под Иванов день пассажиры устроили фейерверк с танцами и без малого не спалили всю станцию; драки тоже бывали; кто-то забыл трехлитровую банку с живой гадюкой, а однажды за некрасивым делом застали парочку. Но чтобы бабы здесь — простите за выражение — собирались рожать, это уж, извините, просто…
Лицо Гайды исказилось от боли.
Теодор. Чего ты, Салзирнис, стоишь — мнешься, право слово, будто в штаны набрал?
Салзирнис. А что делать-то?
Скрастынь. Пойдите и позвоните!
Салзирнис. А как… а что сказать?
Скрастынь. Скажите, как оно есть. Хорошо, я пойду с вами.
Салзирнис. Ну, у вас, агроном, как говорится, больше опыта.
Скрастынь. Опыт наверняка и вам пригодится.
Салзирнис (смущенный). Так я же еще не женат…
Теодор (смеется). Такие дела бывают, к слову сказать, и без женитьбы.
Кристина. И все-то одни глупости у тебя на уме, старый кобель. Думаешь, я не вижу; глазеет на молодых девок, как…
Теодор. Я?
Кристина. А кто же! Таращится, того и смотри — глаза на лоб вылезут.
Теодор. Это я! Ну, кто же из нас двоих спятил?
Кристина. Теперь все за молодыми…
Кристина прикусила язык, но особенно-то бояться некого — Скрастынь в комнате у дежурного, через стену доносится его голос: он говорит то ли с Салзирнисом, то ли по телефону. Кристина бросает короткий осторожный взгляд на Расу.
О господи, что это случилось с Расой? Не отводя глаз, она пристально смотрит на жену Берната, сама бледная и лицо свинцово-серое. В широко раскрытых синих глазах тихий ужас, пальцы нервно теребят край светлой нейлоновой шубки.
Гайда. Сестра же говорила… оставайся в Риге. Но мы с Альбертом уговорились… Думала — напугаю… решит, что стряслась беда…
Кристина. И куда тебя в последние дни нелегкая понесла? Сидела бы на месте.
Гайда. Да еще время не подошло. Только на будущей неделе…
Кристина. Растряслась в бегах-то. Ей-богу, как…
Анна. Оставьте вы ее в покое!
Гайда опять тихо стонет.
Просыпается Дайна, и поднимается на локте, смотрит заспанными глазами, часто мигая.
Дайна. Что… что у тети? (Пауза.) Тетя больна?
Том. Спи, Дайна. Больна.
Дайна. Ей больно?
Том. М-хм…
Возвращаются Скрастынь с Салзирнисом.
Скрастынь. Дозвонились. Обещают прислать машину. Только снег ужасный, вот что!
Салзирнис (Гайде). Мама зовет вас — идите к нам, пока приедут из больницы.
Бернат и Анна уводят Гайду, которая тяжело опирается им на руки. У двери она останавливается и корчится от нового приступа боли.
Кристина. Смотри ты, как часто!
Дайна. Ану-ля, не уходи!
Анна. Я сейчас приду. Поговори пока с Томом.
Хлопает дверь. В зале ожидания какое-то время все молчат. Слышно только, как в комнате дежурного важно и раздельно тикают часы.
Скрастынь (шепотом). Что с тобой случилось, Раса. (Пауза.) Раса…
Он украдкой берет ее руку в свою: рука бесчувственная и холодная, как неживая.
Скрастынь. Я действительно не понимаю, за что ты обиделась…
(Ну не права ли была Кристина, когда сказала, что все мужчины олухи? Скрастынь поистине мог быть догадливей в свои тридцать пять лет и при высшем-то образовании.) Он нежно пожимает ее руку, все еще глядя с недоумением, но Раса неожиданно резко вырывает свою ладонь, в ее голосе слышатся сдерживаемые слезы.
Раса. Ах, оставь меня в покое, Альф… (Пауза.) Такая ночь — и так она кончилась…
Скрастынь. Но ничего еще не кончилось, милая.
Раса. Ты ничего не понимаешь… Ты совершенно ничего не понимаешь. (Пауза.) Только земля, только навоз и страдания. Где она — удивительная жизнь, о которой мне говорили в школе?
Пауза.
Скрастынь (задумчиво). Это, наверно, и есть та самая удивительная жизнь…
Раса. Та-ак! (Горько смеется.)
Пауза,
Скрастынь. А какой ты ее себе представляешь?
Раса. Не знаю… Только совсем другой. Как недавно, когда мы шли по дороге и вдруг пошел снег…
Пауза.
Скрастынь. Как странно, что первый раз мы не понимаем друг друга именно сегодня ночью.
Лицо у Скрастыня грустное и, может быть, потому кажется постаревшим. Но, возможно, что виною тому скупой серый свет, — лампочку над кассой Салзирнис опять потушил и окошко заложил четырехугольной, хорошо пригнанной фанеркой.
У Дайны глаза открыты, потому что легче сказать: «Спи!», чем выполнить такое предписание. Она хлопает ладошкой по скамейке, жестом приглашая Тома сесть с ней рядом.
Дайна. То-ом!
Том. Да.
Дайна. Садись здесь. Тебе хватит места?
Том. И еще останется.
Дайна. Том… почему у тебя борода, а у других нету? Чтоб лицо не замерзло, да?
Том. Можно сказать и так.
Пауза.
Дайна. Расскажи мне что-нибудь.
Том. О чем же тебе рассказать?
Дайна. Ну… ну, про зверей, как тогда.
Том. По дороге на станцию я видел лося, но тут и рассказывать-то особенно нечего: он напился воды и ушел.
Дайна. А большой?
Том. Да… с корову будет, И с рогами, только плоскими.
Дайна. И ты не боялся?
Том (смеется). Нет!
Дайна. Он… кричал?
Том. Лось вел себя очень спокойно. Я слышал только шаги, когда он приближался — плюх-плюх-плюх! — и еще как булькала вода.
Дайна. Ануля один раз видала волка. Только очень давно. До того еще, как меня купили. Ануля испугалась, а волк (смеется) оглянулся назад и тоже испугался. У него задрожали усы. Ты не видал в лесу волка?
Том. Нет.
Дайна. Теперь я увижу. В зоопарке. (Пауза.) Петрик тоже хотел ехать и вякал.
Том. Как — вякал?
Дайна. Ну, хныкал! Зачем я уезжаю. Мама плакала и Ануля, и Петрик, и… все плакали. (Пауза.) Теперь у меня будет свой папа.
Пауза.
Том. Тебе спать не хочется?
Дайна. Не-е… Расскажи мне сказку.
Том. Я все сказки перезабыл.
Дайна. А когда ты был маленький, знал?
Том. Да.
Дайна. Тогда у тебя была борода?
Том. Нет.
Дайна. Это было очень давно, да?
Том. Очень.
Дайна. Что ты тогда делал?
Том. Много чего. Пас коров, рисовал, ходил в школу, а еще до того укусил за нос тетю Кристину.
Когда Дайна смеется, глаза у нее становятся светлыми, будто солнечными.
Дайна. А у нас Звездуха стоит на привязи. Она оч-чень сердитая. Знает только маму и еще немножко знает Анулю. На меня и мальчишек только рычит. Кто ее такую пасти будет?
Том. Это верно. (Пауза.) Одну сказку я тебе, может, и расскажу. Возможно, кое-что позабылось, тогда мне придется что-то пропустить или самому придумать. Ты ведь не обидишься.
Дайна. Лучше придумай.
Том. Сказка эта — про мальчиков, которых мачеха превратила в лебедей, и про их сестрицу…
ТОМ
— Далеко-далеко отсюда, в чужой южной стране жил-был король. У него было двенадцать детей — одиннадцать мальчиков и одна девочка, звали ее Элиза. Все шло хорошо, но в один прекрасный день король взял молодую жену, которая детей не любила. Она отправила Элизу в деревню, а принцев очернила перед королем, так что отец прогнал их с глаз долой…
Дайна совсем притихла, затаила дыхание, я только все время чувствую на себе ее внимательный пристальный взгляд.
— Злая королева им сказала: «Идите на все четыре стороны и сами добывайте себе пропитание! Сделайтесь бессловесными птицами!» И принцы превратились в лебедей. Ты видела лебедей?
Она легонько кивает головой, не объясняя, где видела и когда.
— …И лебеди замахали крыльями, с жалобным криком вылетели из окон замка и полетели к лесу. Ранним утром они добрались до того дома, в котором жила Элиза, стали кружить над крышей, хлопать крыльями, но она их не слыхала. И пришлось им идти куда глаза глядят.
Пиладзит снова задремал. Теодор с Кристиной, пошуршав в обшарпанном картонном чемоданчике, вытаскивают снедь и в лад работают челюстями; а Язеп — не понять, читает он еще или тоже заснул; Раса и Скрастынь сидят рядом, но их словно разделяет прозрачная стена размолвки, а Лиесма, как и Дайна, слушает меня, повернув сюда ясное лицо, на котором блуждает почти неуловимая улыбка — тоже как у Дайны. Девочка меня нетерпеливо подталкивает.
На чем же я остановился?
— Элиза росла в деревне совсем одна, у нее не было никаких игрушек. Когда ей захочется поиграть, она сорвет с дерева лист, проткнет в нем дырку и смотрит сквозь нее вверх и видит кусочек неба, похожий на синий сияющий глаз.
За стеной благоразумно, степенно тикают часы. Их стук похож на тихие шаги сквозь ночь, на медленное движение к утру. Веки у Дайны закрыты, но когда я замолкаю, длинные ресницы вздрагивают и, не открывая глаз, она просит, чтоб я продолжал.
— Когда Элизе исполнилось пятнадцать лет, пришел срок явиться ей во дворец. Королева увидала, какая Элиза красавица, и возненавидела ее пуще прежнего. Она вымазала девочку дочерна ореховым соком, выпачкала ей лицо, растрепала волосы. Увидал ее отец король, очень испугался и не признал Элизу своей дочерью. Вышла она за ворота замка, и было ей очень горько, она шла и шла лесом, пока не набрела на озеро. Оно было зеркально-гладкое и такое прозрачное, что на дне озера через воду виден был каждый камешек. Умылась Элиза в озере и стала опять красивая, как… Ты меня слушаешь, Дайна?
Она не отвечает, на лице застыла едва заметная улыбка, с какой она слушала сказку. В этой улыбке, спокойной позе спящей, тепле, которое излучает сквозь одежду притихшая расслабленная фигурка Дайны, есть беспредельное доверие ко мне… вера в мою силу… мою защиту, и я боюсь пошевельнуться, чтобы не потревожить ее глубокий, добрый, ничем не омраченный покой…
Какая странная ассоциация!
Я лежу на животе у обочины луга неподалеку от Вецсникеров, где мы о Элгой пасем скот. У меня перед глазами ползают мелкие усатые букашки, ползают черные и бурые муравьи, пахнет подмаренником, донником и смолкой. И вдруг промеж былинок я вижу… сосну. На ней двадцать несоразмерно длинных торчащих иголок. Подходит Элга. «Что ты там нашел?» — спрашивает, а я думаю, что она будет смеяться надо мной, и не хочу говорить. Она замечает сама, вскрикивает: «Смотри!», садится на корточки, осторожно разводит в стороны траву и глядит, пораженная и серьезная. «Надо воткнуть колышек, а то затопчет кто-нибудь как медведь!» — добавляет она.
Из таких вот двадцати хвойных иголок вырастают обыкновенные сосны, тысячи, миллионы обыкновенных сосен — и простые, и мачтовые. Почему мне вспомнился вдруг маленький детеныш дерева? И почему вообще он сохранился в памяти — в то время как с течением лет выпало и выветрилось многое другое, в то время как я видел гигантов и шедевры? Может быть, маленькая, едва проклюнувшаяся сосенка имела сама по себе большую объективную ценность? Или главное было в том, что мы сами в ней увидали, наше изумление перед извечной тайной жизни?
Да, именно так — изумление.
Словно камешки в пучине забвения, ищу я теперь минуты, которые заставляли вздрогнуть мое сердце от чистого неподдельного волнения. Они, наверно, и были для меня минутами счастья… Как странно, что эти мгновения находишь среди казалось бы пустяков!
Если бы меня спросили раньше, я, наверное, искал бы их совсем в другом: в положительных отзывах, в своем великолепном доме, в почестях, в городах и странах, которые я мечтал увидеть и увидел, в восхищении и зависти других людей. А теперь оказывается, что дело обстоит совсем иначе. Сосенка о двадцати смешных иголках, поездка в кузове Варисовой машины, под колокольный перезвон молочных бидонов, бодрящие летние утра на крыше старого склада и черные вечера, когда после целого дня работы где-то далеко на окраине я тащился (буквально тащился) домой усталый и голодный как собака, еле волоча за собой мольберт и ящик с красками…
Не знаю, может быть, кто-то назовет мое счастье мелким или скажет, что это вообще не в счет, если я вспоминаю такие пустяки… Но счастье всегда субъективно — совокупность одних и тех же обстоятельств одного делает счастливым, а другого — несчастным, потому что счастье — это волнение, и, значит, оно нематериально. Счастье — это высшие точки моей жизни. Ну а какова низшая точка? Тот момент, когда я догадался, что скоро умру и меня охватило бессильное отчаяние? Нет, тогда я просто по-человечески был несчастен — не это моя низшая точка. Но в моей жизни есть мгновение, за которое я испытываю стыд до сегодняшнего дня, хотя об этом не знает и, должно быть, не узнает никто, потому что мне не свойственна тяга к исповеди: я запирался в комнате с газетой и считал слова — сколько рецензент написал про меня, сколько про X и сколько про У.
Неужели и это действительно было в моей жизни?
Да, к сожалению, да, и никто и ничто не может изменить этого факта или отменить его так же, как никто и ничто не может отнять у меня светлые минуты — все перестанет существовать только вместе со мной. Дни, когда я был тревожным и звонким, как крик оленя над озером, и дни, когда я катился, как гладкий голыш, больше всего боясь наткнуться на что-то и обо что-то разбиться. Дни, когда я испытывал боль, и дни, когда я бежал от боли. Дни, когда в комочке хвои мне открылось чудо, и дни, когда я ездил по всему свету в поисках чуда и не мог его найти. Все, что называется моей жизнью…
Как-то незаметно засыпаю и я и вижу во сне огромную лестницу. На дворе утро, ночью, похоже, шел дождь, и ступеньки лестницы блестят влажно, отливая серым в утреннем освещении. Восточный небосклон перламутрово-розовый, скоро взойдет солнце. Я поднимаюсь по этой лестнице все выше, ступеньки становятся все шире, и вдруг до меня доходит, что это вовсе не ступеньки, а крыши. Кругом, куда ни посмотри, все крыши, крыши, крыши.
«Где я это видел?» — думаю я во сне, но никак не могу вспомнить. Наверняка я это уже видел — я знаю. Знаю… Дайте мне только подумать…
АННА
Мать Салзирниса растапливает плиту и ставит воду в жестяном чайнике. Еловые дрова тихо, приятно потрескивают. Потом в тесной задней комнате она застилает чистыми простынями узенький диванчик и предлагает Гайде раздеться и лечь. Гайда снимает пальто, развязывает платок, я помогаю ей разуться. Но ложиться она не хочет — так, говорит, легче, когда двигаешься. В белых шерстяных носках она ходит по комнате взад-вперед, взад-вперед и, скорчившись, останавливается, когда начинается схватка. Тетушка Салзирнис садится на стуле против меня, А Гайда шагает между нами, так судорожно сцепив руки, что кожа на пальцах стала прозрачной и почти белая, как пергамент.
Мужчины вышли во двор. Салзирнис, наверно, на станции. Время от времени он появляется красный как бурак и заботливо осведомляется, не стало ли больной лучше. Он спрашивает так, будто бы у Гайды болят зубы или живот, а мне смешно смотреть на Салзирниса — такой у него комичный вид. Мать всякий раз выпроваживает его со словами:
— Иди себе, иди, Лаймнесис, обойдемся без тебя!
Лаймнесис[5]. Какое необычное имя! Годами я покупаю у Салзирниса железнодорожные билеты, но до сих пор не знала, что его зовут Лаймнесис, Его фотографию с подписью можно печатать на новогодних поздравительных открытках.
Слышно снаружи, как по земле шорхает лопата. Это Бернат расчищает снег. Он решил разгрести площадку перед домом, чтобы автомобиль сумел развернуться. Не знаю, есть ли в этом нужда, наверное, нет. Если шофер дотащится сюда по дороге, то уж и развернуть машину как-нибудь сумеет. Но мы Берната не отговариваем — пускай работает, пускай чистит. Надо ему чем-то занять себя. Временами лопаты не слышно. Бернат идет посмотреть лошадь — или стоит так просто, отдыхая, вслушиваясь в ночь. Потом шорханье возобновляется: значит, еще не едет. И Гайда опять ходит взад-вперед и говорит, словно оправдываясь, как оно получилось. Начались боли, правда, еще вчера утром, совсем слабые, непонятные, недолго поболело и прошло, и только в поезде, уже за Сигулдой. Прямо не знала, что и делать. Проводница говорит — выходить надо в Сигулде, и со станции увезут в больницу, а в таком состоянии, говорит, это надо быть сумасшедшей — ехать в Дзеги, в такую глушь, где ни врача, ни акушерки. Так оно, может, и разумней, как советовала проводница, да что бы подумал Альберт, если б она не приехала. Гайда рассказывает нам это уже третий, если не четвертый раз, но мы обе с тетушкой Салзирнис не говорим ничего: что сделано, того не воротишь, и остается только ждать машину.
Лопата за окном скребет яростно, с ожесточением, не иначе как Бернат собирается перекидать весь снег на станции.
Когда Гайда замолкает, неторопливо заводит разговор тетушка Салзирнис. Ей стукнуло уже сорок — так же, как Гайде, — когда у нее родился Лаймнесис. И первый ребенок в такие-то годы! Боялась, конечно, ну и натерпелась: три дня промучилась и три ночи. Соседка здешняя, Мальвина Рамниек, своего седьмого на свет произвела, словно выплюнула. Полола на огороде кормовую свеклу, схватилась за живот, закричала: «Ай, мамочки!» — и через час готово дело — мальчишка голос подал. А ей каково: трое суток маялась, зато сын — богатырь, почти одиннадцать фунтов!
На кухне с шипением бежит чайник.
— Хотите чаю? — предлагает нам обеим тетушка Салзирнис.
Гайда мотает головой, а мне захотелось чего-нибудь горячего, и я иду за хозяйкой. Она сажает меня за стол, покрытый стертой и уже блеклой клеенкой, ставит передо мной большую кружку в цветочках, наливает из чайника, через ситечко процеживает зеленоватый настой с запахом мяты.
— Сахар вот он! — Она пододвигает ко мне глиняную плошку. — Может, и покушаете чего-нибудь?
— Нет, есть мне неохота. — Я пью маленькими горячими глотками, чувствуя, как по телу сразу расходится тепло. Замечаю, как сильно я утомилась. Руки слегка дрожат — от усталости или от напряжения. Из комнаты доносится бормотание.
Опять стон! Со звоном падает чайная ложка, я нагибаюсь поднять. Какая нервная! Спокойно! Ведь все идет как полагается, обычным порядком… И если бы именно нынешней ночью не выпал этот ужасный снег…
Позади скрипнула дверь. Оглядываюсь: опять Салзирнис! Он топчется у порога, точно сомневаясь — входить или не входить, широко улыбается мне и задает свой неизменный вопрос:
— Что, больной не луч?..
За стеной стоны переходят в глухой, сдавленный крик, точно рев раненого зверя. И я вижу, как, вслушиваясь в этот звук, Салзирнис прямо на глазах начинает быстро бледнеть: его румяные щеки сперва становятся желтоватыми, потом белыми, а потом зеленовато-серыми.
— Да это же… да это же что-то… — медленно пятясь, бессвязно бормочет он, затворяя дверь.
Дверь захлопывается. Снаружи слышатся быстрые тяжелые шаги, которые поспешно удаляются, словно там кто-то спасается бегством. Мне хочется посмотреть, как бежит этот большой неуклюжий мужчина. Однако я остаюсь за столом. Чай, остывая, дышит паром мне прямо в лицо. Глубоко вдыхаю ароматный пар, а пить больше неохота. Не знаю, напугал ли Берната Гайдин крик или бегущий Салзирнис, только немного погодя он показывается в двери, совершенно потерянный:
— Плохо?
— Все нормально.
Как уверенно, спокойно и убедительно у меня это получается — как у опытной дипломированной акушерки. (О господи, как долго не едет машина…)
— Тогда я пойду задам корму лошади, — говорит он, как мне кажется, немножко успокоенный, но все еще не уходит. — Мы звонили опять. Машина, говорят, вышла.
Он, мешкая, поворачивается, словно ожидая, не скажу ли я еще чего-нибудь, а я сразу не могу ничего придумать. Шаги Берната удаляются медленно, очень медленно, в тишине я различаю даже хруст снега. Мне надо было попросить, чтобы он сходил взглянул, как там Дайна, Поднимаюсь, хочу его окликнуть — в это время из комнаты выходит тетушка Салзирнис.
— «Скорую помощь» нам, видно, не дождаться… Уже сошли воды.
Мне кажется, что я ослышалась, переспрашиваю — она с поразительным спокойствием повторяет то же самое и добавляет:
— В шкафу есть чистые глаженые простыни. Идем, мне поможешь.
— Так я ведь не умею, тетушка.
Она пристально смотрит на меня улыбчивым, мудрым взглядом старого человека:
— Постыдилась бы! А еще фельдшерица называется! — Она беззвучно усмехнулась, не отводя глаз от моего лица, — Струсила как заяц. А сама детей рожала. Только не сбеги, как мой Лаймнесис.
Я бормочу что-то насчет антисанитарных условий, а мои слова заглушает сдавленный крик из соседней комнаты. Я беру таз, мыло, тетушка Салзирнис наливает мне воды — вымыть руки, приносит белоснежное льняное полотенце и ножницы.
— Для чего это? — спрашиваю я.
— Перережем пуповину.
Говорю, что надо бы ваты или марли и спирта. Она подает нераспечатанный бинт и полфлакона «шипра», наверно, из запасов сына.
В этот момент раздается наконец рокот машины, в окна заглядывают любопытные прожекторы.
— Слава тебе господи, приехали! — восклицает тетушка Салзирнис.
Распахивается наружная дверь, и в комнату просовывает голову Бернат, почему-то без шапки. Снял или потерял?
— Приехали! — возвещает он о том, что и без него вполне очевидно, и снова исчезает.
Гул мотора стихает. Голоса. Быстрые скрипучие шаги. У порога кто-то оббивает ноги.
У меня из груди невольно вырывается вздох облегчения, вижу — опять дрожат руки. Действительно, как заяц!
Ребенка принимает врач. Когда раздается первый слабый, невнятный крик, смотрю на ручные часы. Десять минут четвертого. На стеклышко падает крупная капля и расплывается. Да что это со мной такое? Тихонько открываю дверь, тихонько закрываю за собой, снимаю с вешалки пальто и никак не могу попасть в рукав, тыкаюсь как слепая. Наконец натягиваю пальто и выхожу — снег тем временем перестал, он сверкает, искрится в светлом кругу под фонарем и в озаренных квадратах окон. Ветер сделался влажный тяжелый, тяжко вздыхают сосны. Как жаль, все, наверное, опять растает — выпал снег на одну ночь. От темной стены дома отделяется темная длинная фигура. Сперва я принимаю этого человека за Тома, потом узнаю Берната. Тяжелыми шагами приближается он ко мне.
— Ну, как?
— Могу поздравить вас с девочкой.
— Правда?!
Вижу, что ему хочется поговорить, но он не находит слов.
— Дочка похожа на вас, — немножко лукавлю я.
— Востроносенькая и беззубая? — весело откликается он.
— А-а, Пиладзит! — вспоминаю я, и мы оба смеемся.
— Пойдете в крестные?
— Да придется.
— Салзирнис назвался крестным отцом. Кумовьями будете — красивая пара.
Бернат провожает меня до двери станции и поспешно возвращается. Вхожу. Том и Дайна спят. Девочка так и заснула, как я ее уложила, личико совершенно спокойное. Том облокотился на спинку лавки. На его лице легкая улыбка. Я думала, что он слышал, как я вошла, но глаза его по-прежнему закрыты, рука спокойно опирается на спинку, и я догадываюсь, что Том улыбается во сне. Слышно, как за стеной идут часы, идут неторопливо и неумолимо.
Тик… так… пак… пак…
Капает как вода, по капле вытекает время. Еще с четверть часа, и Салзирнис опять зажжет лампу над кассой и начнет выдавать билеты — на этот раз в Ригу.
…пак…пак…пак…
Истекают секунды, истекают минуты. Нет, не могу я их разбудить, ни Тома, ни Дайну. Только стою как завороженная и смотрю на них обоих.
Пусть текут, пусть истекают — не в моей власти задержать что-то или остановить.
Наконец Салзирнис действительно включает лампочку и открывает окошко кассы. Но и свет их не потревожил, только лица их в его отблеске становятся живее.
Чувствую легкое прикосновение к своему плечу. Это Лиесма.
— Случилось что-нибудь? — тихо спрашивает она.
— Нет.
— Вы такая грустная.
— Нет, Лиесма.
Скрипнула дверь. Лиесма поворачивает голову, и я вижу в ее глазах смятение. Оглядываюсь и я и вижу — входит Алиса Патмалниек.
ПИЛАДЗИТ
Елки зеленые! Это сон или… или уже загробный мир? Алиса! У этих баб прямо собачий нюх. Сейчас пойдет такая катавасия — как пить дать, раз уж она поперлась за мной на станцию. Бежала, небось? Вся красная, платок съехал, вспотела. И что эти бабы во мне находят, чтоб так чесать следом, — сам не пойму.
— Разве ты, Алиса… не в Цесисе?
Тьфу, черт меня дернул за язык задать такой вопрос! Все равно что скипидару плеснуть под хвост — будет разоряться при всем честном народе, обзывать кобелем или того похлеще, саданет еще — боже милостивый! — по мордасам.
Что за чудеса! Нет, не разоряется, молча мотает головой. Председатель довез на «виллисе» до развилки, дальше топала пешком. Приходит — в Патмалниеках темно, пусто, как увидала, что нет ни вещей, ни паспорта, сразу поняла. Накормила свинью, подоила корову, хотела лечь спать, да никак нет покою. Накачала велосипед и поехала. На велосипеде по такому снегу, с ума сойти! Тяжело, известное дело, добиралась долго, больше его толкала, чем ехала.
Какая Алиса чудная — ни жива ни мертва, глядит только все время на меня и тихонько бормочет, словно голоса лишилась. Где же та иерихонская труба, где ж ее генеральский бас? Как выйдет бывало во двор в Патмалниеках, как даст волю языку, так и в Вецсникерах собака лает… А тут и пискнуть не может. Простыла, что ли? Мотает головой: нет… Уморилась, ноги мокрые, одежда мокрая, падала ведь, наверно, с велосипеда-то. Падала? Да, раза два падала, под снегом не видать, где рытвина, где яма. Ушиблась? Она пожимает плечами, не знает, видно, да или нет. Присаживайся! Алиса садится рядом со мной на самый краешек лавки и молчит, сцепив руки, красные, как клешни у рака. Варежки забыла или посеяла по дороге? Опять только пожимает плечами… Жду, когда она в конце концов что-нибудь скажет, не можем же мы сидеть так, как двое немых. Если б она еще упрекала, стала пилить, тогда можно отбрехиваться. Разве я Алисе что-нибудь обещал? Боже упаси! С самого начала она знала про Эмму и про Паула с Илгонисом.
Я не обманщик! Пьяница я и вертопрах — это да, но не жулик.
Малярил я в Патмалниеках — ну и остался. Поработаю, говорил ей, здесь, в Дзегах, пока не надоест, и опять подниму паруса. Может, Алиса надеялась сотворить то, что до сей поры не удалось ни одной бабе — привязать и удержать Волдемара Пиладзита? Я все равно как угорь: зажми в ладони хоть изо всей силы, Он проскользнет между пальцев. Привязать меня — с такой-то харей вековухи, с носом-картошкой и в сорок девять лет? Тут уж надо совсем из ума выжить, чтоб такую мысль забрать себе в голову!
Алиса все сидит, так и не говорит ни слова. Люди подходят к кассе, покупают билеты на Ригу. Надо и мне… Вот поднимусь сейчас и пойду. Расстегиваю кошелек, вытаскиваю фиолетовую и встаю с лавки. Она шепотом окликает меня: «Волдемар!» Поворачиваю голову — чего тебе? Господи боже мой, Алиса плачет! Мы прожили с ней без малого четыре месяца, но чтобы Алиса слезу пустила! Орать — да, пилить — это она горазда. Но плакать! Да еще как: крупные слезы бегут и бегут по щекам, ни дать ни взять — Стабураг. А какая она седая! Виски совсем белые. И когда плачет — со сморщенным, мокрым лицом, — она на всех зверей похожа, щеки, как вялые помидоры. Когда Алиса нафуфырится — накрутит волосы, подфиксатурится маленько да принарядится, то с виду еще ничего себе, а такая: брр! Когда я работал в Патмалниеках, еще летом, она накручивалась на бигуди чуть не каждый божий день. Зайдет, где я малюю: пестрое шелковое платье, янтарная брошка, пахнет сама как розарий. Фу, нипочем не скажешь, что пятьдесят уж на носу! Показывает: тут я хочу вот так, тут я хочу вот этак. Чистая графиня, а не колхозница. Показывает на стены, а сама так и зыркает на меня, глаза бегают, как блохи, маленькие, блестящие и черные. И то сказать, могло ли нам тогда прийти в голову, что такое будет наше расставанье? Что она будет сидеть, как старая линялая мокрая курица, а я только и буду думать, как быстрее от нее избавиться? Ни в жизнь!
Сперва дело шло на славу. По вечерам, как я кончу работу, а она воротится с поля и приберется, мы спускаемся вниз к ручью мыться. Она, подобрав юбки, залезает на камень. Ах да ох, вода такая да сякая! Ножки, само собой, уже не первой свежести, но и особых изъянов не найти, целый день в поле — запеклись дочерна. Декольте… и все такое прочее… И то сказать: душа мужчины — не ведро с вареньем, из которого черпают и черпают до дна, а скорее медяк — чем больше он трется, тем ярче блестит… Да… Потом-то всякое бывало, иной раз и поцапаемся, мы ведь не архангелы. Хорошего и плохого поровну было, так что зло нам держать друг на друга не за что. Но и дальше тянуть резину тоже нет охоты. Белый свет что море — без конца, без края, и ты плывешь, как парусник по ветру…
Алиса, ну чего ты ревешь? Перестань, Алиса, слезы, хе-хе, красоту портят.
Фу ты господи, совсем нюни распустила!
И то сказать, жизнь у нее тоже сложилась несладкая. Ей бы теперь потихоньку начать внуков нянчить, а не в корсет затягиваться, чтоб подцепить кого-то и на старости лет не одной куковать. В молодости был у нее стоящий жених и брал за себя, на конно-прокатном пункте работал, с этим пунктом и уехал в Россию, когда фрицы напали. Воевал, погиб и не вернулся — и осталась Алиса на бобах. Потом подвернулся еще один. Какая там петрушка у них получилась, не знаю, а только она повырезала его из всех фотографий. Наверное, оказался подлецом. Потом объявился я… Жила она с матерью и сестрой. Мать умерла, сестру выдали замуж в Валмиеру. Одна! Домишко хотя и маленький — две комнатушки, а все равно — одна… Брр!
Алиса то ли забыла носовой платок, то ли не может найти, прямо руками утирает мокрые щеки. Увидит Кристина — раззвонит на всю губернию! Я протягиваю Алисе свой платок — пусть утрется. Она берет носовой платок из моих рук. Какие горячие у Алисы пальцы, как огонь! Не обморозила — без рукавиц-то? Или поднялась температура? У тебя жар, Алиса? Что… чего ты городишь? Как это не пойдешь домой? Куда же ты пойдешь? Я тоже не знаю. Ведь не поедешь же ты, хе-хе, со мной к Эмме? Вот это был бы номер, если б я заявился в Вецумниеки с тобой! Ну, улыбнись, не смотри ты на меня такими страшными глазами, Алиса! Я понимаю, тебе одиноко, пусти к себе жильца, будет веселее… Я не измываюсь. Опомнись, Алиса, что ты говоришь! Как это понимать — одна я домой не вернусь?
Только сейчас я допер наконец, что означают эти ее слова! Отец небесный, так это же… так это… В наше-то время и в наши года! Тебе не семнадцать лет и мне не семнадцать. Алиса, одумайся… Именно поэтому? Как это понимать? Эх, зачем нам не семнадцать, были бы мы как белые лебеди, Алиса…
Чего я в разговоры пустился, я должен купить билет — и точка! Чего я тут лясы точу — я же еду в Вецумниеки, к Паулу, Илгонису. Зачем она сюда притащилась, эта стер… Пошла она ко всем чертям! Ну, чего она на меня уставилась? Такими дикими глазами… как на убийцу! Мне страшно, она сумасшедшая, и мне страшно. Мало ли случаев, что женщины в такие годы… Все ничего, ничего, и вдруг слышишь: в Стренчах… Какой дьявол попутал меня связаться с ней, господи боже мой! Чтоб мне досадить, она ляжет под колеса. Только чтобы мне отомстить! Наложит на себя руки — и кто будет виноват? Понятно, сама, а все будут показывать пальцем на меня: видите, вон идет тот самый Пиладзит, который… Меня все винили за Ариадну… За что у меня такая проклятущая судьба, а? Люди добрые, скажите, за что у меня такая проклятая судьба!..
Кто-то словно за меня вытаскивает из-под скамьи узел с одеждой и пульверизатор, который Альберт принял за лейку. А где же мой старый друг Бернат? Не видать. Может, так оно и лучше. Подумать только: не встречались двадцать пять лет и теперь снова расстаемся, даже не попрощавшись. Алиса встает, открывает дверь, выпускает меня с пожитками и затворяет за нами обоими. Велосипед прислонен тут же за углом, она берет его за рога и катит впереди меня. У коновязи топчется лошадь, засунув морду в торбу. Нам с Алисой сейчас бы не помешала лошадь, У домишки железнодорожника стоит авто с погашенными фарами. Машина нам с Алисой не помешала бы тем более. Замечаю на автомобиле красный крест. Заболел кто-нибудь? И то сказать, никогда человек не знает, где застигнет его беда… Бредем домой. Дорога становится шире, и мы идем рядом. Алиса теперь несет вещи, а я толкаю велосипед по жидкому снежному месиву. Взмок как цуцик. Как она добралась? Сильная она, ничего не скажешь, а все одно баба…
Когда послышался гул идущего поезда, останавливаюсь и смотрю назад. Вот он подходит, стоит на станции, и снова стучат колеса. Я не говорю ни слона, и Алиса не говорит ни слова. Так и стоим, пока поезд не скрывается вдали, и опять плетемся дальше. Всю дорогу так ничего и не говорим.
Не знаю, как Брыська учуяла, что мы идем. Видим — скачет навстречу, ах ты, чертяка такая, мяукает как окаянная. Ну, что ты скажешь, тварь бессловесная, а понимает — рада. Трется об мои ноги, ах ты старая квашня! Дверь не заперта. Нажимаю на ручку — отворяется. На кровать брошены покупки, на столе еще стоит тарелка и чашка, как я оставил. Алиса убирает авоськи и сумку, стелит мне постель. Раздеваюсь и прямо как боров — не помывшись — лезу под одеяло. Горит ночник. Алиса снимает пальто, валится на стул прямо в мокром платке и заляпанных сапогах и молча сидит. Может быть, ждет, что я ее позову? Одеяло толстое, теплое, а свет такой тусклый, И то сказать: устал я как собака…
И снится мне — приезжаю я в Вецумниеки. Навстречу выходит Эмма, молоденькая совсем и тоненькая. Господи боже мой, Эмма, какая ты стала красивая! Она смеется, и зубы блестят белые-белые и крепкие. Такими зубами у «жигулевского» шляпки срывать — плевое дело. «Ты детей уже видел?» — спрашивает она меня и ведет на двор — показать Паула. Паул стоит у сараюшки, ну прямо каланча. Куда ты растешь как ненормальный, выше отца, до тебя ж не достанешь? Эмма приносит мне табуретку. Я влезаю на табуретку, и все равно Паул меня выше. Эмма тащит вторую табуретку, однако Паул все равно выше. Я уже начинаю злиться. Взбираюсь на третью. Что-то подо мной шатается, и с отчаянным криком падаю на землю, которая глубоко-глубоко подо мной внизу, будто я лечу на самолете…
Горит ночник, свет тусклый, как от свечей. Алиса все еще молча сидит в том же платке, сидит и сидит, словно отпевая покойника.
ТОМ
Мы ведь не можем так расстаться, я должен сказать ей, что…
Но что же именно?
Не знаю. Только я и представить себе не мог, что мы на прощание даже руки не пожмем друг другу: она бросит мне на ходу! «До свидания, Том!» и убежит. А было именно так. Детский вагон, в котором Лаума поджидает дочь, останавливается не там, где рассчитывала Анна и где мы втроем ожидали его, а проезжает мимо, и Анна, схватив Дайну за руку, бежит за вагоном, потому что поезд в Дзегах стоит всего три минуты.
Спешу за ними следом, но, сделав несколько шагов, спохватываюсь — и вагон со стуком, замедляя ход, проплывает мимо. Анна затерялась среди других пассажиров. Я направляюсь к ближайшей двери, поднимаю чемодан, проводница принимает его, захожу сам.
— До Риги? — спрашивает она.
— Да, до Риги.
— Тогда проходите коридором в следующий вагон, там будет спокойнее и свободней. Там у меня одни рижане.
— Спасибо, я немножко… постою здесь.
Она с насмешливым удивлением смеривает меня взглядом, пожимает плечами, однако не возражает — наверно, привыкла к странностям пассажиров.
— Только дверь не заслоняйте, — добавляет она, — мне надо работать.
Я могу смотреть из-за ее плеча, и в дверном проеме, как в кадре фильма, появляются бегущие мимо люди… собака, наверное, Барон… плаксивые лица… смеющиеся лица… Станция Дзеги выглядит отсюда совсем маленькой, утонувшей в снегу и подслеповатой, а столб кажется еще выше, фонарь с жестяным козырьком — где-то у нас над головой, и на снегу расплывается матовый трепещущий круг света. Жду, не покажется ли Анна, но ее нет. Звонко ржет лошадь, из хлевушки Салзирниса тянет сеном и навозом, потом все стирает, забивает запах дыма. Я слишком далеко от паровоза, чтоб услыхать гудок, ощущаю только легкий толчок, и мы уже едем: скрываются из вида столб, станция, скамейка, мимо скользит белый, испещренный следами утоптанный перрон.
Проводница оглядывается:
— Вы еще тут? Чего…
В этот момент я увидел Анну. Она стоит у железнодорожной насыпи, откинув голову, и смотрит на двери и окна вагонов, словно кого-то ищет; вижу только матовый овал лица, выражение разглядеть невозможно. В двух шагах от нее на снегу сидит собака и тоже провожает уходящий поезд.
— Анна!
В грохоте поезда она меня не слышит, так и выходит из поля зрения все в той же позе — неподвижная, с откинутой головой.
Оттеснив проводницу, высовываюсь, насколько возможно. Да, все еще стоит. На белом снегу темнеют две маленькие одинокие фигурки.
— Анна, ты меня слышишь?
Удаляются, удаляются…
— Ан-на-а!
Теперь это уже только две темные точки, ночь и расстояние, наконец, стирают их совсем.
— Дайте же в конце концов закрыть дверь! — нетерпеливо говорит проводница и рассказывает что-то о пассажире (или пассажирах?), которые выпали или их задавило, и еще о том человеке (или людях?), которым за это придется отвечать. За разговором она закрывает дверь и ставит лесенку на предохранитель — все это она делает бесстрастно, добросовестно и основательно, потом, взглянув на меня, опять советует (или приказывает?) пройти в соседний вагон. Беру чемодан и отправляюсь согласно указанию; иду через сумеречные купе и, пока я осторожно лавирую между узлов и вытянутых ног, меня сопровождает многоголосый храп и шумное дыхание. Это царство заколдованной спящей красавицы, вход в которое охраняет энергичная проводница с желтым флажком-палицей.
В следующем вагоне действительно гораздо меньше народу, и в поисках свободного купе я замечаю знакомое лицо — Язеп.
— Давайте сюда, — приглашает он, освобождает место против себя и, усмехнувшись, вполголоса добавляет: — Вдвоем спать надежней.
Он подкладывает под голову шапку, пушистую и, наверно, мягкую, как подушка, накрывается пальто, подбивает и меня лечь, сетует, что помнет брюки, но «искусство требует жертв», и вскоре начинает зевать. Я слышу его ровное дыхание и мерный стук колес под нами.
Клипата-клипата, клипата-клипата…
Мне не спится. Окно вагона, точно темное гладкое зеркало, за которым ночью не видно ничего, будто мы едем по туннелю. А когда я вплотную придвигаюсь к нему, ощущая лицом прохладу стекла, из темноты выплывают равнинные снежные поля, которые сменяет лесной город с крутыми двускатными крышами елей.
В соседнем купе кто-то разговаривает. Во сне или наяву?
И снова замолкает.
Гулким басом поезд грохочет по мосту, под которым в белых берегах течет тушь, мелькает огонек переезда, мимо проплывает тусклый фонарь в сторожевой будке, загорается одно, другое окно на хуторах. Уже утро. Только летом оно встает звенящее и бодрое, как звон будильника, а сейчас просыпается вялое, нескладное и заспанное, как медведь.
Мы останавливаемся на станции и снова едем.
На небосклоне замечаю мерцающую точку. Сигнальный огонек мигает мне, как глаз, лукаво и дружески, один-одинешенек на сизо-сером небе, точь-в-точь как вчера вечером, когда я медленно шагал в Дзеги. Почти незаметно он удаляется в том же направлении, в каком идет наш поезд, пока не тает и не скрывается за горизонтом, — утренний самолет на Ригу. Какая короткая и какая длинная ночь! Короткая, как все, что уже минуло, и длинная, как… Неужели действительно все минуло и больше ничего не будет, одна абсолютная, глубокая вечная тьма?
Клипата-клипата, клипата-клипата…
Ритмичный перестук на стрелках, ритмичные вздохи, мирные поля и тихие заснеженные леса. Закрываю глаза: передо мной только белый, испещренный следами утоптанный перрон с двумя черными неподвижными фигурками вдали. Оба темных силуэта словно скользят мне навстречу, очертания их становятся все отчетливей, я вижу прилизанную голову и лоснящуюся спину Барона, Аннино пальто, ее лицо. Сквозь веки свет от вагонной лампы сочится тусклый и почти нереальный, как в речном омуте, и в этом свете Анна ко мне приближается, приближается, и я бегу ей навстречу молодой и сильный, я знаю, что случится чудо, и я буду жить, вопреки всему…
Клипата-клипата, клипата-клипата… — выстукивают подо мной колеса, и оконное стекло легонько дрожит у щеки, постепенно нагреваясь от моего дыхания.
АННА
Я смотрю снизу вверх на двери и окна вагонов, стараясь отыскать глазами Тома, Сначала мне еще удается разглядеть какие-то лица, а потом уже нет — окна скользят, проплывают, как светлые, но слепые очи. Колеса гремят, грохочут. И вдруг вздрагивают: мне кажется — кто-то крикнул мое имя! Вслушиваюсь. Нет, наверное, это обман слуха, ничего не слышно, кроме гула уходящего поезда. Последний вагон. И все… Огонек скрывается за поворотом, только рельсы еще долго гудят, а затем звенят, как телефонные провода, и потом стихают. Тишина такая, что звенит в ушах. Ветер улегся, в воздухе ни шелеста больше, ни шороха, только изредка с крыши падает капель — тает снег. Все уехали, разошлись, один Барон сидит невдалеке от перрона, словно ожидая кого-то. Подзываю его. Пес встает и подходит ко мне совсем близко.
— Что мы теперь делать будем, а Барон? — говорю я ему. — Надо и нам идти домой.
Он слушает меня, поставив уши, и при знакомых словах «Барон» и «домой» склоняет голову набок.
— Ну, пойдем, псина!
Надеваю рукавицы, чуть намокшие; после резкого ветра вчера к вечеру погода сейчас кажется совсем тихая, теплая. Да и рано еще для зимы… Обогнув станцию, сворачиваю и неторопливо шагаю по дороге. Какая усталость во всем теле! Ноги плетутся сами по себе. Позади хрустнул снег. Оглянувшись, вижу — за мной семенит Барон. Неужели это мои собственные следы? Непомерно расплывшиеся в тающей снежной каше, длинные и широкие следы, скорее мужские, чем женские, тянутся за мной неровной цепочкой, словно тут брел путник, сгибаясь под тяжелой ношей или же слегка шатался. Где-то заворчал мотор. Прислушиваюсь, не свернет ли сюда машина, но слышно по звуку, что это либо трактор, либо снегоочиститель. Разгребет все, и дороги снова будут гладкие как стол. Ничего, потихоньку как-нибудь дойду. Пришла ведь, Значит, и обратно доберусь, не так и далеко. А летом — обернешься в два счета. Полчаса езды на велосипеде. Это только сейчас… Если бы не, выпал снег… Но я вспоминаю, как мы стояли в кружении хлопьев, как Том бежал вдогонку за Дайной, как разлетались полы пальто, как дикий виноград превратился в белое кружево, скрип деревянной лопаты за окном домишки дежурного. Всего этого не было бы. Доберусь, не так-то тяжело. Собака не отстает ни на шаг, неслышно следует за мной как тень. Иногда я о ней совсем забываю. Но всякий раз, повернув голову, неизменно снова замечаю ее. Заговариваю с ней. Она только слушает, хвостом не виляет. Протягиваю руку, хочу погладить. Она увертывается от моей руки. Она не нуждается в моей ласке, ей просто нужно хоть за кем-то идти. И собаке тоже бывает одиноко? Что же еще заставляет ее бежать за мной следом, ведь она могла бы домчать карьером напрямик, целиной…
В окнах постепенно загораются огни. Раньше всех встают доярки и шоферы. Слышно, как скрипят петли и колодезные вороты, сиплыми голосами поют петухи в курятниках и вздыхают коровы. Тащусь мимо строений и развилок, а кругом ни живой души. Когда я привычно оглядываюсь назад, Барона уже нет. Он свернул к своему хутору. Смотрю на часы: без двенадцати минут пять, самое позднее через час буду дома, печка еще не остыла со вчерашнего дня. В восемь за мной приедут из Пелечей, со свинофермы, так что еще удастся немножко вздремнуть.
Иду я так, думаю — и вдруг слышу: где-то позади рокочет машина. Из-за пригорка выныривают снопы света, я соступаю на обочину, заслышав глухой звон порожних молочных бидонов в кузове. Не успела еще поднять руку, вижу — тормозит.
— Куда чапаешь, фельдшерица, в такую рань? — окликает меня шофер, и я узнаю Вариса из «Биркавы», — Залезай, прокачу с ветерком!
«С ветерком», как он посулил, не получается, мы громыхаем по ухабам, разбрызгивая снежную слякоть. В кабине резкий запах бензина и еще чего-то — знакомого и сладкого. Он смеется над моей недогадливостью, дух, говорит, хлебный, каравай еще совсем теплый, жена поздно кончила печь. Не выпуская руль, Варис другой рукой достает узелок, отрывает бумагу, отламывает здоровый кусок с темной коркой и подает мне. Я откусываю и ем, корочка хрустит на зубах, а машина наша знай переваливается в разъезженной ложбинке с лохматыми ивами. Когда кончатся ивы, дорога пойдет в гору и там мне выходить. Мотор ревет на подъеме, в крайнем окне горит свет — мать уже встала. Варис тормозит, я благодарю, выскакиваю, захлопываю снаружи дверцу и чуть не бегом направляюсь к саду. Тропинка под снегом белая и ровная, так же как луг, мои ноги то и дело сбиваются с нее, натыкаясь на пучки травы. Я все замедляю и замедляю шаг, чувствуя, как усталость опять наливает свинцом все тело…
Дверь не заперта. Оббиваю сапоги об решетку, на которую мать накидала еловых веток. Захожу. Меня сразу обдает домашним теплом, обнимает кромешная тьма сеней с одной-единственной яркой точкой — замочной скважиной. Заслышав мои шаги, навстречу выходит мать, уже одетая.
— Ты уже встала? — удивляюсь я.
Она не отвечает ничего и, пока я раздеваюсь и разуваюсь, стоит, прислонясь к косяку и молча глядит на меня. Потом приносит и кладет передо мной шлепанцы, приносит и ставит на стол чашку, глиняный кувшин, от которого идет пар, наверно, с чаем, банку малинового варенья и чайную ложку. Мне хочется быстрее лечь в постель, но я не могу обидеть мать; сажусь, наливаю и прихлебываю чай. Она пристраивается напротив и опять только молчаливо глядит на меня. Когда не звенит ложечка о чашку, слышно, как за стеной бормочет во сне Петер. Он часто разговаривает во сне, а бывает даже поет. Иногда кажется — опять он озорничает! Пойду, хочу выругать — заснул, ничего не слышит, только губы шевелятся. Миервалдис тоже иной раз бормотал во сне, сперва я всякий раз просыпалась, а потом привыкла. Конечно, у Петера это от Миервалдиса…
— Уехала? — наконец спрашивает мать.
И я бодрым голосом принимаюсь рассказывать, что Дайна держалась молодцом, только к утру заснула, что детский вагон остановился не там, где обыкновенно, и нам пришлось бежать, что Лаума с Эдгаром вышли в тамбур навстречу и велели передать матери привет… Я умалчиваю о том, что Дайна в последний момент не хотела меня отпускать, обхватила меня за шею, и мне пришлось силой расцепить ее руки. Расцепила — и выскочила из вагона уже почти на ходу. Мать слушает, не прерывая меня вопросами, сидит такая тихая, тихая. И когда эта тишина слишком затягивается, я замечаю, что по ее обветренным коричневым щекам беззвучно катятся слезы. Не знаю, что сказать и как успокоить, и нужно ли это. Она вытирает глаза уголком передника и говорит, что надо идти в хлев по хозяйству, собирается встать, однако не встает. Да и рано уж больно, еще целый день впереди. И только когда я допиваю чашку, поднимается и она, торопит меня лечь, потому что я устала, все ноги отходила, а сама, натянув резиновые сапоги, берется за ватник.
По пути к себе захожу в комнату сына. Кровати Нормунда и Айвара пустуют, оба моих старших мальчика ночуют в интернате. Петрик больше не бормочет, только шевелится во сне. Из-под одеяла что-то выскальзывает и хлопается на пол. Дайнина кукла. Поднимаю ее, кладу на стул и выхожу на цыпочках. Раздеваюсь, как следует укрываюсь, но сон почему-то бежит от меня. Мне тепло, в головах благодушно тикает будильник, а заснуть не могу. Только закрою веки, как перед глазами рябит, мелькает. Темные следы, мерцающие освещенные окна и лица, лица… Видно, я переутомилась. Стены потрескивают. Дом старый, наверное, садится, оттого и трещит даже в безветренную погоду, а когда ветер, трещит и стреляет без перестану. Мы здесь, наверно, последнюю зиму, к будущей осени нам обещают квартиру в новом доме, а этот будто пойдет на снос. Не могу представить себе, что тут будет ровное место, может, придем — не узнаем.
Из кухни доносится приглушенный звон ведер. Мать ходила либо к колодцу, либо в хлев доить Звездуху и теперь потихоньку возится, чтобы не разбудить Петрика и меня. Вот немножко отдохну и встану. Надо ехать в Пелечи. Чуть-чуть полежу только и…
И снится мне — кричит олень.
Бао-бао-бао….
Он выходит из мглистого леса, где первые копья утреннего света уже пронзили кроны деревьев, идет на меня между стволов, глядит ясными живыми глазами и обдает теплым дыханием. Но когда я протягиваю руку, мысленно уже ощущая шелковистость мягкой шерсти, пальцы наталкиваются на грубую чешуйчатую сосновую кору.
Следую за ним, неслышно ступая по росе, однако олень все отдаляется, постепенно окутываясь дымкой, как призрак, и наконец я слышу только далекий зон, которому эхом вторит лес:
…Бао…
…ао…
…ооо…о…
Потом все смолкает, стихает, замирает, и вокруг снежным полем лежит бескрайняя белая тишина, которая поглощает голоса и шаги…
Просыпаюсь оттого, что кто-то щекочет мне пятки. Открываю глаза — это, конечно, Петер. А за окном уже брезжит серый рассвет.
— Чего ты балуешься, Петрик?
— Бабушка говорит, чтоб ты вставала, а ты не встаешь. Приехал дяденька из Пелечей.
Вскакиваю и быстро одеваюсь:
— Почему не разбудили раньше?
— Бабушка не велела. Я хотел войти, а она…
Вижу, что носки у Петера совсем мокрые. Не иначе как выскочил во двор в одних тапочках.
— Небось, бегал по снегу такой полуголый?
Петер виновато поглядывает на меня.
— Немножко, — признается он и добавляет: — Мне ничуть не холодно.
— Смотри не заболей.
— Вот еще! — отвечает он таким тоном, что меня поневоле смех разбирает. Петер, откинув голову, тоже смеется, и его щеки раскраснелись от утренней свежести, как два яблока.
АВТОР
Поезд приближается к Риге, Язеп все еще спит, накрывшись пальто и подложив под голову шапку, — спит, словно дома, в своей постели. Тряска его, как видно, ничуть не тревожит, напротив — даже укачивает. Задремал и Том. Во сне лицо у него очень спокойное и даже красивое: высокий лоб, прямой нос, чувственный рот. Пускай отдыхает и он, а мы тихонько пойдем дальше. Когда поезд прибудет, проводница наверняка поднимет всех, кто сам до того не встанет.
Давайте пройдем в детский вагон. Дайна совсем замучила Лауму с Эдгаром — никак с ней не сладить, хнычет, пищит. Ни на какие уговоры не поддается: и новую куклу ей обещали, не подействовало — вот беда-то! — и магический, всемогущий зоопарк. А чуть только задремав, она просыпается, зовет Анулю. Лаума с Эдгаром, усталые, сонные и оттого раздраженные, вполголоса рассуждают о том, что Анна все-таки вконец избаловала Дайну, что плохо, когда ребенок вынужден жить у чужих (они так и говорят: «у чужих»), и хорошо, что теперь это ненормальное положение кончится.
В соседнем вагоне хлопочут Теодор и Кристина. Исконные деревенские жители, они привыкли вставать с петухами и решили сейчас устроить себе первый завтрак. Кто его знает, когда теперь придется поесть. Пока невестка чего-нибудь сварит, того и гляди ноги протянешь. Городские жить не умеют, магазины у них под боком, вот они и разбаловались. Ни тебе запасов никаких в кладовой, ничего, за каждой луковицей в лавку по три раза на день бегают, все перебирают и буханки щупают. Пес её знает, найдется ли еще хлебушко у невестки дома. Так оно будет вернее — надо подкрепиться своим. Но Кристина не была бы Кристиной и Теодор не был бы Теодором, если б и эта простая процедура, а именно — легкая закуска, прошла бы без инцидента. Как только Теодор открывает чемоданчик и начинает в нем шарить, Кристина бубнит сварливо:
— Когда чего делаешь, не зыркай по сторонам! Яйца передавишь!
— Не фырчи как горшок с кашей. Где они там у тебя, яйца?
— Ну, в этом же углу и есть. Ах, батюшки-светы, не суй ты на них банку с вареньем! Ну, чистый медведь!
Вам, читатель, возможно, подумалось сейчас, что лучше уж развестись, чем всю жизнь вот так цапаться? Заслышав это слово, супруги Олманы поднимают головы и смотрят одинаково серыми удивленными глазами.
— Милые вы мои, да с какой же стати сразу и разводиться?.. Куда ж нам и деваться тогда — сиротинушкам? — встрепенувшись, кричат они наперебой, пожалуй, впервые такие на удивление дружные и согласные. Потом, немного успокоившись, Кристина забирает у него чемодан, быстро и без материальных потерь находит бутерброды с запеченной свининой, подает один ломоть Теодору, другой — Лиесме, которая едет в том же купе. Теодор протягивает руку и начинает медленно жевать, щелкая зубным протезом. Лиесма мотает головой. Ну, дурная девчонка, свалится еще с катушек — не спит, не ест, глаза стали как блюдца, нос вытянулся. Но раз нет — так нет. Кристина пожимает плечами и кусает хлеб.
Всю ночь бодрствует и Раса. Скрастынь, сидя напротив, давно заснул. Раса не в состоянии понять, как можно спать в такую ночь, но не будит его и только молча разглядывает сероватые волосы Скрастыня, круглое лицо, сложенные на коленях большие, широкие крестьянские руки — будто впервые их видит, и удивляется. Как и недавно Том, Раса прислушивается к монотонному перестуку колес — клипата-клипата, — и ей кажется, что она сидит верхом на коне, который, цокая копытами, несет и несет ее неизвестно куда. Она даже немножко страшится этого тревожного бега навстречу неизвестности.
«Что-то ждет меня впереди?» — думает Раса, накинув на плечи светлую шубку и глядя в окно.
Дымят трубы, кидаются снежками ребята, у переезда теснятся машины, стоит железнодорожник с флажком, осторожно переступает кошка… И поезд идет мимо всего этого.
«И что вообще такое — жизнь? Твердые комья земли и снег… Поцелуи и стоны… это и есть удивительная и трудная жизнь…»
Постепенно на горизонте проступает алая полоска зари. Теперь уж с уверенностью можно сказать, что ночь миновала. Очень длинная ночь, какие бывают поздней осенью без луны и без звезд, с белым отсветом первого снега. Когда взойдет солнце, начнутся другие — утренние и дневные рассказы, а наш подошел к концу.
До свидания, уважаемый читатель!