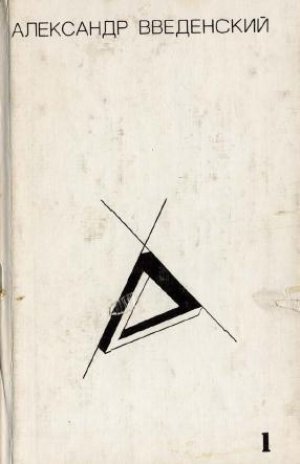
Предисловие
К началу шестидесятых годов поэзия Александра Введенского, довольно мало известная и при его жизни, казалась прочно забытой.
Успевшая потускнеть за два послевоенных десятилетия память о нескольких странных ленинградских писателях, за которыми не вполне оправданно закрепилось выразительное название «обэриуты», поддерживалась главным образом несколькими разрозненными страницами из «Случаев» Даниила Хармса и десятком стихотворений Николая Олейникова (который, кстати, членом ОБЭРИУ никогда не был). Эти вещи еще можно было встретить в нескольких ленинградских домах, но и они скорее считались курьезами домашних поэтов, пробами пера надумавших порезвиться детских писателей. Ни стихи, ни проза Введенского среди них не попадались, да и «детские» его сочинения, которыми он зарабатывал себе на хлеб, помнили в шестидесятые годы только те, у кого были дети или кто сами были детьми в тридцатые.
О «взрослых» произведениях Введенского все же кое-кто знал: Ахматова, которой Н. И. Харджаев накануне войны восторженно читал Элегию; Асеев, в начале 30-х годов публично осудивший обэриутов, а в 1938 году подаривший поэту свои «Высокогорные стихи» с надписью: «Александру Введенскому, детскому и недетскому»; В. Каверин, запомнивший впечатление от чтения Введенским своего романа Убийцы вы дураки в своем семинаре в Институте истории искусств, и, конечно, несколько уцелевших друзей. Едва ли, однако, даже те, кто помнили это имя, могли предполагать, что оно связано с одной из ярких страниц русской поэзии двадцатого века, несколько десятилетий дожидавшейся своего часа.
Казалось, этот час пробил в середине шестидесятых годов, когда Г. А. Орлов (ныне живущий в Новой Англии) и автор этих строк впервые стали перепечатывать на машинке произведения Введенского с его рукописей, сохраненных его близким другом Я. С. Друскиным (1902–1980).
Зимой 1966 г. мы посетили в Харькове вдову Введенского, у которой были найдены еще несколько важных рукописей, в том числе последней пьесы Где. Когда. Вскоре после того, по инициативе Г. Суперфина, в изданные на ротапринте материалы состоявшейся в 1967 г. в Тарту студенческой конференции включена была публикация двух стихотворений и небольших заметок о Введенском и Хармсе[1] (эти заметки, в течение нескольких лет остававшиеся едва ли не единственным печатным источником по Введенскому, пользовались на Западе, особенно в Англии и Италии, вниманием, явно превосходящим их значение). Предложенная нами довольно обширная публикация стихотворений Введенского включена была позднее в состав двухтомной антологии русской поэзии 1920-1930-х годов, которую готовила «Библиотека поэта». Дело дошло до корректуры, однако в последний момент набор был рассыпан. После этого ограничения на распространение произведений Введенского, исходившие от его друзей, надеявшихся на их издание хотя бы спустя четверть века после его гибели, были сняты, и тексты мгновенно разошлись во множестве копий (часто, увы, дефектных). В Ленинграде стихами Введенского особенно заинтересовались поэты и художники, близкие кругу Анри Волохонского и А. Хвостенко (особенно более молодые поэты, входившие в группу Хеленуктов); в Москве энтузиасты выпустили целую серию самиздатских публикаций под общим названием «ОБЭРИУ».
С конца 1960-х годов мы исподволь занимались подготовкой Полного собрания сочинений Введенского, изредка печатая отдельные его тексты в журналах. Тем временем интерес к имени Введенского стал возрастать и на Западе — несколько научных журналов перепечатали доступные материалы[2]. К сожалению, выпущенные под сенсационным заголовком переводы обэриутов Г. Гибиана, который воспользовался весьма неточными и не всегда правильно им понимаемыми текстами «бродячих» списков (среди них — Елки у Ивановых, дефектная русская публикация которой появилась в 1971 г.), оставляют желать много лучшего[3]. Подобный же упрек в неточности текстов, а также в их случайном подборе мы решились бы адресовать издателю вышедшего в том же 1974 г. первого собрания произведений Введенского[4] — В. Казаку, если бы последний не предупредил его, в своем любезном письме автору этих строк от 26 января 1978 г. оценивая эту книгу как сугубо предварительное «издание самиздатских случайных вещей Введенского, которыми я хотел пробить стену неизвестности этого поэта».
В основу настоящего издания положено первое полное и текстологически обоснованное собрание всех дошедших до нас произведений Введенского, выпущенное нами в издательстве «Ардис» в 1980–1984 гг[5]. Прошедшие с тех пор годы, если и не принесли каких-то сенсационных находок, позволили нам дополнить собрание ранними стихотворениями Введенского, посланными Блоку, а также тремя шуточными текстами.
Несомненно, что число дошедших до нас произведений Введенского намного меньше всего им написанного — многое безвозвратно погибло. Это объясняется многими причинами, прежде всего нестабильной жизнью поэта, которого Я. С. Друскин называет homo viator — странником, жизнью, к тому же осложненной давлением эпохи и претерпевшей много пертурбаций. При этом хорошо известно, что к своим бумагам Введенский, живший лишь очередным своим сочинением[6], относился достаточно небрежно. Имеются, однако, сведения, что по просьбе Л. С. Липавского Введенский в тридцатые годы составил рукописное собрание своих сочинений. Другую такую попытку он, как представляется, предпринимал, или собирался предпринять перед войной, когда взял все свои стихи, когда-то посылавшиеся в «Новый Леф» (об этом ниже) — у Н. И. Харджиева, и они, конечно, исчезли без следа. В результате всего этого мы не досчитываемся многих произведений. Так, Я. С. Друскин сообщает, что еще в начале тридцатых годов существовала целая тетрадь, заполненная стихами Введенского, написанными до 1922 г., — сегодня нам известно лишь семь стихотворений того периода. Участь этой тетради разделила тетрадь 1925–1927 гг., оглавление которой было переписано Хармсом; из 36 перечисленных. здесь произведений до нас полностью дошли только пять, а еще семь сохранились лишь в отдельных строках. В 1928 г. эмигрировавший художник Павел Мансуров увез с собой на Запад «один печатный лист» произведений Введенского. Однако, посетив в 1989 г. частную галерею в Ницце, где хранится Мансуровский архив, мы их не обнаружили (зато приятным сюрпризом было найти там ардисовское издание Введенского с пометками художника).
В 1926 г. Введенский и Хармс приложили свои стихи к письму, которое они написали Б. Пастернаку, — письмо сохранилось, а стихи нет. Известно, что рукописи середины тридцатых годов погибли у А. С. Ивантер, в то время жены поэта, которая их сожгла, когда узнала о его аресте. Не дошла до нас имевшая, казалось бы, много шансов сохраниться, поскольку была переписана для актеров во многих экземплярах, рукопись пьесы «Моя мама вся в часах». Не менее прискорбно исчезновение рукописи романа Убийцы вы дураки, бытование которой прослеживается до самой войны.
Из всего сказанного совершенно очевидно, что в полном виде до нас дошло не больше четверти всех так или иначе известных сочинений Введенского, около восьмидесяти известны только названиями или отдельными строками, — а о достаточно большом числе его произведений вообще ничего не известно…
Во вступительной статье к предлежащему тому мы не ставим целью интерпретировать творчество Введенского, развивавшееся от ранней более или менее интересной зауми к мастерской самобытности поэта во всеоружии языкового совершенства последних лет его творчества. Наши наблюдения над некоторыми постоянными мотивами и компонентами его поэтического универсума, элементами его поэтики содержатся во вступительной статье ко второму тому, а также в примечаниях к текстам. Ограничив себя изложением немногих известных биографических фактов, каковые нам удалось установить из всех доступных источников-скудных документов и часто более богатых устных сообщений близких и современников, мы стремились дать здесь возможно более полную историю литературных движений на пути к ОБЭРИУ, в которых поэт принимал участие.
«Дверь в поэзию открыта…»
Александр Иванович Введенский родился (да простит он нам этот тон академического биографизма) в Петербурге 23 ноября (6 декабря нов. ст.) 1904 г., в день благоверного великого кн. Александра Невского, именем которого был назван. Отец его, Иван Викторович, оставлявший, по словам близких, впечатление «странное и мрачное», был экономистом; мать, Евгения Ивановна, происходившая из дворянской семьи (урожденная Поволоцкая), — известным врачом-гинекологом. В семье было еще трое детей — более любимый отцом брат Владимир, ставший адвокатом (до воины был репрессирован, однако довольно скоро вернулся домой и умер в начале семидесятых годов), и сестры — Евлалия, писавшая стихи, и Евгения, — обе умершие от туберкулеза, одна а детстве, другая — взрослой, в конце второй мировой войны. Семья жила на Съезжинской улице Петербургской (Петроградской) стороны, с которой связана и вся дальнейшая жизнь Введенского. Учился он в гимназии, потом в школе им. Л. Д. Левтовской на углу Большого проспекта и Плуталовой улицы, которую окончил в 1921 г., не сдав экзамена по русской литературе (!); там же учились старшие его на год и на два Л. С. Липавский и Я. С. Друскин, впоследствии составившие вместе с Д. И. Хармсом и Н. М. Олейниковым его ближайшее окружение. Преподавание литературы вел в гимназии Л. В. Георг[7], университетский соученик Б. М. Эйхенбаума, человек, по воспоминаниям всех его учеников, весьма примечательный, — он, в частности, интересовался фольклором, в том числе заговорами, нескладицами и сам их исполнял в своих классах, вообще культивируя в своем преподавании «смеховую» струю. Я. С. Друскин вспоминал, что во время революции он как-то раз обратил внимание своего учителя на то, что по поводу происходящих событий тот в течение дня высказал совершенно противоположные взгляды, на что он ему ответил: «Разве можно утром и вечером иметь одни и те же политические убеждения?» В старших классах гимназии Л. В. Георг осуществил постановку гоголевского «Ревизора», в которой Введенский играл Хлестакова. Помимо русской литературы, Георг особенно интересовался литературой французской и поощрял ранние опыты своего ученика М. Гордона, впоследствии переводчика французских поэтов. Знаток русской поэзии, Георг поощрял и поэтические опыты Введенского, — известно, что по крайней мере ко времени февральской революции 1917 г. (а может быть, и много раньше) последний уже писал стихи. Известно также, что и после окончания гимназии Введенский выступал там с чтением стихов, которые Георгу очень нравились. О культивировавшейся в гимназии поэтической атмосфере говорит, наконец, и то, что датированное 1920 годом стихотворение И я в моем теплом теле… дошло до нас в составе школьной антологии, включающей, вместе с описанием школьной экскурсии в Москву, стихи других учеников. О том же говорит и самый факт коллективного авторства стихотворения Мы с тобой по аллеям гуляем…, сочиненного примерно в то же время тремя школьными товарищами — Л. Липавским, В. Алексеевым и А. Введенским.
В стихотворении И я в моем теплом теле… — первом из сохранившихся поэтических текстов Введенского, хотя и отмеченном довольно смелой метафорикой, некоторой музыкальностью и настойчивой звукозаписью, — ничто еще не предвещает поразительной самобытности будущего поэта, и только подчеркнутые мотивы времени перекликаются с важнейшей темой его зрелого творчества. Любимым поэтом Введенского был тогда Блок, которому он еще успел послать свои стихи вместе с Липавским. К футуризму он в это время относился скорое иронически — вместе с тем же В. Алексеевым он принимал участие в коллективном сочинении поэмы Бык Будды — пародии на футуризм. В двадцатые годы он, однако, испытывает сильнейшее влияние футуризма — в анкете, заполненной им в 1924 г. при вступлении в Союз поэтов, он причисляет себя к футуристам. Особенно ценил Введенский поэзию Крученыха. По рассказу Н. И. Харджиева, который в тридцатые годы познакомил Введенского с Крученыхом, первый неожиданным образом повел себя во время этой встречи достаточно робко, а последний — несколько надменно; когда Введенский прочитал свои стихи, тот в ответ прочел стихотворение пятилетней девочки. Когда гости, довольно быстро распрощавшись, вышли на улицу, Введенский сказал: «А ведь ее стихи были лучше…»
Именно в связи с футуризмом имя Введенского впервые упоминается в печати в 1923 г.,-но не с классическим русским футуризмом Хлебникова, обоих Бурлюков, Маяковского, Крученыха, который автор статьи объявил «иродовыми муками еще не родившегося искусства», а неким таинственным футуризмом будущего, и в качестве его иллюстрации автор приводит несколько прозаических примеров «из произведений футуриста-Александра Введенского».
После гимназии Введенский поступает сначала на юридический факультет университета, потом, вслед за Т. А. Мейер (впоследствии Липавской), в которую был влюблен и на которой спустя некоторое время женился, на китайское отделение Восточного факультета. Вскоре Т. А. Мейер «вычищают» из университета, оставляет его и Введенский. Он где-то работает письмоводителем, а в 1921–1922 гг. на электростанции «Красный Октябрь», но подлинные его интересы лежат за пределами академических занятий и, конечно, службы. В эти годы расширяется круг поэтических, литературных связей Введенского, его контакты в мире искусства. Он часто бывает у Клюева[8], посещает Кузмина, который считает его эпохальным поэтом, — имя Введенского постоянно упоминается в кузминских дневниках двадцатых годов[9], он запечатлен на фотографии, снятой на праздновании в 1925 г. пятидесятилетия Кузмина[10], в 1927 г. Хармс в своих записных книжках упоминает о чтении Введенским стихов в присутствии Ю. Юркуна и Кузмина. Введенский знакомится с поэтом, а с середины 20-х годов режиссером и драматургом Игорем Терентьевым, творчество которого связано с футуризмом, — вместе с А. Крученыхом и И. Зданевичем он входил в тифлисскую группу «41°». В это время И. Терентьев руководит отделом фонологии, задачей которого было исследование поэтического творчества, при Институте художественной культуры (ГИНХУК, 1923–1926), возглавляемом К. Малевичем (о взаимоотношениях с Малевичем немного ниже). И. Левин, не указывая источника, пишет, что Введенский и Терентьев читали работавшим при ГИНХУКе художникам-среди которых наряду с Татлиным, Матюшиным, Мансуровым, Эндером (последний, отметим, сам писал заумные стихи и иллюстрировал книгу заумника Туфанова) были и ученики Малевича — Юдин, Суетин, — заумные «ряды слов», стараясь установить соответствие между текстами и их живописным выражением[11]. Добавим, что более всех к подобным экспериментам могла быть расположена В. Ермолаева, верная соратница Малевича, в десятые годы связанная с Ильей Здансвичем[12]. Непосредственное отношение к этому имеет, по-видимому, несколько более поздняя запись в записной книжки Даниила Хармса: «писали вещь-ряды». Итогом подобных опытов явились, по-видимому, «таблицы речезвуков» Бориса Эндера, вошедшие в книгу А. Туфанова «К зауми», которые, в свою очередь, следует соотносить с таблицами М. В. Матюшина, иллюстрирующими цветовые изменения в русле его идеи «органической культуры»[13]. Если до последнего времени о работе Терентьева в ГИНХУКе почти ничего не было известно, то сейчас она получила, наконец, некоторое освещение благодаря публикации его писем Крученыху и Зданевичу[14].
Несколько позже Введенский знакомится с другими левыми художниками-по устному свидетельству ученицы Филонова Т. Н. Глебовой — с Филоновым и его учениками.
С Хармсом, который очень скоро становится его ближайшим другом и литературным сотоварищем, Введенский и Я. С. Друскин впервые встречаются летом 1925 г. у поэта-заумника Е. И. Вигилянского. Введенский и Друскин вводят его в свой круг, куда, кроме них, входил Л. С. Липавский. Этот небольшой круг единомышленников, о котором надо сказать подробнее, существовал с начала 1922 г., хотя трое его участников были связаны, как сказано выше, с гимназических лет, а дружба Друскина с Липавским восходит к 1918 г[15]. Оба они учились после гимназии на философском факультете; по окончании университетского курса им было предложено остаться при университете при условии, что они осудят своего учителя Н. О. Лосского, к тому времени высланного (что они, разумеется, сделать отказались). Я. С. Друскин, занимавшийся, кроме того, музыкой и математикой, много лет преподавал математику в вечерней школе. В 20-30-е годы он пишет серию сочинений, среди них — «Разговоры вестников», «Исследование об этом и том», «Формулу бытия», к которых, пользуясь, в противовес традиционной философской терминологии, совершенно своеобразным языком, создаст свою оригинальную философию, оказавшую несомненное влияние на мироощущение и Введенского, и Хармса. В позднейшие годы он работает над логико-философским «Исследованием о критерии», переводит и издает книгу А. Швейцера о Бахе[16] (ему принадлежит также оригинальное исследование баховской музыки[17]) и, наконец, пишет значительное число богословских произведений, в которых прослеживается связь с протестантской школой диалектической теологии[18]. Я. С. Друскину, сохранившему после гибели Введенского и Хармса их архивы, принадлежат сочинения «Чинари», «Стадии понимания» и «Звезда бессмыслицы», где анализируется «Некоторое количество разговоров» Введенского, и множество заметок о его творчестве, выдержки из которых мы приводим и постоянно цитируем в нашем комментарии. Автор этих строк, пишущий их уже после кончины Я. С. Друскина, хотел бы выразить всю свою бесконечную ему признательность за долгие годы общения, в процессе которого изучались его собственные сочинения и наследие его погибших друзей — Хармса, Введенского и Липавского, шла работа над подготовкой их изданий и формировалось понимание автором их творчества, которым он в огромной мере Я. С. Друскину обязан.
Л. С. Липавского, погибшего в 1941 г., в ополчении, мы, к сожалению, знаем лишь по немногим его сохранившимся произведениям, среди которых назовем «Трактат о воде», «Исследование ужаса», оригинальный лингвистический трактат «Теория слов», фрагменты «О страхе», философские заметки и весьма ценные по своему материалу «Разговоры» с друзьями[19]. Его вдова, ныне покойная Т. А. Липавская, до 1931 г. бывшая женой Введенского, писала, что Л. С. Липавский «умел создать вокруг себя как бы магнитное поле… Взаимоотношения в нашем кругу строились на взаимодействии, а не на влиянии. На этом и держались наши (Введенский, Друскин, Хармс. Олейников, Липавский — и я, между прочим) встречи. Они не прерывались до 1941 года, когда оборвались по независящим от нас причинам». Т. А. Липавской — которая, в сущности, тоже была членом этого кружка и которую мы здесь многократно упоминаем и цитируем — мы также глубоко благодарны за помощь в подготовке этого издания (ею, при участии Я. С. Друскина, была, в частности, составлена картотека «Словаря языка Введенского»).
Впоследствии в этот круг, куда в 1925 г. вошел Даниил Хармс, вступает и поэт Николай Олейников, чье творчество во многом созвучно творчеству Введенского и Хармса[20]. На сегодняшний день Хармс и Олейников пользуются, кажется, наибольшей известностью не только из членов указанного круга, но и из всех участников левого литературного движения конца двадцатых годов, к которому примыкают эти поэты. Поэзия Олейникова, представляется, однако, несколько более узкой по своим масштабам, чем творчество Введенского и Хармса, связанных общностью путей в искусстве и общностью судьбы, интимной поэтической близостью. Характерно, что свои воспоминания об обоих поэтах, построенные по контрастному принципу, художник Борис Семёнов заключает словами: «Что же касается вкусов и литературных привязанностей, понимания искусства, то здесь их острые, очень определённые оценки и мнения совпадали всегда, в чём я убеждался с некоторым даже удивлением»[21].
С начала 1926 года оба поэта начинают выступать под именами чинарей, Хармс — «чинарь-взиральник», Введенский — «чинарь-авторитет бессмыслицы». По мысли Я.С. Друскина, эти имена обозначают их участие в интимном поэтическом союзе, шире — в небольшом сообществе единомышленников-друзей, в предельном значении указывают на некоторый «божественный чин»[22]. Как явствует из записных книжек Хармса, заполненных строчками из стихов его друга, в 1929 г. он считает Введенского своим учителем. Оба они буквально с момента знакомства участвуют в разнообразных организациях и группах, в детской литературе[23], в литературных сборниках. В 1925 г. Введенский, уже вместе с Хармсом, должен был выступить в так и не увидевшем света имажинистском сборнике «Необычайные свидания друзей»[24]. Оба они вступают в Ленинградский союз поэтов, которому Введенский обращает десяток стихотворений, а в 1926 г. участвуют в выпущенных союзом сборниках — «Собрание стихотворений» и «Костер».
В эти и последующие годы Введенский вместе с Хармсом принимает участие в нескольких левых группировках. Создаётся впечатление, что, примыкая к ним, Введенский в какой-то мере следовал за Хармсом, у которого был сильно развит организаторский талант и который много сил отдавал попыткам объединения усилий в формах левого движения. Так или иначе, оба они принимают деятельное участие в нескольких левых объединениях, первым из которых была возглавлявшаяся Александром Туфановым группа поэтов-заумников[25]. Туфанов, в десятые годы вполне традиционный поэт, в начале двадцатых увлекается фонологией зауми, именуемой им «непосредственным», в отличие от «прикладного», лиризмом. В области зауми он пытается найти фонические универсалии и воплотить их в собственном творчестве. Плодом этих усилий явились две книги, — первая из них, в которой обосновывается его теория зауми и частично представлены её практические образцы, носит название «К зауми. Стихи и исследование согласных фонем». Она содержит трактат «Заумие», где изучаются «фонические и музыкальные функции согласных», которые «размещаются по радуге, рассматриваемой по принципу, замеченному М. В. Матюшиным в органическом мире». Книгу эту, изданную самим автором, которой был профессиональным типографом[26], завершают уже упоминавшиеся «таблицы речезвуков» Бориса Эндера. Вторая книга — поэма «Ушкуйники» — содержит два предисловия: «Основы заумного мироощущения» и «Основы заумного творчества», а также «Декларацию», которая подписана присвоенным Туфановым хлебниковским титулом — «Председатель земного шара зауми». Этот же титул предваряет подпись Туфанова в мини-альбоме Хармса для автографов в записи, сделанная в 1925 г. По-видимому, вариант этой декларации был оглашен Туфановым под названием «Манифест» на вечере заумников, который состоялся в октябре 1925 г. с участием Хармса и Введенского, — последний выступил на нем с прозой. Анонимный отчет о вечере, сохранившийся в бумагах Хармса, содержит ряд интересных сведений. Он любопытен прежде всего пояснением упоминающейся в «Декларации» мировоззренческой «классификацией поэтов по кругу», опирающейся на «расширенное восприятие мира и непространственное восприятие времени» в традиции «зоркого видения» (зорвед) художника Матюшина и его группы, шире — в традиции русского футуризма[27] (вопрос этот имеет особое значение с точки зрения источников трактовки Введенским проблемы времени — основной проблемы его поэзии). Что касается самой классификации, то она существенна утверждением категории «искажения» и «преображения» мира[28] в творчестве воспринимающих его под углом 180–360° заумных поэтов. Сравним
в позднейшем стихотворении Введенского, которое он сам приравнивал к «философскому трактату».
Весьма интересный подтекст этих стихов — в своей собственной строке «Настоящий и весь и слышу шепот и тишину» — указал в упоминавшихся уже пометах на нашем издании Введенского П. Мансуров.
Участие в группе заумников Введенского и Хармса, объединенных к тому времени собственным «чинарским» союзом, не было ни плодотворным, ни долгим. По воспоминаниям И. Бахтерева, оба чинаря выступают за переориентацию «Ордена заумников» в группу «Левый фланг» — инициатива, окончившаяся неудачей вследствие, несомненно, малоперспективности ее состава[29]. Характерно, что еще поддерживая связь с заумниками, оба они в апреле 1926 г. обращаются с письмом к Борису Пастернаку относительно возможности напечатания своих стихов в альманахе издательства «Узел», именуя себя в этом письме «единственными левыми поэтами Петрограда». Между тем, Туфанов все еще пытается возродить на новых началах эксперименты Терентьева, к этому времени уже всецело занятого режиссурой. 24 апреля 1926 г. он обращается в ГИНХУК к Малевичу с заявлением о зачислении его «сотрудником института с предоставлением права организовать при институте Фоническую секцию». Он отмечает, что «среди ленинградских поэтов левых течений уже можно выделить группу в 4 человека, могущих вести работу в области заумного языка» — среди них он указывает Введенского и Хармса. Заявление, однако, было отклонено «ввиду того, что институт утвержден со всеми существующими в нем отделами, а новые отделы могут быть открыты только с разрешения Главнауки». За этим решением стоят, несомненно, изменившиеся обстоятельства — в 1926 г. ГИНХУКу было не до открытия новых отделов.
Более продуктивное объединение сил происходит осенью 1926 г. в ходе работы над постановкой на театре «Радикс» пьесы «Моя мама вся в часах», составленной из произведений Хармса и Введенского и получившей название по одной из недошедших вещей последнего. Хотя пьеса и была написана и даже «снесена в цензуру», многое, однако, доделывалось, дописывалось и импровизировалось на ходу. В работе «Радикса» принимают участие писатели и артисты, с которыми Введенский и Хармс сотрудничают на протяжении нескольких лет вплоть до разгрома ОБЭРИУ. Именно тогда к ним примыкает Николай Заболоцкий, в этот период творчески наиболее тесно с ними связанный, несмотря на наметившиеся с самого начала расхождения, выявившиеся в адресованных Заболоцким Введенскому «Возражениях»[30] и завершившиеся его разрывом с Введенским в 1931 г. В работе «Радикса» принимают участие Игорь Бахтерев, Борис (Дойвбер) Левин, Константин Вагинов. Не будем пересказывать здесь историю «Радикса», последовательно изложенную в многократно упоминавшихся воспоминаниях И. В. Бахтерева и дополненную режиссером «Радикса» — Г. Н. Кацманом. Отметим лишь исключительный интерес некоторых установок театра, предваряющего разнообразные поиски позднейшего театра авангарда. Это прежде всего, пользуясь словами Г. Н. Кацмана, — «установка на чистое действие, переживаемое актерами и создающими у зрителя определенное чувственное впечатление», а также синкретический характер театрального действия, объединяющего — часто при этом их пародируя — различные искусства — собственно театр, музыку, танец, слово, живопись, аттракцион. Наконец, некоторые тенденции «Радикса», развитые в позднейшей драматургии Введенского, предваряют послевоенный европейский театр абсурда[31].
На основе «Радикса» происходит сближение его инициаторов с Казимиром Малевичем[32], начинающееся с того, что он предоставляет им для репетиций помещение (Белый зал) в ГИНХУКе, с которым, как сказано, был связан Введенский. О первом посещении Малевича членами «Радикса» красочно рассказывают в специально данных нам интервью и Бахтерев, и Кацман. Зачинатели «Радикса» подали Малевичу необычное заявление, украшенное супрематическим коллажем, которое было удовлетворено на заседании правления ГИНХУКа.
Хармс, мечтавший о создании союза, который объединил бы все левые силы Ленинграда, не мог недооценивать значение участия Малевича в таком союзе. Вместе со своими товарищами по «Радиксу» он ведет с Малевичем переговоры и в конце декабря 1926 г. получает у него, как сказано в его записных книжках, «абсолютное согласие на вступление в нашу организацию». Союз не рассматривается здесь как простое объединение «Радикса» с ГИНХУКом — в записях Хармса вопрос о «связи с ГИНХУКом» выделен в отдельный пункт. Чинари — участники «Радикса» намеревались составить «основной стержень» объединенного союза с «верховной властью» в лице Малевича, Введенского, Бахтерева и Хармса. Союз предполагался иерархичным с тремя разрядами членов. При обсуждении наименования организации фигурировало старое название основанного Малевичем в 1920 г. в Витебске «Уновиса» («Утвердители нового искусства»), ставшее символом супрематизма, но по сумме причин было отвергнуто. Стороны, принимавшие участие в переговорах, обменялись заумными фразами («сколько очков под Зайцем» — «граммофон плавает некрасиво»), однако с закрытием ГИНХУКа, неизбежным после статьи «Монастырь на госснабжении», назвавшей деятельность его «юродивых обитателей» «контрреволюционной проповедью»[33], и отъездом Малевича в Польшу и Германию, ситуация никак не способствовала «консолидации левых сил в искусстве»[34]. Не вдаваясь в сопоставительный анализ поэтических установок членов ОБЭРИУ (различных у разных поэтов в разные периоды) с живописными методами Малевича и философией супрематизма, заметим лишь, что их объединяли уже радикальность как в критике различных направлений искусства, основанных на предметных связях, так и в поисках новых путей, «абсолютных смыслов», и стоящая за этими поисками «предельная бытийная устремленность». Заслуживает упоминания и то, что хотя союз с Малевичем и не состоялся, однако появившаяся годом позже и выдержанная во враждебных тонах заметка об обэриутах определяет их творчество в терминах «орнаментальных пятен звукового супрематизма».
Стремление к объединению «всех левых сил» прослеживается и в зафиксированном Хармсом в марте 1927 г. проекте «первого сборника Радикса». Если «творческий», т. е. поэтический, раздел сборника включает имена тех же чинарей — участников «Радикса», т. е. Введенского, Хармса, а также Заболоцкого, Вагинова и Туфанова (сюда же включено имя Хлебникова!), то отдел «теоретический» — конгломерат представителей различных течений. Здесь опять-таки должны были быть сообщения Л. Липавского о чинарях и В. Клюйкова о «Радиксе», которому, кроме того, посвящались сообщения его режиссера Кох-Боота (псевдоним Г. Кацмана) и С. Л. Цимбала. Наряду с этими материалами отдел должен был включить информацию о московском ЛЕФе А. Островского, а также статьи формалистов во главе со Шкловским (о Хлебникове), Б. Я. Бухштаба (о Вагинове), Л. Я. Гинзбург, В. Л. Гофмана и Н. Л. Степанова. Позже, в 1929 г., уже обэриуты приглашают формалистов участвовать в сборнике «Ванна Архимеда». Проект сборника включает, наконец, материалы о живописи (в том числе учеников Малевича из ГИНХУКа) и графике, которая должна была быть представлена Филоновым и учившимся у него немного Заболоцким, а рубрика «Об искусстве» — «западные корреспонденции Малевича». Тем временем Малевич пишет К. И. Рождественскому из Варшавы (приводим с его любезного согласия): «Дорогой Рождественский, необходимо Вам найти чинарей и сказать им, чтобы они собрали свои стихотворения. Я хочу связать их с польскими поэтами…».
Реальное объединение кристаллизуется, однако, в более узком составе. В декабре 1926 г., еще до беседы с Малевичем, в записных книжках Хармса появляется название «будущего Фланга левых», среди предполагаемых членов которого, кроме обоих чинарей, названы Бахтерев и Заболоцкий, а также участники туфановской группы заумников (перечислены также Малевич, художник В. Дмитриев и С. Л. Цимбал). «Фланг левых» переоформляется в «Левый фланг» — в только что обсуждавшемся проекте сборника «Радикса» это последнее название синонимично «Левому флангу». Те же имена перечисляются в записях, сделанных Хармсом около 10 января 1927 г., но из заумников здесь упомянут уже один Вигилянский. Согласно устным воспоминаниям И. Бахтерева, Заболоцким и Введенским была разработана декларация, которая была прочитана на диспуте после вечера Маяковского в 1927 г. в Ленинградской капелле, когда на сцену вышли Введенский, Хармс, Бахтерев и Левин; там же присутствовавший, партийный со времен гражданской войны Олейников присоединиться отказался, поскольку в зале находились «его ребята из Райкома». Подошедший к выступавшим Виктор Шкловский сказал им как будто такую фразу — «Эх вы, даже скандала устроить не умеете»…[35] По словам Бахтерева, Маяковский, с который они сумели несколько минут поговорить после диспута в артистической, предложил им написать статью о «Левом фланге» для журнала «Новый ЛЕФ». Эта статья была с помощью Бахтерева и Заболоцкого написана журналистом В. Клюйковым, однако не была опубликована. Возможно, что стихи Введенского и Хармса, хранившиеся в так называемой «корзине ЛЕФа» (архиве произведений, не представлявших для редакции особого интереса), были приложены авторами именно к этой статье. Хранившиеся у Н. И. Харджиева стихи Введенского этого времени были, как уже говорилось, возвращены им последнему по его просьбе накануне войны и, разумеется, пропали.
Попытки найти название для союза, состав которого к этому времена можно считать более или менее уже установившимся[36], прослеживаются, как некая навязчивая идея, по записным книжкам Хармса и его черновикам. «„Академия левых классиков“ — так назвались мы с пятницы 25 марта 1927 года, — записывает Хармс. — Название пришло одновременно Гаге, Игорю[37] и мне. Пришло оно у Кацманов, мы были там, чтобы писать декларацию, и вот нас осенило название». Поиски «названия» составляют сюжет одного из позднейших отрывков Хармса (конца 1929 г.):
Тетерник (входя и здороваясь): Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Камушков: Вы, однако, не очень точны. Мы ждем вас уже порядочно.
Грек: Да, да, да. Мы вас поджидаем.
Лампов: Ну говори, чего опоздал?
Тетерник (смотря на часы): Да разве я опоздал? Да, вообще-то есть… Ну ладно!
Камушков: Хорошо. Я продолжаю.
Грек: Да, да, да. Давайте, правда.
Все рассаживаются по своим местам и замолкают.
Камушков: Не говоря по нескольку раз об одном и том же, скажу: мы должны выдумать название.
Грек и Лампов: Слышали!
Камушков (передразнивая): Смышали! Вот и нужно название выдумать. Грек!
Грек встает.
Камушков: Какое ты выдумал название?
Грек: «Ныпырсытет».
Камушков: Не годится. Ну подумай сам, что же это за название такое? Не звучит, ничего не значит, глупое. — Да встань ты как следует! Ну, теперь говори: почему ты предложил это глупое название?
Грек: Да, да, да. Название, верно, не годится.
Камушков: Сам понимаешь. Садись. — Люди, надо выдумать хорошее название. Лампов!
Лампов встает.
— Какое название ты предлагаешь?
Лампов: Предлагаю: «Краковяк», или «Студень», или «Мой совок». Что? Не нравится? Ну тогда: «Вершина всего», «Глицериновый отец», «Мортира и свеча».
Камушков (махая руками): Садись! Садись![38]
В последний раз проблема «названия» возникает осенью 1927 г., когда симпатизировавший левому искусству директор Дома печати Н. П. Баскаков предложил группе принять статус одной из творческих секций Дома печати я согласился на проведение в ее рамках большого вечера-выступления[39]. В 1927 г. слово «левый» звучало, однако, уже одиозно, и, принимая группу под свою опеку и предоставляя ей сцену, Баскаков поставил условие, чтобы слово это было исключено из ее наименования. Тогда и возникло новое название: Объединение Реального Искусства, первоначально — ОБЕРИО[40]. Чтобы затушевать, по объяснению Бахтерева, стоявшие за сокращением слова, а также, как нам кажется, для придания ему большей экзотичности, Хармс настоял на замене е на э, а о на у. Именно это название, от которого было образовано наименование участников группы — «обэриуты», и отождествилось с именами бывших чинарей — Введенского и Хармса. Такое отождествление кажется нам суживающим по двум причинам. Прежде всего, сама группа ОБЭРИУ, просуществовавшая всего около двух с половиной лет, была лишь заключительным звеном в серии трансформировавшихся одно в другое творческих объединений — «Левый фланг» (заумников) — «Радикс» — «Фланг левых» — «Левый фланг» (условно — Союза поэтов) — «Академия левых классиков» и, наконец, ОБЭРИУ. Во-вторых, при том, что во всех них Введенский и Хармс играли едва ли не ведущую роль, их активность в рамках этих объединений все же никак не исчерпывает полноты их творчества, не замкнутого эпохой последнего из них — ОБЭРИУ — даже хронологически. Творчество того и другого поэта, при всех их сходствах и расхождениях, перерастает поэтику и Туфанова, обобщенную в его «Декларации Ордена заумников», и Заболоцкого, как она сформулирована в «Манифесте» ОБЭРИУ (это название закрепилось за статьей «ОБЭРИУ», опубликованной в «Афишах Дома печати» — считается, что вводная и поэтическая ее части написаны Заболоцким и потому проливают наибольший свет на его собственную поэтику). Статья провозглашает обэриутов поэтами «нового мироощущения и нового искусства», творцами «нового поэтического языка и нового ощущения жизни и ее предметов». Как когда-то в футуристических декларациях, в Манифесте много говорится об очищении «конкретного предмета» от «литературной и обиходной шелухи», от «ветхой литературной позолоты», от «мусора стародавних истлевших культур». Тем не менее здесь проницательно обращено внимание на ориентацию поэтики Введенского на «столкновение словесных смыслов» и на бессмыслицу (хотя автор не вполне логично говорит лишь о «видимости» бессмыслицы). Как бы то ни было, едва ли стоит преувеличивать применительно к творчеству Введенского значение этого текста, за последние годы много раз перепечатывавшегося и переводившегося.
Деятельность членов ОБЭРИУ протекала в русле традиций «Радикса» и в большой мере заключалась в проведении театрализованных выступлений-концертов, не прекращавшихся, впрочем, ни в эпоху «Левого фланга», ни «Академии левых классиков». В зале развешивались плакаты со знаменитыми надписями «Искусство — это шкап», «Мы не пироги» и т. п., в концертах продолжали участвовать актеры «Радикса» — фокусник Алексей Пастухов, балерина Милица Попова и другие, а также режиссер «Радикса» Кох-Боот (Г. Кацман). Наиболее эпатирующими оказывались стихи всегда ждавшего скандала Введенского, который, однако, прекрасно умел вести диспуты. Подобные выступления группы, проходившие в самых разнообразных местах — в «Кружке друзей камерной музыки»[41], в воинской части, где служил Заболоцкий, в клубах и театрах, частично описаны в мемуарах[42].
В записных книжках Хармса переписана программа «вечера в трех покусах» под названием «Василий Обэриутов», который должен был состояться в Институте истории искусств «12 Деркаребаря 1928 года». Наряду с непременным «центральным шкапом», «антрактом — катарактом» и «разными пуговицами» после диспута, программа вечера включала следующие номера:
…Дойвбер Левин — эвкалическая проза[43].
Даниил Хармс — предметы и фигуры[44].
Алексей Пастухов — то же.
Игорь Бахтерев — вилки и стихи[45].
Александр Введенский — самонаблюдение над стеной[46].
Однако обозначение даты эпатировало дирекцию, и вечер был отменен.
Апофеозом театрализованных выступлений группы явились, несомненно, «Три левых часа», состоявшиеся 24 января 1928 г. на сцене Дома печати. Программа вечера была дважды (из них один раз «вверх ногами») объявлена в вечерней «Красной газете» и включена в «Афиши Дома печати». Выпущен был также отдельный анонс для расклейки, набранный, в футуристической традиции, различными шрифтами. Наконец, «впечатляющий плакат, сделанный по просьбе Заболоцкого художниками ГИНХУКа Ермолаевой и Юдиным, был установлен на Аничковом мосту»[47].
Описание первого — поэтического — часа, на котором обэриуты читали стихи возле знаменитого обэриутского шкафа, служившего манифестацией их скандально известного лозунга, восходящего, возможно, к чеховскому «глубокоуважаемому шкафу», «искусство — это шкап», содержится в уже цитировавшихся воспоминаниях Б. Семенова, а также в мемуарах Н. Степанова и, конечно, И. Бахтерева[48]. Гвоздем программы «Три левых часа» была, однако, великолепная постановка пьесы Хармса «Елизавета Бам»[49] и осуществленная Бехтеревым, Левиным и самим Хармсом (Г. Кацман и апреле 1927 г. был арестован); Введенский здесь играл маленькую роль слуги. Сохранившийся у Н. И. Харджиева постановочный сценарий пьесы с пометами Хармса, отсылающими к различным вариантам «Радикса» (например, «Ритмический Радикс», «Торжественная мелодрама, подчеркнутая Радиксом», и др.), указывает на прямую преемственность этого спектакля по отношению к «Радиксу».
Заключительная часть вечера, посвященная кино, проводилась А. В. Разумовским[50]. Его совместный с К. Минцем фильм был смонтирован из обрывков кинолент (Разумовский работал в то время киномехаником). Фильм этот не сохранился — известно лишь, что он начинался зрелищем поезда, очень долго, в течение нескольких минут надвигающегося на зрителя. Музыкальным сопровождением служили гаммы, исполнявшиеся Бахтеревым.
Несмотря на отрицательный, хотя и выдержанный еще в сравнительно беззлобных тонах отзыв о вечере официальной критики (поэзия Введенского противопоставляется здесь «очень понятным» стихам Заболоцкого как «жуткая заумь, отзывающая белибердой»)[51], обэриуты продолжали устраивать театрализованные вечера в течение еще двух лет. Давались вечера для студентов-в ноябре 1927 г. Хармс записывает, что Клюев пригласил его и Введенского «читать стихи у каких-то студентов, не в пример прочим, довольно культурным». К «прочим» Хармс имел все основания причислить участников литературного кружка Высших курсов искусствоведения, принявших «чинарей» настолько неучтиво, что Хармсу пришлось заявить, прежде чем он покинул собрание: «Товарищи, имейте в виду, что я в конюшнях и бардаках не выступаю». За скандалом последовал доносительский фельетон в газете «Смена» с требованием исключить Хармса из Союза поэтов, утверждая, что «в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский ВУЗ с публичным домом и конюшнями». Введенский и Хармс отозвались заявлением в Союз поэтов от имени Академии левых классиков, в котором, в свою очередь, назвали поведение публики хулиганским, а сакраментальную фразу Хармса — весьма меткой. Из Союза поэтов они были исключены лишь двумя годами позже — в марте 1929 г. «за неуплату членских взносов» (кстати, одновременно с О. Мандельштамом и Г. Петниковым),
Гораздо худший, приведший к разгрому ОБЭРИУ скандал — на этот раз в общежитии студентов университета — произошел весной 1930 года. Об этом вечере дает некоторое впечатление помещенная в той же «Смене» погромная статья со зловещим названием «Реакционное жонглерство. Об одной вылазке литературных хулиганов».
Доносительской статьей по поводу описанного вечера в «Смене» был положен конец концертной деятельности обэриутов. По этой статье — прекрасному образцу проработочной критики, утвердившейся в печати на последующую четверть века, — можно судить, насколько изменилась общественная обстановка за эти два года.
Если в статье «Ытуеребо» обэриуты трактуются хотя и без какого бы то ни было понимания, но все же с известной терпимостью, то статья «Реакционное жонглерство» содержит полный набор роковых формул — от обвинения «группки» обэриутов в «литературном хулиганстве» и «заумном словоблудии» до объявления их поэзии контрреволюционной, а их самих — классовыми врагами.
Примерно в то же время в журнале «Ленинград» появилась статья Н. Слепнева «На переломе», в которой об обэриутах говорилось как о «явно враждебном нашему социалистическому строительству и нашей советской революционной литературе течении».
Однако «шатания в партии» (если воспользоваться тем же языком) еще раньше наметились внутри самого ОБЭРИУ. Помимо мемуарных свидетельств, об этом говорит красноречивая запись Хармса в октябре 1928 г., ограничивающая число «действительных членов ОБЭРИУ» до четырех участников, с замечанием: «Лучше три человека, вполне связанных между собой, нежели больше, да постоянно несогласных». Однако в записных книжках отражена и противоположная линия — расширительная, идущая со времен «Радикса», когда еще казалось возможным объединение всех левых сил в искусстве. Весной 1929 г. задумывается сборник, обширное оглавление которого, зафиксированное в записных книжках Хармса, включает вместе с именами обэриутов и имена формалистов (Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Бухштаб, Гинзбург и другие), а также прозаиков Каверина, Добычина, Слеши, снова Тынянова и Шкловского; в этом сборнике Введенский является ответственным «по стихам». Из поэтов здесь названы Заболоцкий, Введенский, Хармс, Тихонов и Хлебников; Введенский и Хармс представлены также прозой, а Хармс — еще и пьесой «Елизавета Бам». Дальше в записных книжках упоминается слегка отличающийся перечень поэтов — участников «Ванны Архимеда», по поводу которого В. А. Каверин писал Л. Я. Гинзбург в Москву 1 мая 1929 г.: «Сборник, о котором вы знаете (с участием обэриутов), составляется. Есть даже предположение, что он будет напечатан в Издательстве Писателей»[52].
Спустя примерно полтора года после появления статьи «Реакционное жонглерство» на Заболоцкого, Введенского и Хармса в своем докладе на поэтической дискуссии в Союзе писателей нападает Н. Асеев. При соблюдении внешне академического стиля в этой программной речи, прочитанной 16 декабря 1931 года и вскоре опубликованной в («Красной нови» под названием «Сегодняшний день советской поэзии», он упрекает нашу группу поэтов в том, что ее «поэтическая практика далека от проблем соцстроительства». К этому времени почти все поэты обэриуты были уже арестованы (Введенский был 10 декабря снят с поезда, на котором ехал в Москву, — говорили, что его местонахождение указал властям тогдашний директор Госиздата). Одновременно у себя дома арестован был Хармс, а также И. В. Бахтерев и И. Л. Андроников; А. Туфанов, потом, после пяти лет лагерей, сосланный в Новгород, где он стал заведовать историческим кабинетом в педагогическом институте; Н. М. Воронич, художник и далекий знакомый Хармса; преподаватель П. П. Калашников, буддист по убеждениям, у которого был найден дневник (видимо, относящийся к послереволюционным годам), содержащий критические высказывания по поводу советской власти и личности Ленина. Тогда же арестованы были детская художница Е. В. Сафонова[53], художники Б. М. Эрбштейн[54] и С. М. Гершов, первый — ученик Петрова-Водкина, второй — Шагала. Отвлекаясь от академического тона, заметим, что поразительным образом, основным источником наших сведений о «деле детских писателей» является выписка, приобщенная к нашему собственному делу, когда в 1983 г. нам было предъявлено обвинение в «антисоветской агитации и пропаганде»; КГБ, видимо, решил продемонстрировать, какими плохими писателями мы занимались. Лишь тогда мы узнали, что Введенскому и Хармсу были предъявлены обвинения в контрреволюционной деятельности по статье 58–10, в частности, во «вредительстве в области детской литературы»; им инкриминировалось, что они отвлекают людей от задач строительства своими «заумными стихами». В весьма же куцей справке, выданной КГБ в марте 1991 года, говорится:
Следствием было установлено, что группа, в которую входили Ювачев-Хармс Д. И. и Введенский А. И., организовалась в 1921 году на основе контрреволюционных монархических убеждений ее участников и вступила на путь активной контрреволюционной деятельности. Первоначально она оформилась в нелегальный орден «ДСО» или «Самовщина». В 1928 году из состава «ордена» выделилась группа литераторов в составе Ювачева-Хармса Д. И., Введенского Л. И. и других, активизировавшая свою подрывную работу путем использования советской литературы в контрреволюционной деятельности среди гуманитарной интеллигенции (преимущественно литераторов и художников).
В справке же, приложенной к делу Введенского 1941 года при его пересмотре в 1964 году, содержится пересказ обвинительного заключения, согласно которому поэт, «будучи монархистом по убеждению и являясь членом руководящего ядра антисоветской группы литераторов, сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи и установки, культивировал и распространял поэтическую форму „зауми“ как способ зашифровки антисоветской агитации, сочинял и нелегально распространял антисоветские литературные произведения». Аналогичные действия инкриминировались и другим участникам «группы».
Как видим, нить тянется к 1925 году, когда Введенский и Хармс принимали участие в туфановском «Ордене заумников DSO». Квалификация же зауми как способа зашифровки антисоветской агитации может быть связана с показаниями Терентьева, арестованного в Днепропетровске 24 января 1931 г. Согласно этим показаниям, «беспредметничество», которое лежало в основе всех этих групп, начиная от группы Малевича, Мансурова, Филонова, Матюшина и кончая обэриутами во главе с Введенским и Хармсом, представляло собой, «с одной стороны, способ шифрованной передачи заграницу сведений о Советском Союзе…; с другой стороны, то же беспредметничество представляло собой идеологическую и техническую базу для контрреволюционной работы всех видов формализма (sic! — М. М.), стремившегося извращать советскую тематику…»[55]
21 марта 1932 года выездная сессия Коллегии ОГПУ «постановила… Введенского А. И. — из-под стражи освободить, лишив права проживания в 16 пунктах СССР в погранокругах сроком на три года»; Хармс же оставался под стражей еще три месяца. Обвинение по их делу было подписано В. Р. Домбровским — мужем той самой Г. Д. Левитиной, к которой обращено стихотворение Олейникова «Я влюблен в Генриетту Давыдовну…» и в чьем доме, не ведая, кто ее супруг, бывали обэриуты. В полной мере ознакомиться с делами Хармса и Введенского КГБ не предоставил нам возможности и по сей день.
Следователь по фамилии Коган (который сам был впоследствии репрессирован и расстрелян), не знавший, очевидно, значения этого слова, обвинил Введенского в том, что его стихи — это «литературная литургия» (не тематика ли «время, смерть и Бог», приверженцем которой Введенский провозгласил себя еще в начале двадцатых годов, вызвала в его сознании смутные ассоциации с церковью и ее словарем?). Высказывалось, кроме того, мнение, что акция эта одной из своих сторон была репетицией той чистки в области детской литературы, которая завершилась в 1937 году травлей Маршака и разгромом его редакции[56]. Так ли это, установить невозможно, однако Введенский как будто видел на столе у следователя фотографию Маршака. По одной из версий причиной ареста Введенского был сказанный им у Е. В. Сафоновой тост за покойного императора Николая II. Впрочем, всем известный монархизм Введенского был довольно своеобразным, — он говорил, что при наследственной власти у ее кормила случайно может оказаться и порядочный человек.
Пребывание в тюрьме[57], где у Введенского на второй же день начались слуховые галлюцинации, отражено в его заметках, составивших так называемую «Серую тетрадь». Лишённый права жить в Ленинграде, он отправляется в Курск, где к нему присоединяются Эрбштейн и Сафонова. Как явствует из писем Хармсу, Введенский даже ездит «в деревню», куда его «командирует редакция газеты». 21 июня, узнав о предстоящем прибытии Хармса, первоначально приговоренного к трем годам концлагерей, замененных ссылкой, он пишет: «Сияю как лес» (Хармс язвительно переспрашивает его в следующем письмо, не значит ли это, что у него болят ноги, на что Введенский отвечает: «Это просто образное красивое выражение»). К приезду Хармса Введенский снимает для него и для себя две соседних комнаты, выходящие в сад (об этом кое-что говорится в курских записных книжках Хармса). Узнан, что Сафоновой 26 сентября сообщили, что она высылается в Вологду, Введенский спустя три дня обратился в ГПУ с просьбой перевести его туда же, и в начале октября, заехав в Ленинград, он туда переезжает. 20-го ноября Введенский снова в Ленинграде, где осматривает вместе с Хармсом «выставку всех художников». С 28 ноября по январь 1933 г. Введенский завершает ссылку в Борисоглебске, где живет, что несколько забавно, в Кривом переулке.
После возвращения из ссылки Введенский еще несколько лет живет в Ленинграде. В эти годы он не перестает писать для детей, в мае 1934 г. вступает в Союз писателей. В 1933–1934 гг. написаны некоторые его лучшие стихотворения — такие, как Мне жалко что я не зверь… и Приглашение меня подумать. В те же годы Липавский пишет «Разговоры» — род дневника, в котором сделана попытка зафиксировать беседы четырех поэтов и двух философов, составивших, как мы уже говорили, тесный круг единомышленников — Введенского, Хармса, Заболоцкого, Николая Олейникова, Я. С. Друскина и Л. Липавского[58].
Несмотря на некоторое охлаждение в отношениях между Введенским и Хармсом после совместной их жизни в курской ссылке и на небольшие расхождения внутри круга (старые претензии Заболоцкого к Введенскому вспыхивают с новой силой, и он ссорится о ним окончательно), из которого изъят был арестованный в 1937 г. Олейников, теснейшая связь между поэтами но прерывалась до конца их жизни. О царившей в этом кругу атмосфере дает представление наравне с воспоминаниями фрагмент …ясно неясно и светло…; об этом же свидетельствуют «Разговоры» Липавского. Между тем Хармс, по-прежнему поглощенный идеями групп и союзов, в записи от 20 сентября 1934 г. замечает о невозможности «тройственного союза» с Липавским и Введенским — впрочем, однако, всего лишь для «писания фильма». С другой стороны, покойный Вс. Н. Петров вспоминал, что в конце тридцатых годов Введенский и Хармс под влиянием «Игроков» Гоголя собирались писать вдвоем нечто вроде исследования философии и морали карточной игры, в частности психологии шулера. В 1933 г. Хармс отзывается о Введенском как о наиболее «демоничном» (в гетевском смысле, связанном с торжеством положительной энергии, выражающей себя, в частности, в особой одаренности) из всего круга, и в том же году — как об одном из «великих писателей», которые все «имели свою идею и считали её выше своих художественных произведений…» — среди них Блейк, Гоголь, Толстой, Хлебников.
В 1936 г. жизнь Введенского резко меняется. В Харькове, куда он заезжает в конце лета вместо с С. Михалковым по каким-то делам, связанным с детской литературой, он встречает Г. Б. Викторову, которая «убегает из дому» и становится его женой. Они уезжают на Кавказ, потом возвращаются в Харьков, где Введенский живет с тех пор, лишь наезжая в обе столицы, где его издательские дела после разгрома в 1937 г. детской редакции Маршака оставляют желать много лучшего.
Сохранившиеся письма к жене из этих поездок свидетельствуют о материальных затруднениях, усугубившихся с рождением осенью 1937 г. любимого сына Пети. Помимо работы в детской литературе Введенский зарабатывает на жизнь сочинением клоунских цирковых реприз, куплетов, миниатюр; Б. Семенов вспоминает «густо исчирканный черновик комической драмы». «Прощальное танго, в которой всё было не так просто, — одним из ее персонажей был претерпевший таинственные превращения „мужичок с козой по имени Эсмеральда“». Незадолго до начала войны Введенский писал пьесу для кукольного театра Образцова — наброски ее по сей день хранятся в архиве театра[59].
В 1938 г. Введенский жаловался Т. Липавской, что лишен какого бы то ни было круга общения в Харькове, где единственным его другом был художник Д. Л. Шавыкин, впоследствии написавший прекрасный портрет вдовы поэта. По ее словам, жизнь Введенского в Харькове была замкнута семьей, к которой он был очень привязан, а за ее пределами ограничена несколькими знакомыми жены и кругом преферансистов, с которыми он играл по вечерам.
Семья жила в одноэтажном и довольно странном доме на Совнаркомовской улице — в центре его была большая тёмная, без окон, зала, когда-то, очевидно, освещавшаяся сверху через увенчивающий дом пирамидальный стеклянный купол. Введенский был необычайно привязан к сыну, — колыбельная, которую он ему пел каждый вечер, попала в сохранившийся у его вдовы отрывок …вдоль берега шумного моря шел солдат Аз Буки Веди… По необычной для провинции петербургской привычке в течение всех пяти лет жизни в Харькове он продолжал оставаться со всеми на «вы» и не выносил матерщины. В театр Введенский не выезжал никогда, никогда не выступал на собраниях в Союзе писателей, а о литературе и стихах не говорил ни с кем и за его пределами. Кроме Шавыкина никто в Харькове его поэзии но знал, читал он мало, писал только ночью. В Харькове создана вереница его замечательных поздних произведений — начиная с пьесы Потец и кончая его последней вещью «Где. Когда», которую он уже военным летом 1941 г. читал в Москве Е. В. Сафоновой. Та же Е. В. Сафонова рассказала нам, что после выхода в 1940 г. сборника Ахматовой «Из шести книг» Введенский заново открыл для себя этого поэта и в один из своих последних приездов в Москву с увлечением читал этот сборник у нее на Плющихе. Он проницательно заметил, что включенное в эту книгу стихотворение «И упало каменное слово…». составляющее часть «Реквиема», куда оно входит под названием «Приговор», — отнюдь не любовное. Парафразируя его строки, он говорил Е. В. Сафоновой: «У меня сегодня много дела; пойти в прокуратуру, отнести передачу…». Ахматова, конечно, ошибалась, когда в одном из писем писала о враждебности к ней обэриутов[60], такое к ней отношение со свойственной ему односторонней прямолинейностью, сохранял, по воспоминаниям Н. Роскиной[61], один Заболоцкий. В 1940-м году Ахматова рассказала Л. К. Чуковской о своем интересном разговоре с Хармсом, которому она прочла поэму «Путем всея земли» и который высказал ей свои соображения о гении[62].
В конце сентября 1941 г. немцы приближались к Харькову, и семья должна была эвакуироваться. Введенский же оставался, т. к. был оставлен с несколькими другими писателями, чтобы делать какие-то «окна». Вагон для семей писателей был набит так, что уже после того, как детей как-то передали насилу протиснувшейся жене Введенского и ехавшей с ней матери, решено было остаться, чтобы через три дня следующим поездом уехать всем вместе. Детей возвратили обратно на платформу Введенскому, дамам пришлось вылезти через окно уборной (какой-то толстый украинский писатель, пытавшийся сделать то же самое, не пролез-застрял). Но дальше никакой эвакуации уже не было. Через несколько дней за Введенским пришли военные, сказавшие, что они по эвакуационный делам, и, не застав его, приказали быть назавтра дома. Наутро 27 сентября они вернулись, сделали обыск и арестовали поэта. Это был, как видно, так называемый «превентивный арест», произведенный с целью принудительной эвакуации, практиковавшийся перед приходом немцев в отношении людей, которые, как Введенский, были уже однажды репрессированы, или же просто так или иначе подозрительных. Вдова Введенского, Г. Б. Викторова, предполагала, что арест и эвакуация могли быть спровоцированы тем, что семья сошла с поезда и осталась в Харькове, но в Ленинграде месяцем раньше с подобным же обвинением-за пораженческую агитацию-был арестован Даниил Хармс, а Введенский и раньше боялся нового ареста — он очень беспокоился, когда незадолго до того его вызвали в детский сад: пасынок сказал по поводу убранного красными кумачами портрета, что Сталин похож на петуха (Где он это слышал? — Введенский объяснил, что на улице. — От кого? — Неизвестно точно, от кого).
В деле Введенского, с которым нам удалось познакомиться, имеются показания некоего Дворчика, который с чужих слов свидетельствовал, что поэт якобы говорил некоей Соколовской, что в случае угрозы занятия противником Харькова он никуда уезжать не собирается, так как он по происхождению дворянин и поэтому не опасается каких-либо репрессий со стороны немцев. Он также якобы рекомендовал ей добыть какие-либо документы, удостоверяющие ее буржуазное происхождение, и также не эвакуироваться из Харькова. Несколько позже было получено еще одно лжесвидетельство о том, что Введенский якобы не собирался уезжать, поскольку взял с собой мало вещей, а потом вместе с семьей вышел из поезда. В результате ему было предъявлено обвинение по «контрреволюционной» статье 54–10 — «в проведении антисоветских разговоров о якобы хорошем обращении немцев с населением на занятых ими территориях, в отказе эвакуироваться вместе с семьей и побуждений к этому других лиц».
7 октября жена поэта обращается и приемную НКВД с просьбой принять «вещевую и пищевую передачу» — резолюция начальника внутренней тюрьмы допускает только вещевую. После итого «и связи с обстановкой военного времени» Введенского вместе с другими заключенными этапируют вглубь страны, однако жена и дети смогли подойти к поезду, в котором его увозили, а он — перебросить ей через окно записочку.
И дальше мы не знаем почти ничего. Дата смерти, 20 декабря, указанная в реабилитационных «ксивах», хотя и выглядит достаточно реалистичной по срокам, на самом деле может быть совершенно фиктивной. Из людей, ехавших вместе с Введенским, двое вернулись после войны, но один очень скоро застрелился, а другой на все расспросы вдовы отвечал очень уклончиво и только через год ей сказал, что Введенский умер на этапе от дизентерии. Зимой 1966 г. мы встретились и Харькове с этим человеком и просили его рассказать все, что он знает о смерти Введенского. Его рассказ, чрезвычайно путаный и невнятный, содержал несколько противоречивых версий. Вопреки словам вдовы, присутствовавшей при том, как мужа увозили из Харькова, он рассказал, что их этап, около шестисот человек, сначала долго гнали до какого-то маленького городка и только там посадили в вагоны. Во время этого перехода их остановили, приказали сесть на землю и прочитали вынесенный кому-то смертный приговор «за агитацию», после чего приговоренный был расстрелян на месте. Дальше их везли через Воронеж до Казани, где многие, в том числе рассказчик, были отпущены (это снова подтверждает, что арест был превентивным). Но Введенский до Казани не доехал. В пути он заболел дизентерией и очень ослаб — кроме того, что арестантов плохо кормили, он обменивал свой паек на табак. Дальше начинаются противоречия. Сначала рассказчик сообщил, что помнит, как Введенского, мертвого или полуживого, выбросили из вагона, в котором они вместо ехали, потом, что после того, как из другого вагона выпустили на свободу «менее опасных» уголовников, Введенский вместе с другими больными переведен был туда, и о его смерти (в пути?) он узнал только в казанской пересыльной тюрьме. А по совсем глухим слухам, идущим, кажется, от другого — застрелившегося по возвращении — очевидца, ослабевший Введенский был пристрелен конвоем. Что было на самом деле — «теперь это уже трудно установить».
Спустя четверть века хлопотами Сергея Михалкова Введенский был посмертно реабилитирован «за отсутствием состава преступления» и восстановлен в правах члена Союза писателей СССР, а его наследникам выплачено «единовременное пособие в сумме 600 рублей», которые, конечно, не были лишними в семье, с приходом немцев едва не угнанной в Германию и со времени ареста Введенского не перестававшей нуждаться.
Остается сказать, что память о Введенском умерла бы вместе с его немногими уцелевшими друзьями, если бы Я. С. Друскин, будучи уже в состоянии дистрофии, не отправился через весь блокадный город на квартиру Хармса, чтобы спасти его бумаги. Здесь он встретился с женой Хармса М. В. Малич, которая жила в другом месте — в дом попала бомба, стекла были выбиты, да и оставаться в квартире после ареста мужа было небезопасно. М, В. Малич дала Я. С. Друскину чемодан, в котором он унес рукописи и с которым не расставался даже в эвакуации. Благодаря этому оказались спасены бумаги по только Хармса, но и Введенского, имевшиеся в архиве Хармса. В течение 15 лет Я. С. Друскин, все еще надеясь на возвращение своих друзей, не прикасался к архиву, и только в 50-х годах, когда никаких надежд уже не оставалось, начал его разбирать. Спустя еще десятилетие мы присоединились к нему в этой работе.
Нам осталось выразить нашу глубокую признательность всем, кто так или иначе помог нам осуществить это издание. Бесконечна наша благодарность Я. С. Друскину, который счел возможным и 1963 г., когда Введенский был почти никому не известен, познакомить нас с его наследием и вскоре после того вверить нам заботу о его издании. Мы благодарим семью поэта — его покойную вдову Г. К. Викторову и сына, П. Л. Введенского, предоставивших сохранившиеся бумаги и фотографии, и Т. Л. Липавскую, завещавшую нам свой архив, а при жизни познакомившую со своими интерпретациями. И. И. Харджиеву мы признательны за его постоянную помощь; покойные ныне Т. П. Глебова, В. В. Стерлигов, Л. Я. Гинзбург, Е. В. Сафонова, Б. К. Черный, Л. Г. Шпет, Вс. Н. Петров предоставили нам имевшиеся у них документы. Все они, а также Л. К. Чуковская, И. В. Бахтерев, Г. Н. Кацман, И. Л. Андроников, О, Н. Арбенина-Гильдебрандт, Г. С. Гор, В. А. Каверин, А. Чернявский, И. А. Рахтанов и А. В. Разумовский делились с нами воспоминаниями.
В разное время весьма полезные предложения и указания дали нам Ю. М. Лотман и 3. Г. Минц, А. Г, Левинтон, В. И. Ракитин, В. Н. Сажин, Л. Н. Чертков и И. И. Ревзин. Со своими неопубликованными работами нас познакомили Б. Ванталов, П. Неслухов и Б. Ю. Улановская. Наша совершенно особая благодарность Вл. Эрлю, чье одно лишь бесконечное терпение позволило довести это издание до конца.
Михаил Мейлах
Произведения 1926-1937
Начало поэмы*
<1926>
Минин и Пожарский*
Петров в штатском платье
Пирожник. Придушим их.
Веечка (мужской человек. Лениво-лениво). Как же нам и не плакать, когда мы они взойдут на ступеньку, посидят-поседеют, они взойдут на другую ступеньку, ещё посидят — ещё поседеют. Все кудри повылезут — черепа блестеть станут. Кто же они — а все те, кто носит штаны.
Пи-Пирожник. Где же шляпа?
Голубенчиков.
Князь Меньшиков. Пойду пройдусь мне моя колыбельная песня не нужна. На ветках пристани я вижу точно бы как бы так. Хорошо — поди сюда властитель.
Князь Меньшиков подходит.
Князь Меньшиков. (к нему). Вот хотел бы я спросить зачем здесь родственник.
Князь Меньшиков. (к нему). Хотел бы я знать: кто здесь родственник, уж не я ли. Ох, какой я знатный.
Князь Меньшиков. (к нему). Уже ли я не знатный!
Князь Меньшиков. И знали впредь.
Входит Ненцов светает и я с сигарой.
Монашки. Как чуден Днепр при тихой погоде, так ты Ненцов здесь зачем.
Ненцов. Уж не я ли зачем?
Монашки молчат и ушли.
Греков
Князь Меньшиков. Да город путевой и будто бледный.
Пирожник. Давай рыбку ловить. Вот вижу я фонарщик бежит и вопит, а за ним ангел летит и шуршит.
Минин входит, озираясь словно щит:
Пожарский. (задумчиво, как бубен):
Поезд отходит.
Греков. Где же мой башлык. О Пушкин, Пушкин.
Машинист от паровоза
Дед (из столовой, разбитый барин, цыган). Отойди позабудь свой башлык. Машенька, дай мне килек, donez муа доску с маком. Ой что же это за цифирь.
Минин. (заросши в снегах):
Факельщик. Я принужден её забыть.
Все. Будь здоров губернатор.
Губернатор (опрокинувши платок). Будь здорова губернаторская мать.
(Указав кием на два лежащих камешка):
Чиновник его особых поручений (на следующее утро после смерти чаю не пьёт всё твердит):
Варварова (болтая из колыбели голыми ногами, так что видны её пышные подмышки и пошлая грудь):
к тому же и пораженцы. Пингвинчики цып, цып, где ваш кролик.
Пингвины. Мы неизвестно чьи.
Дед
Греков
Петров в военном платье
Уральская местность. Ад.
Голос на крылышках. Что ты ласточка как хорошо поёшь сердцу больно. И поздно заснул. Я отчаянно дремала.
Плебейкин. Хорошо Варварова я тебя полюбил. Ты у меня одна.
Греков. Замёрзала крепость наша вся как есть кусочек. Ну ладно я пойду.
Они (дуэтом). Иди иди и пр.
Варварова. (отодвигаясь на скамейке). Плебейкин зачем ты ко мне всё ближе садишься — я ведь не мышь — что ты?
Плебейкин. Правда не мышь.
Варварова. Что ты опять ближе садишься — ведь я не гусь.
Плебейкин. Правда не гусь. Я тебя люблю, дай я тебя поцелую.
Погодя пришёл и Ненцов. Все они очень рано ушли.
Черти кашу из кружек варят.
Минин. (в платах). Готова ли каша?
Пожарский. (оттуда). Собачка собачка, поди-ка сюда. У борзый пёс — совсем как ложка?
Греков. Ты ли спал?
Ненцов. Я в общем спал.
Плебейкин
Комендант
Скачи, скачи через берег. Что ж вы римляне милые. Чу лоб и усы, нет движенья. Попрошу наоборот.
Ненцов. Сомнительно — я бы вас и не узнал.
Около того места где они все собрались был лес. А если повернуться кругом была мельница: плывёшь не плыву.
Прапорщик
Нерон. Римляне отомстим им за это?
Дед. Эти стихи вовсе не прапорщик читал. Я к тебе стоял спиной.
Но тут вошёл Портупеев, грозен как никогда и черен.
Пчела у него сидит на лбу, а не кузов с детьми.
Комендант (ему говорит). Гляди-ка опять римляне как им почки пришли.
Портупеев. И ладно что я тебе этого не сказал.
Комендант однажды.
Портупеев. Прошу тебя Люба уйди.
Нерон. Выпускайте зверюшек. (Побледнев — будто бы из Китая пришёл он с сестрицей. И та в очках. Сова — а живот как у будочника). Подымется кактус — опустится флейта.
Комендант обиделся. Стали на картах гадать. Люба он или нет.
Шведам усмешка и прошедшие дни. Входит крестная мать и на глазах римлян сажает овощи. Вечерело. Они же загадают и турецкий брат на помощь стоит. Ежеминутно стреляя из ружья.
Из девишника летят же скворцы. Павел сын и Егор. И.
Портупеев. Это горничные девки их нарожали.
Комендант. Гадают, Люба я или нет? Давайте спать ложиться.
Рыбак (садясь на невод). Я вам рыбы не дам. Я свою долю найду. Не на горе, не на лугу в воде.
Деревенские тёти. Что ж там и война началась.
Деревенские мужики. Да тот ли полк прошёл.
Медвежата на колёсиках (вся семья Бутылкиных). Прощайте вот мы уходим.
Ненцов с проходящими девушками в записки играть. Посмотрит брюхата, вторая хриповата, третья хромовата и Ненцов сказал: Что за девушки в этом городе какие они некрасивые и безобразные нету ни одной заманчивой солнышки и ой что же? А час посидел и сам умер. Прощай Ненцов.
Мужья напополам с девицами.
Мужья. Мы все любим сажать репку.
Девицы. А мы её стукнем молоточком.
Мужья. Прощайте на вокзале.
Девицы. Нет люди в воскресенье.
Мужья. Не хорошо так.
Девицы. Так уж надо.
Мужья. Прощайте Θома, будь здоров Никита, до свиданья Всеволод.
Девицы. Где ты Нюра наш желток.
Минин. Немного вас и мало нас.
Петров в судейском платье
Гонец-Гонец
Перщебалдеев
Путники а кто в каретке, кто в беседке, кто в шарабане, кто на метле, ну кто на зонтике, на столе, в котелке, на герани, скачут и мчатся по пустыне. Но им библейские орлы. Вот эти путники за кустами остановятся. Сядут и там сверлят свои дела. И у них дохлые семьи появляются. Они мутные как голова. И велит вам собираться поскорее да чтобы вы торопились. Там пришёл и казачок.
Папа. Который это казачок.
Мама. Наш плечистый борщок.
Казачок
Пелагея дрожащая опустилась на пупырышки и спрашивает: Кого здесь судят.
Борис Годунов. Здесь матушка не судят а казнят, т. е. печку строят.
Народ (поясу). Будь и ты великодушен. Пули-то и полетели.
Пелагея дрожащая. Не меня ли казнить будут. Вот словно люди идут. Не бубни. Душно кругом. Будний день. Вот вам барин кислых щей. Спасибошки по лбу ложкой.
Палач Миндаль. Не крути телом тварь, лучше бы ты меня гусиным жиром помазал. Что сегодня за день будний или праздник. Возле шведов нам тепло держаться и станем персики есть.
Отворили ворота да все и уехали.
Одна крестная мать в городе сидит и сапоги чистит будто дуэлянтша и рядом человек голову моет. Но тихий как старичок он её как орешек стукнет свалится и впредь не встанет. Сделай, он говорит, крестная мать мне подарок? А та ему не хочет никакого подарка делать.
Городничий, Хлестаков и Марья Антоновна с флейтой (разговаривают на уральской горке).
Марья Антоновна (поплевавши на флейту). И скажу я вам дорогой Григорий и Яковлевич Григорий, что мужчина вы белобородый и осанистый, мускулистый как эта местность, но зубами вы щёлк-щёлк, и я опрокажена. Прямо как слюна повисаю.
Городничий. Не бойтесь дорогая Фортепьянушка, ужли или нет не уж ли, а ужин, подарю я вам муфту и седьмой огонёк. Вы держите сей огонёк в придаточном положении. Там шьют вам кофту.
Хлестаков. Как смешно печёнкам. Присядем. Я чуть качаюсь.
Марья Антоновна. Си как моя флейта пищит си.
Городничий (бегает козлом ищет травки). Курчавый я, курчавый, поберегите меня детки. Я ем ловеласа.
Комендант. Довольно. С волками жить, рот не разевай.
Проходит свеча в тазу, проходит свеча в тазу, проходит свеча в тазу. Минин сидит, Пожарский сидит, Варварова поёт. Греков ползёт — все мы сидим. Кто не сидит из нас — Ненцов и Плебейкин не сидят. Вам птички людские пора бы присесть.
Полуубитый Минин. (с этажерки):
Петров в духовном платье
И я был тут. В этом Петрове все люди в лежачем и Минин и Ненцов и другие все. Это ведь не почтовый ящик. Ура.
Минин (указав на покойного спящим перстом):
Пожарский. Скольки лет жил?
Минин. Девятки лет жил.
Пожарский. Скольки лет жил?
Ответ. И сами мы словно мысли. Обрей ему бороду она стеарином пахнет. Ну вот и пишу я вам про жену, что она вас и знать позабыла и приучилась уже пищать. Она ваша жена прихожане в косичках сидит.
Бабушка. Вот какие непоседы.
Варварова. (под лампой лёжа на животе письмо пишет. Ножки-то у неё, ноги-то какие красивые):
Мейн шнеллер замочек Густав, у нас здесь родина, а у тебя там чужбина. Я очень добрая женщина, и очень хорошая, когда Гала Петер, тебе и сую в нос чернильницей. Я узел а ты просто сеял ли, сеял ли, князь Курбский от царского гнева бежал.
росчерк пера
твоя Варварова ура!
И Густав это съел сидя в ватных штанах.
Бабушка. Пойду-ка пробегусь.
Отец и говорит за столом. Мама ты бы им пошлый час сварила, калачиком на ковре бо бобо и готово. А я погляжу-ка в окно. Ведь я стервятник. Нет с длинным носом человек. Не человек а человек но впрочем помолюсь, помолюсь — в яблочко прекращусь.
И стал отец не стервец, а стал он яблоком. Нищий его зовёт яблоко, Коля его зовёт яблоко. Семья моя вся так теперь меня зовёт. Мама ты не мама а жена и задирай четверги, на что мне твои подковки.
Жена мама (в оправдание). Вот ведь и я ушла из дому. Где ты мой платочек?
Папа. Никуда ты из дому не ушла. Раз ты со мной сидишь, и в твоих ушах кремлёвские огоньки видны.
Мама. В лесу меня крокодил съел.
Минин. Мокрым перстом, не всё ли что тут?
Ненцов. Нет и ещё что-то я хотел сказать.
Мама. Уж правда меня в лесу крокодил съел? И ныне мы не живы. Поперёк поперёк тебе — иду. Вот будешь ли драться.
Отец. Я купаюсь я купаюсь извини меня извини меня я ослепший корешок я ослепший корешок, и я в котле и я в котле, я купаюсь я купаюсь извини меня.
Варварова. Ах все как струпья — пустите я прошибусь.
Пожарский (бабушке). Где же мой кисет.
Израильский народ. Твой кисет глядит на свет.
Все их собеседники. Чуть что и летит крепостная чайка.
Пловец кием пошёл на дно. Там парголовским ослом и улёгся. Думал да думал и спал. Ужасно устал. Букашкой порхает или семечком лежит или Попов ему и говорит. Греков пристань и отстань. Попова не было совсем. Греков вместо того тогда говорит, что за девишник и здесь ягодный раёк. А Варварова качаясь на качелях муноблием уже все творцы.
Маша. Давайте будем стаканами.
Дуня. Нет я желаю помидоры есть.
Θеня. У бобра живот покатый.
Коля. А ты его почти видела.
Мария Петровна. И вы отстаньте бесстыдный и безобидный.
Сергей. Давайте, давайте.
Никого же никому и останьтесь.
Пожарский (входя). А где здесь Москва?
Ненцов. Ну нет не без приятности однако о Финик Пыжик не у вас ли рыжик.
Отец. Отстань отстань Ненцов не без тебя мы все сидели. Густав ты бы опочил в ватных штанишках.
Густав. Да я может быть и опочил бы в ватных штанишках.
Рабиндранат Тагор
Каланча
Рабиндранат уходит исполнившись каши. Мы посидели на песке и видим свисли у печей глаза. Видим покойник лежит такой бородатый, что видно всё время борода растёт и нега вокруг. Брат как стихи медведь и порох. До свиданья, до свиданья мы уехали. Там в раю увидимся.
Пожарский (со шкафа):
конец
11 июля 1926.
Май-июль 1926.
Седьмое стихотворение*
Умерший
<1927>
На смерть теософки*
28 июня <1927 или 1928?>
Ответ богов*
Он
Она
Он
Он
Мы (говорим)
Боги
Жених
Боги
Мы (говорим)
Ровесник
3 января 1929
Всё*
Я. А. Заболоцкому
5 апреля 1929
Больной который стал волной*
3 мая 1929
Пять или шесть*
Фиогуров
Горский (адвокат)
Соня (летя им навстречу в странном виде)
Изотов (спешившись)
Фиогуров (кладя руку на седло)
Парень Влас
Горский (адвокат)
Соня (возвращаясь)
Изотов
Соня
Изотов (отходя в сторону и сморкаясь)
Парень Влас
Фиогуров
изъясняется понятно. Видит где конец. Очень разумно очень очень. Я голову дам на отвлеченье.
Горский (Семён Семёнович). Коллега безусловно прав. Что собственно мы имеем пять или шесть лошадей говорю намеренно приблизительно, потому что ничего точного всё равно никогда не скажешь. Четыре одежды.
Голос. Отстаньте вы с числами.
Горский (Фёдор Петрович). А ты не перебивай. Следовательно я считаю, что подсудимый не мог даже войти в ту комнату, бац доказано.
Парень Влас
Фиогуров
Горский (адвокат)
Соня
Арабский мальчик. Милостивые государыни войдите в наш сераль
Фиогуров
Изотов (спешившись)
Входят. Потом дерутся. Потом их выносят. Потом больше ничего нет.
<8–9 июня 1929>
Две птички, горе, лев и ночь*
15 июля 1929
Зеркало и музыкант*
Посвящается Н. А. Заболоцкому
В комнате темно. Перед зеркалом музыкант Прокофьев. В зеркале Иван Иванович.
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович (осваиваясь)
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Вбегающая мать
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Входящая бабушка
Иван Иванович
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Музыкант Прокофьев
Иван Иванович
Ноябрь 1929
«Человек веселый Франц…»*
<1929 или 1930>
«Снег лежит…»*
<Январь 1930>
Святой и его подчиненные*
Святой
Люди
Святой
Муравей
Святой
Люди
Первая соседка
Вторая соседка
Первая соседка
Вторая соседка
Святой
Человек на коне
Вопрос
Они
Люди
Святой
1 генерал
2 генерал
1 генерал
Святой
Люди
Святой
Люди
Бог (громко)
Святой (исчезая)
Бог
Все (исчезая)
<Март 1930>
Факт, теория и бог*
Факт
Вопрос
Ответ
Вопрос
Теория
Ответ
Бегущий волк
Душа
Факт
Кумиры
Факт
Ответ
Факт
Бог (подымаясь)
Вопрос
Ответ
конец
16 апреля 1930
Битва*
Неизвестно кто
Человек
Малютка вина
Ангел
Малютка вина
Неизвестно кто
<1930>
Значенье моря*
<1930>
Кончина моря*
Морской демон
Охотник
Я
Сановник
Голос
Ангел
Охотник
Сановник
Море
Морской демон
Охотник
Море
<1930>
Суд ушел*
<1930>
Кругом возможно Бог*
Эф сидит на столе у ног воображаемой летающей девушки. Крупная ночь.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Девушка.
Эф.
Воробей (клюющий зёрна радости).
Толпа тащится. Гуляют коровы они же быки.
Коровы.
Они же быки.
Коровы.
Голос.
Коровы они же быки спокойно уходят.
Появляется царь. Царь появляется. Темнеет в глазах.
Царь.
Палач.
Толпа.
Приговорённые.
На площади раздался страшный плач. Всем стало страшно.
Входят Эф и Девушка.
Девушка.
Эф.
Царь.
Воображаемая девушка (исчезая).
Царь.
Палач убегает.
Фомин.
Девушка.
Фомин.
Она спешит уйти.
Фомин.
(расписывается в своём отчаянном положении и с трудом бежит).
Девушка.
Фомин.
Девушка.
(Они кувыркаются).
Пётр Иванович Стиркобреев один в своей комнате жжёт поленья:
Звонит машинка, именуемая телефон.
Голос.
Стиркобреев.
Голос.
Стиркобреев.
Голос.
Стиркобреев.
Голос.
Стиркобреев.
Голос.
Стиркобреев.
Комната тухнет. Примечание: временно.
Раздаются звонки. Входят гости.
Николай Иван.
Степан Семёнов.
Мар. Натальев.
Фомин.
Стиркобреев.
Фомин.
Фомин.
Открывается дверь. Влетает озябший Метеорит:
Гости (поют).
Стиркобреев.
Фомин.
Стиркобреев.
Мария Натал.
Все (хором).
(Они пьют).
Серг. Фадеев.
Нина Картин.
Серг. Фадеев.
Нина Картин.
Серг. Фадеев.
(Все смеются. За окном сияние лент.)
Куно Петр. Фишер.
Мария Натал.
Гости.
Мария Натал.
Гости.
Стиркобреев.
Фомин.
Стиркобреев.
Паралич и метеорит.
Фомин.
Стиркобреев.
Дуэль превращается в знаменитый лес.
Порхают призраки птичек.
У девушек затянулась переписка.
Нищий.
Фомин.
Нищий.
Фомин.
Нищий.
Фомин.
Нищий.
Фомин.
Нищий (пожирая самого себя) сказал:
Фомин.
Соф. Мих.
Фомин.
Соф. Мих.
Фомин. Вы меня одобряете. Это превосходно. Вот как я счастлив.
Соф. Мих.
Фомин. Нет в туфлю. Нет в туфлю. Большего не заслуживаю. Святыня. Богиня. Богиня. Святыня.
Соф. Мих. Разя я так божественна. Нос у меня курносый, глаза щелки. Дура я, дура.
Фомин. Что вы, любящему человеку, как мне, всё кажется лучше, чем на самом деле.
Соф. Мих. Фомин золотой. Лейка моя.
Фомин её целует и берёт. Она ему конечно отдаётся. Возможно, что зарождается ещё один человек.
Соф. Мих. Ах по-моему мы что-то наделали.
Фомин. Это только кошки и собаки могут наделать. А мы люди.
Соф. Мих. Я бы хотела ещё разик.
Фомин. Мало ли что. Как я тебя люблю. Скучно что-то.
Соф. Мих. Ангел. Богатырь. Ты уходишь. Когда же мы увидимся.
Фомин. Я когда-нибудь приду.
(Они обнялись и заплакали).
Фомин пошёл на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо: «как птичка, как маленький».
Венера сидит в своей разбитой спальне и стрижёт последние ногти.
Вбегает мёртвый господин.
Вбегает мёртвый господин.
Вбегает мёртвый господин.
Вбегает мёртвый господин.
Фомин.
Венера.
Фомин.
Венера.
Фомин.
Венера чихает.
Фомин.
Венера.
Фомин.
Венера (разочар.).
Фомин. Не будем об этом говорить. Мне неприятно. Ну неспособен и неспособен. Подумаешь. Не за тем умирал, чтобы опять всё сначала.
Венера. Да уж ладно, лежи спи.
Фомин. А что будет когда я проснусь?
Венера. Да ничего не будет. Всё то же.
Фомин. Ну хорошо. Но тот свет-то я увижу наконец?
Венера. Иди ты к чертям.
Фомин спит. Венера моется и поёт:
А потому я начинаю скотскую жизнь. Буду мычать.
Фомин (просыпаясь). Это коровник какой-то, я лучше уйду.
Венера. Тебе надо штаны спустить и отрезать то, чего у тебя нет. Беги, беги.
Вбегает мёртвый господин.
Фомин.
Женщина (просыпаясь с блестящими слезами).
Фомин.
Женщина.
Девушка.
Фомин.
Женщина.
Фомин.
Женщина.
(ворочается так и сяк).
Фомин (воет).
Господь.
Фомин.
Носов.
Фомин (в испуге). Но по-моему никто не играл. Ты где был?
Носов. Мало ли что тебе показалось что не играли.
Женщина.
Фомин.
Носов (вскипая). Ты? ты скотина!
Фомин. Кто я? я? (успокаиваясь). Мне всё равно (уходит).
Носов. Фомина надо лечить. Он сумасшедший, как ты думаешь?
Женщина.
Фомин (возвращаясь). Я сразу сказал: у земли невысокая стоимость.
Носов. Ты бедняга не в своём уме.
(Они тихо и плавно уходят).
Фомин.
Народы.
Фомин.
Народы.
Затычкин.
Фомин.
Речь Фомина.
Народ.
После этого Фомин пошёл в тёмную комнату, где посредине была дорога.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Остроносов.
Фомин.
Предметы (бормочут).
Фомин.
Бурнов.
Фомин.
Бурнов.
Фомин.
<1931>
Куприянов и Наташа*
Куприянов и его дорогая женщина Наташа проводив тех свиных гостей укладываются спать.
Куприянов снимая важный галстук сказал:
Наташа (снимая кофту).
Куприянов (снимая пиджак).
Наташа (снимая юбку).
На стульях между тем стояли весьма серебряные кубки, вино чернело как монах
и шевелился полумёртвый червь.
Куприянов (снимая брюки).
Наташа (снимая штаны).
Куприянов (снимая нижние штаны).
Наташа (снимая рубашку).
И шевелился полумёртвый червь,
кругом ничто не пело,
когда она показывала хитрое тело.
Куприянов (снимая рубашку).
Меж тем они вдвоём обнялись,
к постели тихой подошли.
ей Куприянов говорит.
Она ложится и вздымает ноги,
и бессловесная свеча горит.
Наташа.
А чёрная квартира
над ними издали мгновенно улыбалась.
Куприянов.
Наташа.
Куприянов (сидя на стуле в одиноком наслаждении).
Дремлет полумёртвый червь.
Наташа (надевая рубашку).
Куприянов (надевая рубашку).
Наташа (надевая штаны).
Куприянов (надевая нижние штаны).
Зевает полумёртвый червь.
Наташа (надевая юбку).
Стояла ночь. Была природа.
Зевает полумёртвый червь.
Куприянов (надевая брюки).
Наташа (надевая кофту).
Куприянов (надевая пиджак).
Он становится мал-мала меньше и исчезает.
Природа предаётся одинокому наслаждению.
<Сентябрь 1931>
Мир*
ДЕМОН.
НЯНЯ.
ЧЕЛОВЕК.
ВЕРБЛЮД.
ДУРАК-ЛОГИК.
СМЕРТЬ.
УБИЙЦЫ.
НЯНЬКИ.
ОН.
ЗВЕРИ ПЛАЧА.
ДЕМОН.
ЛЯГУШКА.
ВИСЯЩИЕ ЛЮДИ.
НЯНЬКА.
ТАПИР.
МЕТЕОР.
ЭПИЛОГ.
<1931?>
Гость на коне*
<1931–1934>
Четыре описания*
Зумир.
Кумир.
Зумир.
Кумир.
Зумир.
Кумир.
Зумир.
Чумир.
Тумир.
Кумир.
Тумир.
Кумир.
Тумир.
3-й умир.(ающий).
1-й умир.(ающий).
3-й умир.(ающий).
1-й умир.(ающий).
3-й умир.(ающий).
1-й умир.(ающий).
2-й умир.(ающий).
3-й умир.(ающий).
4-й умир.(ающий).
2-й умир.(ающий).
1-й умир.(ающий).
Кумир.
1-й умир.(ающий).
4-й умир.(ающий).
Зумир.
Чумир.
Кумир.
<1931–1934>
Очевидец и крыса*
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Пока он говорит, является небольшая комната. Всё рассечено. Где ты наш мир. Ни тебя нет. Ни нас нет. На тарелках сидят Пётр Иванович Иванович Иванович, курсистка, дворецкий Грудецкий, Степанов-Песков и четыреста тридцать три испанца.
Входит Лиза или Маргарита.
Одна из двух.
Дворецкий-Грудецкий.
Она (одна из двух).
После этого три часа играла музыка.
Разные вальсы и хоралы.
Кириллов за это время успел жениться. Но чего-то ему недоставало.
Степанов-Песков.
Костомаров (историк).
Грибоедов (писатель).
Бледные на тарелке четыреста тридцать три испанца воскликнули одногласно и недружелюбно:
И тут свершилась тьма-темь. И Грудецкий убил Степанова-Пескова. Впрочем о чём тут говорить.
Все вбежали в постороннюю комнату и увидели следующую картину. Поперёк третьего стола стояла следующая картина. Представьте себе стол и на нём следующую картину.
Тут снова входит Лиза и кричит:
Все на неё закричали, все зашикали.
Потом опять стал говорить он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
Тут пришёл Козлов и стал лечиться. Он держал бруснику в руках и всё время страшно морщился. Перед ним вставали его будущие слова, которые он тем временем произносил. Но это всё было не важно. Важного в этом ничего не было. Что тут могло быть важно. Да ничего.
Потом пришёл Степанов-Терской. Он был совершенно лют. Он не был Степанов-Песков. Тот был убит. Не будем об этом забывать. Забывать об этом не надо. Да и к чему нам об этом забывать.
Фонтанов.
Маргарита или Лиза (ныне ставшая Катей).
Фонтанов.
Она.
Фонтанов.
Она.
Фонтанов.
Она.
Тут нигде не сказано, что она прыгнула в окно, но она прыгнула в окно. Она упала на камни. И она разбилась. Ох, как страшно.
Фонтанов.
Потом три часа играла музыка.
Он.
Он.
Он.
Он.
Он.
<1931–1934>
Приглашение меня подумать*
<1931–1934>
«Мне жалко что я не зверь…»*
<1934>
Сутки*
Ответ.
Вопрос.
Несуществующий ответ ласточки.
Вопрос.
Ответ ласточки.
Вопрос.
Ответ ласточки.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ласточка.
Спрашивающий.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.
<1934?>
Потец*
3 части
Сыны стояли у стенки сверкая ногами, обутыми в шпоры. Они обрадовались и сказали:
Отец, сверкая очами, отвечал им:
Сыновья, позвенев в колокольчики, загремели в свои языки:
И воскликнул отец: Пролог,
А в Прологе главное Бог.
Усните сыны,
Посмотрите сны.
Сыновья легли спать. Спрятав в карман грибы. Казалось, что стены, и те были послушны. Ах, да мало ли что казалось. Но в общем немногое и нам как и им казалось. Но чу! Что это? Отец опять непрямо отвечал на вопрос. И вновь проснувшимся сыновьям он сказал вот что, восклицая и сверкая бровями:
Сыновья, построясь в ряды, сверкая ногами, начинают танцевать кадриль. Первый сын, или он же первая пара:
Второй сын, или он же вторая пара:
Третий сын, или он же третья пара:
Отец, сверкая очами, грозно стонет:
Первый сын:
Второй сын, танцуя как верноподданный:
И третий сын, танцуя как выстрел:
Сыновья прекращают танцевать — не вечно же веселиться, и садятся молча и тихо возле погасшей кровати отца. Они глядят в его увядающие очи. Им хочется всё повторить. Отец умирает. Он становится крупным как гроздь винограда. Нам страшно поглядеть в его, что называется, лицо. Сыновья негласно и бесшумно входят каждый в свою суеверную стену.
Потец это холодный пот, выступающий на лбу умершего. Это роса смерти, вот что такое Потец.
Отец летает над письменным столом. Но не думайте, он не дух.
Отец перестаёт говорить стихами и закуривает свечу, держа её в зубах как флейту. При этом он подушкой опускается в кресло.
Входит первый сын и говорит: Не ответил же он на вопросы. Поэтому он сразу обращается к подушке с вопросом:
Подушка, она же отец:
Второй сын спрашивает второпях:
Третий сын совершенно распалён:
Первый сын:
Второй сын:
Третий сын:
Подушка, она же отец:
Тогда сыновья не смогли отказать этой потрясённой просьбе отца. Они стали гуртом как скот и спели всеобщую песню.
Это был первый куплет.
Второй куплет:
Третий куплет:
И пока они пели, играла чудная, превосходная, всё и вся покоряющая музыка. И казалось, что разным чувствам есть ещё место на земле. Как чудо стояли сыновья вокруг невзрачной подушки и ждали с бессмысленной надеждой ответа на свой незавидный и дикий, внушительный вопрос: что такое Потец? А подушка то порхала, то взвивалась свечкою в поднебесье, то как Днепр бежала по комнате. Отец сидел над письменным как Иван да Марья столом, а сыновья словно зонты стояли у стенки. Вот что такое Потец.
Отец сидел на бронзовом коне, а сыновья стояли по его бокам. А третий сын то стоял у хвоста, то у лица лошади. Как видно и нам и ему, он не находил себе места. А лошадь была как волна. Никто не произносил ни слова. Все разговаривали мыслями.
Тут отец сидя на коне и поглаживая милую утку, воскликнул мысленно и засверкал очами:
Первый сын, нагибаясь, поднял с полу пятачок и простонал мысленно и засверкал ногами:
Второй сын был тоже очень омрачён, она нагнулся с другого бока и поднял дамский ридикюль. Он заплакал мыслями и засверкал ногами:
А третий сын стоя у хвоста лошади и пощипывая свои усы мыслями, засверкал ногами:
А переместясь к лицу лошади, которая была как волна, и поглаживая мыслями волосы, засверкал ногами:
Тогда отец вынул из карманов дуло одного оружия и показывая его детям, воскликнул громко и радостно, сверкая очами:
Первый сын:
Второй сын:
Третий сын:
И вдруг открылись двери рая,
И нянька вышла из сарая,
И был на ней надет чепец.
И это снова всем напомнило их вечный вопрос о том,
Что такое есть Потец.
Вмиг наступила страшная тишина. Словно конфеты лежали сыновья поперёк ночной комнаты, вращая белыми седыми затылками и сверкая ногами. Суеверие нашло на всех.
Нянька стала укладывать отца спать, превратившегося в детскую косточку. Она пела ему песню:
И пока она пела, играла чудная, превосходная, всё и вся покоряющая музыка. И казалось, что разным чувствам есть ещё место на земле. Как чудо стоят сыновья возле тихо погасшей кровати отца. Им хочется всё повторить. Нам страшно поглядеть в его, что называется, лицо. А подушка то порхала, то взвивалась свечкой в поднебесье, то как Днепр бежала по комнате. Потец это холодный пот, выступающий на лбу умершего. Это роса смерти, вот что такое Потец.
Господи, могли бы сказать сыновья, если бы они могли. Ведь это мы уже знали заранее.
<1936–1937>
Некоторое количество разговоров*
1. Разговор о сумасшедшем доме*
В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.
Первый. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом.
Второй. Что ты говоришь? я ничего не знаю. Как он выглядит.
Третий. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом.
Первый. Что в нём находится? Кто в нем живет.
Второй. Птицы в нём не живут. Часы в нём ходят.
Третий. Я знаю сумасшедший дом, там живут сумасшедшие.
Первый. Меня это радует. Меня это очень радует. Здравствуй, сумасшедший дом.
Хозяин сумасшедшего дома (смотрит в своё дряхлое окошко, как в зеркало). Здравствуйте дорогие. Ложитесь.
Карета останавливается у ворот. Из-за забора смотрят пустяки. Проходит вечер. никаких изменений не случается. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.
Первый. Вот он какой сумасшедший дом. Здравствуй, сумасшедший дом.
Второй. Я так и знал, что он именно такой.
Третий. Я этого не знал. Такой ли он именно.
Первый. Пойдёмте ходить. Всюду все ходят.
Второй. Тут нет птиц. Есть ли тут птицы.
Третий. Нас осталось немного и нам осталось недолго.
Первый. Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно. Пишите звучно.
Второй. Хорошо мы так и будем делать.
Отворяется дверь. Выходит доктор с помощниками. Все зябнут. Уважай обстоятельства места. Уважай то что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.
Первый (говорит русскими стихами).
Второй. Я выслушал эти стихи. Они давно кончились.
Третий. Нас осталось немного и нам осталось недолго.
Хозяин сумасшедшего дома (открывая своё дряхлое окошко, как форточку). Заходите дорогие, ложитесь.
В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.
2. Разговор об отсутствии поэзии*
Двенадцать человек сидело в комнате. Двадцать человек сидело в комнате. Сорок человек сидело в комнате. Шёл в зале концерт. Певец пел:
Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.
Тут все подошли к окнам и стали смотреть на ничтожный вид.
Все взглянули на леса, которые не издавали ни одного звука.
Везде и всюду стоит народ и плюётся, услышав птичье пение.
Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.
Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец умер. Что он этим доказал.
3. Разговор о воспоминании событий*
Первый. Припомним начало нашего спора. Я сказал, что я вчера был у тебя, а ты сказал, что я вчера не был у тебя. В доказательство этого я сказал, что я говорил вчера с тобой, а ты в доказательство этого сказал, что я не говорил вчера с тобой.
Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка.
Первый. Тогда я сказал: Да как же, ведь ты сидел тут на месте А, и я стоял тут на месте Б. Тогда ты сказал: Нет, как же, ты не сидел тут на месте А, и я не стоял тут на месте Б. Чтобы увеличить силу своего доказательства, чтобы сделать его очень, очень мощным, я почувствовал сразу грусть и веселье и плач и сказал: Нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких точках, на точке А и на точке Б, — пойми же.
Они оба сидели запертые в комнате. Ехали сани.
Первый. Но ты тоже охватил себя чувствами гнева, свирепости и любви к истине и сказал мне в ответ: Ты был тобою, а я был собою. Ты не видел меня, я не видел тебя. О гнилых этих точках А и Б я даже говорить не хочу.
Два человека сидели в комнате. Они разговаривали.
Первый. Тогда я сказал: (Я помню) по тому шкапу ходил, посвистывая, конюх, и (я помню) на том комоде шумел прекрасными вершинами могучий лес цветов, и (я помню) под стулом журчащий фонтан, и под кроватью широкий дворец. Вот что я тебе сказал. Тогда ты улыбаясь ответил: Я помню конюха, и могучий лес цветов, и журчащий фонтан, и широкий дворец, но где они, их нигде не видать. Во всём остальном мы почти были уверены. Но всё было не так.
Два человека сидели в комнате. Они вспоминали. Они разговаривали.
Второй. Потом была середина нашего спора. Ты сказал: Но ты можешь себе представить, что я был у тебя вчера. А я сказал: Я не знаю. Может быть и могу, но ты не был. Тогда ты сказал, временно совершенно изменив своё лицо: Как же? как же? я это представляю. Я не настаиваю уже, что я был, но я представляю это. Вот вижу ясно. Я вхожу в твою комнату и вижу тебя — ты сидишь то тут то там и вокруг висят свидетели этого дела картины и статуи и музыка.
Два человека сидели запертые в комнате. На столе горела свеча.
Второй. Ты очень, очень убедительно рассказал всё это, отвечал я, но я на время забыл что ты есть, и все молчат мои свидетели. Может быть поэтому я ничего не представляю. Я сомневаюсь даже в существовании этих свидетелей. Тогда ты сказал, что ты начинаешь испытывать смерть своих чувств, но всё-таки, всё-таки (и уже совсем слабо) всё-таки, тебе кажется, что ты был у меня. И я тоже притих и сказал, что всё-таки, мне кажется, что как будто бы ты и не был. Но всё было не так.
Три человека сидели запертые в комнате. На дворе стоял вечер. Играла музыка. Свеча горела.
Третий. Припомним конец вашего спора. Вы оба ничего не говорили. Всё было так. Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами. Что же было верного? Спор окончился. Я невероятно удивился.
Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка. Дверь была плотно закрыта.
4. Разговор о картах*
А ну сыграем в карты, закричал Первый.
Было раннее утро. Было самое раннее утро. Было четыре часа ночи. Не все тут были из тех, кто бы мог быть, те кого не было, лежали, поглощённые тяжёлыми болезнями у себя на кроватях, и подавленные семьи окружали их, рыдая и прижимая к глазам. Они были люди. Они были смертны. Что тут поделаешь. Если оглядеться вокруг, то и с нами будет то же самое.
А ну сыграем в карты, закричал всё-таки в этот вечер Второй.
Я в карты играю с удовольствием, сказал Сандонецкий, или Третий.
Они мне веселят душу, сказал Первый.
А где же наши тот что был женщиной и тот что был девушкой? спросил Второй.
О не спрашивайте, они умирают, сказал Третий, или Сандонецкий. Давайте сыграем в карты.
Карты хорошая вещь, сказал Первый.
Я очень люблю играть в карты, сказал Второй.
Они меня волнуют. Я становлюсь сам не свой, сказал Сандонецкий. Он же Третий.
Да уж когда умрёшь, тогда в карты не поиграешь, сказал Первый. Поэтому давайте сейчас сыграем в карты.
Зачем такие мрачные мысли, сказал Второй. Я люблю играть в карты.
Я тоже жизнерадостный, сказал Третий. И я люблю.
А я до чего люблю, сказал Первый. Я готов всё время играть.
Можно играть на столе. Можно и на полу, сказал Второй. Вот я и предлагаю — давайте сыграем в карты.
Я готов играть хоть на потолке, сказал Сандонецкий.
Я готов играть хоть на стакане, сказал Первый.
Я хоть под кроватью, сказал Второй.
Ну ходите вы, сказал Третий. Начинайте вы. Делайте ваш ход. Покажите ваши карты. Давайте играть в карты.
Я могу начать, сказал Первый. Я играл.
Ну что ж, сказал Второй. Я сейчас ни о чём не думаю. Я игрок.
Скажу не хвастаясь, сказал Сандонецкий. Кого мне любить. Я игрок.
Ну, сказал Первый, — игроки собрались. Давайте играть в карты.
Насколько я понимаю, сказал Второй, мне как и всем остальным предлагают играть в карты. Отвечаю — я согласен.
Кажется и мне предлагают, сказал Третий. Отвечаю — я согласен.
По-моему это предложение относится и ко мне, сказал Первый. Отвечаю — я согласен.
Вижу я, сказал Второй, что мы все тут словно сумасшедшие. Давайте сыграем в карты. Что так сидеть.
Да, сказал Сандонецкий, что до меня— сумасшедший. Без карт я никуда.
Да, сказал Первый, если угодно — я тоже. Где карты — там и я.
Я от карт совсем с ума схожу, сказал Второй. Играть так играть.
Вот и обвели ночь вокруг пальца, сказал Третий. Вот она и кончилась. Пошли по домам.
Да, сказал Первый. Наука это доказала.
Конечно, сказал Второй. Наука доказала.
Нет сомнений, сказал Третий. Наука доказала.
Они все рассмеялись и пошли по своим близким домам.
5. Разговор о бегстве в комнате*
Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались.
Первый. Комната никуда не убегает, а я бегу.
Второй. Вокруг статуй, вокруг статуй, вокруг статуй.
Третий. Тут статуй нет. Взгляните, никаких статуй нет.
Первый. Взгляни — тут нет статуй.
Второй. Наше утешение, что у нас есть души. Смотрите, я бегаю.
Третий. И стул беглец, и стол беглец, и стена беглянка.
Первый. Мне кажется ты ошибаешься. По-моему мы одни убегаем.
Три человека сидели в саду. Они разговаривали. Над ними в воздухе возвышались птицы. Три человека сидели в зелёном саду.
Второй.
Три человека стояли на горной вершине. Они говорили стихами. Для усиленных движений не было места и времени.
Третий.
Трое стояли на берегу моря. Они разговаривали. Волны слушали их в отдалении.
Первый.
Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались. Они осматривались.
Второй. Всё тут как прежде. Ничто никуда не убежало.
Третий. Одни мы убегаем. Я выну сейчас оружие. Я буду над собой действовать.
Первый. Куда как смешно. Стреляться или топиться или вешаться ты будешь?
Второй. О не смейся! Я бегаю чтобы поскорей кончиться.
Третий. Какой чудак. Он бегает вокруг статуй.
Первый. Если статуями называть все предметы, то и то.
Второй. Я назвал бы статуями звёзды и неподвижные облака. Что до меня, я назвал бы.
Третий. Я убегаю к Богу — я беженец.
Второй. Известно мне, что я с собой покончил.
Три человека вышли из комнаты и поднялись на крышу. Казалось бы зачем?
6. Разговор о непосредственном продолжении*
Три человека сидели на крыше сложа руки, в полном покое. Над ними летали воробьи.
Первый. Вот видишь ли ты, я беру верёвку. Она крепка. Она уже намылена.
Второй. Что тут говорить. Я вынимаю пистолет. Он уже намылен.
Третий. А вот и река. Вот прорубь. Она уже намылена.
Первый. Все видят, я готовлюсь сделать то, что я уже задумал.
Второй. Прощайте мои дети, мои жёны, мои матери, мои отцы, мои моря, мой воздух.
Третий. Жестокая вода, что же шепнуть мне тебе на ухо. Думаю — только одно: мы с тобой скоро встретимся.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Первый. Я подхожу к стене и выбираю место. Сюда, сюда вобьём мы крюк.
Второй.
Третий. Ты меня заждалась замороженная река. Ещё немного, и я приближусь.
Первый. Воздух дай мне на прощанье пожать твою руку.
Второй. Пройдёт ещё немного времени и я превращусь в холодильник.
Третий. Что до меня — я превращусь в подводную лодку.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Первый. Я стою на табурете одиноко, как свечка.
Второй. Я сижу на стуле. Пистолет в сумасшедшей руке.
Третий. Деревья, те что в снегу и деревья, те что стоят окрылённые листьями, стоят в отдалении от этой синей проруби, я стою в шубе и в шапке, как стоял Пушкин, и я стоящий перед этой прорубью, перед этой водой, — я человек кончающий.
Первый. Мне всё известно. Я накидываю верёвку себе же на шею.
Второй. Да, ясно всё. Я вставляю дуло пистолета в рот. Я не стучу зубами.
Третий. Я отступаю на несколько шагов. Я делаю разбег. Я бегу.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Первый. Я прыгаю с табурета. Верёвка на шее.
Второй. Я нажимаю курок. Пуля в стволе.
Третий. Я прыгнул в воду. Вода во мне.
Первый. Петля затягивается. Я задыхаюсь.
Второй. Пуля попала в меня. Я всё потерял.
Третий. Вода переполнила меня. Я захлёбываюсь.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Первый. Умер.
Второй. Умер.
Третий. Умер.
Первый. Умер.
Второй. Умер.
Третий. Умер.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
Они сидели па крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.
7. Разговор о различных действиях*
Поясняющая мысль. Казалось бы, что тут продолжать, когда все умерли, что тут продолжать. Это каждому ясно. Но не забудь, тут не три человека действуют. Не они едут в карете, не они спорят, не они сидят на крыше. Быть может три льва, три тапира, три аиста, три буквы, три числа. Что нам их смерть, для чего им их смерть.
Но всё-таки они трое ехали на лодке, ежеминутно, ежесекундно обмениваясь вёслами, с такой быстротой, с такой широтой, что их дивных рук не было видно.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Они начали драться и били молотками друг друга по голове.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Они пьют кислоту отдыхая на вёслах. Но действительно вокруг всё непрозрачно.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй.
Третий.
Так ехали они на лодке, обмениваясь мыслями, и вёсла, как выстрелы, мелькали в их руках.
8. Разговор купцов с баньщиком*
Два купца блуждали по бассейну, в котором не было воды. Но баньщик сидел под потолком.
Два купца (опустив головы, словно быки). В бассейне нет воды. Я не в состоянии купаться.
Баньщик.
Два купца (подняв головы, словно онемели). Пойдём в женское отделение. Я тут не в состоянии купаться.
Баньщик. (сидит под потолком, словно баньщица).
Два купца (смотрят в баню прямо как в волны). Он должно быть бесполый этот баньщик.
Входит Елизавета. Она раздевается с целью начать мыться. Два купца смотрят на неё как тени.
Два купца. Гляди. Гляди. Она крылата.
Два купца. Ну да, у неё тысячи крылышек.
Елизавета, не замечая купцов, вымылась, оделась и вновь ушла из бани. Входит Ольга. Она раздевается, верно хочет купаться. Два купца смотрят на неё как в зеркало.
Два купца. Гляди, гляди как я изменился.
Два купца. Да, да. Я совершенно неузнаваем.
Ольга замечает купцов и прикрывает свою наготу пальцами.
Ольга. Не стыдно ль вам купцы, что вы на меня смотрите.
Два купца. Мы хотим купаться. А в мужском отделении нет воды.
Ольга. О чём же вы сейчас думаете.
Два купца. Мы думали что ты зеркало. Мы ошиблись. Мы просим прощенья.
Ольга. Я женщина, купцы. Я застенчива. Не могу я стоять перед вами голой.
Два купца. Как странно ты устроена. Ты почти не похожа на нас. И грудь у тебя не та, и между ногами существенная разница.
Ольга. Вы странно говорите купцы, или вы не видели наших красавиц. Я очень красива купцы.
Два купца. Ты купаешься Ольга.
Ольга. Я купаюсь.
Два купца. Ну купайся, купайся.
Ольга кончила купаться. Оделась и вновь ушла из бани. Входит Зоя. Она раздевается, значит хочет мыться. Два купца плавают и бродят по бассейну.
Зоя. Купцы, вы мужчины?
Два купца. Мы мужчины. Мы купаемся.
Зоя. Купцы, где мы находимся. Во что мы играем?
Два купца. Мы находимся в бане. Мы моемся.
Зоя. Купцы, я буду плавать и мыться. Я буду играть на флейте.
Два купца. Плавай. Мойся. Играй.
Зоя. Может быть это ад.
Зоя кончила купаться, плавать играть. Оделась и вновь ушла из бани. Баньщик, он же баньщица, спускается из-под потолка.
Баньщик. Одурачили вы меня купцы.
Два купца. Чем?
Баньщик. Да тем что пришли в колпаках.
Два купца. Ну и что ж из этого. Мы же это не нарочно сделали.
Баньщик. Оказывается вы хищники.
Два купца. Какие?
Баньщик. Львы или тапиры или аисты. А вдруг да и коршуны.
Два купца. Ты баньщик догадлив.
Баньщик. Я догадлив.
Два купца. Ты баньщик догадлив.
Баньщик. Я догадлив.
9. Предпоследний разговор под названием один человек и война*
Суровая обстановка. Военная обстановка. Боевая обстановка. Почти атака или бой.
Первый. Я один человек и земля.
Второй. Я один человек и скала.
Третий. Я один человек и война. И вот что я ещё скажу. Я сочинил стихи о тысяча девятьсот четырнадцатом годе.
Первый. Без всяких предисловий читаю.
Второй.
Третий. Сделай остановку. Надо об этом подумать.
Первый. Присядем на камень. Послушаем выстрелы.
Второй. Повсюду, повсюду стихи осыпаются как деревья.
Третий. Я продолжаю.
Первый.
Второй. Неужели мы добрели до братского кладбища.
Третий. И тут лежат их останки.
Первый. Звучат выстрелы. Шумят пушки.
Второй. Я продолжаю.
Третий.
Первый. Описание точное.
Второй. Выслушайте пение или речь выстрелов.
Третий. Ты внёс полную ясность.
Первый. Я продолжаю.
Второй.
Третий. Да это правда, тогда была война.
Первый. В том году гусары были очень красиво одеты.
Второй. Нет уланы лучше.
Третий. Гренадеры были красиво одеты.
Первый. Нет драгуны лучше.
Второй. От того года не осталось и косточек.
Третий. Просыпаются выстрелы. Они зевают.
Первый. (выглядывая в окно, имеющее вид буквы А). Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием.
Второй. Что ж тут удивительного. Мы же не учительницы.
Третий. Идут купцы. Не спросить ли их о чём-нибудь.
Первый. Спроси. Спроси.
Второй. Откуда вы два купца.
Третий. Я ошибся. Купцы не идут. Их не видно.
Первый. Я продолжаю.
Второй. Почему нам приходит конец, когда нам этого не хочется.
Обстановка была суровой. Была военной. Она была похожей на сражение.
10. Последний разговор*
Первый. Я из дому вышел и далеко пошёл.
Второй. Ясно, что я пошёл по дороге.
Третий. Дорога, дорога, она была обсажена.
Первый. Она была обсажена дубовыми деревьями.
Второй. Деревья, те шумели листьями.
Третий. Я сел под листьями и задумался.
Первый. Задумался о том.
Второй. О своём условно прочном существовании.
Третий. Ничего я не мог понять.
Первый. Тут я встал и опять далеко пошёл.
Второй. Ясно, что я пошёл по тропинке.
Третий. Тропинка, тропинка, она была обсажена.
Первый. Она была обсажена цветами мучителями.
Второй. Цветы, те разговаривали на своём цветочном языке.
Третий. Я сел возле них и задумался.
Первый. Задумался о том.
Второй. Об изображениях смерти, о её чудачествах.
Третий. Ничего я не мог понять.
Первый. Тут я встал и опять далеко пошёл.
Второй. Ясно, что я пошёл по воздуху.
Третий. Воздух, воздух, он был окружён.
Первый. Он был окружён облаками и предметами и птицами.
Второй. Птицы, те занимались музыкой, облака порхали, предметы подобно слонам стояли на месте.
Третий. Я сел поблизости и задумался.
Первый. Задумался о том.
Второй. О чувстве жизни во мне обитающем.
Третий. Ничего я не мог понять.
Первый. Тут я встал и опять далеко пошёл.
Второй. Ясно, что я пошёл мысленно.
Третий. Мысли, мысли, они были окружены.
Первый. Они были окружены освещением и звуками.
Второй. Звуки, те слышались, освещение пылало.
Третий. Я сел под небом и задумался.
Первый. Задумался о том.
Второй. О карете, о баньщике, о стихах и о действиях.
Третий. Ничего я не мог понять.
Первый. Тут я встал и опять далеко пошёл.
Конец
<1936–1937>
Другие редакции и варианты
Некоторое количество разговоров
Фрагмент первоначальной редакции Разговора 3-го. Автограф ГПВ
<…> и стреноженный (встревоженный) как муравейник пошел дальше туда куда он шел.
Der Erstе. Припомним начало нашего спора. Я сказал, что я вчера был у тебя, а ты сказал, что я вчера не был у тебя. В доказательство этого я сказал, что Я говорил с тобой, а ты в доказательство этого сказал, что я не говорил вчера с тобой. Меж ними важно прохаживался орел. Тогда в сказал: Да как же, ведь ты сидел тут на месте А, я я стоял на месте Б. Чтобы увеличить силу своего доказательства, чтобы сделать его очень, очень мощным, я почувствовал сразу грусть и веселье и плач и сказал: нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких точках, на точке А и на точке Б, — пойми же. Но ты тоже охватил себя чувствами гнева, свирепости и любви к истине я сказал мне в ответ: ты был тобою, а я был собою. Ты не видел меня, и не видел тебя. О гнилых этих точках А и Б даже говорить не хочу. Тогда я сказал: (я помню) на том шкафу на точ<ке С> была шляпа с синими перьями, и (я помню) на том комоде <на точ>ке D была шляпа с синими перьями, и (я помню) под сту<лом и> под кроватью на точках х, у, z были шляпы с синими перьями. Тогда ты встал, ты сел, ты лег, ты умер, ты изменился, ты вновь стал прежний в скобках, и всё это произошло в одно мгновенье, и улыбаясь сказал: я помню синие перья, но где они, их нигде не видать. Во всем остальном, кроме существования синих перьев на этих точках k, x, y, z, мы были почти уверены. Но всё это было не так.
Второй. Потом была середина нашего спора. Ты сказал: Но ты можешь себе представить, что я был у тебя вчера. А я сказал: я не знаю. Может быть и могу, но ты не был, Тогда ты сказал, временно совершенно изменив свое лицо: как же? как же? Я это представляю. Я не настаиваю уже, что я был, но я представляю это. Вот вижу ясно. Я вхожу в твою комнату, и всюду вижу эти безразличные точки А Б с x y z, и ты сидишь то тут, то там, и кругом висят свидетели этого дела, картины номера и черти. Ты очень, очень убедительно рассказал всё это, отвечал я, во я на время забыл, что ты есть и все молчат мои свидетели. Может быть поэтому я ничего не представляю. Я сомневаюсь даже в существовании синих перьев. Их наверно никогда не было. Тогда ты сказал, что начинаешь испытывать смерть своих чувств, по всё таки <…>
Комментарии
Не столь многочисленные дошедшие до нас произведения Введенского представлены частично автографами, частично же машинописными списками, которые по рукописям перепечатывала почти исключительно Т. А. Липавская, до 1931 г. жена поэта. Подавляющее большинство произведений дошло в рукописях, хранившихся у Д. Хармса (которому поят передал их в 1934 г.) и спасенных Я. С. Друскиным (см. вступит, статью), — по ним, помимо специально оговоренные случаев, мы их и публикуем. Небольшая по объему, однако ценная имеющимися в них авторскими правками, часть рукописей, сохраненная вдовой поэта, Г. Б. Викторовой, также влилась в это собрание, переданное Я, С. Друскиным в Рукописный отдел ГПБ (ф. 1232). Отдельные рукописи и списки хранятся также в ИМЛИ, ИРЛИ, ЦГАЛИ и у частных лиц. Поскольку их удельный вес в наследии Введенского невелик, оговаривается №№ только этих последних, т. е. ссылки на фонд Друскина в ГПБ опускаются. Записные книжки Хармса, отрывки из которых приводятся в Примечаниях и Приложениях, хранятся в частном собрании, что также в дальнейшем не оговаривается.
В перекрестных ссылках обычно указываются номера произведений Введенского. и лишь для нескольких более обширных вещей — также и страницы. При ссылках на другие примечания в пределах одного произведения (или Приложения) употребляются обычно пометы «выше», «ниже». Знак «№» при ссылках относится исключительно к произведениям Введенского, в том числе и вошедшим о Приложение I–V; разделы же других Приложении обозначаются только цифрой, без знака «№». Цифры в квадратных скобках отсылают к соответствующим номерам Библиографии (том 2).
В первый период творчества Введенский пунктуацией не пользовался, за вычетом отдельных интонационно-смысловых знаков (вопросительного, восклицательного, двоеточия, кавычек и т. п.). Систематически поэт прибегает к знакам препинания, начиная с поэмы Кругом возможно Бог (№ 19), однако его пунктуацию можно в принципе определить как минимальную: Введенский часто опускает запятые, как правило, при обращениях, в сравнительных оборотах и т. п., что составляет один из характерных элементов его поэтики. Эти особенности мы старались по возможности сохранить. Явные описки автора и опечатки машинописи исправлены.
ГПБ — Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей и редких книг. Санкт-Петербург.
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей. Москва.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). Санкт-Петербург.
ЛГАЛИ — Ленинградский гос. архив литературы и искусства.
ПСС — Александр Введенский. Полное собрание сочинений: В 2 т. Ани Арбор, 1980–1984.
ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства. Москва.
Th. Mot. — St. Thompson. Motif-Index of Folk-Literature, vol. 1–6. Indiana University Press, 1956,
1. Начало поэмы*
Печатается по изд.: «Собрание стихотворений» [38]. В принадлежащем Вл. Эрлю экземпляре книги, содержащем ряд исправлений неизвестной рукой (возможно, рукой В. Алексеева, см. о нем примечание № 40 — поскольку поправки внесены также в текст его ст-ния), имеется очевидное исправление в одном из последних стихов: на гуслях смерть играет в рясе (вместо неправильного смерти). Кавычки, заключающие прямую речь, выделенную разрядкой, перенесены нами в колец следующего, в сравнении с печатным текстом, стиха. В ст. 16 выправлена очевидная опечатка: стенкой вместо степной.
Как и во всех произведениях этого и предшествующего времени, авторство обозначено поэтом так: Чинаръ Авто-ритет бессмыслицы александрвведенский.
Первые 13 строк под бессмысленным заголовком «Клен — авторитет бессмыслицы» перепечатаны В. Казаком (Избранное [71]; отдельно от них в книгу включены ст. 19–22).
— верьте верьте / ватошной смерти… — Отметим введение буквально с первых же строк мотива смерти, обрамляющего стихотворение (ср. на гуслях смерть играет в рясе в конце его).
— небо грозное кидает / взоры птичьи на Кронштадт… — Названия окрестностей Петербурга в поэзии Введенского представлены довольно широко.
— …уста тяжелого медведя… — Медведь — повторяющийся образ в ранней поэзии Введенского; из обширной символики этого образа имеет значение, очевидно, его связь в традиционных представлениях с потусторонним миром и периодическим возвращением из него (через отождествление с лунным и растительным циклами): уста медведя / горящие свечкою (об эсхатологическом значении свечи у Введенского см. примеч. № 2, с. 47).
2. Минин и Пожарский*
Автограф (ИРЛИ. Ф. 172, № 960). Впервые опубл. отдельным изданием Ф. И. Ингольдом [30] (неточный текст). Монолог Грекова Но вопли трудных англичан опубл.: «Костёр» [44], с разночтением и нормативной пунктуацией. Авторство обозначено как и в предыдущем ст-нии, по слова ЧИНАРЬ и АВТО- выделены заглавными буквами.
ВЕЕЧКА (мужской человек…) …мы они взойдут… — По поводу нарушения Введенским правильности грамматических категорий (с их соответствующими денотатами), в особенности рода (и пола), см. ниже, примеч. к № 29.8; другие примеры — здесь же, ниже: я бестелесный / будто гусыня сидит; наш англичанка; комендант Люба. См. также №№ 3, 19 (с. 130), 29.8 и примеч.
— КНЯЗЬ МЕНЬШИКОВ… поди сюда… Князь Меньшиков подходит. КНЯЗЬ МЕНЬШИКОВ (к нему)… родственник… — Отметим раздвоение Князя Меньшикова в «родственника»; подобные примеры мы находим и в других произведениях Введенского (см. примеч. к № 14, а также к Предпоследнему разговору, — № 29.9). Возможны широкие аналогии с исследовавшимися М. Халле и Р. Якобсоном психическими процессами, в их языковом (в частности, афатическом) выражении тяготеющими к «метонимическим».
— Как чуден Днепр при тихой погоде… — В Минине и Пожарском более, нежели а любом другом произведении Введенского, цитат и литературных реминисценций. Из других гоголевских реминисценций укажем введение персонажей «Ревизора» в Явлении 5 (с. 57, см. примеч.) и менее явную — из «Тараса Бульбы» в последних строках: отец! мундштук! кричат Тарасу. «Разговоры» Л. Липавского (Приложение VII, 39.6), а также неоднократные записи Хармса указывают на то, что в этом кругу Гоголь был одним из наиболее ценимых и почитаемых писателей.
Подобные же абсурдирующие реминисценции многочисленных литературных персонажей и исторических деятелей в названии и тексте произведения (Минин, Пожарский, князь Меньшиков, Робеспьер, Рабиндранат Тагор, Дон Жуан, граф Шереметев, Нерон, Борис Годунов, Ромен Роллан и т. п.), а также географических названий (Рига, Ржев, Печора, Припять, Урал, Вятка, Саратов и т. д.) и проч. — в Четырех описаниях (№ 23), в Ёлке у Ивановых (№ 30) и др.
итак я был убит… — Ср. далее ну вот лежу убитый; Полуубитый МИНИН… — Напрашивается аналогия к позднейшим Четырем, описаниям (№ 23), — повествованию четырех покойников о своей смерти. См. примеч.
— Где же мой башлык. О Пушкин, Пушкин — См. примеч. к № 32.
…а сам мерцаю от тоски… — По поводу этого употребительного у Введенского понятия, в его связи с «дроблением мира», см. примеч. к № 23.
— …свеча пошла дымить конец… — Здесь эксплицировано ранее уже указывавшееся (примеч. к № 1) значение свечи как эсхатологического образа, чрезвычайно употребительного в позднейшем творчестве Введенского (ср. хотя бы Четыре описания, № 23; № 29.8 и мн. др.). «Свеча упоминается иногда по нескольку раз почти в половине из примерно 40 сохранившихся вещей Введенского… Свеча обычно ритуальный или религиозный иероглиф (термин Л. С. Липавского. — М. М.), для Введенского иногда и эсхатологический, связанный с тремя темами, которые по его собственным словам интересовали его еще в 20-е годы: Время. Смерть. Бог.» — Я. С. Друскин (Здесь и далее мы цитируем неизданные комментарии Т. Л. Липавской и Я. С. Друскина — см. вступит. ст.). Соединение эсхатологических мотивов с эротическими (как мы это видим из непосредственно следующего за этим фрагмента ВАРВАРОВА… и т. д.) получает развитие в Куприянове и Наташе (№. 20).
…он чудак / носил с колючками колпак… — См. в связи с этой образностью примеч. к № 29.8.
— …утёс / который чем овёс спасет / тем был и титулован… — Некоторая выделенность синтаксической структуры бессмысленного предложения может быть осмыслена как один из аспектов поэтической актуализации грамматических категорий, в абсурдирующем тексте доходящая до нарушения их семантики (ср. примеч. к с. 45).
— …тот Пушкин был без головы… — Мотив безголовости является одним из постоянных у Введенского, — ср. №№ 5, 6, 8, 9. 19, 21 и 30. — См. также примеч. к № 32.
…медведь в берлоге нарожал ребят… — См. примеч. к № 1.
— …и костями украшает палисадника траву… — Это же соположение мы встречаем в одном из позднейших произведений Введенского: входит в тёмный палисадник, / кость сжимая в кулаке (№ 24.)
…лакей был в морде как ливрей… — Наряду с разного рода инверсионно-семантическими и трансверсионно-семантическими моделями бессмыслицы Введенский строит и модели, принципиально не трансформируемые ни до какого исходного семантически правильного высказывания. Подобная семантическая замкнутость моделей бессмыслицы у Введенского имеет в его творчестве концептуальное значение.
— …в одном окне лишь виден мир… — В связи с мотивом окна, с его отмеченным здесь значением как окна в мир, см. примеч к № 5.
Робеспьер Робеспьер / Катенька… и т. д. — Пародийное обыгрывание популярной песни «Соловей, соловей, пташечка…».
— …мужские холмы, озирал — См. примеч. к № 19
…стоит пылающий бизон… — Напрашивается аналогия с наиболее известным произведением классического сюрреализма — «Горящим жирафом» Сальвадора Дали. Эсхатологический образ свечи в следующей строке (см. выше) позволяет связать этот образ с огненным светопреставлением в конце поэмы Кругом возможно Бог (№ 19, с. 152; см. примеч.).
…навален… Ливан… семерик… смерти… — Ср. примеч. к стиху Нам свет не мил. И мир не свеж (№ 29.8).
Мужья напополам с девицами, — Интересное обыгрывание архаической модели амбейного обрядового действа в форме скрытой пародии на песню «А мы просо сеяли, сеяли…» названную однако ниже, — впрочем, после первого же обмена репликами перерождающееся в бессмыслицу.
…глядит в казненного очки / а рядом Днепр бежал и умерев / он стал обедом червачков… — Соположение мотивов мертвеца и бегущего Днепра (шире — реки, см., напр., № 23; ср. путешествие в далекую Лету — № 29.7 и прим.) мы находим в пьесе Потец (№ 28).
— житель водочку спросил., и т. д. — Шуточный парафраз известной детской песенки «Рыжий красного спросил: / Где ты бороду красил?..» и т. д.
Но им библейские орлы. — Образ орла, редкий в Пятикнижии и исторических книгах Библии, употребителен у пророков (напр… Пер. 48, 40; 49, 16 и мн. др.), где он обозначает вестника гнева Господня. Недвусмысленно эсхатологическая символика этого образа (подобную которой мы многократно встречаем у Введенского — см., напр., богоподобные орлы № 23, и особенно №№ 19, 32 и примеч., и мн. др.) прослеживается в связях между кн. пророка Иезекииля, 1, 10 и Апокалипсисом, 4, 7, достигая полноты выражения в Анок. 8,13: «И видел я и слышал единого орла (в слав, и русск. переводе — Ангела. — М.М.), летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле…»
— …здесь ведь казнь… Кого здесь судят… Здесь матушка не судят а казнят… и далее. — Сюжет суда я казни упоминается во многих произведениях Введенского, — в их числе Суд ушёл (№ 18), Кругом возможно Бог (№ 19), Ёлка у Ивановых (№ 30, карт. 8).
— КОНЕЦ СОВЕСТИ, — Простейшая модель бессмыслицы у Введенского за счет подстановки слова, созвучного с соответствующим осмысленным (здесь, очевидным образом, — повести). Ср. немного ниже аналогичную модель во фразе Вы держите сей огонёк в придаточном положении (= предложении). Ср. № 15 в примеч.
— Городничий, Хлестаков… и т. д. — См. выше. — В юности Введенский исполнял роль Хлестакова в школьном спектакле (в бывшей Лептонской гимназии).
С волками жить, рот не разевай. — Явная контаминация двух поговорок: «с волками жить — по волчьи выть» и «на чужой каравай рот не разевай».
В этом Петрове все люди в лежачем и Минин и Ненцов, и другие все — Проблема тождества личности самой себе, стабильности или текучести ее границ поэтически разрабатывается Введенским в позднейших произведениях. См. также комментарии Я. С. Друскина к № 14 и №№ 11, 13 и 25.
…Гала Петер — марка шоколада.
— …князь Курбский от царского гнева бежал, — Интересна не только сама цитация А. К. Толстого, но и то обстоятельство, что реминисценция этой строки встречается в стихотворении Заболоцкого «Офорт» («И грянул на весь оглушительный зал: / „Покойник из царского дома бежал“…»), предлагавшемся как вступительное к пьесе «Моя мама вся в часах», одним из основных авторов которой был Введенский (см. Приложение VI, 2).
— Там парголовским ослом и улёгся. — Парголово — дачная местность близ Петербурга.
Видим покойник лежит такой бородатый, что видно всё время борода растёт… — Может быть интерпретировано как указание на засмертную жизнь покойника (ср. примеч. к №№ 14, 19 и мн. др.), поскольку в традиционных представлениях рост бороды, как и вообще волос, отождествляется с жизнью. Структурно и типологически образ этот сопоставим с Потцом в одноименной пьесе (№ 28).
— …вообразим числа и фигуры сна… — См., в связи с категорией числа, примеч. к № 3. Ср. также название стихотворения Заболоцкого «Фигуры сна» (1928), вошедшего в его книгу «Столбцы».
3. Седьмое стихотворение*
Выправленная и авторизованная машинопись. Может быть датировано началом 1927 г., поскольку замыкает составленное Хармсом «Оглавление Шуркиной тетради» (см. Приложении III, №№ 79–94), в котором следует за Гробовым небесным видением (№ 92), упомянутым Хармсом в другой записи, сделанной в феврале 1927 г.
Авторство Введенского обозначено так же, как и в № 1.
…смотрит на приятный Рим / и с монашкой говорим… — По поводу подобных анаколуфов см. примеч. к № 2, с. 45.
— …но в окно / смотрит море… — В связи с мотивом окна см. примеч. к № 5. Соположение двух эсхатологических мотивов — окна и моря (см. примеч. к №№ 9, 16 и др.) — мы находим и в других произведениях Введенского (см. № 19, с. 128 и примеч.).
— …когда бы жить начать сначала… — См. примеч. к №№ 2 и 29.8.
— …в углу сияет ангел хилый… — Ангелология Введенского несет нередко сниженные черты, — ср., напр. № 23: И надо мной вертелся ангелок, / он чью-то душу в рай волок… и т. д.
— …и мысли глупые жужжали… — В связи с гипостазированием мыслей, приобретающих самостоятельное существование, см. ниже, примеч. к № 10.
— …пустыня ада… свечкой… — В связи с соположением этих двух мотивов, см. примеч. к №№ 1 и 2, с. 47.
— …в тоске и измерении… — Категории меры и числа являются одними из наиболее критикуемых в поэтическом универсуме Введенского, — см. хотя бы № 8 и passim, особенно сс. 84 и 87 (категория численности), № 10 (бездушные нули), № 11 (мерять звезды звать цветы), № 14 (шло число), № 19 (землю мерить и мерцать) и мн. др.
4. На смерть теософки*
Авторизованная машинопись… Это последнее из дошедших до нас стихотворении, подписанных чинарь Авторитет бессмыслицы александрвведенский. Записи Д. Хармсом строк из этого стихотворения не поддаются датировке.
— «В стихотворении На смерть теософки, написанном тоже, как я предполагаю, в 1927 году, в крайнем случае, в 1928, на протяжении 94 строк — 30 местоимений в разных падежах: я, он, она, они, мы, и снова встречаются разговоры». — Я. С. Друскин. — Частотность местоимение интересует здесь Я. С. Друскина в связи с проблемой типов коммуникации у Введенского.
…обедают псалмы по-шведски… и ниже: наставница читала каблуком… — По поводу этих и других примеров, которые могут служить иллюстрацией известной автономности семантического универсума Введенского, см.: М. Мейлах. «Семантический эксперимент в поэтической речи» [169].
5. Ответ богов*
Выправленная и авторизованная машинопись. Машинописная копия, с разночтениями. Стих ни соринки на лице, вписанный автором от руки, в копии отсутствует.
Произведение, название которого перекликается с названием опоры Вагнера «Гибель богов» (1874), пародирует сюжет другой его оперы — «Лоэнгрин» (1849). Имени Ортруды здесь соответствует Гертруда, а лебедю, влекущему ладью, — гусь.
Интересно, что такие имена девиц, как «светло» и «помело», не нуждаются в специальных объяснениях, и только имя Татьяна мотивируется тем, что оно «дочка капитана». Один из приемов Введенского: бессмысленное событие или факт объясняется, по его объяснение еще более бессмысленно, чем сам бессмысленный факт… Автор не говорит: звали Татьяной, а «прозвище», как будто бы «светло и „помело“ — обычные женские имена, а Татьяна — слишком экзотическое имя. Объяснение же — бессмысленное. Но дальше, при повторениях, само объяснение входит в имя как его часть — новый смысловой сдвиг: Татьяна, так как дочка капитана; вроде протестантских имен: Карл Август Вильгельм. Один из смыслов этой бессмыслицы может быть такой: сохраняется форма причинного или объясняющего предложения: „так как“, „потому что“, „для того чтобы“, „если… то“, т. е. самой предельной мысли: в предельной мысли убеждает не содержание мысли, а сама форма убеждения: „так как“, „потому что“ — разоблачение экзистенциализма предельного понимания. То же у Липавского в „Разговорах“ (см. Приложение VII, 39. — М.М.): доказательства не убедительны, надо только внимательно посмотреть, уметь увидеть.
Другой родственный пример: должно что-то случиться, какое-то действие, но что-неважно: жила, были, а потом / я из них построил дом. Сказано так авторитетно в убедительно, что кажется ничего другого и нельзя было сделать из трёх сестёр, как построить из них дом. Сравни слова Введенского о действии, о глаголах и существительных в тетради 1932-33 (т. е. № 34. — М.М.). Бессмыслица обычной жизни и обычной абстрактной речи. И десубстанциализация жизни.» — Я. С. Друскин.
…я хочу дахин дахин… — Ср. ту же реминисценцию из «Песенки Миньоны» в «Вильгельме Мейстере» у Пастернака: «С гётевским „Dahin!“, „Dahin!“» («Как-то в сумерки Тифлиса…»)
— …брел и цвел и приобрел… — Дна последних слова — часть приводимого в старых учебниках грамматики списка слов, требующих в написании буквы ять, — может служить примером организации бессмысленной последовательности по внеположной ему модели.
— …Лир… кумир… — …овец… пловец… — Интересно соположение двух пар рифм, каждая из которых играет роль порождающей матрицы в позднейших произведениях Введенского — Четырёх описаниях (Зумир, Кумир, Чумир, Тумир, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й умир(ающие) и в пьесе Потец (см, примеч. к № 28, а также к № 7), Отметим также связанное со смертью контекстуальное окружение второй пары рифм.
— …удалиться / захотела голова… / …как нам быть без головы… — В связи с мотивами безголовости у Введенского см. примеч. к №№ 2 (с. 48) и 19 (с. 128).
— …вот тарелка чистоты… — Ср. сходные образцы в Битве (№ 15 и прим.) в Кругом возможно Бог (№ 19, с. 137 и примеч.). См. также с. 104 и примеч.
— …прибежал конец для чувства, / начинается искусство… — В связи с первоначальной установкой Введенского на искусство антиэмоциональное и позднейшей переоценкой категории «чувства» см. нашу статью («Несколько слов о Куприянове и Наташе…» [158])
— …еду еду на коне… / …я везу с собой окно… — Ср. № 13: человек на коне / появляется в окне… — Окно, наряду с конем и всадником (см. примеч. к № 22) — один из наиболее употребительных образов Введенского, имеющих эсхатологическую окраску (ср. сходное соположение обоих мотивов — № 13 и примеч.). В подобном же значении этот образ используется Хармсом (напр., ст-ние «Окно» [225, кн. 3, № 166]; в связи с эротическими импликациями этого образа у обоих поэтов, см. № 8 и примеч.). Эсхатологическая концовка, характеризующая большинство произведений Введенского этого времени (см. ниже, примеч. к № 8 и др.), присутствует здесь в неявном виде. Кроме упомянутых мотивов, следует указать упоминание бегущего яда, обращение к предметам — ну предметы не плошай (ср. эсхатологическое превращение предметов в конце № 19, с. 149 и примеч.), сведенное на нет село, мотивы моря (См. примеч. к № 16) и заката.
6. Всё*
Выправленная и авторизрованная машинопись.
Всё. — Название представляет собой вынесенное в заголовок обозначение концовки произведения, как ее обозначали в 20-е годы Введенский и Хармс (см., напр., его «Конец героя» [225, кн. 1, № 4]) и к которому Введенский возвращается в своем последнем произведении «Где. Когда.» (№ 32).
Николаю Заболоцкому, вместе с которым Введенский принимал участие в литературных группировках в 1926–1930 г, (см. Приложения III (№ 105), VI и VII), посвящена также пьеса Зеркало и музыкант (№ 10). Заболоцким к Введенскому обращено нечто вроде открытого письма по вопросам поэтики и шутливое четверостишие (см. Приложение № 1 и 3). Дружеские отношения между двумя постами продолжались до 1931 г.
Сюжет ст-ния — «смерть девицы» (ср. № 12) — перекликается с написанным в том же 1929 г. «Искушением» Заболоцкого.
— …пусть без костей без мышц без кожи / оно как прежде заживёт… — Ср. примеч. к № 19, с. 132.
— …кто это больше уж не житель / уж больше не поляк не жид… и т. д. — Ср. перечисление теряющих значение suЬ specie mortis категориальных определений, наподобие национальных, как здесь, в № 19, с. 129: уж не барон, не генерал… и т. д.
— …и время стало как словарь / нелепо толковать… — Здесь, как и в предшествующем произведении, в неявном виде присутствует эсхатологическая концовка. Чрезвычайно характерно в свете поэтики и отдельных высказываний Введенского (см. Приложение VII. 39), что «толкования словаря» (толкового?) для Введенского нелепы.
— …и поскакала голова / на толстую кровать… — См., в связи с мотивом безголовости. примеч. к № 19, с. 128.
— …слоны цветочков принесли… и т. д. — По поводу возможной коннотации цветов см. примеч. к № 19 (с. 127).
7. Больной который стал волной*
Авторизованная машинопись с опечаткой: стекло стоящее доселе (с. 93). В одном из перечней в записных книжках Хармса (№ 18) указано, что это стихотворение написано 3 мая, ночью.
— …где водит курицу червяк… он… членист он ог… муравей… искал таинственных жучков… клещи муравьеды и пчелки… а особенно: …ну что вы мне твердите право / про паука и честь и травы / вы покажите мне стакан… — Тема насекомых, населяющих поэтический универсум не только Введенского, но и других поэтов его крута, в частности, Заболоцкого с его «Школой жуков» и Олейникова с его знаменитым «Тараканом», — обнаруживает весьма интересные аналоги с Достоевским (не только в плане стихов капитана Лебядкина; в последнем, однако, ст-нии несомненна связь с лебядинскими). См.: Л. Флейшман. [220 с. 17–18]. Г П. Филиппов [219], С. В. Полякова [189]. и особенно доклад Г. Ю. Улановской [215] (ср. [216]). В связи с импликациями у Введенского оппозиции наука — насекомые (как вариант оппозиции цивилизация — природа, характерной для других поэтов его круга, особенно Олейникова и Заболоцкого), наличествующей и в тексте данного произведения, где в роли науки выступает медицина, — см. №№ 23 и 19 (с. 138 в примеч.), где можно видеть реализацию мифологических представлений о насекомых как душах умерших.
— …вы покажите мне стакан / в котором бегает полкан… — Ср. в № 9 значимый образ стакана, в котором слово племя / играет / с барыней в недра (далее это слово — тяжелеет и превращается в предмет, — см. примеч. к №№ 9 и 22). — Очевидно, этот мотив может быть истолкован как сниженный образ сосуда с его символикой вместилища, модели мира.
— …слышать… / …воды постепенный язык / пять лет продолжается вечер… — О соположении у Введенского мотивов воды с мотивами времени см. примеч. к №№ 19 (с. 149) и 27.
— …стекло стоявшее доселе… и т. д. — Составляющие тему второй половины стихотворения эсхатологически окрашенные трансформации чрезвычайно интересны, во-первых, в связи с их мета-поэтическом значимостью (ср. высказывание Введенского, приведенное в Приложении VII, 39.1, и во-вторых тем, что развивает одну из намеченных в предшествующих произведениях ключевых тем Введенского, достигающую полноты выражения в его позднейшем творчестве (поэма Кругом возможно Бог — с огненным превращением предметов в эпилоге (с. 150 и след.), стихотворение Гость на коне (№ 22) и др.).
— …мертвец… овец… — В связи с семантикой рифмы на — ец см. примеч. к №№ 5, 8, 19 (с. 144) и 28. Болезнь, таким образом, оказывается в этом произведении «Krankheit zum Тоd», выступающей в окружении эсхатологических трансформаций
8. Пять или шесть*
Машинопись с авторской правкой. Существует также неполная (стихи 1-194) машинописная копия с разночтением, одной пропущенной (52-й) строкой и невыправленными опечатками Соня (им навстречу в странном виде); иль икота, В общем, страсть; в ту комнату, доказано.
Некоторую трудность представляет заключительный стих выханье память вот моё, последнее слово которого было вписано автором поверх первоначального вот и всё, однако и осталось невычеркнутым, как мы полагаем, по небрежности. Датировка (год) произведения устанавливается по записной книжке Хармса (№ 18). Мотивировка названия содержится в тексте произведении (…Что собственно мы имеем пять или шесть лошадей, говорю намеренно приблизительно, потому что ничего точного все равно не скажешь… — ср. начало «Части второй»: жили были шесть людей / Фиогуров и Изотов / Горский Соня парень Влас… — т. е. по счету именно пять; см также примеч. к № 2 (с. 45) и 23.
Отсылаем к неизданной статье Т. Л. Липавской «Пять или шесть Александра Введенского», в котором убедительно доказывается, что отношение «пять или шесть» определяет различные уровни структуры произведения — от колеблющегося списка действующих лиц, числа их снов и т. п. и вплоть до состава синтаксических периодов, включающих от пяти до шести членов или стихотворных строк (принцип этот определяет до двух третей объема произведения), до структуры рифм, наконец, до тематического членения на «пять или шесть» частей обоих разделов стихотворения. Цитируя некоторые места из «Серой тетради» Введенского (см. № 34) и «Разговоров» Л. Липавского (Приложение VII, 39), автор замечает: «…Введенский не раз повторяет, что наша логика, ваш язык не могут передать подлинной жизни. Эту лингвистическую и философскую мысль он, по его собственным словам, поэтически осуществляет в своем творчестве: особенно же это ясно в стихотворении Пять или шесть. Этим же объясняется и странное название вещи…»
— …если я и родился' / то я тоже родился'… — Интересно проводимое с первых же строк настойчивое подчеркивание синтаксических структур бессмысленных предложений (по типу условных конструкций, тавтологичных по содержанию). Ср. аналогичную модель в отрывке со слов …соглашаться или нет / если да то или нет… — «В этом стихотворении есть много неожиданных, иногда и неправильных синтаксически и семантически оборотов, особенно интересных, как мне кажется, не только для филолога, но и для лингвиста, например, в стихах 1-12, 32, 37, 138, 202–207, 198» — Т. Л. Липавская. См. примеч. к №№ 2 (с. 48) и 4.
— лошади… локони… кудрей … спешившись… стригут… кони и субституироемого словом кудри (локоны).
— СОНЯ (летя им навстречу в странном виде)… — Ср. мотив воображаемой летающей девушки в начале поэмы Кругом возможно Бог (№ 19).
…и не это и не то… — форма этих апофатических утверждений, с их далеко идущими философскими последействиями, дополняемые абсурдным я пальто в следующем стихе, имеет концептуальную значимость для поэзии Введенского. Ср. здесь же:
— …разумно слезла голова… и т. д. — См. примеч. к № 2, с. 48.
— …ну меня зовут Давид… — Именование мужика Давидом сопоставимо с именованием Няньки в пьесе Ёлка у Ивановых (№ 30), при ее псевдонародной манере выражения, Аделиной Францевной Шметтерлинг (карт. 8).
…жуку… жук … жуя… врачу осталось уползти… — Интересно, что признаками жука наделяется в процессе этих повторений сам доктор.
…как странно тело женское… — Ср. подобный мотив в № 29.8.
— …вы Изотов тиран человек… вы Изотов мошенник и жулик… — Имя персонажа Изотова, возможно, связано с именем некоего Изотова, упоминаемого в записных книжках Хармса в эпоху «Левого фланга» (см. Приложение VII, 7), — по воспоминаниям Г, И. Кацмана — инженера, человека постороннего искусству и несущего «некоторое темное начало», а по словам И. В. Бехтерева — уголовника-налетчика (ср. связанную с ним тему кражи, затем дуэли и т. п.)
— …конец… купец… отец… — Ср. здесь же …концом… отцом… — См. примеч. к №№ 5 и 28; семантика рифмы проясняется в стихах но тут мой конец умирает… / …последний момент озирает… и далее.
— …либо Выборгская сторона… — Одна из петербургских местностей в пространственном универсуме Введенского (ср. выше, примеч. к № 1).
— …начнём пожалуй… — Реплика из сцены дуэли в «Евгении Онегине» (гл. шестая, XXVII).
— Потом больше ничего нет. — По поводу подобных авторских ремарок см. примеч. к № 19.
— …в железной ванне водопой / шуршал водичкою беспечной / очень много было часов / шёл час ночной тридцать пятый, — В связи с соположением мотивов воды и времени ср. №№ 7, 19 и 27 и примеч. к ним.
— …видит форточку она / и в форточке цветок отличный / краснеет… / …неприлично… — Отметим эротические экспликации мотива форточки (окна), подобные которым мы находим у Хармса (см.: [225, кн. 2, №. 111 и кн. 3, № 235 и примеч. к ним]).
— …то видят численность они… — См. выше, примеч. к № 3.
— …пошли на речку утопать… и т. д. — Начиная с этого стихотворения, тема смерти, менее явно представленная, однако, и в предшествующих произведениях, обычно эксплицируется к концу произведения и приобретает эсхатологическое звучание. В связи с темой утопленничества, см. примеч. к № 16.
9. Две птички, горе, лев и ночь*
Авторизованная машинопись. Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст).
В стихе …и пили молоко сохранившимся словам предшествует лакуна, которую Я. С. Друскнн предлагает дополнять: летая пили молоко, однако для принятия такого дополнения нужно исключить следующее за лакуной и. В двух стихах исправляем явные опечатки: значения (вместо значение) и слова и куда бежать им от судьбы (вместо …бежать они).
Исключительно интересны в этом тексте метапоэтические мотивы выяснения значения, постижения, установления смысла (что значит: носится тушканчик… И что он значит поперёк… я не могу постичь зверька… неясно мне значение игры… почему игра ведро… при разговоре / теряет смысл и бытиё… соль / значения и слова), в позднейших произведениях Введенского приобретающие ключевую роль, которая доходит до структурирующей в развертывании сюжета произведения (см.: Значенье моря. Кончина (№№ 16 и 17) и особенно Потец (№ 28), — произведение, строющееся на выяснении значения этого вынесенного в заглавие таинственного слова). В тесной связи с этими мотивами выступают категории понимания-непонимания (я не могу постичь — я одного не понимаю вещи нуль). — см. о них подробно в примеч. к пьесе Потец (№ 28) и «Серой тетради» (№ 34), Вербальное выяснение значения (игры слова племя в ведро) невозможно: игрушка бледная / при разговоре / теряет смысл и бытиё; альтернативой же ему является таинственная категория превращения слова в предмет (…слово племя тяжелеет / и превращается в предмет…), прямую аналогию которой можно найти в стихотворении Мне жалко что я не зверь… (№ 26 и примеч.), а обратную — в стихотворении Гость на коне (№ 22 и примеч.), — однако превращение это загадочным образом приводит к эсхатологической катастрофе (ср. огненное «превращение предметов» в конце поэмы Кругом возможно Бог. (№ 19, с. 150). Интересно, что тема смерти, первоначально связанная здесь, как и в предыдущем тексте, с мотивом утопленничества (плыл утопленник распух), актуализируется и приобретает эсхатологическую окрашенность одновременно в связи с мотивами и волы, моря (см. примеч. к.14, 16), и огня (и дело кончилось пожаром).
…а в стакане… и т. д. — О возможном значении этого образа см. выше, примеч. № 7.
…пойдем молиться Богу горе… — Знаменательно, что вторая птичка, выказывай сомнения в возможности понимании (sc. рационалистического) действии тушканчика (sc. бессмысленных), предлагает обратиться к молитве.
…теряет смысл и бытиё… — Существенна вытекающая из соположений двух понятий экзистенциональность для Введенского смысла, отсюда — невозможность вербального его установления (ср. выше, а также вступит, примеч. к № 16 и пьесе Потец, № 28).
…о молодая соль / значения и слова… — Ср. соположение восходящих к евангельскому тексту мотивов соли в знака (знамения) в Значении моря (№ 16 и примеч.).
— …я как десять без изъяна / я как число достойна смеха… — См., в связи с категорией чисел, примеч. к № 3.
— …было жарко и темно / было скучно и окно… — Характерный прием нарушении Введенским автоматизма согласованной конструкции путем введения в нее грамматически неоднородного члена.
— …если кто без головы… — См. примеч. к №№ 2 (с. 48) и 19 (с. 128).
…вздохнули все четыре птицы… — Отметим нарушение в нашем тексте одного из основных постулатов акта коммуникации (в терминологии О. Г. и И. И. Ревзиных), а именно, тождества его участников: две птички (летящие как одна сова) в начале стихотворения, здесь оказываются уже четырьмя.
— …из моря я извлечена… / …о море море / большая родина моя… — Мотив — если не происхождения ночи (тьмы) из моря (Океана, вод) — то, по крайней мере, их изначального сродства прослеживается во многих космогониях (ср.: Быт., 1, 2 и 5). Ср. в речке родина ночей (№ 16), а также постоянное у Введенского и выявленное, в частности, там же соположение мотивов воды и времени (см. прим. к №№ 19 (с. 149) и 27).
— …море / как раскаленная змея… — В поэме Кругом возможно Бог со змеёй (хтонический образ) сравнивается земля. В обоих случаях сравнения эти предшествуют картине эсхатологической катастрофы. Мотивы моря, воды сочетаются здесь интимным образом с мотивом огня (см. вступительные замечания).
10. Зеркало и музыкант*
— Машинопись с авторской правкой (отсутствующей в идентичной машинописи).
В связи с посвящением Заболоцкому, см. примеч. к № 6.
«Во вступительной авторской ремарке сказано, что перед зеркалом стоит музыкант Прокофьев, а в зеркале — Иван Иванович. …Мы можем предположить, что Иван Иванович — анти-Прокофьев, а мир, видимый в зеркале, т. е. в Зазеркалье, — антимир. Но изображение в зеркале мнимое, так же как и объемность и трехмерность зеркального отражения, тогда и Зазеркалье можно назвать мнимым антимиром… Собственное, независимое от своего оригинала (музыканта Прокофьева) существование Ивана Ивановича бесспорно и не вызывает никаких сомнений… Остался ли Иван Иванович в мнимом мире Зазеркалья или вышел из него в наш реальный трехмерный мир? И если да, то получил ли реальный трехмерный объем? На первый вопрос ответ, кажется, можно дать утвердительный. Мне кажется, что это подтверждается следующими словами Ивана Ивановича: Странно это все у вас… / в мире царствует объем / окончательный закон / встал над вами как балкон (Подчеркнуто мною. — Г. Л.) … На второй вопрос я не нахожу в стихотворении прямого ответа… Иван Иванович дважды говорит об объеме: „в мире царствует объем“ (ст. 134) и дальше в словах „философа Канта“ мысли говорят: „давит нас большой объем“» (ст. 150).
…Относятся ли эти слова к Ивановичу? Давит ли и на него объем и, если да, то не потому ли, что он его уже получил, но еще не привык к объему, не вполне «освоился» в нашем трехмерном мире? — Я задаю вопросы, на которые не нахожу ответа. Но отсутствие ответа и будет ответом — выходом из ограниченности рациональной мысли в ощущение и чувство подлинной реальной жизни. Об этом говорит и сам Введенский в «Серой тетради» и в «Разговорах» Л. Липавского.
«…Окончание стихотворения, как кажется, указывает на то, что ситуационная бессмыслица выхода мнимого изображения из зеркала в ваш мир становится семантической бессмыслицей души человека, раздвоенной, находящейся одновременно и в вашем мире и в другом мире, как бы его ни называть— „соседним“ миром, антимиром или просто другим, о котором мы еще ничего не внаем, по, может быть, смутно ощущаем, иногда предчувствуем?» (Липавская Т. А. Зеркало и музыкант А. Введенского: Зазеркалье.),
— «Мое отражение в зеркале не я, а анти-я. Вспомним, что сказал Л. Д. Ландау о частице и античастице: если бы мы могли увидеть античастицу, опа выглядела бы как отражение в зеркале соответствующей ей частицы. И в отрывке из Гостя на коне (№ 22) отражение рыб и вообще мира получает самостоятельное существование как антимир. То же самое мы наблюдаем и в пьесе Зеркало и музыкант.
…Отмечу одну особенность некоторых диалогов (и полилогов) у Введенского: тождество личности в них иногда одновременно и сохраняется и не сохраняется… Что это — несохранение тождества личности или наоборот наиболее глубокая коммуникативность участников разговора?» (Я. С. Друскин [114]).
…ты амур… река или божок! — Реализация омонимии двух весьма дальних по денотации имен.
— …цветочки… значки бесчисленных светил…звезда… — Ср. примеч. к № 19.
…в могильном коридоре / глухое воет море… — См., в связи с политологической образностью моря, примеч. к №№ 9 и 16.
— …чтоб всё понять и объяснить… — По поводу этих категорий см. примеч. к № 9.
…ты весь как будто сок ненастный… — Возможно, опечатка (вместо сон) в парафразе пушкинского «Что ж ты тих, как день ненастный» («Сказка о царе Салтане…»).
…из-под земли несутся ноты… — «Подземная музыка» встречается у Введенского и позже, — ср. № 29.2.
…ругают Бога сидя на песке… и т. д. — Весьма близкое описание, отнесенное, однако, к Народам, мывстречаем в конце поэмы Кругом возможно Бог (№ 19), где это описание, как и здесь, предшествует картине светопреставления.
— …всадник мира… — Об эсхатологическом значении этого образа см. примеч. к № 5, а также к №№ 22 и 31.
…понимаю / звуков чудную игру… — О месте музыки в универсуме Введенского см, примеч. к № 19 и 29.2. Высказывания Введенского о музыке приведены в Приложения VII, 39.11.
— …часто мысли вынимаю… и т. д. — Мотив гипостазирования мыслей, их независимого от носителей существования часто встречается у Введенского, — ср. хотя бы: мысли бегают отдельно (№ 11).
— …за собой не успеваю… — Сходная конструкция, связанная с проблемой тождества личности самой себе, встречается дважды в стихотворении Мне жалко что я не зверь… (№ 26: мы выйдем с собой погулять в лес…). См. также примеч. Я. С. Друскина к № 14, примеч. к №№ 13, 14 и др.
— кушай польку / пей цветы… — Заключительные строки пьесы перекликаются со знаменитым стихом Хармса из «Случая на железной дороге» (1926); «пейте кашу и сундук» (см. [225, кн. 1, № 1]).
11. «Человек веселый Франц…»*
Авторизованная машинопись, полностью совпадающая со второй неполной (стихи 1-75) копией. Впервые напечатано В. Казаком [71] (неточный текст). — В стихе 76 имеется пропуск, который Вл. Эрль предлагает дополнить словом подох вместо предлагаемого Я. С. Друскиным горох. В стихе 101 очевидные опечатки терять звезды сдать цветы исправлены нами на мерять звезды Звать цветы по аналогии со стихом 5.
Ст-ние датируется концом 1929-началом 1930 г. по упоминанию его в записной книжке (№ 18) Хармса.
Отметим, вслед за Я. С. Друскиным, образующее фигуру обрамления эксплицирование в начале и конце стихотворения поэтически исследуемого Введенским типа коммуникации, относящегося к типу и-ты (думал он что я есть ты, стих 6; составляя я и ты, стих 102). С именем Франц из названия мы встречались уже в № 8 (Франц капитан).
…думал он что я есть ты… — Ср. примеч. к монологу Души в Факт, теория и Бог (№ 14).
— …где жуков ходили роты… / …муравей / и светляк… — В связи с темой насекомых см. примеч. к № 7.
— …мысли бегают отдельно… — См. наши замечания в связи с Зеркалом и музыкантом.
— …он сюда придти не может / где реальный мир стоит… — Одна из нечастых у Введенского прямых экспликаций трансцендентности — присутствующей в каждом его произведении сферы сознания, в данном случае связывающейся с психологом божества или кудесником.
…дайте Обера ракету… — Герман Оберт (р. 1804) — один из пионеров ракетной техники.
…всё равно жива наука… — Ср. монолог Смерти в «Искушении» Заболоцкого (1929): «Не грусти, что будет яма, / Что с тобой умрет наука…»
…смерть сказала ты цветок / и сбежала на восток… — Чрезвычайно интересен мотив отступления смерти (по-видимому, второй, т. к. Франц умирает еще в начале произведения) в контексте этой космической идиллии. — Ср. примеч. к № 19.
12. «Снег лежит…»*
Беловой автограф. Датируется также по записным книжкам Хармса (упоминается в записи 18 января 1930 г.).
— …ночь ли это? или бес? — Эти окаймляющие произведение риторические вопросы содержат некоторый ключ к проходящей через все стихотворение великолепной картине как бы демонизированного космоса.
— …спит бездумная река / и не думает она / что вокруг нее луна… — По поводу соположения мотивов луны и сна см. прим. к № 19 (с. 147).
— …там томился в клетке Бог / без очей без рук без ног… — Сниженные образы рая и Бога, перекликающиеся с «богами» в предыдущем стихотворении (см. также примеч. к № 16), соответствуют, очевидно, сознанию легкомысленной пузатой девы (ср. подобные же мотивы ангелологии Введенского — примеч. к № 3).
— …видит разные орлы / появляются из мглы… — Об эсхатологическом значения образа орла см. выше, примеч. к № 2, с. 57.
— …и на небе был Меркурий… — Отметим связь, согласно с мифологическим представлениям, Меркурия со снами, при мотиве сна (летаргического) девицы, шире — с загробным миром, куда бог Меркурий (Гермес Психопомп) сопровождает души умерших.
— …и вертелся как волчок… — Меркурия, ближайшая к Солнцу планета, отличаясь наиболее быстрым из всех планет периодом обращения, на самом деле вращается сравнительно медленно (период — 59 суток).
— …та девица отдохнула… / …и воскресшая зевнула… / …я совсем не умирала… — Если в предыдущем произведении смерть (вторая) отступает перед идиллической наивностью Франца, то здесь девица, по-видимому, слишком легкомысленна даже для смерти. Другое возможное объяснение, возникающее из сопоставления со Значеньем моря (№ 16, — см. примеч.), С его богом универсальным, может заключаться в «сниженности» Бога (детерминированной, опять-таки, сознанием девицы). Так или иначе, эти два happy end'а являются, вместе с концовкой Значенья моря, в корпусе произведении Введенского уникальными.
13. Святой и его подчиненные*
Авторизованная машинопись. Датируется по записи 11 марта 1930 г. в записной книжке № 20 Хармса, а также строками, записанными на листе с рассказом Хармса «Давайте посмотрим в окно…» и помеченным 11–12 марта. По этим последним записям восстанавливаем правильное чтение стиха 2 (в машинописи — надо дети сонку пить), очевидное, кроме того, из сопоставления со стихами 55 и 152.
Отметим, что в этом стихотворении Введенский широко пользуется приемом, весьма характерным для его поэтики, состоящим в том, что тот или иной формальный элемент или грамматическая категория служит матрицей при порождении бессмысленного текста. Такова последовательность я думаю что это трус и т, д. (о дожде) — от первого, еще осмысленного трус до бессмысленного ветчина / и посторонняя картошка, — последовательность, организованная как серия однородных подчиненных предложений, скрепленных рифмой. В рубрике же Человек на коне мы встречаем полную рифмованную парадигму с тем же развитием от осмысленного первого члена к дальнейшей бессмыслице; ср. также склонение в первых трех падежах значимого слова конец.
— …дети нюхайте эфир… — Ср. ниже: а этот заспанный зефир / спокойно нюхает эфир — Интересно, может быть, указать на записи Введенского в «Серой тетради» (№ 34) о его собственном соответствующем опыте, а также на записи Хармса (в том числе и за Введенским) в его записной книжке № 8 (1926–1927): «А. И. Введенский нюхает эфир… Возможно, он и впрямь что постигает высшее, но я не особенно верю в это».
…муравей кого зовёшь… / …я зову / бабочку из бездны… — Здесь, возможно, использование традиционной символики бабочки как души умершего. См. также примеч. к № 7.
— …и мне тарелка вручена… — См. об этом образе примеч. к №№ 5, 15 и 19.
…в моём тебе… — См., в связи с проблемой тождества и разложения личности, примеч. к №№ 10 и 14.
— …мысль / ты взлети и поднимись… — Ср. № 10 и примеч.
— …человек на коне / появляется в окне… — По поводу соположения этих двух эсхатологически окрашенных мотивов см. примеч. к № 5.
…океан / о море, о море / назад потеки… — Приходится снова отмечать появление мотива моря с его эсхатологической окраской, в непосредственной близости от эсхатологической же концовки, дающей почву, при ее лаконизме, даже для углубленной теологической интерпретации.
— …и молча с темного портрета / оно упало на скамью… — Возможно, что подлежащим этого предложения является время.
— …конец конца концу / …отцу… — См. выше, наши вступительные замечания, а также прим. к №№ 7, 8, 23 и 28.
14. Факт, теория и бог*
Машинопись с авторской правкой; автограф — без разночтений.
В этом произведении особенно отмеченными представляются постоянные для Введенского гносеологические мотивы, связанные прежде всего с «конечными вопросами» бытия, в первую очередь с Богом (что мы внаем о Боге… / …что знаем мы дети / о Боге и сне…). Невозможности теоретического (по названию ст-ния) познания Бога противопоставления «абсолютный факт» — эсхатологическое окончательное наступление Бога, которое здесь снова связывается со смертью через потопление См. примеч. к №№ 8 и 16). Может быть, поэтому в этом произведении так часто встречается излюбленный прием Введенского — дискредитация самой возможности рационалистической постановки вопроса через его форму (куда умрешь) или форму ответа (см. различные Ответы). Укажем попутно, что встречающиеся здесь бессмысленные последовательности, наподобие указанных в примеч. к предыдущему ст-нию, часто организуются в плане выражения, — так… маня манил / магнит малюток и могил… / …поклонился монументу… / …понесло / моря монеты и могилу / мычанье лебедя и силу…
— …шло число… — См. примеч. к № 3.
— …я вижу ночь идет обратно… — Стих вводит одну из ключевых тем поэзии Введенского, в которой архетипический мотив retour eternel соединяется с мотивами зеркальной отраженности, антимира, шире — verkehrte Well (см. примеч. к №№ 10, 22 и 28).
— …еду на верблюде… — Модификация мотива всадника — см… чтобы все понять и объяснить… (№ 10) и наши комментарии к №№ 9 и 10.
— …еду на верблюде… — Модификация мотива всадника — см. примеч. к №№ 5, 22, 31 и мн. др.
— ДУША иди сюда я… и т. д. (см. примеч. к № 5).
— «…Разговор Души с Собою можно понимать и как внутреннее раздвоение души, и как ужо наметившееся, но еще не совершившееся разделение трех функций сознания — обозначателя, обозначаемого и обозначающего, и как тоже только еще возможное разделение Я на Я и Я САМ. Я САМ — уже по Я, а объект мысли о себе самом. Противоположение Я — Я САМ есть и в других вещах Введенского (указывается характерное начало № 26. — М. М.)…» (Я. С. Друскин). Нечто подобное — в последующем монологе КУМИРОВ — мы есть мы… / вы есть вы… — завершающемся выяснением проблемы их собственного значения: …верно значим / лечь иль жечь? (здесь же, ниже); возможны параллели с научно-культурологическим мифотворчеством века («Я и Оно» Фрейда, «Я и Ты» Мартина Бубера). Заметим, кстати, что в слове КУМИР анаграмматически зашифровано, как это очевидно на Четырех описаний (№ 23); ср. также № 5 и примеч.), значение умирания.
— …шли из Луги в Петроград… — Еще одно упоминание, наряду с самим Петроградом, близлежащего города с его традиционным значением провинции, захолустья. Ср. у Ахматовой: «…Между помнить и вспомнить, други, / расстояние как от Луги / до страны атласных баут» (т. е. до Венеции)… («Поэма без героя»: Решка).
…вскричал воротясь / с того постороннего света… — Следует отметить, что здесь более ясно выражена наметившаяся уже ранее (ср. № 3 и примеч. к №№ 11 и 19) и развитая в поэме Кругом возможно Бог (№ 19) в ряде следующих произведений «двухступенчатая эсхатологическая ситуация»: которые мертвые / которые нет (ниже) равно потопляются с «окончательным наступлением» Бога. Такая иерархия, связанная с апокалиптическими мотивами, служила темой одного из утерянных сочинений Введенского (см. № 109),
— …я был там. Я буду / я тут и я там… — Т. е. здесь и на том постороннем свете? Ср. заключительный ВОПРОС: мы где?
— …речка течёт / два часа смерти… — По поводу соположения этих двух мотивов, см. примеч. к №№ 7, 8 и 23.
— …а Богу почёт… — Несомненно, сниженный бытовизмом вариант формулы Богу слава. — Ср. примеч. к № 12.
— …здесь окончательно / Бог наступил… — Ср. несколько выше, а также вступительные замечания Я. С. Друскина к № 19.
15. Битва*
Беловой автограф. Датируется 1930 г. по месту в перечне в записной книжек (№ 18) Хармса.
Очевидная описка в стихе 66: и едва открыв глазок.
«Действующие лица: Неизвестно кто, Человек, Малютка вина (последнее слово — не родительный падеж, а именительный), Ангел. Начинает и кончает это стихотворение Неизвестно кто… это действительно неизвестно кто, может, это тот же, кто дальше назвав Человеком, во сознающий свою внутреннюю раздвоенность, поэтому он и говорит о себе „мы“. И последняя строка может быть относится уже к читателю: В каждому на нас…» (Я. С. Друскин).
…я думаю темя / проносится час / с минутами теми / на яблоке мчась… — Слово темя очевидным образом замещает здесь контекстуально ожидаемое время. — Ср. примеч. к № 2 (с. 57).
— …летают болтают / большие орлы… — Ср. № 19 (С. 152) и примеч. к № 2 (с. 57).
— …воюю со свечкой… — См. примеч. к № 2, с. 47.
— …мы уносимся как боги / к окончательной звезде… — В связи с мотивом окончательности, см. примеч. к № 14.
— …не жилец… жрец… птенец… наконец…. — См. примеч к №№ 5, 7, 19 и 28.
— …дней тарелку озираю… — «Дней тарелка — дни жизни. В Кругом возможно Бог — тарелка добра и зла. — по-видимому, древо познания добра и зла. Не случайно, мне кажется, тарелка дней жизни и тарелка добра и зла: соединяются жизнь в грехопадение, а может и так: по Кьеркегору, время начинается с грехопадения, то есть с вкушения плодов древа познания добра и зла. Последнюю строку можно соединить со зловещей болью. Это пояснение я ни в коем случае не считаю объяснением „звезды бессмыслицы“, которая здесь есть, она останется необъясненной и непонятой. Это только совет: хочешь, думай так, а не хочешь, думай иначе или вообще не думай, что может быть самое правильное» (Я. С. Друскин). Сходное употребление мотива «тарелки» см. также в №№ 5, 13 и 19 (с. 137).
— …два бойца / два конца / посредине гвоздик… — «Если в этих строках подставить слово „кольца“, то получится известная загадка (ножницы). Подобные пародии и перифразы встречаются у Введенского и в некоторых других вещах, особенно много их в большой войне Минин и Пожарский (К; 2). Этот отрывок не так бессмысленен, как может показаться при первом чтении. Напомню начало Битвы: мы двое / воюем…, поэтому — два бойца; два конца — может быть, это рождение в смерть, о которой говорит выше Человек…» (Я. С. Друскин).
16. Значенье моря*
Машинопись с авторской правкой, Впервые опубликовано нами: [21].
Это и следующее ст-ния, как бы посвященные выяснению значения моря (ср. также начало в конец № 17 и примеч. к №№ 9 и 27) связывают обычные дли Введенского эсхатологические мотивы с архетипическим образом морской стихии, в мировой мифологии связывающейся с первоначальным хаосом, из которого всё происходит и к которому все возвращается. С мотивом утопленничества как варианта смерти мы уже встречались в конце нескольких произведений Введенского (№№ 8, 9, 17; см. примеч.); чрезвычайно интересно, однако, что в следующем стихотворении кончина постигает само море, покорное тем же числам, наполненное сотнями категорий, а здесь отождествляемое со временем. Мотивы, связанные со смертью и «подводной жизнью» утопленников, могут быть сопоставлены с четвертой частью «Бесплодной земли» Т. С. Элиота — «Death by Water» (1922). Ср. также «Вопросы к морю» Заболоцкого (1930).
Проблема выяснения «значенья моря», помимо своей метапоэтической функции (ср. наше примеч. к № 9), имеет, в свою очередь, корни в архаической символике моря как непостижимости, бездонности истины, а в юнговской терминологии — как коллективного бессознательного; непознаваемая морская стихия, связанная с началом и концом света, таит в своей глубине чудовищ, представленных в Кончине моря Морским демоном, здесь, кстати, вообще отрицающим за морем какое-либо значение. Любопытно, что тема сражения морских животных в эсхатологическом контексте встречается в стихотворении Хармса «Что делать нам?» (1934, [225, кн. 4, № 287]). В тесной связи о мотивами значения в дознания тема моря фигурирует в упомянутом уже стихотворении Две птички, горе, лев и ночь (№ 9); фрагменты, текстуально близкие с обоими текстами, встречаются и Зеркале и музыканте (№ 10); Смотри — в могильном коридоре / глухое воет море / и лодка скачет как блоха… / …в лодке стынет человек / он ищет мысли в голове / чтоб всё понять и объяснить…
В первых же строках ст-ния мы снова встречаемся с категорией «обратности» (см. примеч. к № 14), которая в своим онтологическом аспекте (жить обратно) смыкается с гносеологическим (что-бы было всё понятно), перекликающимся с незнанием стихотворения.
Сниженный образ «бога универсального» в начале и конце стихотворения (ср.: наши боги наши тётки) может быть интерпретирован как представление об имманентном боге, включенном в обычный порядок вещей, другими словами, как проекция обыденного сознания (ср.: томящийся в клетке бог без очей без рук без ног, — № 12).
— …а когда огонь узнаешь… / …ты огонь владыка свечки / что ты значишь или нет… — Чрезвычайно интересно, что ключевая для обоих текстов проблема значения распространяется не только на море, но и на огонь. Ср. в этой связи примеч. к № 9.
— …конь шагает идеальный… — Ср., по поводу эсхатологического мотива копя с его провоцирующим эпитетом, примеч. к № 5. См. также № 22 и примеч.
— …наконец приходит лес… и т. д. — Образ шагающего леса, восходящий, по-видимому, к «Макбету» (ср. примеч. к № 5), мы встречаем также в № 25: мы видим лес шагающий обратно. Следует ли упомянуть в этой связи архетипическую символику леса, связанную с миром подсознания?
— …и зыряне веселятся… — Зыряне — старое название коми, финно-угорской народности, обитающей на севере востоке Европы.
— …а взлетали мысли наши… — См. примеч. к № 10.
— …мы как соли просим знака… — возможно, контаминация двух евангельских фрагментов: «Вы соль земли,» (Мф., 5, 13) И «Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение…» (Мф., 12, 38; ср. 16, 1–4). Ср. также соположения значения и соли в № 9.
— …в речке родина ночей… — Ср. мотив моря как родины ночи в № 9. Характерным образом, тремя строками ниже встречей более общее соположение мотивов моря и времени (см. примеч. к №№ 8, 19 и 27).
— …мы с числом пятнадцать споря… — См. примеч. к № 3.
— …будем бегать и сгорать… — Чрезвычайно интересен образ сгорания утопленников, совмещающий оба основных эсхатологических мотива у Введенского.
…все утопленники вышли… и т. д. — Может ли смягченная эсхатологическая концовка объясняться, как в № 12, сниженностью, так сказать, «недостаточностью» бога универсального? — Ср. примеч. к № 12.
— …конец… бубенец… — Эти рифмы воспроизводятся в пьесе Потец (№ 28). — См. также прим. к №№ 8 и 19 (с. 144).
17. Кончина моря*
Машинопись о авторской правкой. Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст). — В стихе 59 исправляем явную опечатку: но целый год (вместо на целый год).
Мотив «значенья моря», обрамляющий стихотворение, возвращает нас к названию и образности предыдущего ст-ния, которые получают здесь дальнейшее развитие (см. примеч. к № 16). Заключительные стихи обнаруживают поэтический вывод Введенского — море как бы утрачивает значение в эсхатологическом контексте, — ср.: приходит нам — пришел конец за три стиха до последней реплики Моря.
— …оно покорно тем же числам… — Т. е. имманентно законам «этого мира», а не миров вторых (ниже). См. примеч. к № 3.
— ОХОТНИК я сам ходил в леса по пояс… / …но я закрыл лесные двери / чтобы найти миры вторые… — по поводу символики леса как связанной с областью подсознания (sc. детерминизма) ср. примеч. к № 16. Выход Охотника, чей образ может быть интерпретирован в контексте ст-ния как традиционный образ «охотника за знанием», из леса — может обозначать стремление порвать в поисках истины (миров вторых) с обусловленностью сознания.
— …вот я стою на этих скалах… и т. д. — Монолог Охотника в большой мере предваряет образность последнего произведения Введенского — «Где. Когда» (№ 32).
— …и на руках моих усталых / написаны слова прощанья… — Ср. сходную образность немного ниже: на документах слово горе / гляди написано везде… и в №№ 26 и 29.9.
мы верим в то что не умрем / что жизнь имеет продолжение… — Экспликация одного из наиболее универсальных механизмов сознания, отвлекающих человека, по Введенскому, от реализации себя в настоящем.
— …и вижу сотни категорий… — Обозначающих категориальное, т. е. дискурсивное мышление?
— но диване люди птицы… и т. д. — Пояснение этого образа см. в примеч. к № 29.2.
— …мысли крадутся в могилу… — См. примеч. к № 10 и мн. др.
— …с видом греческих умов… — Т. е. античных философов рационалистического направления (ср. образы «афинейских мудрецов», «афинейских плетений» в Православной традиции, напр. в Акафисте Благовещению Богородицы).
— …спят под знаменем кусты… — Возможно, подобно субституции слова время словом темя в № 15, здесь его заменило морфологически подобное ему знамя? Это предположение особенно вероятно в свете соположения мотивов времени и кустарников в следующем ст-нии (№ 18) и в Очевидце и крысе (№ 24).
— …вылетает ангел темный… — Отметим реминисценцию апокалиптической образности.
— …море море госпожа… — В связи с традиционно оправданный обращением к Морю в женском роде, см. примеч. к № 19 (с. 149).
— …понять не можем ничего… — См. примеч. к № 9.
— …венец… конец… — Эти рифмы воспроизводятся также в пьесе Потец, — см. примеч. к № 16.
18. Суд ушел*
Машинопись с авторской правкой.
— Тема суда получает у Введенского замечательное развитие в пьесе Елка у Ивановых (№ 30, картина 8). Отношение Введенского к суду выражено в его высказывании, зафиксированном в «Разговорах» Л. Липавского (Приложение VII, 39.2) «Тема стихотворения сказала в самом названии: суд, два главных действующих лица — подсудимый, который иногда называется обвиняемым, злодеем, убийцей, и прокурор, иногда он называется судьей или судом. К концу стихотворения подсудимый отождествляется с авторским „я“, и выясняется, что суд в этом стихотворении по-видимому тот же, что и в „Процессе“ Кафки (Кафку Введенский не знал)» (Я. С. Друскин).
— шёл по небу человек… — В связи с мотивом «пролога на небе» см. примеч. к № 19 (с. 127).
— …это было год спустя… / …все кусты легли на землю / все кусты сказали внемлю… — См. по поводу соположения мотивов времени и кустарников примеч. к № 17.
— …человек находит части… — Ср., в связи с «дробностью мира», примеч. к № 19 (с. 146) и 23.
— …и фанагорийцы… — Т. е. обитатели Фанагории, древнегреческого портового города на Таманском п-ове Черного моря.
— …ЭТА ДВЕРЬ БЫЛА ВОЛНОЙ… / НА ОХОТУ Я ПОШЕЛ… — Здесь присутствуют в свернутом виде мотивы моря и охоты (как охоты за истиной — БОГ БОГ ГДЕ ЖЕ ТЫ в след. стихе), обсуждавшиеся в примеч. к №№ 16 и 17.
19. Кругом возможно Бог*
Машинопись с авторской правкой. Исправляем опечатки: Стаканы мои наполняются пением (вместо …наполнятся…); Ну, все в сборе (вместо Не все в сборе); Я счет потерял (вместо Я свет потерял); Петры, Иваны и т. д. (вместо Петровы…); Ужели это коробка зла (вместо …эта…); вводим также предложенное Вл. Эрлем перераспределение по смыслу двух реплик Буркова и Фомина. Впервые поэма опубликована нами: [25].
Произведение датируется, по воспоминаниям близких, весной 1930 или 1931 года. Начиная с этого времени, Введенский пользуется более или менее нормативной пунктуацией.
Я. С. Друскин, находя в композиции поэмы иероглиф окружения или окаймления (см. подробнее его заключительные заметки к Последнему разговору. № 29.10; о термине иероглиф, введенном Л. Липавским. см. примеч. к № 2), замечает: «В эпилоге на Кругом возможно Бог за несколько строк до конца сказано: Быть может только Бог. И в самом названии этой большой (около 1000 строк) вещи, которую можно назвать эсхатологической мистерией или по-русски — действом, и в самом повторении той же мысли в конце — иероглиф окружения. Что касается этой фразы, то она допускает два толкования: её можно понимать как незаконченное проблематичное суждение: может быть, есть только Бог. Т. Липавская ставит акцепт на слове „быть“. Тогда это законченное категорическое суждение, и смысл его тот же, что в изречениях книги Исхода. 3. 14 и I Коринф., 15, 28».
Священный полет цветов. — Цветы сказали небо отворись / и нас возьми к себе. / Земля осталась… — Этот пролог с его сакральной мотивировкой примыкает к традиции «Пролога на небесах», известной в древней и новой литературе — от Книги Иова до гётевского «Фауста». Можно сказать, что вознесению на отворившиеся небеса эдемических цветов (ср. в некоторых мифологиях обозначение цветами душ умерших) в прологе — противопоставлено дальнейшее действие поэмы, протекающее в пределах весьма инфернальной земли, оставшейся подчиненной своей горькой судьбе. См., в связи с вознесением земляка в «Лапе» Хармса, ниже, примеч. к с. 132.
Мотив возносящихся на небо цветов с их мистической par excellence символикой, связанной с архетипическим растительным мифом, определяемым ключевыми моментами умирания я воскресения, вообще чрезвычайно знаменателен в прологе поэмы, посвященной исключительно теме смерти в посмертной жизни: Какая может быть другая тема, / чем смерти вечная система. Укажем также на моделирование цветами мира и космоса в японском искусстве составления букетов икэбана. Мотивы вознесения присутствуют и в более ранней поэзии Введенского, — ср. концовку № 3 (после монолога умершего): …над всем возносится поток / под всем возносится восток или № 5: …а достану чистоту / поднимусь на высоту / вёрст на тридцать в небо вверх… — От цветов в начале поэмы с их символическим значением «земных звёзд» (ср. № 10 и примеч.: очевидно, музыкант Прокофьев посещал звезды, которые он называет желтеющими цветочками, также возносясь, — хотя бы мысленно), — протягивается нить к звезде бессмыслицы в ее заключительных строках. Окаймляющим является и мотив полета, — ср.: Полет орла струился над рекой / Держал орел икону… / На ней был Бог в эпилоге; там же: Крылом озябшим плещет вера… /…Воробей летит из револьвера… Вознесению цветов на небо в прологе здесь противополагается, однако, предстоящее падение орла в океан или в речку, т. е. в воду (связанную у Введенского с темой времени, — см. ниже, примеч. к с. 149). Мотив полета вообще является в поэме одним из постоянных, — ср., напр., баснословный полет летающей девушки (ср. № 8 и примеч.), полет проносящихся на тучах таинственных вещей, летающий жрец, полет зеркала, стула и др., а также мотив вознесения в стихе ты как Енох на небо взятый.
— Земля осталась подчиненная своей горькой судьбе, — См. примеч. к № 23.
— А я… всё бьюсь… / чтоб не сгореть, — С первых же строк поэмы задается мотив, реализованный в конце ее как огненное превращение. Существенно, что уже здесь мотив этот находится в соположении с мотивом казни, несущей герою «первую смерть» (см. ниже). Далее мы поочередно встречаемся на протяжении поэмы с мотивами дыма, зажигаемых канделябров, играющего между волос огонька, пылающего наивна, пламени, вплоть до мира, накаляемого Богом в копне поэмы.
…гляжу на минуту гневно… иногда еще Бога молю, — Можно сказать, что три основные темы творчества Введенского вводятся в поэме в порядке: смерть, время, Бог и далее постоянно чередуются. Постановка проблемы времени, эксплицированная в строке Да знаешь ли ты что значит время?), разрешается лить в заключительных стихах поэмы: Вбегает мертвый господин / и молча удаляет время.
— На стуле моя голова / лежит… /…голову отклею… — Отметим введение здесь мотива безголовости, реализуемого далее, в сцене казни. Мотив этот, фигурирующий во многих произведениях Введенского, вообще характерен, наряду с мотивами головы, набитой трухой, опилками и т. д., для искусства XX века, культивирующего (начиная от «Петрушки» Стравинского) тему людей-кукол, механических, «полых» людей и т. п. (ср. в этой связи балаганное решение сцены казни).
— Стаканы мои наполняются пением… — В ст-нии Две птички, горе, лев и ночь (№ 9) стакан наполняется непредвиденным молчаньем.
— …в окошко я вижу морскую пену. — Значение мотивов моря и морской пены, заданных в начале поэмы и через нее проходящих (ср., напр., Когда ревел морской прибой, вставал высокий вал…; Здравствуй море… волны… челны… с угрюмой жадностью волны; я пучина и др.), раскрывается в эсхатологической логической ее части, где летающий жрец… / в ужасе глядит на перемену, / на смерть изображающую пену (с. 149); ср. в последних строках мотив океана (см. примеч. к прологу поэмы). См. также примеч. к №№ 9 и 16.— Соположение мотива моря с эсхатологическим же мотивом окна (см. примеч. к № 5) встречаем мы и в раннем Седьмом стихотворении (см. № 3 и примеч.).
— А знаешь, Бог скачет / вечно, — Сниженный образ Бога, с каким мы уже встречались в более ранних произведениях (см. примеч. к №№ 12 и 16), мы обнаруживаем и здесь с вероятной функцией критики самой возможности человеческого представления о Боге,
…ни Красной армии боец… — Смерть такого «Валтасара» является, очевидно, сюжетом одного из Четырех описаний (см. примеч. и № 23). Валтасар — сын последнего вавилонского царя Набонида. Книга пророка Даниила (5) содержит описание «пира Валтасара», на котором он получил пророчество о гибели Вавилона.
Воробей (клюющий зерна радости) — «…Вторая сцена — единственная, где вступительный монолог — радостная благодарственная песнь, которую произносит Воробей, не сообщает темы следующей за ним сцены, а противополагается ей — мрачной сцене казни. Это не случайно, вернее, это не случайная случайность: после казни начинается новая за-смертная жизнь Эф. Оппозиция „радостная благодарственная песнь ←→ мрачная сцена казни“ предупреждает о двузначности смерти, об оппозиции „смерть ←→ за-смертная жизнь“» (Я. С. Друскин).
— …в образе мешка свечей. — Как и во многих других произведениях Введенского, мотив свечи, наделенный эсхатологическим значением (см. примеч. к № 2 и мн. др.), является в поэме ключевым, — см. ниже, с. 134 и примеч. Укажем примеры в поэме: и зажигает канделябры; Возьму я восковую свечку; забрав… в путь зеркало, суму и свечки; Подумай, улыбнись свечой (см. примеч.); наконец, заключительные стихи с описанием падения орла: или коптящей свечкой / рухнешь в речку. Мотив этот смыкается с другим ключевым эсхатологическим мотивом поэмы — мотивом огня, горения, пламени (см. примеч. к с. 152).
— Гуляют коровы они же быки. — Ср.: БАНЬЩИК… словно баньщица, № 29.8 и примеч.
— Появляется царь. Царь появляется. Темнеет в глазах… и т. д. — Подобно сцене суда в Елке у Ивановых (№ 30, карт. 8), сцена суда и казни окрашена колоритом породной драмы, балаганного действа. По воспоминаниям Я. С. Друскина, Введенский знал и любил «Царя Максимилиана» (в обработке Ремизова). См. также ниже, примеч. к с. 148.
— …будет зрелище суда. / Палач будет казнить людей… — Тема суда и казни, являющаяся первым поворотным моментом поэмы, присутствует в качестве одного из мотивов уже в Минине и Пожарском (№ 2). См. также примеч. к № 18.
— …несть эллин и несть иудей. — Цитата из Посл. св. ап. Павла к Колоссянам, 3, 11.
…веревочным топором… — Контаминация мотивов повешения и обезглавливания?
— Скажите как его имя… /…Его фамилия Фомин. — Интересно, что вместо личного имени с присущим ему архетипически глубинным значением, актуализирующимся в связи с моментами рождения и, как здесь, смерти, в ответе звучит фамилия, раскрывающая, однако, значение предшествующего инициала, обозначавшего Фомина при жизни. — «Мне кажется, автор хочет этим сказать, что жизнь человека до смерти — анонимна, и только смерть открывает анонимность жизни человека и анонимность самого человеческого самосознания» (Я. С. Друскин).
— Ах какой ужас. Это в последний раз. — Ср. высказывание Введенского о смерти как о единственном, по-настоящему совершившемся событии (в «Серой тетради», № 34).
Фомин лежал без движенья… — Последующие части поэмы протягивают нить к средневековому жанру запредельного хождения, известного по нескольким апокрифическим памятникам, а также по памятникам восточной литературы (наиболее известна «Книга лестницы» о запредельных хождениях Магомета), — жанру, имеющему в истории европейской литературы и обширную авторскую традицию от дантовой «Комедии» до К. С. Льюиса. Продолжение поэмы с наибольшей полнотой выявляет «двухступенчатую эсхатологическую модель», намечавшуюся в более ранних произведениях Введенского (см. примеч. к №№ 8, 9, 13, 16, 17, 29.7 и особенно 14). Согласно этой модели, естественная смерть еще пе вырывает человека из царства обусловленности и времени; вторая, окончательная смерть приходит с концом мира, накаляемого Богом (с. 150) и огненным превращением предметов. Запредельное странствие героя составляет сюжет писавшегося в то же время произведения Д. Хармса «Лапа» (см.: [225, кн. 2, № 1221), герой которого, также анонимный — он обозначен как «земляк», т. е. житель Земли (см. примеч. к прологу), — возносится и посещает разные области неба.
— Я жив… / Я родственник — Может быть интерпретировано как попытка сознания опереться в экстремальной ситуации смерти на одну из устойчивых категорий — категорию родства. См. след. примеч.
— Ты число или понятие… — Интересно отнесение к умершему наиболее абстрактных, наряду с предшествовавшими конкретными снег, бутылка, и наиболее критикуемых Введенским концептов. См. примеч. к №№ 3 и 29.9.
— …придя Фомин в мои объятия… и т. д. — Впервые здесь вводится эротическая тема, получающая развитие в дальнейших частях поэмы.
…я приходил в огонь и в ярость… — Характерный прием поэтики Введенского, состоящий в интерполировании обессмысливающего элемента в осмысленное идиоматическое выражение.
— …бес… Бог… Наблюдая борьбу небесных сил… — Может быть представлено как рефлекс пролога, составляющий развитие его традиционной тематики, тем более, что эта часть произведения может быть осмыслена как пролог к дальнейшим ее частям.
— Я в унынии щёлкал блох… я насекомых косил. — См. примеч. к № 7.
— …я безголов. — См. с. 128 и примеч. к № 8,
— …Фомин, Фомин. / Вбегает мертвый господин, — «Слова вбегает мертвый господин повторяются в действе семь раз. И снова „неслучайная случайность“: впервые эти слова появляются в конце третьей сцены, в которой начинается за-смертная жизнь Фомина. Во второй раз они появляются в седьмой сцене, четыре роза перебивая (в виде авторской ремарки) вступительный монолог Венеры к этой сцене. В третий раз они появляются как заключительная авторская ремарка. В этой же сцене, причем в следующей восьмой сцене, наиболее длинной, меняется весь ход, характер и темп действия. Этими же словами закапчивается и все „действо“ …В последних двух строках эпилога открывается смысл или функциональное значение вбегающего мертвого господина: он молча удаляет время. В связи с этим напомню приведенную выше цитату из „Серой тетради“: Чудо возможно в момент Смерти. Оно возможно потому, что смерть есть остановка времени (№ 34, — М. М.)» (Я. С. Друскин).
— ПЕТР ИВАНОВИЧ СТИРКОБРЕЕВ… — Эта «парикмахерская» фамилия может быть поставлена, вероятно, в связь с мотивами седины, усов, волосков, волос на предшествующих страницах, тире — с обывательским колоритом вечеринки.
— Буду пальму накрывать… — Пример модели бессмыслицы у Введенского, создаваемый путем подстановке, легко восстанавливаемой с помощью контекста (пальму — вместо очевидного «стол»).
Войду приготовлю свечи… — Отметим обыгрывание здесь метафорического (медицинского) значения слова, соответствующего излюбленному образу Введенского.
— Комната тухнет. Примечание: временно. — Отметим введение здесь и далее в текст характерных для позднейших произведений Введенского метатекстовых элементов (см. также № 8, 24, 29.7, 30 (карт 8) и примеч.).
— МАРИЯ НАТАЛЬЕВНА… НИНА КАРТИНОВНА… далее КУНО ПЕТР. ФИШЕР — Другие любопытные эксперименты с именами собственными содержатся во фрагменте № 39 (см.), а также № 23 (Павел Павлович Чавкая), Ср. также №№ 20, 24. Куно Фишер — известный немецкий историк философии.
Я буду очень рад / отправить тебя в ад… а т. д. — Перебранка участников предстоящей дуэли носит черты архаического прения, сопровождающего эпические сцены поединков, например, у Гомера, в восходящего к фундаментальным диалогизирующим структурам сознания.
Шел сумасшедший царь Фомин… — Соотносится ли посмертное превращение Фомина в царя — с функцией Царя в сцене казни, и может ли лежать в основе этой трансформации сюжет заместительства при ритуальном убийстве Священного царя?
— …тарелка добра и зла… — Этот отрывок Я. С. Друскин сопоставляет СО строками дней тарелку озираю / боль зловещую терплю в Битве (№ 15, см. примеч.).
…я думаю мы уподобимся микробам. / станем почти нетелесными / насекомыми прелестными, — В связи с неуловимостью, нетелесностью обитателей энтомо- и микромира ср. сходный отрывок в Четырех описаниях (№ 23); в связи с темой насекомых см. примеч. к № 7.
В связи с интереснейшей «Беседой часов», составляющей дальнейшее развитие намеченной в начале темы времени, Я. С, Друскин замечает: «Беседа часов — это течение времени. Отравление часов — остановка времени. Она еще не наступила. Обе большие группы ключевых слов, выделяемых в Беседе часов, являются общими со стихотворением Сутки (№ 27), которое также может быть определено как поэтическое исследование проблемы времени. К первой из них относятся такие слова, как пустынник, утро, звезды, роща, земля, тьма, небо, точка, пустой (мир); к другой — всевозможные verba moviendi: опоздали, перебежка, догоню… вечно мчась, идти домой, двигаться, добраться, — и сопряженные понятия (гонцы, дороги, встретить, Енох на небо взятый). Невозможность рационалистического разрешения проблемы времени эксплицирована в заключительном стихе Беседы: и всё же до нас не добраться уму. Можно сказать, что один из смыслов волшебных разговоров часов заключается в их „непонятности для ума.“»
— …и звери те же часы. — Некоторая таинственная связь, существовавшая для Введенского между временем и животными, служат сюжетом ватой главы «Серой тетради» — Животные. (№ 34)
— …ты как Енох на небо взятый — Енох, седьмой патриарх, начинал от Адама, за благочестие, согласно апокрифической «Книге Еноха», восхищенный на небо Богом.
Иное сейчас наступает царство — Эксилицированные мотивы трансформации, превращения прослеживаются в разных, начиная с этого места, контекстах (ср. также выше: дуэль превращается в знаменитый лес), вплоть до завершающего «огненного превращения» в конце поэмы. Ср.; иную образует фазу / нездешних свойств; В иную нездешнюю фазу / вступает живущий мир; Царь мира преобразил мир; и в ужасе глядит на перемену; Да это особый рубикон,
— СОФ. МИХ. Прошу, прошу, / войдите… и далее. — «За эротической темой следует антиэротическая, и обе можно объединить как плюс-минус эротические сцены» (И. С. Друскин). О глубинной мотивировке «антиэротики» у поэтов круга Введенского см. статью Д. Фленшмана [220, с. 91 и нашу заметку «Несколько слов о Куприянове и Наташе…» [158].
— Я вас люблю до дна / достаньте пистолет, — Отметим изысканно эротическую метафорику этого фрагмента.
— Вот как я счастлив, — В связи с введением в текст детерминативов, обессмысливающих все высказывание в целом, см. вступит. примеч. к № 29.
Венера сидит в своей разбитой спальне… — Введение в качестве персонажа богини Венеры одновременно эксплицирует эротическую тему и отстраняет ее.
— …Щетиной поросло, угрями. — Б. Ванталов [100] указал хлебниковский подтекст: «А я, владычица царей. / Ищу покрова и досуга / Среди сибирских дикарей. / Еще того недоставало — / Покрыться пятнами угрей» («Шаман и Венера»).
Люблю, люблю я мальчиков… — Ср. примеч. в № 2 (с. 47).
…не слышит ея мычанья… — Здесь и на с. 145 сохраняем написание ея, которое, впрочем, может быть опиской машинистки (Т. А. Липавской?), еще помнящей дореформенную орфографию.
— Это коровник какой-то, я лучше уйду, — Сопоставимо со сценой из упоминавшейся уже «Лапы» Хармса, где герой в своем непредельном хождении попадает на небе в грязный птичник, где живут птицы, а также ангел, запертый имеете с ними на том основании, что у него есть крылья.
— …зеркало, суму и свечки… — См. ниже, примеч. к с. 147 и 150.
— …по комнатам несется вскачь ездок. — См. примеч. к №№ 5, 22, 28 и 81. Ср. далее: вы ездоки науки в темноте.
— …украсив свой живот пером, — Сходный образ в Четырех описаниях: растения берет он в руки / и украшает ей живот… (№ 23).
— Спросим: откуда она знает, что она то? — ср. примеч. к №№ 8, 29.5 и 29.10, а также, в связи с метатекстовой вставкой, выше, к с. 134.
Подумай, улыбнись свечой… — См. выше, примеч. к с. 134.
— …едва ли только что поймешь. / Смерть это смерти ёж. — Укажем на характернейший пример дискредитации Введенским самой категории понимания, являющейся для него, вместе с категориями значения и знания, ключевой, — путем логически несостоятельного, тавтологически-бессмысленного ответа на вопрос (здесь — подразумеваемый), относящийся к запредельной категории смерти.
— …конец… свинец. — Можно здесь видеть, вероятно, генезис одной из основных порождающих матриц в тексте позднейшего произведения Введенского Потец (№ 28), — см. примеч. к №.№ 8 в 28. Рифма на — ец не оставляет Введенского и далее (рифма творец — купец).
Важнее всех искусств / я полагаю музыкальное. — См. примеч. к №№ 10 и 29.2. Парафраз известного высказывания Ленина о киноискусстве.
— …кости чувств. — Соположение музыки с таинственной категорией чувства у Введенского отмечается также в № 28, — см. примеч.
Но по-моему никто не играл. Ты где был? — …Мало ли что тебе показалось что не играли… и т. Д. — Может быть сопоставлено с Разговором о воспоминании событий (№ 29.3 и примеч.)
— Когда я лягу изображать валдай. / волшебные не столь большие горы… — См. ниже, примеч. к с. 149.
— Деревья… Богом забытые… Весь провалился мир… Весь рассылался мир. — Состояние оставленного Богом мира (ср. ранее: …а Бог на небе молчит), предшествующее огненному его Божественному преображению в конце поэмы, есть настоящее царство смерти, на троне которого восседают гордые народы, провозгласившие человека начальником Бога. — Категория разъединенности, дробности, дискретности мира, оставленного Богом, высоко характера для поэтического универсума Введенского, — ср. хотя бы Четыре описания (№ 23): Не разглядеть нам мир подробно / ничтожно всё и дробно… и примеч., см. также примеч. к № 29.7.
По бокам стоят предметы / безразличные молчат… — Ср. далее: где предметы ваша речь; Сухое солнце, свет, кометы / уселись молча на предметы — В связи со статуарностью предметов — молчащих свидетелей — см. примеч. к № 29.7.
— …кометы / во сне худую жизнь влачат… / …под бессловесною лупой… / …Как во сне сидят пароды… / …Человек во сне бодрится… / …Только ты луна сестрица, / только ты не спишь мой друг. — Весьма любопытно соположение характерных для Г. Гурджиева соответствующих мотивов, — луны бодрствующей за счет «сна человечества» — при выявленной О. Роненом мандельштамовской реминисценции тех же мотивов.
— …уста закапаны слюной. — Тот же образ см. в № 24.
— …с числом вошел Фомин. — Появление Фомина с числом (см. примеч. к № 3) особенно актуально в связи с установкой гордых народов на то, чтобы землю мерить, землю изучать (здесь же), заниматься умножением (далее) и т. п.
— …в зеркало глядим. / В этом зеркале земля / отразилась как змея. / Её мы будем изучать. — Интересно появление мотива зеркала в контексте следующей далее апологии дискурсивного мышления (ср. лат. speculotio при speculum — зеркало, reflectio — отражение и «рефлексия»): народы, тем самым, изучают не самоё землю, а ее отражение в зеркале (ср. известную теорию отражения в материалистической философии). Выше зеркало упоминалось уже в связи о мотивом ездока (…забрав с собою в путь зеркало, суму и свечки), где, в окружении других эсхатологических образов (ср. предпоследнее примеч. к с. 150), выявляется иная, магическая символика зеркала (потусторонний мир Зазеркалья и т. д.).
— …земля… змея… — См. примеч. к № 9.
Мы знаем, что земля кругла… и т. д. — Пример наиболее развернутой поэтической критики рационализма в творчестве Введенского.
— …что на земле есть три угла… — Очевидно, три измерения пространства.
— Родоначальники я к вам пришел… и ниже: Родоначальники довольны ли вы? — Подобно «ритуальному» появлению а сцене казни — царя, в сцене конца мира — обращение героя к «родоначальникам».
— …и начал превращенье — Ср. ниже реплику Народов: Мы не можем превращенья вынести. — «Слово превращенье здесь имеет уже явно эсхатологический смысл. И тем же словом обозначает Введенский отождествление двух членов оппозиции слово ←→ предмет (в стихотворении Гость на коне, № 22. — М. М.). Это не случайно, во всяком случае это не случайная случайность. Логос у Введенского объединяется с алогичным словом, с превращением предметов, с остановкой времени» (И. С. Друскин).
Также созданы мужские горы… — Ср.: мужские холмы озирал — в Минине и Пожарском (№ 2, с. 50). Интересно, что Фомин представляет горы «мужскими», хотя в кругу архетипических представлений горы как часть земли отождествляются обычно с женским началом. Ср., однако, ранее, в монологе Женщины: Когда я лягу изображать валдай, / волшебные не столь большие горы… — К Морю, в полном соответствии с архаическими представлениями, Охотник (в ст-нии Кончина моря, № 17) обращается в женском роде; море море госпожа…
— …а вот перед вами течет вода / она рисует сама по себе… — Апологии дискурсивного мышления и антропоцентрического утилитаризма Фомин пытается противопоставить картину необусловленной реальности.
— И в нашем посмертном вращении / спасенье одно в привращении. — См. выше, примеч. к с. 140 и 148.
— …глядите вся земля вода. / Глядите вся вода сутки. — В связи с архетипическим соположением мотива воды с мотивом времени (ср. хотя бы выражения типа «много воды утекло»), см. примеч. к № 27, а также к №№ 7 и 16.
— …на смерть изображающую пену. — Реализация мотива, намеченного в начале произведения.
…стою подобный мне. — См. примеч. к № 2, с. 45; ср. №№ 10, 26 и примеч.
— Оба ничего не внаем, не понимаем, — Самоуверенности гордых народов — Всё мы внаем, всё понимаем — противопоставлена важнейшая для Введенского категория непонимания (см. примеч. к № 9).
— …грохочет зеркало на обороте… в этом повороте… — В свете сказанного в примеч. к с. 147 чрезвычайно интересен мотив переворачивания зеркала, с одной стороны, кладущего конец рационалистическому познанию, с другой, как бы открывающего путь в «зазеркалье», т. е. в потусторонний мир, на взыскуемый героем тот свет (ср. с. 142).
…жжётся… горит… горячий… горит… закипело… пылает… Пир накаляется Богом… пепел… раскалённые… котлы… горячкой… тепло. — Настоящее огненное преображение этого мира, предсказанное еще в начале поэмы, наступает только с вмешательством Бога (Тема этого событья / Бог посетивший предметы) и по своим эсхатологическим последствиям оно хуже чем сама смерть. — Ср. в связи с мотивами «двухступенчатой эсхатологической ситуации» и «второй смерти» примеч. к с. 132).
…где предметы ваша речь. — См. выше, примеч. к с. 147.
— Лежит в столовой на столе / труп мира в виде крем-брюле — Интересно сопоставление с Мининым и Пожарским (№ 2, С. 61): лежу двояким на столе / и жилы как бы фонарное желе / и не дует…
— Дубы поникли головой… — См. примеч. к № 32.
Крылом озябшим плещет вера… / …Воробей летит из револьвера… Полёт орла струился над рекой… / …И ты орел аэроплан… и т. д. — См. примеч. к с. 127.
— …и держит в клюве кончики, идей. — См. примеч. к № 10.
— Фомин… / …молиться начал. Быть может только Бог. — См. начальные замечания Я. С. Друскина, к которым мы хотели бы добавить, что, подобно Иову, Фомин прозревает лишь после преобразившего мир Божественного посещения, оставившего от рационалистических спекуляций только кончики идей в воробьином клюве, и его последняя молитва есть признание абсолютного монизма (см. многократное боги на протяжении всего произведения).
— …двухоконною рукой / молиться начал, — Г. А. Левинтов выразил мнение, что в выделенном сочетании имплицирован символ двухперстного крестного знамения. Укажем попутно на название недошедшего до нас раннего произволения Введенского: Состояние двухперстного ощущения времени (См. Приложение III, № 90).
— Полет орла струился над рекой. / Держал орел икону в кулаке…..И ты орел аэроплан… — См. подробно об эсхатологической символике орла прим. к № 2, с. 57. Добавим, что такая символика непосредственно связана с мотивами возрождения я обновления: в идущей от античности традиции бестиариев орлу приписывается полет к солнцу, отчего его перья сгорают, с последующим падением в воду, из которой он снова выходит молодым (ср. Пс. 102, 5: «…обновляется, подобно орлу, юность твоя»), — ср. след, стих и примеч. к нему. Отметим также, что орел как существо солярное и воздушное является традиционным врагом и уничтожителем атонического змея, что особенно интересно при имеющихся у Введенского сравнениях со змеей земли (с. 147) и воды (моря — № 9).
— …сверкнешь стрелою в океан / или коптящей свечкой / рухнешь в речку. — Отметим соединение здесь эсхатологического мотива свечи с мотивом воды (с ее временной семантикой). Катастрофическая его реализация находит полную аналогию в стихотворении Сутки (№ 27): Шипит брошенная в ручей свеча, / из нее выходит душа.
— Горит бессмыслица звезда, / она одна без дна… — Эта формула, ключевая для поэтики Введенского, стала некоторым ее символом; в частности, ее взял названием к своему обширному исследованию Некоторого количества разговоров (№ 29) Я. С. Друскин.
— Вбегает мертвый господин / и молча удаляет время. — См. замечания Я. С. Друскина в примеч. к с. 133.
20. Куприянов и Наташа*
Машинопись с авторской правкой, принадлежавшая художнице А. И. Порет и подаренная ею К. Сапгир. Впервые опубликовано: [27] (неточный текст), Оригинальный текст был найден нами уже после нашей публикации пьесы по копии в 1978 г., однако были обнаружены лишь два разночтения.
По воспоминаниям Т. Л. Липавской и Я. С. Друскина, произведение было написано вскоре после августа 1931 года. Эта дата подтверждается и тем, что фрагмент — Кругом ничто не пело / когда она показывала свое хитрое тело — отмечен Д. И. Хармсом, который часто фиксировал интересовавшие его чужие строки, на обороте его собственного стихотворения «Узы верности ломаешь…», датированного 8 сентября 1931 года.
Разговор с Т. А. Липавской о Куприянове и Наташе, записанный Я. С. Друскиным, приведен в ПСС, т. 2, с. 280–283.
«…Введенский как-то по-особенному увидел алчность и смрад греха: судаки, механизация греховного акта, отвращение, бездушность и мертвенность, пустынность, и все это — исчезающая видимость. Куприянов даже не умирает, а постепенно исчезает, рассеивается, как дым. И остается природа, предающаяся одинокому наслаждению. А над всем этим, отрицая все это, отрицая обман, хитрость природы и смерть — Спаситель на иконе: „единственная надежда: Христос воскрес“» (Введенский в «Серой тетради» (т. е. в № 34 — М. М.) (Я. С. Друскин). См. также: М. Мейлах [158]; К. Кузьминский [138].
— …приводив тех свиных гостей… — В связи с интродукцией Введенским в текст не имеющих денотатов местоименных детерминативов, см. нашу вступит. статью ко второму тому.
— Пугая мелу горит свеча… — По поводу этого образа, одного из ключевых в произведении, см. примеч. к № 2, с. 47,— а в связи с его собственно эротическими, как здесь, импликациями, ср. №№ 23, 29.8 и 30 (карт. 1) и примеч. См. также ниже.
— Я даже позабыл, Маруся, / Соня… — В связи с произвольностью номинации, соответствующей, в данном произведении, безличности эроса (ср. ниже: любовь камней не состоялась), шире — с принципиальной анонимностью некоторых героев Введенского, см. примеч. к № 24 и замечания Я. С. Друскина (но поводу анонимности Эф) к № 19.
— И будем мы подобны судакам, — Куприяновское уподобление себя и Наташи судакам, которое он делает дважды в этом тексте (И мы не были подобны судакам — далее), повторяется, по-видимому, у Олейникова: «И если я судак, то ты подобна вилке» («Послание», — см.: [182, с. 124]).
— …и шевелился полумертвый червь, — О библейском подтексте (Ис. 66, 24 — Мр. 9, 44) см. в нашей статье [153]. Добавим лишь, что мотив червя, многократно встречающийся в произведениях Введенского, здесь выступает в специфическом значении, связанном с архетипикой либидиальных и фаллических представлений.
…и грудь твоя как два котла, / возможно что мы черти… / …я вся как будто в бане. — Интересное скрещение мотивов инфернальности с мотивами бани, реализующееся в восьмом Разговоре (№ 29.8), действие которого происходит в бане, но о которой, в частности, устами одной из участниц говорится: Может быть это ад (см. примеч.).
…последнее колечко мира, / которое еще не распаялось. — Ср.: весь рассыпался мир… — с. 146 в примеч.
— Наташа, гляди светает… Восходит солнце мощное как свет — См. по поводу возможного преломления здесь мотивов традиционного жанра альбы нашу статью [158]. Отмстим, напротив, выраженный на протяжении произведения мотив недостатка света от горящей свечи (см. выше).
— …не виноват же я что верил в силу последнего чувства — См. примеч. к № 5, а также к №№ 28 и 31.
…Я не верил в количество звезд / Я верил в одну звезду. — Т. A. Липавская указала, что эти стихи цитируют стихотворение Введенского 1920 года. См. № 42.
— Оказалось что я одинокий ездок… — См. по поводу этого мотива примеч. к №№ 5, 22, 31, а также № 19 (с. 143).
— Я превращаюсь в лиственницу… …она дерево. — Здесь мы встречаемся с необычным вариантом известной фольклорной трансформации «женщина — дерево» (Th. Met. D. 215).
— Он становится мал-мала меньше и исчезает. — Заметим, что выражение «мал-мала меньше» нормативно и содержательно относится обычно только к детям. — Ср. подобное же исчезновение Федора в пятой картине Ёлки у Ивановых (№ 30) и его реплики об «исчезновении», а также последние строки Гостя на коне (№ 22), которые могут быть интерпретированы как описание грехопадения человека.
21–24
Автографы. Время написания каждого из этих произведений неизвестно, однако все они, по воспоминаниям близких, датируются периодом между 1930–1934 гг. Крайний срок устанавливается из того факта, что все рукописи, составившие основное собрание, были, за вычетом №№ 28–30, переданы Введенским Хармсу в 1934 году. Впоследствии (в 1938–1939 гг.) к ним были присоединены только машинописи последних дошедших до нас крупных произведений Введенского (№№ 28–30).
21. Мир*
Обозначения персонажей слева от стихотворного текста необязательно вводят здесь их прямую речь, в большинстве случаев служа как бы заголовком, подписью к тексту.
— …обе силы в голове. — Очевидны далеко идущие следствия философской интерпретации этой строки.
— Человек сидит на ветке / и воркует как сова… — Ср. аналогичный образ в Зеркале и музыканте (№. 10).
— …верблюду: Иуду (напомнил); …верблюд: блюд (я не ем); …ведь не в этом сходство тел…; …потный рак: плотный фрак (не похож)… — Отметим метапоэтическое значение этого фрагмента, в котором обсуждается как бы правомерность ассоциаций по фонетическому сходству, составляющих один из излюбленных приемов поэтики Введенского (ср. примеч. к №№ 2 (с. 57), 14, 24 и 28).
— Как жуир спешит тапир… — По поводу этого экзотически звучащего названия животного, восходящего к языку тупи (Бразилия), Вл. Эрль замечает: «В 1935 или 1936 году Даниил Хармс предполагает выпускать рукописный журнал „Тапир“. В это же время он подписывает словом Тапир несколько своих заметок (возможно, предполагаемых для журнала). Позже, в 1937 году, рисуя герб „Ордена равновесия с небольшой погрешностью“, Д. X. изображает тапира в нравом нижнем поле щита» (См.: Д. Хармс. [225, кн. 7]. — М. М.). У Введенского (кроме знаменитой Поясняющей мысли в «Разговорах», — № 29, 7) тапир появляется впервые в данном стихотворении, написанном, скорее всего, в 1930 году, в двустишии, заставляющем вспомнить «Куплеты Мефистофеля»: Как жуир спешит тапир / на земли последний пир.
— …а на блюдечке четверг. — Отмечая значимые употребления Введенским слова четверг (вы секли его каждый четверг, № 8; и побледнел кузен четверг, № 9; все живут предметы / лишь недолгий век, / лишь весну да лето, / вторник да четверг, № 19; наконец, единственный день недели, названный в перечислении различных временных отрезков в «Серой тетради», — снова четверг: Человек говорит: завтра, сегодня, вечер, четверг, месяц, год, в течение недели, — № 34), Вл. Эрль пишет: «Строка, очевидно, реминисцирует ст-ние А. Крученых „Мироздание начинается с четверга…“, в свою очередь восходящее к библейскому: „И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов… И был вечер, и было утро: день четвертый“ (Быт., 1, 14–19). Таким образом, можно считать, что Введенский, вслед за Крученых, началом мироздания считал именно четверг — день сотворения времени».
22. Гость на коне*
Впервые напечатано В. Казаком [71] (неточный текст).
— Стихотворение дает богатейшую возможность для философской и религиозной интерпретации.
«Целая цепь семантических инверсий дана в стихотворении Гость на коне. Инверсии эти начинаются со стиха Боль мою пронзила / кость — вместо „нормального“ кость мою пронзила боль. — Далее, эхо — отражение звука; в последующих стихах различаются два мира, один мир над рекою, другой отражается в реке, как в стекле, один наш мир, другой — антимир. Тогда закономерно к то, что в поэтической модели антимира медаль носят не на груди, а на спине; закономерна и обратная руна: в зеркале правая рука становится левой, т. е. другой или обратной; это не номинальное, я реальное преобразование пространства; Л. Д. Ландау сказал: „Если бы мы могли увидеть античастицу, она выглядела бы как отражение в зеркале соответствующей ей частицы.“
Наконец, человек из человека — мир и антимир — на одном и том же месте, если возможно вообще говорить о месте в применении к миру: все места, т. е. пространство, как и время, в мире, во сам мир, т. е. Вселенная, не имеет места. По теории относительности (и по бл. Августину, как об этом писали и физики) не мир во времени и пространстве, но время и пространство в мире.
Этот отрывок из Гостя на коне — поэтическое интуитивное предчувствие физической теории антимира.
Семантическая инверсия в Госте на коне (антимир) может быть названа реальной инверсной. У Введенского есть не только пространственная реальная инверсия, но и временная: чтобы было все понятно / надо жить начать обратно (Значенье моря). Здесь сказано не „с начала“, а именно обратно. …я вижу ночь идет обратно сказано в стихотворении Факт, Теория и Бог, и здесь, далее: Ко мне вернулся день вчерашний. Наконец, в Приглашении меня подумать (№ 25): Мы видим лес шагающий обратно / стоит вчера сегодняшнего дня вокруг.
В последнем примере — лес шагающий обратно — одновременно и пространственная и временная реальная инверсия, т. е. в четырехмерном пространстве-времени.
В 1939 году Введенский рассказал Т. Липавской о теме предполагаемой повести или романа, в котором время шло бы в обратном направлении: после сегодняшнего дня шел вчерашний, потом позавчерашний и т. д. Причем это должно было быть не воспоминанием, а реальным обратным ходом времени: причина следовала после следствия…» (см. Приложение III, № 113. — М. М.) (Я. С. Друскин).
— Гость на коне; …конский потоп…; …опыт / превращения предмета… — Ключевые для поэзии Введенского образы коня и всадника (см. прим. к № 5, а также заключительный стих Элегии, — № 31), осмысляемые здесь в связи с таинственным превращением предметов, окрашенным в эсхатологические тона, согласуются с функцией этих образов в мировой мифологии как связанных с переходом между двумя мирами, однако обширнейшая символика того и другого образа (ср. хотя бы амбивалентность коня — животного и хтонического, и солярного, его связь, имеющую возможные рефлексы в ст-нии, со стихиями огня и воды (моря), а через последнюю — со временем, его интимную связь с человеком и его функцию как носящего на себе богов; подобным образом, полярными значениями может наделяться и мотив всадника — от победы, триумфаторства и т. д. до связанных с мучительным страхом перед неконтролируемыми областями природы и психики) — оставляет возможности для многообразных интерпретаций. В связи с эсхатологической окрашенностью образа ср. также мотивы апокалиптических всадников.
— …пена каплет с конских губ, — Ср. близкие образы в № 19, с. 147 и № 24. Ключ к истолкованию этого образа может быть обнаружен из аналогии с подобным мотивом на с. 149 (…на перемену, / на смерть изображающую пену, — № 19).
— Вечер был на расстояньи / от меня на много вёрст. — Отметим характерное для поэтического универсума Введенского соединение пространственной и временной категории: последняя, между тем, в скрытом виде присутствует ужо в предыдущем стихе, в сочетании …зверей, воды… (см. примеч. к № 19, с. 139). Интересно, что необычный опыт героя стихотворения совершается вне этих категорий, — время (Ко мне вернулся день вчерашний) и пространство (я созерцал / вновь / расстоянье) возвращаются к нему только но завершении опыта, осмысляемого как «забытое существованье».
— …опыт / превращения предмета / …в слово… — Ср. категорию «превращения слова в предмет» у Введенского (№ 9. 26 и примеч.). В данном, однако, тексте, строящемся на поэтической реализации принципа обратности (см. выше), мы соответственно встречаемся с инвертированной категорией превращения предмета в слово. Любопытно, что здесь мы находим немного далее «превращенный предмет» — обэриутский шкап, который претерпевает обратную трансформацию в № 26.
— Боль мою пронзила / кость, — Тема перехода в «обратный мир» тонко выражена Введенским и на уровне «грамматики поэзии»: подлежащее и дополнение различимы здесь только интонационно и исходя из порядка слов. Магическое значение кости (наряду с ее значениями здесь как сути, основы) встречается у Введенского в № 25 (см. примеч.).
— …как пушинка / или жук… / …насекомых и наук… — Интересно соположение противостоящих друг другу не только у Введенского, но и у других поэтов его круга, особенно у Олейникова, мотивов насекомых (мира природы) и мира науки. Ср. примеч. к №№ 7 и 23.
— …я сказал смешную фразу / чудо любит пятки греть. — Отметим метапоэтическое и философское значение этого отрывка, в котором бессмысленная фраза, произнесенная героем в экстремальных условиях светопреставления и имеющая креационный эффект (ср. след. стих: Свет возник… и т. д.), характеризуется как «смешная».
— …через час исчез. — В связи с мотивом исчезновения см. примеч. к № 20.
23. Четыре описания*
Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст). Сохраняем авторское написание слова деньшик. Возможно, об этом сочинении Введенский писал Хармсу из Борисоглебска. 6 декабря 1932 г.: «Третий день подряд пищу некоторую вещь. Написал уже страниц 8–9, а конца еще нет».
— Отметим связь произведения с рассказом «Три смерти» Л. Н. Толстого, упоминаемого, кстати, в тексте.
— «…В этой вещи восемь действующих лиц, авторских ремарок нет. Четверо — покойники, рассказывающие о своей смерти — когда, при каких обстоятельствах и как они умерли. Четверо других действующих лиц — Зумир, Кумир, Чумир и Тумир. Кто они — трудно сказать, может быть, это ангелы-хранители четырех покойников, лучше назовем их вестниками — буквальный перевод слова αγγελοι. Термин „вестники“ введен Л. Липавским. Введенский только в одном месте называет умерших, рассказывающих о своей смерти, покойниками: Да, покойники, мы пьем из невеселой чаши… В остальных случаях он пишет: 1-й, 2-ой, 3-ий и 4-ый умир.(ающий). Почему такая странная запись — точка после умир., окончание слова — в скобках? Т. Липавская дала интересное и, по-видимому, правильное объяснение. Ведь они уже умерли, они уже на том свете, там же, где Зумир, Кумир, Чумир и Тумир. Поэтому Введенский ставит точку после „умир“; одинаковые окончания двусложных имен вестников с того света и части слова „умирающий“ связывают вестников с покойниками, рассказывающими о своей смерти. При этом они уже умерли и одновременно они умир.(ающие) и рассказывают о своей смерти.
…Каждое из четырех описаний заканчивается актом смерти и указанием года. Это не случайно: Чудо возможно в момент смерти. Оно возможно потому что смерть есть остановка времени. („Серая тетрадь“, 1, Время и смерть. 1932). Для каждого из умир.(ающих) время, то есть год смерти, различно, но когда они умерли, это уже не важно: Теперь для нашего сознанья / нет больше разницы годов… Они уже умерли и они же — умир.(ающие) — рассказывают о своей смерти: они живые в акте смерти, когда время останавливается» (Я. С. Друскин).
— Зумир… Тумир… — В добавление к сказанному выше Я. С. Друскиным заметим, что эти имена представляются нам связанными анаграмматически и иконически с обозначением 3-го (или Третьего) умир.(ающего), а Чумир — с обозначением 4-го (или Четвертого). Кроме того, сопоставление с рифмой мир: кумир (№ 5, см. примеч.) позволяет предположить зашифрованность в этой серии имен значимого для Введенского слова мир (ср. одноименное произведение, № 21). Таинственные кумиры появляются, кроме того, в № 14 (см. примеч.).
— Существовал ли кто? — Ср. радикальное сомнение в существовании своего собеседника, выражаемое ВТОРЫМ и третьем Разговоре (№ 29.3), — см. примеч., а также отрицание Фоминым присутствия Носова (№ 19, с. 146).
— …кем их секунды смерены. — См. примеч. к № 3.
— Прерву тебя… и т. д. — Ср. аналогичную формулу в № 20.9.
— Луна с лупой… / …Мы спим, мы спим. — Ср. сходное соположение на с. 147 (№ 19, см. примеч.).
…ни пауков и ни ворон… / …лежат как мухи на спине. / …Не разглядеть нам мир подробно… — По поводу «бестелесности» насекомых, см. примеч. к № 7 и особенно к № 19 (с. 138); ср. последнее примеч. к данному произведению.
— ничтожно все и дробно. — См. примеч. к № 19, с. 146.
«…Мысль Введенского все время движется в противоположениях, причем противоположные члены оппозиция отождествляются. Коммуникации предполагает контакт, то есть связь. Введенский утверждает наиболее тесный контакт, но находит его в „бессвязности мира“ и в „раздробленности времени“». В «Разговорах» Л. Липавского: «….я убедился в ложности прежних связей…» (см.: Приложение VII, 39.1. — М. М.). Тогда же, в 1934 году, он сказал: «Я понял, чем я отличаюсь…» (см.: Там же, 39.12. — М. М.). О «мгновенности» жизни писал еще Кьеркегор, его последняя вещь — «Листки», под названием «Мгновение». До Кьеркегора об этом говорил и Паскаль: «Большинство людей вообще не живут, так как живут или в воспоминаниях, то есть в том, чего уже нет, или в ожидании будущего, то есть в том, чего еще нет.»
В «Серой тетради» эта «дробность» и «рассыпание» мира понимается как «мерцание» мира: …Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия <…>, то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь) («Серая тетрадь». — См. № 34. — М. М.).
В прозаическом заключении стихотворения Колоколов, написанном в то же время (1932 год), снова идет речь о дробности мира и времени, причем объединяется с иероглифом свечи (см.: Там же. — М. М.) (Я. С. Друскин). — См. также примеч. к № 29.7.
— На столике свеча дымится… — По поводу соположении эсхатологических мотивов, с которыми у Введенского обыкновенно сопряжен образ свечи, с эротическими см. примеч. к № 20. Образ вянущей свечи (Свеча завянет — немного далее) повторяется, при подобном же соположении, в восьмом Разговоре (№ 29.8).
— Растения берёт он в руки / и украшает ей живот… — Ср. совершенно схожую образность в № 19, с. 143 (см. примеч.). Чрезвычайно любопытна просвечивающая сквозь эту образность универсальная символика плодородия. Не менее интересно сочетание цветами музыки (ее он украшает) в следующем стихе, при том. что в других произведениях содержатся указания как на хтонический (см. № 29.2 и примеч.), так и на эдемический (№ 19, с. 115) характер музыки у Введенского. Цветы, с их амбивалентной семантикой растительного цикла (ср. образность, связанную с их вознесением в прологе № 19 — Священный полет цветов) играют в этом сочетании роль своеобразного посредника между двумя сферами значений понятия музыки у Введенского.
— Свеча завянет… — См. немного выше.
— …где бьет ночной прибой… / …пену волн… — См. по поводу этой эсхатологической образности примеч. к № 19 (с. 128).
— …богоподобные орлы, — Ср. библейские орлы в № 2 (с. 57 и примеч.) и эсхатологический образ орла в эпилоге поэмы Кругом возможно Бог (№ 19).
— Так значит нет уверенности в часе, / и час не есть подробность места… — и т. д. — Отметим еще один пример эксплицирования пространственно- (скорее, антипространственно) временных представлений Введенского. См. примеч. к № 22.
— О, дай мне синьку — с начальным торжественным О, примыкающим к предшествующему торжественно-декларативному Час есть судьба, может служить примером одной из моделей поэтики Введенского, наделенных функцией дискредитирования рационалистических высказывании о радикальных проблемах жизни и смерти. См. примеч. к № 19, с. 144.
— Мы взяли Перемышль и Осовец… — Город и крепость, первый в Галиции, вторая — вблизи Гродно. Любопытно, что название Перемышль встречается в неизданных фрагментах поэмы Хлебникова «Дети выдры» (архив М. Л. Лозинского).
— …река течет одновременно покорная своей судьбе. — Ср. заключительный стих Священного полета цветов (№ 19, пролог). Возможно, здесь реминисценции Боратынского:
Ср. обратную образность в «Где, Когда»: Река властно бежавшая по земле. Река властно текущая. Река властно несущая свои волны. Река как царь (№ 32), и особенно в «Серой тетради»: Или, или, или смотрим, течёт синяя от своей непокорности река (№ 34).
— …Павел Павлович Кавказ. — Ср., по поводу экспериментов Введенского с именами собственными примеч. к № 19, с. 134. С исторической точки зрения перечисление всех этих имен собственных носит, конечно, абсуржирующий характер.
— А вышел я на край реки… / …Я был и ранен и убит. — См. по поводу соположения мотивов реки (с ее архетипическим значением границы, при одновременной символике воды, связанной с движением, изменением) и смерти примеч. к №№ 2 (с. 56) и 29.7, а шире — воды и времени, — примеч. к №№ 19, с. 149, 27 и 34.
— Я сидел в своей гостиной… / …я сидел и ждал гостей / без костей, — Еще один пример матричного порождения бессмысленных рядов, организованных в плане выражения.
— Картины Репина про бурлаков… — Хочется отметить лаконизм, с каким философия передвижничества выражена здесь в одной предложной конструкции. — В связи с «историческими деталями» в этом произведении см. наши замечания во вступит. статье ко второму тому. Ср. также № 30.
— …на пять и шесть частей. — См, примеч. к Пять или шесть (№ 8).
— Был бой. Гражданская война… — Было бы интересно попытаться определить, на какой стороне сражался 4-й умир.(ающий). Некоторый свет на это проливают, кажется, материалистические высказывания командира и самая форма его обозначения. Ср.: ни комиссар, / ни Красной армии боец, / мужчина этот Валтасар, / он в этом мире не жилец.
— В моих зрачках число четыре отражалось, — Связано ли это с названием произведения — Четыре описания?
— …нет больше разницы годов. / Пространство стало реже… — Еще одно соположение временных и пространственных категорий (ср. выше).
— …и все слова — паук, беседка, человек — одни и те же, — Можно ли интерпретировать этот фрагмент как высказывание о снятии знаковых коммуникаций и ситуации выхода сознания за пределы дискурсивного мышления во времени (Теперь для нашего сознанья / нет больше разницы годов) при знаковом тождестве в этой ситуации? Заметим также, чти противопоставление мир насекомых — мир науки (см. примеч. к №№ 7 и 22) имплицировано здесь фонетически в созвучии паук и мы все исчадия наук тремя стихами ниже.
24. Очевидец и крыса*
— Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст, Сцена на шестом этаже и заключение отделены от основного текста и напечатаны как самостоятельные произведения).
— «…Названия вещей Введенского, написанных после 1928 года, соответствуют в какой-то мере содержанию или теме. Например, Куприянов и Поташа, Четыре описания, Некоторое количество разговоров, Потец и Ёлка у Ивановых — всюду ясна связь содержания с названием, и так же в большинстве его вещей. Как понять название Очевидец и крыса? Очевидец — это Он наблюдающий происходящие перед ним события, рассказывающий, иногда размышляющий о них. А крыса? если вспомнить три главные темы Введенского, вспомнить четырех потусторонних вестников, выслушивающих рассказы умирающих умов об их смерти, вспомнить заключение к «Где, Когда»: Все эти шестерки, пятерки. Всю ту — суету … — то, может, для очевидца, наблюдающего жизнь, вся эта суета — крысиная возня, как и Пушкинских «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»:
(Я. С. Друскин).
— …будущие спят гробы, / сосны, если и дубы. — Ср. №№ 29.10, 32 и примеч., а также № 19 (с. 151); двумя строками ранее — упоминание, с эсхатологической символикой этого образа — спящего орла.
— …омраченная луной. — Пример характерной модели бессмыслицы за счет подстановки противоположного по смыслу понятия (вместо очевидного освещенная). — Ср. примеч. к № 2 (с. 57).
— …волчица, / пасть облитая слюной. — Ср. сходную образность — №№ 19 (с. 147), 22 и примеч. к ним.
— Лежебока, бедный всадник…— См. примеч. к №№ 5, 22 и особенно заключительный стих Элегии — певец и всадник бедный (№ 31).
…входит в темный палисадник, / кость сжимая в кулаке… /…лихую гладит кость. — Соположение этих двух мотивов мы встречаем в № 2 (с. 49). Любопытно несомненно присутствующее здесь анаграмматически зашифрованное в нагнетании слов кость, трость, тостом, кость (в том числе рифмующих) слово гость с его выявленной в стихотворении Гость на коне (№ 22) мистической символикой (ср. здесь также, в ближайшем окружении, мотивы коня, тройки, дороги, приезда). Известна мистическая же символика самой кости, употребление костей в магии, при магических трансформациях и т. д.(ср. превращение отца в детскую косточку, — Потец, № 28).
— Я мысли свои разглядывал… / …иные начертания… / …близкие границы… и т. д. — См. примеч. к № 10. Можно сказать, что интенцию всех произведений Введенского этого периода составляет поэтическая критика концептуального восприятия мира человеком.
— Пока он говорит… и т. д. — О подобных метатекстовых ремарках, которые встречаются и далее в этом произведении, см. ниже, а также примеч. к № 24 и 28–30.
— Все рассечено… — Ср. примеч. к №№ 9, 23 и мн. др.
— На тарелках сидят… — См. примеч. к № 15 и 19 (с. 137).
— Петр Иванович Иванович Иванович… — См. примеч. к № 19 (с. 134) и 23.
— Входит Лиза или Маргарита. Одна из двух…— Помимо соположения двух романтических имен (оба они встречаются в «гетевских» произведениях Хармса этого времени — см. «Месть» и «Гвидон» [225, кн. 2, № 112 и 123]), отметим здесь нарушение Введенским — в терминх О Г. и И. И. Ревзиных — постулата тождества участников акта коммуникации, либо утверждение произвольности номинации. См. примеч. к № 9, а также начало № 20, где Куприянов обращается к Наташе как к Марусе, Соне…
— …чаю дать вам иль часы. — Пример организации Введенским бессмысленного текста на основе паронимических повторов (слог ча-, рифма: часы — носы). См. выше примеч. к № 23.
— После этого три часа играла музыка. Разные вальсы и хоралы. — По поводу значения мотивов музыки и их соположения с мотивами смерти и конца света см. примеч. к № 19 (с. 145), 25 и 29.2
— Мы еще не поняли убийства… и т. д. — По поводу категории понимания — непонимания см. примеч, к № 9, а также № 34 (в примеч.).
— …убийства… слова… дела… ноже, — Эта последовательность от абстрактного понятия к конкретному орудию интересна в связи с концепцией Введенского превращения «тяжелеющего слова» в предмет (см. примеч. к № 9; там же и др. отсылки).
— Костомаров… — П. И. Костомаров (1817–1885) — известный русский историк и этнограф.
— Тринадцать лет. / Двенадцать лет… Кругом одни кустарники. — По поводу соположения мотивов кустарников и времени (монолог к тому же вложен в уста историку) см. примеч. к №№ 17, 18 и 24, а также 19 (с. 139).
— …и увидели следующую картину… и т. д. — В связи с этой «материализацией метафоры» ср. начало Картины первой Елки у Ивановых (№ 30): На первой картине нарисована ванна…
— …подобно орлу… — См. примеч. к № 24.
— Быть может страна иль диваны… — Диван — повторяющийся образ у Введенского, необычным образом связанный с космосом и смертью — так, в контексте этого отрывка; ср. также Слуги, вносят большой диван / на диване люди птицы / мысли мыши и кусты… и т. д. (№ 17). Ср. также повторяющиеся ремарки Появился диван — Диван исчез… при заключительном Певец умер во втором Разговоре об отсутствии поэзии (№ 29.2).
— …морские пучины…. / имеют о ней представленье. — Т. е. о смерти. Ср. в связи с эсхатологической образностью моря примеч. к № 9, 16 и 19 (с. 128).
— Жуки и печальные пташки… — См. примеч. к № 7.
— Уже усталая свеча...— О сочетание образа сличи с эсхатологическими и эротическими мотивами см. примеч. к № 2 (с, 47), 19 (С. 130), 23 и 29.8. Ср. далее, в Сцене на шестом этаже, реплику Курсистки, перед тем, как она бросается из окна: На подоконник свечкой становлюсь.
— Перед ним вставали его будущие слова, которые он тем временем произносил. — Некоторый «реализм», опредмечивание слова, которое, вероятно, следует связать с категорией трансформации слово — предмет у Введенского — См. примеч. к №№ 9, 19 (с. 148), 22 и 26.
Маргарита или Лиза (ныне ставшая Катей). — Перемена имени от «романтического» к бытовому особенно значима в контексте сниженных мотивов предшествующего монолога Фонтанова (На свинину, на редиску / направляю мысли я).
— Тут нигде не сказано, что она прыгнула в окно, но она прыгнула в окно — Один из наиболее выраженных примеров авторской отсылки к некоторому тексту, но отношению к которому текст произведения представляется метаописанием.
— …дверь в поэзию открыта… и т. д. — Одно из редких мета-поэтических описаний у Введенского, интересное, в частности, мотивами связи поэзии с музыкой и о категорией предметности (Мы предметов слышим звуки, / музыку как жир едим). Ср. заключительное четверостишие в Разговоре об отсутствии поэзии (№ 29.2).
— Неизбежные года… /…зеленые кусты… — Ср. выше соединение времени и кустарников в монологе историка Костомарова, а также описание кустов, представленных на «космическом» диване в Кончине моря (№ 17).
— Нам больше думать нечем — У него отваливается голова. — Мотив безголовости, центральный в поэме Кругом возможно Бог (№ 19), встречающийся также и в других произведениях (см. примеч. к № 8), связан, несомненно, с мотивами кризиса, неадекватности и необходимости пресечения дискурсивного мышлении (ср.: он ищет мысли в голове / чтоб все понять и объяснить… — №. 10). — Ср. также примеч. к №№ 2 (с. 48), 8, 19 (с. 128) и др.
25. Приглашение меня подумать*
Автограф. Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст, в частности, ошибочно разделенный на строфы).
— «В этом стихотворении местоимение мы в разных падежах встречается на протяжении 78 строк 25 раз, а местоимения ты, вы и повелительное наклонение, т. е. формы второго лица — 13 раз. В середине стихотворения в одном строке ты, я и он объединяются в мы: Ты или я или он, мы прошли волосок, / мы и не успели посмотреть минуту эту…
В этом стихотворении автор обращается к ночи, к искусству, к лисицам и жукам, к Богу, рыбе и небу и, по-видимому, и к читателю: мы объединяет здесь автора с читателем, приглашение меня подумать распространяется и на читателя. На это, мне кажется, указывает и начало стихотворения: Будем думать в ясный день, / сев на камень и на пень.» (Я. С. Друскин)
— …сев на камень и на пень. — По поводу мотива «медитации на камне» см. примеч. к № 29.9.
— Нас кругом… — По поводу значения этой анафорически: повторяемой формулы и сходных мотивов см. заключительные заметки Я. С. Друскина к Последнему разговору (№ 29.10).
— Мы созерцаем часть реки… / …где ты ночь отсутствуешь / в этот день, в этот час? — О связи мотива реки (воды) с темой времени см. примеч. к № 19 (с. 149), 23, 27 и 34.
— …понятия на небе высоком… — …от утра до вечера далеко? / от слова разумеется до слова цветок / большое ли расстояние пробежит поток?.. — «Когда (1933 — может быть, начало 1934 г.) я прочел Введенскому „Классификацию точек“, зашел разговор о расстоянии между понятиями и словами. Введенский возразил мне: расстояние — пространственное понятие, но потом согласился, что есть и логическая смысловая близость между словами, значит и логическое смысловое расстояние. Поэтому возможно, что Приглашение… написано не раньше 1933–1934 гг., скорее всего — до „Гортензии“ (т. е. № 26. — М. М.)» (Я. С. Друскин)
— Я только один звук / ощущает наш нищий слух, — См. замечания Я. С. Друскина ко второму Разговору (№ 29,2), а также ниже, примеч. о музыке.
— И я полетел как дятел, / воображая что я лечу. — Ср. образ воображаемой летающей девушки в поэме Кругом возможно Бог (№ 19) и наши замечания о мотиве полета в этом произведении.
— …мы видим лес шагающий обратно / стоит вчера сегодняшнего дня округе. — См. в связи с мотивом окружения второе примеч. к данному произведению, а по поводу мотива «обратности» — примеч. к №№ 14 и 22. Мотив шагающего леса может быть заимствованием из «Макбета» (см. примеч. к №№ 5 и 16), где осуществление пророчества ведьм — шествие Бирнамского леса на Дунсиан — предвещает падение и гибель Макбета, подобно тому, как в данном тексте в этих строках имплицирована картина конца мира. Ср. также примеч. к № 28.
— …в морей соленом водоем… — О связанных о морем эсхатологических мотивах см, примеч. к № 16 и мн. др.
— …тело музыки …музыки волшебное светило… — О значении в поэтическом универсуме Введенского музыки см. примеч. к №№ 10 и 29.2. Отметим, что подобно тому, как в № 19 мотивы музыки и обсуждение их (см. монолог Носова: важнее всех искусств / я полагаю музыкальное…) возникают в непосредственной связи с эсхатологической катастрофой, так в предыдущем произведении — со смертью (После этого три часа играла музыка… — № 24, в контексте мотивов убийства).
26. «Мне жалко что я не зверь…»*
Автограф с отсутствующими строками 65–85, которые дополнены по идентичной авторизованной машинописи.
Рассказ Введенского об истории написания этого стихотворении и позднейшее воспоминание о нем зафиксированы в «Разговорах» Л. Липавского (см.: Приложение VII, 39.3 и 39.12), что позволяет его датировать (по местоположению в рукописи) началом 1934 г. «В с-нии „Ковер Гортензия“ много повторений, но несмотря на это „лишнего нет, все они нужны…“» («Разговоры» — М. М.). В этом стихотворении есть много и нарушений симметрии и как будто бы отклонений от основной темы, часто философского характера. «Ковер Гортензия» по жанру скорее лирическое стихотворение, но одновременно (как и большинство вещей Введенского) в философское, во всяком случае он сам таи считал. Перед чтением «Ковер Гортензия» он сказал мне: «Это стихотворение философский трактат, его должен был написать ты.» …Стихотворение «Ковер Гортензия» — почти целиком авто-коммуникация. Здесь на протяжении 103 строк местоимение я преимущественно в родительном падеже встречается 70 раз (помимо других местоимений)… Местоимения в вещах Введенского вообще встречаются часто, это объясняется, мне кажется, его интересом к коммуникации вообще. Дважды я и ты здесь объединяются в мы: Мы сядем с тобою ветер / на этот камушек смерти. Хотя автор обращается здесь к ветру, все же, а может быть тем более, это объединение интересно и характерно для Введенского.
В 1939 году Введенский учил Т. Липавскую, как надо читать его стихи. При чтении «Ковер Гортензия» надо, сказал Введенский, выделять местоимения; во-вторых, выделять повторяющиеся обороты — «мне жалко…», «мне трудно…» и другие, подобные им; в-третьих, к концу некоторых разделов и особенно к концу всего стихотворения замедлять «темп» чтения. Замечания Введенского, как вспоминает Т. Липавская, относились не только к стихотворению «Ковер Гортензия», но и к другим его стихам.
«…В „Ковер Гортензия“ иногда также встречаются разговоры, — например, зверя, говорящего себе поверь, / а другому себе подожди немножко, червяка, заводящего с землей разговоры, обращение к ветру… В целом же „Ковер Гортензия“ — разговор автора с самим собою» (Я. С. Друскин [114])
«…Но, пожалуй, нигде … „ропот“ и протест не доходят до такой силы, как в творчестве поэта А. Введенского… Протест этот распространяется не на место человека в обществе, как у Лебядкина (социальный протест и жалоба на среду), — герой Введенского протестует вообще против резко очерченных границ человека, против необходимости занимать какую-то определенную часть пространства и времени и обладать какими-то определенными качествами замыкаясь только своими собственными данностями, не будучи включенными в общую жизнь мироздания… Стихотворение Введенского Мне жалко что я не зверь… на первый взгляд может показаться косноязычным лепетом, бессвязной жалобой, с точки зрения здравого смысла кажется нелепым, но на самом деле все в нем подчиняется строжайшей логике авторской модели мира… Но самое важное, глубинный строй этого стихотворения заключается в том, что собственный протест здесь спародирован и назван претензией. Трижды на протяжении всего стихотворения повторяются слова Еще есть у меня претензия, / что я не ковер, не гортензия. Что такое эти претензии? Герой стихотворения притязает на беспредельность (Мне жалко что я не звезда, / бегающая по небосводу);притязает на величие (мне невероятно обидно / что меня по-настоящему видно); притязает на всеведение (Мне страшно что я при взгляде / на две одинаковые вещи / не вижу что они усердно / стараются быть похожими. / Я вижу искаженный мир, / я слышу шепот заглушенных лир…). Несмотря на всю непомерность требований и желаний, автор осознает, что все уникальные притязания это не бунт, а всего лишь „претензия“. Протест претенциозен именно потому, что мироздание просто безразлично и равнодушно к желаниям и потребностям человека. Человек взывает к мирозданию, но оно остается безгласным и безответным» (Б. Улановская [215]).
— Мне жалко что я не вверь… — Ср. перекликающиеся строки Элегии (№ 31): Я с завистью гляжу на зверя… и т. д.
— …говорящий себе… — другому себе… — мы выйдем с собой… — См. замечания Я. С. Друскина к № 14. См. также № 19 (с. 150) и примеч.
— …звезда, / …находит себя и пустую земную воду… — Отметим проявление здесь архетипического мотива связи с земными «источниками вод», а также мотив отражения звезды в воде.
— …частица дня единица ночи, — См. в связи с темой «Дробление времени» примеч. к № 19 (с. 146) и 23.
— …человек, наблюдающий аршины. — Человек, занимающийся измерением пространства, дан здесь как бы во взгляде орла (о значении этого образа см. примеч. к №№ 2 (с. 57), 19 (с. 152) и 24. См. примеч. к № 3 и Элегию (№ 31).
— Мы сядем с тобою ветер / на этот камушек смерти… — См. примеч. к №№ 25 и 29.9.
— Мне жалко… / мне не нравится что я не жалость… — Отметим переход в серии последовательностей от «одушевленного» (зверь, орел) через конкретные предметы (звезда, ковер, гортензия, крыша, чаша) к абстрактному понятию, однородному с самим предикатом мне жалко, а тем самым, хотя и через ступень мне не нравится, подвергающему сомнению его истинность.
— Мне трудно что я с минутами… — В этом же тексте абстрактному измерению времени минутами противопоставлена, по-видимому в высказывании частица дня единица ночи категория мгновенности.
— …не так как жуки жуки… и т. д. — См. в связи с темой насекомых примеч. к № 7.
— …червяк прорывает в земле поры, / заводя с землей разговоры, — Мотив червяка, с его очевидной семантикой, связанной со смертью и разрушенном плоти, является повторяющимся у Введенского (ср. №№ 20, 23, 30 (карт. 5)). Интереснее, однако, мотивы, связанные, как здесь, с разговорами червяка, а во втором Разговоре (№ 29.2) — с пением червяками стихов (см. примеч.), которые могут восходить к иной символике образа, относящейся к сознанию, рефлексии и т. п.
— …она знает что всё не тек. — Категория «всё не так» встречается также в Разговоре о воспоминании событий (№ 29.3), в котором обнаруживается её философская значимость.
— …мне страшно что я не свеча… и т. д. — О свече, особенно в связи с категорией «страшности», см. примеч. к № 2 (с. 47).
— Мне страшно что я при взгляде… / …Я вижу искаженный мир… — Один из отрывков, характерных наиболее эксплицированной критикой восприятия человеком мира через мысль.
— …я слышу шепот заглушённых лир… — Указанный П. Максуровым возможный подтекст см. во вступит. статье, с. 20.
— …и тут за кончик буквы взяв, / я поднимаю слово шкаф. / теперь я ставлю шкаф на место… — Может быть сопоставлено с категорией превращения слова в предмет и предмета в слово у Введенского. См. примеч. к №№ 9, 19 (с, 148), 22 и 24.
— …на этих листьях / я не увижу незаметных слов, / называющихся… и т. д. — Отметим, что «названия» слов связаны с некоторыми основными сущностями: случай, бессмертие, вид основ. Может быть сопоставлено с репликой из Некоторого количества разговоров: Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием (№ 29.9). Ср., однако, примеч. к № 27.
27. Сутки*
Авторизованная машинопись. Впервые опубликовано В. Казаком [71] (неточный текст).
«Вся вещь построена на строгом чередовании Ответов и Вопросов, причем начинается и заканчивается Ответом. Отвечающий несколько раз назван Ласточкой (стихи № 15, 27, 62), задающий вопросы назван в стихе 65 Спрашивающим. Проведена довольно строгая, хотя и не такая строгая, как в Разговорах, двухголосная полифония. В стихотворении 127 строк. Первая пара Ответов-Вопросов (стихи 1-14) — вступление. Со стиха 17 до 56 в Ответах рассказывается о пробуждении природы от сна. С 76-го и до конца в Ответах — описание дня и вечера до конца суток. В Ответах сохраняется семантическая связь независимо от Вопросов, их можно читать, пропуская Вопросы. Парадигматическая связь двух голосов здесь такая же явная, как в Разговорах. На Вопросы, иногда созерцательно философского характера, Ласточка отвечает обычно не прямо или вообще не отвечает» (Я. С. Друскин [114]).
Выше уже указывалось, что, здесь, как и во входящей в № 19 Беседе часов, мотивы животных и растений переплетаются с темой времени (см. примеч. к с. 139).
— Вбегает ласточка. — Образ ласточки имеет в европейской литературе обширную историю и символику, колеблющуюся от инфернальной до мессианской. «Весенняя» символика ласточки, находящая богатое выражение в обряде, фольклоре и поэзии (назовем хотя бы «Pervigiliuni Venecia» с соответствующей реминисценцией у Т. С. Элиота или «Tristia» О. Мандельштама), в данном тексте может быть поставлена в связь с рассветной темой, провозглашаемой ласточкой.
— Где нет значительной величины воды — Ср. ниже: Пустые числа оживлены… См. примеч. к № 3.
— Нe есть ли море лучший мир. — Этот вопрос является одновременно как бы формулировкой «проблемы» двух более ранних произведений Введенского — Значенья моря и Кончины моря (см. №№ 16–17 и примеч. к ним).
— Ласточка что нам делать? Ты сама задаешь вопрос — «…В этом месте голоса пересекаются: Ласточка вместо ответа сама задает вопрос. В музыке ото называется перечением голосов. После этого перечення — пересечения — голосов снова восстанавливается их прежние функции: Ответы продолжают описание дня, вечера и наступления ночи. Вопросы — связанные с этим размышления. Но пересечение голосов в середине стихотворении придает единство и цельность полифонии почти самостоятельных голосов, иногда даже как будто и не связанных между собою» (Я. С. Друскин [114]).
— Жук… — муравей… — См. примеч. к № 7.
— Безупречная вода… и т. д. — Наиболее развернутое выявление «подиной» темы в этом стихотворении, представленной также мотивами моря, снега, ручья, воли, рос, влаги, рыбы и чрезвычайно значимой в развертывания сюжетной основы стихотворения (см. след. примеч.).
— Она бежит бездонные года. — Наряду с эксплицированием в этом стихе связи «водяной» темы с темой времени, укажем, чти в свернутом виде эта связь присутствует для Введенского в самом названии стихотворения, как это реконструируется из поэмы Кругом возможно Бог: глядите вся земля вода. / Глядите вся вода сутки (с. 149). Ср. также №№ 7, 8, 14 и примеч. к ним.
— Шипит брошенная в ручей свеча, / из нее выходит душа. — Помимо реализации здесь постоянного у Введенского мотива свечи, с его эсхатологической окраской, интересно указать на соположение его с мотивом воды (см. предыдущее примеч.), эту эсхатологичность выявляющую. Ср. аналогичный образ в эпилоге № 19 — …коптящей свечкой / рухнешь в речку… и примеч. к с. 152.
— И рыбак сидящий там где река / незаметно превращается в старика. — В контексте сказанного в двух предыдущих примечаниях, упомянем также соположение у Введенского мотивов реки и смерти. См. примеч. к №№ 2 (с. 56), 7 и 23.
— Деревья есть частица ночи… — См. примеч. к № 26.
— …листья ответ, — Интересно, что в предыдущем ст-нии говорится именно о невозможности увидеть на ничтожных листьях незаметных слов, связанных с основными сущностями. См. примеч. к № 26.
28–30
Общая авторизованная машинопись, привезенная Введенским в Ленинград из Харькова около 1939 года. В этих произведениях, тяготеющих к драматической форме, мы печатаем стихи, как противопоставленные прозаическому тексту, с заглавных букв, что соответствует их написанию в авторской машинописи.
28. Потец*
Впервые опубликовано нами: [48]. По аналогии с предшествующими случал ми исправляем возможную опечатку: ссеркая ногами (вместо сверкали, — с. 195).
Темой произведения является выяснение сыновьями значения слова Потец (ср. примеч. к №№ 9 и 16, а также в «Серой тетради»: Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит… — № 34), причем значение это заранее им уже известно, в чем можно видеть еще одно проявление, в новом контексте, мифологемы «вечного возвращении», с которой мы уже встречались у Введенского в связи с категорией обратности (см. примеч. к №№ 14, 22 и мн. др.). Мотив этот, принадлежащий к числу наиболее универсальных архетипических мотивов поэзии, эксплицирован в первой части в ремарке Им хочется все повторить (которая сама повторяется в Части третьей). Этот мотив в более широком плане выделяется на уровне структуры произведения, строящегося в том числе и на бесконечно варьируемом повторении вопроса о том, Что такое есть Потец с сопутствующими мотивами. Вопросы сыновой к отцу призывают его на них ответить в вербальной форме (обнародуй, скажи-ка, расскажите, ответь, отвечай, давай ответ, объяснит ли…), однако ответ они получают практически, — в форме отцовской смерти, составляющей, очевидно, тот самый непрямой ответ, которого они понять не в состоянии (ср. ниже замечания в связи со словом Пролог). О самом слово Потец см. ниже, примеч.
Нам кажется уместным привести здесь несколько слов из исследования О. М. Фрейденберг, посвященных категориям загадывания и отгадывания, с которыми, в их глубинном значении, можно видеть аналогию и в построении комментируемого произведения: «Отгадывание и загадывание — важный элемент архаичных действ. Мы знаем, что словесное загадывание приносило жизнь или смерть. Обычно в сказке тот, кто не может ответить на загадку, умирает, а тот, кто отвечает на нее, получает спасение и победу. Загадчик, загадка которого разгадана, погибает… Сфинкс может приносить смерть, пока его не победит в разгадке Эдип. Таким образом, носитель загадки и есть та смерть, от которой спасается разгадчик» (Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. С. 138). Переходя к нашему произведению, можно сказать, что и сыновья, и отец как бы задают друг другу одну и ту же загадку про Потец, с формой которой сближаются высказывания как тех, так и другого, причем знание ответа — отцом постоянно (Я знаю. Знаю!), а сыновьями заранее — ставит их в смертельную друг от друга зависимость.
Сыны стояли у стенки… — Мотив стены, один из ключевых в произведении, перекликается с универсальной его символикой разделения, отъединения, в том числе мистического (напр., знаменитейшая Стена плача в Иерусалиме).
— …День конца и дочь весны. — Отметим характерную для Введенского модель бессмыслицы, создаваемую путем подстановки слова, значение которого восстанавливается из контекста, однако сохраняющего фонетическую близость к слову субституируемому (дочь — ночь). Еще более интересно, однако, что слово-заменитель фонетически перекликается и со своим контекстуальным партнером, служащим ключом к восстановлению слова семантически правильного (день — ночь): день — дочь.
— Сыновья, позвенев в колокольчики, загремели в свои языки… — Интересна реализация во второй части фразы омонима уже имплицированных в первой ее части языков (колокольчиков).
— И воскликнул отец — Пролог… — В свете сказанного о содержащейся в тексте оппозиции, с одной стороны, вербальной формы сыновьих вопросов (и призыва к вербальному же ответу), и с другой, ответа отца действием, — особенно интересным представляется слово Пролог, сочетающее этимологическое значение вербальности (греч. προλογος 5; ср. при этом значение соответствующего глагола προλεγω — предсказывать, прорицать) — со значением действия par excellence, как действия драматического (пролог, по Аристотелю, есть законченная часть трагедии, предшествующая выступлению Хора). Возможна дополнительная коннотация этого слова в связи с названием одноименного славяно-русского церковно-учительного сборника с его «стишным» вариантом, в значительной мере состоящего из поучений и учительных рассказов (последнее может быть поставлено в связь с сюжетом нашего произведения, как бы посвященного выяснению слова Потец). Напомним, что название «Пролог, или Сон во сне» дала позднему своему, наиболее мистичному циклу стихов Ахматова (т. е. Пролог к сожженной пьесе). — Здесь же, строкой ниже, читаем: Усните сыны, / Посмотрите сны.
— …А в прологе главное Бог. — Еще раз напомним определенные самим Введенским три главные темы творчества: время, смерть и Бог. В третьей, последней части произведения упоминаются двери рая и обедня. Любопытно отметить, что в средневековой мистерии функцию Пролога исполняла проповедь или молитва.
— Спрятав в карманы грибы, — Отметим чрезвычайно обширную семантику фольклорно-мифологического мотива грибов, насыщенную, в частности, космическими импликациями. Наделение сыновей грибами (а также сравнение их с зонтами) представляется поразительным проникновением в реконструированную лишь недавно в работах В. П. Топорова мифологическую образность грибов в связи с основным мифом о Громовержце, наказывающем своих сыновей.
— …сверкая бровями… — Местонимическое указание на Потец, выступающий на лбу умершего (см. ниже); Ср. в третьей части: Бровей не видишь ты отец, / Кровей каких пустых потец.
Несутся лошади как волны… Лихие кони… Исчезнув скачут, — Мотив «коня и всадника», заданный в первой же фразе произведения, является одним из ключевых его мотивов. В свете эсхатологического значения этого мотива (см. примеч. к №№ 5 и 22), эксплицированного в стихах Иноходец / С того света / Дожидается рассвета, весьма любопытно, что в посмертной жизни отец становится всадником: Отец сидел на бронзовом коне…
— Что сообщишь ты мне мгновенье, / Тебя ль пойму я? — В контексте поэтических, равно как и теоретических высказываний Введенского о времени, см. «Серую тетрадь» (№ 34) и другие отклики, указанные в примеч. к. № 23.
— Потец… отец… свинец… венец… и т. п. — Один из наиболее ярких примеров организации Введенским бессмысленных поэтических рядов в плане выражения (ср. примеч. к №№ 13, 14), в данном случае поддержанных рифмой. Ниже происходит остранение и этого приема, когда надетый на няньке чепец напоминает сыновьям их вечный вопрос о том, / Что такое есть Потец. — Чрезвычайно интересно, однако, что семантизация рифмы на — ец в направлении значений, связанных со смертью (в первую очередь, через слово конец, но также и из контекстуального окружения соответствующих рифмующихся слов), исподволь проводилась, как мы уже не раз отмечали, в предшествующих произведениях Введенского, — отсылаем к примерам: №№ 5, 7, 8, 15, 16 и 17 (см. также примеч.).
Куклы, все туша колпак, / Я челнок, челнок, челпак, — Одна из функций этого семантически неправильного предположения, вторая половина которого строится по аналогии о соседними рядами, матрицированными словом Потец, может заключаться в дискредитации самой возможности дефиниции этого слова с его «запредельным» значением.
— Потец это холодный пот, выступающий на лбу умершего… — Некоторое дополнительное остранение этого неологизма, значение которого Введенский обыгрывает с необычайной тонкостью лингвистического чувства, возникает за счет эпитета холодный, противоречащего глубинной этимологической мотивировке слова, связанного с понятиями теплого, горячего (праслав. *poktos, ср. пеку).
— Отец летает над письменным столом. Но не думайте, он не дух — Ср. наши замечания о «двухступенчатой эсхатологической ситуации» у Введенского (см. примеч. к №№ 14 и 19, с. 132).
— Цветок убежденный блаженства… — Соположения эсхатологических мотивов с мотивом цветка (ср. выше: Последние мысли, казалось, / додумывал этот цветок) уже намечено в Священном полете цветов, — прологе к поэме Кругом возможно бог (№ 19); мотиву полета цветов здесь обращенно соответствует мотив проплывающих над розой княгинь и звезд. Наступление мира как зари в последующих стихах (при сравнении с погасшим пламенем) вводит, в прямой и обратной проекции, эсхатологический же мотив огня (см. с. 192).
…закуривает свечу, держа ее в зубах как флейту. — Интересна трансформация мотива свечи; отметим появление этого мотива после смерти отца (см. выше). Ниже Подушка, она же отец сама уподобляется свече (…то взвивалась свечкаю в поднебесье, то как Днепр бежала по комнате).
И казалось, что разным чувствам есть еще место на земле. — Ср. №№ 5, 20 и примеч. в свете ранней ориентации Введенского и поэтов его круга на антиэмоциональное искусство, выразившееся, в частности, в формуле прибежал конец для чувства / начинается искусство в Ответе Богов (№ 5), этот отрывок примечателен именно соположением мотивов музыки (пения), выше эксплицированных как искусство (Искусство дало бы мне новые силы…), и чувства.
— …то как Днепр бежала по комнате. — Мотив бегущего Днепра в связи с темой смерти встречается в № 2 (с. 56, см. примеч.). См. также по поводу соположения мотивов реки и смерти №№ 7, 23, 27 и примеч. к ним.
— Отец сидел на бронзовом коне… — См. выше, примеч. к с. 190. а также примеч. к № 31.
— Никто не произносил ни слова. Все разговаривали мыслями. — Внесловесная и внезнаковая коммуникация в посмертном существовании?
…пощипывая свои усы мыслями… поглаживая мыслями волосы… — Ср. в связи с гипостазированием мысли у Введенского, примеч. к № 10.
— Бровей не видишь ты отец… — См. выше, примеч. к с. 189.
— Тогда отец вынул из карманов дуло одного оружия… — Ср. тот же мотив в Некотором количестве разговоров (№ 29.6 — С той же рифмой) и «Где, Когда» (№ 32).
— После обедни… двери рая… — См. выше, с. 189.
…чепец… Потец… — См. выше, примеч. к с. 190.
…отца… превратившегося в детскую косточку. — См. примеч. к № 24.
— Эй кузнец куй! куй! / Мы в кузнице уснем. / Мы все узники, — Укажем на выразительный пример поэтики Введенского, заключающийся в организации в плане выражения семантически «рискованных» сочетаний путем паронимических повторов фрагментов текста, т. е. на уровне фонем и слогов. См. выше, примеч. к с. 190.
— Ведь это мы уже знали заранее. — Ср. выше, наши вводные замечания. Я. С. Друскин находит здесь, как и во многих других произведениях Введенского фигуру окаймления: «Последняя фраза — замыкание всей вещи и возвращение к началу, одновременно — иероглиф; сыновья спрашивают и после получения ответа узнают то, что уже знали до вопроса.»
29. Некоторое количество разговоров*
Впервые опубликовано нами: [42]. Разговор первый публиковался немного раньше: [41].
— Темник — книга толкования снов. По воспоминаниям близких поэта, существовало две редакции этого произведения, между которыми был написан Потец. Таким образом, эти редакции относят к периоду между 1936 и 1938 гг. (годом написания Ёлки у Ивановых). От первой редакции до нас дошел лишь фрагмент третьего Разговора о воспоминании событий, приведенный в разделе «Другие редакции и варианты.»
Произведение, как уже указывалось ранее, подробно анализируется в исследовании Я. С. Друскина «Звезда бессмыслицы» [114], две основные главы которого посвящены Разговорам шестому и десятому.
Интересно название произведения, в котором слова некоторое количество могут быть осмыслены в свете отношения Введенского к мерам, числам и т. п. (см. примеч. к № 3); роль неопределенно-местоименного слова некоторое может быть поставлена в связь с функцией многочисленных у Введенского разного рода служебных элементов, особенно местоименных и адвербальных детерминативов, создающих, с одной стороны, ощущение неопределенности, с другой — видимость несуществующих связей (ср. в первом Разговоре повторяющиеся слона никаких (изменений), именно такой, такой именно (ср. примеч. к с. 199), немного, недолго п т. п.). Не менее интересен подзаголовок, связывающий универсум Разговоров с категорией сна и снов и, в обратной проекции, — бодрствования (ср. Побегать в комнате со снами — с. 203).
Диалогическая структура Разговоров, при широких аналогиях с архаическими моделями создания и их отражением в литературной традиции (известные построения О. М. Френденберг и М. М. Бахтина; ср. также примеч. к № 2 (с. 55), более посредственно восходит, может быть, к традиции сократического диалога (наиболее известного по диалогам Платона) с его ориентацией на выяснение истины. Наиболее полно эта связь обнаруживается в третьем Разговоре о воспоминании событий (cp.: …ты тоже охватил себя чувствами… любви к истине… Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами. Что же было верного?), посвященном установлению истины о некотором событии — путем припоминания, однако, не самого события, а лишь спора о нем (см. ниже). Возможна также и связь с «Разговорами» Л. С. Липавского (см. Приложение VII, 39 и примеч. к № 38).
29.1. Разговор о сумасшедшем доме*
— Первый. Я знаю сумасшедший дом… и т. д. — «Сумасшествие — как бы недостаток или отсутствие ума. Но здесь есть и более глубокая текстовая семантика. Сравним первые три реплики действующих лиц… Особенно характерно отношение предложений Как он выглядит — выглядит ли он? Отрицание предложения предполагает несогласие с содержанием предложения. Здесь же отрицается не содержание предложения, а вообще предложение, то есть высказывание предложения. В этих трех парах предложений происходит как бы аннигиляция двух предложений. Что остается? Ничего. Но это не просто „ничего“, а молчание: семиотическое молчание» (Я. С. Друскин [114]).
— Уважай бедность языка. — Чрезвычайно интересное высказывание Введенского о языке, допускающее, в силу своей лаконичности и «темноты», множество толкований. Возможно, один из смыслов его заключается в том, что самая ограниченность языковых средств, их детерминизм, являющийся объектом интенсивной поэтической критики Введенского, в частности, в Разговорах, служат средствами поэтического выражения.
— Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно. Пишите звучно, — Одни из характерных «серий» Введенского, — ср. примеч. к № 13.
— Он радостно ждет нас. / Мы радостно ждем нас. / …у нас… / …у нас — В связи с нагнетанием здесь и далее местоимений, метрически подчеркнутых, при обычной их эвклитичности, ударной позицией, а во второй строке грамматически неправильных, ср. выше и примеч. к № 8.
29.2. Разговор об отсутствии поэзии*
Название и сюжет Разговора могут быть сопоставлены с названием позднейшего эссе Г. Адамовича «Невозможность поэзии», шире — с одним из мотивов искусства XX в., сюжеты многих произведений которого составляет именно невозможность создать произведение (например, фильм «8 1/2» Феллини о «невозможности» снять фильм).
«…Оба (первый и второй Разговоры. — М. М.) — Разговоры о неразговоре, но в первом неразговоре — мудрое молчание или коммуникация в молчании, во втором — немудрое отсутствие музыки, стихов, звуков, противополагаемое музыке природы; отчасти тема та же, что и в Элегии № 31: противоположение дисгармонии в человеке — гармонии в природе» (Я. С. Друскин. [114]).
— Появился диван… Диван исчез… — и т. д. — См. примеч. к №№ 17 и 24.
— Тишина. Ночная мгла / На холмы уже легла. — Очевидно, пушкинская реминисценция («На холмах Грузии лежит ночная мгла»).
— Музыка в земле играет, / Червяки стихи поют… и т. д. — См, примеч. к №№ 10 и 26, а по поводу преимущественной связи для Введенского поэзии и искусства со звуковым выражением и музыкой — №№ 19 (с. 145), 24, 25, 28 и примеч.; ср. также № 29.5 и примеч. Следует ли делать из этого вывод о «хтоничности» в понимании Введенского искусства вообще? Ср. также мотив червяка, заводящего с землей разговоры, в № 26: «…шепот, звуки, песня, музыка часто встречаются в вещах Введенского; в пяти из десяти Разговоров они повторяются иногда по нескольку раз: в Разговоре об отсутствии поэзии поэт назван Певцом, и он не читает, а поет стихи, и речь идет там не только о стихах, но и о звуках и музыке. В первых семи строфах рассказывается об отсутствии поэтов, певцов и музыкантов среди людей, последняя строфа противополагается первым семи. В Кругом возможно Бог одно из действующих лиц произносит целый монолог, посвященный музыке. Не случайно у Введенского часто упоминаются звуки, музыка, песни. „Слух — наиболее интимное чувство“ (Э. Л. Радлов). Для коммуникации слух важнее зрения, а для Введенского коммуникация, причем наиболее глубокая коммуникация — соборность — может быть самое главное. Цель звезды бессмыслицы — реализация соборности. Полное осуществление этой цели — в будущем. Поэтому он и сказал мне раз: в поэзии я — предтеча, как Иоанн Креститель в религии» (Я. С. Друскин [114]).
— Реки рифмы повторяют / Звери звуки песен пьют. — Ср. примеч. к № 28.
29.3. Разговор о воспоминании событий*
Как уже сказано, сохранился фрагмент первоначальной редакции этого Разговора; рукопись местами испорчена.
«Тема Разговора — спор между Первым и Вторым, был ли вчера Первый у Второго или не был. Спор не приводит ни к какому определенному результату, но возникший по совершенно незначительному поводу, он выходит далеко за пределы темы спора; это относится преимущественно к доводам, которые спорящие приводит, доказывая свой тезис: многозначительность, глубина и ценность доводов резко контрастирует с незначительностью доказываемого тезиса…» (Я. С. Друскин [114]).
— Припомним начало нашего спора… и т. д. — Чрезвычайно интересно, что диалог участников Разговора посвящен не столько воспоминанию самих событий, как это сказано в его названии, сколько воспоминанию разговора об этих событиях, т. е. «метавоспоминанию» (см. вступительные замечания ко всему произведению). Таким образом, категории памяти и воспоминания в их ключевом для Введенского гносеологическом аспекте (в тексте Разговора эксплицированы категории верности, истины; ср. философскую универсалию, в частности, в античном философии, — понимание познания как припоминания истины) переводятся Введенским в план коммуникаций. — Диалогом этот Разговор можно, однако, назвать лишь условно — он делится скорее на три монолога (Первого, Второго, Третьего участников), перебиваемые авторскими ремарками и посвященные, как сказано, воспоминаниям об имевшем место ранее диалоге, в свою очередь посвящением уже воспоминанию событий.
— …Нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких тоннах, на точке А и на точке Б… и далее. — Апелляции к пространственно-временным координатам, как внешним по отношению к личности, Второй противопоставляет критерий абсолютной субъективности: Ты был тобою, а я был собою… О гнилых этих точках А и Б я даже говорить не хочу. Далее, когда Первый перестает уже настаивать ни объективной реальности их якобы имевшей место встречи, перенося ее в область представлений (однако ссылаясь при этом все же на неизменных свидетелей этого «факта» их встречи — картины и статуи и… музыку!), то и это Второго не убеждает, поскольку он вообще забывает о существовании Первого (я на время забыл что ты есть, и все молчат мои свидетели), т. е. реальность для него не установима никакими внешними, внеположными личности свидетельствами. Заметим, что в какой-то мере подобная проблематика была намечена в сравнительно раннем произведении Введенского, Факт, Теория и Бог (№ 14), где она, может быть, яснее выражена в названии, нежели в тексте, а также в № 19, где Фомин сначала спорит с Носовым, что никто не играл, потом вообще отрицает присутствие Носова. Ср. также примеч. к №№ 19 (с. 150) и 23.
— …по тому шкапу ходил, посвистывая, конюх… и т. д. — Одно из описаний, которое может читаться как транспозиция языка некоторые течении современной ему живописи с характерным для них перенесением в интерьер элементов пейзажа.
— Но всё было не так. — Текстуальное повторение формулы. из № 26. Ср. реплики именно такой, такой ли он именно в первом Разговоре.
— …но я на время забыл что ты есть… — Выправляем несомненную опечатку машинописи: …по не на время забыл…
— Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами. — Ср. выше, и вступительные замечания ко всему произведению. — «Некоторую аналогию (не только аналогию) истины, прогуливающейся вместе с участниками диалога, можно найти у Кьеркегора: „Истина — абсолютная субъективность“. Но субъективность истины и у Кьеркегора, и у Введенского не субъективизм и не психологизм, но их отрицание И одновременно отрицание их контрарной противоположности — объективизма; абсолютная субъективность — вне и противоположения субъективизма — объективизма, и вне субъект-объектного отношения» (Я. С. Друскин [114]).
29.4. Разговор о картах*
«…Игра в карты здесь только субтекстовое сообщение. Вместо игры в карты можно подставить любое другое дело, несколько раз повторяемую фразу Давайте сыграем в карты можно заменить любой другой аналогично построенной, например: „Давайте пилить дрова“. Текстовое значение здесь — начало события, точнее возможность начать событие. Тогда третий и четвертый Разговоры объединяются, как Разговоры о воспоминании событий и о начале события; в первом случае оказывается, что невозможно вспомнить событие, во втором — что невозможно начать событие» (Я. С. Друскин [114]).
Карточная тема имеет обширную традицию, в частности, в русской литературе и русском искусстве — от «Игрока ломбера» Василия Майкова до «Игроков» Федотова и «Игры в карты» Стравинского, — произведения, в структуре которого заложены некоторые правила карточной игры.
В интересе Введенского к «карточной теме» могли сказаться и широко известные собственные его пристрастия (ср. их шутливое обыгрывание Хармсом — Приложение IX, 6). Сошлемся, кроме того, на устное свидетельство покойного Вс. П. Петрова о том, что Хармс и Введенский предполагали написать трактат (в форме диалога?) «о нравственности или безнравственности выигрыша в карточной игре» в связи с «Игроками» Гоголя.
— …рыдая и прижимая к глазом. — Пример характерного для поэтики Введенского обессмысливающего эллипса.
— Они были люди. Они были смертны, — Парафраз известнейшего примера силлогизма классической логика.
— Сандонецкий, или Третий. — В этом Разговоре, единственном из всех, один из участников наделен именем собственным, прекрасно вписывающимся в традицию номинации в русской литературе картежников и шулеров с их именами на — ский, — ицкий, — ецкий (см. например, имена Чаплицкий и Томский в «Пиковой даме»; шулеров Желынского, Черномского н игрока Дмитрицкого в романе Вельтмана «Саломея»; ср. также имя Загорецкого в «Горе от ума», о котором устами старухи Хлестовой сказано; «Лгунишка он, картежник, вор.»). Один из вариантов коннотации этих имен может быть связан с их полонизирующим оформлением.
— А где же паши тот что был женщиной и тот что был девушкой? — См. ниже, примеч. к восьмому Разговору.
— Насколько я понимаю… Кажется и мне предлагают… — Отметим употребление грамматически отмеченных бессмысленных в контексте многократных приглашений играть в карты уточнительных вводных оборотов. В связи с их возможной функцией ср. след. примеч.
…Скажу не хвастаясь… Без карт я никуда… Где карты — там и я… Играть так играть… Вот и обвели ночь вокруг пальца. — Мотив отсутствия действия выявляется здесь, в частности, с помощью увеличения частотности провербиальных и идиоматических формул, как бы собою действие заменяющих. Та же функция у оборотов, отмеченных в предыдущем примеч.
— Наука это доказала… и т. д. — Скептическое отношение к рационалистическому научному мышлению и методам позитивной науки, прослеживаемое в корпусе произведений Введенского (ср. хотя бы № 19, с. 147–148 и мн. др.), находит красноречивые поэтические параллели в творчестве Хармса, где подобные мотивы представляются системными (см.; [225, кн. 3, примеч. к № 165 и след.]).
29.5. Разговор о бегстве в комнате*
— Вокруг статуй… никаких статуй нет… нет статуй; — в конце Разговора: Если статуями называть все предметы, то и то… Я назвал бы статуями звезды и неподвижные облака, — В латентном виде здесь, несомненно, присутствует этимологическое значение слова статья (лат. statua) — «поставленная», «установленная», отсюда — неподвижная. Чрезвычайно интересно, что глубинное этимологическое значение корня этого слова (и. е. sta-: sta-) связано с понятием устойчивости (ср. также внутреннюю форму этого русского слова), прочности, твёрдости (Pokorny, 1004), а среди значений основного латинского глагола stare, с которым, минуя три ступени, связано statua, прослеживаются не только значения «твёрдо держаться», «быть твёрдым, определённым», — но и «длиться», «продолжаться», «оставаться», «сохраняться». Вспомним в этой связи апелляцию в третьем Разговоре к остающимся на месте бывшей или небывшей встречи (реальность которой оспаривает один из участников спора) свидетелям — картинам и статуям, с их подразумеваемой (по крайней мере, тем спорящим, который доказывает, что встреча действительно была) и несдвигаемостью, неподвижностью, фиксированным существованием во времени и пространстве. Заметим, что категория неподвижности предметов эксплицирована в Последнем разговоре (см. примеч.), а их молчаливости (как свидетелей) — в № 19 (см. примеч. к с. 147). Таким образом, проявляется значение статуй как «неподвижных свидетелей» и в нашем Разговоре, отсюда — противопоставленное их неподвижности бегство, бег, убегание собеседников: Комната никуда не убегает, а я бегу… По-моему мы одни убегаем. Далее, статуям, как не только неподвижным, но и — предел неподвижности — безжизненным, неодушевленным, — противополагаются как одушевленные участники Разговора: Наше утешение, кто у нас есть души. То, что они наделены душами, и побуждает их, очевидно, убегать к Богу (конец Разговора) из единого в своей статуарности — от бытовых стула, стола, степы до звезд и неподвижных облаков — универсума, каким он представляется детерминированному сознанию участников Разговора, служащему предметом критики на протяжении всего произведения.
— У моря я стоял давно, — В этом Разговоре намечены темы и образность последнего произведения Введенского — «Где. Когда» (№ 32) с его мотивом прощания одного со всеми, в частности, с морем. В связи с «морской темой» см. №№. 16 и 17 и примеч. к ним.
— У моря… пучина… Звучит как музыкант Пуччини… музыкальными волнами… — Подобно тому, как во втором Разговоре музыка связывается с хтоническими мотивами (см. примеч.), здесь она соположена с морем и мотивами подводности. Возможный смысл того и другого соположения — в трансцендентальном по отношению к обычной «неземной жизни» характере музыки. См. также примеч. к № 23.
— И понял: море это сад / Он… / Зовет меня и вас назад / Побегать в комнате… — В этих строках содержится поэтическая мотивировка перенесения участников Разговора из комнаты в сад, на берег моря в обратно.
— Побегать в комнате со снами. — Возможно, одна из мотивировок подзаголовка Начисто переделанный темник.
— Я выну сейчас оружие. Я буду над собой действовать. — Здесь эксплицирован основной мотив Разговора — о действии как невозможности действия (при тематике предшествующих Разговоров, по Я. С. Друскину, соответственно о невозможности поэзии, о невозможности припомнить события и о невозможности начать действие). Соположение мотивов действия и смерти проясняется в свете высказываний Введенского о том, что по-настоящему совершившееся, это смерть. Все остальное не есть совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. — № 34.
— Стреляться или топиться или вешаться ты будешь? — Здесь в свернутом виде содержится сюжет следующего, шестого Разговора.
— О, не смейся! Я бегаю чтобы поскорей кончиться. — «Текстовая семантика субтекстового названия Разговора — бегство в комнате — раскрывается в этой реплике и дальше: Я убегаю к Богу — я беженец» (Я. С. Друскин [114]).
29.6. Разговор о непосредственном продолжении*
Этому разговору посвящена, как сказано, отдельная глава «Звезды бессмыслицы» Я. С. Друскина. Ограничимся приведением нескольких ключевых ее моментов: «В Разговоре приведена строгая аналогия и параллелизм трех действий: непосредственное продолжение жизни в смерть… Этот Разговор мы также воспринимаем как стихотворение… В Разговоре ясна одна особенность многих произведений Введенского: полифоничность его стихов (а также и прозы). Здесь ясно проведена трехголосовая полифония…В шестом Разговоре повторяется вариация иероглифа некоторого действия, приводящего к одному и тому же результату — смерти. Каждый из участников Разговора совершает это действие самостоятельно, в то же время сохраняется полная синхронность каждого этапа действия: они действуют одновременно и самостоятельно и совместно, сообщая друг другу то, что предполагают сейчас сделать. По мере приближения к концу их действия — линии или голоса полифонического Разговора сближаются и в последней строфе идут в унисон…»
— Три человека… — Интересно сопоставить писание трех смертей в этом Разговоре с Четырьмя описаниями (см. № 23 и примеч.). В свернутом виде это описание, осмысляемое как описание действия par excellence, задано уже в предыдущем Разговоре (см. выше предпоследнее примеч. к пятому Разговору).
— …веревку… Она уже намылена… пистолет. Он уже нанамылен. …прорубь. Она уже намылена. — Ср. выше примеч. к № 28.
— Я стою на табурете одиноко, как свеча. — Еще одно из многочисленных сочетаний у Введенского мотива свеча с мотивом смерти.
— стоят… стоят… стою… стоял… стоящий… — Ср., по поводу нарочитой грамматикализации текста, актуализации в нем грамматических категорий, вплоть до включения в текст целых парадигм, наши замечания в связи с № 14,
— …я стою в шубе и в шапке, как стоял Пушкин… — Ср. примеч. к Элегии и «Где. Когда» (№№ 31 и 32) См. также Приложение VII, 39.4.
— Мне все известно. — Ср. выше наши соображения в связи с невысказанной репликой сыновей в Потце — Ведь это мы уже знали заранее (с. 195 и примеч.).
— Я прыгаю с табурета… Я захлебываюсь, — Раскладка мгновенного действия на серию развивающихся может быть сопоставлена с «дроблением времени» по Введенскому (см. примеч. к № 23), шире — с замедленной съемкой и приемами кинематографического монтажа.
29.7. Разговор о различных действиях*
— «…Напомню, что в предшествующем Разговоре сообщается, что собеседники уже умерли, хотя в то же время сидели на крыше в полном покое. По-видимому, действие, или поездка на лодке происходит уже после смерти или вернее за смертью. Замаскированная различными действиями — дракой и питьем кислоты — и вопросительной формой (Неужто мы едем… В далекую Лету), эта поездка остается как бы анонимной. Снова как в первом Разговоре возникает вопрос: действительно ли они едут в далекую Лету или это только обмен мыслями, как сказано в заключительной ремарке. Скорее всего, здесь стирается грань между словом и действием — разговор о поездке в далекую Лету может быть и есть поездка в далекую Лету.
В начале 30-х годов Введенский написал стихотворение, в котором сообщается о смерти героя. И после смерти в засмертной жизни человека наступает вторая смерть (см. Приложение III, № 108.— М. М.). Седьмой Разговор напоминает это состояние между первой и второй смертью…» (Я. С. Друскин [114]).
— Поясняющая мысль. — «Я не собираюсь пояснять эту поясняющую мысль. Отмечу только, что действующие лица, кто бы они ни были, различные лица, находящиеся в наиболее тесном контакте, — они не только общаются вместе, но вместе сознательно совершают одно а то же непосредственное продолжение слова о действие, жизни — в смерть. Кто они? Поясняющая мысль отвечает на этот вопрос. На языке „нормальной“ логики на это нет ответа.» (Я. С. Друскин [114]).
— …что тут продолжать, когда все умерли… Но все-таки они трое ехали на лодке… — См. нашу интерпретацию «двухступенчатой эсхатологической ситуации», примеч. к №№ 14, 19 (с. 132) и 28. Интересно, что плаванию умерших героев ответствуют универсально распространенные мифологические представления о посмертном пересечении душами водного пространства (ср. здесь же, ниже, Неужто мы едем /…В далекую Лету); ср. соположение мотивов реки и смерти в других произведениях Введенского (см №№ 2 (с. 56), 7, 23, 27 и примеч. к ним).
— Но не забудь, тут не три человека действуют… Быть может, три льва, три тапира… и т. д. — Ср. по поводу проблемы тождества личности, примеч. к № 3. В этой связи отметим неопределенность личностных границ самих трех персонажей Разговоров, то раскладывающихся на двух говорящих в унисон купцов и баньщика, то выделяющих из своего состава картежника Сандинецкого, разбегающихся и снова соединяющихся в сложной системе монологов, полилогов в диалогов.
— …три тапира… — См. примеч. к № 21. — Отметим, в качестве типологической параллели, маркированное (рифмой, повтором) употребление этого экзотизма в стихотворении О. Мандельштама «Опять войны разноголосица…» (1923).
— Что нам их смерть, для чего им их смерть. — Может быть интерпретировано как косвенное утверждение абсолютной субъективности смерти, стоящее, в частности, за предыдущей пьесой Потец с невозможностью в ней сыновьям установить значение атрибута (и синонима) смерти даже в смерти отца.
— Зажги… Свечу… Снова… Не получается… Гаснет… Свеча снова. — и т. д. — Следует, вероятно, связать мотив погасшей свечи, которую невозможно снова зажечь (отметим повторения) с ее эсхатологическим значением во многих произведениях Введенского. — «„…Дробность“ („рассыпание“, „мерцание“) мира у Введенского двузначна: во-первых, как здесь, дробится и рассылается и речь, т. е. связь и коммуникация между людьми; во-вторых, подлинная жизнь, понимается как предельная „дробность“ — мерцание или мгновение, причем эта мгновенность и дробность не исключает коммуникации между людьми, — в седьмом Разговоре даже речь распадается на слова.
Распадение предложения на слова не уничтожает здесь, а наоборот создает наиболее глубокую коммуникативность участников совместного разговора и совместного действия — поездки в далекую Лету. Здесь Введенский снова отождествляет два противоположных члена оппозиции: раздробленность мира, жизни и речи, уничтожающей всякую возможность коммуникации, с наиболее глубокой коммуникацией и совместным действием в этой раздробленности — В мерцании мира». — Я. С. Друскин [114].
— Тут слишком, — См. примеч. к сходной реплике в Ёлке и Ивановых (№ 30, карт. 7).
— Стриги… / Беги… / Ни зги. — Здесь, как будто, происходит распад коммуникации, по крайней мере, внешней (см. предшествующее замечание Я. С. Друскина). Ср. также примеч. к № 30 (карт. 9).
— Первый. Не к {…}. — Пропуск, соответствующий, очевидно, слову, при перепечатке не разобранному. Требования, налагаемые метром и рифмой, сужают круг возможных реконструкций, среди которых правдоподобной представ лается Не плещи; другая — Не к нощи (т. е. «Не к ночи») — предложена Вл. Эрлем.
29.8. Разговор купцов с баньщиком*
Сохраняем авторское написание слов баньщик и баньщица.
— «…Уже в первом монологе баньщика за субтекстным значением ясно чувствуется совсем иная текстовая семантика… Это описание бани скорее напоминает войну, о которой говорится в следующем Разговоре, или ад, не случайно Зоя, пришедшая в баню, спрашивает у купцов: Купцы, где мы находимся. Во что мы играем? — и дальше говорит: Может быть это ад.
…Глагол „играть“ повторяется затем еще три раза. Но в бане не играют. Шутливое обозначение бани — маскарад (Даль). Этот эвфемизм построен, по-видимому, по противоположению: в бане раздеваются, в маскараде наряжаются, в бане обнажаются, в маскарада скрывают себя маской. В заключительном диалоге купцов с баньщиком баньщик говорит: Одурачили вы меня купцы… пришли в колпаках. Одурачивают, то ость обманывают, скрывая себя, — в маскараде. Колпаки, в которых пришли купцы, — маски. Понятен и ответ купцов: Мы же это не нарочно сделали. В маскараде обманывают „нарочно“, в жизни маскарад не „нарочный“. На расхождение субтекстового сообщения — бани — и текстовой семантики указывают и последние слова о догадливости баньщика: они относятся к читателю» (Я. С. Друскин [114)).
— Два купца… Я не в состоянии купаться. — Слово купцы произведено Введенским, очевидно, от глагола «купаться», причем обыгрывается именно омонимия общеизвестного слова с этим неологизмом. Интересно, что говорящие хором купцы встречаются в начале романа «Генрих фон Офтердингед» Новалиса.
— Однообразен мой обычай — и т. д. — Образ бани, перекликающийся с ее описанием в стихотворении Хармса «Баня» [225, кл 4, № 285], вписывается, во-первых, в поддержанную отцами Церкви аскетическую традицию древности и средневековья, осуждающую бани как стимулирующие чувственность и являющиеся местом разврата, — с этим следует связать наличествующие в Paзговоре эротические мотивы (ср. также реплику Наташи в Куприянове и Наташе — произведении, par excellence метаэротическом — Я вся как будто в бане (№ 20); во-вторых, а своей инфернальности образ этого безбожного сумрачного жилища соответствует и народным представлениям о бане как жилище нечистой силы. Укажем на возможную связь описания этой инфернальной бани с некоторыми сценами «Игры в аду» Крученых (напр., мытьё ведьмы). Противоположная символика бани как места омовения, отсюда — очищения, возрождения, — если здесь и присутствует, то со знаком минус, — см. в начале Разговора: Я не в состоянии купаться… ниже: Я тут не в состоянии купаться.
— Bянут свечи… — Тот же образ в Четырех описаниях, где он окрашен в эротико-эсхатологические (ср. здесь же ниже: Слетает облек мертвецов)тона: Свеча завянет / закричит жена (№ 23) Ниже мотив свечи встречается уже непосредственно в эротическом контексте: Богини / Входят в отделенье… И то пылание печей / Страшней желания свечей.
— {…} денег… — В машинописи лакуна. Ср. выше, примеч. к седьмому Разговору. Я. С. Друскии предлагает: «Нету».
— Отец и всадник и пловец. — Сочетание отец в пловец анаграмматически шифрует Потец — ключевое слово предшествующего произведения, в котором, кроме того, отец отождествляется со всадником (см. примеч. к № 28), Образы пловца и всадника являются, кроме того, ключевыми соответственно во второй и последней строфах Элегии (№ 31).
— Баньщик (сидит под потолком, словно баньщица). — Ср. ниже: Мы баньщицы унылы нынче… Он должно быть бесполый / тот баньщик… Баньщик, он же баньщица, спускается из-под потолка. — Трансвестизм баньщика, впрочем достаточно уклончиво обозначенный, перекликается с фрезой из четвертого Разговора: — А где же наши тот что был женщиной и тот что был девушкой? и может интерпретироваться в контексте дезавуирования Введенским категории столь устойчивой, как категория пола, а на языковом уровне — рода. Примеры подобных нарушений мы находим и в ранних произведениях Введенского (см. примеч к № 2 (с. 45) с прочими отсылками).
— Тут мыло пляшет как Людмила… — В связи с эротическими мотивами здесь и дальше см. выше, ср. также примеч. к № 20.
— Вам свет не мил. И мир не свеж. — Интересно отметить как характерную особенность поэтики Введенского, что необычность последнего сочетания мир не свеж как бы «поддержана» в плане выражения тем, что первая строка стиха нам свет не мил обращенно предвосхищает его звуковой облик. Ср выше примеч. к № 28, а также к № 2 (с. 53).
— Смотрю удачно крюк привинчен. / Оружье есть. Петлю отрежь — Вместе с проявленной в ближайшей авторский ремарке темой волн здесь присутствуют все три мотива, намеченные в пятом Разговоре (Стреляться или топиться или вешаться ты будешь!) и «реализованные» в шестом. См. примеч. к пятому Разговору.
— Два купца смотрят на нее как в зеркало… Гляди, гляди как я изменился, — Эротическое отождествление и — ниже (Мы думали что ты зеркало. Мы ошиблись) — его несостоятельность?
— …изменился… Я совершенно неузнаваем. — Помимо сказанного в предыдущем примечании, укажем возможную параллель в фольклорно-мифологическом мотиве наказания за табулированное подсматривание в частности, сакрального акта — превращением (в неодушевленный предмет, животное и т. д. — Th. Mot. с. 311), особенно в мотиве превращения героя, подсмотревшего купанье богини (например, Актеона, подсмотревшего купанье Артемиды, в оленя и др.), при: Богини / Входят в отделенье. / И нею стынет / В отдаленье (Богини выделено enjambement), ср. также мотив крылатости: Гляди. Гляди. Оно крылата… У нее тысячи крылешек.
— О чем же вы сейчас думаете. — Ср. повторение этой фразы в эротическом же контексте — № 30 (карт. 6).
— Как странно ты устроена. Ты почти не похожа на нас — Ср. в Пять или шесть: как странно тело женское / ужасно не Введенское (№ 8).
— Купцы, где мы находимся… Может быть это ад… Я догадлив. — См. вступит. замечании Я. С. Друскина к этому Разговору. Ср. также выше: Два купца смотрят на нее как тени.
— Одурачили вы меня купцы… Да тем что пришли в колпаках. — Помимо разложения и реализации здесь комплекса дурацкий колпак, что в свою очередь, подкрепляет приведенные выше соображения Я. С. Друскина о мотиве «маскарада» (ср. также многократное эксплицирование мотива одевания — раздевания), укажем, что отмеченное употребление слова колпак встречается несколько раз у Хармса (см.: [225, кн. 2, № 118 и примеч. к нему]), в частности, в связи с Введенским (см. Приложение IX, 5). См.: М. Мейлах [171].
29.9. Предпоследний разговор под названием один человек и война*
Заметим, что большая часть этого Разговора, как и седьмого, представляет собой связный текст, в распределении которого между голосами наблюдается известная пульсация — на протяжении Разговора они то сливаются в единый персонаж (что эксплицировано в заглавии и троекратно повторенной в начале Разговора формуле Я один человек и) — например, один продолжает речь другого, или же действие, о котором заявлено в первом лице (читаю, я продолжаю и др.), исполняет другой; то разделяются снова, отождествляясь с отдельными участниками в обращениях друг к другу (Сделай остановку… Выслушайте пение или речь выстрелов) ила заявлениях в нервом лице множественного числа (Неужели мы добрели до братского кладбища).
Укажем еще на одну интересную особенность трех голосов, которые на протяжении Разговоров несколько раз имела тенденцию группироваться как два в один (например, Сандонецкий, противопоставленный двум безымянным игрокам в Разговоре о картах; спор Первого и Второго, которому подводит итог Третий в Рагговоре о воспоминании событий). Подобно этому, в первых трех репликах Я один человек и земля, — и скала, — и война — двух первых участников объединяют однородные добавления, которым противопоставляется третье, вводящее основную тему Разговора.
Отметим эксплицирование в самих названиях двух заключительных Разговоров как Предпоследнего и Последнего — мотива конца: само это слово неожиданно появляется в последней фразе девятого Разговора и завершает десятый Разговор, а вместе с ним и все произведение.
— Я сочинил стихи о тысяча девятьсот четырнадцатом годе. — Ср. соответствующее сообщение о своей смерти сделанное 3-им умир.(ающим) в Четырех описаниях, заканчивающееся словами: То было в тысячу девятьсот четырнадцатом году. Связь с четырьмя описаниями эксплицирована в реплике Описание точное, следующей за одной из строф стихов о тысяча девятьсот четырнадцатом годе. С этим произведением наш Разговор сближают многочисленные переклички, из которых укажем одну, наиболее бросающуюся в глаза, — реплику Я продолжаю (притом, что и здесь, и там «продолжает» на самом деле не всегда тот персонаж, который об этом заявляет).
— А великий князь К. Р. / Богу льстит. — Очевидно, имеется в виду поэтическая деятельность К. Р. — великого князя Константина Романова (1858–1915). В связи с обозначенными в этом Разговоре «чертами эпохи» ср. ваши вступительные замечания, подобные же «ирреальные реалии» я Четырех описаниях (№ 23) и Ёлке у Ивановых (№ 30).
— Надо об этом подумать… Присядем на камень — Отмечающийся и в других произведениях Введенского мотив «медитации на камне» (Будем думать в ясный день, / сев на камень и на пень в Приглашении меня подумать; Мы сядем с тобою ветер / на этот камушек смерти — дважды — в медитативном par excellence стихотворении Мне жалко что я не зверь…) может быть сопоставлен с традиционной символикой камня, связанной, с одной стороны, с мотивами прочности, первоосновы, prima materia, с другой — Божественной мудрости (опосредовано: Исх., 17,0; Втор., 32,13); ср. «философский камень».
— Но пуча / Убитые очи, / Как туча, / Как лошади бегали ноги. — Мы выправили представляющиеся нам несомненными опечатки машинописи: куча, ноги.
— Описание точное… Ты внес полную ясность. — Ясность, точность. лаконизм самих приведенных формул признаны, кажется, указывать именно на обратное их значение.
— Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием. — Ср. близкий образ в стихотворении Мне жалко что я не зверь…, № 26 и примеч. Призван ли этот образ свидетельствовать о распаде знаковых коммуникаций, остающихся отныне уделом «учительниц»?
— Идут купцы… Купцы не идут. — Чрезвычайно интересно с семиотической точки зрения введение в текст (и тут же изъятие) персонажей, по очевидности репрезентируемых самими вводящими и изымающими их лицами.
— Не спросить ли их о чем-нибудь. — Категория вопроса, спрашивания были объектом интенсивной поэтической критики Введенского в связи с диким и внушительным, незавидным вопросом о том, что такое есть Потец (№ 28). Ср. наши вступительные замечания к № 28, а также примеч. к № 19 (с. 144).
29.10. Последний разговор*
Анализу этого Разговора посвящена значительная часть «Звезды бессмыслицы» Я. С. Друскина [114], где раскрывается его двумерная (по горизонтали в вертикали) композиция и делается вывод о реализации в нем наиболее глубокой коммуникации и одновременно автокоммуникации — одного автора в трех лицах.
— Я из Дому вышел и далеко пошел. — В добавление к сказанному выше, Я. С. Друскин замечает, что значение этой строки обнаруживается при выявлении ее синтагматических (со строками Я сел под листьями и задумался… о своем условно прочном существовании) и парадигматических (с параллельными строками следующих частей) связей. Дом через категорию ограниченности кругозора под листьями соединяется с условной прочностью моего существования, противополагается же этой ограниченности (и через нее дому) бесконечность кругозора под небом (Я сел под небом и задумался): «В плане выражения Я из дому вышел можно понимать как иероглиф начала, в плане содержания дом — иероглиф условной прочности моего существования, которая в дальнейших вариациях этого иероглифа обнажается и разрушается; открывается иллюзорность этой прочности» [114].
Строка эта содержит, очевидно, реминисценцию хрестоматийного стихотворения Некрасова «Однажды в студёную зимнюю пору / Я из лесу вышел…», характерным образом немедленно остраненную последующим добавлением и далеко пошёл.
— Она была обсажена дубовыми деревьями. — См. примеч. к № 32. Я. С. Друскин устанавливает здесь многоуровневый «иероглиф окружения».
— Задумался о том. — Апокопа дополнения имеет, несомненно, для поэтики Введенского концептуальное значение. Ср. в пятом Разговоре: Если статуями называть все предметы, то и то. — Ср. примеч. к № 8.
— Ничего я не мог понять. — О категории непонимании у Введенского см. выше примеч. к №№ 9, 24, 34, а также вступит. статью.
— Тут я встал и опять далеко пошел. — Отметим выявление в этом тексте, в значительной мере строящегося как металогический, ключевого мотива повторения (см. выше примеч. к №№ 14, 22 и 28). Мотив этот, эксплицированный в обсуждаемой фразе, выявляется также в четырехкратном повторении каждой структурной единицы этого Разговора, и том числе самой этой фразы.
— Цветы, те разговаривали на своем цветочном языке — Ср. пролог к № 19 — Священный полет цветов — с речью цветов, обращенной к небу, при последующем: Я сел под небом и задумался. Ср. также примеч. к пятому Разговору.
— Об изображениях смерти, — Ср. предыдущий Разговор, где Третий повествует в стихах о виденных им в сражениях изображеньях несчастных… трупов убитых. Ср. семиотическую функцию в том же тексте таких слов как описание, надпись, связанная с каким бы то ни было понятием (см. наше примеч.), стихи о (тысяча девятьсот четырнадцатом годе).
— Воздух, воздух, он был окружен… облаками и предметами… предметы подобно слонам стояли на месте, — В связи с обсуждавшейся проблемой значения в пятом Разговоре статуй (см. примеч.), интересна экспликация здесь мотива неподвижности предметов и соположение предметов с облаками, здесь «порхающими», но в пятом Разговоре названными неподвижными.
— Птицы, те занимались музыкой… ниже: Звуки, те слышались… — Ср. выше, примеч. ко второму Разговору.
— Ясно, что я пошел мысленно… Мысли, мысли, они были окружены… — Ср. примеч. к №№ 10 и 28.