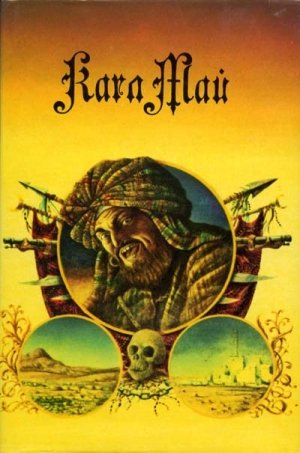
Глава 1
ОТЕЦ ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ
— Хай эс-сала, — вскричал предводитель каравана, благочестивый шейх-аль-джемали[1],— становитесь на молитву! Настало время послеполуденного обращения к Аллаху».
Люди подошли, опустились на раскаленную солнцем землю и, пропуская сквозь пальцы скользящий песок, который в условиях пустыни служил заменой необходимой для ритуального омовения воды, стали осторожно растирать им лица. При этом они громко произносили слова первой суры[2] Корана:
Затем молящиеся склонились и обратили лица к Мекке. Они продолжали свое необычное омовение до тех пор, пока шейх не поднялся с колен, что явилось сигналом к окончанию священного действа.
Закон позволяет всем находящимся в пустыне мусульманам вершить обряд очищения с помощью песка, и такая снисходительность ничуть не умаляет их религиозного рвения. Жители пустыни не случайно называют ее «море песчаных капель»: в их сознании бесконечные просторы песка связаны со столь же бесконечными морскими водами.
Собственно говоря, пустыня, по которой двигался маленький караван, была не знаменитая Сахара и не Хамада[4], чьи гряды песчаных холмов действительно заставляют вспомнить волнующееся море, но все же непривычному путешественнику показалось бы нескончаемым это огромное желтое пространство, простиравшееся вокруг насколько хватало глаз. Ни дерева, ни куста, ни травинки — ничего кроме песка… И некуда скрыться от палящего солнца — разве что в тень какой-нибудь из тех испещренных трещинами зубчатых скал, что наподобие развалин древней крепости возвышаются то здесь, то там среди мрачной равнины.
Возле одной из таких скал и стоял сейчас лагерем наш караван, пережидая самое жаркое время дня: с одиннадцати часов утра до сакрального часа аль-аср. Это время сулит путешественникам удачу, и поэтому всякий мусульманин, в особенности житель пустыни, старается отправляться в дорогу именно в три часа пополудни. Только исключительные обстоятельства могут заставить его изменить этому обычаю, и если затем задуманное им предприятие ожидает не слишком благоприятный исход, причиной тому он неизменно считает именно их.
Караван был совсем небольшой: он состоял из шести человек, такого же количества ездовых, да еще пяти вьючных верблюдов. Пятеро из путешественников принадлежали к племени хомр-арабов[5], известных как очень ревностные мусульмане. То, что эта репутация была заслуженной, подтвердили слова, с которыми шейх обратился к четверым своим спутникам, когда они после молитвы поднялись с колен и направились к животным:
«Будь проклят этот пес-христианин», — процедил он сквозь зубы, бросив при этом полный ненависти взгляд на шестого путешественника, который сидел поодаль у самой скалы и потрошил маленькую птичку.
Внешне этот человек был полной противоположностью своим спутникам с их типичными для арабов острыми чертами лица, выразительными глазами и щуплыми фигурами. Увидев, что караван собирается трогаться, он поднялся во весь рост — высокий, широкоплечий, напоминающий своим богатырским сложением прусского гвардейца-кирасира. Волосы у него были светлые, как и густая окладистая борода, обрамлявшая его лицо. Он носил очки. Его глаза были голубого цвета, а черты лица полны необычайной для семита мягкости.
Он был одет так же, как и его товарищи-арабы: в светлый бурнус[6] с капюшоном. Но, когда он взобрался на своего верблюда и его бурнус приоткрылся спереди, стали видны высокие болотные сапога — редкость в этих краях. Из-за ремня чужеземца выглядывали рукоятки двух револьверов и ножа, а на его седле висели два ружья: одно легкое — для стрельбы по птицам, другое — потяжелее, для охоты на более крупных зверей.
— Мы пойдем дальше? — спросил шейх-аль-джемали на каирском диалекте.
— Да, если Абуль-арба-уюн ничего не имеет против, — вежливо ответил араб, тщетно стараясь придать своему лицу приветливое выражение.
«Абуль-арба-уюн» означало «Отец Четырех Глаз». Арабы любят давать чужеземцам, чьи имена им трудно запомнить и выговорить, прозвища, основанные на какой-нибудь наиболее бросающейся в глаза особенности внешнего облика или характера человека. В данном случае поводом для прозвища послужили очки, которые носил путешественник. Все эти имена начинаются со слов «абу», «бен» или «умм» и «бент», что означает «отец» или «сын» и, естественно, «мать» или «дочь». Так, существуют имена типа Отец Сабли — храбрый мужчина, Сын Разума — смышленый юноша, Мать Кус-куса — женщина, которая умеет вкусно готовить это блюдо. Дочь Беседы — болтливая девушка и т. д. Подобный обычай существует и в некоторых странах Запада, например, в Соединенных Штатах, где в состав таких прозвищ, как правило, входит слово Олд (старина) — такие имена распространены среди охотников в прериях.
— Когда мы достигнем Бахр-эль-Абьяда?[7] — поинтересовался чужеземец.
— Завтра, еще до наступления вечера, — отвечал шейх.
— А Фашоды[8]?
— Тогда же, ибо если так будет угодно Аллаху, мы выйдем к реке как раз в том месте, где стоит этот город.
— Прекрасно! Видите ли, я не очень хорошо знаю эту местность. Надеюсь, что вы ориентируетесь лучше меня, и мы не собьемся с дороги.
— Бени-хомр не могут сбиться с дороги. Они знают всю страну от Месопотамии до Сеннаара[9] и земли Вадди[10]. Отцу Четырех Глаз не о чем беспокоиться.
Шейх произнес эти слова очень уверенным тоном, но если бы его собеседник заметил взгляд, которым обменялись арабы, то у него возникли бы серьезные сомнения в том, что он вообще когда-либо доберется до Нила и до Фашоды. Однако он, ни о чем не подозревая, вновь обратился к шейху:
— А где мы сегодня заночуем? — спросил он на этот раз.
— В Бир-Аслане[11], около которого мы должны оказаться через час после захода солнца.
— Бир-Аслан? Опасное место, судя по названию? Там что, водятся львы?
— Сейчас уже нет. Но много лет назад «Господин с толстой головой»[12] поселился там вместе со своим семейством. Много людей и животных пали его жертвами, и все охотники, отправлявшиеся убивать его, возвращались назад израненные или вообще не возвращались. Аллах проклял его душу и души всех его предков и потомков. Но однажды туда пришел чужестранец из далекого Франкистана[13]. Он подсыпал яду в кусок мяса и оставил его вблизи источника. На другой день хищник лежал у воды мертвый, а самка и детеныши навсегда ушли из этого места, и только Аллах знает, где они теперь. С той поры возле источника больше не появлялось ни одного льва, но название «Источник Льва» за них сохранилось.
В таком непочтительном тоне араб позволяет себе говорить о льве только в том случае, если знает, что последнего уже нет в живых и таким образом он не может обидеть его своими словами. Напротив, по отношению к живому льву он остерегается употреблять сколько-нибудь оскорбительные выражения, а тем более проклятия. Обычно арабы избегают произносить даже само слово «лев», а если все же решаются выговорить его, то делают это шепотом, так как боятся, что хищник может прибежать, услышав, что о нем говорят.
Обычный для всякого европейца способ охоты на льва, когда охотник подкарауливает свою добычу ночью на водопое с тем, чтобы уложить ее метким выстрелом, арабы считают неслыханным подвигом, граничащим с безрассудством. Сами они решаются оказать льву какое-то противодействие, как правило, только поле того, как он успевает почти полностью истребить стада какого-нибудь дуара[14]. Тогда все жители деревни, способные держать в руках оружие (в качестве последнего, кстати, используются самые разнообразные предметы, с помощью которых можно наносить увечья, вплоть до камней), прочтя предварительно священную Фатху[15], направляются к логову льва, которое расположено обычно среди скал, окруженных колючим кустарником. Добравшись до места, охотники предпринимают последнюю попытку примирения: для этой цели они выбирают из своей среды наиболее красноречивого оратора, который обращается ко льву с уговорами оставить в покое жителей и скот их многострадальной деревни и перебраться в какое-нибудь другое место. Как правило, ни просьбы, ни угрозы не трогают бесчувственное животное, и тогда следует объявление войны, вслед за которым град камней обрушивается на скрытое деревьями и кустами логово врага. Наконец, лев появляется среди скал — гордый, величественный, недовольный тем, что его потревожили во время дневного сна. В тот же миг раздается грохот выстрелов, слышится свист десятков стрел и копий, и все эти звуки сопровождает боевой клич такой силы и тембра, что лев, имей он хоть толику музыкального слуха, сам бросился бы под пули.
Никто из охотников не дает себе труда хорошенько прицелиться, и поэтому первые выстрелы, не попадая в цель, лишь раззадоривают зверя. Его глаза зажигаются недобрым огнем, прыжок — и стальные челюсти смыкаются на горле первой жертвы. За ней нередко следует и вторая, и третья, и лев успевает нанести сопернику достаточно серьезный урон, прежде чем сам, наконец, падает, буквально изрешеченный выстрелами, ни один из которых не является по-настоящему смертельным.
Со смертью льва приходит конец тому уважению, которым он пользовался при жизни. Люди плюют на его труп, топчут и терзают его и осыпают несчастное животное, а также всех его родственников и предков виртуозными ругательствами, которыми необычайно богат арабский язык.
Выслушав рассказ шейха, чужестранец слегка улыбнулся, и эта улыбка ясно показала, что он-то не собирается отдавать себя на съедение «Господину с толстой головой» и его семейству.
В то время, как происходила эта короткая беседа, путешественники укладывали груз на своих верблюдов, чтобы отправиться в путь. Надо заметить, что это далеко не такое простое занятие, как может показаться европейцу. Если на то, чтобы оседлать лошадь, требуются считанные минуты, то совсем иначе обстоит дело с верблюдами, которые далеко не являются теми терпеливыми и добродушными животными, какими их изображают в большинстве книг. Верблюды необычайно ленивы, коварны и злобны, и к этим «милым» качествам характера прибавляются их физическое безобразие и чрезвычайно неприятный запах, которого не выдерживают даже лошади. «Корабль пустыни» — кусачая скотина, кроме того он весьма чувствительно лягается передними и задними ногами, имеет свои капризы и обладает таким безразличием ко всякому внешнему воздействию, с которым может сравниться разве что его мстительность. Встречаются такие животные, к которым не может подступиться ни один европеец без риска быть искусанным или затоптанным до полусмерти.
Нельзя не отметить, что верблюд действительно очень невзыскателен и вынослив, однако и эти его свойства часто слишком преувеличивают. Так, ни один верблюд не может выдержать жажду долее трех дней; именно столько времени сохраняется запас воды в его желудке. Если же по истечении этого срока его не напоить, даже самое жестокое обхождение не заставит его подняться с земли, на которую он ложится, чтобы умереть.
К области легенд следует отнести также и многочисленные истории об умиравших от жажды бедуинах, которые спасали свою жизнь тем, что закалывали верблюда и пили находящуюся у него в желудке воду. Дело в том, что в верблюжьем желудке содержится не вода, а густая, смешанная с остатками пищи и весьма напоминающая содержимое помойной ямы вонючая масса, ни одного глотка которой не сможет выпить даже находящийся на последнем издыхании человек.
Строптивый нрав верблюда особенно проявляется в тот момент, когда его пытаются вновь навьючить после привала. Тут-то верблюд показывает все, на что способен: он яростно отбивается мордой и всеми четырьмя конечностями, стонет, кричит и ворчит во всю силу своих мощных легких. К этим воплям прибавляются брань и крики суетящихся вокруг него с поклажей людей, и вся эта сцена производит такое неприятное и угнетающее впечатление, что даже ее зрелище может выдержать только человек с очень крепкими нервами.
Несколько более благородным характером обладают быстроходные верблюды, называемые хеджинами. Они очень дорого стоят: иногда за серого хеджина приходится заплатить до десяти тысяч марок. Для хеджинов делают особые седла: они называются махлуфах и отличаются от хауиах — седла обычного вьючного верблюда, представляющего собой шатер с поднятыми фронтонами. Махлуфах устроено таким образом, что всадник сидит в очень удобном положении, скрестив обе ноги на шее верблюда. И все же даже такого прекрасного верблюда не оседлать без определенной сноровки: когда всадник взбирается в седло, животное лежит на земле, но стоит коснуться его рукой, как верблюд резко откидывается назад, а затем вперед, так что человеку нужно удержать равновесие, чтобы не оказаться сброшенным на землю. Зато когда все эти неприятности позади и верблюда наконец удается привести в движение, он неутомимо шагает вперед, легко преодолевая довольно большие расстояния.
Пока бени[16]-хомр, пытаясь нагрузить верблюдов поклажей, воспроизводили описанную выше сцену, чужестранец оседлал своего хеджина и медленно двинулся вперед по направлению к Бир-Аслану.
— Этот пес не шевельнулся, когда мы молились, — злобно прошипел шейх ему вслед. — Не разомкнул губ, даже рук не сложил. Гореть ему на самом дне геенны огненной!
— На твоем месте я бы давно туда его отправил, — проворчал в ответ один из его людей.
— Если ты не понимаешь, почему я до сих пор этого не сделал, значит, Аллах не дал тебе разума, — возразил шейх. — Разве ты не видел его оружия? Или, может быть, ты не заметил, что из каждого своего маленького револьвера он может выстрелить по шесть раз, не перезаряжая их. Если же прибавить к этому еще по четыре патрона в двух его ружьях, то это составит в сумме шестнадцать пуль, нас же, как ты знаешь, всего пятеро.
— Тогда мы должны убить его, когда он уснет.
— Нет! Я солдат, но не трус. Я не убиваю спящих. Но против шестнадцати пуль мы бессильны, и поэтому я предупредил Абуль-моута[17], что сегодня мы будем в Бир-Аслане. Там пусть он делает, что хочет, а потом мы поделим добычу.
— Да, если будет, что делить! Но что может быть у этого христианина? Шкуры зверей и птиц, из которых он собирается делать чучела, бутылки со змеями, саламандрами и скорпионами, чтоб они его сожрали! Какие-то цветы, листья и травы, которые он раскладывает между листами бумаги. Я думаю, он иногда удостаивается посещения шайтана и кормит его всеми этими вещами.
— А я считаю, что ты действительно потерял рассудок, если вообще когда-нибудь его имел! Или на тебя напала глухота, когда этот иноверец объяснял нам, для чего ему нужны эти вещи?
— Я не очень внимательно прислушивался, когда он говорил, так как знаю, что мне это не пригодится.
— Но что такое медресе[18] ты, по крайней мере, знаешь?
— Да, об этом я слышал.
— Ну так вот, он учитель в таком медресе. Он изучает все растения и всех зверей земли, а к нам он пришел, чтобы собрать наши растения и животных и показать своим ученикам. А еще он хочет набрать большие корзины и ящики этой ерунды и послать их своему султану, у которого есть специальные дома[19], где хранятся такие вещи.
— Но нам-то какой от всего этого прок?
— Гораздо больший, чем ты думаешь! Ведь султану можно делать только дорогие подарки; значит, эти звери и растения, которые достал у нас гяур[20], должны очень высоко ценить в его стране. Неужели ты и этого не понимаешь?
— Где уж мне, только Аллах и ты, вы оба просветляете мой разум, — иронически ответил его собеседник.
— Вот я и подумал о том, чтобы отнять их у него, а потом продать в Хартуме. Там за них можно получить хорошие деньги. Но не заметил ли ты еще чего-нибудь, что христианин имеет при себе?
— Как же, видел целую кучу тканей, бус и всяких безделушек, на которые можно выменять у негров много слоновой кости и рабов.
— А еще?
— Больше я ничего не видел.
— Потому что твои глаза застлан туман. А разве его оружие, кольца, часы ничего не стоят?
— Стоят, и очень дорого. Кроме того, у него под жилетом спрятан кожаный кошелек. Как-то, когда он открыл его, я увидел внутри большие бумаги с иностранной надписью и печатью. Такую же бумагу я видел однажды в Хартуме у одного богатого купца, и тогда же мне сказали, что можно получить очень много денег, если дать эту бумагу тому, чье имя на ней написано. Вот эти бумаги я потребую себе при дележе, а также хочу забрать его оружие, его часы и все, что он носит при себе, и груз верблюда с тканями и вещами на обмен. О, да мы завтра станем богачами! Но все остальное, то есть верблюдов с собранием зверей и растений, получит Абуль-моут.
— А он согласится?
— Он уже согласился и дал мне свое слово.
— А он точно придет? Ведь сегодня последний день. Гяур нанял нас, чтобы мы доставили его на наших верблюдах в Фашоду. Если мы благополучно прибудем туда завтра — нашим планам конец, потому что он рассчитается с нами, а сам отправится дальше.
— Он никогда не попадет в Фашоду. Я уверен что Абуль-моут следует за нами пешком. Сегодня ночью, перед рассветом, произойдет нападение. В два часа ночи я должен отойти от источника на шестьсот шагов ровно на запад, и там я найду старика.
— Об этом ты нам еще не говорил, но если так все хорошо подготовлено, значит, все будет в порядке. Старик придет, и добыча будет нашей. Мы бени-араб, живем в пустыне и живем пустыней. Все, что находится на ее территории, наша собственность, в том числе и этот паршивый гяур, который ни разу не поклонился с нами, когда мы молились Аллаху.
Своими словами шейх выразил мнение, весьма распространенное среди жителей пустыни, которые считают разбой столь благородным промыслом, что нередко открыто похваляются им.
За время этой беседы арабы успели оседлать своих верблюдов и догнать чужеземца, не подозревавшего о том, что его смерть для них — уже давно решенное дело. Его внимание было всецело поглощено совершенно другими вещами. «Кхе, кхе», — внезапно закричал он своему верблюду, что означало команду остановиться. Соскочив с седла, христианин поспешно схватил свое ружье.
— Аллах! — воскликнул шейх, тревожно оглядываясь по сторонам, — Абуль-арба-уюн видит врага?
— Нет, — ответил путешественник, указывая вверх, — я вижу вон ту птицу.
Араб посмотрел туда, куда указывал чужестранец.
— Это хедж со своей женой, — сказал он. — Разве они не водятся в твоей стране?
— Водятся, но совсем другого вида. Они называются у нас коршунами. Мне хотелось бы иметь хеджа.
— Ты собираешься его застрелить?
— Ну да.
— Но это невозможно. Этого не удавалось сделать ни одному охотнику, даже с самым лучшим ружьем!
— Посмотрим, — улыбнулся чужестранец.
По обычаю хищных птиц оба коршуна следовали за караваном, кружа прямо над ним. Теперь, когда всадники остановились, птицы спустились еще ниже, описав друг за другом правильную спираль.
Чужеземец поправил очки, встал спиной к солнцу, чтобы оно не слепило глаза, несколько секунд целился, следуя дулом ружья за снижающимися птицами, и затем выстрелил.
Летевший впереди самец встрепенулся, сложил крылья, затем на несколько мгновений снова расправил их и, не в силах больше держаться в воздухе, камнем упал на землю. Чужестранец поспешил к тому месту, где лежал коршун, и поднял его. Арабы обступили его и тоже стали рассматривать хеджа.
— Аллах акбар — Боже всемогущий! — вскричал шейх изумленно. — Твое ружье было заряжено пулей?
— Да, пулей, не дробью.
— И ты все же попал?
— Как видишь, — кивнул стрелок. — Пуля попала ему прямо в сердце, и это, конечно, случайность, но я рад, что выстрел оказался таким удачным: благодаря этому шкурка у него совсем не попорчена.
— Подстрелить хеджа одной пулей, на такой высоте и попасть ему прямо в сердце! Эфенди[21], ты выдающийся стрелок, в наших медресе учителя так стрелять не умеют. Где ты этому научился?
— На охоте.
— Значит, ты и раньше охотился на таких птиц?
— На птиц, медведей, диких лошадей, бизонов и многих других животных.
— И они все водятся в твоей стране?
— Только птицы и медведи. А на бизонов и лошадей я охотился в другой части света — она называется Америка.
— О такой стране мне еще не доводилось слышать. Положить птицу к тебе в мешок?
— Да. Вечером я его выпотрошу, если мы сможем достать огня.
— Сможем. На Бир-Аслане растет высокий кустарник.
— Вот и хорошо, а пока спрячьте его. Это самец, он ценится дороже самки.
— Да, это самец, это я вижу. Его вдова будет горевать и оплакивать его, пока ее не утешит другой хедж. Аллах заботится о всех своих творениях, даже о самой маленькой птичке, но особенно о тайр-эль-дженнет[22]; ведь он каждый год забирает их к себе в рай, когда они нас покидают.
Это прекрасное, доброе поверье очень распространено в Египте. Не зная, что настоящей родиной ласточек, которых здесь называют «снунут», является Европа, а на юг они прилетают только во время нашей зимы, люди объясняют их исчезновение весной тем, что Бог забирает их в рай, чтобы они вили там гнезда и пели чудесные песни.
Через некоторые время прерванный путь был продолжен. Однообразный пейзаж оживляли несколько голых гор, которые возвышались на севере и юге этой пустыни. Оглядев их, чужестранец обернулся назад, и вдруг взгляд его остановился на крошечной черной точке, которая, казалось, неподвижно висела в воздухе. Он достал из седельной сумки свою подзорную трубу и некоторое время рассматривал эту точку. Затем он снова спрятал трубу в сумку и спросил:
— Скажите, разве дорога, по которой мы едем — большой торговый путь?
— Нет, — ответил шейх, — если бы мы выбрали караванный путь, нам пришлось бы сделать крюк и потерять из-за этого два дня.
— Значит, здесь сейчас не ожидается каравана?
— Нет, так как в нынешнее сухое время года на дороге, по которой мы едем, совсем нет воды. Кстати, и наша уже на исходе: бурдюки пусты.
— Ах, так? Но ведь на Бир-Аслане мы найдем что-нибудь?
— Разумеется, эфенди.
— Гм! Прекрасно!
Между тем лицо его стало таким задумчивым, что шейх спросил его:
— О чем ты думаешь, эфенди? Ты чем-то недоволен?
— Да.
— Чем же?
— Ты утверждаешь, что мы находимся не на караванном пути, и тем не менее позади нас едут люди.
— Люди? Не может быть. Я никого не вижу.
— А это и необязательно.
— Но тогда как ты можешь это утверждать?
— Я вижу не их самих, но их след.
— Эфенди, ты шутишь, — сказал шейх тоном превосходства.
— О нет! Напротив, я серьезен как никогда.
— Как может человек видеть следы тех людей, которые движутся за ним?!
— Ты думаешь только о следах, которые оставляют ноги людей и животных на песке. Но существуют и такие следы, которые остаются в воздухе.
— В воздухе? Аллах акбар — Боже правый! Аллах может все, ибо он всемогущ. Но чтобы он разрешал нам оставлять следы в воздухе — о таком я еще не слышал!
Он окинул чужеземца таким взглядом, как будто считал его не вполне вменяемым.
— И все же это так. Следы налицо. Нужно только уметь их увидеть. Подумай о хедже, которого я подстрелил!
— Какое отношение он может иметь к следам?
— Самое прямое, потому что в определенных обстоятельствах он сам может стать следом. Ты ведь заметил его еще до того, как я выстрелил?
— Да. Парочка следовала за нами с утра. И когда мы отдыхали на камнях, она все время висела над нами. Когда хедж не может найти другого корма, он всегда зависает над верблюдами, чтобы подобрать объедки, которые останутся после путешественников. Кроме того, он подкарауливает птиц, которые часто следуют за караваном и выискивают в шерсти животных паразитов.
— Так, значит, ты признаешь, что в том месте, над которым висит хедж, находится караван?
— Да.
— Ну, так там, за нами, летит еще одна пара, к которой примкнула теперь наша овдовевшая самочка. Вон они, видишь?
Шейх посмотрел назад. Его острые, натренированные глаза не могли не различить птиц, о которых говорил чужеземец.
— Да, я их вижу, — ответил он.
— Итак, там должен быть караван?
— Вероятно.
— И при этом мы находимся не на торговом пути; ты сам так сказал. Значит, эти люди позади нас идут по нашим следам?
— Наверное, они не знают дороги и поэтому стараются держаться за нами.
— При каждом караване всегда есть шейх-аль-джемали и, кроме него, другие люди, прекрасно знающие дорогу.
— Но даже самый лучший хабир[23] может заблудиться!
— В большой Сахаре — да, но не здесь, южнее Дарфура[24], где о настоящей пустыне, по правде говоря, даже речи быть не может. Шейх каравана, который следует за нами, знает местность так же хорошо, как и мы: он не может не знать ее. И если он тем не менее сбился с караванного пути и пошел за нами, значит, он зачем-то преследует нас.
— Преследует нас? Что за мысль, эфенди, пришла тебе в голову! Но ты же не думаешь, что эти люди…
Он не договорил, и ему едва удалось скрыть свое смущение.
— Что они принадлежат к гуму[25], хочешь ты сказать? — продолжил за него чужестранец. — Да, именно так я и думаю.
— Боже милостивый! Что ты говоришь, эфенди! Здесь, в этой местности, вообще нет гумов. Они встречаются только севернее Дарфура.
— Я не верю этим людям. Почему они преследуют нас?
— То, что они следуют за нами, еще не значит, что они преследуют нас. Разве они не могут иметь ту же цель, что и мы?
— Хотят тоже сократить путь? Да, это вполне возможно.
— Это не только возможно, но наверняка именно так, — с облегчением сказал шейх. — В моем сердце даже нет малейшего подозрения. Я знаю эту местность и уверен, что здесь мы в такой же безопасности, как в лоне Пророка, которого благословляет Аллах.
Чужеземец бросил на шейха пытливый взгляд, который тому, видимо, не понравился, так как он спросил:
— Почему ты так на меня смотришь?
— Я смотрю в твои глаза, чтобы прочесть то, что скрыто в твоей душе.
— И что же ты там видишь? Правду?
— Нет.
— Аллах! Что же тогда? Ложь?
— Да.
Тогда шейх схватился за нож, который торчал у него из-за ремня, и вскричал:
— Знаешь ли ты, что ты оскорбил меня? Настоящий бени-араб никогда не стерпит такого!
Вдруг лицо чужестранца приобрело совсем другое выражение. Его черты стали как будто острее, напряженнее. Потом оно осветилось надменной улыбкой, и он сказал почти презрительным тоном:
— Оставь нож в покое. Ты меня еще не знаешь. Таких выходок я просто не выношу, и если ты посмеешь показать клинок, я перестреляю вас всех в течение одной минуты.
Шейх снял руку с ремня. Разгневанный и смущенный одновременно, он ответил:
— Что же ты считаешь, что мне должно быть приятно, когда ты обвиняешь меня во лжи?
— Да, потому что я говорю правду. Сначала у меня вызвал подозрения следующий за нами караван, но теперь я не доверяю и тебе.
— Почему?
— Потому что ты защищаешь гум, если это он, и пытаешься отвести мои подозрения.
— Боже тебя сохрани, эфенди, ибо твои подозрения ошибочны. Какое отношение ко мне могут иметь эти люди, что едут следом за нами?
— Кажется, самое прямое, иначе ты не пытался бы преодолеть недоверие, которое я к ним питаю, с помощью лжи.
— Но я говорю тебе, что не лгу!
— Нет? Разве ты не утверждаешь, что эта местность так же безопасна, как лоно Пророка?
— Да, так оно и есть.
— Ты говоришь так, потому что знаешь, что я нездешний. Ты убежден, что я ничего не знаю об этих краях. Да, дорога мне действительно неизвестна, хотя, может быть, я и без тебя нашел бы ее с помощью моих карт, но все остальное я знаю уж, во всяком случае, лучше, чем ты. На моей родине имеются книги и картины обо всех странах и народах мира. По ним иногда можно изучить тот или иной народ лучше, чем знают его те, кто к нему принадлежит. Так, в частности, я совершенно точно знаю, что здесь ни в коем случае нельзя чувствовать себя, как ты выражаешься, «в лоне Пророка». Здесь пролилось много, очень много крови. В этом месте сражались друг с другом муэры, шиллуки и динка. Джу и луо, тучи, бари, элиабы и ручи, абгаланы, агери, абуго встретились здесь для того, чтобы истребить и растерзать друг друга.
Шейх буквально окаменел от изумления.
— Эфенди, — воскликнул он, перегибаясь со своего верблюда к собеседнику, — ты знаешь эти народы, их все?!
— Да, и притом, как я уже сказал, лучше тебя, и я знаю еще больше. Я знаю, что именно здесь, где мы сейчас едем, проходит путь страшного гасуа[26]. Он проезжает здесь в ночное время, чтобы не попасться в руки паши, который в Фашоде зорко следит за охотниками на рабов. Не один несчастный негр, должно быть, упал, обессиленный, и, замолк навсегда, получив пулю на том самом месте, куда ступает сейчас нога твоего верблюда. На севере, а Мокрен-эль-Бахр, бедняг сгружают с кораблей и гонят через всю страну, чтобы севернее Фашоды снова по реке отправить в Хартум и там продать. Многие испустили здесь свой последний вздох. Многие огласили темную, безжалостную ночь предсмертными криками. И это ты называешь местностью, которую можно уподобить лону Пророка? Можно ли выдумать более отвратительную ложь?
Шейх мрачно смотрел перед собой. Он чувствовал себя побежденным и все же не хотел это признать. Поэтому, немного помедлив, он ответил:
— О разбойниках я не думал, эфенди. Я думал только о тебе и о том, что ты здесь в безопасности. Ты ведь находишься под нашей охраной, и хотел бы я посмотреть на того, кто решится тронуть хоть один волос на твоей голове!
— Не волнуйся за меня. Я прекрасно знаю, что я должен делать. И не стоит говорить об охране. Я нанял вас, чтобы вы на ваших верблюдах перевезли мои вещи в Фашоду, но на вашу охрану я не рассчитываю. Не исключено, что вы сами нуждаетесь в защите больше, чем я.
— Мы?
— Конечно. Или ты забыл о неграх-шиллуках, которых похищают здесь и продают в рабство в Дарфур люди твоего племени? Разве не в этом причина лютой ненависти, настоящей кровной вражды между вами и ими? И разве мы не находимся сейчас на территории шиллуков, которые, едва завидев вас, тотчас на вас бы напали? Думаешь, я поверил, что вы покинули караванную дорогу и повели меня пустынной местностью для того, чтобы сократить путь, как ты мне сказал только что? Нет, дело было в другом: вы боялись встретить шиллуков. Впрочем, у вас могло быть еще и другое намерение.
— Какое же? — этот вопрос шейх, понимавший, что его видят насквозь, выговорил совсем тихо.
— Какое? Разумеется, вы хотели заманить сюда меня.
— Валлахи, таллахи![27] Что за мысли рождаются в твоей голове?
— Кто же в этом виноват, как не ты? Подумай о караване, который идет за нами. Может быть, это гум, который должен на меня напасть. Вы заритесь на мое имущество, но, пока я жив, вам его не получить. Убить меня на своей территории вы тоже не можете, так как в этом случае вам не удалось бы избежать ответственности. Поэтому вы и повели меня окольными тропами в уединенный Бир-Аслан, где вряд ли найдется свидетель, который впоследствии опознал бы убийц. Если же мой труп все же найдут и установят мое имя, то, так как убийство произойдет на территории шиллуков, вся вина и падет на них. Таким образом вы можете убить одновременно двух зайцев: получить мои вещи и отомстить ненавистным шиллукам.
Эти слова, произнесенные столь равнодушным тоном, как будто речь шла о чем-то весьма обыденном, произвели на арабов невероятное впечатление. Помня недавнюю сцену между чужеземцем и шейхом, схватиться за оружие никто из них не посмел. Да и что могли сделать их допотопные кремневые ружья против великолепного арсенала чужеземца! В этом отношении он один явно превосходил их всех. Однако они чувствовали, что должны что-то предпринять, чтобы показать себя незаслуженно оскорбленными. Поэтому они остановили своих верблюдов и заявили, что не сделают ни шагу, а, напротив, немедленно разгрузят верблюдов и отправятся восвояси.
В ответ на это чужестранец только громко рассмеялся.
— Этого вы не сделаете, — сказал он. — Как вы собираетесь возвращаться назад без воды? Вам обязательно нужно добраться до Источника Льва. К тому же, я специально не заплатил вам вперед. Ваши деньги вы должны получить только в Фашоде, и если вы не доставите меня туда, вам не видать ни одного пиастра. Что же касается моих подозрений, то я открыто высказал их вам, чтобы вы поняли, что я нисколько вас не боюсь. Поверьте, мне приходилось иметь дело с куда более опасными людьми, чем вы. Впрочем, вас не в чем упрекнуть, кроме того, что вы меня совсем не знаете. Если мои подозрения окажутся напрасными, я буду готов попросить у вас извинения. В этом случае я в знак признательности забью в Фашоде быка и разделю его между вами. Кроме того, к плате, которую я назначил вам за вашу службу, я прибавлю бахшиш[28], из которого вы сможете сделать украшения вашим женам и дочерям.
По сути своей это была очень хорошая перспектива для арабов: они сделали вид, что она примирила их с чужеземцем, однако злоба их ничуть не уменьшилось, и они очень надеялись, что следующим утром его уже не будет в живых. Чтобы его успокоить, они заверили, что будут сопровождать его, если он оставит подозрения и сдержит свое обещание. Он согласился, но уже в следующее мгновение стало ясно, что его недоверие не прошло, так как если до сих пор он вместе с шейхом ехал во главе каравана, то теперь он предпочитал в одиночестве держаться позади всех.
Арабы сделали вид, будто не замечают этого, но спустя немного времени шейх подозвал к себе одного из хомров и, притворившись, будто объясняет ему дорогу (для чего он с крайне сосредоточенным видом тыкал вытянутой рукой в разные стороны), злобно сказал:
— Этот пес намного умнее, чем казался. Он знает всю эту страну, всех ее жителей и все события, которые здесь происходили.
— И очень точно угадал все, что мы собираемся с ним сделать, — вставил его собеседник. — Хоть бы шайтан схватил его за хвост!
— Лучше уж я это сделаю сам!
— Пожалуйста! Кто тебе мешает?
— Его оружие.
— А разве никто из нас не может отстать от каравана и пустить ему пулю в спину?
— Попробуй! Это было бы лучше всего. Тогда нам не нужно будет ждать до рассвета, а потом делить добычу с Абуль-моутом. Мы бросим его труп здесь, а сами поскачем к источнику, наполним там бурдюки и ночью вернемся назад. Завтра мы будем уже далеко отсюда, и ни одна душа не узнает, чья пуля уложила этого пса.
— Так мне его застрелить?
— Я не хотел, чтобы он был убит нами, но теперь, когда он заставил нас краснеть… Пусть он умрет от твоей пули!
— Что я за это получу?
— Золотую цепь от его часов.
— Не считая той части добычи, которая полагалась мне с самого начала?
— Разумеется.
— Хорошо. Я так близко поднесу к нему сзади ружье, что пуля выйдет у него из груди!
Он остановил своего верблюда и спешился, затем закрепил подпругу таким образом, будто она порвалась, и стал с ней возиться. Все остальные проехали мимо, но чужестранец остановился возле него и сказал дружелюбным, но твердым голосом:
— Этим следует заниматься перед отправлением. Своей остановкой ты нас всех задерживаешь. Как только будешь готов, быстро догоняй нас. Да, кстати, твой туфенк[29] оказался почти под брюхом верблюда: он легко может повредиться, так что лучше я временно возьму его к себе.
Он наклонился со своего высокого седла, поддел метиком[30] ремень висевшего на седле араба ружья, взял его и, улыбаясь, поехал вперед.
Лицо араба изобразило страшное разочарование: ведь ружье теперь было у чужеземца, а пистолета у него не было. Нападение же с ножом с высокого седла было абсолютно невозможным.
— Неужели он догадывается, этот чертов сын и внук? — проскрежетал он. — Ладно, на этот раз он выиграл, но скоро наступит ночь. Тогда он не сможет увидеть, что в него целятся, и я все же успею его застрелить, прежде чем мы достигнем источника.
Он вновь оседлал верблюда и последовал за своими спутниками. Когда он проезжал мимо чужеземца, тот протянул ему ружье со словами:
— Кремень испортился и весь высыпался, так что сегодня ты не сможешь стрелять. Но ты не огорчайся, завтра я дам тебе новый; у меня есть немного кремней в мешке.
Глава 2
ДЖЕЛАБА
Конечно, арабы поняли, что чужеземец нарочно высыпал кремень, и теперь буквально сгорали от нетерпения наконец с ним покончить. Но каким образом они могли это сделать, когда этот дьявол с невозмутимым видом скакал позади всех, держа наготове свое ружье с взведенным курком и бдительно следя за каждым движением спутников?
Время шло, и ландшафт постепенно вновь изменялся: теперь перед всадниками с севера на юг протянулась цепь невысоких гор. Они пересекли ее и вновь оказались среди равнины, слегка поросшей выжженной на солнце травой. Солнце тем временем все больше и больше приближалось к горизонту, и, когда оно коснулось его, шейх остановил своего верблюда и голосом муэдзина вскричал: «Хай эс-сала — становитесь на молитву! Солнце садится в песчаное море, пришел час эль-магриб!»
Все спешились и помолились. Мусульманин должен исполнять свои молебны пять раз в день и непременно совершать при этом омовение независимо от того, где он в данный момент находится. Молитвы эти следующие: утренняя, на восходе солнца; полуденная; послеполуденная, эль-аср, тремя часами позже; эль-магриб, на закате, и еще через час — вечерняя.
Справедливости ради нужно заметить, что в настоящее время эти предписания соблюдаются далеко не всегда, и по мере развития культуры на Востоке мусульманам становится все труднее им следовать.
Все время, пока читалась Фатха, чужеземец оставался в седле. Он вовсе не чувствовал и не хотел показать того пренебрежения к чужой религии, которое усматривали в его поведении спутники; ведь никто, собственно, и не ожидал от него, что он станет принимать участие в их молебне, а обнажить по европейскому обычаю в знак уважения голову он тоже не мог, так как этим он обесчестил бы себя в глазах арабов. По существующему у приверженцев ислама обычаю только цирюльник может позволить себе, не считая это позором, наслаждаться зрелищем благочестивого, обритого наголо мусульманского черепа с одиноким хохолком на макушке. Эту прядь волос никогда не позволяет состригать, так как существует поверье, что если он оступится, шагая после смерти в рай по узкой, как лезвие бритвы, тропе, то ангел Джабраил удержит его за эти оставшиеся волоски и не даст обрушиться в преисподнюю.
Закончив молитву, все вновь оседлали верблюдов, и путь был продолжен. Тем временем солнце скрылось за горизонтом, и наступила ночь. В южных краях ночь и день мгновенно сменяют друг друга, и нашего понятия «сумерки» здесь вовсе не существует. С наступлением темноты Отец Четырех Глаз стал еще больше торопить спутников. Однако они не успели далеко уйти от места своей последней стоянки, когда заметили небольшую цепочку всадников, которая под острым углом двигалась с севера по направлению к ним. Восемь человек восседали не на гордых конях, высоких длинноногих хеджинах или на худой конец обыкновенных вьючных верблюдах — о нет, они в самых причудливых, но не отличающихся большой элегантностью позах болтались на спинах животных, чьи изображения в былые времена рисовали на деревянных дощечках и вешали на шеи неприлежным ученикам — а именно, на ослах. Это был джелаба, торговый караван, и вид у него был самый что ни на есть неприглядный.
В отличие от больших, состоящих из многих сотен верблюдов торговых караванов, которые связывают средиземноморские государства оазисами Сахары, подобные джелаба никогда не выбираются за пределы Судана и чаще всего представляют собой зрелище, достойное сострадания. Тем не менее профессия бродячего торговца пользуется большой популярностью среди людей, не любящих тяжелой работы. Необходимые для основания нового предприятия несколько талеров Марии-Терезии[31] начинающий коммерсант зарабатывает обычно в качестве матроса, слуги или на какой-нибудь другой несложной временной работе. Часть этого капитала тратится на покупку осла, который всегда приобретается в первую очередь. Затем следует раздобыть два зураба — больших кожаных мешка для товара, которые во время путешествия висят по обе стороны седла. Эти мешки набиваются разнообразными вещицами, которые, по замыслу их владельца, должны сделать его миллионером. Самыми ходовыми в Судане товарами являются хол, распространенная в этих краях краска для глаз, маленькие кусочки коровьего жира, которым местные щеголи намазывают лица, чтобы они блестели, крошечные кубики соли, которая ценится здесь на вес золота, булавки — настоящее сокровище для негритянок, различные душистые предметы, чей запах заставил бы всякого европейца судорожно зажать нос, и прежде всего — хлопчатобумажное полотно, которое здесь нередко используется в качестве монеты, причем разным денежным единицам соответствуют большие или меньшие куски материи.
Для охраны этой передвижной лавки и ее исполненного самых радужных надежд хозяина от всевозможных напастей последний обзаводится каким-нибудь устрашающим оружием, например, огромной саблей с отломанным клинком или неимоверно длинным фитильным пистолетом, который перед этим долгое время служил норкой для мышей в чулане старьевщика, а может быть, неким весьма напоминающим ружье прибором, в числе многих чудесных свойств которого наиболее удивительным является то, что он не сможет выстрелить, даже если его целиком наполнить порохом и засунуть в раскаленную печь. Правда, в этом случае роль пороха будет нисколько не меньше, чем роль самого смертоносного оружия. Несмотря на невозможность их применения, все эти заменители оружия необычайно ценятся их владельцем и являются предметом его гордости. Он свято верит в то, что одного их вида достаточно, чтобы обратить в бегство любого врага, если же, как и бывает в большинстве случаев, этого не происходит — что ж, тогда он сам пускается наутек со всей энергией, на какую способен.
Но вот, наконец джелаби[32] полностью снаряжен и может отправляться в дорогу. Однако ему совсем не хочется устремляться в чужой, полный опасностей мир одному, без спутника, близкого ему по духу и образу мыслей и готового разделить с ним все радости и невзгоды предстоящего пути. Как правило, такие единомышленники легко находятся, и вскоре набирается джелаба из шести, восьми, а то и десяти коммерсантов-любителей. У каждого из них есть осел, но какой! Бродячий торговец не может позволить себе купить дорогое животное, и поэтому все они в больше или меньшей степени потрепаны жизнью и даже могут быть искалечены. У одного недостает уха, у другого хвоста, третьего слегка обглодали крысы, а четвертый остался без глаза. Но эти внешние недостатки с лихвой компенсируются ярким, сильным и самобытным характером, который зачастую приводит хозяина в отчаяние. Тем не менее он гордится своим «скакуном» и щедро награждает его самыми лестными именами и… колотушками.
Ни одно путешествие не начинается до тех пор, пока его участники не разыщут самых знаменитых факиров и не попросят у них чудодейственные амулеты: ведь этот несовершенный мир населен бесчисленным множеством злых духов, и только амулеты на груди и руках помогут избежать насылаемых ими опасностей, а в надлежащий момент успеть мужественно повернуться спиной.
Но вот оба зураба нагружены и висят на седле, джелаби… с помощью верблюжьей веревки опоясывает себя мечом или кое-как прилаживает на пояс свою гаубицу и взгромождается на осла, и импозантный караван наконец трогается с места, провожаемый рыдающей толпой родственников и друзей.
Слезы застилают глаза, сердца разрываются от горя. «Храни вас Аллах!» — звучат последние напутствия. Поезд еще раз десять застопоривается, так как один из ослов встает на дыбы и опрокидывает поклажу и всадника, другой катается по навозной куче, пытаясь освободиться от груза, а третий, крича, как будто его посадили на кол, упирается всеми четырьмя ногами, и ни ласками, ни ударами не удается сдвинуть его с места, пока родственники не впрягутся спереди, чтобы тянуть его за морду, а друзья не подтолкнут его сзади. Так, мало-помалу, джелаба выдвигается на простор и, взбрыкивая, спотыкаясь и крича, устремляется навстречу своему счастью.
Время от времени спутники расстаются, чтобы вновь встретиться в определенном месте. Совершаются головокружительные сделки, переживаются удивительные приключения, некоторые из джелаби погибают, другие с помощью изворотливости и упорства приумножают свой маленький начальный капитал и действительно становятся богатыми людьми. Все здесь поставлено на карту, все зависит от случая. Иной джелаби отправляется в глубь Судана и спустя много лет, когда родные уже оставят надежду когда-нибудь увидеть его вновь, возвращается состоятельным человеком. Другой покидает дом, семью, привычный, устоявшийся уклад жизни, чтобы где-нибудь среди болот умереть от голода или от лихорадки. И никто никогда не узнает, где белеют его и ослиные кости. Впрочем, последнего он, может быть, убил и съел еще раньше.
Одним из таких джелаба и был тот, который оказался сейчас на пути нашего каравана. Он подошел весьма некстати для арабов, и шейх пробормотал сквозь зубы проклятие. Но чужеземцу неожиданные гости пришлись очень даже по душе. Он подъехал к ним ближе, поздоровался и спросил:
— Куда держите путь? Солнце уже село. Вы не собираетесь останавливаться на ночлег?
Люди были одеты очень бедно, большинство из них не носило ничего, кроме набедренных повязок. Все они были в хорошем расположении духа, как будто недавно заключили выгодную сделку. Они не принадлежали к одной и той же расе, среди них было несколько негров. Впереди всех ехал маленький, худенький и, насколько можно было разглядеть в темноте, рябой человечек, который носил усы, состоявшие всего из нескольких волосков. Единственную его одежду составляли штаны, а на спине у него висело гигантское ружье. Он не носил головного убора. Шапку ему заменяли густые длинные волосы, которые свисали на спину подобно тому, как их носят в Германии бродячие словаки — продавцы изделий из листового металла и вязальщики проволоки. Он и ответил на вопрос европейца:
— Мы идем из Дар-Такала в Фашоду.
— Но вы не думаете прибыть туда уже сегодня?
— Нет, но прямо с утра. Сегодня мы останется у Бир-Аслана.
— Вот как? И мы тоже. Стало быть, мы можем составить друг другу компанию.
— О господин, как мы, бедные джелаби, можем наслаждаться ароматом твоего дыхания? Мы остановимся поодаль от вас. Позволь нам только набрать у источника немного воды для нас и наших животных.
— Все люди равны перед лицом Аллаха. Вы будете спать рядом с нами. Я так хочу.
Он сказал это очень настойчиво, и все же джелаби спросил:
— Ты шутишь, господин, не так ли?
— Нет, я говорю вполне серьезно. Мне это будет очень приятно.
— И вашим людям тоже?
— А почему бы и нет?
— Вы бени-араб. Можно узнать, какого племени?
— Из племени хомров.
— Боже милостивый! Разреши нам все же не останавливаться радом с вами!
— Почему?
— Потому что мы не можем вам доверять.
Он принимал чужеземца за одного из хомров, точнее, за их предводителя, и, несмотря на это, не боялся так прямо высказывать ему свои сомнения.
— Ты что, принимаешь нас за воров? — спросил в ответ европеец.
— Хомры — враги шиллуков, на чьей территории мы сейчас находимся, — уклончиво ответил джелаби. — Может легко возникнуть стычка, и в этом случае мы предпочитаем остаться в стороне.
— Твое сердце, кажется, не обладает большим мужеством. Как твое имя?
Человечек приподнялся в седле и ответил:
— Может быть, я и труслив, но тебя это не касается. А если ты хочешь знать мое имя, то слезай и получи его!
Он спрыгнул с осла, отбросил ружье и выхватил нож. Хомры ускакали вперед, а джелаба все еще оставался на месте. Позади того, кто говорил до сих пор, стоял джелаби такого же маленького роста и с возрастающим беспокойством прислушивался к разговору. Услышав последние слова своего товарища, он посчитал нужным вмешаться.
— Извини этого человека, господин, — сказал он, — у него слишком длинный язык, но при этом он всего лишь маленький человек, который ничего не понимает. Его зовут у нас Абуль-джидри, Отец Листьев, или еще Абуль-хадашт-шарин, Отец Одиннадцати Волосинок.
— А почему он получил это второе имя? — поинтересовался чужеземец.
— Потому что в его усах только одиннадцать волосков — шесть справа и пять слева. И все же он необычайно кичится ими и ухаживает за ними так же тщательно, как негритянка из племени нуэр за своим полем сорго.
Таким образом он попытался обратить зарождавшийся конфликт в шутку, он не встретил поддержки у своего спутника, так как тот гневно прикрикнул на него:
— Молчи, ты, Отец Глупости! Мои усы в сто раз ценнее, чем вся твоя голова. У тебя самого слишком длинный язык. Это ведь ты вечно хвастаешься своим родословным древом, в которое никто не верит!
Это оскорбление привело в ярость и второго джелаби, который запальчиво возразил:
— Что ты можешь знать о моей родословной! Вспомни, как звучит мое имя и как твое!
И, обращаясь к чужеземцу, он продолжал:
— Господин, позволь, я расскажу тебе, кто я такой. Меня зовут Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Хаджи Отайба Абуласкар бен Хаджи Марван Омар аль-Сандези Хафиз Якуб Абдулла аль-Санджаки.
Каждый араб придает своему происхождению очень большое значение и считает, что чем длиннее у него имя, тем больше он имеет оснований собой гордиться. Поэтому, представляясь, он не поленится назвать вам все свои имена вплоть до четвертого колена и будет страшно оскорблен, если ваше лицо не изобразит при этом достаточно почтительного выражения.
Завершив, наконец, свою тираду, Хаджи Али вопросительно уставился на чужеземца, ожидая, что тот скажет по поводу его славного имени.
— Итак, тебя зовут Хаджи Али? — спросил Отец Четырех Глаз. — Твой отец, стало быть, звался Хаджи Исхак аль-Фарези?
— Да. Разве ты его знал?
— Нет. А твоего деда звали Хаджи Отайба Абуласкар?
— Да, это так. Может быть, он тебе знаком?
— Тоже нет. А прадеда твоего звали Хаджи Марван Омар аль-Сандези?
— И это верно. Ну, о нем ты, по крайней мере, должен был слышать!
— К сожалению, и он мне неизвестен. И, наконец, твой прадед был правнуком Якуба Абдуллы аль-Санджаки, того самого знаменосца?
— Да, он нес санджак[33] Пророка в бою.
— Это имя я, разумеется, слышал. Якуб Абдулла был, должно быть, храбрым воином.
— Он был героем, о котором до сих пор слагают песни, — гордо подтвердил Али.
— Но он не был твоим предком, — уколол его первый джелаби, — ты незаконно присвоил его имя себе.
— Перестань меня все время в этом обвинять! — взвился Али. — Я все же лучше тебя знаю, от кого я происхожу!
— И так же незаконно ты зовешься Хаджи Али, — невозмутимо продолжал его товарищ, — ибо тот, кто называет себя Хаджи, должен был совершить паломничество в Мекку. А ты там никогда и не был!
— Может, ты был?
— Нет. Я этого не говорю, потому что я не привык лгать.
— Ты и не мог бы этим похвалиться, потому что ты христианин, а христианам посещение Мекки запрещено под страхом смерти!
— Что? Ты христианин? — в изумлении спросил чужеземец первою джелаби.
— Да, господин, — отвечал тот, — я не скрываю этого, так как грешно отрекаться от своей веры. Разумеется, я христианин и останусь им до самой смерти!
До сих пор Отец Четырех Глаз с нескрываемым удовольствием наблюдал за уморительной перепалкой торговцев, готовых, казалось, вцепиться друг другу в волосы. Но теперь его лицо стало вдруг серьезным, и глубокое чувство прозвучало в его голосе, когда он сказал:
— И в этом ты совершенно прав. Ни один христианин ни при каких обстоятельствах не должен скрывать свою веру. Этот грех против Святого Духа не заслуживает прощения — говорится в Китаб-аль-мукаддас[34].
— Грех против Святого Духа? — удивленно переспросил джелаби. — Ты слышал об этом?
— Конечно.
— Может быть, ты знаешь и Священное писание?
— Немного, — улыбнулся чужеземец.
— И ты, мусульманин, советуешь мне не отступать от моей веры?
— Я вовсе не мусульманин, а такой же христианин, как и ты!
— Тоже христианин? Должно быть, коптский?[35]
— Нет.
— Но тогда кто же ты? Я всегда считал, что бени-хомр не может быть христианином.
— Я не хомр, и вообще не араб, и даже не житель Востока, я приехал из Европы.
— Боже мой, возможно ли?! — в необычайном волнении вскричал человечек, — ведь я тоже, я тоже европеец!
— В какой стране ты жил?
— В Венгрии. Я мадьяр. Я…
— Об этом позже, — прервал его собеседник. — Дело в том, что мои спутники ушли слишком далеко от нас, а у меня есть все основания не доверять им. Поэтому мне хотелось бы как можно скорее их догнать. Но прежде скажи мне: теперь, когда ты узнал, что я тоже европеец, ты готов быть на стоянке рядом?
— Охотно, от всего сердца! Какая радость, какое блаженство встретить тебя здесь! Наконец-то мне будет с кем поговорить о родине! Давайте поторопим наших животных, чтобы быстрее догнать хомров и добраться до источника!
Они поехали вперед со всей быстротой, на какую были способны ослы, а эти последние бежали очень хорошо. В южных областях ослы имеют очень мало общего со своими европейскими собратьями. Египетский осел может на протяжении многих часов нестись галопом с каким-нибудь толстяком на спине так легко, как будто и нет никакого груза. Поэтому не прошло и пятнадцати минут, как маленький караван поравнялся с арабами. Хомры не сказали джелаби ни слова и даже не сделали намек на приветствие. Присутствие этих проклятых торговцев рушило все их планы, так как теперь им нечего было и думать о том, чтобы застрелить чужеземца.
Теперь путники ехали шагом в полном молчании. Даже словоохотливый венгр не делал попыток заговорить с Отцом Четырех Глаз: для этого ему пришлось бы сильно задирать голову к сидевшему на высоком хеджине чужеземцу.
Взошли экваториальные созвездия, почти такие же яркие, как Луна, которая сейчас находилась в фазе затмения.
Через некоторое время впереди неожиданно показался холм, как будто вырос из-под земли. Мерцание звезд придавало ему немного таинственный, призрачный вид.
— Там и находится Бир-Аслан, — сказал венгр, — через пять минут мы будем на месте.
— Замолчи, джелаби! — прикрикнул на него шейх. — Не в твоей воле решать, когда ты там будешь. Мы еще не приглашали тебя сопровождать нас!
— А это совсем и не требуется. Мы не нуждаемся в вашем приглашении.
— Мы можем вам и не разрешить подойти к источнику.
— Вы ничего не можете разрешить или запретить. Источник существует для всех, и кроме того, если я не ошибаюсь, вы находитесь на территории вашего врага.
— Будь ты проклят! — пробормотал хомр, но больше ничего не добавил.
Видно, джелаби был по натуре паренек не из трусливых, а с тех пор, как он узнал, что принятый им поначалу за мусульманского шейха человек на самом деле христианин из Европы, он окончательно потерял охоту выслушивать от арабов поучения.
Глава 3
У ИСТОЧНИКА ЛЬВА
Караван подошел к скалам, у подножия которых из земли струился источник. Это была не проточная вода, а маленький, окруженный кустарником мимозы пруд, который питали подземные воды. Все спешились и занялись каждый своим делом: одни разгружали и поили животных, другие собирали сухие листья, чтобы развести огонь. Когда же костер разгорелся, хомры уселись вокруг таким образом, что для джелаби не осталось места. В ответ на эти действия венгр не проронил ни слова. Он тоже насобирал дров, перетащил их на другую сторону пруда, разжег там свой костер и, обращаясь к Отцу Четырех Глаз, крикнул:
— Ну, теперь выбирай, с кем ты будешь сидеть, с ними или с нами.
— С вами, — ответил тот, — и захватите туда седельную сумку с моим провиантом. Вы мои гости, и я хочу вас угостить: мы можем себе позволить съесть все наши припасы, так как завтра мы придем в Фашоду.
— Тут он заблуждается, — прошептал шейх своим. — Он пренебрегает нами и предпочитает общество этих ничтожеств. Что ж, сделаем вид, что мы не обращаем на этот вызов внимания. Но, когда забрезжит рассвет, он уже будет рыдать в геенне огненной. А пока пусть он поест, в последний раз в этой жизни!
Он тоже достал свои съестные припасы — сушеное мясо и сухие лепешки из сорго — и руками зачерпнул воды из источника.
Тем временем чужестранец отправился разведывать окрестности источника. Маленькая горка, под которой он журчал, одиноко возвышалась посреди плоской равнины. Она была покрыта травой, которой не давала засохнуть испарявшаяся из пруда вода. На северном и западном склонах горы не было видно ни кустика, но у ее восточного и южного подножия, где был расположен источник, по обломках разрушенных скал и вокруг них густо вились мимозы. Кругом царили покой и безмолвие, и никто, казалось, не мог потревожить нашедших здесь пристанище путников, если, конечно, призрак отравленного возле источника «Господина с толстой головой» не имел обыкновения являться сюда ночной порой.
Когда чужестранец вернулся к арабам, верблюды и ослы уже вдоволь напились и теперь с аппетитом поедали молодые веточки мимозы. Он велел отнести все свои вещи ко второму костру и положить там у скал так, чтобы они находились в поле его зрения.
Венгр открыл его сумку с провиантом и разложил перед собой ее содержимое, состоявшее из лепешек, фиников и большого количества цесарок, которых Отец Четырех Глаз вчера утром настрелял в пустыне.
Некоторые суданские племена совсем не едят птиц, однако джелаби были не из тех, кто мог пренебречь вкусной дичью. Они ощипали одну из цесарок, выпотрошили ее и разложили мясо в маленькие четырехугольные формочки, которые были насажены на заостренные суки и повешены над огнем. Мясо, приготовленное таким способом, называется мясо-ребаб.
Когда все необходимое было сделано и чужестранец уселся рядом с джелаби у костра, венгр смог наконец задавать накопившиеся у него за время пути вопросы. Как и раньше, он обратился к чужеземцу на арабском языке:
— Могу я теперь узнать, господин, из какой страны ты прибыл?
— Скажи мне сначала, из какой области Венгрии ты родом?
— Из Надь-Михаи.
— Ах, оттуда? Но тогда ты не мадьяр, а словак. Но тебе незачем этого стыдиться.
— Я вовсе не стыжусь, но так как я родился в Венгрии, то все же считаю себя мадьяром. Значит, ты слышал о моей родине? Ты там бывал?
— Да.
— Ты говоришь по-венгерски? Впрочем, я владею также и словацким.
— Мне, к сожалению, неизвестны они оба, так что мы не сможем беседовать на твоем родном языке. Но скажи, как ты попал в Африку, в Египет и, наконец, в Судан?
— Благодаря моему господину.
— Кто же такой твой господин?
— Маттиас Вагнер, тоже венгр из Эйзенштадтского комитата[36].
— Я много слышал о нем, хотя лично с ним знаком не был. Он прожил очень интересную жизнь. Он сопровождал герцога из Готы и побывал в Египте, Арабии и Абиссинии[37], позднее объездил весь Восточный Судан и умер примерно год назад, кажется, в Хартуме. Или я ошибаюсь?
— Нет, господин, ты верно говоришь о маршруте его путешествия. Я был вместе с ним в его последней поездки в Кордофан[38], где он торговал страусовыми перьями. По возвращении, его смерть разлучила нас, и на меня стали сваливаться одни несчастья за другими, так что в конце концов я оказался вынужден вести жизнь бедного джелаби.
— И на этом поприще тебе сопутствовала удача?
— Что ты называешь удачей? Я начинал шесть месяцев назад с пятью талерами Марии-Терезии в кармане, а мой теперешний капитал, пожалуй, будет раза в три больше. Великим визирем[39] мне вряд ли удастся стать.
— Ну, для этого Аллах не дал тебе достаточно ума, — не преминул вставить второй джелаби.
— Помолчи, Абу-дих[40], — осадил его венгр, — Аллах наградил меня всем необходимым для такого высокого поста. А ты никогда не сможешь стать даже хамалом[41] из-за твоего фальшивого родословного древа.
— Оно настоящее, а не фальшивое! Во мне течет кровь знаменитого пророка. Ты только послушай, как звучит мое имя! Сейчас я произнесу его для тебя.
— Ради Аллаха, не надо! Ты и так трубишь его, не переставая, так что любая птица в Судане уже может его просвистеть.
— Ничего удивительного, что каждая птица знает это знаменитое имя. Тебе тоже не вредно запомнить его и послушать о славных деяниях моих предков. Но как зовут тебя? Я что-то забыл.
— Ускар.
— А как, ты говорил, это звучит по-арабски?
— Калб[42].
— Да, ну и имя! Как может человек называться именем такого презренного животного, как собака? А как звали твоего отца?
— Тоже Ускар, или калб.
— А деда?
— Так же.
— А других твоих предков?
— И их тоже.
— Аллах, что за род! Калб бен Калб ибн Калб Хафиз Калб, пес на псе сидит и псом погоняет. Удивительно, как это ты сам не лаешь, а говоришь. Разве это может сравниться с моим именем, которое звучит Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Отайба Абу…
— Тихо, тихо, остановись! — замахав на него руками, закричал венгр, — я больше не могу его слышать! Мне кажется, что я вдыхаю его имя вместе с воздухом, и оно разрушает мои внутренности, как огромный длинный червь. Что стоит твое хваленое имя по сравнению с моим опытом и моими знаниями! Ты получил его даром от своих предков, а я заработал мои знания тяжким трудом. Знай же, что я понимаю даже язык мудрейших, латынь! Я научился ей у моего господина.
— Не хвались, — перебил его Хаджи, который успел уже не на шутку рассердиться. — Я могу перечислить по именам все страны и народы земли, все города и деревни мира!
— А, опять это твоя любимая география! И где же ты ее выучил?
— У моего дяди, который сначала жил в Стамбуле, а потом отправился в страну немцев, в Липсик[43], где он много лет торговал на углу улицы медом. Там он нажил себе состояние, вернулся на родину и обучил меня географии. Я выучился и завербовался в Египет в аскеры[44] и так мало-помалу добрался до Судана.
— Эй, ты, Отец Смеха, — язвительно сказала словак, — ты, кажется, что-то воображаешь о себе на том основании, что твой дядя продавал мед? Может, он и латынь в Лейпциге выучил?
— И не только латынь, а все науки, какие только могут быть. И я научился от него всему. Только Аллах знает столько тысяч стран и деревень, сколько их держится в моей голове. А ты вообще ничего не знаешь. Ты Отец Листьев и Отец Одиннадцати Волосинок. И ты, кажется, слышал мое имя. Так как же ты смеешь называть меня Отцом Смеха?!
Оба окончательно вышли из себя и перешли на личности. И хотя Абуль-арба-уюн чувствовал себя довольно неловко, видя, что сцена становится совсем неприличной, он все же не смог сдержать улыбку: слишком уж комично выглядели оба разбушевавшихся человека. Прозвища, которые они носили, были и в самом деле очень меткими. На чудовищно рябом лице Отца Одиннадцати Волосинок гордо выделялись насчитывавшие если не одиннадцать, то уж никак не больше тридцати волосков усы, которые он поминутно поглаживал и подкручивал, стараясь придать им истинно венгерский шик.
Что же касается Отца Смеха, то по своим физическим данным он ничуть не уступал своему другу и антагонисту: Хаджи Али страдал нервным тиком, который через равные промежутки времени, а в особенности при душевных волнениях искажал его лицо страшной гримасой. При этом, в каком бы расположении духа ни находился несчастный, его физиономия приобретала столь глумливое выражение, что даже самый деликатный человек или даже черный меланхолик расхохотался бы, взглянув на нее. Впрочем, такая реакция окружающих ничуть не смущала добродушного паренька, который, казалось, был счастлив видеть вокруг себя неизменно веселые лица.
— Если даже ты и держишь в голове названия всех народов и деревень Земли, то уж наверняка ты не знаешь ни одного латинского слова! — продолжал гнуть свое словак. — Зато вот этот господин, может быть, кое-что понимает по латыни.
— Да, немного, — с улыбкой кивнул Отец Четырех Глаз.
— Где же ты ее выучил?
— В Лейпциге, как и дядя Хаджи Али.
— Но, я надеюсь, не на углу улицы возле ящика с медом?
— Нет, у моих профессоров.
— У профессоров? Значит, ты учился?
— Конечно.
— Чему же?
— Медицине.
— Так ты доктор?
— Не только. Еще в течение трех лет я был учителем в немецком медресе.
Тут малыш подпрыгнул на месте и воскликнул:
— Так ты немец?!
— Да, и если ты понимаешь по-немецки, мы можем разговаривать на этом языке.
— Конечно, я его понимаю, и притом очень хорошо. Аллах! Ра-ис эт-тибб![45] А я еще называл тебя на «ты»! Где были мои глаза? Но не беда, это даже хорошо: впредь буду вежливее. Можно мне теперь говорить по-немецки?
— Естественно! — ответил ученый, которому было очень любопытно, как венгр, утверждавший, что в совершенстве владеет, кроме родного языка, словацким и даже латынью, и действительно свободно говоривший по-арабски, будет объясняться на немецком. — Расскажите мне, кем был твой отец.
Маленький словак с сияющим лицом ответил уже по-немецки:
— Отец моего музыка был. Делал «дилидельдум-дилидельдей».
— Ах, музыкант? На каком же инструменте он играл? — спросил доктор, с трудом сохраняя серьезное выражение лица.
— Имел дудеть кларнет: вивиива-вививива! — он поднес руки трубочкой ко рту и поразительно похоже стал подражать звуку кларнета.
— А вы тоже учились игре на этом инструменте?
— Я нет. Рот моего не подходил для этого.
— Понятно. Могу я еще узнать, как ваше настоящее имя?
— Иметь меня звать Ускар Иштван.
— В переводе на немецкий это, если я не ошибаюсь, звучит как Стефан Пудель. Здесь, в стране, где слово «пес» считается самым страшным ругательством — это весьма сомнительное имя. Я не советовал бы вам переводить его вашим спутникам.
— Ваш быть совершенно прав. Но как вы зовут, пан доктор?
— Мое имя Эмиль Шварц, и я приехал сюда, чтобы изучать фауну и флору этой страны и взять с собой отсюда как можно больше различных видов растений и животных.
— О, фауна и флора! Это было хорошо латынь! Я тоже понимать латынь. Латынь моего я иметь учить у пан Вагнер. Фауна зваться растения, а флора звать скот.
— Точнее, наоборот, — рассмеялся Шварц.
— Оборот тоже правильно, оба правильно! — ликовал венгр. — Я есть много быть в Судан. Я имел видеть вся флора и фауна. Если вы нуждаться слуга, я иметь охотно стать слугой вас очень.
— В самом деле?
— В деле, пан доктор. Я не хотеть больше торговать в Судан и не хотеть джелаби больше быть. Вы меня воспользовать очень хорошо мог. Я вам хотел помогать с латынью моего и этикетки клеить делать на препараты ваши.
— Над этим предложением, пожалуй, стоит подумать, и я…
Вдруг он осекся на полуслове, услышав вдали очень странный звук.
— Что это было? — спросил он джелаби, переходя на арабский. — Похоже на гром, но сейчас, в сухой сезон, здесь не бывает гроз.
— Нет, это не гром, — ответил словак на арабском языке, который он, к счастью, не искажал так ужасно, как немецкий.
— Но тогда что же?
— Это был аслан, царь зверей.
— Лев? Значит, они все-таки здесь водятся?
— Выходит, что так. По крайней мере, один из них идет сюда на свет нашего костра.
— Так рано? Я считал, что лев покидает свое логово не раньше полуночи.
— Если он голоден, то может выйти и раньше.
Их разговор был прерван шейхом, который подбежал к их костру и испуганно зашептал:
— Ради Аллаха, не говорите так громко, а то он услышит и придет! Тогда мы все пропали. Слышите?
Снова раздался тот же звук, похожий на грохот колес тяжелого автомобиля, который переезжает деревянный мост. Верблюды задрожали, а ослы испуганно сбились в кучу.
— Итак, это лев, — сказал Шварц, ни к кому не обращаясь. — Как давно мне хотелось услышать его голос.
— О, сейчас он рычит еще далеко не в полную силу, — сказал словак, — он голоден и недоволен, но это пока еще только легкое ворчание.
— Тебе уже приходилось слышать льва? — теперь чужестранец снова называл своего собеседника на «ты», следуя правилам арабской грамматики.
— Не только не раз слышал, но и видел.
— И он на тебя не нападал?
— Ни разу. Большинство этих животных трусливы, среди них мало настоящих, отважных и гордых зверей. Трусливые львы подкрадываются тайком и похищают свою жертву так тихо, что ее отсутствие нередко замечают только утром. Но смелый лев появляется из своего логова с громким рычанием. Он открыто заявляет всей округе, что голоден и собирается выйти на охоту. К месту, которое он выбрал для нападения, лев приближается очень медленно и при этом время от времени подает голос, чтобы враги могли точно высчитать время его появления. Даже серьезная опасность не помешает льву, который так себя ведет, напасть на добычу.
— Насколько я понимаю, сейчас мы имеем дело именно с таким зверем?
— Да. Когда он в следующий раз зарычит, мы сможем услышать, к нам или в другое место он направляется.
Тут в третий раз прозвучал голос хищника, нечто среднее между рычанием и воем. Все явственно услышали, что он подошел совсем близко. Хомры столпились вокруг второго костра, стуча зубами от страха.
— Он идет сюда, прямо к нам, — прошептал шейх срывающимся голосом.
— Стало быть, ты был не прав, когда утверждал, что около этого источника нет больше львов, — отвечал Шварц.
— Откуда я мог знать, что один все же найдется? Еще несколько дней назад никакого льва здесь не было. Мы не заметили его следов, потому что пришли, когда уже стемнело. Должно быть, Бир — его водопой, так как отсюда до самой реки нет другой воды.
— И ты думаешь, что он временно поселился прямо на открытой равнине?
— О, нет, господин. В трех четвертях часу пути отсюда есть пещера в скалах. Ее-то лев и присмотрел себе в качестве логова, потому что его голос раздавался именно из того района. Мне доводилось встречаться уже со многими львами, и я знаю их привычки. Этот приближается очень медленно, так как огонь отпугивает его, но через полчаса он будет уже около нашего лагеря.
— Он действительно собирается напасть на нас?
— Без сомнения, эфенди. Он громко объявил нам об этом своим рычанием и сдержит свое слово. Мы должны немедленно навьючить наших животных и покинуть это опасное место!
— Ты хочешь сказать, что мы должны бежать?
— Да, и как можно скорее!
— Четырнадцать мужчин? От этой крысы?
— Эфенди, это не крыса!
— Самая настоящая крыса, хотя и очень большая. Впрочем, кто хочет бежать — пожалуйста! Но верблюды останутся здесь, потому что я их нанял.
— Но он же может разорвать их!
— Я компенсирую тебе ущерб.
— Да, но он может убить и меня!
— Ну что ж, в таком случае, ты сегодня же попадешь к Аллаху в рай, так что можешь этому радоваться.
— Ну уж нет, с этим я не спешу!
— Можешь отправляться на все четыре стороны, но, отойдя от костра, которого лев боится, ты подвергнешь себя еще большей опасности. Ты даже не сможешь разглядеть зверя в кромешной темноте, и он нападет на тебя так быстро, что ты и оглянуться не успеешь.
— Аллах, Аллах! Значит, по-твоему, мы должны оставаться здесь и спокойно ждать, кого из нас он выберет для сегодняшнего ужина?
— Зачем ждать? Лучше я его убью.
— Ты? Один? Ведь никто не отважится тебе помочь.
— А разве я этого требую?
— Так ты собираешься выступить против него в одиночку? Скажи мне, эфенди, ты сумасшедший?
— Нет. Я убивал очень опасных зверей. Правда, непосредственно со львом я еще не общался, но надеюсь, что сегодня он не даст мне упустить такую возможность. Заодно я позабочусь о том, чтобы он не причинил вам вреда.
В это время лев снова подал голос. Теперь это был не гром и не рев, а короткий, совершенно непередаваемый ропот, при звуке которого всем присутствующим показалось, будто у них живьем сдирают кожу с черепа.
— Он все ближе! — запричитал шейх. — Он уже прошел половину пути и будет здесь уже через четверть часа. О, мои верблюды, мои прекрасные верблюды!
— Ты сам верблюд! Вместо того, чтобы ныть, лучше помоги нам сделать необходимые приготовления. Мы должны заставить его повернуть к тому месту, где я буду его поджидать. Мы находимся посередине между скалами и источником, следовательно, он может подойти к нам или справа, или слева. Сделайте костер побольше и разведите его поярче, тогда он не решится броситься сюда. Затем накрепко привяжите животных к кустам, чтобы они не убежали. После этого, если угодно, можете спрятаться за тюками с поклажей.
Все эти приказы он отдавал с хладнокровием унтер-офицера, инструктирующего на плацу своих солдат.
— А что будешь делать ты, господин? — спросил словак.
— Я пойду к месту второй стоянки, затушу там костер и буду поджидать зверя.
— И ты в самом деле собираешься пойти туда совсем один?
— Да. Я думаю, мне вряд ли понадобится помощь.
Арабы и джелаби поторопились подбросить в костер дров и привязать животных. После этого все они забились в узкую щель между поклажей и скалами. Около Шварца остались только венгр и Али, которые принялись помогать ему тушить другой костер. Не успели они с этим закончить, как лев снова дал о себе знать, как будто в последний раз призывал людей подумать, не лучше ли им отказаться от мыслей о сопротивлении. Да, на этот раз это было настоящее рычание «в полную силу»: сначала глухо рокочущее, как гул начинающегося землетрясения; затем нарастающее до мощного грудного рыка, который переходил в пронизывающий насквозь, поистине сатанинский гром, от которого, казалось, дрожала земля. Это действительно был властный и воинственный вызов даря зверей, и теперь Шварц понял, почему арабы так часто называют его Абурад — Отец Грома.
— Он уже не более, чем в тысяче шагов от нас, — послышался из укрытия голос шейха. — О, Аллах! Прочтем же священную Фатху, а затем громко прочитаем суру «раскалывания», восемьдесят четвертую в Коране! Через пять или шесть минут неминуемая смерть обрушится на нас.
Верблюды дрожали и скулили от страха. Они лежали на земле, тесно прижавшись друг к другу и вытянув вперед шеи. Ослы, наоборот, судорожно бились и пытались вырваться на волю.
Шварц взял свое большое ружье, венгр вооружился одним из тех доисторических, устрашающего вида ружей, которыми так дорожит всякий уважающий себя джелаби и о которых уже упоминалось выше, а Али схватил длинное, тяжелое, окованное железом копье, с которым никогда старался не расставаться.
— Теперь ступайте к остальным, — прошептал немец своим помощникам.
— Господин, тебе не справиться одному, — возразил ему словак.
— Обо мне не беспокойся! Уверяю тебя, что на равнинах Северной Америки мне удавалось счастливо избегнуть и куда более серьезных опасностей.
— Может быть, но сейчас будет встреча с самим львом, а ты пришелся мне очень по душе, и я не покину тебя.
— Да пойми же, ты только навредишь мне с твоей огненной палкой.
— О, нет, господин, тут ты ошибаешься. Это мой катил-аль-фил[46], и его пуля пройдет насквозь через все тело льва. Поступай как знаешь, но я все равно останусь с тобой!
Он сказал это таким решительным тоном, что Шварц понял: всякие уговоры бесполезны. Между тем время шло, и нельзя было терять ни секунды. Поэтому немец сдался, сказав:
— Ну хорошо, тогда держись позади меня и не начинай стрелять, пока я сам не выпущу две пули.
Он еще раз осмотрел свое ружье, отошел вперед примерно на десять шагов и вытянулся на земле, опершись на левый локоть таким образом, чтобы в любой момент оттолкнуться, вскочить и успеть отбежать в сторону. Словак улегся рядом с ним в такой же позе, и оба приготовились ждать, когда вдруг услышали за спиной тихий шорох. Обернувшись, они увидели Али, Отца Смеха, который стоял прямо за ними на одном колене, вцепившись обеими руками в копье, которое он держал весьма странным образом. Острие его было направлено вперед, а другой конец прочно уперся в землю, так что из своего лежачего положения он никак не мог бы ударить им зверя.
— Что ты здесь делаешь? — раздраженно спросил Шварц.
— Если вы не убьете его сразу, он прыгнет на вас, — отвечал тот, — тогда вы сразу бегите отсюда, а я остановлю его моим копьем, на которое он напорется.
Шварц хотел что-то ответить, но был заглушен новым ревом хищника. Теперь он звучал совсем рядом и еще ужаснее, чем раньше. Лев был в какой-то сотне шагов от них.
Итак, решающий миг наступил, и если до сих пор страх все же шевелился в глубине души каждого из этих трех отважных людей, то теперь от него не осталось и следа. Глаза и руки охотников стали еще вернее, и сердца их забились спокойнее, чем прежде.
— Ты не дрожишь? — спросил венгр.
— Нет, — отвечал Шварц.
— Я тоже нет. Теперь он может появляться!
Позади них был лагерь. Туда лев вряд ли мог ворваться, так как его отпугивало высокое жаркое пламя. По левую руку от них располагался пруд, а справа возвышались скалы. Между ними лежало свободное пространство примерно в пятьдесят шагов шириной, посреди которого и находились стрелки. Если бы их расчет на то, что зверь появится впереди, оправдался, ему невозможно было бы их обойти: он должен был бы или пробежать вплотную рядом с ними, или броситься на них.
Шварц снял свои защитные очки и пристально всматривался в местность перед собой. Вдруг, так неожиданно, что все испуганно вздрогнули, с другого берега пруда, прямо у его края, в двадцати шагах от охотников снова раздалось рычание.
— Теперь внимание, — прошептал словак.
Опасность удвоила остроту его зрения. Что же касается слуха, то он больше ничем не мог быть ему полезен, потому что в этом момент шейх громко начал читать выбранную им восемьдесят четвертую суру: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Когда небо раскололось, и послушалось своего Господа, и обязалось, — и когда Земля растянулась и извергла то, что в ней, и опустела, и повиновалась своему Господу и обязалась… О, человек! Ты стремишься к своему Господу устремлением…»
Он продолжал молиться жалобным голосом, а Шварцу больше всего на свете хотелось его убить: вопли шейха полностью заглушали шаги зверя, и вследствие этого жизнь всех путешественников висела на волоске.
Единственное, что оставалось охотникам, — изо всех сил напрягать зрение, стараясь хоть что-нибудь различить в кромешной тьме. Однако присутствие зверя выдало совсем другое: внезапно в ноздри изнемогавшим от мучительного ожидания людям ударил присущий всем хищникам резкий запах, какой можно почувствовать в каждой мясной лавке. Тотчас и сам он появился из-за кустов — не крадучись, как тигр или пантера, а ступая гордо и прямо, медленными и уверенными шагами господина, который находится в своих владениях и, не унижаясь до того, чтобы хитрить со своим противником, вызывает его на открытый поединок.
Его широко раскрытые сверкающие глаза шарили по краю густого кустарника в поисках желанной добычи. Наконец, его взгляд упал на три неподвижные фигуры. Он вздрогнул и рывком бросился на землю, чтобы защитить от выстрелов легко уязвимую грудь. Затем он внимательно оглядел каждого из лежавших перед ним людей.
Под этим взглядом Шварцу показалось, что кто-то водит ледяной сосулькой по его позвоночнику, но он тотчас же отогнал от себя это чувство. В свое время он читал воспоминания нескольких знаменитых охотников на львов и представлял, как следует вести себя в ситуациях, подобных нынешней.
Известно, что если лев не прыгает на своего врага сразу, как заметит его, то он обычно ложится на землю, поджав под себя задние лапы и вытянув передние. Он почти закрывает глаза и следит за противником сквозь узкую щель между веками. Приняв какое-нибудь решение, он немного приподнимает заднюю половину туловища, чтобы за счет этого увеличить мускульную силу бедер. При этом его глаза медленно открываются, и в тот момент, когда веки распахиваются окончательно и показываются движущиеся, как огненные колеса, зрачки, он делает роковой прыжок.
Стрелок должен целить в один из открытых глаз и успеть выстрелить ровно за секунду до прыжка. Лев с пробитым через глаз черепом по инерции все же взлетает в воздух, и в этот момент второй выстрел стрелка поражает его в сердце. Сразу же охотник должен быстро отскочить далеко в сторону, чтобы не быть схваченным и покалеченным лапами умирающего зверя.
Действуя полностью наперекор этой теории, лев, находившийся перед Шварцем и его товарищами, держал глаза открытыми и таким долгим взглядом всматривался в охотников, как будто никак не мог уразуметь, что за странные существа перед ним.
Шварц решил этим воспользоваться, он направил дуло своего ружья в голову хищника, собираясь выстрелить ему в глаз. Но тут зверь зажмурился и свирепо зарычал, как будто желая показать, что видит противника насквозь.
Прошло долгое время, прежде чем он вновь открыл веки, но только чуть-чуть. Сквозь них сверкал огонь, напоминавший светло-зеленый бумажный фонарь на рождественской елке.
Теперь лев был довольно отчетливо виден при свете звезд. Он лежал на земле, склонив голову на передние лапы и вытянув хвост. Шварц понимал, что он должен подождать стрелять до тех пор, пока хищник не раскроет глаза еще шире и не поднимет брюхо, чтобы приготовиться к прыжку. Но этого мнения не разделял Отец Одиннадцати Волосинок, который возбужденно зашептал ему в ухо:
— Пора. Стреляй же!
— Нет, надо еще немного подождать.
— Тогда стреляю я, иначе будет поздно!
— Ради Бога. Ничего не делай, потому что…
Но договорить он не успел, так как словак уже направил дуло своего «слоноубийцы» в голову льва. Надо заметить, что его адская машина была, мягко говоря, не очень исправна. Должно быть, и сам владелец не смог бы сразу вспомнить, когда ему в последний раз довелось ею пользоваться и делать чистку. Поэтому затвор ружья поддавался очень туго, и Отец Листьев изо всех сил надавил на курок, не обращая никакого внимания на то, что дуло при этом съехало в сторону. Когда раздался выстрел, малыш получил такой удар прикладом по голове, что выронил ружье и закричал на своем родном языке: «Какая наглость! Иди к черту!»
Держась одной рукой за ушибленное место, он другой схватил с земли ружье и отбросил его далеко от себя. Боль была столь сильной, что бедняга думал только о вероломном поведении своего боевого друга и напрочь забыл про льва.
Что касается последнего, то он тем временем вскочил, широко раскрыл глаза и с пронзительным ревом бросился вперед. К счастью, Шварц не потерял присутствия духа. Он выстрелил льву в левый глаз и одновременно закричал венгру: «В сторону! Быстро, быстро!»
Отец Листьев последовал этому приказу и мгновенно бросился к скалам. Попала ли пуля в глаз, Шварц видеть не мог, так как, когда прозвучал выстрел, лев был уже в воздухе. Немец хладнокровно прицелился в область сердца. Снова выстрелил и с такой силой метнулся влево, что застрял в оказавшемся у него на пути большом кусте.
Чудовищная, невероятная сила прыжка отнесла льва с того места, где он лежал, прямо туда, где только что находились оба стрелка. Если бы они замешкались хотя бы на секунду, все для них было бы кончено. Теперь в этом месте остался только Абу Дих, маленький и неустрашимый Отец Смеха. Ему и в голову не пришло принять последнее распоряжение немца на свой счет и отправиться в безопасное место. Как только передние лапы зверя коснулись земли в двух шагах от него, он тут же вскочил, перехватил поудобнее копье, направил его острие в тело льва и в тот момент, когда оно воткнулось, отпустил его и проворно откатился налево, туда, где лежал Шварц. Впрочем, Шварц уже снова вскочил и выхватил висевший у него на ремне длинный нож, готовый, если понадобится, продолжить схватку с хищником один на один.
К счастью, последнее намерение оказалось излишним. Послышался громкий треск ломавшегося копья, лев упал на землю, потом снова поднялся. Сильный трепет прошел по его могучему телу, он пошатнулся, повернулся налево, где стояли Шварц и Абу Дих, хотел прыгнуть еще раз, но не смог двинуться с мета. Издав короткое, звучное и быстро замершее рычание, он рухнул на бок, затем перевернулся на спину, прижал к телу дрожащие лапы, вытянул их снова — и больше не шевелился.
Все это произошло в считанные секунды, но участникам событий казалось, что прошло не меньше часа, как всегда и бывает в минуты опасности, когда человек успевает принять десять решений за время, которое в обычной ситуации он посвятит обдумыванию одной-единственной проблемы.
Только трое смельчаков хотели подойти к льву и убедиться в том, что он мертв, как вдали снова послышался рев, еще более громкий, чем прежний. Словак и Абу Дих вскочили и прислушались. Этот рев не раздавался через равные промежутки времени, как голос первого льва, а звучал непрерывно; он был не таким мощным, в нем не слышались раскаты грома, но прорывавшаяся в нем ярость заставляла от страха замирать сердце. Это был злобный стон жаждущего крови зверя. По усиливающемуся реву было слышно, что второй лев приближается огромными скачками. Тут снова послышался голос шейха, который со своего места возле скалы не видел, чем кончилось нападение льва.
— Аллах-иль-Аллах, — причитал он. — Ассад-бей, пожиратель стад, убил всех троих и теперь собирается растерзать их трупы. Но он был не один, с ним оказалась рядом его жена, которая услышала выстрелы и сейчас спешит ему на помощь. Вдвоем они разорвут нас в клочья. Мы погибли, так спасем же по крайней мере наши души, для этого нам следует немедленно прочитать суру «Йа син», а затем еще суру «Верующие», двадцать третью в Коране.
— Да замолчи же ты наконец! — крикнул ему Шварц. — Мы целы и невредимы, и мы убили льва. А ты своими криками привлекаешь к себе внимание его султанши, так что тебя она, пожалуй, съест первого.
— Слава Богу! — воскликнул этот трус. — Я умолкаю. Но убейте ее, султаншу, пристрелите и ее, и пусть она вместе со своим любимым мужем отправляется в самую глубокую бездну ада.
За время этого разговора Шварц успел перезарядить свое ружье и был готов продолжать схватку.
— Там действительно львица, — сказал словак. — Я тоже должен зарядить ружье. Только где же у меня… — Он стал шарить по карманам в поисках патронов.
— Бессмысленно, — возразил немец. — Она будет здесь раньше, чем ты успеешь вставить в ружье патрон. Абу Дих сломал свое копье и теперь тоже безоружен, так что отправляйтесь отсюда оба! Быстро!
— Но моя пуля весит целые четверть фунта, а твоя…
— Исчезни! — закричал на него Шварц. — Иначе ты пропал!
Он снова улегся на землю в прежней позе и стал вглядываться вперед, не замечая, что его приказу последовал только Отец Смеха. Доблестный Стефан Пудель все же остался. Он спрятался за кустом в нескольких шагах от немца и, отыскав, наконец, свои патроны, начал перезаряжать ружье.
Разъяренная львица была уже совсем рядом. Она шла по следам своего мужа и, как и он, сначала повернула туда, где горел костер, и лишь потом перешла на другой берег пруда. За счет этого ее маневра словак выиграл время и все же успел привести свой агрегат в боевую готовность. Лапы львицы касались земли совершенно бесшумно, но по вибрации ее голоса был слышен каждый скачок, все больше сокращавший расстояние между врагами. Но вот, наконец, она подошла к кустарнику и за ветками показалась ее голова. Ослепленная яростью, она едва не проскочила мимо Шварца, но тот быстро выпрямился, чтобы привлечь ее внимание. Она увидела его и по инерции все же прыгнула, но не вперед, а в сторону, к скалам, и затем присела там, готовясь к следующему прыжку.
Шварц нагнулся снова и молниеносно направил на нее дуло своего ружья. Целиться было очень трудно, так как очертания львицы были почти неразличимы в тени скалы. Кроме того, на это совсем не было времени, так как возбужденный зверь вряд ли стал бы долго готовиться к прыжку, постепенно открывая глаза. Так и произошло. Не успела львица припасть к камням, как ее глаза засверкали зелено-желтыми огнями. Это был единственный момент, когда можно было стрелять, и Шварц выстрелил почти наугад, а секундой позже львица уже летела на него с яростным ревом. Прогремел второй выстрел немца, а затем, бросив ружье и тесно прижав к туловищу руки и ноги, он дважды перекувырнулся вперед, оказавшись в результате в пяти локтях от места, где только что лежал. Там он снова вскочил, выхватил нож и кинулся на землю.
Если бы он не так хорошо сгруппировался, львица непременно схватила бы его, но теперь он целый и невредимый стоял за ее спиной. Она знала это, и Шварц ждал, что она повернется к нему для последней схватки, но этого почему-то не произошло. Взгляд самки упал на лежащего перед ней льва, короткий прыжок — и она уже стояла над ним. Она тронула его мордой один раз, два, три раза, потом подняла голову и издала долгий, пронзительный, раздирающий душу вой, который неожиданно был прерван громким выстрелом. Это Отец Одиннадцати Волосинок, воспользовавшись моментом, проворно выскочил из кустов и, приставив дуло своего «слоноубийцы» почти вплотную к голове животного, всадил ему в мозг обещанные четверть фунта свинца.
Львица отлетела в сторону, как от сильного толчка, потом снова вскочила и повернула голову к новому врагу. Тот быстро перевернул свое тяжелое ружье, схватил его за дуло и стал лупить окованным железом прикладом по черепу зверя, крича при этом:
— Будь ты проклята, разрази тебя гром, ты, дьяволица! Ну что, как ты себя чувствуешь, ты, собака, ты, сука, ты, сучья мать?
Он вел себя так, будто перед ним была не львица, а какая-нибудь гиена, и его отвага могла выйти ему боком, но выпущенная им пуля сделала свое дело. У смертельно раненного зверя уже не было сил сопротивляться, и он медленно рухнул на землю под ударами словака.
— Вот она лежит! — вскричал тот, торжествуя. — Здесь, у моих ног, лежит львица. Я убил ее, как крысу, и у нее не хватило смелости показать мне свои зубы и когти. Подойдите же и посмотрите на нее!
Он наклонился и хотел дотронуться до животного, но Шварц удержал его и сказал:
— Осторожнее! Эти звери не прощаются с жизнью так просто. Мы должны быть уверены, что они мертвы.
Он зарядил свое ружье и дал льву и львице еще по пуле в лоб. Последняя слегка вздрогнула, значит, она действительно была еще жива.
Оба говорили достаточно громко, так что их могли услышать остальные. Поэтому к ним медленно приблизился Абу Дих и нерешительно спросил:
— Вы победили? Я могу подойти?
— Да, — ответил словак, — мы победили. Можешь подойти и оценить наш подвиг, потому что Пожиратель Стад отправился отсюда в страну смерти, и его подруга вместе с ним. Вот их тела, продырявленные пулями и избитые прикладами моего славного ружья, которому никто не может противостоять.
Абу Дих подошел и подергал льва и львицу за лапы, чтобы убедиться в том, что они в самом деле мертвы.
— Видишь, лежат и не шелохнутся, — гордо сказал маленький Стефан, поглаживая свои «пышные» усы. — После того, как мы с помощью наших пуль пообщались с этими львами, ты можешь играть с ними, как с крысятами.
— Хаджи Али тоже принимал участие в «беседе», — напомнил ему Шварц. — Он ведь лежал рядом с нами и бесстрашно встретил льва своим копьем. Мы скоро узнаем, кто из нас троих убил львов, и тому, кто уложил зверя, будет принадлежать его шкура. А пока притащите с той стороны огня, чтобы нам снова развести костер.
Арабы и джелаби слышали каждое слово, но все еще не решались приблизиться. Только когда оба человечка пришли к ним за огнем, они отважились выползти из-за тюков с поклажей, и шейх спросил:
— Вы живы? Значит, вас не проглотил «Господин с толстой головой» и его жена?
— И ты еще спрашиваешь? — отвечал Стефан. — Я не позволю себя проглотить ни льву, ни львице. Запомни это! И даже если сам шайтан пожалует, чтобы сожрать меня, неизвестно еще, кто исчезнет в чьем желудке: я в его или он в моем. Пойдите лучше и посмотрите на результаты схватки, в которой мы победили, причем заметьте себе, что Пожирателю Стад и его супруге не удалось повредить на нас ни одного волоска!
Арабы последовали его приглашению, но не особенно поспешно. Приблизившись настолько, чтобы видеть лежавших на земле убитых зверей, они остановились. И лишь когда разгорелся огонь и при его свете стало видно, как трое удачливых охотников безнаказанно орудуют над поверженными львами, хомры подошли совсем близко.
Теперь, наконец, когда они полностью убедились, что им не угрожает ни малейшая опасность, их страх прошел. Они обступили львов, и шейх возвел руки, требуя всеобщего молчания.
— Аллах-иль-Аллах ва Мухаммад расул Аллах[47], — сказал он патетическим тоном. — Он создал небо и землю, растения и животных и, наконец, человека. И когда все было готово, он создал еще мусульманина, и сделал его господином над всеми своими творениями. Ему подчинены даже самые могучие звери, и если они не хотят повиноваться ему, он убивает их своей сильной рукой. Этот убийца лошадей, верблюдов, быков и овец, что лежит сейчас перед нами, был голоден. Но вместо того, чтобы удовлетвориться мясом нечистой халлуф[48] или вави[49], он имел дерзость посягнуть на нас, любимцев Пророка, правящего раем. Он взял с собой жену — не законную свою жену: ведь когда он ее брал, кади не благословил их брак. Они жаждали нашей крови, предвкушали сладкий вкус нашего мяса и наших костей. Они хотели сожрать нас без уксуса и масла, без соуса и пряностей, так же, как рахам проглатывает пойманную гиену. Но Аллах не покинул нас. Мы прочли священную Фатху и суру «Йа син», слова которой защищают верующих во время опасности. И тогда на нас снизошли отвага и мужество, и силы наши утроились. Мы схватились за оружие и отправили пожирающего людей дьявола и его дьяволицу в преисподнюю, где они теперь жарятся на вечном огне, и мука их никогда не прекратится. Мы же теперь торжествуем, и дети наших детей с их внуками и правнуками вечно будут нас славить. По всем городам и деревням прокатится слух о нас, и музыканты ударят в литавры и заиграют на всех струнах. Ну, а теперь мы должны насладиться нашей победой и снять с убитых шкуру. Но прежде покажем им, как сильно мы их презираем, этих грязных червей, мы, герои, никогда не ведавшие страха!
С этими словами шейх плюнул сначала на льва, а затем на львицу. Едва он подал этот знак, как хомры и джелаби, словно безумные, кинулись на животных стали их бить и топтать ногами, осыпая всевозможными ругательствами.
Все это продолжалось около четверти часа, после чего шейх достал свой нож и сказал:
— Теперь, когда наши враги мертвы, давайте заберем у них одежду и украсим ею себя. Победителю принадлежит шкура побежденного. Когда мы возвратимся к палаткам хомров, мужчины будут нам завидовать, а женщины встретят нас хвалебными песнями.
По его примеру другие арабы тоже достали свои ножи.
— Стойте! — приказал Шварц. — Мы, конечно, не бросим львиные шкуры. Но кто, по вашему мнению, их получит?
— Победители, — ответил шейх.
— А кого ты считаешь победителями?
— Нас всех.
— Ах, вот как! Значит, мы должны разрезать шкуры на четырнадцать частей?
— Нет, иначе они потеряют всякую ценность. Но ты ведь знаешь, что я шейх.
— Знаю, но какое отношение это обстоятельство имеет к львиной шкуре?
— Шкура должна достаться шейху.
— Таков ваш обычай?
— Да.
— Но ты ведь только что сказал, что шкура побежденного зверя принадлежит победителю?
— Да. Но когда победителей много, ее получает самый знатный, то есть я. Поэтому разрезать шкуры на всех нам совсем незачем.
— Понятно. Итак, ты — победитель?
— Конечно. Разве я не присутствовал при смертельном бое?
— И к тому же ты — самый знатный из победителей?
— Да, потому что я — шейх.
— Вот в этом ты жестоко заблуждаешься. Знаешь ли ты, кто я?
— Да. Ты эфенди.
Он сказало это довольно пренебрежительным тоном.
— Да будет тебе известно, эфенди бывают очень разные, — пояснил Шварц. — Ниже меня стоят сотни эфенди, и каждый из них знает и значит больше, чем знаешь и значишь ты. Так что самый знатный из победителей — не ты, а я. И кроме того, у тебя нет ни малейшего права называть себя победителем. О твоем мужестве и твоих деяниях никогда не будут ни петь, ни слагать легенды. Ты оскорблял этих зверей, но разве может твоя хваленая смелость сравниться с их! Когда ты услышал их голоса, ты хотел бежать.
— Это была шутка. Я ведь остался.
— Да, после того, как услышал, что бегство может оказаться еще опаснее и что я собираюсь сразиться со львом. А потом «Господин с толстой головой» пришел, и ты со своими «храбрецами» уполз в укрытие и даже к мертвым львам осмелился приблизиться только после того, как снова разгорелся костер и вы убедились, что опасность миновала.
— Эфенди, ты хочешь меня оскорбить?
— Нет. Я только хочу предостеречь тебя от заносчивости и посягательств на чужую собственность. Эти львы принадлежат только тем троим, которые с ними сражались, а именно мне, Хаджи Али и ибн аль-Джидни. Никто другой трофеев не получит.
— Этого мы не можем допустить. Даже если ты и эфенди над всеми эфенди, ты все же только гяур и не имеешь здесь никаких прав. Мы мусульмане, и мы возьмем шкуры. И лучше тебе не сопротивляться, а не то…
Он остановился.
— Ну, и что же будет тогда?
— Тогда мы тебя заставим! — отвечал шейх, сделав угрожающее движение рукой, в которой он все еще держал нож.
Тогда Шварц подошел к нему, положил руку ему на плечо и сказал:
— Вы спрятались от львов, а мы их победили. Неужели ты думаешь, что мы испугаемся вас, струсивших перед теми, кого мы убили? Если вы сейчас же не уберете ножи, я вас всех перестреляю!
Он выхватил револьвер, и в тот же миг все ножи исчезли.
— И еще кое-что я хочу тебе сказать, — продолжал немец. — Ты считаешь истинной свою религию, а я свою. Каждый имеет право так поступать, в этом даже его долг, и меньше всего я склонен поносить твою веру. Того же я могу и должен требовать от тебя. И если ты еще раз назовешь меня гяуром, я отвечу на это оскорбление тем, что вытяну тебя моим верблюжьим хлыстом по лицу, и ты будешь в течение всей твоей жизни носить рубец в знак позора. Запомни, я привык держать мое слово!
Ударить бедуина или хотя бы пригрозить его побить — значит нанести ему самое страшное оскорбление, какое только можно вообразить. Шейх отступил назад, среди его людей пронесся ропот.
— Эфенди, — воскликнул он, — ты понимаешь, что говоришь?
— Прекрасно понимаю и сделаю, как говорю. Ты назвал меня гяуром, а я пригрозил тебе за это хлыстом — итак, мы квиты. А теперь позаботься о том, чтобы мне не пришлось приводить мою угрозу в исполнение, и не пытайся снова трогать этих львов, к которым ты не имеешь никакого отношения. Мы перенесем их к нашему костру, а вы оставайтесь здесь, возле своего, как это и было до того, как страх отогнал вас прочь.
Эти слова в сочетании со всем внушительным обликом немца произвели на арабов впечатление. Никто из них больше не пытался сказать ни слова. Они отступили назад, пока не освободилось место у костра, потом уселись вокруг огня. О чем они там тихо говорили, на другой стороне пруда, слышно не было, но взгляды, которые хомры изредка бросали в сторону своих обидчиков, не предвещали ничего хорошего.
С помощью джелаби, которые примкнули к Шварцу, обоих львов удалось перетащить ко второму костру. Там охотники сняли со зверей шкуры и внимательно осмотрели их раны.
Первая пуля немца прошла через глаз льва и застряла у него в мозгу, вторая пронзила ему сердце. Обе эти раны были смертельными. Кроме того, копье Абу Диха так глубоко вошло в тело животного, что его острие торчало у него из позвоночника. Эта рана также должна быть неминуемо повлечь за собой смерть хищника. И хотя Шварц имел преимущественное право на трофей, так как его пули поразили жертву раньше, все же бравый Отец Смеха, несомненно, тоже заслуживал вознаграждения.
Что же касается львицы, то первая пуля попала ей в челюсть, прошла через язык и вышла через затылочную кость над первым шейным позвонком. Вторая пуля пробила легкое. После каждого из этих выстрелов зверь не прожил бы больше пяти минут. Четвертьфунтовая пуля Отца Одиннадцати Волосинок прошла сквозь мозг и всего лишь сократила пять минут до одной. Таким образом, и эта шкура, скорее всего, принадлежала немцу.
Хаджи Али и Стефан Пудель признали это, хотя и с видимым сожалением: они тоже охотно приняли бы участие в дележе добычи. Тогда Шварц сказал:
— Каждому из зверей досталось по три пули — две моих и одна ваша. Следовательно, мне принадлежит две трети каждой шкуры, но я хочу уменьшить свои притязания и взять только шкуру льва. Вторую шкуру вы разделите пополам. В этом случае каждый из вас получит большую часть, чем та, на которую он мог претендовать, и кроме того будет удобно делить: вы просто разрежете шкуру вдоль или поперек на две части. Вы согласны?
— Конечно, — мгновенно отреагировал словак, — голову возьму я, а Хаджи Али останется хвост.
— Ну уж нет, — возмутился его друг, — почему это ты забираешь голову?
— Потому что я стрелял в голову.
— Аллах! А я что, колол его под хвост? Мы разрежем шкуру вдоль, чтобы обе части были одинаковыми.
Это предложение не понравилось Стефану. Оба торговца ссорились до тех пор, пока Шварц не вмешался и не спросил:
— А что вы собираетесь делать с вашими шкурами?
— Как что? Я буду носить свою, как накидку, — объявил Отец Смеха.
— И я мою, — сказал Отец Листьев.
— Тогда вы не можете делить ее вдоль, иначе половинки будет неудобно носить. Режьте поперек, и пусть жребий решит, кто получит переднюю, а кто заднюю половину шкуры львицы.
Так и сделали. Удача сопутствовала словаку, и он получил желанную голову.
— Вот и хорошо, — обрадовался он, — я получил что хотел. А ты теперь больше не Отец Смеха, отныне мы будем называть тебя Абуль-занаб — Отец Хвоста.
Должно быть, Хаджи Али хотел скорчить в ответ на эти слова яростную гримасу, но всем присутствующим показалось, что он вот-вот расхохочется как сумасшедший. Он не спеша разложил перед собой свою часть добычи и достал нож, чтобы вырезать мясо, а затем натереть внутреннюю сторону шкуры пеплом. Только после этого он ответил:
— А тебя мы можем называть Абуль-буз, Отец Морды, потому что ты получил морду, хотя твоя собственная и так уже настолько широка, что ты не можешь закрыть свою пасть и всегда держишь ее распахнутой, чтобы оскорблять других. Если бы у тебя в голове было столько названий народов, стран и деревень, сколько у меня, ты был бы более воспитан и мог бы называться Абуллатиф, Отец Вежливости, но пока это тебе не грозит.
— Ты прекрасно знаешь, что мне не нужны ни твои народы, ни твои деревни, потому что у меня и так светлая голова, — заявил венгр.
— Может быть, ты скажешь, что в моей есть что-то темное?
— Да, потому что в твоих странах и деревнях нет уличных фонарей. Мои же знания, напротив, излучают небесный свет. Уже одна моя латынь могла бы сделать из тебя образованного человека, не говоря уже о других науках, которыми просветил меня Аллах. Но такого сияния тебе не достичь за всю твою жизнь!
— Я знаю названия деревень мира, но ни одной, которая называется латынь.
— О, Аллах! Латынь — деревня! Ты что, не знаешь, что это язык, на котором с той стороны моря…
— Вы действительно так хорошо знаете латынь? — по-немецки спросил Шварц, чтобы остановить разгоравшуюся ссору.
— Очень хорошо! — с готовностью ответил словак на том же языке. — Я учить ее от господина Вагнера. И вы это уже слышать от мне. Я ведь говорить фауна и флора.
— Да, только все перепутали!
— Это есть происходить из одной маленькой недосмотры. Я иметь понимать даже всю зоологию и ботанику.
— Ну, и что же такое зоология?
— Зоология есть все, что было в гербарии.
— А ботаника?
— Ботаника было о созданиях человеческих и звериных, до гусениц, насекомых.
— Снова все наоборот! Зоология — наука о животных, а ботаника — о растениях.
— И снова от одной маленькой путаницы из моей образованности. Каждый знал, что латынь венгерского самая замечательная в мире. Я знал Горация[50] и Вергилия[51].
— Что, например?
— Кайзер Мар Австралийский на Стене Мартина пера Вергилия.
— Простите, но мне кажется, что это стихотворение написал не Вергилий, а Анастасий Грюн[52].
— Значит, я снова перепутать из образованности моей. Я учить астрономию и математику.
— Что? И астрономию? И что же такое астрономия?
— Это таблица умножения и четырехугольный квадрат.
— Так-так. А что же понимают под математикой?
— Молочный Путь на небе и кометы бегают вокруг Луны.
— Да нет же! Математика занимается в том числе и квадратом, а астрономия — Млечным Путем.
— Так я всего только перепутать небесное молоко с таблица умножения.
— Вы, кажется, постоянно что-то путаете и меняете местами?
— Это ничего. Профессор, рассеянный, тоже взял лапшу вместо зонтика. Моя память не может поместить больше, чем его внимательность. Знания, которые я располагаю, так обильны и огромны, что однажды мог подкрасться случайная ошибка.
— Ваши знания тем более удивительны, что вы, как я полагаю, никогда не посещали школу?
— Нет. В школе не было меня. Я овца и свинья пасти, отцовских, и я не иметь времени ходить в школу. Но я иметь в подарок доску, шиферную, и карандаш, шиферный, и иногда придет сын, соседский, мне показать читать и писать. Потом с милой родины уехать я и посещать частные библиотеки платные везде, куда прихожу. Еще знакомства умных искал я, чтобы снова и снова получаю знания у всех, кто мог одолжить образования и все учености. Я учить даже мифологию и фармалогию.
— Вы, должно быть, хотели сказать «фармакологию». И чем же занимается эта наука?
— Фармакология — это наука об Юпитер[53] и Прозерпина[54], Олимп и громовержец.
— А мифология?
— Мифология — это сознание, ученое, о мази и пластыре, серебре, серная кислоте и ревматизме, еще о пилюлях швейцарских.
— Здесь вы снова ошиблись. Мифология рассказывает нам об Олимпе и его обитателях, а фармакология занимается лекарственными средствами.
— Так я только перепутался Юпитера с Духом нашатырным[55], это не принести ему много вреда.
— На этот счет вы действительно можете быть спокойны: старика Зевса уже давно нет в живых. Но не пора ли вам заняться львиной шкурой по примеру Отца Смеха, который уже почти закончил разделывать свою половину? Это необходимо, если вы не хотите, чтобы она испортилась.
— Да, я соскребу с нее мясо и натру изнутри пеплом. Вашу шкуру, кстати, тоже уже обрабатывают.
Последние слова Стефан произнес по-арабски и показал при этом на джелаби, которые из благодарности к спасшему их от неминуемой гибели Шварцу возились с принадлежавшей ему шкурой, производя над ней все необходимые операции.
Глава 4
ГУМ
Еще долгое время после того, как опасность миновала, джелаби не могли успокоиться: все вспоминали пережитый ужас, превозносили мужество троих героев и рассказывали удивительные истории с участием «Господина с толстой головой». Надо сказать, что ни одно другое животное не пользуется среди местных жителей такой популярностью, как лев, являющийся одним из самых любимых героев легенд и сказаний.
— Не верьте вы всей этой чепухе! — немного послушав, сказал венгр. — Лев — такой же зверь, как любой другой. Когда дон голоден, он ест, если его мучит жажда, он пьет, а насытившись полностью, он засыпает. В нем вовсе не живет душа умершего человека. И хотя у него действительно очень тонкий слух и вообще все чувства, но то, что говорят о нем на расстоянии в целый час езды, он, конечно же, слышать не может. Да если бы даже и мог, он все равно бы ничего не понял. Вы меня послушайте, уж я-то получше вас разбираюсь во всем этом: ведь я умею даже разговаривать по-латыни!
Но джелаби не дали сбить себя с толку и продолжали рассказывать душераздирающие истории, в которых лев, естественно, играл главную роль. В этих преданиях и легендах ярко проявлялся народный характер, они были действительно прекрасны, и еще большую прелесть придавало им то, что сами рассказчики свято верили во все, о чем они говорили. На Шварца произвело большое впечатление все то, что он слышал, но тем не менее он не забывал время от времени бросать взгляд на хомров, которые все еще продолжали с большим жаром обсуждать что-то между собой. В такие минуты лицо его становилось серьезным и озабоченным.
Успев за время своего пребывания в Судане довольно хорошо изучить нравы и обычаи этой страны, Шварц знал, что каждый бедуин — разбойник в душе и без долгих колебаний готов пойти ради наживы на преступление. Его же настоящее положение было тем более ненадежным и опасным, что своим открытым выступлением против шейха он навлек на себя ненависть его людей. И кроме того, мысли его все время возвращались к тому коршуну, который летел за их караваном. Сам шейх вынужден был признать, что появление этой птицы — верный знак присутствия людей. Что же это были за люди? И где они теперь? Они давно уже должны были достичь источника, но почему-то не подошли к нему, а остановились где-то в стороне. Может быть, они не знали о существовании Бир-Аслана? Это было очень маловероятно — слишком уж знаменито было это место, да и другого источника не было рядом. Но даже если бы и можно было допустить такую возможность, верблюды сами привели бы путешественников сюда. Эти животные чувствуют воду на расстоянии в несколько часов пути, и тогда их невозможно остановить: они переходят на галоп и, сметая все встречающиеся на дороге препятствия, скачут к источнику. Следовательно, всадники, составлявшие этот второй караван, силой удерживали своих верблюдов, а это говорило о том, что они пришли сюда не с добрыми намерениями. Итак, заключение, что по пятам наших путешественников следовал гум, напрашивалось само собой.
Различаются несколько видов караванов. Паломнический караван, состоящий из людей, которые идут молиться в Мекку, Медину или Иерусалим, называется хадж. Торговый караван носит имя кафила, в некоторых областях также джелаба, отсюда джелаби — торговец[56]. Караван же, участники которого выходят на разбой, называется гум. Разбойничьи караваны — не редкость в этих краях, и зачастую бывает так, что кафила или даже хадж превращаются в гум, чтобы по окончании разбоя снова стать мирным торговым или паломническим «поездом».
Особый вид гума представляет собой гасуа, который специализируется на поимке людей для продажи их в рабство. Такие караваны ходят не по пустыне, а по граничащим с ней на юге областям, население которых преимущественно составляют негры. Если эти разбойничьи караваны промышляют на воде, их называют бахара, дословно — «путешествующие по реке». Последние встречаются в основном в верховьях Нила, два главных рукава которого разветвляются на такое множество маленьких притоков[57], что в сезон дождей и сразу после него по окрестностям Нила можно передвигаться только на кораблях.
Итак, Шварц пришел к выводу, что преследовавшие их люди были разбойниками и что хомры, скорее всего, состояли в сговоре с ними. Теперь оставалось приготовиться к любым неожиданностям и предупредить джелаби о новой опасности, которой подвергались также и они. Дождавшись паузы в беседе, немец спросил у Отца Одиннадцати Волосинок:
— Вы пришли через страну Баггара. Ее жители были миролюбиво настроены по отношению к вам?
— Конечно, — ответил словак. — Нет такого племени, которое враждебно встречало бы джелаби. В нас повсюду нуждаются, так как только мы можем доставить людям то, что им необходимо. Мы всюду желанные гости, и везде нас принимают как лучших друзей.
— И все же я слышал, что иногда и на джелаби нападают грабители.
— Эти нападения происходят очень редко и только со стороны тех племен, с которыми мы не поддерживаем торговых отношений. Но все же из осторожности мы стараемся всегда точно узнать, нет ли где-нибудь поблизости гума.
— Вот как? Тогда скажи мне, по твоим сведениям, сейчас вокруг все спокойно?
— Да. Баггара в последнее время не снаряжала никаких караванов, а с шиллуками, на чьей территории мы сейчас находимся, мы живем в дружбе.
— А к хомрам вы тоже ходите с товаром?
— Нет. Их деревни расположены слишком далеко от нас.
— Значит, в определенных обстоятельствах вы не можете чувствовать себя с ними в полной безопасности?
— Обычно мы стараемся не попадаться им на пути, но сегодня, хотя они и не особенно приветливы с нами, у нас нет оснований их опасаться.
— Ты думаешь?
— Конечно. Мы ведь находимся под твоей защитой?
— Разумеется. Но в данном случае мое покровительство может скорее навредить вам, чем оказаться полезным.
— Но раз они сопровождают тебя, значит, они твои друзья, а следовательно, и наши. Араб всегда друг друзей своего друга.
— Но разве ты не заметил, что они вовсе не дружелюбно расположены ко мне?
— Это не имеет значения. Они дали слово доставить тебя невредимым в Фашоду и должны сдержать его.
— Да, они обещали мне перевезти на своих верблюдах меня и мои вещи в Фашоду, если я им за это заплачу. И все же я им не доверяю.
— Почему? А разве не было оговорено, что в случае опасности они должны защищать тебя даже ценой собственной жизни?
— Нет.
— И ты не обменялся с ними клятвой «Я защитник господина»?
— Нет. Я хотел, но они утверждали, что это совсем не обязательно и вообще не принято у них.
— Тогда твои дела действительно плохи, да и наши тоже. Если бы они дали эту клятву, ты мог бы быть уверен, что они не только поступят с тобой по совести, но и примут твою сторону в столкновении с любым врагом. Но сейчас у них нет никаких обязательств по отношению к тебе, и по неписаным законам их мест они могут тебя ограбить и даже убить, не навлекая на себя этим особенной вины. То, что они отказались произнести клятву «Я защитник господина» — верный признак, что они замышляют что-то недоброе. Может быть, мои подозрения не имеют оснований, но я все же советую тебе быть очень осторожным: сегодня ведь мы придем в Фашоду, где эти люди уже ничем не смогут тебе навредить, и поэтому я думаю, что свои преступные намерения они собираются осуществить этой ночью. Я, пожалуй, не лягу спать и снова заряжу моего «слоноубийцу», хотя, честно говоря, я был уверен, что он мне теперь не скоро понадобится.
Он действительно схватил свое ружье и снова принялся рыться в карманах, разыскивая патронташ, который он опять успел потерять. Хаджи Али, слышавший весь разговор, решил выразить солидарность со своим другом.
— Мое копье, к сожалению, сломалось в брюхе льва, но я буду сражаться голыми руками. Эти Отцы и Сыновья Разбоя не получат ни моей жизни, ни моего осла, ни моего имущества. Я передушу их всех, одного за другим. Я знаю хомров. У них на губах вечно слова Корана, они не пропустят ни омовения, ни предписанных молитв, но все они воры и предатели. Если вы услышите, что где-то поблизости гум, можете быть уверены, что он состоит из благочестивых бени-хомр. И несмотря на всю их набожность, Аллах запирает от них небо на тысячу замков.
— Значит, тот гум, который следует за нами, тоже состоит из хомров? — спросил Шварц.
— То есть как? — вскинулся словак. — Ты говоришь, рядом с нами гум?
— Точно я этого не знаю, но у меня есть некоторые подозрения.
И он поделился с обоими джелаби своими наблюдениями, а затем передал им разговор с шейхом. Его слова привели человечков в такое волнение, что он в течение некоторого времени тщетно призывал их к спокойствию, незаметно указывая на сидевших поодаль арабов, которые ни в коем случае не должны были ничего заподозрить. Наконец, друзьям удалось взять себя в руки, и они вполголоса продолжили прерванную беседу.
— Пожалуй, ты прав насчет гума, господин, — сказал словак. — Мы должны ожидать нападения. Может быть, нам следует сразу перестрелять твоих хомров?
— Нет. У нас еще нет доказательств. Впрочем, если бы таковые и имелись, я все равно был бы против. Я никогда не пойду на убийство человека, если есть хоть малейшая возможность его избежать.
— Тогда нам нужно как можно быстрее собраться и покинуть это опасное место.
— С этим я тоже не могу согласиться. Здесь мы, по крайней мере, можем контролировать ситуацию. Кроме того, скалы и кусты обеспечат нам хорошее укрытие. Если же мы поедем дальше, они последуют за нами и в любой момент смогут напасть на нас на открытом пространстве. Каковы их силы, мы не знаем, нас же всего девять человек. Если они не намного превосходят нас и нам удастся выиграть схватку, то здесь мы скорее сможем избежать жертв с нашей стороны, чем в каком-либо другом месте. И наконец, последнее: пока мы здесь, мы можем не выпускать из поля зрения хомров, и им, таким образом, не удастся примкнуть к разбойникам, если они и вправду состоят с ними в сговоре. Поэтому я думаю, что нам лучше остаться.
— Но мы же не знаем, когда эти мерзавцы на вас нападут. Неужели нам придется всю ночь сидеть у костра с заряженными ружьями наготове?
— Это совсем не обязательно, если мы сделаем необходимые приготовления. Прежде всего надо потушить огонь, чтобы он нас не ослеплял. Тогда, кстати, и хомры не смогут увидеть, что мы делаем. Пусть они думают, что мы улеглись спать, а сами, когда огонь потухнет, отойдем к скалам. Там вы спрячетесь за кустами, а я тем временем попытаюсь узнать, где находится гум.
— Как же ты собираешься это узнать?
— С помощью разведки, — улыбнулся Шварц. — Караван шел тем же путем, что и мы, значит, он должен сейчас быть где-то к западу от источника.
— Но это очень опасно!
— Совсем нет.
— Не делай этого, господин! Тебя увидят и убьют!
— Не увидят. Я не буду идти, выпрямившись во весь рост, а поползу по земле.
— И все же тебя выдаст твой светлый хайк[58].
— Я его сейчас сниму. Мои штаны и рубашка более темного цвета, так что меня нелегко будет различить на фоне земли.
— Звезды светят сегодня так ярко, что тебя наверняка заметят. Ни одни человек не может скользить по земле быстро и бесшумно, как змея.
— Это несложное искусство, и мне, как и многим, пришлось ему научиться. Я долгое время провел среди охотников в Ени-Дюнья[59], и нам все время приходилось быть начеку, так как нас окружали воинственные племена диких индейцев. Один из этих охотников по имени Олд Шеттерхэнд, или, по-арабски Абуджадд[60], научил меня незамеченным подкрадываться к любому, самому чуткому человеку. Этим американцам мы должны быть благодарны за то, что одолели сегодня львов. И хотя я приезжал в Америку только затем, чтобы пополнить свою коллекцию растений и животных, и никому не желал зла, мне довольно часто приходилось сталкиваться с врагами, и всегда я выходил победителем. Уверен, что и сейчас мне удастся разузнать все, что мне нужно, и благополучно вернуться назад.
— Но тебя могут учуять и выдать твое присутствие верблюды. Впрочем, против этого у меня, кажется, есть одно средство. Скажи, тебя действительно ничем нельзя отговорить от твоего решения идти в разведку?
— Нет.
Тогда словак подошел к своему ослу, возле которого лежал большой мешок с товарами, порылся в нем и достал бутылочку с какой-то жидкостью.
— Вот, возьми, — сказал он, вернувшись к костру и протягивая бутылочку Шварцу. — Это нашатырь, приготовленный из извести и воды. Как только приблизишься к гуму, вылей несколько капель себе на одежду. Верблюды любят этот запах и не станут поднимать рев.
Шварц поблагодарил и сунул пузырек в карман. Джелаби тем временем, выполняя его указания, расстелили свои бурнусы и улеглись на них, как бы собираясь спать. Надо сказать, что предстоящая схватка ничуть не испугала торговцев: ведь на этот раз речь шла всего лишь о людях, а не о страшных хищниках, в чьих телах находят пристанище души умерших. Вскоре огонь потух, и хомры, все еще сидевшие у своего костра и ярко освещенные его светом, уже не могли видеть, что делается в другой части лагеря.
Тогда Шварц, выскользнув из своей накидки, положил на землю оба ружья, которые сейчас могли ему только помешать, и отправился на разведку.
Чтобы обойти хомров, которые находились южнее джелаби, он пополз сначала на север и, обогнув скалу, выпрямился и остановился, чтобы прислушаться. Не заметив ничего подозрительного, он свернул на запад и продолжил свой путь, точно придерживаясь следов, которые он и его спутники оставили несколько часов назад. Немец шел по песку абсолютно бесшумно. Он медленно и осторожно шагал все дальше и дальше, изо всех сил напрягая зрение и слух. Так прошло около десяти минут, и Шварц начал уже думать, что он выбрал неправильное направление, когда до его ушей донесся слабый звон, какой могли произвести два ружья, ударившись друг о друга. Шварц удвоил свою осторожность и замедлил шаги. Через пару минут на него дохнуло знакомым запахов верблюдов, и в тот же миг его глаза различили впереди несколько неподвижных, расплывчатых теней. Это и были люди гума, которые сидели на земле, закутавшись в серые бурнусы.
Справедливо полагая, что все внимание разбойников направлено в ту сторону, откуда он шел, Шварц решил сделать небольшой крюк и приблизиться к ним с севера. Он снова лег на землю и пополз вправо, неразличимый на фоне песка, несмотря на яркое сияние звезд. Чтобы его не выдал светлый цвет лица, он обвязал подбородок и нос своим темно-красным носовым платком, а на лоб надвинул феску[61], которую носил под капюшоном, так что теперь были видны лишь одни глаза.
Подобравшись еще ближе, он увидел верблюдов, лежавших поодаль друг от друга, и смог сосчитать людей. Их было двенадцать. Они сидели тесным кружком, от которого Шварца отгораживали туловища двух верблюдов. Несмотря на рискованность такого шага, Шварц решил подползти вплотную к животным и, спрятавшись за их спинами, подслушать, о чем говорили разбойники.
Легкий ветерок дул навстречу Шварцу, и именно поэтому верблюды до сих пор не почуяли его. Продвинувшись вперед еще немного, Шварц вновь остановился. Теперь наступило время использовать средство джелаби. Он открыл бутылочку и опрыскал себя нашатырным спиртом.
Давно замечено, что запах, который выделяют верблюды, подобен аммиачному и что из мочи и помета этих животных испаряется нашатырь. Поэтому Шварц не отрицал возможности того, что верблюды питают некое пристрастие к «аромату» нашатыря. И он тут же смог убедиться, что так оно и есть: не успел он снова закупорить бутылочку, как оба верблюда повернули к нему голову и с видимым удовольствием стали принюхиваться, не подавая, однако, никаких признаков беспокойства.
Ободренный этим, Шварц вплотную придвинулся к одному из верблюдов, так что высокая спина животного полностью скрывала его от арабов. Протянув руку, немец осторожно коснулся шерсти хеджина и слегка потрепал его, причем послышалось довольное похрюкивание. Тогда Шварц окончательно успокоился и сосредоточил все свое внимание на группе людей, сидевших перед ним.
Теперь он был от них не более чем в трех шагах, и, хотя арабы разговаривали негромко, Шварц мог расслышать практически каждое их слово. Сейчас говорил человек, сидевший немного в стороне, этим как бы желавший подчеркнуть свое превосходство над другими спутниками. Он очень выделялся среди остальных своей страшной худобой и необычайно высоким, особенно для араба, ростом. Даже сидя, этот человек достигал в высоту добрых четырех футов, значит, его полный рост должен был составлять более трех локтей. Его глухой замогильный голос производил очень неприятное впечатление, в полном соответствии со страшным смыслом его слов.
— Нет, нам не нужно больше ни в чем убеждаться. Мы видели следы, и этого достаточно. По следам мы определили, что восемь путников едут на ослах. А кто путешествует на ослах? Это могут быть только джелаби. Эти лавочники обычно трусливы. Нам нечего их бояться. Если мы пошлем одного из наших людей разузнать, остановились ли джелаби у источника, он благодаря какой-нибудь случайности может попасться, наш план сорвется. Я и без этого могу вам сказать, что джелаби наверняка там, и что из этого? Это может быть нам только на руку, так как в придачу к остальной добыче мы получим их товары и животных.
— Лавочников мы тоже должны убить? — спросил один из арабов.
— Конечно.
— Жаль. Они полезные люди и кроме того — последователи Пророка, не то что этот чужак-гяур, черт бы побрал его душу.
— Должно быть, солнце высушило тебе мозги, раз ты заговорил о сострадании? По-твоему, мы должны оставить в живых восьмерых свидетелей? Ты разве забыл, что чужак находится под охраной своего консула, который, если узнает о его смерти, будет кричать о мести до тех пор, пока нас не схватят и не убьют?
— Но мы же не будем сообщать джелаби, кто мы такие!
— Нет, тебе определенно не хватает ума. А как быть, если кто-то из джелаби узнает одного из нас?
— Этого одного мы можем заставить навек замолчать.
— Ну, нам придется поступить так со всеми, потому что меня они узнают, даже если ни разу не видели. Аллах не поскупился, когда давал тело моей душе, и я не могу быть ему за это благодарен: при моей профессии ни к чему иметь внешность, которая всем бросается в глаза. Уже одного того, что я работорговец, достаточно, чтобы погубить меня, с тех пор, как франки, будь они прокляты, запретили в Хартуме торговлю людьми. Теперь в Фашоде сидит мидур[62], который не пропустит ни одного невольничьего корабля, так что из-за него нам приходится разгружаться в Мокрен-эль-Бахри и совершать долгий и утомительный переход по суше. Этот мидур давно точит на меня зуб, и горе мне, если я попадусь ему в руки и при мне в караване будет хоть один-единственный раб. А если он к тому же пронюхает, что, когда Аллах посылает мне благоприятный случай, я превращаю моих людей в гум, мне тут же настанет конец, да не допустит этого Пророк, так как я имею желание разделить с вами деньги, вырученные еще за много тысяч черномазых. Увидев меня, эти восемь джелаби сразу поняли бы, что я Абуль-моут, и завтра же сообщили бы об этом мидуру. Он не только знает, в каких местах я охочусь на черных, а также примерно представляет себе, когда и где мой невольничий транспорт должен проезжать через его район, и будет подкарауливать меня с удвоенной тщательностью. Мне и сейчас едва удается от него уходить, а если он будет предупрежден, это окажется просто невозможно. Нет, джелаби должны умереть! Если ты им так сочувствуешь, можешь возвращаться домой и есть там дурру[63]. Мне не нужны люди, чьи сердца сделаны из воска вместо железа.
С этими словами он достал свой нож и столь выразительно стал им поигрывать, что его собеседник счел за лучшее для себя отложить поедание дурры до лучших времен. Помедлив, он сказал заискивающим тоном:
— Разве я хоть раз уронил слезу, когда мой нож или моя пуля обрывали человеческую жизнь? Если я случайно проявил слабость, то это еще вовсе не значит, что я стал мягок, как женщина. Вот увидишь, я буду первым, кто вонзит нож в сердце одного из этих джелаби.
— Я надеюсь, что ты сумеешь доказать мне свою преданность и развеять сомнения, к которым ты только что подал мне повод. Охотник на рабов не должен знать жалости и сам должен быть готов умереть, не моргнув глазом. Если он на это не способен, значит, ему следует подыскать себе другое занятие. Но довольно об этом. Завтра утром распухшие от обжорства коршуны не смогут взлететь с трупов наших врагов, а мы тем временем доставим нашу добычу в Кака.
— В Кака? Но тогда нам придется возвращаться назад, на северо-восток от Нила. Почему бы нам не отправиться вместе с ней в Фашоду?
— Фашода действительно ближе, и кроме того я могу появиться там сейчас беспрепятственно, так как при мне нет рабов. Но в Фашоде я не найду покупателей для вещей, которые мы заберем у этого гяура. В Кака же у меня есть свой человек, который доставит собранную чужеземцем коллекцию в Хартум и там выгодно продаст.
— А это не вызовет подозрений?
— Нет, потому что у него хватит ума придумать историю, которой все будут верить. В Хартуме есть люди, которые знают цену такой коллекции и хорошо заплатят за нее. А она действительно очень дорого стоит. Иначе христианин не покинул бы свою родину и не стал бы подвергать себя таким опасностям из-за этих засушенных растений. Скоро мы предпримем еще одну такую же охоту. Последний курьер, прибывший ко мне из Умм-эт-Тимсы, сообщил, что там появились два белых, молодой и старый, которые ищут растения, чтобы положить их между листами бумаги, и ловят жуков, змей и всяких червяков, которых они прячут в бутылки. Оба имеют при себе чернокожих слуг, много оружия, разные товары для обмена и большие, тяжелые тюки с вещами, которые, как вы знаете, заменяют им деньги. Мне не нравится, что эти европейцы нагло разгуливают по нашей территории, и поэтому, прибыв туда, мы отправим их в преисподнюю, а их вещи оставим себе. Они верят в Иисуса, сына Марии, который учил, что на земле не должно быть рабов, так как и черные являются детьми Аллаха. Если мы их не убьем, это учение может распространиться и повредить нашему делу. Я не потерплю христиан в районах, где я охочусь за рабами, а особенно христианских священников, которые подстрекают против нас черных, внушая им нелепое учение о любви. Поэтому оба этих белых умрут, как и гяур, который спит сейчас там, у источника.
— А ты не думаешь, что он будет защищаться?
— Мы не дадим ему на это времени. Нападение будет столь внезапным, что он не успеет воспользоваться своим ружьем. Попозже шейх навестит нас, как было уговорено, и мы узнает от него, где лежит гяур и где спят джелаби. Мы подкрадемся к ним и убьем их спящими, так что они отправятся в преисподнюю, не успев понять, что произошло. Может быть, они даже не перезарядили ружья после того, как отпугивали льва.
— О, Аллах! В какой страшной опасности мы находимся! Ведь Пожиратель Стад может наведаться и к нам!
— Нет, этого не произойдет. Его жилище расположено на восток от источника, и он снова туда вернулся. Если бы он свернул в нашу сторону, верблюды выдали бы его присутствие. Перед этим они вели себя беспокойно, но после того, как раздались выстрелы, они больше не выказывали тревоги. Значит, Отец Толстой Головы ушел. Но давайте перестанем разговаривать и прислушаемся. Шейх может прийти раньше, чем мы его ожидаем, и мы должны позаботиться о том, чтобы он не проскочил мимо нас.
Из этих слов Шварц заключил, что беседа подошла к концу и ему пора возвращаться. Он тихо и осторожно пополз прочь, затем, удалившись на приличное расстояние, поднялся и пошел шагом.
Уже оказавшись у скал, немец снова приник к земле и осторожно, чтобы хомры ничего не заметили, пробрался к своим. Джелаби уже начинали беспокоиться, так как он отсутствовал довольно долго. Он рассказал им обо всем, что видел и слышал, и спросил, не говорит ли им что-нибудь имя Абуль-моут. Они все знали этого человека, хотя никогда его не видели. Он был знаменит по всей округе как самый безжалостный охотник на рабов, но где находится его убежище, никто точно сказать не мог.
— Он, кажется, совершает свои набеги из Умм-эт-Тимсы, — подсказал Шварц. — Это название вам незнакомо?
— Нет, — ответил Отец Одиннадцати Волосинок, — я знаю все укрепления по ту сторону страны динка[64], но о таком слышу впервые. Но это сейчас не так важно. Мы, прежде всего, должны подумать об обороне и разработать план военных действий.
— Здесь нечего особенно обдумывать. Главное, что враг уже не может застать нас врасплох. Теперь мы знаем, откуда он придет.
— Да, но не знаем, когда.
— Мы это узнаем. Шейх, который, как я и предполагал, состоит в сговоре с Абуль-моутом, должен пойти к разбойникам и рассказать, где мы расположились. Сразу после этого состоится нападение. Так как хомры не потушили свой костер, мы увидим, когда шейх удалится, и успеем подготовиться к встрече.
— Мы их перестреляем?
— Нет. Их двенадцать человек, а нас только девять, но так как они не догадываются о наших планах, превосходство на нашей стороне. Мы спрячемся вон в тех кустах и выскочим, когда они подойдут. Каждый из нас возьмет на себя одного араба и хорошим ударом приклада по голове свалит его с ног. С остальными тремя справиться будет нетрудно. Если они обратятся в бегство, мы их отпустим, тех же, кто станет защищаться, мы прикончим на месте. Остальных мы возьмем в плен и доставим в Фашоду мидуру.
— А как мы поступим с хомрами?
— Это будет целиком зависеть от их поведения. Насколько я понял, они не будет непосредственно принимать участие в нападении и предоставят действовать гуму, который, судя по диалекту этих людей, тоже состоит из хомров. Мои бывшие проводники намереваются оставаться у своего костра до тех пор, пока с нами не будет покончено. Таким образом, нам они пока не опасны, а потом мы с ними разберемся. Сейчас для нас главное, чтобы каждому удалось одним ударом оглушить своего противника.
— Ну, за этим у меня дело не станет, — заверил словак, — я разверну моего «слоноубийцу» и обработаю парня так же, как недавно — жену льва.
— А у меня, — вставил Хаджи Али, — осталась половина моего сломанного копья. Из него получится хорошая дубинка, и я не завидую тому, кому она обрушится на голову!
В этом же роде высказались и другие. Все были согласны с тем, что врагов не следует убивать, и с удовольствием предвкушали свое триумфальное вступление с пленниками в Фашоду. Те же, у кого не было подходящего оружия, принялись искать среди поклажи предметы поувесистей.
Немец и джелаби разговаривали очень тихо, так чтобы ни один звук не донесся до хомров, которые были убеждены, что враги крепко спят. Впрочем, эта предосторожность была излишней, так как даже сказанные более громким голосом слова потонули бы в шуме, который производили животные. Верблюды и ослы, в особенности последние, все еще не могли успокоиться, так как лежавшие вблизи от них трупы обоих хищников внушали им страх. Ослы беспрестанно топтались на месте, верблюды боязливо фыркали, но лежали смирно, поскольку были стреножены.
В ожидании гостей время тянулось для всех очень медленно. Наконец от группки хомров отделилась одна фигура и двинулась по направлению ко второму лагерю.
— Это шейх! — прошептал Али. — Сейчас он пойдет к ним!
— Нет, — так же тихо возразил словак, — сначала он проведает нас, чтобы убедиться, что мы действительно спим. Он наверняка сделает вид, что пришел посмотреть на верблюдов. Тише, кажется, идет.
Он оказался прав: к ним медленно приближался шейх. Сначала он подошел к верблюдам и несколько минут постоял возле них, прислушиваясь. Никто из «спящих» не пошевелился, и тогда шейх негромко сказал: «Погонщики верблюдов все еще боятся. Может быть, оттащим подальше туши львов?»
Он спросил это, конечно же, для того, чтобы испытать, насколько крепок сон чужестранца и джелаби. Не получив ответа, он тихо подкрался ближе и склонился над ними. Затем он осторожно коснулся руки немца и, когда на это не последовало никакой реакции, удовлетворенно хмыкнул, повернулся и крадучись зашагал в том направлении, откуда недавно вернулся Шварц.
Выждав некоторое время, немец поднялся и бесшумно пополз вслед за шейхом. Вскоре он вернулся и объявил джелаби:
— Все точно, он пошел к Абуль-моуту. Теперь пора. Ступайте за мной, только тихо, чтобы не услышали хомры.
Он довел своих людей до того места, где густые заросли мимозы переходили в отдельные кусты. Нападавшие должны были прийти именно отсюда. Это место Шварц и определил для решающей встречи с врагом. Правда, кусты здесь были не настолько высокими и густыми, чтобы полностью скрыть спрятавшихся за ними людей, но зато здесь, в тени скалы, можно было меньше опасаться, что яркий свет звезд раньше времени выдаст разбойникам их присутствие.
В безмолвном ожидании прошло около получаса. Наконец послышались тихие шаги, и сидевшие в засаде увидели несколько неясных силуэтов, которые медленно, один за другим, приближались к ним. Когда они подошли еще на несколько метров, Шварц узнал в шагавшей впереди всех фигуре шейха. Длинный, сухопарый Абуль-моут крался в хвосте маленькой колонны, поминутно оглядываясь по сторонам. Дойдя до скал, разбойники внезапно остановились. Джелаби затаили дыхание, — но нет, арабы, кажется, ничего не заметили.
Притаившиеся за кустами люди образовывали прямую цепь: на одном ее конце, ближе всех к покинутому лагерю и довольно далеко от врагов, находился Шварц, на другом сидел на корточках маленький словак; между ним и арабами было не более двух-трех шагов. Он слышал, как шейх сказал:
— Ну вот, мы почти и пришли. Там, справа, прямо за углом скалы, они лежат, погруженные в глубокий сон, который прервет только смерть. Теперь я пойду к моим людям и скажу им, что все кончено. — С этими словами он удалился.
— Теперь вперед! — раздался замогильный голос Абуль-моута. — Да придаст Аллах силы нашим рукам!
Шварц намеревался подпустить врагов ближе, но маленький словак почувствовал в этот момент такой прилив боевого задора, что не мог ждать долее ни секунды.
— Вперед, за мной! — крикнул он, выпрыгивая из-за куста. Перевернув свое ружье, он наградил стоявшего ближе всех к нему разбойника столь мощным ударом приклада, что не удержался на ногах и вместе со своей жертвой рухнул на землю. За ним выскочили и остальные. Люди гума были так ошарашены, что в первые несколько мгновений не могли двинуться с места. Если бы нетерпеливый Отец Листьев подождал еще три-четыре минуты, с гумом было бы покончено, но теперь за то время, которое понадобилось джелаби, чтобы добежать до них, разбойники успели немного оправиться от изумления и оказать сопротивление. Некоторые из них успели получить удары по голову, другим удалось их все же избежать.
Шварц наметил своей жертвой Абуль-моута, но в настоящей ситуации это было невозможно: от того места, где завязалась схватка, его отделяло добрых восемь или десять шагов. Это расстояние он преодолел одним прыжком и прикладом своего ружья сбил с ног одного из арабов, а в следующее мгновение — второго. Раздались проклятия.
— Откуда взялись эти черти? — вскричал Абуль-моут. — Вперед, бейте их!
— Спасайтесь! — одновременно с ним кричал кто-то другой, — Шейх нас предал!
Некоторые повернули назад. Шварц настиг третьего араба, последнего, который отделял его от Абуль-моута, но ему неожиданно самым роковым образом помешал его верный помощник Отец Смеха. Замахнувшись на кого-то своей половиной копья, он внезапно оступился и нанес немцу такой удар по уху и виску, что тот отлетел в сторону и на миг потерял сознание.
— Аллах! — испуганно вскричал человечек, увидев, что он натворил. — Я убил тебя, эфенди?
— Почти, — ответил Шварц, медленно и с трудом приподнимаясь, — оставьте их, пусть бегут. Мы не можем их преследовать из-за хомров.
Сквозь сверкавшие у него перед глазами искры он с трудом мог разглядеть убегавших от него разбойников. Он лег и послал им вслед две пули. Встать после этого из-за сильного головокружения он уже не смог, да и в ушах был сильный шум. Он прислонился к скале и закрыл глаза.
Услышав выстрелы немца, Стефан воскликнул:
— Вот это правильно! Угостите их вашими пулями! И от меня они тоже сейчас получат!
Он поднял свое тяжелое ружье и прицелился в одного из бегущих. Раздался выстрел, и человек упал.
Тем временем джелаби, из которых никто не последовал за беглецами, столпились вокруг Шварца, выражая ему горячее сочувствие.
— Что случилось? — спросил словак, подходя.
— Я убил эфенди, — упавшим голосом сказал Отец Смеха, скорчив самую веселую физиономию на свете.
— Ты сумасшедший? — вежливо поинтересовался Отец Одиннадцати Волосинок.
— Нет, меня толкнули, — оправдывался Хаджи.
— Идиот! — завопил тогда Стефан, начиная понимать, что произошло. — За этими громкими названиями городов и деревень, которыми забита твоя непутевая голова, ты не видишь даже, куда бьешь! Эфенди, эфенди, ты убит? — обратился он затем с вопросом к немцу.
— Нет, — ответил Шварц, усилием воли подавляя боль, и поднял выпавшее у него из рук ружье.
— Благодарю тебя, Аллах! Этот Отец Задней Половины Льва, должно быть, поражен слепотой, и нам нужно…
— Довольно! — приказал немец. — У нас нет времени на пререкания. Я вижу, здесь лежат только четверо из разбойников. Это меньше, чем я рассчитывал. Свяжите их! Они могут скоро очнуться.
Затем он подошел к скальному выступу и выглянул из-за него, чтобы посмотреть, что делается у хомров. Они стояли возле своего костра в полной растерянности. Похоже было, что они не собираются ничего предпринимать, пока обстановка полностью не выяснится. Вернувшись к джелаби, Шварц распорядился:
— Оставайтесь здесь! Может быть, я смогу захватить одного или нескольких верблюдов.
Он побежал вперед, в том же направлении, в котором скрылись арабы. Он помнил, что их верблюды были стреножены, а так как этих строптивых животных не так-то просто поднять с места, то, по его расчетам, беглецы еще должны были быть в своем лагере.
Одно ружье висело у Шварца на спине, другое он зарядил на бегу. Пробегая мимо сраженного пулей словака разбойника, он на секунду склонился над ним. Тот не подавал никаких признаков жизни.
Если в прошлый раз немцу потребовалось более четверти часа, чтобы добраться до гума, то теперь, когда ему не нужно было таиться, дело шло гораздо быстрее. Через несколько минут он был уже у цели. Люди Абуль-моута действительно все еще суетились возле животных. Каждый из них уже освободил от пут своего верблюда, и теперь они собирались приняться за вьючных. Шварц дважды выстрелил, почти не целясь, и ранил одного из арабов.
— Они преследуют нас, — закричал тогда Абуль-моут, — бросайте животных, и бежим!
Поэтому оба выстрела из своего второго ружья Шварц выпустил уже в пустоту. Поредевший караван скрылся в ночи.
Шварц с величайшей осторожностью приблизился к животным, среди которых легко мог спрятаться враг. Но ловушки не было. Рядом с верблюдами лежали пять седел, а также несколько бурдюков и мешков с финиками.
Так как было маловероятно, чтобы гум мог вернуться, немец оставил животных на прежнем месте и снова поспешил к скалам. Боль от удара уже прошла, и его голова снова стала ясной и свежей, как прежде.
Джелаби стояли возле четверых связанных пленников, которые все еще не шевелились.
— У нас еще остались ремни, веревки или шнуры? — спросил Шварц.
— Сколько угодно, господин, — ответил словак, — джелаби всегда имеет их достаточно в своей сумке.
— Очень хорошо; ими мы свяжем хомров.
— Если они позволят нам это сделать!
— Во всяком случае, попытаемся.
Шварц снова подошел к выступу скалы и увидел, что хомры находятся в прежнем положении. Услышав выстрелы и крики, они поняли, что нападение прошло не так успешно, как они ожидали. Ясно было одно — немец и джелаби вовсе не спали, а защищались. Но кто остался победителем? Рассудок советовал им оставаться на месте и ждать известий с какой-либо стороны. Все их внимание было направлено на место второй стоянки, которого они, однако, не могли видеть, так как там больше не горел огонь. Наконец, они заметили выступившую из темноты фигуру этого ненавистного гяура, который медленно шел по направлению к ним. Ружей при нем не было.
— Вы слышали выстрелы? — торопливо спросил он, подходя.
— Да, — отвечал шейх. — Кто стрелял и что все это значит.
— Откуда мне знать? Я проснулся от шума и увидел, что джелаби рядом нет. Я отправился их искать и услышал выстрелы на востоке отсюда. Вы, кажется, не спали и, значит, должны лучше меня знать, что произошло.
— Мы совершенно ничего не знаем, эфенди. Нам показалось, что это ваше ружье произвело выстрелы, и мы подумали, наверное, появился еще один лев.
— Тогда он, должно быть, проглотил джелаби со всеми потрохами, потому что они как сквозь землю провалились. Нет, здесь что-то другое. Не хочешь ли пойти посмотреть вместе со мной?
— Да, конечно, я пойду.
Шейх едва смог скрыть свое разочарование и ярость оттого, что снова видел проклятого немца живым. Но где же джелаби и что стало с людьми гума? Он весь горел от нетерпения поскорее это узнать и с готовностью согласился на предложение чужеземца.
Когда они подошли к скалам поближе, шейх увидел джелаби, и у него вырвался неосторожный вопрос:
— Вот же они? Но где гум?
— Гум? — переспросил Шварц. — Так ты сознаешься, что знаешь о нем? Вот уж не думал, что ты такой прямодушный человек.
— Гум… Эфенди, гум… это… это… я… — пролепетал в испуге шейх.
— Уже достаточно того, что ты сказал. Свяжите его!
Отдавая этот приказ, он схватил араба обеими руками за шею и так сдавил ему горло, что тот не мог издать ни звука. Руки и ноши шейха были тут же опутаны ремнями, после чего его положили на землю.
Тогда Шварц крикнул ожидавшим у костра хомрам:
— Зуэфэль Абалик, иди скорее сюда! Тебя зовет шейх.
Он знал по имени всех хомров и был уверен, что ему удастся заманить их сюда по одному. Чтобы шейх не предупредил своих, маленький словак склонился над ним, приставив к его груди лезвие своего ножа, и пригрозил:
— Посмей произнести хоть слово, и я проткну тебя насквозь!
Впрочем, это предупреждение было излишним, пленник и так едва был жив от страха. Зуэф пришел и не успел произнести ни одного слова, как его тоже схватили за горло. Так же обошлись и с третьим арабом, которого вызвал Шварц.
Троих оставшихся у костра хомров одолеть было несложно. Двое джелаби остались охранять пленников, а остальные шесть отправились вместе с Шварцем к лагерю арабов и молча бросились на них. Хомры были так ошарашены, что почти не сопротивлялись. Несколько возмущенных вопросов с их стороны и несколько крепких ударов по головам в ответ — и они лежали на земле, связанные по рукам и ногам.
Сюда же перетащили всех остальных пленников. Четыре человека из гума притворялись, что все еще без сознания, но было видно, как они чуть-чуть приоткрывают глаза, чтобы понаблюдать за людьми, которым попали в руки. Троих джелаби Шварц послал за тем разбойником, которого подстрелил Стефан. Он оказался жив, хотя рана была очень тяжелая: пуля раздробила правую бедренную кость. Шварц попытался перевязать рану как можно лучше.
Все эти действия джелаби производили, не говоря ни слова. Пленники тоже предпочитали отмалчиваться, беря пример со своего шейха, который, казалось, решил никогда больше не раскрывать рта.
Затем Шварц взял с собой четверых людей и пошел с ними к месту стоянки гума, чтобы доставить оттуда животных и брошенные рядом с ними вещи. Вернувшись, он установил дозорный пост невдалеке от лагеря на случай, если вдруг Абуль-моут решится предпринять попытку освобождения попавших в плен сообщников.
Когда наконец со всеми делами было покончено и победители уселись вокруг костра, шейх решил, что пришло время потребовать объяснений.
— Ни один человек не смеет вопрошать Аллах о причинах его деяний, — начал он, — но у вас я хотел бы узнать, по какому праву вы схватили и связали меня и моих людей?
— Тебе это известно не хуже, чем нам, — ответил Шварц.
— Мне? Я вообще ничего не понимаю!
— По-моему, вам грех жаловаться на свою судьбу: ведь с вами обошлись гораздо мягче, чем бандиты должны были поступить с нами. Нас собирались убить, вы же пока только связаны.
— Вас хотели убить? Кто?
— Гум, о котором ты сам недавно говорил.
— Я понятия не имею ни о каком гуме!
— Не лги! Вы давно сговорились убить меня. Думаешь, я не почувствовал, когда ты дотронулся до моей руки, когда приходил к нам в лагерь, чтобы проверить, крепко ли мы спим? А после этого ты разыскал гум и привел его сюда.
— Боже праведный! — только и смог вымолвить шейх в первое мгновение. Теперь он понимал, что запираться дальше бесполезно, но все же решил стоять на своем до конца и, собравшись с духом, закричал в притворном гневе:
— Что за клеветник наговорил тебе все это? Мы верно исполняли свою службу и вправе были ожидать от тебя благодарности. А ты вместо этого держишь нас в плену и обвиняешь во всех смертных грехах. Кто поставил тебя судьей над нами, свободными бени-араб? И кто дал тебе право так с нами обращаться? Я требую, чтобы ты немедленно вернул нам свободу!
— А вот этого я сделать как раз и не могу. Ты ведь сам только что сказал, что я не имею права судить вас, значит, я не должен выносить над вами ни обвинительный, ни оправдательный приговор. Ваша судьба находится не в моих руках, а в руках мидура из Фашоды, которому мы передадим вас завтра, а точнее — уже сегодня.
— Боже милостивый! — испуганно воскликнул шейх, — но ведь мидур наш враг!
— И у него для этого есть все основания, так как он враг всякого беззакония. Вам не поможет избежать встречи с ним ни ваша священная Фатха, ни сура «Йа син», ни уж тем более я! Так что советую не тратить времени на уговоры, потому что ни угрозы, ни мольбы не заставят меня сжалиться над вами. Приберегите их для мидура: он выслушает наши обвинения и ваши оправдания и затем решит, что с вами делать.
— Но подумай о том, что своим поступком ты навлечешь на себя месть всего племени хомров!
— Я презираю племя, чей шейх трусливо прячется, заслышав рычание льва, в то время как «жалкие» джелаби находят в себе мужество вступить в бой с Отцом Грома.
— Так побойся, по крайней мере, Абуль-моута, более сильного, чем мы.
— Этого смельчака, который так торопился убежать от меня, что даже позабыл захватить с собой своих верблюдов? Повторяю, не трудись, не трать зря сил!
Шейх предпринял еще несколько тщетных попыток заставить немца отпустить пленников, после чего разразился яростными проклятиями и замолчал. Остальные подавленно молчали, но в глубине души лелеяли надежду, что Абуль-моут придет им на помощь.
Эти ожидания отчасти оправдались: через некоторое время явился джелаби, который был выставлен дозорным, и сообщил, что он только что видел похожее на гиену животное, в чьем облике он заметил что-то странное. Шварц и Отец Одиннадцати Волосинок немедленно поднялись, чтобы следовать за ним. Часовой привел их на то место, где он видел гиену, но там уже никого не было. Все же Шварц решил обойти скалы кругом и, пройдя некоторое расстояние, действительно разглядел в темноте какую-то фигуру. Предполагаемый зверь стоял к ним спиной и, казалось, не подозревал, что за ним наблюдают.
— Сейчас я застрелю эту любопытную гиену, — сказал Стефан, поднимая ружье.
— Не стреляй, — остановил его Шварц. — Это никакая не гиена, а человек, который движется на четвереньках, чтобы обмануть нашего часового. Давай подберемся к нему поближе. Он медленно идет к скалам и, похоже, не заметит нас, пока мы его не схватим. Любая, даже самая никудышная, гиена уже давно почуяла бы нас.
Они легли на землю и быстро подползли вплотную к таинственной фигуре. Это действительно был человек, скорее всего имевший принадлежность к гуму. Чтобы его труднее было заметить на фоне серых камней, он, как незадолго до этого Шварц, снял свою светлую накидку. Судя по его поведению, он не чувствовал никакой опасности и открыто, внимательно рассматривал скалы.
Когда преследователи подошли к нему совсем близко, словак выпрямился и, прыгнув вперед, с такой силой обрушился на свою жертву, что перелетел через нее и несколько раз перекувырнулся через голову. Лазутчик вскочил и хотел убежать, но попал в руки немца, который схватил его и заломил ему локти за спину.
— Веревку! — коротко приказал он напарнику.
— У меня их больше нет, — ответил тот, поднимаясь на ноги.
— Тогда достань у меня из кармана носовой платок.
Стефан стал доставать платок. В этот момент араб попытался вырваться, но где ему было сладить с могучим немцем! Руки ему связали, ноги оставили свободными, чтобы он мог сам дойти до лагеря.
— Кто тебя послал? — спросил Шварц. Не получив ответа, он приставил к уху пленника револьвер и пригрозил: — Говори, или я стреляю!
— Абуль-моут, — с неохотой выговорил араб.
— Ты должен был разведать обстановку в нашем лагере?
— Да.
— Где находится остаток гума? Говори правду, иначе будет хуже! Я проверю твои сведения.
— К югу отсюда.
— Как далеко?
— На расстоянии десяти ружейных выстрелов.
— Хорошо, иди вперед!
Можно представить себе ярость хомров, когда они увидели нового «гостя» и поняли, что им больше нечего надеяться на спасение. Пленник был связан по ногам, и его положили рядом с остальными.
Шварц выстрелил в воздух, чтобы Абуль-моут, который наверняка должен был услышать выстрел, подумал, что пуля сразила его дозорного. Затем он вместе с Хаджи Али и словаком, которого считал самым надежным, отправился разыскивать гум. Отец Смеха одолжил для этого ружье у одного из джелаби.
Трое товарищей двинулись прямо на юг, но, пройдя указанное пленником расстояние, никого не увидели. Тогда они под прямым углом свернули на запад и вскоре заметили белеющие в темноте бурнусы арабов. Подойдя к ним достаточно близко, они, не целясь, выстрелили из своих ружей, не столько затем, чтобы в кого-нибудь попасть, сколько затем, чтобы обратить арабов в бегство, что им легко удалось.
— Так-то лучше! Больше они не вернутся! — рассмеялся словак.
— И не пошлют нового шпиона, — прибавил Хаджи Али, — а если и пошлют, мы наверняка поймаем и его. Аллах был к нам милостив: мы победили опасного врага.
— Только не ты — ты, наоборот, чуть не убил нашего лучшего друга, — поддел его словак. — О тебе не будет сложено героических песен.
— Уж не о тебе ли они будут сложены, ты, Отец Большой Львиной Морды? Знаешь ли ты название хотя бы одного из моих народов и деревень?
— Я и знать не хочу этих названий, если они так замутняют зрение, что заставляют принять нашего эфенди за разбойника. До сих пор ты еще не давал мне такого верного доказательства твоей глупости.
— Уймитесь! — приказал шагавший впереди них немец. — Ты, Ибн-аль-Джирди, тоже допустил большую глупость.
— Я? — спросил словак изумленно.
— Да. У вас нет никаких преимуществ друг перед другом.
— И что же это была за глупость?
— Я хотел схватить Абуль-моута, но из-за того, что ты не дождался моей команды и выскочил раньше времени, это оказалось невозможным. Ты должен был дать им пройти еще несколько шагов!
— Я просто не мог сдержаться. У меня горячий нрав, но никто не сможет обвинить меня в трусости.
— Похвалы достойна только такая храбрость, которая сочетается с мудростью и хладнокровием, — возразил Шварц. — Из-за ошибки Хаджи Али пострадал только я, да и то несильно, а твоя поспешность будет стоить жизни многим путешественникам и сотням негров. Ах, если бы я заполучил сегодня этого Абуль-моута, можно было бы не сомневаться, что мидур из Фашоды навсегда обезвредит его!
— Ты прав, эфенди, — уныло согласился словак, — мое сердце полно печали и раскаяния. Но я все же надеюсь, что ты сможешь простить мне мое нетерпение, хотя оно и оказалось столь губительным!
— Разумеется, но при одном условии: я попрошу тебя за это, чтобы ты перестал осыпать других упреками, которых нередко заслуживаешь сам.
— О, эти упреки не стоит воспринимать всерьез. Хаджи Али — мой лучший друг. Мы искренне любим друг друга, и эта любовь ничуть не ослабевает даже тогда, когда мы ссоримся и выходим из себя. Не правда ли, славный Отец Смеха?
— Да, конечно, — очень серьезно подтвердил Али, как водится, скорчив при этом развеселую гримасу. — Аллах так тесно связал наши сердца, что они стали биться как одно. Но у нас слишком разные интересы. Нам никогда не удается их объединить. Один Пророк в силах когда-нибудь изменить это положение вещей.
Когда в лесу раздались выстрелы, остававшиеся в лагере арабы подумали, что Абуль-моут вернулся, и ему, возможно, удастся отбить своих людей. Но увидев троих своих самых опасных врагов снова целыми и невредимыми, они окончательно упали духом. Шварц был уверен, что теперь-то Абуль-моут убрался восвояси, но на всякий случай он выставил еще один дозор. Часовым не пришлось приносить большой жертвы, так как после нападения льва и схватки с разбойниками никто и не помышлял о сне. Впрочем, утро было уже совсем близко и путешественники решили коротать остаток ночи за разговорами. Чтобы пленники не услышали того, что о них, может быть, будут говорить, их оттащили в сторону, где они продолжали лежать так же безмолвно, как и прежде. Только раненый по временам издавал тихие стоны, и тогда Шварц распорядился, чтобы его ногу охлаждали водой.
В один из таких моментов Отец Передней Половины Льва, который, конечно, не мог упустить возможности еще раз продемонстрировать свою ученость, сказал по-немецки, указывая на рану араба:
— Такой перелом в ногу не опасно нисколько. Он будет выздоровлен сквозь очень короткое время. Я тоже однажды лечить такую сам.
— Что вы говорите? А кто был ваш пациент? — спросил Шварц.
— Он был создание, не человеческое, а только больной птичий. Господин Вагнер стрелил гигантского аиста, у него сломать крыло, и дробь войти еще в нога, левая, и нога расщепиться совсем, надвое. Я раненый аист взять и шнурок взять и связать, что он не мог двигаться, и шины потом сделать для нога, поврежденная. Потом аист всегда стоял на одна нога, другая, пока не вылечилась раненая нога. Господин Вагнер очень хвалить меня за это и говорить всегда: «Ты великий драматург!»[65]
— Кто-о? Может быть, хирург?
— Нет, драматург!
— Тогда я ничего не понимаю. Кто такой, по-вашему, драматург?
— Это слово из латыньского языка, и оно говорит, что я мастер, бесспорный, и называюсь так же, как врач, который мочь соединить все переломы костей, снова.
— Так! А кто такой хирург?
— Под хирургом понимают люди искусства, которые играть и петь «Прециоза[66], за тобой, за тобой мы идем!» или еще «Тише, тише, потихоньку к звездным высям возносись». И к этому еще дудится музыка и играется скрипка.
— И все это делают хирурги?
— Да. Я сам это видел в театре, во время странствий, моих. Там была опера Прециоза, девушка цыганская, и волшебный стрелок.
— Боюсь, что я снова вынужден констатировать ошибку. Врачей, которые лечат разного рода внешние повреждения, в том числе и переломы костей, называют хирургами. Драматург же — это ученый, чья работа действительно относится к театру, хотя сам он никогда не выступает. Он, если можно так выразиться, что-то вроде театрального учителя, педагога. Так что на этот раз вы, мой милый Стефан, перепутали сцену с больничной койкой.
— Но это не быть путаница, ошибочная! Почему кровать, больная, не может один раз стоять на сцене, театральной? Почему это всегда я неправый, всегда все путать? У меня в голове очень много образований, знаний быть!
— Да, у вас и у Отца Смеха; о его странах, народах, городах и деревнях я уже тоже наслышан.
— О нет! Его глупости нельзя сравнивать с моими познаниями. Я во время путешествий, многочисленных, моих, даже навигация и антропология выучить!
— Да? В самом деле? И что в таком случае вы понимаете под антропологией?
— Это наука про вода морская, соленая и корабли, разные, парусные и еще пароходы, паровые.
— Удивительно! А навигация — что такое?
— Навигация всегда быть учение о человеке, кротком и диком, об эскимосе и о негре, людоедном.
— Вы снова ошиблись. Антропология занимается вопросами, связанными с человеком, а навигацией называется наука о кораблях.
— Ну, так это есть совсем маленькая ошибка, простительная и извинительная. Эту ошибку любой ошибит, потому что антропология всегда на навигации ездить в каюте или на твиндеке[67]. А вы уже иметь ездить по Нилу на корабли, здешние?
— Да, на дахабиях[68] и на сандалах[69].
— А на нукверах[70], которые очень популярны здесь есть?
— На них пока не приходилось.
— Ну, так вы увидеть нуквер в Фашоде, когда мы завтра туда приходим.
— Вас там кто-нибудь знает?
— О, конечно, знают, все! Я ведь уже часто там бывать.
— А вы видели мидура, которому я должен быть представлен и которому мы собираемся передать пленников?
— Я много раз иметь встречать его на улице. Его имя Али-эфенди, но часто называют Абу Хамса Мийа[71].
— Я кое-что слышал о нем. Говорят, прежний мидур Али-эфенди-ал-Курди был смещен с должности за то, что оказался виновен в растратах. На его место назначили нового мидура, которого тоже зовут Али-эфенди. Он славится своей строгостью, в особенности по отношению к работорговцам. Когда в его руки попадает один из них, он почти всегда приговаривает его к пятистам палочным ударам, за что его и называют «Отцом Пятисот».
— Да. Когда завтра мы передадим его гум и хомры, то каждый получает пятьсот перченые и соленые наверняка.
— Разве человек может вынести столько ударов по пяткам?
— Этого я пока не мог сказать, потому что я еще не получать пятьсот по пяткам никогда. Но если их дать по спине, обнаженной, то преступнику точно умереть можно… Слушай! Что это там, в кустах? — перебив самого себя, вдруг воскликнул он по-арабски.
Шварц тоже слышал какой-то шорох. Знаком он призвал к молчанию громко говоривших между собой джелаби. В наступившей тишине явственно послышалось чье-то сопение, как будто в кустах принюхивался сбившийся со следа зверь.
— Спаси нас Аллах! — заголосил шейх. — Это снова лев! Теперь он нас точно сожрет, потому что мы, связанные по рукам и ногам, даже не можем убежать.
— Уймись! — прикрикнул на него Отец Одиннадцати Волосинок. — Это, скорее всего, львенок. Взрослый лев уже давно был бы здесь, но у этого еще мало опыта. Когда он нас увидит, он вряд ли решится к нам приблизиться.
— Львенок? — переспросил Шварц, и глаза его загорелись. — Я хочу его поймать!
— Можем попробовать, только надо быть очень осторожными — ведь мы не знаем, сколько ему лет. А может быть, это вовсе не лев, а всего лишь гиена, которую привлек запах свежего львиного мяса.
— Я пойду посмотрю, — сказал Шварц.
Он взял свое ружье и хотел покинуть место стоянки, но в это самое мгновение лев сам показался из-за кустов. Он был величиной с большого пуделя, то есть уже достаточно взрослый, чтобы оказать достойное сопротивление. Увидев немца, он не убежал, а лег на землю и злобно заворчал на него, не осмеливаясь, однако, прыгнуть.
— Это настоящий зверь! — крикнул Шварц. — Быстрее дайте мне одеяла, побольше одеял!
Его приказ оказались в состоянии исполнить только Хаджи Али и словак, так как все остальные опять оцепенели от испуга. Шварц ждал, не спуская глаз с львенка, который все еще лежал на месте, не решаясь ни перейти в атаку, ни пуститься в бегство. Немцу ничего не стоило одним выстрелом покончить с ним, но он хотел заполучить его живым. Нагнувшись, он поднял два прочных одеяла из верблюжьей шерсти, которые принес джелаби. Затем он сложил их вместе, растянул во всю длину и бросил на юного «Господина с толстой головой».
Внезапная темнота так ошеломила льва, что он на миг застыл неподвижно, а в следующую секунду Шварц прыгнул на него и придавил его к земле весом своего тела.
Тут лев пришел в себя и стал яростно сопротивляться, обнаружив при этом такую силу своих мускулов, какую с трудом можно было от него ожидать, учитывая его возраст. Ему удалось немного приподняться от земли, но Шварц снова повалил его, стараясь уворачиваться от его лап, которыми отмахивался во все стороны запутавшийся в одеялах звереныш.
— Веревки мне, веревки, — крикнул немец товарищам.
Тут-то и пригодился большой запас веревок, шнуров и ремней, который, по словам Стефана, всегда имеется в наличии у любого каравана. Вскоре совместными усилиями троих мужчин удалось так прочно спеленать и обвязать веревками изо всех сил упиравшегося зверя, что он полностью потерял возможность двигаться.
— Хвала Аллаху! — воскликнул Хаджи Али. — Мы застрелили Убийцу Стад вместе с его женой, а теперь поймали еще и его сына. Вот он лежит связанный, он гневно рычит, но убежать от нас не может. Позор ему!
— Слава богу! — облегченно вздохнул шейх. — Мы спасены. Львенок пойман и больше не может нас сожрать.
— Для тебя было бы лучше, если бы он тебя проглотил, — возразил задиристый словак, — потому что завтра мы передадим тебя мидуру, который отвесит тебя пять сотен добрых ударов. Тогда ты узнаешь, что зубы льва могут быть милосерднее, чем кнут справедливости.
— Я свободный араб. Никто не имеет права меня бить! — гордо сказал хомр.
— Как ты себя назвал? Свободный? Разве твой рассудок помутился и ты не видишь и не чувствуешь, что попал в плен? Кто может нам помешать хоть сейчас дать тебе столько ударов, сколько мы пожелаем? Ты вполне заслужил это, но мы считаем ниже своего достоинства самим марать об тебя руки. Тебе придется подождать до завтра, и тогда плетка побеседует с твоей шкурой так, что ты будешь сожалеть о том, что не попал в пасть льву!
Пойманного зверя положили у костра на самом виду. Он лежал неподвижно и не издавал ни единого звука.
— Этот зверь — собственность, ваша, — немного погодя сказал словак Шварцу. — Хотя это были мы, которые помогать, но это были вы, которые раньше его поймать. Что вы будете с ним делать?
— Я собираюсь отправить мои коллекции из Фашоды в Хартум, откуда мой друг переправит их на родину. Ему я, пожалуй, отправлю и львенка. Может быть, удастся доставить его в Германию живым?
— И там ему попасть в зверинец, ботанический?
— Нет, в зверинец, зоологический, — засмеялся Шварц.
— Значит, зоология бывать везде в зверинце, а ботаника — только в львиный дом в зоопарке?
— «Львиный дом», как вы выражаетесь, любезнейший Стефан, тоже относится к области зоологии. А так как к ней относится и ваше имя Пудель, то вы не должны были бы делать хотя бы таких ошибок!
— А разве нет еще и пуделей, ботанических?
— Посмотрите на небо! Ваш Путь, Млечный, начинает бледнеть, и звезды созвездия Змееносца исчезают за горизонтом. Так как сейчас март, это знак, что приближается утро. Скоро можно будет потушить костер и начать собираться в дорогу.
— Это я тоже знавать, потому что я изучать звезды, все. Но как мы будем пленникам повезти?
— Очень просто. Мы привяжем их к верблюдам, которых у нас достаточно, так как пятерых мы захватили у разбойников.
— Но в гуме, пойманном, у нас шесть человек. Верблюда, одного, ездового, не хватиться!
— Тогда пусть шейх идет пешком. Ему не вредно будет немного поднапрячься.
Через некоторое время небо окончательно посветлело, и на пустыню спустился день.
Глава 5
У ОТЦА ПЯТИСОТ
Пока джелаби снаряжали значительно увеличившийся караван в дорогу, Шварц вырвал у льва и львицы зубы, чтобы взять их с собой в качестве трофеев. Вскоре все было готово, и путешественники покинули беспокойный Бир-Аслан.
Бессильная ярость арабов еще усилилась оттого, что, будучи связанными, они не смогли сотворить свою утреннюю молитву. Теперь они, по-прежнему связанные по рукам и ногам, сидели на верблюдах, и только шейх, скрежеща зубами от злости, бежал рядом с ними легкой трусцой. Раненому транспортировка доставляла сильные боли. Он стонал почти непрерывно, но Шварц не мог облегчить его страдания при данных обстоятельствах.
Местность вокруг была абсолютно ровной. По мере того, как путники приближались к реке, воздух становился все более влажным, а трава под ногами — все гуще. Теперь их ожидало последнее, но очень опасное испытание — миновать поселения негров-шиллуков, печально известных по всей округе как воры и разбойники, нападающие на мирные караваны, и кроме того — заклятых врагов хомров. Встреча с ними грозила большими неприятностями, но избежать ее было никак невозможно, так как они населяли весь левый берег Бахр-эль-Абьяда от его притока Кейлака вниз до самого Махадат-эль-Кельба и их деревни вплотную примыкали друг к другу, вытягиваясь в длинный сплошной ряд.
К счастью, джелаби хорошо знали местность, и Отец Одиннадцати Волосинок поклялся, что если Шварц согласится довериться ему, то он обещает целым и невредимым привести караван в Фашоду.
Следуя его указаниям, путники сделали большой крюк, чтобы обойти некоторые особенно густо населенные деревни, и около полудня сделали небольшой привал. Отдых особенно был необходим животным, так как вскоре им должны были потребоваться все силы, на какие они только были способны: по замыслу словака территорию шиллуков следовало проехать как можно более быстро, чтобы те не успели не только приготовиться к военным действиям, но и вообще понять, что происходит. Только после часа аср прерванный путь был продолжен, а около четырех часов пополудни путешественники увидели перед собой невозделанные поля дурры и островерхие крыши токулов[72] за ними.
— Мы благополучно дошли до этого места и не встретили еще ни одного шиллука, — сказал словак, чрезвычайно довольный собой. — Ну, не превосходный ли я проводник? Теперь слушайте. Деревня, которая виднеется там, впереди, — единственная, через которую нам предстоит пройти, после нее мы совсем скоро достигнем Фашоды. Давайте подстегнем наших животных! Они должны бежать так быстро, как только могут, и тогда никому не удастся нас остановить. Того, кто встанет у нас на дороге, верблюды просто растопчут.
Как только всадники въехали в деревню и увидели первых ее жителей, словак, ехавший впереди, так хлестнул кнутом своего ослика, что тот с шага перешел сразу на галоп. Остальные путешественники последовали примеру Стефана. Шейх, привязанный длинной веревкой к седлу верблюда, на котором сидел Шварц, вынужден был не бежать, а прямо-таки мчаться, чтобы не быть опрокинутым и раздавленным несущимися сзади животными. Такому позору он еще никогда в жизни не подвергался; он, шейх племени, мужчины которого считают позором для себя показываться за пределами своих деревень иначе, чем верхом.
Токулы были расположены довольно далеко друг от друга. Большинство из них имели круглую форму и были сделаны из стволов деревьев и соломы; тина из Нила скрепляла жерди стен. Крыши хижин были украшены скелетами жирафов или горбатых быков.
Никакого намека на улицы или хотя бы переулки в этой деревне не было, хижины стояли прямо среди полей дурры, почва которых была сухая и твердая в это время года. По этим полям и прокладывал сейчас путь каравану его маленький вожак, и, глядя, как он ловко петляет между хижинами, можно было подумать, что он уроженец здешних мест.
Первые шиллуки, мимо которых промчались путешественники, молча провожали удивленным взглядом странный караван. Это были стройные люди с очень темным цветом кожи и тонкими, совсем не негритянскими губами. Никакой одежды они не носили. Единственное украшение, которое при известном напряжении воображения можно было счесть предметом туалета, состояло из их собственных волос.
Шиллуки никогда не стригут своих волос и делают из них чрезвычайно сложные и замысловатые прически. Одни так искусно заплетают их вокруг головы, что волосы образуют некое подобие венка или полей шляпы. Другие заплетают их от затылка до лба в прямо стоящий гребень, напоминающий шлем баварского всадника. Многие вдобавок прилаживают вокруг головы украшение, напоминающее нимб из белых перьев.
Проезжая мимо одной из хижин, Шварц успел заметить ее хозяина, который мирно сидел у дверей, покуривая трубку. Но Боже правый, что это была за трубка! Ее головка была величиной с добрую тыкву, а мундштук превышал по толщине человеческое запястье. Несчастному негру приходилось так широко открывать рот, что его глаза буквально вылезали из орбит. Но шиллуки заядлые курильщики считали, что наслаждение, получаемое от курения, напрямую зависит от размеров трубки. Табак здесь тоже приготовляется особым образом: сначала он сушится, затем размалывается в муку, из нее месится тесто, которое и выпекается в форме лепешек. В довершение всего табак смешивается с листьями разнообразных ароматных растений, после чего, наконец, его укладывают для курения из таких вот гигантских курительных приборов.
Все жители деревни встречали караван с немым изумлением, но когда он проезжал мимо, они поднимали громкие крики. Шварц не понимал языка шиллуков, но, разобрав произнесенное несколько раз с угрожающей интонацией слово «хомр», он догадался, что негры узнали своих врагов — арабов.
Из близлежащих токулов высыпали мужчины, женщины и дети. Крики были подхвачены ими и распространились дальше, в мгновение ока подняв на ноги всю деревню. Конечно, сигнал тревоги опередил караван, и на его пути стали попадаться небольшие группки разъяренных негров, которые, однако, вынуждены были отскакивать в сторону, чтобы не быть сметенными скачущими животными.
К счастью, лук и стрелы шиллукам неизвестны, они сражаются с помощью дубин и копей, да изредка кто-нибудь раздобудет старое ружье или пистолет. Поэтому воспользоваться своим оружием, которым они яростно потрясали вслед каравану, воинственным шиллукам не удалось.
Вскоре деревня осталась позади, и словак остановил своего осла.
— Теперь все напасти миновали, — сказал он, — они не смогли нас остановить, а вон там, впереди, вы видите Фашоду.
Шварц посмотрел в том направлении, куда указывал Стефан, и увидел небольшое селение, состоявшее из убогих хижин, среди которых возвышались два окруженных стенами здания. Он тронул своего верблюда, и шейх, едва переводивший дух, с лицом багрового Цвета, должен был снова протрусить вперед, хотя и несколько медленнее, чем прежде.
Последний отрезок пути, простиравшийся перед путниками, был абсолютно свободен, так что новых сюрпризов ожидать не приходилось.
— А где ты и другие джелаби собираетесь остановиться? — спросил Шварц словака.
— У каждого из нас в городе есть знакомые, которые с удовольствием нас примут, — ответил тот. А вот у кого будешь жить ты?
— Конечно, у мидура.
— Разве он тебя знает?
— Нет.
— А у тебя есть при себе тескере?[73]
— Есть, и не только он, а еще хатишериф[74] вице-короля и другие рекомендации.
— Ну, тогда тебя радушно примут, и тебе не придется ни о чем беспокоиться. Проводить тебя к дворцу мидура?
— Да, потому что я хочу просить аудиенции не только для себя, но и для вас. Мы сразу передадим ему пленников, и он, без сомнения, захочет выслушать ваши показания.
— Спаси Аллах их спины и пятки! Знаменитые «пятьсот» ударов им обеспечены.
Фашоду нельзя назвать городом в полном смысле этого слова, это всего лишь небольшое, хотя и очень старое местечко. Оно стоит на месте Денаба, прежней резиденции шиллуков, которое упоминается как Данупсис, столица нубийской Эфиопии, уже у Плиния[75]. Благодаря двум правительственным зданиям городок издалека выглядит вполне неплохо, но это впечатление исчезает сразу по вступлении в него.
Дом мидура и казармы выстроены из кирпича и окружены стенами. Для охраны порядка на стенах установлено несколько пушек, а по ночам в городе дежурят патрули — мера, направленная главным образом против постоянно бунтующих шиллуков.
Вокруг этих зданий расположены многочисленные дома и токулы, населенные в основном солдатами и их семьями, которым не хватило места в казармах. Гарнизон Фашоды насчитывает около тысячи штыков. Он состоит из некоторого количества арнаутов[76] и шумных гехадиа, которые ведут очень беспутную жизнь, но все же более дисциплинированны, чем донголавы, берберы[77], старая гвардия и египтяне, составляющие остальную часть суданских воинских частей.
Кроме описанных выше зданий в глаза бросались полуразвалившиеся хижины и бараки, ямы, зловонные лужи и целые горы наваленных прямо посреди улицы отбросов.
Благодаря столь плачевным условиям жизни среди населения городка была очень велика заболеваемость и смертность. Кроме того, климат здесь чрезвычайно нездоровый, особенно во время сезона дождей, когда рукав Нила, на котором стоит Фашода, заболачивается и начинает гнить, распространяя зловоние вместе с береговой дамбой, представляющей собой ряд колышков с нагроможденными между ними кучами земли, травы и навоза.
Этот малоприятный уголок является местом ссылки преступников, и для большинства из них направление сюда равносильно смертному приговору. Кроме ссыльных и солдат, население города составляют в основном негры-шиллуки.
Питаются жители Фашоды преимущественно овощами: редькой, дынями, огурцами, тыквами, луком, чесноком, а также разными видами зелени, которые они выращивают в своих огородиках.
Здесь имеется и некое подобие базара — а именно: на одном из перекрестков улиц двое или трое не то греков, не то египтян, торгующих разной мелочью. Кроме них, жители могут рассчитывать только на бродячих джелаби.
Когда караван въехал в город, шиллуки, встретившиеся на его пути, подняли такой же крик, как и их деревенские соплеменники. Побаиваясь солдат, они не отважились на враждебные действия и ограничились тем, что с угрозами и ругательствами бежали вслед за всадниками. Привлеченные шумом, к ним присоединялись все новые и новые любопытные, и к тому времени, как путешественники достигли ворот крепости, их сопровождало уже несколько сотен отчаянно галдящих людей.
Стоявший у ворот часовой спросил прибывших о цели их посещения. Шварц ответил, что он хочет поговорить с мидуром, в чьих владениях находится. Солдат запер ворота и удалился, чтобы доложить о нежданных гостях начальству. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся вместе с онбаши[78], который повторил тот же самый вопрос и, получив ответ, отправился за белюк-эмини[79]. Последний также осведомился о том, что угодно путешественникам, после чего разыскал чауша[80]. Поинтересовавшись, зачем прибыли всадники, этот привел баш-чауша[81], который, удовлетворив свою любопытство, поспешил сообщить важное известие мюльасиму[82]. Лейтенант счел необходимым прибегнуть к помощи юзбаши[83], который вполголоса отдал какое-то распоряжение своему адъютанту и, наконец, пропустил Шварца и его товарищей во двор. Вся эта сложная операция заняла не менее часа, причем толпа у ворот успела за это время увеличиться втрое, а производимый ею шум усилился в десять раз.
Оказавшись на территории крепости, всадники спешились. По наивности они полагали, что сейчас их проведут к мидуру, но гостеприимные хозяева города немедленно показали им, как сильно они заблуждаются. Им пришлось еще познакомиться с алай-эмини[84] бим-баши[85], прежде чем к ним снизошел сам мир алай[86], который, наконец, потребовал у немца его бумаги и удалился с сними в дом. Через десять минут он вернулся и, силясь изобразить на своем лице глубочайшую почтительность, пригласил Шварца следовать за ним.
Мидур встретил своего гостя в дверях.
— Салам алейкум! — с любезной улыбкой сказал он, скрестив на груди руки. Таким образом он хотел показать чужестранцу свое особое расположение, так как обычно, здороваясь с христианином, мусульманин ограничивается только первым словом приветствия «Салам».
— Ва алейкум-ус-салам, — ответил Шварц на приветствие, после чего мидур сам повел его в селямлык[87] и знаком пригласил занять место на диване напротив него. Затем мидур хлопнул в ладоши, и в комнату вошли несколько мальчиков-негров. Один из них внес и поставил между двумя господами столик в шесть дюймов высотой с полированной медной крышкой. Другой раздал чашечки, насыпал в них молотый кофе и залил его кипящей водой. Третий принес уже набитые трубки, а четвертый поднес к ним раскаленные угольки. Затем слуги бесшумно удалились, а господа молча принялись за свой кофе и трубки.
Мидуру принесли очень простой чубук. Шварц же получил трубку из розового дерева, выложенного жемчугом и бриллиантами и украшенного золотыми нитями. Мундштук был сделан из большого куска великолепного молочного янтаря, который здесь ценится намного дороже прозрачного. Зная восточный обычай подавать почетным гостям самые дорогие трубки, Шварц мог быть доволен оказанным ему приемом.
Когда кофе был выпит, мидур счел, что теперь настало время беседы. Он взял лежавшие рядом с ним документы Шварца, протянул их ему и сказал:
— Ты находишься под защитой хедива[88], чьей воле мы все подчиняемся. Я прочитал в этих бумагах твое имя и теперь знаю, что ты тот, кого я ожидал.
— Разве ты знал о моем приезде? — удивленно спросил Шварц.
— Знал. Мне написал об этом мой начальник, губернатор, да благословит его Аллах. Он пишет, что познакомился с тобой в Хартуме и очень рекомендует мне тебя, так что любые твои желания, какие я могу исполнить — для меня закон. Кроме того, здесь сейчас находится курьер с письмом для тебя.
— С письмом? От кого?
— От твоего брата, который ожидает тебя в ниам-ниам.
— Так он уже там? — радостно воскликнул Шварц. — Он двигался с Занзибара на запад, а я — из Каира на юг. Когда мы расставались, с тем, чтобы встретиться в стране ниам-ниам[89], он обещал послать мне в Фашоду известие, как только дойдет до цели. Я, собственно, и прибыл сюда главным образом для того, чтобы узнать, нет ли от него письма, но, признаться, не думал, что он придет так рано.
— И тем не менее оно здесь и, говорят, весьма большое. Его доставил сюда очень молодой, но очень интересный человек. Аллах наградил его более острым умом, чем имеют тысячи людей в его возрасте. Он ждет тебя здесь уже много дней, и я успел хорошо его узнать. Ты, должно быть, приехал не прямо из Хартума?
— Нет. Оттуда я направился в Кордофан и Дарфур, чтобы понаблюдать за людьми, животными, собрать растения этих краев. Я составил очень большую коллекцию, и мне бы хотелось отправить ее отсюда в Хартум.
— Передай ее мне, и я сам займусь этим. Но ты и твой брат — вы должны быть очень отважными людьми. Разве ты не знал, сколько опасностей подстерегает чужаков в Кордофане и в особенности в Дарфуре?
— Знал, конечно, но люди моей профессии не могут себе позволить поддаваться страху.
— Видно, Аллах простер над тобой свою десницу. Вы, христиане, бесстрашные, непостижимые люди. Мусульманин благодарен Аллаху за то, что тот даровал ему жизнь, и не станет рисковать ею из-за нескольких травинок или жуков. Но тебе, кажется, не пришлось встретить на пути злых людей?
— О, напротив, сколько угодно, но, к счастью, я умею обращаться с людьми такого рода. Например, не далее, чем вчера вечером, меня чуть было не убили.
— Что? — мидур даже подскочил на месте. — Вчера вечером? Кто посмел тронуть хоть один волосок на твоей голове? К тому времени ты должен был уже находиться на подчиненной мне территории.
— Это случилось у Источника Льва.
— Ну да, это место находится в моих владениях. Но кто же он, кто посмел покушаться на твою жизнь? Назови мне его имя, и я найду его, куда бы он ни спрятался!
— Это не он, а они — хомр-арабы, которых я нанял, чтобы они сопровождали меня сюда.
— Ах, какая жалость! Хомры не стоят под моим началом. Я имею право наказать их только в том случае, если они находятся на подвластной мне территории.
— Они сейчас здесь, во дворе, связанные. Я привел их с собой, чтобы передать в твои руки.
— Они здесь? — изумился мидур. — Они пошли с тобой после того, как собирались тебя убить? Но в это невозможно поверить: ведь они не могли не знать, что их здесь ждет!
— У них не было другого выхода: им пришлось пойти со мной!
— Ну не томи, расскажи мне поскорее все с самого начала!
Мидур весь горел от нетерпения. Он все больше нравился Шварцу. В этой стране необходима была сильная воля и необычайная энергия, чтобы суметь защитить честных людей от разбойников. И тем, и другим этот человек, казалось, обладал в большой степени.
Не заставляя себя долго упрашивать, Шварц поведал собеседнику обо всех вчерашних приключениях, в том числе и о схватке со львами. Мидур с увлечением слушал и, когда рассказ подошел к концу, снова вскочил с места. Отбросив в сторону давно потухшую трубку, он вскричал:
— Убил двух львов и поймал их детеныша! Да ты герой, настоящий герой! И эти псы еще посмели поднять на тебя руку? Они еще будут молить меня и Аллаха о пощаде, но ни от него, ни от меня они ее не получат. Но постой: ты назвал имя Абуль-моута. Ты знал этого человека раньше?
— Нет, но слышал, что он известный работорговец.
— Да, и причем самый ужасный из всех. Ах, попадись он только ко мне в руки! Какая досада, что этот Отец Смеха помешал тебе поймать его! Теперь мне придется надолго распроститься с надеждой заполучить этого мерзавца, потому что он уйдет в далекую Умм-эт-Тимсу и не покажется здесь много месяцев.
— А ты знаешь, где находится эта Умм-эт-Тимса?
— Да, потому что дурная слава о ней прошла по всей стране. Это очень далеко отсюда, на юге, в стране ниам-ниам.
— Что? — насторожился Шварц. — Ты хочешь сказать, что это там же, где находится сейчас мой брат?
— Страна довольно большая, может быть, твой брат находится в другой ее части. Умм-эт-Тимса расположена в краю макрака.
— Такого племени я не знаю.
— Курьер, которого прислал твой брат, принадлежит к нему.
— Значит, мой брат ждет меня в этом опасном месте. Не к нему ли относятся угрозы, которые я слышал из уст Абуль-моута? Он узнал, что там появились два европейца, которые тоже собирают растения и животных, и намеревается их убить!
— У твоего брата есть спутник?
— Нет. Насколько я знаю, он путешествует один.
— В таком случае ты напрасно беспокоишься: речь шла не о нем. Мы еще вернемся к этому разговору, и посланец твоего брата сообщит тебе более точные известия. А сейчас пришло время держать суд над этими хомрами. Сначала я хочу допросить джелаби, а потом мы разберемся с арабами.
Он хлопнул в ладоши и отдал несколько приказов показавшемуся в дверях слуге. Через несколько минут вошли офицеры — члены суда — и молча заняли места по обе стороны мидура. Затем пригласили джелаби и попросили их вкратце рассказать обо всем, что произошло накануне. Их показания, разумеется, в точности совпали с показаниями немца.
В течение всего этого времени хомры под охраной военных оставались во дворе. Теперь с ног пленников сняли веревки, и их провели в импровизированный зал суда. Раненого тоже внесли и положили на пол возле его товарищей. Позади них был выставлен конвой из нескольких хавасов[90].
Хомры не стали приветствовать мидура, и причиной тому было отнюдь не смущение. Дело в том, что свободные арабы считают себя выше и привилегированнее местных арабов, а тем более египтян, которых они называют «рабами паши». Должно быть, шейх думал, что он, по крайней мере, равен по положению мидуру, и хотел произвести на того впечатление своим высокомерием. Он не стал дожидаться, пока к нему обратятся, а раздраженно закричал на судью:
— Мы были обманом схвачены и связаны. Это произошло, потому что нас было слишком мало. Но теперь мы находимся в месте, где можем ожидать справедливости. Мы, свободные хомр-арабы, и никто не вправе распоряжаться нами. Почему же нас до сих пор не развязали и не отпустили на свободу? Я сообщу хедиву, как ваши слуги обращаются с бени-араб!
Эта речь произвела совершенно противоположный эффект, чем ожидал шейх. Брови мидура сдвинулись, и он отвечал спокойным, ледяным тоном, который бывает подчас опаснее гневного крика:
— Что ты сказал, пес? Ты, кажется, назвал себя свободным? И ты собираешься жаловаться на меня паше? Если ты не понимаешь, что ты грязный червь по сравнению со мной, то я докажу тебе это. Вы все вошли сюда, ни на дюйм не склонив передо мной своих голов. До сих пор ни один офицер или эфенди не забывал поприветствовать меня, а вы, вонючие гиены, доставленные ко мне в качестве преступников, осмеливаетесь на такую дерзость? Придется мне немного обучить вас хорошим манерам и показать, как низко следует кланяться мидуру. Бросьте их ниц и дайте каждому по двадцать ударов, а шейх, как самый почетный мой гость, получит сорок.
Один из солдат тут же втащил деревянное приспособление, похожее на скамью, у которой с одной стороны отсутствовали ножки. Его положили на пол таким образом, чтобы две оставшиеся ножки торчали вверх. Потом хавасы схватили одного из хомров, сняли с него башмаки, положили его спиной на скамью и крепко привязали к ней ремнями. Ноги его задрали кверху и привязали к обеим ножкам, после чего один хавас взял толстую палку и отвесил несчастному по десять сильных ударов на каждую пятку. Сначала хомр пытался вырваться, потом стиснул зубы, чтобы не закричать, но после того, как кожа на ногах лопнула, он запричитал. Когда его отвязали, он не смог встать и остался сидеть на полу, издавая жалобные стоны.
Той же участи подвергались все его товарищи, исключая раненого, которого мидур пощадил, сказав:
— Этот лежал передо мной на земле, потому что его рана не позволяет подняться на ноги. Но я освещу его своей милостью и буду считать, что он распростерся передо мной из смирения. Все остальные негодяи, надеюсь, поняли, что я не позволю безнаказанно оскорблять себя и угрожать донести на меня паше. Теперь пусть шейх скажет, знает ли он эфенди, который сидит здесь, рядом со мной.
Шейх, который во время наказания вел себя еще более постыдно, чем его подчиненные, крича и плача громче всех, сейчас снова состроил высокомерную гримасу и не ответил на вопрос. Тогда мидур пригрозил:
— Лучше не упрямься, потому что я сумею открыть тебе рот. За каждый вопрос, на который кто-нибудь из вас откажется мне ответить, я буду добавлять тебе еще по двадцать ударов. Теперь говори, знаешь ли ты этого эфенди?
— Да, я его знаю, — поспешно выкрикнул шейх, узнавший на своей шкуре, что мидур не расположен шутить.
— Признаешь ли ты, что вы хотели напасть на него и убить?
— Никогда. Тот, кто утверждает это, лжец.
— Я сам утверждаю это, и за то, что ты назвал меня лжецом, твое наказание будет увеличено. Продолжим: знаешь ли ты разбойника по имени Абуль-моут?
— Нет.
— А у меня имеются сведения, что прошлой ночью ты с ним говорил.
— Это неправда!
— Пока ты сидел у костра, этот эфенди подкрался к гуму и подслушал разговор разбойников. Позже он видел, как ты пошел к Абуль-моуту и как привел гум. Это подтвердили и все джелаби. Ты собираешься упорствовать в своей лжи?
— Это был не я, они обознались!
— Я вижу, что ты закоренелый лгун. Ты, наверное, слышал, что меня называют Абу Хамса Мийа, Отец Пятисот? Тех, кто осмеливается преступить закон, я обычно приговариваю к пятистам палочным ударам. Но ты своей ложью оскорбляешь меня, так как тем самым ты пытаешься выставить меня легковерным человеком, которого Аллах обделил умом; поэтому для тебя я стану Абу Ситта Мийа, Отцом Шестисот. Выбросьте его во двор и дайте ему шестьсот ударов по спине! — приказал он солдатам.
— Не делай этого! — воскликнул шейх. — Шестьсот ударов не сможет выдержать ни один человек, ты убьешь меня! Вспомни о кровной мести! Воины моего племени смоют мой позор твоей кровью!
— Тогда пусть они сперва узнают, что я могу быть и Абу Саба Мийа, Отцом Семисот. Итак, дайте ему семьсот ударов, и за каждое слово, которое он произнесет, прибавляйте еще по сотне!
Это было сказано таким решительным тоном, что шейх не осмелился больше возражать. Солдаты вытащили его во двор, и вскоре оттуда послышались его громкие крики.
— Вы слышите это? — обратился мидур к хомрам. — Если он выживет, пусть идет к паше и жалуется на меня. Я сумею позаботиться о том, чтобы в моих владениях каждый честный человек мог безбоязненно следовать своим путем. А людей вроде вас я считаю хищниками, которых следует стрелять для общей пользы. Тому же, кто посмеет лгать и угрожать мне, моя плетка покажет, что я могу сменить свое имя и на Абу Алф, Отец Тысячи. А теперь ответь ты мне, — он указал на хомра, сидевшего на корточках ближе всех к нему, — собирались ли вы убить этого эфенди.
— Да, — испуганно сказал тот.
— А ты тоже признаешь это? — спросил он другого.
— Да, — отвечал и этот.
Остальные тоже сознались в своем преступлении, понимая, что ложью они только ухудшат свое положение. Больше всего им хотелось сейчас наброситься на мидура, и, несмотря на все усилия, они не могли полностью скрыть владевшую ими ярость.
— Вы признали свою вину, и я хотел бы быть вам милосердным судьей. Но вы сделали это не из раскаяния, а из страха, и на ваших лицах я читаю ненависть и жажду мести. Вы получите не больше и не меньше, чем предписывает данное мне прозвище. Пятьсот палок будет достаточно, чтобы убедить вас, что убийство человека, который доверчиво отдал себя под вашу защиту, идет вразрез с законами Пророка и его святых последователей. Пощажен сегодня будет только этот раненый. Пусть он лежит в сиджне[91], пока не заживет его нога, затем, если он не умрет, над ним будет исполнен тот же приговор, Суд окончен. Я говорил по праву и справедливо. Аллах хранит тех, кто следует его законам, но преступников исцелит его гнев!
Мидур поднялся в знак того, что заседание суда закончено, и офицеры сделали то же самое. Попрощавшись с глубокими поклонами, они удалились, и тогда судья распорядился, чтобы хомров перенесли во двор, и разрешил джелаби присутствовать при экзекуции. Вновь оставшись наедине со Шварцем, мидур спросил:
— Итак, справедливость восторжествовала. В твоей стране это произошло бы так же быстро?
— Приговор был бы вынесен позднее, так как у нас дело расследовали бы более подробно.
— А что бы это дало? Ведь нет сомнения в том, что хомры виновны?
— Разумеется.
— Ну, значит, я пришел к тому же результату, но гораздо быстрее. Какое наказание они получили бы согласно вашим законам?
— Многолетнее тюремное заключение.
— Мое наказание намного короче, так же как и мой суд. Виновные получают свои палки, а затем могут отправляться на все четыре стороны.
— На мой взгляд, для многих бандитов это наказание чрезвычайно мягкое, если, конечно, они выдержат удары.
По лицу мидура скользнула многозначительная улыбка, когда дон ответил:
— Суров или мягок мой приговор — решает Аллах. Он дает преступнику столько здоровья и сил, сколько считает нужным. В сущности, такое положение вещей не слишком отличается от вашего, ведь и у вас не всякий преступник может выдержать долгое тюремное заключение, и все это зависит лишь от воли божьей. Так что не беспокойся о хомрах! Их жизнь записана в книге, я не могу ни отнять, ни сохранить ее им. А теперь позволь мне проводить тебя к посланцу твоего брата, а затем в покои, которые я приготовил для тебя.
Немец с радостью согласился, так как дальнейшее пребывание в гостиной, куда со двора доносились страшные крики арабов, было не из приятных.
Пройдя длинную анфиладу комнат, в которых не было ничего, кроме стенной обивки и ковров, они вышли на задний двор. Посреди него стоял крошечный деревянный домик, по стенам которого вились цветущие, благоухающие растения.
— В этом Доме радости ты будешь жить, — сказал мидур, — а вот тот мальчик, о котором я тебе говорил. Он будет сопровождать тебя к твоему брату, а служить тебе начнет прямо с сегодняшнего дня. В дальнейшем он может пригодиться тебе в качестве переводчика: он говорит на языке ниам-ниам и владеет также арабским.
Перед дверью садового домика была расстелена камышовая циновка, с которой поднялся юноша лет шестнадцати, чтобы тут же снова броситься на землю, приветствуя обоих господ. Одежды на нем почти не было, а его кожа была своеобразного красно-бурого цвета, такого же, как почва в тех южных районах, где обитает народ ниам-ниам. Этнографами давно было замечено, что, как ни странно, цвет кожи того или иного негритянского племени всегда напрямую зависит от цвета населяемой им земли. Так, жители черноземных районов — шиллуки, нуэры и денка, обладают чрезвычайно темной кожей, в то время как кожа народов бонго, ниам-ниам и монбутту, живущих в странах с бурой, содержащей железо, почвой, отличается красноватым оттенком.
Мидур приказал мальчику встать, и, когда тот повиновался, Шварц смог разглядеть всю его невысокую, коренастую фигуру, с более развитыми мускулами, чем обыкновенно бывает у негров. Черты его лица были приближены к кавказскому типу: маленький, хотя и с толстыми губами рот, прямой и узкий нос. Но самым удивительным в нем были большие, широко расставленные глаза миндалевидной формы, предававшие его круглому лицу трудно описуемое выражение воинственной решимости и одновременно вызывающей доверие открытости.
Рядом с мальчиком на земле лежало его оружие. Оно состояло из лука с наполненным стрелами колчаном, ножа с серпообразным клинком и изогнутого, снабженного острыми зубьями и наконечниками метательного кинжала, похожего на австралийский бумеранг. Смертоносная «метательная дубина», описанная в «Энеиде», была, по всей видимости, оружием именно такого рода. Руки мальчика от кисти до локтей были упрятаны в так называемые манжеты, представлявшие собой несколько плотно прилегавших друг к другу металлических колец. Они называются здесь данга-бор и являются употребительными преимущественно среди негров бонго.
Очень оригинальным образом были убраны длинные и пушистые волосы мальчика. Заплетенные в тонкие косички, которые затем снова переплетались друг с другом, они образовывали на голове круглую корону, украшенную пестрым, переливающимся султаном. Вокруг лба, прямо на границе с волосами, он носил некое подобие диадемы из нанизанных на шнурок собачьих клыков. Открытый, дружелюбно-почтительный взгляд, которым мальчик встретил своего нового господина, понравился Шварцу.
— Как тебя зовут? — спросил он по-арабски.
— Я сын бджиа[92], — ответил негр на том же языке. — Санде[93] зовут меня Нубой, но белый господин, который прислал меня сюда, дал мне имя Бен Вафа[94].
— Что ж, это имя хорошо характеризует тебя. А как зовут этого белого господина?
— Он называет себя Шва-ца.
— Ты хотел сказать — Шварц?
— Да, — кивнул мальчик, — но я не могу выговорить этого имени, поэтому я говорю Шва-ца.
— Меня зовут так же, потому что я его брат.
— Значит, ты — тот эфенди, к которому он меня послал?
— Да.
— Я очень рад это слышать, потому что ты мне нравишься. Твои глаза такие же добрые, как глаза твоего брата, не такие жестокие, как у арабов, которые приходят к нам, чтобы сделать нас рабами. Поэтому я буду любить тебя так же, как моего другого господина, и служить тебе верой и правдой.
По его светившемуся от радости лицу было видно, что он сказал это от всей души.
— Ты должен доставить меня к моему брату, не так ли? — спросил Шварц.
— Да, эфенди.
— Но это очень опасно: ведь наш путь лежит через местности, в которых живут враждебные санде народы.
Тут мальчик схватил руку немца, горячо поцеловал ее и воскликнул:
— О, эфенди, ты называешь нас не ниам-ниам[95], а нашим истинным именем! Я — принц королевской крови и не должен подчиняться одному человеку, но для тебя я сделаю все, что угодно, так же, как и для твоего брата. Только из любви к нему я согласился отправиться сюда, потому что никому, кроме меня, не удалось бы это сделать: денка или нуэры сбили бы его или продали работорговцам.
— А ты не боялся, что с тобой произойдет то же самое?
— Нет, потому что меня никто не сможет поймать. Я воин и уже много раз водил наших мужчин на битву.
Он сказал это со спокойной гордостью, но без всякого намека на заносчивость. Похоже, он и вправду был очень смышленым и отважным пареньком, раз не только решился в одиночку предпринять такое трудное путешествие, но и сумел благополучно завершить его.
— А не разумнее было бы взять с собой нескольких надежных людей? — поинтересовался Шварц.
— Нет, так как нескольких легче заметить, чем одного, — ответил мальчик.
— Ты шел пешком?
— Нет. Я построил себе маленькую фулюку[96] с парусом. На ней я спустился по Гелю, а потом по Бахр-эль-Джебелю. Там везде есть вода для питья. Когда я был голоден, я ловил рыбу, а если навстречу шел вражеский корабль, я прятал мою фулюку в прибрежном кустарнике или в зарослях высокого тростника.
— Но откуда же ты знал дорогу?
— Мне уже дважды приходилось бывать в Хартуме, где я и выучил арабский язык.
— И ты ни разу не высаживался на берег вблизи какого-нибудь укрепления?
— Что вы, эфенди! Этого ни в коем случае нельзя было делать: ведь в укреплениях живут только ловцы рабов. Я всегда старался проезжать мимо них ночью и как можно быстрее.
— Ты, наверное, хорошо знаешь места, где расположены эти укрепления.
— Да, я знаю их все.
— А знаешь ли ты и то, которое называется Умм-эт-Тимса?
— Да. Оно самое опасное для нас, так как находится на границе с нашей страной и принадлежит самому жестокому человеку, какой только есть на свете.
— Как зовут этого человека?
— Абуль-моут.
— Ты знаешь его укрепление. А видел ли ты когда-нибудь его самого?
— Да. У него лицо и фигура мертвеца, и смерть следует за ним по пятам. Нет на земле ужаснее места, чем его укрепление. Трупы запоротых до смерти рабов свободно валяются там повсюду, а вокруг них шныряют пожирающие падаль хищные звери и птицы.
— А где был мой брат, когда ты его покинул?
— У моего отца.
— То есть, как я понимаю, он находится вблизи Умм-эт-Тимсы?
— Да, эфенди. Укрепление расположено всего в трех днях пути от нас.
— А мой брат — единственный чужестранец, который гостит у вас в настоящее время?
— Нет. С ним еще один белый.
— Ах! Значит, Абуль-моут все-таки говорил о них. Кто этот второй и как его зовут?
— Он торговец птицами. У него ноги аиста, а нос длинный и подвижный, как аистиный клюв. За это его прозвали Абу Лаклак[97]. Настоящего же его имени я не могу выговорить.
— Мы должны немедленно выступить в путь, так как ему и моему брату грозит огромная опасность. Абуль-моут хочет их убить.
— Он так и сказал? — вступил в разговор мидур.
— Да, — ответил немец, — я слышал это собственными ушами.
— Я знаю, что он не переносит белых чужеземцев в области, где охотится, и поэтому не сомневаюсь, что он постарается выполнить свою угрозу, как только прибудет в свое укрепление. Опасность, которой подвергается твой брат, действительно очень велика, потому что король санде не сможет защитить его от коварных и превосходящих их оружием работорговцев.
— Санде — очень храбрый народ, — с достоинством вставил Сын Верности.
— Я этого и не отрицаю, — отвечал мидур со снисходительной улыбкой. — Но вспомни, сколько ваших воинов, несмотря на их храбрость, было убито или похищено ловцами рабов! Все ваше мужество ничего не может сделать против дикой алчности этих людей, потому что вашим стрелам и копьям никогда не сравниться с их ружьями.
— Из скольких людей обычно состоит большой разбойничий караван? — продолжал Шварц свои расспросы.
— Часто из многих сотен, — разъяснил ему мидур. — Бывает, что такие команды состоят из двух или даже более укреплений. В таких случаях даже самая густонаселенная негритянская деревня не может и помыслить о сопротивлении. Укрепление Умм-эт-Тимса — самое большое из всех, какие мне известны, так что в распоряжении Абуль-моута имеется достаточно людей, чтобы он мог исполнить свое намерение и стереть при этом с лица земли весь ниам-ниам.
— Тогда нельзя медлить ни минуты. Я должен поспеть в ниам-ниам раньше Абуль-моута, чтобы вовремя предупредить брата.
— Твое заявление мне не по душе, так как ты мне очень понравился, и я был бы рад, если бы ты погостил у меня подольше. Но в сложившихся обстоятельствах я, конечно, не смею тебя задерживать. Однако я не могу допустить, чтобы ты беззащитным отправлялся навстречу ожидающим тебя опасностям, и поэтому я дам тебе пятьдесят хорошо вооруженных солдат. Это и мне может принести выгоду, так как с их помощью тебе, может быть, удастся поймать этого проклятого Абуль-моута, а я только о том и мечтаю, как бы заполучить его в свои руки. Ну что, ты согласен?
Немец с радостью согласился; предложение мидура пришлось ему очень кстати. Тем временем негр высыпал из своего колчана все стрелы и достал с его дна письмо, которое протянул Шварцу. После этого мидур провел своего гости внутрь домика, состоявшего из двух маленьких, но очень мило обставленных покоев.
— Здесь останавливаются только самые дорогие мои гости, — сказал он. — Как я уже говорил, ниам-ниам будет тебе прислуживать. Он ждет снаружи твоих приказаний, которые мои люди будут исполнять так же усердно и молниеносно, как если бы они исходили из моих собственных уст. Джелаби, которые пришли с тобой, тоже будут моими гостями.
— А что будет с моими хомрами? — не смог удержаться от вопроса Шварц.
Мидур сделал нетерпеливый жест рукой и сказал:
— То, что с ними должно было произойти, уже свершилось, и больше не спрашивай меня об этом. Я хочу, чтобы в доверенной мне области был порядок, того, кто нарушит его, я буду судить быстро и строго. Пусть Аллах будет милостив к их душам, но у меня они не найдут милосердия — только справедливость.
Он вышел. Шварц бросился на подушки и с нетерпением развернул письмо брата. Тот писал, что с Занзибара он через озера Виктория и Альберт благополучно добрался до ручьев реки Эль-Газаль и теперь ожидает брата у негров-макрака, которые принадлежат к большому племени ниам-ниам. В Занзибаре он встретил земляка — естествоиспытателя и выдающегося орнитолога, который попросил взять его с собой. Этот человек, баварец по происхождению, оказался очень хорошим товарищем и незаменимым помощником во время путешествия. Оба собрали по пути обширный и ценный научный материал и собираются использовать время, которое проведут у ниам-ниам в ожидании Шварца, на то, чтобы привести в порядок свои коллекции. Сына Верности оба рекомендуют ему как сообразительного и очень надежного проводника.
Немец только что закончил просматривать письмо, когда в дверях домика показался словак.
— Прошу извинительства, что помешаю вам мог, — начал он. — Я хотел принести вам желание, наше.
— Я не совсем понял, — ответил Шварц, — это только ваше желание или чье-то еще?
— Да. Отец Смеха иметь мою просьбу как свою.
— И в чем же состоит эта просьба?
— Мидур говорить с нами, сам, и сказать нам, мы все его гости быть и живет в доме, здешнем. Потом сказать еще, вы уехали скоро с солдатами, многими. Я и Хаджи Али, друг, хотим остаться здесь ни за что, а идти на ниам-ниам делать там дело, прибыльное. Хотим купить вещи здесь и продать там снова с выгодой, огромной. Поэтому я бежать сюда быстрей спрашивать, не добры ли вы брать с собой и Хаджи Али, дружелюбного?
— Почему бы и нет? Ваше предложение мне очень по душе. Вы с Отцом Смеха — дельные люди, и ваша помощь наверняка окажется мне полезной во время моего трудного путешествия.
— Значит, вы давать разрешение, ваше?
— Конечно, с превеликим удовольствием.
— Это есть очень хорошо. Это дает мне радость, бесконечную. Я учить язык, негритянский, и быть вам полезен званиями, моими. Мы будем делать исследование, научное, и получить имена, наши, известные, очень. Я должен бежать к Хаджи Али, ожидающему, и сказать ему, мы можем начать подготовку, отъездную, скорее, потому что вы исполнить желание, наше!
И он поспешил к Отцу Смеха, чтобы сообщить ему полученное известие.
Глава 6
ЧЕРНЫЕ ПЛАНЫ
А теперь перенесемся туда, где течет Бахр-эль-Газаль. Река Газелей пересекает границу страны негров бонго. Стройные пальмы украшают правый ее берег, и темно-зеленые метелки их листьев мечтательно колышутся на легком ветерке. На левом берегу от самой воды возвышается густой лес мимоз. Висящие на ветках деревьев засохшие травинки показывают, на какую высоту поднимается уровень воды в сезон дождей.
Поверхность воды сплошь покрывают большие острова, состоящие из нагромождений свежих и отмерших травяных корневищ. Между ними то и дело попадаются длинные и широкие полосы дикого сахарного тростника, которые еще больше суживают и без того узкую в это время года реку.
В одном из таких тростниковых островков, почти полностью скрытый высокими стеблями, стоял сейчас нуквер, один из тех парусных барков, которые распространены главным образом в верховьях Нила. Главная мачта в середине судна была снесена так же, как и меньшая на носу корабля. Тот, кто не знал о существовании этого нуквера, легко мог проехать совсем рядом, даже не заподозрив о его присутствии.
Без сомнения, этим столь тщательно спрятанным барком никто по назначению не пользовался, и тем не менее он был отнюдь не заброшен и не пуст.
Пять или шесть рабынь стояли на коленях друг возле друга и с помощью своеобразных каменных жерновов терли дурру: смоченную водой дурру засыпают в углубление жернова и маленьким камешком, который называется Сын Жернова, размалывают в муку. Этот примитивный способ сырого помола отнимает у рабов чрезвычайно много времени и сил. Результата целого дня мучительного труда одного из этих несчастных едва хватает, чтобы покрыть ежедневные потребности десяти-пятнадцати человек. Пот с лиц рабынь стекал прямо в замешиваемую тут же из этой муки вязкую кашу — основное блюдо суданского меню. Испеченная на круглой каменной плите, она превращается в кисры, аккуратные красно-коричневые лепешки, которые употребляют здесь вместо хлеба. На воде же из этого теста варят некое подобие пудинга, один вид которого способен надолго отбить аппетит у любого европейца. Кисра в качестве необходимого провианта берут в многомесячные путешествия. Если же дать им перебродить в воде, получится мариза, очень популярный среди всех суданских народов терпкий хмельной напиток.
Рабыни были на нуквере не одни. Под верхней палубой в кормовой части корабля двое невольников вили веревки из волокна пальмовых листьев и вполголоса о чем-то переговаривались. Опасливые взгляды, которые они время от времени бросали на рабынь, говорили о том, что они не хотели, чтобы их подслушали.
Лица обоих негров были изуродованы гугулом, вечным, несмываемым клеймом рабства, верным признаком того, что они оба были похищены. Когда охота на рабов проходит удачно, всем молодым пленникам-мужчинам наносят шесть больших порезов — по три на каждую щеку. Раны ежедневно натирают перцем, солью и пеплом, поэтому они долго не заживают, а впоследствии превращаются в огромные вздутые шрамы.
Единственную одежду рабов составляли набедренные повязки. Их волосы, уложенные вверх и закрепленные с помощью клея, образовывали на голове нечто вроде высокого цилиндра без полей. Негры беседовали между собой на диалекте беланда, в котором, как и в подавляющем большинстве других суданских языков, все слова, обозначающие нечто отвлеченное, взяты из арабского. Еще одной характерной его особенностью является отсутствие в нем первого лица единственного числа глагола, а вместо местоимения первого лица единственного числа говорящий обычно подставляет свое имя.
— Лобо грустно, очень грустно, — прошептал один из негров, — и Лобо даже не может показать, как тяжело у него на душе.
— Толо даже еще грустнее, чем Лобо, — так же тихо ответил его товарищ. — Когда Лобо и Толо были похищены, Абуль-моут убил всю семью Лобо, но отец и мать Толо смогли убежать. Они еще живы, а несчастный Толо не может увидеть их. Поэтому ему вдвойне грустно.
— Почему это Лобо должен быть менее печален? — недовольно спросил первый. — Раз его родители, братья и сестры убиты, значит, он несчастнее тебя. — Он вздохнул и добавил так тихо, что собеседник едва мог расслышать его слова: — Но что может сделать жалкий беланда, когда белые убивают его родных?
Толо озабоченно посмотрел на рабынь, чтобы удостовериться, что те не подслушивают, а потом ответил, дико вращая глазами:
— Отомстить! Он должен убить Абуль-моута!
— Да, должен, но ему нельзя об этом говорить вслух! — испуганно прервал Лобо своего брата по несчастью.
— Своему другу он может это сказать; Лобо его не предаст, а поможет ему своим ножом или стрелой, смоченной в ядовитом соке растения дингил[98].
— Но тогда нас засекут до смерти!
— Нет, мы не должны попасться, мы убежим.
— Разве ты не знаешь, как это трудно сделать? Белые будут преследовать нас, и их собаки обязательно нас найдут.
— Тогда Толо убьет себя. Он не позволит белым избивать себя кнутами и жить он тоже не хочет, если не может быть вместе с отцом и матерью. Белый человек не думает, что у черного тоже есть сердце, но оно у него есть и не хуже, чем у араба. Черный очень любит отца и мать и хочет вернуться к ним или умереть. Ты знаешь, что с нами будет, если мы останемся здесь? Мы — собственность белого, и он может убить нас за самую маленькую провинность. А если он захочет сделать набег на негритянские селения, мы должны будем пойти с ним и защищать его от наших братьев, и тогда нас тоже могут убить. Но Толо не хочет ловить своих черных братьев и делать их рабами!
— Ты думаешь, что готовится гасуа?
— Да. Разве ты не понимаешь, почему женщины там, на носу, уже много дней мелют дурру? Это значит, что в поселке собираются печь лепешки. Но большие запасы лепешек араб делает только тогда, когда ему нужна еда для долгого путешествия.
Лобо сложил руки вместе, сделал испуганно-почтительное лицо и сказал:
— Какой ты умный! Об этом Лобо не подумал. Он думал, что набег может начаться только после того, как Абуль-моут вернется из страны хомров.
— Абдулмоут[99] тоже может выступить, когда захочет. После Абуль-моута он — главный в селении. Если первого начальника нет, приказывает второй. Зачем бы иначе солдаты еще позавчера получили приказ чистить свои ружья и точить ножи? Правда, никто из них пока не знает о том, что должно произойти, но скоро ты увидишь, что Толо был прав.
— Ты знаешь, куда Абдулмоут хочет отправиться?
— Откуда Толо может это знать? Даже белым солдатам никогда не говорят этого заранее. Один Абдулмоут знает это, и… — Внезапно он осекся, склонился над своей работой и, казалось, целиком погрузился в нее. Лобо последовал его примеру: оба заметили человека в маленькой лодке, который причалил к нукверу и поднялся на его палубу.
Это был белый. Густая темная борода обрамляла его лицо, кожа которого от жаркого солнца стала совсем смуглой. Черты его лица были резкими, глаза мрачно блестели. Он носил тесно облегающий фигуру белый бурнус, подпоясанный кушаком, из-за которого выглядывали рукоятки ножа и двух пистолетов. Из зеленых башмаков без задников выглядывали босые пятки, а на голове возвышался зеленый тюрбан — знак того, что этот человек ведет свое происхождение от Пророка Мухаммеда. В руке он держал огромных размеров кнут.
— Абдулмоут! — испуганно прошептал своему товарищу Лобо.
— Тише, молчи! — так же шепотом предостерег его тот.
Перед ними действительно были не кто иной, как второй комендант селения. Он называл себя Рабом Смерти и был достойным помощником своему начальнику Отцу Смерти. На несколько минут он остановился возле рабынь и стал наблюдать за их работой. Несчастные женщины удвоили свои усилия, но все же их рвение не удовлетворило Абдулмоута, и он грубо прикрикнул на них:
— Разрази вас гром! Вы крадете у меня время, проклятые лентяйки! Пора уже начинать печь, потому что завтра мы выступаем, а мука до сих пор не готова!
И он, не разбирая, куда попадет, стал обрушивать на них удары кнута. Женщины взвыли от боли, однако ни одна из них не осмелилась хотя бы на миг прервать работу. Затем Абдулмоут перешел на корму к обоим неграм-беланда. Некоторое время он молча стоял рядом с ними, потом взял один из уже готовых канатов, внимательно осмотрел его, снова отбросил в сторону и наградил каждого из рабов несколькими ударами, отчего кожа в тех местах, куда они пришлись, тотчас лопнула. Негры не издали ни одного стона, и только из всех сил сжали зубы так, что они заскрипели.
— Вам, как я погляжу, было недостаточно больно? — свирепо усмехнулся Абдулмоут. — В следующий раз вы у меня заскулите как следует, бездельники! Падайте ниц, когда с вами разговаривает комендант поселка!
Этот приказ сопровождался новыми ударами кнута. Негры бросились наземь, на что они раньше не решились, так как думали, что должны продолжать работать. Абдулмоут окинул их бесстрастным взглядом, затем пнул каждого ногой и снова заговорил:
— Вы — беланда. Хорошо ли вы знаете свои родные места?
— Да, господин, — ответил Толо, не поднимая глаз.
— Знакома ли вам деревня Омбула?
— Толо бывал много раз в этой деревне.
— Зачем ты туда ездил?
— Сестра матери Толо живет там со своим мужем и детьми.
— Ах, вот как! Значит, у тебя родственники в Омбуле! Сколько семей там живет?
— Очень много, господин, намного больше, чем в других деревнях, — отвечал негр, который, как и большинство представителей этих диких народов, умел считать самое больше до двадцати.
— Это место хорошо укреплено? — продолжал араб свои расспросы.
— Вокруг него двойная колючая изгородь.
— Деревня расположена посреди открытой местности или в лесу?
— Дерево субах[100] стоит в кустах, из которых торчат еще и ладанные деревья[101].
— Много ли у жителей коров?
Коровы ценятся в здешних местах на вес золота. Для ловцов рабов они едва ли не лучшая добыча, чем пленники. Негры же, в свою очередь, при нападении спасают прежде всего коров, зачастую жертвуя при этом собственными детьми. Зная, что его ответ решит судьбу Омбулы, Толо решил покривить душой.
— Нет, господин, они все очень бедны, — сказал он.
Видимо, его слова прозвучали не очень убедительно, так как Абдулмоут внимательно посмотрел на него, а затем несколько раз опустил кнут на спину и закричал:
— Не смей лгать, пес, а не то я запорю тебя до смерти! Говори правду, если хочешь, чтобы на твоих костях осталось хоть немного мяса! Итак, там много коров?
— Да, господин, — пролепетал перепуганный Толо.
— Есть ли у людей хорошее оружие?
— Стрелы, копья и ножи.
— Ружей ни у кого из них нет?
— Ни у кого, господин.
— Смотри же, — пригрозил Абдулмоут, — если я увижу там хотя бы одно-единственное ружье, я выбью из твоего черного тела твою не менее черную душу. Ты знаешь все пути в Омбулу?
— Да.
— И Лобо тоже?
— И он тоже.
— Когда мы прибудем туда, если выступим отсюда ранним утром?
— На третий день вечером.
— Хорошо. Я решил напасть на Омбулу и достать к возвращению Абуль-моута много новых рабов и коров. Тогда он увидит, что мы не сидели без дела, и будет доволен нами. Вы оба будете нашими проводниками, и я советую вам хорошо исполнить свой долг. Если вы хорошо справитесь с этим заданием, я продам вас доброму господину, который не будет вас бить, хотя за вашу лень вас стоило бы пороть еще больше. В противном случае я закопаю вас в термитник, чтобы эти твари сожрали вас заживо. Усвойте хорошенько то, что я вам сказал, вы, чернокожее отродье, и отвечайте: будете ли вы верны и послушны мне?
— Да, господин.
— Вы обещаете мне это, но я не верю на слово ни одному черномазому псу. Поэтому до самого вашего отправления вы останетесь здесь, на этом корабле. Я приставлю к вам сторожа и прикажу ему застрелить вас, как только вы приблизитесь к борту. А во время похода я надену вам на ноги гири, чтобы вы потеряли всякую охоту к бегству. Теперь работайте дальше и не вздумайте при этом болтать, а то я велю зашить вам рты. Вы знаете, что это не пустая угроза: я ведь поступил так со многими вашими товарищами.
Он еще раз хлестнул обоих своей плеткой и вернулся в лодку. Негры видели, как суденышко исчезло в высоких камышах, но из опасения, что Абдулмоут следит оттуда за ними, они молча продолжали работать, пока он не показался на берегу и не удалился по узкой тропинке, ведущей через заросли мимоз.
Только теперь Толо осмелился едва слышно шепнуть своему напарнику:
— Теперь ты видишь, что Толо был прав: поход начинается уже завтра!
Лобо заскрипел зубами и схватился за свою кровоточащую спину, а потом, вращая глазами так, что они чуть не вылезли из орбит, воскликнул:
— Они пойдут в нашу страну, в Омбулу. Аллах, Аллах! Наши друзья должны стать рабами!
— А мы должны вести белых. Неужели мы сделаем это?
Лобо, менее сообразительный, чем его друг, глубоко задумался, пытаясь понять, куда тот клонит.
— Почему ты молчишь? — спросил Толо. — Отвечай, должны ли мы вести арабов в Омбулу и вместе с ними убивать и захватывать в плен наших черных братьев?
— Нет, — решительным тоном ответил Лобо. Он сделал свой выбор. — Мы убежим. Но тогда мы не сможем убить Абуль-моута, как собирались раньше: он ведь еще не вернулся.
— Мы убьем вместо него Абдулмоута, что еще лучше. Если мы отнимем у него жизнь, то завтрашний поход не состоится, и люди из Омбулы будут спасены.
— Поблагодарят ли они нас за это? И как мы его убьем? Днем это совсем невозможно, а ночью он спит, окруженный стражами. Нас обязательно схватят. Может быть, лучше не подвергать себя такой опасности?
Толо понимал справедливость слов своего товарища. Он замолчал, чтобы собраться с мыслями, но раздумье его было прерваны ужасным шумом, внезапно донесшимся со стороны селения. Сотни человеческих голосов пели, визжали, ревели и что-то исступленно выкрикивали. К этому прибавлялись резкие звуки музыкальных инструментов.
Казалось, эта адская музыка помогла Толо принять какое-то решение. Он мигом встрепенулся и сказал:
— Ты слышишь это ликование? Абдулмоут только что объявил им, что завтра начнется набег. Теперь они развернут флаги и примутся внимать предсказаниям своего колдуна.
— Он будет к ним благосклонным, и они повинуются ему. Мы тоже должны слушаться его, хотя мы и не молимся Аллаху, как наши мучители.
— Нет. Толо повинуется не факиру, а совсем другому.
— Кому же? О ком ты говоришь?
— О Большом Шейхе, который живет среди звезд и никогда не умрет, который все видит и награждает или наказывает за каждый человеческий поступок.
— Ты рассказывал Лобо об этом, но Лобо не смог его увидеть.
— Он повсюду, как воздух, который тоже нельзя разглядеть.
— Может быть, чужестранец, который тебе о нем рассказывал, обманул тебя!
— Нет. Этот чужой белый был миссионер, хороший человек, который никого не обманывал. Он рассказывал о великом, всемогущем Шейхе, который создал небо и землю, а также и людей. Он велел им быть хорошими и благочестивыми, но они не послушались его. Тогда он послал с неба своего сына, который принес им добро и был за это ими убит. Он учил, чтобы люди любили друг друга и совершали только хорошие поступки. Потом пришли ловцы рабов и убили его. Но Толо помнит все его слова и будет повиноваться им. Долг велит ему разыскать родителей и спасти деревню Омбула. Он сделает это, даже если это будет стоить жизни. Сын Шейха тоже умер без ропота. И тот, кто умирает, совершая добро и выполняя законы Большого Шейха, тот на самом деле не умирает, а поднимается в небо. К Сыну Шейха, чтобы жить возле него и никогда не умирать.
Негр произнес все это с подлинной верой и страстью. Его собеседник покачал головой и сказал:
— Лобо не понимает этого, но ты никогда еще не лгал ему, и поэтому он хочет верить всему, что ты говоришь, и делать то же самое, что делаешь ты. Если бы он видел и слышал миссионера, он, наверное, был бы так же убежден в истинности его слов. Я согласен: мы убежим и спасем Омбулу!
— Да. А Абуль-моута мы убьем в наказание за все его злодейства и чтобы он завтра не мог начать гасуа.
— Но ведь ты только что говорил, что по воле Великого Шейха надо делать людям только добро. А ты хочешь убить араба!
— Это не зло, — возразил Толо не очень уверенным тоном, показывающим, что его знание Библии пока еще далеко от совершенного.
— Пусть так. Лобо верит тебе. Но даже если нам удастся лишить его жизни, — как мы убежим отсюда? Лодки нам не достать, значит, придется идти пешком, а тогда собаки нас быстро разыщут!
— Ты не должен быть таким нерешительным, — заявил Толо, — потому что Большой Шейх в небе будет нас охранять. Смерть Абдулмоута и наше бегство заметят только утром. К тому времени мы будем уже так далеко, что нас никто не сможет найти. Мы возьмем здесь столько лепешек, сколько сможем, и тогда нам не придется голодать в пути.
— Разве твой Большой Шейх не запрещает воровать?
— Ты прав. Тогда не будет этого делать. Мы и так везде сможем найти корни, фрукты и воду, чтобы утолить голод и жажду.
Однако Лобо, казалось, не разделял оптимизма своего друга, а, напротив, становился все более озабоченным. Он задумчиво посмотрел вниз перед собой, а потом спросил:
— Но все же как мы убежим с корабля, если Абдулмоут пришлет к нам сторожа?
— Мы подождем, пока он заснет.
— Он не будет спать, ведь он получит приказ не спускать с нас глаз!
— Ну, тогда мы убьем его.
— Но в этом поступке нет ничего доброго — одно зло!
— Сторож тоже злой, потому что он будет белый, араб. Справедливо будет, если он умрет: он ведь из тех людей, что нас схватили!
— Ты однажды рассказывал мне, что Шейх в небе велит делать добро и врагам тоже, а ты хочешь причинять им одно зло!
— Они сами в этом виноваты, — сказал Толо, решительным кивком отгоняя от себя сомнения, — а теперь молчи и работай: вон идет сторож!
К нукверу приближалась новая лодка, и сидевший в ней белый поднялся на борт. Он пребывал в крайне Дурном расположении духа из-за того, что его отправили на корабль, и он не может принять участие в празднестве, которое всегда предшествует гасуа. Громко выругавшись, он сел невдалеке от невольников с кнутом в руке. Лобо и Толо склонились над своей работой. Говорить друг с другом они больше не могли, но все их мысли были сосредоточены на предстоящем замысле, и мысленно друзья продолжали спорить друг с другом. Толо был полон твердой решимости убить Абуль-моута и охранника. Те идеи, которые он усвоил от учения миссионера, не вступали в конфликт с его языческими представлениями, он прекрасно совмещал в себе то и другое. Лобо же, как и большинство тугодумов, не сразу мог принять новый, отличающийся от его прежних убеждений, взгляд на вещи, но если он однажды постигал какую-нибудь мысль и принимал ее всем сердцем, то сбить его с нее было очень трудно. Поэтому ему казалось непонятным и весьма сомнительным утверждение его друга о том, что можно убить двух человек, неуклонно следуя при этом воле «доброго небесного Шейха».
Расположенные на левом берегу реки мимозные заросли были очень длинными, но узкими. От воды сквозь них вели несколько едва видных тропинок. Пройдя по одной из этих тропинок, вы уже через пять минут оставили бы заросли за спиной и увидели перед собой широкую, плоскую равнину.
Всякую дорогу, которая проходит около реки, на юге называют «нижний путь». Тропинка же, которая ведет к реке со стороны, перпендикулярной берегу, называется мишрахом. Обычно мишрах спускается к воде с высокого, крутого берега.
Чтобы уберечься от ежегодного половодья, люди стараются выстраивать свои жилища на возвышенных местах. Поэтому практически каждый мишрах — верный признак того, что наверху расположено какое-нибудь поселение. Особенно любят основывать в таких местах свои поселения ловцы рабов, и поселок Умм-эт-Тимса не составлял здесь исключения.
Прямо в край зарослей упиралась высокая колючая ограда, за которой стояли токулы поселка. Это заграждение было достаточно прочным, чтобы служить защитой от врагов и диких зверей. Каждый поселок окружен такой колючей стеной, которая хотя и не может противостоять огнестрельному оружию, но гарантирует полную безопасность от копий и стрел. Входов и выходов эта стена не имеет, но между некоторыми не очень густыми кустами может протиснуться человек. Эти проемы и служат для жителей селения воротами, а по ночам сюда выставляются часовые, для которых воздвигаются высокие сторожевые башни на сваях, очень похожие на русские казачьи вышки.
Поселок Умм-эт-Тимса был достаточно большим. Он насчитывал более двухсот токулов, фундамент которых состоял из небольших земляных насыпей, а стены и крыши были сделаны из тростника. Все они имели круглую форму, и каждая была окружена своей отдельной колючей изгородью.
Хижины ловцов рабов никогда не запираются: воровства среди жителей одной деревни не бывает: опасаться следует только непрошенных визитов туземцев.
Дорожки, проделанные между токулами, содержались довольно опрятно, и тем сильнее был контраст с тем, что представляло собой пространство по ту сторону внешней ограды. Кучи отбросов и нечистот, разлагающиеся трупы умерших естественной смертью или запоротых насмерть рабов были свалены здесь и распространяли запах, который свалил бы с ног любого европейца. Сюда слетались хищные птицы, приходили и псы ловцов рабов, а по ночам здесь появлялись гиены и другие дикие звери.
Недалеко от селения располагался огороженный ночной загон для скота, который в течение дня пасся на пастбище. Это были преимущественно коровы и овцы, а также лошади и верблюды. Последних можно встретить в поселках только в сухое время года, так как сезона дождей они обычно не переживают. Навоз этих животных заботливо собирается суданцами и высушивается, а вечером сжигается в загоне. Густой дым, который поднимается при этом, спасает людей и животных от мучений, которые причиняют им бауда, «жигалки обыкновенные». Тут стоит сказать об одном обычае народов Судана: не обращая внимания на запах, суданцы по самую голову закапываются в высокие кучи оставшегося от сгоревшего навоза пепла, покрывающего черную кожу негров отвратительным серым налетом, который оскорбляет глаз и нос европейца, но, по единодушному мнению местных жителей, является столь же красивым, сколь и полезным для здоровья.
Принимая во внимание то обстоятельство, что каждая хижина рассчитана обычно не на одного, а на нескольких обитателей, можно было заключить, что население Умм-эт-Тимсы составляет не менее пятисот человек. В центре поселка стояли два токула, выделявшиеся своей величиной. Это были жилища обоих начальников, Абуль-моута и Абдулмоута.
Настоящие владельцы поселков наведываются в них крайне редко. Эти господа предпочитают оставаться в Хартуме или в каком-нибудь другом городе, где они, как правило, имеют респектабельный дом, образцовую семью и безупречную репутацию. Им не приходит в голову собственноручно заниматься поимкой рабов: для этого у них есть специальные заместители, которые называются вокалами и обладают очень большими полномочиями. Под началом этих вокалов стоят капитаны и матросы. Последние нужны преимущественно во время и после сезона дождей, когда резко возрастает число водных набегов.
Имеются в этой разбойничьей армии и наемные отряды. Это прежде всего охотники, которые обязаны снабжать селение свежим мясом, и солдаты, которые вербуются из своего белого и цветного суданского сброда, люди без чести и совести, настоящие бандиты — как нельзя более подходящий контингент для начальников поселков.
Вокалы получают весьма солидное жалованье, и к этому еще часто прибавляется большой процент от прибылей. Заработок остальной команды обычно равняется десяти талерам плюс питание. Все остальное они должны приобретать за свой счет. Если караван возвращается с богатым уловом, бывает, что солдаты получают свое жалованье рабами. Тогда раб принадлежит хозяину душой и телом, и тот волен сделать с ним все, что угодно: он может избить его, изуродовать или даже убить.
Двадцать или двадцать пять солдат стоят под началом унтер-офицера, называемого белюком. Под началом белюка стоит эмини, который должен уметь читать, писать и считать. Обычно это низший священнослужитель, который одновременно исполняет должность колдуна, устанавливает благоприятные и неблагоприятные для разнообразных мероприятий дни и лечит все заболевания души и тела с помощью амулетов, которые он сам изготовляет, а затем продает за солидную плату. Считается, что вражда с таким человеком очень опасна, и поэтому все обитатели поселка стараются сохранять с ним хорошие отношения.
Во время очередной гасуа ловцы рабов заставляют шейха соседствующего с поселком племени предоставлять в их распоряжение своих людей в качестве носильщиков или шпионов. В награду за это после набега он получает рабов или коров (последний дар, разумеется, оказывается ему больше по душе). День выступления в поход устанавливается или утверждается колдуном.
Когда наступает время объявить солдатам о начале набега, комендант отдает приказ поднять байрак[102]. Он представляет собой большой четырехугольный кусок красной материи, на которой вышиты символы мусульманской веры или первая сура Корана.
Как только флаг взвивается, все узнают, что предпринимается новый набег, и те, кто будет принимать в нем участие, начинают предаваться сумасшедшей радости.
Разумеется, Абдулмоут сообщил обоим беланда свое намерение только после того, как он узнал от колдуна, что завтрашний день будет удачным для похода. Вернувшись в поселок, он распорядился, чтобы подняли флаг. Восторженные крики первого, кто увидел этот желанный знак, привлекли внимание остальных жителей. Они схватили музыкальные инструменты, высыпали из своих хижин и столпились в центре селения. Туда же притащили все имевшиеся запасы маризы, чтобы еще увеличить всеобщую радость с помощью горячительного напитка.
Появился колдун, произнес зажигательную речь, которая должна была поднять боевой дух солдат, и предложил на продажу амулет, защищающий от ран и смерти во время схватки. Затем начала играть музыка, но какая!
В этом кошмарном хоре можно было услышать рубаб, примитивную маленькую гитару с тремя струнами; бюлонк — некое подобие трубы, изготовленной из выдолбленного ствола дерева; ногару — военный барабан, сделанный из полого пня; дарбукку — ручной барабан меньших размеров; гудящие флейты; огромные деревянные рога, чье ужасное звучание напоминает мычание коров; каменные трещотки — набитые камнями бутылочные тыквы; антилопьи рога, звук которых похож на вой замерзающего пса; маленькие и большие трубки, с помощью которых можно подражать голосам всевозможных зверей и, в особенности, птиц. Те, у кого не было инструмента, сами завывали на все лады. Многие импровизировали собственные «мелодии» с помощью самых причудливых предметов: один лупил палкой по сухому хворосту, другой дергал собаку за хвост, третий, подражая свисту бури, размахивал привязанной на длинной веревке жестянкой, и весь этот концерт продолжался до тех пор, пока колдун не предложил спеть общую песнь ловцов рабов. Тогда парни встали друг напротив друга в две большие шеренги и запели воинственную песню.
Ее можно было перевести примерно так: «Только пить — мое стремление. Пить, а потом — на простор, в горы, в лес, где водятся дикие звери. И пить — мое желание! И тогда в меня вливается отвага, и лес окрашивается кровью, и взрывается порох, и я привожу домой рабов».
Но, Боже, что за голоса пели эту песню! Один издавал львиное рычание, другой квакал лягушкой, третий визгливым фальцетом выкрикивал какие-то нечленораздельные звуки, а четвертый подтягивал ему, гудя, как контрабас. Единой мелодии не было, каждый пел в той тональности, в какой позволяли его голосовые данные. Впрочем, иногда певцам удавалось прокричать в лад несколько слов, так как в этом ужасном оркестре имелся и дирижер. Эту роль исполнял колдун: он громко скандировал что-то и размахивал высоко поднятыми руками, и в любом более цивилизованном месте он мог бы составить украшение какого-нибудь сумасшедшего дома. В перерывах между пением снова звучала чудовищная музыка и исполнялся так называемый «танец вращающихся дервишей». При этом участники празднества не забывали прикладываться к маризе, и веселье продолжалось до тех пор, пока не опустели все кувшины. Невообразимый шум раздавался над берегом и достигал корабля, где в прежних позах сидели оба раба и охранник, не выпускавший из рук кнута. Рабынь давно увели в селение, где они должны были печь лепешки.
Время от времени надсмотрщик поднимался на ноги и прогуливался по палубе, чтобы отогнать от себя сон. При этом он бормотал себе в бороду какие-то нечленораздельные проклятия по поводу того, что ему приходится всю ночь сидеть здесь, в то время как другие веселятся.
Незадолго до полуночи Абдулмоут снова наведался на корабль, чтобы удостовериться, что часовой находится на посту. Вскоре после того, как он ушел, в селении все стихло: опьяневшие ловцы рабов забылись тяжелым сном. Когда стражник в очередной раз встал, чтобы размять ноги, Лобо прошептал своему товарищу:
— Хотя этот белый сердит — он постоянно держит в руках кнут — но нас не наказывает. Поэтому Лобо не хочет его убивать.
— Но тогда мы не сможем убежать! — возразил Толо.
— Разве мы не можем заткнуть ему глотку, чтобы он не кричал? А потом мы свяжем его и оставим здесь лежать.
— Толо тоже не очень хочется его убивать, но один-единственный его крик может нас погубить.
— У Лобо сильные руки. Он так крепко схватит его. Да, так мы, пожалуй, с ним справимся. Веревок здесь достаточно.
— Когда мы начнем?
— Подождем еще немного: пусть все белые заснут.
— Но у нас нет лодки: по вечерам ее перетаскивают в поселок.
— Тогда мы отправимся вплавь.
— Толо позабыл, что в воде много крокодилов? Ведь поэтому селение и называется Умм-эт-Тимса.
— Толо лучше даст себя сожрать крокодилам, чем поведет белых в Омбулу.
— Лобо тоже. Добрый Шейх в небе нас, наверное, защитит, потому что мы подарим стражнику жизнь.
— Так ты теперь тоже веришь в этого великого Шейха?
— Лобо весь вечер думал о нем. Если миссионер не был лжецом, то все так и есть, как он сказал, потому что он был умнее, чем мы. А для черных как раз очень хорошо иметь в небе такого Шейха, потому что все белый шейхи на земле — их враги. Так что Лобо верит в него и сейчас попросит его, чтобы наше бегство было успешным.
Негр сложил руки и обратил глаза к небу. Губы его шевелились, но то, о чем он говорил, мог расслышать только Бог.
Часовой подошел к ним и снова уселся на пол. Прошло довольно много времени, прежде чем он решил предпринять новую прогулку. Когда, наконец, стражник пошел прогуляться по палубе, Лобо спросил:
— Мы будет ждать еще дольше?
— Нет. Толо уже держит в руках веревку. Когда он подойдет к нам и отвернется, мы вскочим, и ты схватишь его сзади.
Так все и произошло: часовой приблизился к ним и снова повернулся спиной. В тот же миг Лобо кинулся на него и крепко сдавил ему горло. Человек был как будто парализован от неожиданности и страха: он не пытался сопротивляться ни тогда, когда Толо обвязывал веревки вокруг его рук, ног и туловища, ни даже тогда, когда Лобо отпустил его шею и, сняв у него с головы феску, разорвал ее, куском материи сделал кляп, который и был всунут несчастному в рот.
Крепко связанного стражника отнесли в каюту. Лобо забрал у него нож, а Толо — кнут; затем оба вернулись на палубу.
Беглецы опустились в воду как можно тише, чтобы шум не привлек крокодилов, и двинулись к берегу, что само по себе было связано с большими трудностями, так как им пришлось прокладывать себе путь сквозь густой тростник. Все же им удалось невредимыми выбраться на сушу. Само собой разумеется, что вода ничуть не испортила их более чем простую одежду.
— Милостивый Шейх с неба защитил нас от крокодилов, он будет помогать нам и дальше, — сказал Лобо, отряхиваясь. — Ты не думаешь, что лучше бы нам оставить Абдулмоута в покое и скорее бежать отсюда?
— Нет. Абдулмоут должен умереть.
— С тех пор, как ты сегодня рассказывал о Небесном Шейхе и его сыне, Лобо кажется, что не стоит убивать арабов.
— Если мы сохраним ему жизнь, он быстро догонит нас. Если же мы его убьем, то, когда они найдут тело, они будут охвачены паникой и забудут снарядить погоню.
— Лобо сделает все, что ты хочешь. Но как мы пройдем в поселок? Сторожа поднимут шум, и нас схватят.
— У тебя ведь есть нож. Им мы вырежем дыру в ограде.
— Нас выдадут своим лаем собаки.
— Не выдадут. Они подумают, что мы принадлежим этому селению, и кроме того, я знаю их почти всех по кличкам. Идем!
Они быстро прошли сквозь заросли и остановились на самом их краю. Здесь следовало быть осторожнее, так как ночь была такая светлая, что человека можно было узнать на расстоянии в двадцать шагов. Поэтому негры легли на землю и поползли к тому месту изгороди, от которого был самый короткий путь к токулу Абдулмоута.
Как ни странно, они благополучно достигли этого места, не замеченные ни одним псом. Там Лобо достал нож и стал прорезать проход в густом, колючем кустарнике. Это было довольно трудное дело, и продвигалось оно чрезвычайно медленно. Хотя Лобо и был более сильным, чем его друг, все же Толо пришлось несколько раз сменить своего приятеля, прежде чем отверстие стало достаточно большим, чтобы сквозь него смог пролезть человек.
Теперь беглецы находились внутри селения, и им следовало удвоить свою осторожность. Некоторое время они продолжали лежать неподвижно, прислушиваясь. Вокруг царила абсолютная тишина, только коровы негромко сопели в загоне, да издали доносились пронзительные крики гиены.
— Можно начинать, — тихонько сказал Толо, — дай сюда нож!
— Почему Лобо должен отдавать его тебе?
— Потому что Толо хочет сам нанести удар.
— Не ты, а Лобо сделает это, потому что он более сильный из нас двоих.
— Но ты говорил, что убийство белого тебе не по душе.
— Но на это ты сказал, что он все же должен умереть, и тогда неважно, кто из нас исполнит приговор. Если Шейх в небе будет из-за этого рассержен, то Лобо он простит скорее, чем тебе, потому что Лобо верит в него только с сегодняшнего дня, а ты — уже в течение долгого времени. Так что оставайся здесь и жди, пока Лобо вернется к тебе!
— Ты хочешь идти один?
— Да.
— Этого Толо не допустит. Он пойдет с тобой до самого токула, чтобы быть рядом, если случится что-нибудь плохо.
— Да, ты прав. Тогда пойдем вместе.
Хорошо знакомым путем они стали пробираться между токулами. Большинство спящих солдат находились в своих хижинах, некоторые лежали рядом с ними на свежем воздухе. Пары маризы так хорошо усыпили их, что ни один не пошевелился. Впрочем, даже трезвый не услышал бы шагов осторожно ступавших невольников.
Хижину Абдулмоута охраняли около восьми или десяти человек. Все они были белые: неграм комендант не доверял. Однако цвет кожи не сделал солдат более надежными, чем их чернокожие товарищи. Напившись маризы, они тоже спали крепким сном.
— Оставайся здесь и жди меня, — шепнул Лобо другу, — пробраться между ними совсем нетрудно. Араб находится в хижине совсем один, и он тоже пьян. Один удар — и Лобо снова будет с тобой.
Уверенность, с которой он произнес эти слова, звучала несколько наигранно: предстоявшая ему задача была намного сложнее, чем он хотел показать. Зажав нож в руке, он, как змея, пополз между спящими и уже протянул руку, чтобы отодвинуть легкую камышовую ширму, которая по ночам загораживала вход в хижину Абдулмоута, когда вдруг внутри послышалось грозное рычание. Лобо мигом отдернул руку, но нежданный враг, вместо того, чтобы успокоиться, разразился яростным лаем и, опрокинув ширму, выскочил из хижины. Это был один из тех больших и свирепых шиллукских псов, которых охотно покупают ловцы рабов, чтобы натаскивать их против негров. Он бросился на Лобо. Тот, несмотря на свой очень молодой возраст, отличался поистине богатырской силой. Ловким движением он увернулся в сторону, затем схватил пса левой рукой за затылок и рванул его вверх, а правой с молниеносной быстротой вонзил нож ему в горло. С громким воем пес рухнул на землю.
Со всех сторон ответили другие собаки, проснулись люди, вскочили лежавшие перед токулом охранники. Об исполнении своего замысла Лобо теперь не мог и подумать, он хотел бежать, но оказался со всех сторон окруженным людьми и собаками, и не менее двадцати рук протянулось, чтобы схватить его. Бедняге не удалось бы избежать неминуемой гибели, если бы в этот момент на помощь не подоспел верный Толо. Он рванулся к товарищу, пробивая себе дорогу отнятым у охранника кнутом. Не ожидавшие ничего подобного солдаты расступились, и, воспользовавшись этим, оба негра огромными скачками бросились к недавно проделанной ими дыре в изгороди, чтобы через нее выбраться на свободу.
Среди собравшихся около токула Абдулмоута был один из унтер-офицеров, человек, привыкший командовать и обладавший большей осмотрительностью, чем другие. Он быстро сообразил, что преступникам удастся избежать наказания, если никто их не узнал, и громко крякнул, перекрывая поднявшийся шум:
— Кто были эти двое нападавших? Видел кто-нибудь их лица?
— Это были Лобо и Толо, оба беланда, — откликнулся чей-то голос.
— Значит, они сбежали с нуквера и прежде, чем вход был заперт, прокрались в селение, чтобы убить Абдулмоута. Они должны быть еще в поселке. Спешите к воротам и перекройте их, чтобы убийцы не смогли уйти. И созовите сюда всех собак: пусть они выследят беглецов!
Все послушались его и побежали к выходам из селения. Абдулмоут, разумеется, проснулся и вышел из токула, чтобы узнать о причине всеобщего волнения. Унтер-офицер доложил ему обо всем, что произошло, и Раб Смерти одобрил его приказ.
Таким образом, все население поселка столпилось у выхода, и оба негра беспрепятственно смогли добраться до проделанного ими прохода. Лобо хотел пролезть в него, но хитрый Толо удержал его и сказал:
— Подожди! Слышишь, они свистят и зовут своих псов. Если мы сейчас вылезем отсюда, то наткнемся прямо на них, и они, хотя сами ничего не смогут нам сделать, но наверняка выдадут нас. Надо подождать, пока все собаки не окажутся внутри заграждения.
Лобо понял, что он прав, и остановился. Было слышно, как целая свора собак пробежала мимо отверстия к воротам. Затем раздался приказ Абдулмоута:
— Возьмите их на поводки и отведите к моей хижине, где должны были остаться следы негров!
— Теперь пора! — прошептал Толо. — Вперед, быстрее!
— Собаки найдут дыру, — возразил Лобо, — и приведут к нам преследователей. Вот если бы мы могли скакать верхом, наши ноги не касались бы земли, и собаки потеряли бы след!
— Зачем говорить о том, что невозможно!
— Почему? Снаружи стоят лошади и верблюды.
— Но при них есть сторожа; эти люди слышали шум и будут начеку.
— Мы на них нападем.
— Ничего не выйдет: их слишком много, и к тому же у нас всего один нож. И даже если бы нам удалось одолеть их, на это ушло бы столько времени, что собаки догнали бы нас раньше, чем мы получили бы лошадей. Нет, придется бежать без лошадей.
Негры выбрались наружу и побежали в том направлении, где находились их родные селения. Тьма почти мгновенно поглотила обе фигуры.
Когда Лобо говорил, что дырку в изгороди быстро обнаружат, он был очень далек от истины. Когда собак, которых было более двадцати, привели к токулу Абдулмоута, оказалось, что следы негров полностью затоптаны сбежавшимися на сигнал тревоги людьми. Теперь к этим следам прибавились новые, так что отыскать нужный след стало совершенно невозможно. Собаки просто не понимали, что от них требуется. Напрасно их тыкали носами в землю: животные то беспомощно кружили на месте, то порывались бежать в разные стороны.
— Так не пойдет, — сказал наконец Абдулмоут. — Они не понимают, кого должны искать. Мы должны показать им.
— Но это невозможно, — сказал старый баш-чауш, командовавший сотней, — как вы собираетесь показать им то, чего не видите сами?
— У тебя белая борода, но разум твой пребывает во мраке, — отвечал комендант. — Негры убежали с корабля, и если мы отведем собак туда, они поймут, чего мы от них хотим. Я сам пойду туда и возьму только своего пса — он лучший из всех. Подтащите лодку к воде, только не по той стороне, по которой могли прийти негры, иначе вы затопчете их следы. Ступайте за мной.
Абдулмоут взял своего пса на поводок и зашагал к главному входу, где лежала лодка. Шесть человек подняли ее на плечи и последовали за ним. Он выбрал узкую тропинку, которая петляла по лесу и спускалась; к воде в стороне от того места, где стоял корабль. Когда достигли берега, лодка была спущена на воду, и Абдулмоут сел в нее с собакой и двумя гребцами. Остальные вернулись в поселок.
Как только лодка причалила к нукверу, комендант поднялся на борт и заставил пойти с собой пса; гребцы же должны были оставаться в лодке, чтобы не затоптать следы беглецов.
Хорошо вышколенный пес спокойно стоял возле своего хозяина, который при ярком свете звезд рассматривал палубу. Вокруг никого не было видно, казалось, корабль абсолютно пуст. Абдулмоут позвал часового, но ответа не получил. Тогда он окликнул обоих негров, но столь же безуспешно. Вдруг пес двинул ушами, поднял голову и с тихим свистом втянул воздух через нос.
— Что такое? Ты что-то слышал? Веди меня! — приказал Абдулмоут зверю, ослабляя поводок. Собака привела ею под палубу, туда, где лежал связанный охранник. Комендант наклонился, ощупал его, затем вынул у него изо рта кляп, не снимая, однако, веревок, и спросил прерывающимся от ярости голосом:
— Кто схватил и перенес тебя сюда?
— Негры, — только и смог ответить тот. — Прошу пощады, господин.
— Где они?
— Убежали. Клянусь, я ничего не мог поделать. Они напали на меня сзади, когда я этого не ожидал. Ты ведь простишь мне это?
Он хорошо знал своего начальника, и его голос дрожал от ужаса. Абдулмоут не ответил и больше ни о чем не расспрашивал. Он молча взвалил связанного человека на плечи и понес его наверх, на палубу.
— Именем Аллаха и Пророка заклинаю тебя простить меня! — взмолился охранник, понявший по поведению коменданта, что тот собирается делать.
— Аллах и Пророк пусть будут к тебе милостивы, против этого я ничего не имею, — отвечал Абдулмоут, — но у меня пощады не проси. Мне не нужны люди, которые не слушают моих приказов и небрежно относятся к своей службе. Ты позволил рабам прыгать за борт и в наказание последуешь за ними.
Солдат извивался в руках араба, тщетно пытаясь вырваться, и умолял визгливым от смертельного страха голосом:
— Будь милосерден, господин, ведь и ты однажды будешь просить милости у Аллаха!
— Заткнись, пес, и катись в преисподнюю!
Он бросил человека за борт и, наклонившись вперед, приготовился смотреть, как тот будет тонуть. Охранник скрылся под водой, но через несколько секунд снова вынырнул и, выплевывая попавшую в рот воду, крикнул:
— Аллах пусть проклянет тебя на веки вечные!
— Будь здоров, ты, собака! — издевательски рассмеялся араб. Тут он увидел две борозды, с огромной скоростью приближавшиеся к тому месту, где вода только что вновь сомкнулась над головой несчастного: это мчались на охоту два крокодила, привлеченные звуком упавшего в реку тела. В следующий миг они достигли цели — ужасный крик, и кровожадные хищники скрылись в глубине вместе со своей жертвой.
Увидев все это, еще более страшное чудовище на палубе проворчало:
— Так-то лучше. Тот, кто не следует моим приказам, должен умереть. Ну, а теперь — к делу!
Он отвел собаку к тому месту, где работали оба негра, нагнул ее голову и скомандовал:
— Искать, искать!
Пес обнюхал доски палубы, затем поднял голову, втянул носом воздух и отрывисто залаял.
— Ты взял след? Веди!
Абдулмоут снова подошел к борту корабля, опустился вместе с собакой в лодку и приказал гребцам править на этот раз к той тропинке, по которой, скорее всего, поднялись рабы.
Оба гребца видели все, что произошло с их товарищем, охранником, но не испытывали удивления: подобные наказания провинившихся солдат были в селении обычным делом.
Выбравшись на берег, Абдулмоут взял пса на поводок и подошел с ним к тропинке. Уже через несколько секунд пес залился радостным лаем, означавшим, что он нашел след, и ему не терпится начать охоту.
— Ну вот, начало положено, — сказал араб. — Это превосходный пес, и он не потеряет след. Концом же будет смерть обоих негодяев.
Пес с такой силой рвался вперед, что его хозяину едва удавалось удерживать в руках поводок. Они рысью поднялись на крутой берег, пробежали заросли мимозы и оказались прямо перед проделанной беглецами дырой в заборе. Пес хотел было пролезть в нее, но вдруг остановился, снова повернул назад и с громким лаем бросился по направлению к равнине, куда убежали негры.
Тем временем в селении были зажжены все огни, и при их свете отверстие в заборе стало отчетливо видно.
— Здесь они пробрались в поселок, — сказал Абдулмоут, удерживая собаку, — и здесь же снова вылезли наружу. Пока мы их искали, они получили преимущество во времени, но это им не поможет. Мы догоним их гораздо раньше, чем они рассчитывают.
С трудом сдерживая на поводке пса, который хотел немедленно преследовать беглецов, комендант зашагал к главному входу, возле которого собралось все население поселка. Он сообщил о результатах своего расследования, а затем приказал унтер-офицерам выйти вперед и слушать его приказы. Тогда заговорил уже упоминавшийся выше старый фельдфебель.
— Господин, — сказал он, — твоя воля — наша воля, и мы не должны дерзать что-либо тебе советовать, но я все же хочу высказать свое мнение. Не лучше ли будет, если мы возьмем всех наших лошадей и пустим вперед конный отряд с собаками. Тогда мы быстрее сможем настичь негров, если же мы не поторопимся, то они могут отправиться в Омбулу и сообщить ее жителям о нашем предполагающемся нападении.
— Только из-за твоих седин я прощаю тебе твою дерзкую выходку, — резко ответил Абдулмоут, — но впредь не советую тебе обращаться ко мне, пока тебя не спросят, Я решил использовать лошадей задолго до того, как эта мысль пришла тебе в голову. Но если ты думаешь, что я прикажу всадникам вернуться сюда, после того, как они поймают негров, то ты очень ошибаешься. Лошади будут страшно измотаны, а нам предстоит тотчас же отправиться на них в набег. Впрочем, я и это предусмотрел. Гасуа решена, начнется ли она завтра утром или прямо сейчас — не имеет значения. Кроме того, я хочу лично присутствовать при поимке негров, но мне также необходимо руководить отправлением каравана. Итак, собирайтесь! Через час каждый должен быть готов к выступлению. Ты же, — снова обратился он к фельдфебелю, — в наказание за твою самоуверенность не будешь принимать участие в набеге, а останешься здесь командовать теми пятьюдесятью людьми, которых я оставляю для охраны поселка.
Для ловца рабов, а тем более фельдфебеля, не могло быть более неприятного и обидного наказания. Конечно, какая-то часть населения всегда остается в селении во время набега. Эту обязанность солдаты выполняют крайне неохотно, так как, хотя они и получают полагающееся им вознаграждение, но лишаются возможности награбить себе разного добра при нападении на деревню. Поэтому дежурство обычно назначается по жребию, который тянут не только солдаты, но и младшие командиры. То, что он должен вне очереди оставаться в поселке, казалось фельдфебелю несправедливым, тем более, что в его намерения вовсе не входило отдавать Абдулмоуту какие бы то ни было распоряжения. Он считал, что его почтенный возраст дает ему право высказать свое мнение, которое к тому же совпадало с мнением начальника. Поэтому он возразил как можно более спокойным и почтительным тоном:
— Аллах свидетель, господин, что я не хотел тебя оскорбить. Я ни в чем не виноват перед тобой и не заслужил такого наказания. Ты не должен заставлять мои щеки покрываться краской стыда оттого, что ты унижаешь меня перед моей сотней!
— Молчать! — загремел Абдулмоут. — Ты что, не знаешь законов, по которым живут все поселения? Я могу убить всякого, кто посмеет мне возражать!
— Этого ты не сделаешь, потому что хорошо знаешь, что нет среди твоих людей более храброго и опытного, чем я. С моей смертью ты лишился бы самого нужно человека в поселке, а это было бы позором для всех. Кроме того, неизвестно еще, как бы это понравилось Абуль-моуту, хозяину и главному коменданту поселка.
Абдулмоут внутренне признал справедливость этих слов, произнесенных с чувством собственного достоинства, однако не показал даже виду.
— Мне нет необходимости тебя убивать, — ответил он, — я накажу тебя таким образом, чтобы ты мог продолжать свою службу. Итак, с этой минуты ты больше не баш-чауш, а обычный солдат и остаешься в поселке под арестом. А теперь пусть жребий решит, кто из унтер-офицеров останется здесь за старшего на время нашего отсутствия.
Услышав об этом решении, старый фельдфебель больше не смог держать себя в руках.
— Что?! — гневно вскричал он. — Я должен стать рядовым солдатом, да еще быть арестованным? Этого Аллах не допустит! Здесь есть люди, которые верны мне и не покинут меня!
Он гордо и одновременно испытующе оглянулся вокруг. Тихий ропот подтвердил правоту его последних слов. Тогда Абдулмоут выхватил оба своих пистолета, взвел курки и пригрозил:
— Пулю в лоб тому, кто посмеет мне противиться! Подумайте, ведь если я разжалую фельдфебеля, то следующие за ним чины продвинутся по службе. Разве вам это не выгодно? Или вы хотите, чтобы я и вас заковал в цепи, как бунтовщиков? Если нет, то заберите у него саблю и пистолеты и свяжите его!
— Что?! — воскликнул старый вояка. — Меня обезоружить и связать? Нет, лучше смерть! Стреляй же, если ты…
Не договорив, он выхватил саблю и угрожающе взмахнул ею, но внезапно ему как будто пришла в голову новая мысль. Он опустил клинок и медленно провел свободной левой рукой по своему бородатому лицу, может быть, для того, чтобы скрыть промелькнувшее на нем выражение, а потом продолжал совсем другим, смиренным и преданным тоном:
— Прости меня, господин! Ты прав, потому что ты начальник, и я обязан повиноваться тебе. Сделай меня рядовым солдатом. Но скоро я отличусь в боях, снова стану начальником. Аллах велик, и только ему одному известно о том, что должно произойти.
Эти последние слова прозвучали достаточно двусмысленно и, пожалуй, содержали скрытую угрозу, которой, однако, не заметил Абдулмоут. Он сам забрал у фельдфебеля оружие и сказал:
— Благодари свой возраст и мое великодушие за то, что я принимаю твои извинения. Ты обнажил против меня саблю, и за это ты заслуживаешь смерти. И все же я тебя прощаю. Я дарю тебе жизнь, но оставляю в силе тот приговор, который я объявил. Отведите его в тюрьму и свяжите покрепче, чтобы он не вздумал бежать!
Этот приказ относился к двум унтер-офицерам, которые тут же повиновались. Они встали по обе стороны старика и повели его в тюрьму, причем он пошел с ними без малейших возражений. Абдулмоут хорошо знал своих людей и действовал наверняка, обещая повышение: надежда на него мигом заставила даже самых преданных фельдфебелю унтер-офицеров отвернуться от него.
После этого все отправились к токулу коменданта и, обратившись предварительно к Пророку и всем святым халифам, стали тянуть жребий, кому оставаться в поселке. Пятьдесят солдат и унтер-офицер, которым он выпал, с бессильной яростью покорились судьбе, а остальные стали снаряжаться в дорогу. Перед тем, как все разошлись по своим хижинам, колдун объявил:
— Всякий правоверный мусульманин должен начинать свои путешествия в священный час аср. Но Аллах разрешил нам на этот раз выступить утром, и значит, не будет грехом против него отправиться через час: ведь полночь позади, и можно считать, что утро уже наступило. Слава Аллаху, благословенно будь его имя!
В походе принимали участие более четырехсот человек, которые должны были разделиться на два отряда. Первому предстояло поспешить на лошадях вперед и поймать обоих беглецов, а затем в условленном месте подождать остальных, следовавших частично на повозках, частично пешком. Первым отрядом командовал сам Абдулмоут, а вторым — тот унтер-офицер, который был назначен на место разжалованного фельдфебеля.
Через час оба отряда выстроились у ворот поселка. Впереди всех стоял знаменосец со священным знаменем в руке. Как ни бесчеловечна цель разбойного набега, все же он никогда не начинается без того, чтобы его участники не попросили Бога о защите и благословении, совсем так же, как в былые времена в церквях некоторых рыбацких поселков молились о «благословенном побережье». Колдун, который, как уже упоминалось, выполнял здесь роль священника и одновременно счетовода, встал перед солдатами рядом со знаменосцем, воздел к небу руки и громким голосом воскликнул:
— Помоги нам, о Господи, одари нас твоею милостью!
Эти слова все присутствующие должны были повторить хором. Затем факир продолжал:
— Благослови нас, о благословенный, о бессмертный!
Этот призыв тоже был подхвачен всеми в один голос. Он был обращен к Пророку, а первый — к Богу. Далее последовали обязательно предшествующие строфам каждой суры слова:
— Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
После этого была прочитана первая сура Корана, а за ней — тридцать шестая сура, названная Мухаммедом Сердцем Корана, и с тех пор ее именует так каждый мусульманин. Эту суру люди читают, находясь перед лицом опасности, ее же словами провожают умирающих в последний путь. Она довольно длинная и заканчивается так:
«Разве не видит человек, что Мы создали его из капли? А вот — враждебен, определенно! И приводит он нам притчи и забыл про свое творение. Он говорит: «Кто оживит части, которые истлели?» Скажи «Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении. Он — тот, который сделал вам из зеленого дерева огонь, и вот — вы от него зажигаете». Разве тот, кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобных им? Да, Он — Творец, мудрый! Его приказ, когда Он желает что-нибудь, — только сказать ему: «Будь!» — и оно бывает. Хвала же тому, в руке которого власть надо всем, и к Нему вы будете возвращены!»[103]
Прошло довольно много времени, прежде чем колдун, а за ним солдаты проговорили эту суру. Когда звучали ее последние слова, небо на востоке посветлело, и показались первые лучи солнца. Теперь снова нельзя было отравляться в путь, пока не будет произнесена приуроченная ко времени восхода солнца утренняя молитва. Наконец, участники похода поднялись с колен и направились к воротам.
Стремясь наверстать потерянное время, всадники Абдулмоута вскочили на лошадей и, как будто подхваченные вихрем, унеслись по направлению к югу. Сам комендант скакал впереди, а рядом бежал его пес, которого он привязал к седлу на длинном поводке.
Второй отряд, возглавляемый знаменосцем с завернутым теперь в чехол знаменем, двигался медленнее.
На прощанье солдаты дали несколько залпов, на которые ответила из своего оружия остававшаяся в поселке команда. При прощальных и приветственных салютах здесь принято расходовать боевые патроны, несмотря на то, что они являются крайне ходовым товаром, который не так просто раздобыть.
Солдаты из дежурного отряда смотрели вслед уходящим, пока те не скрылись из виду. Настроение у всех было самое что ни на есть скверное: ведь никто не знал, сколько времени теперь придется ждать до следующей гасуа. Кроме того, они даже не могли утешать себя мыслью, что, оставаясь в селении, избавляются от трудностей и лишений, предстоявших их товарищам в пути: и того, и другого дома имелось более чем достаточно. Работу, с которой в обычное время едва управлялись пятьсот человек, теперь предстояло выполнять пятидесяти солдатам. Вдобавок в любую минуту можно было ожидать опасности, так как поселки, гарнизон которых находится в походе, то и дело подвергаются нападениям соседских племен.
Наконец солдаты неохотно разбрелись в разные стороны и занялись своими делами, то и дело разражаясь проклятиями по поводу несправедливо выпавшего на их долю жребия и слишком большой строгости коменданта. Как уже говорилось ранее, Абдулмоут был только заместителем главного начальника, Абуль-моута, и во время отлучек последнего он, упиваясь своей властью и всеми силами стремясь продемонстрировать ее подчиненным, превращал их жизнь в настоящий ад. Поэтому его не только боялись, но и ненавидели все без исключения обитатели селения. Гораздо больше солдаты любили фельдфебеля, которого постигло сейчас столь суровое и незаслуженное наказание. Старый вояка слишком хорошо еще помнил то время, когда он занимал самую низшую ступеньку в несложной иерархии поселка, и гораздо лучше, чем Абдулмоут, умел обращаться со своими подчиненными. Он был с ними строг, но не жесток держался со спокойным достоинством, в котором не было ни тени высокомерия. Поэтому многие любили его и даже едва не взбунтовались против Абдулмоута, когда тот отдал приказ заключить старого вояку в тюрьму.
Оставшийся за начальника унтер-офицер замечал настроение своих людей и слышал весьма нелестные эпитеты, которыми те награждали Абдулмоута, однако не делал попыток их унять, поскольку и сам был чрезвычайно оскорблен. Несмотря на то, что со стороны фельдфебеля он всегда видел только хорошее отношение и сам чувствовал к нему расположение, он промолчал, когда того арестовывали, так как надеялся занять его место. Неудивительно, что, после того, как его ожидания не оправдались, он рассердился на коменданта не меньше, чем все остальные, и ярость его только усугублялась оттого, что он не мог себе позволить обнаружить ее перед солдатами. Теперь в нем снова проснулось сочувствие к фельдфебелю, и он решил на зло Абдулмоуту обращаться с заключенным как можно мягче и всячески стараться облегчить его положение. Приняв это решение, он несколько успокоился и немедленно начал осуществлять свой замысел. Первым делом он распорядился, чтобы солдаты испекли лепешки и, наловив в реке рыбы, зажарили ее на обед. Когда еда была приготовлена и каждый получил свою порцию, унтер-офицер взял столько лепешек и рыбы, сколько мог унести, и отправился к служившему тюрьмой токулу.
Само собой разумеется, что о тюрьме с толстыми каменными стенами, преграждающими преступникам путь к бегству, здесь не могло быть и речи. Сооружение, к которому подошел сейчас унтер-офицер, даже нельзя было назвать токулом в полном смысле этого слова: это была обыкновенная яма в два человеческих роста глубиной, на дне которой стояли заключенные. Яму прикрывал тростниковый навес, защищавший преступников и их стражей от палящего солнца. В довершение всего яму никогда не чистили, так что пребывание в ней было мучительным даже для самого грубого и неприхотливого из здешних солдат.
В настоящее время в «тюрьме» находился один фельдфебель. Увидев приближавшегося белюка, стоявший на страже часовой деликатно отошел в сторону.
— Я тут принес тебе немного еды, — крикнул унтер-офицер, заглядывая в яму, — лепешки и жареную рыбу; такие лакомства, наверное, и не снились ни одному арестованному. Попозже я велю приготовить маризу, и его ты тоже получишь целый горшок.
— Аллах вознаградит тебя за твою доброту, — ответил фельдфебель, стоявший по колено в полусгнивших нечистотах, — но у меня что-то в этом вонючем месте пропал аппетит.
— Тогда сохрани пока эту еду, а потом съешь, когда проголодаешься!
— Что ты, разве здесь место хранить еду? Мне совсем некуда ее деть.
— Ты прав — для этой цели яма и вправду не очень подходит. Если хочешь, я заверну тебе еду в покрывало.
— Спасибо Аллах дал тебе доброе и благородное сердце. Ведь я никогда не обращался с тобой сурово?
— Нет, ты относился ко мне справедливо.
— И ты не можешь упрекнуть меня в том, что я когда-нибудь оскорбил тебя или обделил добычей?
— И этого не было, — подтвердил унтер-офицер, не понимая, куда клонит его собеседник.
— Тогда, может быть, ты согласишься оказать мне услугу и тем заслужить благосклонность Пророка?
— Что я должен сделать? — насторожился белюк.
— Разреши мне подняться наверх и пообедать вместе с тобой. А потом снова посадишь меня в яму.
— Не обижайся, но этого я не могу сделать.
— Кто тебе это может запретить? Ты же сейчас хозяин поселка. Разве ты не волен делать все, что тебе вздумается?
Самолюбие белюка было задето, и он гордо ответил:
— Я — комендант. Все, что я пожелаю, будет исполнено.
— Значит, ты просто не хочешь облегчить мои страдания. Не думал, что ты откажешь мне в такой малости!
— Но это слишком опасно: ведь тебе ничего не будет стоить сбежать из тюрьмы.
— Убежать? К сожалению, это совершенно невозможно. У меня нет оружия, так что не успею я сделать и шагу, как получу от тебя пулю в спину. И даже если ты не станешь стрелять, то твоих пятидесяти молодцов вполне хватит, чтобы поймать меня и прикончить.
— Что правда, то правда, — задумчиво протянул белюк.
— Зато, если ты все же выполнишь мою просьбу, я сумею как следует тебя отблагодарить. Я ведь не собираюсь торчать тут вечно. Абуль-моут умеет ценить мою службу, и как только вернется, он тут же снова сделает меня баш-чаушем.
— Честно говоря, я тоже так думаю, — признался унтер-офицер.
— Так что же, ты согласен ненадолго выпустить меня из этой дыры?
— Хорошо, я сделаю это. Но я прикажу охраннику держать ружье наготове и стрелять, как только ты отойдешь от края ямы больше, чем на два шага. Не обижайся, ведь я выполняю свой долг!
— Я вполне понимаю тебя. Это действительно твой долг, и ты очень хорошо делаешь, что не забываешь о нем!
Когда белюк повернулся к часовому, чтобы отдать ему упомянутое распоряжение, баш-чауш погладил свою бороду и удовлетворенно про себя пробормотал:
— Ну что же, начало положено. Будем надеяться, что он и дальше пойдет у меня на поводу. Я никогда не вернусь в эту яму, и Абуль-моут, разрази его Аллах, не посмеет больше разжаловать ни одного чауша.
Белюк вместе с часовым приблизились к краю ямы и бросили старику веревку, по которой тот взобрался наверх. Оказавшись на свободе, он сел на землю и немедленно принялся за еду. Охранник снова отошел на почтительное расстояние и остановился, не спуская глаз с фельдфебеля, готовый стрелять в него при попытке к бегству. Унтер-офицер уселся рядом со своим пленником и, с удовольствием глядя, как тот уплетает рыбу, сказал:
— Пока я здесь командую, ты будешь есть так же сытно и вкусно, как сейчас. Надеюсь, что ты не забудешь моей доброты!
— Можешь не сомневаться. Я смогу воздать тебе по заслугам, потому что скоро я сам буду хозяином большого селения и совершу много прибыльных походов за рабами.
— Ты? — изумился белюк.
— Да, я, — с достоинством подтвердил фельдфебель.
— Но где ты возьмешь для этого деньги?
— Деньги? А разве для этого нужны деньги?
— Много, очень много денег, целое состояние, такое же, как у Абуль-моута.
— Гм. И ты думаешь, он всегда владел этим состоянием?
— Этого я не знаю.
— Зато я знаю. Я служу ему намного дольше, чем ты, и мне прекрасно известно его прошлое.
— Значит, ты единственный, кто хранит эту тайну. Никто в поселке понятия не имеет, откуда он родом и чем занимался прежде.
— Он хомр и раньше был очень беден. Он служил рядовым солдатом у одного работорговца и, так же, как я, дослужился до баш-чауша.
Разумеется, все, что говорил старый вояка, было чистейшей выдумкой, но он надеялся, что простоватый белюк поверит ей. Так и вышло.
— Он был беден? — переспросил тот. — И тоже сначала был белюком и чаушем, как ты?
— Ну да, что же в этом особенного?
— Но как же он получил это огромное селение?
— Весьма простым способом. Однажды его хозяин жестоко оскорбил его, и Абуль-моут поклялся отомстить. Удобный случай вскоре представился: хозяин отправился в набег и поручил Абуль-моуту охранять селение.
— Надо же! Совсем такая же история, как сейчас произошла со мной!
— Совершенно верно. Но у тебя не хватит ума, чтобы воспользоваться своим положением так, как это сумели сделать Абуль-моут со своим белюком.
— При нем был белюк?
— Да, и ты его прекрасно знаешь.
— Я? Откуда же мне знать?
— Ах, да, я совсем забыл, что тебе неизвестна эта история. Этот белюк до сих пор служит под его началом, только теперь он занимает второй по значению пост в нашем селении.
— Ты хочешь сказать, что это Абдулмоут?
— Да. Эти двое сыграли тогда со своим начальником веселую, но злую шутку, которая сделала их богатыми.
— Что же это была за шутка?
— Да так, ничего особенного. Такая мысль может прийти в голову любому унтер-офицеру, которого не берут с собой в поход и заставляют отказаться от добычи. Они подождали, пока хозяин и его люди отойдут подальше, а потом подожгли селение и, прихватив с собой скот и столько вещей, сколько смогли унести, отправились на юг. Там, а вернее здесь, на этом самом месте, они основали новый поселок и начали собственное дело.
— О, Аллах! Мне кажется, я схожу с ума! — вскричал белюк, вытаращив глаза до такой степени, что они стали почти одинаковой величины с его раскрытым от удивления ртом.
— Это очень прискорбно, — заметил фельдфебель, — потому что если ты лишишься своего, ты никогда не разбогатеешь.
— Чтобы я стал богатым! Кому это может прийти в голову?
— Разве ты никогда не мечтал об этом?
— Конечно, нет. Зачем мечтать о несбыточном?
— Аллах всемогущ, для него нет ничего невозможного, и тот, кого он захочет осчастливить своей благосклонностью, должен только руки протянуть. Впрочем, у тебя их, кажется, нет.
— У меня нет рук? Как же, вот они, и даже целых две!
— Но ты ими не пользуешься.
— По-твоему, мне нужно что-то схватить?
— Именно.
— Когда? Сейчас?
— Ну, конечно, сейчас. Вряд ли тебе еще раз представится возможность быстро разбогатеть.
В ответ на эти слова не отличавшийся особой сообразительностью белюк только еще шире распахнул глаза и на некоторое время замолчал, словно онемев.
— Аллах акбар! — выдохнул он наконец. — Ты хочешь сказать, что я должен поступить, как двое наших начальников?
— Да, но не один, а вместе со мной.
— Но это же немыслимо!
— Я бы на твоем месте подумал и постарался понять. Взвесь все хорошенько, но только смотри не упусти момент: ведь Абдулмоут может вернуться в любую минуту. Тогда будет поздно, и счастливый случай больше никогда не повторится.
— Ты что, в самом деле говоришь серьезно?
— Перед лицом Аллах и Пророка клянусь тебе, что не шучу.
— И ты действительно думаешь, что такая затея может удастся?
— Да, потому что она удалась Абуль-моуту и его белюку. Вспомни о том, сколько всякого добра здесь находится, вспомни о ружьях и боеприпасах, о платье и утвари, о торговых товарах и разной снеди; разве мы с тобой можем купить что-нибудь из этого на наше нищенское жалованье! Подумай также о быках и коровах, которые пасутся там, снаружи, и представь себе, сколько все это стоит. Ты знаешь, сколько слоновой кости мы можем получить у негров в обмен на одну-единственную корову?
— О да, это я знаю. В Хартуме мы выменяли бы на эту кость тридцать или даже больше коров.
— Совершенно верно. А у нас здесь стадо в триста с лишним голов. Если бы мы поступили так же, как Абуль-моут с Абдулмоутом, мы бы в мгновение ока стали богатейшими людьми!
— Что правда, то правда, — взволнованно проговорил белюк, — но ведь это был бы страшный грех!
— Вовсе нет, это было бы только справедливое наказание обоим: вспомни, как они нажили все это богатство, и как Абдулмоут поступил с нами. Решайся же и начинай действовать! В подобных случаях нельзя терять времени!
Белюк изо всех сил стиснул руками голову, потом дернул себя за нос, ударил себя в грудь, чтобы убедиться, что все происходящее с ним — действительно явь, а затем возопил:
— О, Аллах, смилуйся и одари меня просветлением! Мне кажется, что я сплю!
— Так проснись же, проснись, пока еще не поздно! — увещевал его фельдфебель, буквально горя от нетерпения.
— Не торопи меня! — взмолился белюк. — Моя душа пришла в смятение от твоих чудовищных речей. Я должен ее немного успокоить.
— Как же ты собираешься это сделать?
— Я хочу достать табаку и выкурить трубку.
— Это неплохая мысль. У меня тоже есть чубук — вот он, висит на шее, но табак как раз кончился.
— Я принесу и для тебя.
Белюк встал и поспешил прочь, но, отойдя уже довольно далеко, вдруг вспомнил о своем служебном долге. Тогда он остановился, обернулся и крикнул пленнику:
— Но ты ведь не убежишь? Ты мне обещал?
— Я не сдвинусь с места, — заверил фельдфебель.
— Помни, что иначе тебя настигнет пуля охранника!
— Не беспокойся, я умею держать свое слово! Но не говори никому о том, что ты от меня услышал!
— Не буду; да мне бы все равно никто не поверил.
С этими словами белюк двинулся дальше. Фельдфебель продолжал сидеть в прежней позе. Он уже расправился с лепешкой и рыбой и теперь вполголоса о чем-то говорил сам с собой, обеими руками поглаживая седую бороду.
Вскоре белюк вернулся, бережно неся на вытянутой руке свой тощий кисет. Табак является в поселке дорогим товаром и очень ценится его обитателями. Несмотря на это, набив свою трубку, белюк радушно протянул кисет фельдфебелю. Тот пропустил сквозь пальцы горсть размолотого в муку и смешанного с листьями ароматных растений табака и, доставая свою трубку, спросил с лукавым видом:
— Кому принадлежит этот табак?
— Разумеется, мне, — удивленно ответил белюк.
— Где ты его взял?
— Купил здесь, в поселке.
— Да, видно, ты был прав, когда говорил, что твой рассудок помутился.
— Почему? — спросил белюк, железным бруском высекая огонь.
— У тебя что же, нет табака получше?
— Откуда же ему быть!
— О, Аллах! Разве Абдулмоут не передал тебе в подчинение все селение?
— Ну да, передал, и что же из этого?
— Включая и токулы со всеми запасами?
— Да. Я должен их как следует охранять, хотя они и так крепко заперты.
Как уже упоминалось выше, жилые токулы в поселке не только никогда не запираются, но даже не имеют дверей в полном смысле этого слова. Единственное исключение составляют хижины, где хранятся продукты и разные припасы: они снабжены деревянными дверьми с висячими замками.
— Но у тебя ведь есть ключи? — продолжал свои расспросы фельдфебель.
— Да, перед тем, как отправиться в поход, Абдулмоут вручил их мне.
— Так что же мешает тебе войти внутрь и отсыпать себе из больших бочек дорогого табаку, который курят только Абуль-моут и Абдулмоут, вместо того, чтобы довольствоваться этой отвратительной трухой?
Белюк снова открыл рот и уставился на собеседника, а затем нерешительно произнес:
— Ты думаешь…
— Да, именно это я и думаю! — прервал его фельдфебель.
— Аллахи, валлахи, таллахи! И как я раньше не догадался! Было бы действительно очень хорошо, если бы я мог наполнить мой кисет самым лучшим табаком и притом бесплатно!
— Да разве речь идет только о табаке? Пойми же наконец, ты можешь взять все, что хранится в здешних складах, и это не будет стоить тебе ни единого талера! Ты сотрешь с лица земли поселок Умм-эт-Тимса и заложишь новый.
— Где?
— К югу отсюда, где имеются в достатке дорогие товары и дешевые рабы.
— То есть рядом с ниам-ниам?
— Да. В той местности мы можем обделывать выгодные дела.
Белюк беспокойно ерзал на месте и поминутно крутил головой, стараясь осознать все, что ему говорили. От речей фельдфебеля ему делалось жутко и одновременно он чувствовал, как в его душе разливается невыразимое блаженство. Конечно, нарисованная фельдфебелем перспектива была очень заманчивой, но… Наконец, после долго раздумья он простодушно сказал:
— Пожалуй, если бы я последовал твоему совету, я и вправду мог бы основать поселок, но мне кажется, я недостаточно умен для этого.
— Но для этого у тебя есть я! — возразил фельдфебель. — Я ведь тоже собираюсь участвовать в твоем предприятии!
— Ах, да! Об этом я как-то не подумал!
— Впрочем, таким делаем не нужно долго учиться, они обычно получаются как-то сами собой.
— Правда? — удивился белюк.
— Можешь не сомневаться! К тому же, на тебе и сейчас довольно высокая ответственность: под твоим началом состоит целое селение.
Эти слова возымели неожиданно сильное действие: белюк ударил себя кулаком в грудь и вскричал:
— Да, я комендант поселка! Клянусь Аллахом, это я! И я велю выпороть всякого, кто осмелится это отрицать!
— Я думаю, если Абдулмоут сделал тебя комендантом, значит, он уверен, что ты самый подходящий для этой должности человек. Может быть, он знает тебя даже лучше, чем ты сам!
— Да, да, он знает меня очень-очень хорошо, он знает, на что я способен! Он знает, что я подходящий человек для того, чтобы быть комендантом. Так ты думаешь, что…
— Да, я убежден, что мы оба в самое короткое время станем самыми богатыми и знаменитыми во всей стране ловцами рабов.
— Знаменитым я бы хотел стать, — кивнул белюк, с видимым удовольствием прислушиваясь к словам старика.
— Тогда слушайся меня! Я показал тебе путь к богатству и славе. И если ты еще не до конца понял, какие выгоды тебе сулит мое предложение, то я готов объяснить тебе это. Идем со мной!
— Куда ты? — ошарашенно спросил белюк, увидев, что фельдфебель с достоинством поднимается со своего места.
— Туда, где лежат все припасы и разные товары. Я хочу показать их тебе и вместе с тобой подсчитать их стоимость.
— Хорошо, пойдем! — с готовностью согласился унтер-офицер. — Мне не терпится узнать, насколько богатыми мы станем. Вот здесь, в сумке, у меня есть ключ.
Он схватил фельдфебеля за руку и потянул его за собой. Часовой, естественно, и не подумал стрелять в беглеца, видя, что комендант сам уводит своего пленника.
По дороге навстречу обоим попались несколько солдат из числа тех, кто был занят работой внутри селения. Они с немалым изумлением провожали взглядом фельдфебеля, который, как они знали, должен был находиться в тюрьме, но ни один из них ничего не сказал. В сущности, им было только на руку, что временный начальник оказался не таким суровым, как те, кого он замещал. Однако сам белюк, уже отперев дверь первого токула с запасами, внезапно вспомнил о своих обязанностях и рассердился.
— О, Аллах! — гневно воскликнул он. — Я прикажу выпороть этого пса!
— Кого это? — поинтересовался фельдфебель.
— Тюремного стражника.
— За что?
— За то, что он ослушался моего приказа и не застрелил тебя, когда ты отошел от ямы.
— Но ты же сам увел меня прочь, и он видел это. Конечно же, он подумал, что ты разрешил мне покинуть тюрьму и что, если он теперь выстрелит, это как раз и будет означать неповиновение и даже бунт против коменданта.
— Ты прав. Как комендант, я никому не советую бунтовать против меня! Клянусь шайтаном, я запорол бы мерзавца до смерти, если бы он посмел выстрелить в тебя! Ну, а теперь давай войдем внутрь склада, и ты покажешь мне все эти вещи, чьи цены ты знаешь лучше меня.
Они довольно долго пробыли в первом токуле, наполненном товарами, затем обошли также и другие. Выходя из каждого следующего магазина, белюк улыбался все шире, а глаза его светились все большим блаженством. Заперев последнюю дверь, он положил Руку фельдфебелю на плечо и сказал:
— Поклянись мне твоей бородой, что ты совершенно уверен в успехе своего плана!
Фельдфебель понял, что вид богатых товаров окончательно разрешил колебания белюка.
— Клянусь! — торжественно ответил он, подняв руку.
— И ты действительно советуешь мне забрать все эти сокровища?
— Да, я советую тебе это, и скоро, когда ты станешь владельцем миллиона талеров, ты не будешь знать, как отблагодарить меня за мой совет.
— Но ведь мы одни не сумеем все это сделать?
— Мы вдвоем? Конечно, нет. Для этого у нас есть наши солдаты.
— Ты думаешь, они согласятся?
— Об этом можешь не беспокоиться. Я сам с ними поговорю.
— Но даже если они пойдут за нами, они наверняка захотят разделить с нами поровну добычу.
— Это им не удастся. Если мы поделим весь товар, у нас не хватит средств, чтобы основать поселок. Я пообещаю каждому солдату вдвое большее жалованье, чем они получали здесь, и, кроме того, отдам им всю добычу, которую принесет Абдулмоут. В этом случае нам двоим достанутся все запасы, что находятся в Умм-эт-Тимсе.
— Ты сказал, что отдашь всю добычу, которую принесет Абдулмоут? Но как ты можешь обещать то, чего у тебя нет?
— Она будет у меня, как только я отниму ее у Абдулмоута.
— Боже милостивый! Не допусти, чтобы этот человек помешался!
— Я и не думая сходить с ума. Ты еще не знаешь до конца моих намерений. Я собираюсь выступить навстречу Абдулмоуту и напасть на него, когда он будет возвращаться.
— Напасть на собственного начальника?
— Помолчи! Он отнял у меня мой чин и велел посадить меня в тюрьму, и он поплатится за это!
— Но с ним пятьсот солдат!
— Им я тоже пообещаю двойное жалованье и разрешу поделить с нашими людьми захваченную в Омбуле богатую добычу. Они наверняка останутся довольны и перейдут ко мне. А те, кто этого не сделает, пусть отправляются на все четыре стороны, если им дорога жизнь!
— Ты и вправду повредился в уме! А вдруг они не захотят предать Абдулмоута? Тогда мы пропали: ведь они в десять раз превосходят наш отряд числом.
— Это им не поможет. Я знаю способ, как заполучить их без всякой опасности для нас. Сейчас главное — не мешкать. Абуль-моут собирался завербовать и привести с собой много нуэров. Если мы не успеем убраться отсюда до их прихода, с нашим планом ничего не выйдет!
— А с ним и так ничего не выйдет! — неожиданно заявил белюк.
— Почему? — опешил фельдфебель.
— Потому что он слишком опасен. Ты хочешь зайти дальше, чем я думал.
— Так значит, ты идешь на попятный?
— Да. Я очень хотел бы стать богатым, но жить мне еще не надоело. Я не буду участвовать.
— И все же мой замысел будет исполнен!
— Кем же?
— Мной!
— Тобой? Но это совершенно невозможно, потому что ты мой пленник!
— Да, это так. Но я поговорю с твоими людьми, и они сразу поверят мне. И тогда уже ты будешь моим пленником, если захочешь помешать нам.
— Аллах, Аллах! — испуганно воскликнул белюк. — Ты же обещал мне не убегать!
— И я сдержу свое слово. У меня нет ни малейшего желания бежать. Я хочу выйти отсюда победителем, владельцем всего имущества, всех стад и всех рабов, которые здесь находятся. Все это мы возьмем с собой.
— Ты очень решительный человек!
— Да, я решительный, и тебе бы тоже не помешало стать таким. У тебя еще есть немного времени на раздумья. Скажи «да», и ты мой компаньон. Если же ты скажешь «нет», то самое большее, на что ты можешь рассчитывать, это пойти с нами в качестве рядового солдата, да и то лишь в знак моего особого расположения. Я не хотел бы поступать с тобой сурово, так что лучше тебе не вынуждать меня к этому. Итак, решайся скорее! Хочешь ли ты стать рядовым или вообще быть изгнанным от нас или ты согласен смело последовать за мной, сделаться моим помощником и разбогатеть?
В течение нескольких минут белюк молча смотрел в землю, а потом ответил:
— Ну хорошо, будь по-твоему. Я вижу, что с тобой я могу много достичь, а у Абуль-моута я навсегда останусь тем, что я есть сейчас: жалким белюком. Мы будем брать рабов, тысячи рабов, и когда мы достаточно разбогатеем, то отправился в Каир, накупим там ковров и станем жить, как правоверные в раю!
— Вот и прекрасно, а теперь дай мне ключи!
— Это обязательно?
— Да, потому что теперь я — хозяин Умм-эт-Тимсы.
От волнения сердце готово было выскочить у белюка из груди. Он передал фельдфебелю ключи от магазинов и поспешил вслед за ним к центру поселка, туда, где висел на столбе огромный барабан. Барабанный бой, который служит для всех жителей сигналом к сбору, слышен даже тем, кто пасет стада далеко за пределами селения.
Фельдфебель ударил в барабан, и через несколько минут все оставшиеся в поселке солдаты были на месте. Они были очень удивлены, когда увидели, что арестованный и разжалованный баш-чауш преспокойно стоит рядом с белюком. Но первоначальное изумление стало уступать место совсем другим чувствам после того, как бывший пленник заговорил.
Он стоял перед ними безоружный, ничего не боясь и не опасаясь, что его храброе предприятие постигнет неудача. Он недаром говорил, что знает своих людей. Как и он сам, они принадлежали к отбросам общества, не ведали ни нормальных человеческих чувств, ни совести, ни религии, так как то, что они считали служением богу, было лишь слепым исполнением обрядов, значение которых они едва ли понимали. Они с малолетства вели полную опасностей и приключений жизнь, легко переносили любые превратности судьбы, не отступали ни перед какой опасностью, рискуя жизнью, ради любой добычи. Одним словом, это были как раз те люди, какие нужны были старому фельдфебелю для выполнения его замысла.
Призвав на помощь все свое красноречие, старый вояка описал им их теперешнюю, унылую и нищую жизнь, затем, насколько считал нужным, посвятил их в свой замысел и посулил выгоды, которые этот план должен был им принести. Как он и предполагал, солдаты с восторгом согласились перейти на его сторону. Ни один из них не отказался, ни один не испытал ни малейших сомнений или угрызений совести. Они только потребовали маризы, чтобы напиться пьяными и таким образом отпраздновать этот счастливый день.
Ничего не ответив на просьбу о маризе, фельдфебель заставил их принять новую присягу. Так как колдуна или другого священнослужителя среди присутствующих не было, он сам направился к токулу Абуль-моута, и принес оттуда специально предназначенный для таких целей Коран и заставил каждого положить на него правую руку, такая клятва для всякого мусульманина священнее, чем клятва перед имамом, которую взяли с солдат их прежние хозяева. Только после того, как люди присягнули ему в верности, фельдфебель отказался выдать им дурманящий напиток. Он убедил их, что они должны немедленно приступить к делу, так как в любую минуту может появиться Абуль-моут вместе со своими нуэрами, и обещал устроить и большой праздник в несколько дней, как только они отойдут на достаточно безопасное расстояние от Умм-эт-Тимсы. Солдатам пришлось признать правоту своего нового командующего и покориться неизбежному. Чтобы наградить их за самоотверженность, фельдфебель разделил между ними огромное количество табака, так что они оказались снабжены им на много недель вперед.
Первым делом фельдфебель распорядился пригнать к ограде селения коров и нагрузить на них все имущество, какое можно было унести. Эту утомительную работу удалось закончить только к полудню. Потом всех рабов и рабынь, которых в поселке оставалось около тридцати, связали одной длинной веревкой, и караван был готов к отправлению.
Перед тем, как тронуться в путь, бунтовщики подожгли токулы и нуквер, который Абуль-моут собирался использовать для водных гасуа, дерево и тростник, высушенные палящим солнцем, занялись в мгновение ока, и уже через несколько минут даже колючая изгородь была охвачена пламенем. Невыносимый жар погнал людей и животных вперед, вскоре они исчезли в том же направлении, куда несколькими часами раньше ускакал вместе со своими всадниками Абдулмоут. Позади них быстро превращалось в груду горячего пепла покинутое всеми селение.
Глава 7
СПАСЕННЫЕ ОТ РАБСТВА
Немного южнее того места, где был расположен поселок Умм-эт-Тимса, там, где река делала крутой изгиб на восток, начиналась бесконечная голая степь, где короткая, высушенная солнцем трава стелилась по земле, как рассыпанное ветром сено. Именно туда вели вытянутые ровной цепочкой следы сбежавших негров и в том направлении неслись снаряженные за ними в погоню всадники, изо всех сил погонявшие своих лошадей. Иногда следы беглецов были не видны на сухой земле, но пес Абдулмоута уверенно держал одно направление и стрелой мчался вперед, до предела натягивая поводок.
Проходил час за часом. Расстояние, отделявшее отряд от дома, становилось все больше, но все еще ничто не давало знать о том, что цель их поисков близка. Рабы должны были бежать с поистине невероятной скоростью, чтобы так далеко оторваться от преследователей.
Конечно, лошади ловцов рабов были далеко не благородной породы. В Судане вообще редко можно встретить чистокровного коня, но даже если судьба и забрасывает сюда одного из этих несчастных, то очень скоро он превращается в самое жалкое создание, какое только можно себе представить. Это происходит вследствие сырого климата, дурного обхождения хозяев и страшных мучений, которые причиняют животным жигалки и мухи.
В сухое время года, когда земля высыхает до такой степени, что лошади не могут найти себе корма, насекомые встречаются только в прилегающих к реке районах. Однако по мере приближения сезона дождей, когда влажность воздуха повышается и начинает появляться растительность, они распространяются по всей стране и в конец концов становятся поистине настоящим бедствием. Целые тучи больно жалящих мух и комаров наполняют воздух, не давая покоя людям и животным. Они облепляют спины коров, лошадей и верблюдов сплошной шевелящейся массой, под которой совсем не видно кожи. И хотя распространенное мнение о том, что даже один-единственный укус какого-нибудь из этих насекомых может оказаться смертельным, ошибочно, их нашествие в период сезона дождей представляет вполне реальную угрозу для жизни животных. Слепни, или москиты, окутывают свою жертву плотным, непрозрачным покрывалом, отчего ее тело вскоре начинает представлять собой сплошную огромную рану. Тщетно пытаясь отогнать от себя паразитов, животное непрерывно лягается, топает ногами и встает на дыбы, в результате чего полностью выбивается из сил и вдобавок теряет аппетит. Этой пытки, продолжающейся в течение долгих дней и даже недель, не может выдержать ни одно, даже самое выносливое, животное: рано или поздно они заболевают и умирают. Их организмы оказываются до такой степени ослабленными, что малейшая царапина на коже животного мгновенно превращается в гноящуюся, кишащую червями язву, которая еще больше ускоряет его гибель. Поэтому суданские племена, разводящие лошадей, коров и верблюдов, с наступлением сезона дождей перебираются на север, чтобы уберечь свой скот.
Учитывая все вышесказанное, можно представить себе, сколь плачевное зрелище представляли собой лошади, на которых ехали люди Абдулмоута. Животные были страшно изнурены прошедшими недавно дождями и последовавшей за ними сушью, и, хотя передвигались только шагом, тем не менее были все в мыле и тяжело дышали. Таким образом, именно благодаря усталости лошадей даже к полудню беглецов все еще не поймали.
Тем временем окружающий пейзаж снова изменился: река повернула обратно на юг, трава под ногами стала менее сухой, а на горизонте появилась черная черта, которая постепенно вырастала и превратилась в лес из акаций. Название этого вида акации в переводе с суданского диалекта означает «свистеть»: у основания своих шипов дерево имеет своеобразные вздутия, из которых местные дети мастерят дудочки.
Не отрывая носа от земли, пес уверенно повернул в лес и запетлял между деревьями, которые смыкались все теснее и теснее, так что лошадям едва удавалось протискиваться между ними. Здесь было сыро, копыта лошадей чавкали по мутным лужам и на влажной земле отчетливо виднелись отпечатки ног беглецов. По этим следам любой американский ковбой или индеец легко установил бы, в какое время пробегали здесь негры, однако у ловцов рабов не хватило сообразительности даже на то, чтобы остановиться и рассмотреть следы повнимательнее.
Между тем «добыча», которую они преследовали с таким упорством, была совсем рядом. Когда Толо и Лобо, едва державшиеся на ногах от усталости, достигли леса, они решили, что спасены, и, собрав последние остатки сил, ринулись вперед, чтобы спрятаться среди деревьев. Однако не успели они пробежать и нескольких шагов, как услышали позади себя шум и, оглянувшись, увидели приближавшийся к ним с севера отряд всадников, которые пришпоривали своих лошадей для последнего, решающего броска. Беглецы знали, что Абдулмоута всегда сопровождал один или несколько отлично вышколенных псов; теперь прятаться в лесу не имело смысла. Не сговариваясь, оба раба повернули к реке, готовые броситься в воду, чтобы не дать преследователям схватить себя. Однако торчащие из тины зубастые пасти крокодилов заставили их передумать и вновь кинуться к лесу.
Первым сдался Толо, более сообразительный, но менее сильный и выносливый, чем Лобо.
— Толо не может больше идти! — простонал он, задыхаясь.
— Лобо поддержит тебя, — ответил его друг и, обхватил Толо одной рукой, с трудом потащил его за собой.
— Спасайся один, — взмолился Толо, понимая, что при таком темпе далеко они не уйдут. — Пусть они найдут Толо, а ты убежишь!
— Нет. Тебе спастись важнее, чем Лобо. Ты умный; ты легче сможешь добраться до Омбулы и предупредить наших.
Они прошли еще немного, пока Толо снова не остановился.
— Видно, Доброму Шейху в небе не угодно, чтобы мы жили, — сказал он. — Он хочет призвать нас к себе. Толо не пойдет дальше, он останется лежать здесь.
— Тогда Лобо понесет тебя.
Лобо взял друга на руки и понес вперед, но, пройдя каких-то двадцать шагов, зашатался и чуть не упал. Тогда он осторожно положил Толо на землю, беспомощно огляделся вокруг и сказал:
— Скоро мы будем мертвы. Ты действительно веришь, что там, в небе, над звездами, живет Добрый Шейх, который нас любит и примет к себе?
— Да, это правда, — ответил Толо, — мы не должны сомневаться.
— И после того, как люди умирают, они все равно продолжают жить у Него.
— У Него и у Его Сына, и они никогда больше не умрут.
— Тогда он лучше, намного лучше, чем Аллах этих арабов, которые ловят нас, как диких зверей, делают нас рабами и убивают.
— Не бойся! Он увидит, когда мы умрем, и спустится, чтобы взять нас с собой наверх.
— Лобо даже хотел бы умереть, ведь у него не больше родных, которых он любит… Если бы не такая ужасная смерть! Здесь крокодилы, там — Абдулмоут. Кто страшнее, они или он?
— И араб, и крокодилы одинаково ужасны, потому что никто из них не верит в Большого Шейха и Его Сына, который умер за всех людей, чтобы их спасти.
— Если бы Лобо мог тебя этим спасти, он тоже согласился бы немедленно умереть!
— Но ты не можешь спасти Толо, мы оба погибли. Толо еще помнит начало молитвы, которую всегда читают, прежде чем умереть. Ты должен повторить ее за Толо, тогда мы оба попадем к Большому Шейху. Скажи: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое».
Он молитвенно сложил руки и взглядом приказал товарищу сделать то же самое. Лобо старательно повторял вслед за Толо слова молитвы, правда с меньшим благоговением, чем он, однако с искренней верой важность и чудодейственную силу совершавшегося обряда. При этом его глаза пытливо шарили вокруг, как будто что-то искали, а затем вдруг вспыхнули непонятным огнем. Не успев закончить молитву, он продолжал скороговоркой:
— Если Сын Большого Шейха умер, чтобы спасти людей, мы тоже должны это сделать?
— Да, если можем.
— А если бы Лобо мог тебя спасти, чтобы ты сделал?
— Толо не позволил бы тебе спасти его, а умер бы лучше сам.
— Но если только один из нас двоих может спастись, а другому придется за него умереть, тогда именно ты должен быть тем, кто останется жить.
— Нет, не Толо, а ты!
— Тогда, может быть, постараемся выжить оба?
— Но как?
— Видишь эти два дерева? Их сучья переплелись между собой, а листва наверху такая густая, что, если мы залезем туда, наверх, нас совсем не будет видно!
Оба стоявших рядом дерева образовывали единую большую крону, способную легко укрыть двух человек.
— У Толо не хватит сил, чтобы вскарабкаться наверх, — безнадежно сказал Толо в ответ на предложение друга.
— Лобо подсадит тебя, и ты ухватишься за нижний сук. Ну, пожалуйста, попробуй хотя бы один раз!
Так и сделали. Толо, не подозревая о том, что его невежественный напарник решился повторить подвиг Христа, благополучно взгромоздился на нижний сук.
— Поднимись выше! — скомандовал Лобо. — Тебя видно снизу. Влезь еще на три или четыре сука и крепко обхвати руками ствол, чтобы не свалиться на землю.
Толо послушно поднялся почти до верхушки дерева, удобно устроился среди ветвей и крикнул:
— Ну, влезай теперь и ты!
Едва он успел произнести эти слова, как невдалеке послышались человеческие голоса и злобный лай жаждущего крови пса.
— Они идут, они здесь. Лезь скорее сюда, ко мне! — в страхе зашептал Толо.
— Слишком поздно, — возразил Лобо. — Они меня заметят. Мне надо искать другое убежище.
— Тогда беги, но только быстрее, быстрее!
Но Лобо остался стоять на месте и сказал подавленным и в то же время твердым голосом:
— Лобо слышал, что такие собаки теряют нюх, как только попробуют крови. Надо, чтобы этот пес получил кровь, тогда он не сможет учуять тебя. А теперь молчи!
Прежде, чем Толо открыл рот, чтобы возразить, храбрый негр отбежал в сторону, отвлекая внимание людей и собаки от того дерева, на котором сидел его друг, и остановился, поджидая преследователей. Крики, вой пса и шумное дыхание лошадей раздавались уже совсем рядом. Всадники ехали, вытянувшись в длинную цепь, впереди всех Абдулмоут с собакой. Как только он показался из-за деревьев, Лобо повернулся и бросился дальше в лес, чтобы араб подумал, что второй раб бежит впереди него, и не вздумал искать его где-нибудь поблизости. Эта уловка сработала.
— Шайтан! — вскричал Абдулмоут. — Вот они! За ними, живо!
Он пришпорил своего «скакуна», но пса пока держал на поводке. Этот последний яростно рвался вперед и издавал прямо-таки дьявольский вой, с которым смешивались крики охваченных охотничьим азартом арабов и испуганные вопли Лобо. Глядя со своего дерева на происходящее внизу, Толо тоже не удержался от крика ужаса, но, к счастью, его слабый голос потонул в общем шуме.
— Спусти же собаку! — крикнул один из всадников. Абдулмоут достал нож и перерезал веревку. Пес с удвоенной скоростью бросился за негром, который услышал крик араба и припустил еще быстрее. До сих пор его главным желанием было увести преследователей как можно дальше от Толо, а затем дать псу себя разорвать, чтобы отнять у него нюх и заставить потерять след. Однако теперь ему в голову пришла новая мысль: а что, если попытаться убить собаку, так же, как сегодня он заколол ту, первую, возле токула Абдулмоута? Если ловцы рабов не взяли с собой других псов, то, может быть, спасение еще возможно.
Приняв это решение, Лобо остановился, достал из набедренной повязки нож и прислонился к одному из деревьев, задыхаясь от бега и волнения. В тот же миг он увидел пса, который с налитыми кровью глазами и свисавшей изо рта пеной огромными скачками приближался к нему.
— Мы его взяли! — торжествующе вскричал Абдулмоут, осаживая свою лошадь и прыгая с седла. Остальные последовали его примеру.
Расстояние между псом и негром все сокращалось, вот осталось всего три прыжка, два, и в тот момент, когда зверь с диким ревом бросился на свою жертву, Лобо молниеносно отскочил в сторону. Не успев остановиться, пес с размаху врезался головой в ствол дерева и, оглушенный, рухнул на землю. Прежде, чем он снова вскочил на лапы, негр подбежал к нему и трижды вонзил ему свой нож прямо в сердце. Зубы умирающего животного сомкнулись на левой руке негра, но тот вырвался, оставив кусок своей кожи в пасти собаки, и побежал прочь. Арабы закричали от ярости и снова кинулись в погоню за ним. На бегу они выхватили пистолеты и начали стрельбу, но, так как у них не было времени прицелиться, ни одна пуля не задела Лобо.
Немного левее леса находилась излучина реки, где продолжалась страшная травля. Силы были слишком неравными; вскоре Лобо почувствовал, что слабеет, и оглянулся. Арабы были совсем рядом, он видел их лица, искаженные дьявольскими улыбками, видел протянутые к нему руки. Нет, все же лучше стать добычей крокодилов, чем попасть в руки этих чудовищ! Лобо подбежал к реке и, издав крик отчаяния, бросился в воду. Тучи брызг взметнулись над его головой.
Несколькими секундами позже арабы тоже остановились у воды.
— Он все-таки ушел от нас! — разочарованно воскликнул один из них.
— Может быть, он от нас и убежит, — ответил Абдулмоут, — но тогда с ним расправятся крокодилы. А теперь будьте внимательны!
От берега к середине реки вела полоса чистой воды всего в восемь-девять локтей шириной. За ней виднелись верхушки длинного камыша, а дальше снова начиналась водная дорожка, упиравшаяся в опутанной тиной островок травы.
Вскоре голова негра показалась на поверхности воды возле стеблей камыша. Беглец затравленно оглянулся на своих преследователей.
— Стреляйте же, стреляйте, — крикнул Абдулмоут. Стоявший рядом с ним солдат приложил ружье к щеке и торопливо спустил курок. К счастью, он не успел как следует прицелиться, и пуля попала в воду недалеко от Лобо, который в это время плыл у края зарослей. Внезапно он остановился, как будто увидел что-то, испугавшее его, а затем издал громкий, пронзительным крик… — и исчез.
— Что он кричал? — спросил один из арабов.
— Он увидел крокодила, — ответил Абдулмоут.
— Но это было похоже на крик радости.
— О нет, — Абдулмоут ухмыльнулся, — здесь, в воде, кажется, нет ничего такого, что могло бы его обрадовать. А вот и крокодил! Посмотрите туда!
Он указал вытянутой рукой на травяной островок, от которого к камышам быстро ширилась полоска чистой воды. Приглядевшись, можно было увидеть, что эта полоска тянется за мордой гигантского крокодила.
— Крокодил! — наперебой закричали ловцы рабов. — Аллах посылает этого пса в преисподнюю! Сейчас он попадет в зубастую пасть.
Крокодил тоже завернул за камыши, и в следующее мгновение послышался новый крик, который уже никто бы не смог принять за крик радости. Так мог кричать только человек, увидевший перед собой смерть.
— Ну, вот и все, — удовлетворенно сказал Абдулмоут, — он его разорвал. Мерзавцу еще повезло, потому что, попадись он мне, я закопал бы его в термитник, чтобы эти твари съели на нем живот, все мясо до самых костей. Но все то, чего он избежал, получит за него Толо, который находится там, в лесу. Эти негодяи убили двух моих лучших собак. За это Толо вытерпит такие мучения, что смерть покажется ему избавлением!
— Ты думаешь, что он прячется все еще в лесу? — спросил один из арабов.
— Да. Я его видел. Он бежал впереди Лобо. Теперь пусть двое из вас выведут из лесу лошадей и подождут нас на опушке. Остальные пойдут со мной.
Ловцы рабов снова направились к лесу, и поиски продолжались. Двоим оставшимся с лошадьми солдатам пришлось ждать больше часа, пока наконец их спутники не показались из-за деревьев. Негра с ними не было.
— Эта черномазая скотина как сквозь землю провалилась! — злобно проговорил Абдулмоут. — Мы не смогли обнаружить ни одного следа!
— Но ты же говорил, что видел его! — напомнил кто-то из его людей.
— Видел, как тебя. Но разве можно отыскать в таком большом пространстве след босой ноги? Этот лес тянется вдоль воды на много часов пути отсюда. Как его тут найдешь!
— Выходит, мы упустили обоих? Одного сожрал крокодил, а другой вообще остался жив и невредим?
— Нет. Ему от нас не уйти. Видите, река отсюда течет прямо на восток, а Омбула, куда он попытается добраться, находится южнее, там, где снова начинается большая голая равнина. Негру придется идти через эту равнину, так что мы можем поскакать вперед и перехватить его там.
— Он наверняка пойдет ночью, чтобы проскользнуть мимо нас незамеченным.
— Мы рассеемся по равнине цепью, и он обязательно наткнется на одного из нас. Итак, вперед!
Они снова оседлали своих лошадей и поскакали на юг. Ошибка Абдулмоута, убежденного, что он видел бегущего впереди Толо, спасла последнему жизнь. Если бы ловцы рабов вернулись назад, туда, где прятался на дереве Толо, то он, охваченный страхом, усталостью и волнением за судьбу Лобо, мог легко выдать свое присутствие. Впрочем, может быть, его уже нет на том суку, где он сидел, крепко уцепившись руками за ствол? И что сталось с его храбрым другом; неужели он и в самом деле нашел страшную смерть в пасти крокодила?
На этот вопрос могли бы ответить люди, которые незадолго до полудня в небольшой плоскодонке переплывали реку возле негритянской деревни Меана. Их было двадцать три — довольно мало для лодки, которая рассчитана на тридцать человек. Двадцать из них составляли негры-гребцы, по десять у каждого борта. Управлял лодкой юноша лет шестнадцати с более светлой кожей, говорившей о том, что в его жилах скорее всего течет арабская кровь. Два пассажира были белыми.
Должно быть, цель, с которой все эти люди предприняли свое путешествие по Нилу, не была мирной: на это указывали ружья, кучей сваленные на носу лодки. Там же, на носу, сидели сейчас оба белых.
На одном из них была накидка с капюшоном и высокие сапоги, точно такие же, как у небезызвестного нам доктора Шварца. Впрочем, сапогами их сходство не ограничивалось: достаточно было взглянуть на высокую плечистую фигуру и черты лица этого человека, чтобы понять, что перед нами не кто иной, как Йозеф Шварц, который, не дождавшись приезда своего брата и Сына Верности, забеспокоился об их судьбе и сам двинулся им навстречу.
— На его спутнике была одежда только серого цвета: матерчатые ботинки, чулки, короткие и очень широкие штаны, жилет, куртка и тюрбан. Серым был болтавшийся у него на шее длинный шарф и кушак, который он обвязал вокруг бедер, а также глаза, цвет лица и густые, длинные волосы, спадавшие из-под тюрбана на спину. И на этом безликом фоне выделялось нечто, что намертво приковывало к себе все взгляды и даже самых воспитанных заставляло забыть о приличиях. Этим «нечто» являлся нос Серого Человека. Он был чудовищно длинен, чудовищно тонок и чудовищно прям, а его острый кончик вполне мог бы быть использован как смертоносное оружие. Он был очень похож на аистиный клюв, но только не красного, а все того же серого цвета, и при взгляде на него становилось понятным странное имя Абу Лаклак, которым назвал его владельца Сын Верности.
Оба пассажира сосредоточенно оглядывали реку, достаточно широкую в этом месте. Серый вел себя при этом очень беспокойно, и когда какая-нибудь птица вспархивала из камышей или перелетала с одного берега на другой, он, как ужаленный, подскакивал на месте. Однако это не мешало ему поддерживать оживленную беседу со своим товарищем. Они говорили по-немецки: Шварц на чистом литературном языке, Серый же — на ярком, сочном и образном диалекте, на котором говорят жители территорий, расположенных где-то между Тюрингенским и Богемским Лесами[104], Инсбруком и вюртембергской границей[105].
— Я с тобой полностью согласен, любезный доктор, — говорил Шварц, — у нас на родине действительно преобладает неверное представление о народах Судана. Чтобы хоть немного узнать их, нужно побывать в этой стране.
— Но они ведь тебе нравятся, а? — спросил Серый.
— Нравятся, и даже очень.
— И когда едят людей?
— Да, если только они не едят меня. У них нет отвращения к такому необычному виду кушанья, это чувство может быть привито им на более поздней ступени развития. А сейчас они преспокойно разделывают после сражению «туши» убитых врагов и считают, что совершенно безразлично, где бедняги будут похоронены: в земле или в их желудках.
— Для меня это не совсем «безразлично»! Нет уж, я лучше буду лежать в земле под какой-нибудь милой часовенкой, чем в желудке такого людоеда!
— Я тоже, милейший доктор. Но ты все же должен делать разницу между…
— Эй, ты! — перебил его Серый, причем его нос, как будто по собственной инициативе, сердито задвигался вверх и вниз. — Если еще раз назовешь меня доктором, ей-ей, получишь такую оплеуху, что у тебя все кости затрещат! Ты тоже доктор, но я-то тебя так не зову! Зачем эти миндальничания между людьми, которые пили на брудершафт, хотя и всего лишь эту чертову маризу, на которую я, понятно, и смотреть бы не стал, кабы имел вместо нее наше доброе пиво! Или, может, ты не знаешь, как меня зовут?
— Конечно, знаю, — улыбнулся Шварц.
— Вот и хорошо! В этом научном мире я уж известен как Игнациус Пфотенхауер. Дома, где я живу, меня прозвали Наци-Птица, потому как я питаю нежную любовь ко всему, что летает, а не ползает. Здесь, в этой стране, меня зовут Абу Лаклак, Отец Аиста, из-за моего носа, который мне так же дорог, как тебе твой. А я зову тебя просто Зепп, от твоего имени Йозеф, и ты, стало быть, тоже докажешь мне свою любовь, а коли будешь называть меня Наци или Нац, это уж покороче, чем Игнациус с четырьмя слогам. Понял?
— Извини, пожалуйста! Надеюсь, что я больше не оговорюсь.
— Надеюсь на это! Я, знаешь, особенный парень, и стало быть… Стой, видишь, летит?
— Кто? Где?
Серый вскочил и взволнованно закричал, указывая рукой вперед:
— Там — здесь — тут он летит! Ты его уж знаешь?
— Да. Это Жемчужная птица[106].
— Верно. Уже, выходит, знаешь, — согласился Серый, усаживаясь на место. — И как туземцы его зовут, тоже знаешь?
— Пока нет.
— Сейчас ты снова убедишься, какие они хорошие и остроумные наблюдатели. Они называют этих птиц по их голосам. Самец кричит так: «Бешеррррету, бешеррррету!» Знаешь, что это значит на здешнем языке?
— Да. «Бешеррррету» значит «ты порвала свое платье».
— Правильно! У самочки оперение темное с белыми пятнами, так что кажется, будто у нее и вправду дырки на платье. И она отвечает ему на это: «Бак-зи-ки, бак-зи-ки!» Ну-ка, что это значит?
— Зашей его, зашей его!
— И это верно. Так их и называют: его — «бешеррррету», а ее — «бак-зи-ки». Тут много поэзии, а? Трудно поверить, что народ, который способен на такое, поедает людей!
— За это их и называют ниам-ниам. Но я, честно говоря, пока не замечал в этих местах никакого людоедства.
— Еще бы! Они уж знают, что нам отвратительно такое угощение, потому и стараются, чтоб мы ничего не заметили. Что и говорить, они прямо из кожи вон лезут, стараются нам угодить. День и ночь охотятся на птиц и приносят их мне. Без них я б и за целый сезон не поймал столько птиц, сколько здесь собрал всего за один месяц.
— Из этого материала получится объемная научная работа, не так ли?
— Да, я уж начал кой-что писать. До сих пор, понимаешь, нет ни одной серьезной работы о здешних птицах. Хочу уж заполнить этот пробел!
— Я уверен, что ты самый подходящий человек для этого. Но откуда, собственно, твое пристрастие к миру пернатых? Была какая-нибудь особенная причина?
— Откуда это могло взяться? Хм! Не знаю! Уж конечно, ангелы не пели над моей колыбелью, что я так заинтересуюсь орнитологией, и если бы пятнадцать лет спустя кто-нибудь сказал мне об этом, я бы здорово удивился! А о своем первом орнитологическом приключении я до сих пор вспоминаю с ужасом!
— Что же это было за приключение?
— Это было… Ну, уж так и быть, тебе я могу рассказать, хотя вообще-то терпеть не могу этой истории. Это было, когда я еще ходил в гимназию, в третий класс. Наш учитель естествознания меня недолюбливал, потому как я по своей глупости вечно задавал ему вопросы, на которые не может ответить ни один нормальный человек.
— Да, дети часто задают такие вопросы, и обычно это является доказательством их живого ума и любознательности.
— Ума и любознательности? Мой учитель называл это в аккурат бестолковостью и пустым любопытством и только о том и думал, как бы дать мне это понять. Как-то были у нас пасхальные экзамены. Я надел новую манишку и повязал новый голубой шелковый галстук, подумав, что в таком-то наряде я уж блестяще отвечу на все вопросы. И все шло довольно сносно до этого чертова естествознания. Всех спрашивали обстоятельно, и вот дошла очередь до меня. Я тогда поднялся, и как думаешь, что спросил у меня профессор?
— Ну, и что же?
— Почему у птиц есть перья?
— Да, этот вопрос он, конечно, задал нарочно, чтобы тебе отомстить. Интересно, что ты ответил?
— Что ответил? Ну, вначале я было подумал, что он… Стой, смотри! Вон он сидит! Видишь его?
Он стремительно вскочил и показал рукой на берег, нос же его наклонился в сторону, как будто и он хотел взглянуть, что же такого интересного углядел его хозяин.
— Кто? Где? — снова завертел головой Шварц.
— Вон, на дереве, на самой верхушке!
— Ах, да, скопа, великолепный экземпляр!
— Местные называют эту птицу Абу Лундж. Она питается почти сплошь рыбой, и знаешь, как местные жители переводят ее крик?
— Нет.
— Сеф[107], хариф[108] джакул хут, хут. Как это будет по-немецки?
— И в сеф, и в хариф я ем рыбу.
— Правильно! Эти негры умеют видеть и чувствовать природу. И вообще они далеко не так глупы, как принято считать. На твоем месте я уж обязательно написал бы книгу в их защиту.
— Что ж, может быть, я так и сделаю, если найду для этого время.
В этот момент внимание обоих было отвлечено рулевым, который отдал гребцам команду сушить весла.
— Ты что, собираешься причалить? — спросил его Шварц, переходя на арабский язык.
— Нет, эфенди, — отвечал тот, — причалить сразу здесь нельзя: сначала надо спрятать лодку в тростнике и разведать, нет ли на берегу врагов.
— И ты хочешь это сделать? А почему мы не едем дальше?
— Потому что мы находимся поблизости от селения Умм-эт-Тимса, где живут люди Абдулмоута. Если они нас увидят, то продадут в рабство.
— Пусть только попробуют!
— Они способны на все и сделают так, как я тебе сказал. Вы оба — храбрые и умные люди, мы тоже умеем обращаться с оружием, но Абдулмоут имеет при себе более пятисот ловцов рабов, и нам их не одолеть. Мы, наверное, убили бы тридцать или сорок человек, а может быть, и еще больше, но остальные все равно схватили бы нас.
Все это рулевой произнес со спокойным достоинством и рассудительностью, странными для юноши его лет.
— Значит, мы можем миновать Умм-эт-Тимсу только ночью? — спросил Шварц.
— Да.
— А может быть, все же рискнем сейчас? Мы поставим парус и постараемся грести как можно быстрее.
— Никогда нельзя сказать, в какую сторону будет дуть ветер через час, — возразил рулевой. — При встречном ветре парус только помешает нам, да и на гребцов не следует особенно полагаться. Возле селения всегда стоит спущенный на воду корабль, я точно знаю это, хотя Абдулмоут и держит это в тайне. Со своего высокого берега он может просматривать реку далеко вверх и вниз, так что он сразу заметит нас; ему останется только вывести корабль на середину, и мы будем у него в руках. Поэтому я все же советую дождаться ночи, только тогда мы сможем миновать это опасное место.
— Но он и ночью вполне может нас заметить.
— Мы прикроем лодку тростником и ветками, и тогда нас можно будет принять за плавучий островок травы. Так ты разрешаешь мне рулить к берегу?
— Да, ты меня убедил.
Гонимая течением, лодка поплыла к левому берегу, миновала описанный выше травяной остров и въехала в заросли высокого камыша. После этого был брошен острый железный якорь, который сразу воткнулся в дно и остановил суденышко. Теперь от левого, ближнего берега путешественников отгораживали высокие стебли камыша. Правый берег был дальше, но, чтобы чей-нибудь зоркий глаз не заметил лодку, негры нарезали камышей и как следует замаскировали ее.
Говорить теперь можно было только вполголоса и при этом изо всех сил напрягать слух, чтобы не пропустить ни малейшего шума на берегу. И вот, не успели ниам-ниам закончить маскировку лодки, как невдалеке послышались неразборчивые звуки, похожие на человеческие голоса. Все затаили дыхание, а юный рулевой поднялся со своего места и прислушался.
— Это два негра. Они разговаривают на берегу, немного ниже нас, — шепотом сообщил он через некоторое время.
— Откуда ты знаешь? — спросил Шварц.
— Я разобрал несколько слов из языка беланда, на котором говорят только черные.
— Ты разобрал, что они сказали?
— Только отдельные слова. «Спасение — умереть — ловцы рабов» — вот все, что я услышал.
— А! Это, должно быть, беглые рабы.
— Если это так, то они, без сомнения, сбежали от Абдулмоута.
— Мы должны их спасти. Возьмем их на нашу лодку!
— Это надо как следует обдумать, эфенди. Лично я готов спасти всякого, кого преследуют враги, но сначала я должен убедиться, что, следуя благородному порыву, не отдаю себя в руки неминуемой смерти. Опасности я не боюсь, но ка безрассудство не пойду, потому что в этом случае вместе со мной погибнет и тот, кого я хочу спасти.
— Ты говоришь, как умудренный опытом муж.
— Можешь смеяться сколько угодно, но признай, что я прав. Но тише, слушай!
Теперь окрестности огласились яростным собачьим лаем и человеческими криками.
— Шайтан! Там бежит один негр, а впереди него другой. За ними, скорее! — воскликнул чей-то голос.
— Отпусти же собаку! — ответил ему другой.
— Так и есть! Это два раба, которых травят собаками, — сказал Шварц, поднимая со дна лодки свое охотничье ружье. Серый последовал его примеру и предложил:
— Перестреляем мерзавцев!
— Тихо, тихо! — остановил их рулевой. — Разве вы не слышите по голосам, что преследователей слишком много? Было бы неумно выдать людям Абдулмоута свое присутствие, да еще не спасти при этом негров. Кроме того, кажется, уже поздно: погоня прошла мимо… Но что это? Слышали крик? Один из них упал в воду. Если он еще жив, его разорвут крокодилы.
Все повскакали с мест и вытянули шеи, стараясь разглядеть, что происходит в воде. Как раз в этот момент, когда Лобо огибал камыши, рулевой раздвинул тростник и обеими руками замахал ему. Увидев человека, стоявшего, как ему показалось, прямо на поверхности воды, негр оторопел; и его удивление, как мы уже знаем, было замечено преследователями. Затем раздался выстрел Абдулмоута.
— Быстрее, быстрее, крокодилы! — крикнул негру рулевой. Лобо немного пришел в себя и с удвоенной силой рванулся вперед. Он уже схватился за край лодки, и несколько рук протянулись, чтобы втащить его внутрь, когда один из гребцов случайно бросил взгляд на воду и воскликнул:
— Крокодил, крокодил, скорее, скорее!
— С какой стороны? — быстро спросил рулевой.
— Слева, — ответил гребец.
— Быстро все на левый борт, иначе он опрокинет лодку!
Лобо буквально рванули вверх, но хищник все же опередил их: голень негра оказалась у него в пасти. Несчастный издал громкий крик боли, который арабы на берегу приняли за его предсмертный крик, выдернул свою ногу из зубастой пасти и, обливаясь кровью, влетел в лодку. Силы его иссякли, он закрыл глаза и потерял сознание.
— Он мертв? — спросил Шварц.
— Нет, — ответил Серый, стоя на коленях рядом с негром и осматривая его раны. — Укус в руку, вырван кусок мяса на ноге и обморок — только всего.
— Тише, — снова вмешался рулевой, — я слышу на берегу голоса.
На этот раз путешественникам удалось разобрать, о чем говорили арабы. Затем послышались удаляющиеся шаги.
— Один, слава Богу, спасен, — сказал Шварц, — но другой наверняка попадет им в руки. Что мы можем для него сделать?
— Нам не нужно ничего делать, — ответил юный рулевой, — они его не поймают.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что я слышал то, что сказали арабы. Они потеряли двух собак. Одну, без сомнения, убил этот негр: видите, он до сих пор крепко сжимает в руке нож, да и рана на его руке говорит о том же самом. Если бы у преследователей были с собой и другие псы, они бы непременно кинулись за ним в воду и не дали уйти. Поэтому я думаю, что там, на берегу, больше нет собак, и тогда им ни за что не найти в этом огромном лесу второго беглеца!
— Кажется, ты прав, — задумчиво произнес Шварц.
— Уверен, что не ошибаюсь. Мы можем совершенно спокойно оставаться в нашем укрытии и ждать, что будет дальше; в зависимости от обстоятельств мы решим, как нам себя вести.
Немцы переглянулись. Этот не по годам рассудительный юноша нравился им все больше, особенно его спокойная и уверенная манера держаться в любых, даже очень сложных ситуациях.
Лобо все еще был без сознания. Серый поднес к его носу флакончик с нюхательной солью, и негр зашевелился.
— Толо… держи дерево… крепче… — еле слышно прошептал он. Даже сейчас, находясь еще в полуобмороке, этот человек был больше всего обеспокоен судьбой своего друга! После того, как Пфотенхауер еще раз поднес ему флакон, Лобо приоткрыл глаза. Его мутный взгляд упал на склоненное над ним красивое и доброжелательное лицо Шварца, и он сказал, улыбаясь:
— Толо… ты жив… а я… у Доброго Шейха над звездами.
— Вы слышите? Он определенно говорит о Боге! Этот парень — христианин! — пораженно воскликнул Шварц.
— Христианин или язычник, он прежде всего человек и нуждается в нашей помощи, — невозмутимо ответил Серый.
Он достал из-под носового сиденья ящик с медикаментами и начал умело обрабатывать раны негра, в чем Шварц помогал ему с таким же мастерством.
В здешнем климате даже самые пустяковые ранения могут оказаться смертельными, если допустить в их лечении хоть малейшую небрежность. Именно поэтому так высока смертность среди населяющих верховья Нила народов, которые ведут постоянные войны со своими соседями.
На побывавшей в зубах у крокодила ноге Лобо болтались лохмотья мяса, которые следовало удалить ножом. От боли, которую причинила пациенту эта операция, он окончательно очнулся.
— Белые люди и санде, — с трудом проговорил он, узнав ниам-ниам по их своеобразным прическам, — это не ловцы рабов.
— Нет, нет, — поспешил успокоить его Шварц, — ты среди друзей!
— Значит… Значит, Лобо не… умер?
— Конечно, нет! Ты жив и находишься в безопасности. Вон там, снаружи, берег, с которого ты прыгнул в воду.
— Это… это лодка. Вы втащили Лобо в лодку. Теперь Лобо вспоминает. Вы — хорошие люди. Но где же Толо?
— С ним тоже будет все в порядке: они его не нашли.
— Тогда нужно скорее бежать к деревьям, на которых он спрятался!
Он хотел вскочить, но боль в руке и ноге, которые еще не были перевязаны, заставила его застонать и снова упасть на дно плоскодонки. Участь Толо занимала все его мысли, но, видя, что ему желают только добра, он решил покориться и во всем положиться на своих спасителей. Пока Шварц и Пфотенхауер заканчивали перевязку, Лобо, мужественно превозмогая боль, рассказывал обо всем, что с ним произошло. В его трогательном рассказе нашлось место и для Доброго Шейха над звездами, и для его Сына, который обрек себя на смерть ради людей, а когда немцы услышали о том, как он решил последовать примеру Христа, чтобы спасти своего друга, они едва не прослезились. Когда Лобо закончил, Шварц спросил:
— Так значит, Абуль-моут находится сейчас не в своем селении, а на пути к нему? Это мне не нравится: я боюсь, как бы мой брат не наткнулся на его людей! А Абдулмоут, ты говоришь, тоже выступил в поход? Выходит, селение стоит практически пустое?
— Там всегда оставляют команду в пятьдесят человек, — заметил Лобо.
— Ну, они-то нам не помеха. Теперь нам не нужно дожидаться вечера, чтобы продолжать наш путь.
— Но Лобо хочет сойти с лодки. Он должен быть рядом с Толо.
— Это неразумно! Ты не можешь сойти. Ты даже на ногах плохо стоишь, как же ты будешь пробираться по лесу. Тебе нужен полный покой, иначе раны воспалятся и станут опасными для жизни. Поэтому ты должен находиться с нами до тех пор, пока ты полностью не вылечишься!
— А как же Толо? Я должен его отыскать.
— Успокойся! Мы о нем позаботимся. Ты говоришь, эти два дерева, где он прячется, стоят там справа, на берегу? Туда преследователи не возвращались. Наши люди сойдут на берег и разыщут его.
— Его обязательно нужно найти! — продолжал горячиться Лобо. — Ведь теперь только он может предупредить людей в Омбуле, потому что Лобо ранен и не может пойти вместо него!
— Я выйду на берег и взгляну, далеко ли ушли ловцы рабов, — объявил рулевой.
— Нет уж, подгоним-ка лодку к берегу, да и высадимся все вместе! — предложил Отец Аиста.
— Это было бы неосмотрительно. Мы можем причалить только тогда, когда убедимся, что берег пуст. Я пойду один.
— Интересно, как же это ты поплывешь по реке, которая вся так и кишит этими зубастыми тварями?
— Я сейчас сделаю себе из тростника плот и переправлюсь на нем. Крокодилы чуют человека, только когда он находится в воде. Если мой плот будет достаточно большим, чтобы я целиком на нем поместился, то ни один из них не обратит на меня внимания.
Он завел лодку немного глубже в заросли камыша и начал срезать стебли для плота. Гребцы помогали ему.
— А вдруг они еще там? — обеспокоенно спросил Шварц. — Тогда ты пропал: они убьют тебя или сделают рабом!
— Ничего у них не выйдет! — ответил храбрый мальчик. — Я буду вести себя так, что они ничего не заметят.
В несколько минут негры ловко сплели нечто вроде большой и достаточно толстой циновки, укрепленной снизу большими пучками камыша так, что она вполне могла бы выдержать даже несколько человек. Юный рулевой взял одно из весел и перешел на этот импровизированный плот. Править вверх, к углу камышовых зарослей, он не решился: именно там Лобо прыгнул в воду, и можно было предполагать, что ловцы рабов все еще наблюдают за этим местом. Стоя на коленях, юноша позволял плоту беспрепятственно скользить вниз по течению, пока не достиг чистого участка реки, где было удобно причалить к берегу.
Шварц и Пфотенхауер с беспокойством провожали юношу глазами до тех пор, пока он не скрылся из виду. И тот, и другой охотно поменялись бы с ним местами, хотя здравый смысл и говорил им, что он гораздо лучше справится со своим поручением.
— К тому же, — уговаривали они себя, — если с ним все же случится несчастье, то есть кому выручить его, а если бы вместо него на разведку отправились мы, то вряд ли могли бы рассчитывать на реальную поддержку от наших африканских спутников.
— Славный юноша! — по-немецки сказал Шварц. — При первом же сигнале тревоги мы поднимем якорь и поспешим ему на помощь!
— Это уж само собой! — отвечал Отец Аиста. — Паренек и мне полюбился уж не меньше, чем тебе! Что-то в нем есть очень привлекательное, какое-то благородство, что ли. Хотел бы я знать, откуда он родом. Голову даю, что не ниам-ниам: у него совсем другие черты лица и цвет кожи.
— Представь себе, я тоже об этом думал. Однажды мне было показалось, что он мулат, в другой раз я чуть не записал его в сомалийцы. Несколько раз я пытался расспросить его о его происхождении, но он всегда отмалчивался.
— Вот-вот, и со мной та же петрушка. И ниам-ниам, у которых он живет как соплеменник, ничего о нем не знают: недаром прозвали его Сын Тайны. Но раз уж они дали ему такое имя, значит, считают арабом.
— Возможно, он мулат, потому что на араба он тоже не похож. Знаешь, мне кажется, что он пережил что-то ужасное. Ты заметил, он никогда не смеется, разве что на его губах промелькнет иногда легкая, добрая улыбка. А видел ли ты когда-нибудь, чтобы он играл и резвился вместе со своими ровесниками ниам-ниам?
— Никогда.
— Я тоже не видел его веселым. Мрачная серьезность, в которой он постоянно пребывает, наводит меня на мысли о том, что его мучают, не дают покоя какие-то трагические воспоминания. По вероисповеданию он, кажется, мусульманин. Ты слышан, как он молится?
— Я его уж видел во время молитвы, но слышать — нет, не пришлось. Он молится не в предписанные часы, а когда думает, что его никто не видит.
— Я два раза случайно подслушал его молитву. Он читал Фатху, и после слов «Господь миров» и «милосердный» прибавил совсем не принадлежащие к этой суре обращения «Господин мести» и «Высший судья». Это говорит о том, что он лелеет мысль о мести.
— Я уж тоже так решил. Он, как останется один, все сжимает свои кулаки, будто задушить кого хочет. Да еще вращает при этом глазами и зубами скрипит, точь-в-точь, как… стой, гляди! Вон полетели! Их тоже знаешь?
Моментально потеряв всякий интерес к тайне юного рулевого, он впился глазами в стаю птиц, перелетавшую в этот момент через реку. Удивительный его нос покачивался при этом от одной щеки к другой, как будто сопровождал пташек в их полете.
— Да, я их знаю, — ответил Шварц, — это щурки. Они необыкновенно красивы! Посмотри, как сверкает на солнце их роскошное оперение, точно рубины и изумруды!
— Уж конечно, я вижу, не у тебя же одного есть глаза, — поворчал Серый, — знаешь и их местное название?
— Да. Их называют джуруллы.
— Почему?
— Как и многих других птиц, из-за их голосов.
— Ты прав, птичий знаток! Улетели. — Пфотенхауер снова уселся и, учтиво подождав, пока его нос вернется в прежнее положение, продолжал:
— В Европе есть только один-единственный вид щурок. Лоб у них сплошь белый, кругом глаз голубая каемка, горлышко желто-голубое, грудь цвета морской волны, а кончики крыльев голубые[109]. Я люблю этот вид щурок, потому что я раз нарисовал эту птицу, а потом у меня на спине тоже кой-чего нарисовали.
— То есть как?
— А вот так. Это все мой учитель естествознания. Я раз одолжил у него книгу, а там была нарисована щурка в разрезе. Ну вот, меня больно раздражало, что она выглядела такой одноцветной и тут я взял ящик с красками и раскрасил картинку, да так пестро, что потратил при этом все мои краски. Ну, учитель, понятно, это быстро обнаружил и пригласил меня в свою комнату и с помощью линейки изобразил на моей спине такую зелено-голубую щурку, что у меня начисто отшибло и зрение, и слух. Этого «полотна» я так и не увидел, потому что оно было на спине, но зато чувствовал его довольно долго. Наш учитель вообще точил на меня зуб, потому что я вечно спрашивал о вещах, которых никто не знает. Ну, за все за это он расплатился со мной на экзамене. Может, я тебе уже рассказывал?
— Нет, — с серьезным видом покачал головой Шварц.
— Ну, я вообще-то не часто вспоминаю об этом, но тебе уж могу рассказать. Это было, когда я сидел в третьем классе. В день экзамена я нацепил чистую манишку и новый, красивый шейный платок и думал, иго уж теперь мне, такому нарядному, ничего не грозит. Но вышло-то по-другому! Вот дошла до меня очередь, и я встал, чтобы почтительно выслушать вопрос, и скажи-ка ты мне на милость, что спросил у меня учитель?
— Ну, и что же?
— Откуда у птиц перья? — спросил этот мерзавец!
— Да, положение у тебя, конечно, было не из приятных, — посочувствовал Шварц, — и как ты из него выкрутился?
— Что я ответил, спрашиваешь ты? Ну, сперва-то я вообще ничего не сказал, а закрыл глаза и стал ждать, вдруг меня что-нибудь осенит, а потом, когда ничего не пришло в голову…
— Сын Тайны! — перебил Серого один из гребцов, указывая на реку немного выше того места, где стояла лодка. Взглянув в этом направлении, все действительно увидели рулевого. Он по суше перетащил свой плот вверх по течению и теперь подплывал к лодке со стороны камышовых зарослей. Забравшись в лодку, он сообщил:
— Лес пустой, я не встретил ни одного врага.
— А Толо? — озабоченно спросил Лобо.
— Его я тоже не видел, но теперь мы, не таясь, можем выбраться на берег и приняться за поиски. Зато ловцов рабов я разыскал: они повернули в степь и сейчас находятся уже довольно далеко от леса.
— В каком направлении они движутся? — спросил Шварц.
— В юго-западном.
— Понятно. Надеюсь, что Толо с ними нет. Во всяком случае, нам следует немедленно сойти на берег и начать поиски.
Якорь был поднят, и лодка причалила к берегу. К сожалению, Лобо не мог показать своим новым друзьям путь, так как раны мешали ему ходить. Поэтому он постарался как можно точнее описать то место, где спрятался Толо, а сам вместе с двумя неграми остался охранять лодку.
Шварц взял с собой подзорную трубу и повел своих спутников к опушке леса, чтобы убедиться в правильности того, что сказал рулевой. После того, как ему удалось разглядеть вдали едва видные силуэты всадников, он отправился разыскивать деревья.
В лесу царила полная тишина, лишь изредка с другого берега раздавалось негромкое курлыканье венценосного журавля. Но когда путешественники достигли места, похожего на то, которое описывал Лобо, им показалось, что они услышали чей-то слабый стон. Он доносился с небольшой полянки, на которой стояли два больших дерева, чьи кроны сплелись так тесно, что сквозь них не было видно ни единого просвета.
— Толо, это ты? — окликнул Шварц.
Ответа не последовало, но стон стал слышнее. Немец повторил вопрос, но с тем же успехом. Тогда он вскарабкался на дерево и увидел над своей головой негра, который, казалось, прирос к толстому стволу.
— Мы за тобой, спускайся! — сказал он.
Несчастный издал громкий вопль ужаса, а потом залепетал:
— Убейте Толо, убейте, но оставьте в живых Лобо. Лобо хороший, он хотел спасти Толо!
— Вы оба в безопасности. Слезай, не бойся, тебя никто не обидит. Мы твои друзья и защитим тебя.
— Это неправда! Ты белый; ты араб, ловец рабов, ты человек Абдулмоута!
— Вовсе нет, наоборот, я его враг. Пойми же, я желаю тебе добра, я хочу тебя спасти! Спускайся вслед за мной!
— Толо не может слезть, Толо совсем ослабел.
— Ничего, мы тебе поможем!
Негр действительно был так измотан несколькими часами бега, долгим сиденьем на дереве и беспокойством за своего друга, что даже не мог отцепиться от ствола. Шварц позвал себе на подмогу двух ниам-ниам, и совместными усилиями трех мужчин наконец удалось спустить на землю обессилевшего раба.
А Толо все еще не понимал, что спасен. Он не слушал никаких уговоров и стонал, не переставая. Он едва мог переставлять ноги, так что его пришлось почти нести к лодке. Оказавшись внутри нее и увидев лежащего на скамейке у руля Лобо, Толо вскрикнул от радости и упал без сознания.
Счастью Лобо не было границ. Правда, обморок друга поначалу сильно его расстроил, но немцы уверили, что Толо скоро очнется. Так и случилось: через несколько минут негр начал подавать признаки жизни, однако сознание вернулось к нему не полностью. Он метался в бреду, стонал и жаловался и непрерывно умолял кого-то смилостивиться над его товарищем Лобо. Пришлось снова открыть аптечку и дать ему успокоительное средство, которое быстро помогло ему заснуть. Больного положили на скамейку у руля вместо Лобо, а тот улегся в середине лодки.
Когда все немного успокоились, собрался совет, чтобы обсудить дальнейшие планы. Лобо настаивал на том, чтобы послали человека в Омбулу и предупредили тамошних жителей о готовящемся на них нападении. Ни он сам, ни Толо идти не могли, никто из ниам-ниам не знал дороги, да и не сумел бы выполнить такое трудное и опасное поручение. Следовательно, это могли сделать или немцы, или Сын Тайны. Последний слушал переговоры, не произнося ни слова; он вообще предпочитал не раскрывать рта без крайней необходимости.
— Как же нам быть? — спросил Шварц по-немецки. — Конечно, если рассуждать здраво, нам не стоит ввязываться в это трудное и рискованное дело, однако человеческий и христианский долг требует нашего вмешательства. Имеем ли мы право обречь на гибель целую деревню, которую в наших силах спасти? Что скажешь, доктор?
Брови Серого мрачно сдвинулись, а кончик носа устремился ввысь, как будто хотел взглянуть на собеседника своими широкими ноздрями, после чего Отец Аиста разразился гневной тирадой:
— Я скажу, что, если ты еще раз обзовешь меня доктором, слышь ты, смельчак, я уж тебе так врежу в твое окно, что все стекла вылетят наружу! Я называю тебя Зепп, и ты должен звать меня Нац, и если ты имеешь что-нибудь против, можешь катиться ко всем чертям! Понял?
— Ох, прости меня ради Бога, это больше не повторится! — засмеялся Шварц.
— Да уж, я бы попросил! Каждому нужно воздавать по заслугам, но между друзьями нет места титулам и званиям. Может, еще скажешь, ты хочешь отменить наш брудершафт?
— Ну что ты, мне это и в голову не может прийти!
— Твое счастье, иначе тебе бы, ей-ей, пришлось несладко, потому как я не перешел бы с тобой опять на «вы», а стал бы уж величать тебя только «он». А насчет этой треклятой Омбулы, я бы посмотрел, есть ли она на моей карте. Я-то пока знаю только, что она где-то в местах проживания негров-беланда.
С этими словами он достал из сумки старую, истрепанную и засаленную карту, разложил ее на коленях и стал сосредоточенно изучать. Нос его, разумеется, не остался в покое и принялся усердно елозить по всей поверхности карты, явно желая провести самостоятельное исследование местности.
— Нет, — сказал Пфотенхауер через некоторое время, снова складывая карту и засовывая ее в сумку. — Беланда живут между народами бонго и ниам-ниам, то бишь к юго-западу отсюда, около гор Памбиза, но деревни Омбула на этой карте нет, так же как и в моей голове.
— Памбиза! — воскликнул Лобо, уловивший в чужой речи знакомое название. — Там Омбула!
— Значит, она в тех местах? — спросил Шварц. — И как далеко отсюда?
— Три дня пути от Умм-эт-Тимсы.
— Следовательно, от нас — около двух с половиной дней пути. Мы не успеем их предупредить. Ловцы рабов едут верхом, и кроме того, у них преимущество во времени. Конечно, они будут в Омбуле намного раньше нашего пешего посланца.
— Нет, — возразил рулевой, впервые за последнее время подавая голос, — мы можем попасть туда раньше арабов.
— Каким образом?
— Если поедем на быстром верблюде.
— Но у нас его нет!
— У племени джуров в это время года всегда есть верблюды. Я знаю одну деревню джуров, которая находится западнее Умм-эт-Тимсы. Там мы можем купить или одолжить одного или нескольких верблюдов.
— Эта деревня расположена далеко от поселка арабов?
— Нет. Считается, что ее жители состоят в союзе с Абуль-моутом — они служат ему, и он платит им за это, — но на самом деле они недолюбливают своего господина и всегда готовы исподтишка ему навредить.
— Может быть, они согласятся послать человека в Омбулу?
— Это невозможно, потому что обитатели страны беланда — их кровные враги. Джуры сделают вид, что готовы выполнить твое поручение, заставят тебя заплатить им и на твоих глазах отправят гонца, но, как только ты удалишься, он вернется обратно. Нет, идти нужно кому-то из нас. Я охотно взял бы это дело на себя, но должен остаться, потому что никто, кроме меня, не знает реки и не умеет управлять лодкой.
— Итак, на второй тур выборов прошли только мы двое, — сказал Шварц Пфотенхауеру, — ты ничего не имеешь против того, чтобы мы приняли участие в этом предприятии?
— Конечно, нет! — с живостью откликнулся тот. — Перво-наперво, наш долг помочь людям, которые попали в беду, ну, а потом, для меня уж будет наслаждением оставить этого чертова Абдулмоута с таким же большим носом, как мой собственный! Так что я сейчас по-быстрому получаю верблюда и скачу в Омбулу.
— Ну уж нет, этого я допустить не могу. Дело чрезвычайно опасно, а мы с тобой в равном положении. Поэтому я предлагаю бросить жребий.
— Это пожалуйста! По мне, так опасностей и здесь хоть отбавляй. Поеду ли я на лодке навстречу твоему брату или поскачу в Омбулу, это без разницы, потому что и здесь, и там можно в два счета проститься с жизнью.
— Стало быть, решено. Тогда давай возьмем две камышинки, короткую и длинную, а затем…
— Нет, — перебил его Пфотенхауер, — мы сами не будем тянуть жребий. Пусть выбор сделают за нас птицы. Подождем, когда снова какая-нибудь будет перелетать через реку. Если она полетит оттуда сюда — значит, жребий выпал мне, а отсюда туда — быть тебе нашим послом в Омбуле. Идет?
— Договорились. Одновременно мы можем продолжать наш прерванный путь, чтобы как можно скорее достичь деревни джуров.
Неграм было приказано снова взяться за весла, и, кроме того, им поручили следить за всеми птицами, которые будут пролетать над рекой. Сын Тайны объявил:
— В селении осталось всего пятьдесят человек, и мы можем проплыть мимо него совершенно открыто, не боясь, что нас заметят. Немного ниже поселка мы пристанем к левому берегу, спрячем лодку в камышах, и я поведу вас к деревне, шейха которой я хорошо знаю.
Он вывел лодку на свободную от камышей и травы середину реки, и она как стрела понеслась вниз по течению.
Действие лекарства все еще продолжалось: Толо спал сладким сном. Лобо тоже закрыл глаза. Теперь он знал, что кто-нибудь предупредит его земляков, и чувствовал себя наконец освобожденным от заботы, которая так долго его угнетала.
Глава 8
НОВЫЙ ТОВАРИЩ
Шварц и Пфотенхауер тихо сидели на носу лодки и думали о предстоящем расставании. На душе у обоих было тяжело, но если спокойное лицо Шварца позволяло только догадываться о владевших им чувствах, то длинная фигура Отца Аиста являла собой живое воплощение уныния и тревоги. Он беспокойно ерзал на месте, всплескивал руками, поминутно откашливался, вздыхал и что-то недовольно бормотал, а нос его выделывал прямо-таки неописуемые пируэты. Наконец, он не выдержал и нарушил тяготившее его молчание:
— У меня на сердце сейчас до того тяжело, что черти в аду небось на радостях устроили карнавал. Как подумаю, что мы вот-вот должны расстаться, и неизвестно, увидимся ли когда еще… Но что тут можно сделать? Я век себе не прощу, если эти разнесчастные негры из-за нас погибнут или попадут в рабство!
— Да, мне тоже невесело. Но мы не должны видеть все в таком черном свете. Надо помогать любому из нас, кому выпадет жребий скакать на юг, постараться не встретить по пути врагов и как можно скорее вернуться назад. В сущности, это ведь не так уж и трудно!
— Да, но если он все-таки встретит врагов, он погибнет ни за грош, а друг уж будет далеко и ничем не сможем ему помочь. Эх, только бы этот жребий достался мне!
— Не принимай все это так близко к сердцу, дружище! — улыбнулся Шварц.
— Замолчи ты, чертов весельчак! Если уж я кого полюблю, я не шибко радуюсь, когда он браво шагает навстречу опасности, которую я не могу с ним разделить. Ты сам это представляешь не хуже меня и… Смотри, видишь, видишь их? Вон, полетели!
Он был уже на ногах и не только рукой, а своим вытянувшимся носом указывал на противоположный берег, с которого взвилась целая стая пронзительно кричащих птиц.
— Знаешь их? — обратился он к Шварцу, начисто забыв обо всех заботах, которые до сих пор его всецело поглощали.
— Да, это шпорцевые чибисы.
— Точно. Ты, ей-ей, понимаешь толк в птицах. Чибисы редко так высоко взлетают в это время года. Их там небось спугнул гиппопотам. И как они здесь называются, тоже, вероятно, знаешь?
— Зик-зак, зик-зак.
— А почему?
— Потому что они так кричат.
— Верно. Когда это «зик-зак» слышится по утрам из доброй сотни клювов, кажется, будто лиса празднует свои именины. Ну вот, перелетели на эту сторону. Теперь будут искать улиток в камышах.
После того, как птицы скрылись из виду, Пфотенхауер снова уселся и стал рассуждать о насущных проблемах.
— Вот бы нам удалось достать у джуров не какую-нибудь клячу, а хорошего, резвого верблюда! Тот из нас, кому выпадет жребий, возьмет провианта на шесть дней. А другой будет торчать в этой чертовой дыре и ждать твоего брата. Только вот где? В окрестностях Умм-эт-Тимсы нам долго оставаться нельзя.
— Конечно, нет! Никто из обитателей поселка не должен нас видеть. Тебе надо будет проехать дальше вниз по реке и остановиться в деревне Магунда, жителей которой знает наш рулевой. Он сказал, что там нас с радостью примут и позволят дождаться моего брата. Эмиль как раз должен проезжать Магунду, так что ты не пропустишь его, если я к тому времени еще не вернусь из Омбулы.
— Ты сказал, если ты не вернешься из Омбулы? — насторожившись, переспросил Пфотенхауер.
— Ну да! — улыбнулся Шварц.
— С чего это ты взял, что именно ты поедешь туда? Кто тебе сказал, что это буду не я?
— Ты сам.
— Я? Даже и не думал.
— Вот как! А кто придумал, что выбор между нами должны сделать птицы?
— Ну я, и что из этого?
— Вот они и выбрали.
— Выбрали? Что-то я тебя не очень понимаю. По-моему, ты хочешь меня надуть. И если ты думаешь, я такой осел, что…
Внезапно он застыл с открытым ртом и изумленно взметнувшимся вверх носом. Несколько секунд он молча смотрел на своего товарища, который, несмотря на серьезность ситуации, едва удержался от смеха, а затем выпалил:
— Господи Боже, у меня совсем из головы вылетело! Чибисы-то полетели через реку!
— Вот именно! А в каком направлении, помнишь?
— С того берега к нам.
— Значит, жребий выпал мне. Теперь ты это признаешь?
— А что делать, если этот проклятый сброд не нашел ничего лучшего, чем летать тут взад-вперед! Ах, будь у меня в руке ружье, я бы их всех перестрелял!.. Может, бросим жребий еще раз? — без особой надежды предложил он.
— Нет уж, раз мне выпал жребий ехать, я и поеду.
— Так пусть же с этого дня ни один чибис не попадается мне на глаза, а не то я так намну ему его бока, что из него и дух вон, — вне себя от ярости выкрикнул Серый. — Ну кто бы мог подумать, что жребий выпадет тебе!
— А почему это тебя так удивляет? — заинтересовался Шварц.
— Потому что я так хитро все устроил!
— Что же?
— Я уж сказал, если птицы полетят отсюда, стало быть, поеду я. Я-то думал, что наша лодка вспугнет из прибрежных камышей какую-нибудь стаю.
— Тут ты просчитался, потому что вспугнутая птица никогда не полетит над нашей лодкой на далекий, правый, берег, а, конечно, устремится к ближнему, левому.
— Ах так? — воскликнул Серый. — Тогда спор наш решен неверно, потому что только из-за моей растреклятой глупости жребий пал на тебя!
— Нет, друг мой, все правильно. И не трать времени на уговоры, это все равно бесполезно.
— Бесполезно?
— Совершенно.
— Тогда протяни-ка свою руку и отвесь мне оплеуху, да посолиднее! Потому что я это заслужил. Если с тобой что-нибудь стрясется, не знать уж мне покоя до конца дней! Да, такая уж она, жизнь! Когда тебе кажется, что ты умнее всех и крепко держишь судьбу за хвост, тут-то и делаешь ошибки почище какого-нибудь школяра!
Он повесил голову и так низко надвинул на лоб свой серый колпак, что на его лице остался виден только нос. По его непрерывному движению можно было заключить, какая напряженная внутренняя работа шла в душе Пфотенхауера. Не давая ей на этот раз никакого выхода, Отец Аиста оставался погруженным в глубокое молчание и не пошевелился даже тогда, когда над лодкой пролетала очередная стая птиц. Это был верный знак того, что Серый переживает глубокий нравственный кризис.
Течение было быстрое, и мускулистые негры-гребцы так сильно налегали на весла, что берега, мимо которых проносилась лодка, сливались в глазах путешественников в сплошные зеленые полосы. Впрочем, даже если бы у них и было время осмотреться вокруг, они увидели бы все тот же, давно наскучивший им ландшафт: правый берег был полностью заслонен от них зарослями камыша, вдоль левого по-прежнему тянулся бесконечный лес.
Проходил час за часом. Солнце давно миновало зенит, и деревья уже отбрасывали на воду длинные тени. Очнувшись от раздумья. Шварц заметил, что рулевой теперь старается держаться ближе к правому берегу.
— Умм-эт-Тимса уже близко, — пояснил юноша, встретив вопросительный взгляд немца, — если мы хотим пройти мимо нее незамеченными, нам лучше оставаться с этой стороны.
Только сейчас Серый впервые за много часов поднял голову, чтобы взглянуть на это печально знаменитое место. И тут его нос превзошел самого себя. Он стал судорожно дергаться из стороны в сторону и с оглушительным свистом втягивать воздух.
— В чем дело? Ты что-то учуял? — спросил Шварц.
— Да. А ты нет?
Шварц принюхался.
— Нет. Я не чувствую никакого запаха. Да и негры работают только руками, а не носами. Наверное, тебе показалось.
— Что? — возмущенно переспросил Серый. — Ты, кажется, сказал, что мой нос ошибся? Эй, послушай-ка, ты плохо его знаешь! Он вдыхает больше воздуха, а, значит, и запахов, чем все ваши носы, вместе взятые. Уж на него-то я могу положиться!
— Ну, и что же он почуял?
— Пахнет гарью.
— Вроде бы нет. Я ничего не замечаю.
— Он не замечает! Тоже мне! Да что ты вообще можешь заметить с твоим жалким носишкой, который и в лупу не разглядеть!
— Может быть, на берегу кто-то развел огонь, чтобы зажарить птицу, рыбу или что-нибудь в этом роде?
— Нет, это не то. Пахнет пожаром, паленым деревом, глиной и камнем. Готов поручиться головой, что на том берегу горит здание!
Теперь Шварц тоже почувствовал запах. Ниам-ниам насторожились. Рулевой поднялся со своего места, обратил лицо к левому берегу, шумно вздохнул воздух и потом сказал:
— Это горит в поселке. Там большой пожар: видите, как высоко над деревьями поднимается дым!
Посмотрев в том направлении, куда указывал юноша, все действительно увидели поднимавшиеся над верхушками леса клубы дыма. Негры втащили в лодку весла и молча смотрели на Сына Тайны, ожидая его приказаний. После недолгого раздумья юноша сказал:
— Огнем охвачено все селение. Я думаю, что его подожгли умышленно: оно ведь стоит у самой реки, и если бы случайно загорелся какой-нибудь из тонкулов, его ничего не стоило бы потушить. Может быть, арабы навсегда покинули это место, чтобы основать на юге новое поселение. Нужно выяснить это у Лобо.
Негра разбудили. Когда он узнал, что горит поселок, его удивлению не было границ. Он уверял, что ни он сам, ни Толо ничего не слышали о намерении белых покинуть селение, а тем более сжечь его. И все же рулевой был уверен, что горит все селение. Как бы там ни было, в сложившихся обстоятельствах нельзя было и думать о том, чтобы, почти не таясь, проехать мимо Умм-эт-Тимсы. Лодку снова завели в камыши и замаскировали под плавучий остров. Гребцы сложили весла, и лодка двинулась дальше, влекомая только течением.
Запах гари становился все сильнее. Люди тихо сидели на своих скамейках и сквозь щели камышовой крыши пытались разглядеть, что происходит на берегу. Немного погодя Сын Тайны снова встал и, указывая налево, сказал:
— За теми деревьями находится селение. Видите, какой там густой дым? Так не может гореть одна хижина. И на реке тоже был пожар: камыш возле берега весь черный и тоже дымится!
— В первый раз слышу, чтоб реки горели! — вполголоса пробормотал Серый.
— Это, конечно, не река, а спрятанный там корабль, нуквер, о котором я вам говорил. Нет, это не могли сделать сами ловцы рабов. Должно быть, на поселок напали враги.
— Я так понимаю, арабы не ожидали никаких врагов, нападение застало их врасплох.
— Такие вещи всегда происходят неожиданно. Кроме того, сейчас как раз очень удобное время для нападения: ведь в селении осталось всего пятьдесят человек. Это даже могли сделать джуры, к которым мы направляемся. Нужно поскорее узнать, что там случилось!
— Но причаливать прямо здесь слишком опасно, — вставил молчавший до сих пор Шварц.
— Конечно. Мы спустимся по реке еще немного и спрячем лодку в камышах, а потом по берегу проберемся в поселок.
Немцы полностью согласились с планом Сына Тайны и с нетерпением предвкушали момент, когда наконец можно будет высадиться на сушу.
Им пришлось ждать недолго: вскоре Сын Тайны снова повернул лодку налево, туда, где от самого берега рос густой и высокий, как кукуруза, камыш. С помощью Длинной веревки из пальмовых листьев лодку привязали к стволу дерева, стоявшего у самой воды. Негры должны были оставаться в лодке и в случае, если их присутствие кто-нибудь обнаружит, немедленно перерезать веревку, выгрести на середину реки и как можно быстрее плыть вниз по течению, до тех пор, пока рулевой, который будет параллельно лодке бежать по берегу, не разрешат им причаливать.
Затем Сын Тайны вместе с обоими немцами выбрался на берег. Он был вооружен только копьем и метательной дубиной, белые взяли с собой ружья, а Шварц захватил и свою подзорную трубу. Все трое осторожно зашагала через редкий лес, тянувшийся вдоль реки. До сих пор им на глаза не попалось ничего подозрительного.
И вот они вышли на широкую равнину и увидели перед собой огромное пепелище, которое еще недавно было знаменитым поселком Умм-эт-Тимса. Нигде не было видно ни одного живого существа, и даже птицы, вспугнутые пожаром, поспешили покинуть это зловещее место.
Путешественники медленно подошли ближе. Ограда селения была полностью сожжена, а на месте хижин возвышались дымящиеся кучи пепла и головешек, между которыми, почти неразличимые на их фоне, копошились темные фигуры.
— Да там люди! — удивленно воскликнул Сын Тайны. — Очень странно! Я точно знаю, что это не жители поселка. Но тогда кто они? Узнать бы, по крайней мере, есть ли среди них белые!
— Это нетрудно, — сказал Шварц, поднося к глазам свою подзорную трубу. Затем он внимательно осмотрел пожарище и продолжал: — Я вижу только черных, да и их немного; я насчитал около двадцати.
— Эти люди вооружены?
— У них есть копья, которыми они ворошат обломки.
— Понятно. Они пытаются найти среди них что-нибудь полезное для себя. Как они одеты?
— На них нет ничего, кроме набедренных повязок, а волосы венками уложены вокруг головы.
— Значит, это джуры, мои друзья. Я попробую подкрасться к ним. Если я ошибся и они на меня нападут, я громко прокричу имя Абу Лаклак, и вы придете мне на помощь. Думаю, мы ничем не рискуем: с вашими ружьями вы в два счета обратите их в бегство.
Юноша лег на землю и пополз вперед по длинным полосам пепла, оставшимся на месте внешней изгороди. Вскоре он исчез за ближайшей кучей углей, и для немцев потянулись долгие минуты ожидания. Друзья не выпускали из рук свои ружья, готовые по первому зову поспешить на выручку Сыну Тайны. Через некоторое время Шварц увидел в подзорную трубу, что все люди собрались в центре бывшего поселка и о чем-то совещаются. Немного погодя к ним подошли два человека, которых он раньше не замечал. Один из этих двоих был белый.
Прошло несколько минут, прежде чем от группы людей отделились две фигуры и двинулись по направлению к немцам.
— Они идут к нам, — объявил Шварц своему товарищу.
— Но они не замышляют худого? — спросил Отец Аиста.
— Надеюсь. Постой, теперь я их узнаю. Один из них, кажется, главный среди джуров, тот, что подошел позднее с белым. Ба, вместе с ним идет наш рулевой.
— Значит, нам нечего бояться, кто бы ни были эти люди. Хотя хорошо бы, если б это и вправду оказались джуры!
Тем временем двое подошли уже так близко, что можно было рассмотреть их лица. Сын Тайны удовлетворенно улыбался. Его спутник — толстый негр с широким, сияющим от радости лицом, — еще находясь на почтительном расстоянии от немцев, поднял вверх сложенные вместе руки и приветственно замахал ими. Потом он остановился, отвесил низкий поклон и закричал:
— Салам, салам алейкум! Аллах оказывает мне большую милость, посылая таких гостей! Я сам, и мой дом, и все воины моего племени с великой радостью отдают себя в полное ваше распоряжение!
— Ишь, как его разобрало! — тихо проворчал Серый. — Будто я не знаю, что этот парень знает об Аллахе ровно столько же, сколько верблюд об астрономии!
После этого замечания он возвысил голос и церемонно ответил на приветствие. Шварц присоединился. Толстяк подошел ближе, поклонился еще раз и продолжал:
— Я — шейх племени джуров, которое живет здесь поблизости. Сегодня днем мы заметили большой огонь со стороны селения и поспешили сюда, чтобы помочь белым. Когда мы пришли, здесь никого не было, и теперь мы спасаем то добро, которое еще не сгорело.
— А куда ушли белые? — спросил Шварц.
— Один Аллах знает это, я — нет.
Этот джур, конечно, был язычником, но, думая, что перед ним мусульманин, он старался через каждое слово употреблять слово «Аллах».
— Ты знаешь жителей этого селения? — продолжал Шварц свои расспросы.
— Да, господин, я знаю их всех.
— Когда ты был здесь в последний раз?
— На один день раньше, чем вчера.
— Зачем ты приходил?
— Абдулмоут позвал меня поговорить о верховых животных, которых я должен был дать ему для похода.
— Куда отправлялся отряд?
— В страну беланда.
— А в какое место?
— Этого я не знаю, господин. Места, куда он собирается повести своих людей в поход, Абдулмоут никогда не называет так же, как и Абуль-моут.
— А где, кстати, находится сейчас Абуль-моут?
— В стране хомров, но он должен скоро вернуться.
— Ты его друг?
Тут толстые губы шейха разъехались до ушей, что, по-видимому, должно было означать «дипломатическую» улыбку, а потом он схватился обеими руками за уложенные вокруг головы наподобие надувной подушки волосы и несколько смущенно ответил:
— Ах, господин, бедный человек вроде меня должен быть другом всех больших господ, если он не хочет, чтобы его съели. Тебе я тоже охотно буду служить, потому что я знаю, что ты хорошо мне заплатишь.
— Заплачу ли я тебе вообще, будет зависеть только от тебя. Я хочу, чтобы ты откровенно ответил мне на мои вопросы. Итак, знаешь ли ты, когда Абдулмоут покинул селение?
— Ранним утром. За день до этого, сразу после полудня, я должен был привести ему животных.
— Он оставил здесь отряд своих людей?
— Думаю, что да, господин. Он всегда оставляет для охраны пятьдесят человек и собирался поступить так и в этот раз.
— Где эти люди сейчас?
— Ушли, а вот куда, я не знаю, — повторил шейх.
— Кто сжег селение?
— Они и сожгли. Они взбунтовались и ушли, взяв с собой всех коров и овец.
— Ах вот оно что! Так, значит, Абуль-моут разорен!
— Скоро он снова разбогатеет, господин. Когда он уходил, то сказал, что завербует и приведет с собой много воинов-нуэров, чтобы ловить с ними рабов в стране ниам-ниам. Когда он придет и увидит, что стряслось, он тут же отправится в погоню за мятежниками, убьет их и заберет обратно все свое имущество.
— А может быть, пожар устроен по приказу Абдулмоута?
— Нет, конечно, нет, господин, потому что Абдулмоут верен своему хозяину.
— Так же верен, как и ты? — спросил Шварц и строго посмотрел в заплывшие жиром, бегающие глазки шейха.
Тот поклонился, заискивающе хихикнул и ответил:
— Господин, я верен каждому, кто мне платит.
— Что ты хочешь получить в качестве платы? Вещи или коров?
— И то и другое, но талеры Марии-Терезии мне всего милее.
— Возможно, ты получишь от меня один или несколько. Я слышал, твое племя враждует с беланда?
— Да, господин, между нашими народами кровная вражда.
— Но ты знаешь дорогу в их деревни?
— Каждый джур знает этот путь.
— Мне нужно попасть в Омбулу. Ты знаешь, где это?
— Да. Она находится возле гор Памбиза.
— Нет ли у тебя человека, который мог бы довести меня до этой деревни?
— Тебя может проводить любой из наших воинов. За три талера я дам тебе хорошего проводника.
— Очень хорошо! Этот человек должен доставить меня туда и обратно. Я готов заплатить ему даже четыре талера, но он получит их только тогда, когда мы вернемся назад.
— Аллах тебя сохрани, господин! Что за мысль! Ты должен заплатить эти деньги сразу!
— Нет, на это я не согласен.
— Но тогда я никогда их не получу.
— Почему?
— Потому что ты никогда не вернешься. Беланда убьют тебя и проводника тоже, поэтому он останется с тобой только до тех пор, пока его жизни не будет грозить опасность.
— Вот как! С твоей стороны было очень мило предупредить меня об этом. Тогда я, пожалуй, совсем не будут брать проводника, и ты не получишь своих талеров.
Негр понял, что допустил оплошность. Чтобы исправить ее и спасти свои деньги, он поспешил добавить:
— Мой человек проводит тебя до границы страны беланда, а потом повернет назад. Идти дальше не согласится ни один джур: ведь это означает верную гибель. Если не веришь, можешь спросить у Охотника на слонов, он скажет тебе то же самое.
Шварц никогда не слышал, чтобы дикие племена охотились на таких крупных животных, и поэтому он удивленно переспросил:
— Охотник на слонов? А чем этот человек убивает слонов?
— Он стреляет в них из своего ружья.
— Значит, у твоего племени есть ружья?
— У моего племени нет ружей. Но он совсем не принадлежит нашему племени.
— А к какому тогда?
— Этого я не знаю, господин. Он вообще не негр, а белый. Он очень известен в этих краях, хотя никто не знает, откуда он родом и что привело его сюда. Мы много слышали о нем, но до сих пор никогда его не видели. Сегодня он пришел к нам впервые, как раз в то мгновение, когда мы заметили огонь. Он захотел узнать, что случилось, и пошел вместе с нами в селение.
— Куда он держит путь?
— Этого я тоже не могу знать. Мы еще не успели расспросить его об этом.
— Мы тоже хотим посмотреть поселок. Покажи нам его!
— Пойдемте со мной и будьте моими гостями! Мои люди уже наловили рыбы и развели костер, так что у меня есть чем вас угостить.
Сделав приглашающий жест рукой, он повернулся и двинулся к пожарищу. Путешественники последовали за ним. Собственно, смотреть там было особенно не на что, кроме пепла и больших куч углей. В стороне были сложены немногие уцелевшие от огня вещи, которые джуры, разумеется, не собирались возвращать Абуль-моуту.
Рулевой отправился обратно к лодке, чтобы сообщить гребцам, что никакой опасности нет, а затем вместе с ними ждать возвращения немцев. Джуры побросали свои копья, которыми они продолжали копаться в обломках, и обступили новых гостей. Шварц и Пфотенхауер сразу заметили среди них человека, которого толстый шейх называл Охотником на слонов. Его загоревшая до черноты кожа все же была намного светлее, чем кожа джуров, а черты лица приближались скорее к арабскому типу. Его невысокая, коренастая и очень крепкая фигура была закутана в серую накидку, а капюшон низко свешивался ему на лоб. На ногах он носил некое подобие лаптей из лыка, а в руке держал двустволку таких же устрашающих размеров, как и знаменитое ружье нашего старого знакомого Отца Одиннадцати Волосинок. Длинная седая борода свисала у него почти до пояса. Изборожденное морщинами лицо со впалыми щеками казалось напряженным и печальным, но взгляд его темных глаз был необычайно живым и проницательным.
— Это и есть Охотник на слонов! — сказал шейх, указывая на незнакомца. — Он подтвердит вам, что идти к беланда очень опасно.
— Вы собираетесь к беланда? — спросил Охотник на слонов, внимательно оглядывая вновь прибывших.
— Не мы, но я один, — поправил Шварц.
— Тогда ты, должно быть, храбрый человек. Можно узнать, к какому племени ты принадлежишь?
— Ни к какому. Я немец, но ты вряд ли слыхал о таком народе.
— Я знаю этот народ, — спокойно возразил незнакомец. — Когда-то я жил у одного немца, который спас меня от больших неприятностей. Он много рассказывал мне о вашей родине. Она разбита на несколько стран, и каждой из них правит большой, могущественный султан, а самый главный шах, который царит над ними всеми, зовется Вильгельм Первый. Правильно?
— Да, — подтвердил Шварц.
— Главного визиря этого шаха зовут Бисмарк, а его самый знаменитый генерал носит имя Мольтке.
— И это верно.
— Вот видишь, я кое-что знаю о твоей стране и твоем народе. Вы вели большие войны и выиграли их все, даже взяли в плен султана Франции. Я люблю храбрые народы, и особенно ваш, потому что одному из немцев я обязан жизнью.
— Могу я узнать, кто был этот человек?
— Можешь. Я готов каждому называть его имя и без устали говорить о своей благодарности. Он называет себя Эмин-паша и управляет страной Ваддаи. Может быть, тебе приходилось слышать о нем?
— Конечно. Это очень известный и достойный человек. Он делает все, чтобы поднять благосостояние своих подданных. Кроме того, он ненавидит торговлю рабами и запретил ее в своей провинции.
— Да, и за это я уважаю его еще больше. Я даже готов простить ему то, что он не придерживается мусульманской веры.
Последние слова Охотника на слонов привели Шварца в немалое изумление.
— Странно, — сказал он, — я считал, что ты араб, а значит, не должен быть противником рабства.
— Я родом из Дар-Рунги[110] и владел раньше многими рабами. Они работали на меня, и я считал это нормальным и разумным. Но потом со мной случилось несчастье, которое перевернуло всю мою жизнь. Мой враг из мести похитил и продал в рабство моего единственного сына. Тогда я отпустил на волю всех моих рабов, доверил брату шатры и стада, а сам отправился разыскивать свое дитя.
— И что же, ты нашел его?
— Нет. С тех пор прошло много лет, и я больше не видел ни моего сына, ни моей родины. Я странствую, не зная покоя, как Вечный Жид, о котором христиане рассказывают, что он обречен на вечные странствия за то, что не дал Иисусу, сыну Марии, отдохнуть по пути на Голгофу[111]. И врага, который отнял у меня сына, я тоже не встречал. Я расспрашиваю о них повсюду, но за все эти годы не смог узнать ничего о ком-нибудь из тех двоих, что интересует меня больше всего на свете. Так я путешествую по разным странам из племени в племя, в надежде, что где-нибудь мне все же удастся набрести на след моего мальчика. Сейчас я иду из страны идрисов к беланда и бабукур.
— Но ты же говорил, что путь к беланда очень опасен.
— Отсюда — да, потому что они живут во вражде со здешними неграми. Но я вовсе не собираюсь сообщать им, что был у джуров. А что нужно тебе от беланда?
Шварц склонился к уху собеседника и шепотом, чтобы не услышали негры, ответил:
— Я хочу предупредить их о грозящей им опасности: сегодня утром Абдулмоут выступил в поход на большую деревню Омбула.
— А джуры знаю о твоем намерении? — так же тихо осведомился Охотник на слонов.
— Шейх может догадываться, но я ему об этом не говорил.
— И не говори, потому что джуры заодно с Абуль-моутом. Ты не должен им особенно доверять; мало того — будь готов к тому, что они начнут ставить на твоем пути тайные или даже явные препятствия. А сейчас лучше отойти в сторону и поговорить об этом, чтобы никто нас не услышал.
Белые отошли на такое расстояние, чтобы джуры не могли подслушать их разговор, а потом охотник спросил, опершись обеими руками на свое ружье и испытующе глядя на немцев:
— А почему вы готовы пойти на такой риск ради беланда? Не все ли вам равно, станут они рабами или нет? Может быть, они ваши друзья?
— Нет, — ответил Шварц, — мы ни разу не были в тех местах и не знаем никого из беланда. Но наша религия и наше сердце велят нам предостеречь их.
— Значит, вы не похожи на тех христиан, что порабощают народы других стран. Вы, как Эмин-паша, хотите делать людям добро. Но что привело вас в эти края?
— Мы изучаем растения и животных вашей страны, а также нравы здешних народов.
Араб задумчиво покачал головой и сказал:
— Но это же не может принести вам никакой пользы!
Шварц очень хорошо знал, что даже среди представителей цивилизованных народов найдется немного людей, способных понять истинную страсть к науке, такую, которая не останавливается ни перед какими опасностями. Все же он попытался объяснить:
— Но ты ведь слышал о разных науках, которыми занимаются ученые?
— Да, я знавал одного чудака, который все ночи напролет смотрел в трубу на небо. Зачем он это делал?
— Он наблюдал за движением звезд и вычитывал по нему годы, месяцы, дни и часы.
— Значит, у него была хорошая цель. Я видел, как Эмин-паша собирал растения и камни. Для чего это могло ему понадобиться?
— Растения он собирал для того, чтобы исследовать их целебные свойства и затем лечить с их помощью больных, а камни — для того, чтобы узнать, нет ли среди них драгоценных и нельзя ли добыть из них золото, серебро или медь.
— Теперь, когда ты объяснил, я понимаю, что ваши науки действительно очень полезны. Вы тоже ученые?
— Да. Мы хотим основать на землях ниам-ниам исследовательскую станцию, где мы будем изучать растительный и животный мир Судана, а также некоторые горные породы, продажа которых может принести пользу людям. Может быть, этим мы тоже внесем свой вклад в развитие нашей страны и поможем ее жителям освободиться от проклятой торговли рабами.
— Это ваше намерение мне очень нравится, и я одобряю его всей душой. Вы пришли к нашим народам как друзья.
— Конечно. Поэтому мы и хотим, если это нам удастся, спасти беланда от их врагов — арабов. Но может быть, мне совсем не обязательно идти к ним? Если ты все равно направляешься к беланда, не мог бы ты передать им все, что услышал сегодня от меня?
— Нет, этого я не могу сделать. Тогда они узнают, что я был у джуров, и убьют меня.
— Но если все так, как ты говоришь, то они убьют и меня.
— Нет, тебе ничего не грозит, так как ты чужестранец. На вас законы кровной мести не распространяются до тех пор, пока вы сами, собственной рукой, не прольете кровь представителя одного из здешних племен. Я тоже во время своих непрерывных скитаний ради собственной безопасности вынужден постоянно обманывать людей, убеждая их, что иду от дружественного народа. Поэтому тебе, к сожалению, придется самому проделать этот путь. Но откуда вы так точно знаете, что Абдулмоут собирается напасть на Омбулу?
Шварцу пришлось рассказать ему о своем сегодняшнем приключении. Охотник на слонов слушал очень внимательно, а потом сказал:
— Клянусь Аллахом, вы оба честные, добрые и очень мужественные люди! Если ты не против, я охотно отправлюсь вместе с тобой в Омбулу; может быть, там я наконец получу какое-нибудь известие о моем сыне или его похитителе. Только ты должен молчать о том, что встретил меня здесь, так как, если беланда проведают, что я был гостем джуров, они примут меня как врага. Если же они ничего не узнают, дружба со мной защитит тебя от их возможного недоверия и вражды. Все народы отсюда до самых низовьев Нила с большим почтением относятся к человеку, известному им под именем «Охотник на слонов».
— Тогда я благодарю случай, который свел меня с тобой.
— Да уж, я думаю, тебе есть за что его благодарить, Без меня ты вряд ли вернулся бы из страны беланда: ты ведь совсем не знаешь здешних дорог и на обратном пути тебя наверняка сцапали бы ловцы рабов.
Эти слова звучали так самодовольно, что Шварц не удержался и возразил:
— Ну, не думаю, чтобы со мной все было так безнадежно. Мне приходилось иметь дело с людьми куда более опасными, чем эти ловцы рабов, и я не один раз незамеченным пробирался мимо врагов по малознакомой местности.
— Да-да, я знаю, — кивнул араб, и снисходительная, хотя и доброжелательная улыбка заиграла на его губах. — Вы, ученые, всегда во всем разбираетесь и все умеете лучше всех. Я верю, что Аллах помог бы тебе и на этот раз благополучно избежать всех опасностей, но все же думаю, что и я смогу оказаться тебе чем-нибудь полезным. Я предлагаю тебе свою дружбу и надеюсь, что ты не откажешься ее принять.
— Отказаться? Не понимаю, как такое могло прийти тебе в голову! Наоборот, твоя дружба — большая честь для меня. Вот тебе моя рука, и поверь, что я искренне рад нашей встрече.
Охотник на слонов пожал протянутую руку и сказал:
— Итак, я иду с тобой и буду защищать тебя от всех врагов. Ты кажешься смелым человеком, но ученые ничего не смыслят в том, как следует обращаться со львами и пантерами, слонами, носорогами и гиппопотамами. Я же живу за счет охоты на этих зверей и могу оградить тебя по крайней мере от них. Из твоего маленького, тонкого ружьишка тебе не уложить ни одного из них. А посмотри-ка на мое!
С этими словами он потряс перед носом немца своей допотопной двустволкой. Теперь наступила очередь Шварца иронически улыбнуться.
— Да, твое ружье раза в два толще моего, но Аллах иногда дает силы и слабому на вид, — сказал он. — Как бы ни было, я вижу, что могу на тебя положиться, и, повторяю, очень рад, что мы будем путешествовать вместе. Теперь скажи, когда ты будешь готов к отъезду?
— Как только обзаведусь у джуров новым верховым животным. По дороге сюда я загнал своего быка и теперь хочу купить лошадь или верблюда.
— И я пришел к джурам как раз за этим. У тебя есть деньги?
— Нет. Денег у меня никогда не бывает. Я расплачиваюсь слоновьими бивнями и носорожьей костью. Сюда я приехал на двух быках: один вез меня, а другой был нагружен разными вещами, которых с избытком хватит, чтобы выменять их на двух лошадей или верблюдов и еще провиант. Если хочешь, я сам улажу с джурами это дело, а ты потом вернешь мне свою долю деньгами: тогда и я хоть раз в жизни подержу в руках серебряную монету!
— Прекрасно! Но животное я буду выбирать для себя сам?
— Нет, этого я никак допустить не могу. Мы не должны вызвать у джуров подозрений. Им нельзя доверять: ведь они держат сторону Абуль-моута, который может вернуться с минуты на минуту. Если они скажут ему, что ты собираешься в Омбулу, он, конечно, убьет тебя. Ты совершил промах, когда назвал им эту деревню. Чтобы его исправить, тебе нужно сделать вид, что ты передумал. Теперь посмотри туда: видишь, джуры взвалили себе на плечи вещи, которые им удалось вытащить из огня. Сейчас они вернутся в свою деревню, и я пойду с ними, а как только сделка будет заключена, я вернусь за тобой.
— Значит, я должен оставаться здесь и ждать тебя?
— Да, но только спрячься где-нибудь в укромном месте, чтобы не попасться на глаза Абуль-моуту, если он вдруг вернется. Подойди сейчас к шейху джуров и скажи, что раздумал идти в Омбулу, узнав, как опасен этот путь. Потом вы оба вернетесь к своей лодке и отплывете немного вниз по реке, после чего ты снова высадишься на берег и тайно проберешься сюда. Меня ты можешь подождать у ствола того высокого дерева, которое возвышается там, слева, над лесом. А твои товарищи пусть отправляются прямо в деревню Магунда, где ты присоединишься к ним по окончании нашего путешествия.
Шварц объявил, что он полностью согласен с планом охотника, но прибавил:
— Только смотри, не подведи меня! Представь себе, в каком я окажусь положении, если моя лодка уедет, а ты не придешь!
— Не беспокойся! Клянусь тебе Аллахом и Пророком, моей бородой и всеми моими предками, что я позабочусь обо всем, что тебе нужно, и сразу же вернусь к тебе.
Истинный мусульманин всегда держит эту священную клятву, он скорее готов умереть, чем нарушить ее. Шварц знал об этом и успокоился. Их совещание подошло к концу как раз вовремя, потому что к троим белым уже направлялся шейх, заметивший, что они что-то слишком долго шепчутся в стороне от досужих глаз. На лице его было написано подозрение, когда он спросил:
— Могу я вмешаться в вашу беседу? Сейчас мы возвращаемся в нашу деревню. Если белый господин действительно хочет идти к беланда, я выберу ему проводника, который доставит его до границы.
— Проводник больше не нужен, — ответил Охотник на слонов, — по твоей просьбе я объяснил этим господам, как опасно их намерение. Поэтому они решили не идти в Омбулу, а продолжать свое путешествие по реке.
— Но мне же были обещаны деньги! — разочарованно воскликнул толстяк.
— За проводника — да, но теперь необходимость в нем отпала и тебе нечего требовать.
— Куда же вы отправитесь теперь?
— Вниз по реке, пока они не смогут пересесть на корабль, идущий в Хартум, — снова ответил за Шварца Охотник на слонов.
— Вежливость требует, чтобы я проводил моих гостей прямо к их лодке и там пожелал им благополучного путешествия.
Эти слова показывали, что недоверие шейха не исчезло, и он хочет самолично убедиться в отъезде белых. Охотник на слонов тут же разыграл прощание, знаком показав при этом Шварцу, что он помнит о своем обещании и сдержит его. После этого немцы в сопровождении дотошного шейха пошли к тому месту, где была привязана их лодка. Негр внимательно оглядел весь ее экипаж, а затем сказал:
— От денег я должен отказаться, но вы не уедете, не подарив мне что-либо. Я шейх деревни и требую дань с каждого чужака, который вступает в мои владения.
— Насколько я помню, мы вступили только на территорию поселения ловцов рабов, а вовсе не в твою деревню, — возразил Шварц, — но все же я охотно подарю тебе что-либо на память, чтобы ты вспоминал о нас с добрыми чувствами. Вот, возьми!
Как у всякого европейца, путешествующего по здешним местам, у Шварца всегда был с собой большой запас вещей для продажи и обмена. Оттуда он выбрал несколько ниток жемчуга и протянул их негру. К несчастью, он не знал, что в последнее время странствующие торговцы завезли в бассейн Бахр-эль-Джур такое количество жемчуга, что этот товар потерял здесь всякую цену. Шейх взвесил нитки в руки и несколько минут молча смотрел на них, как будто не мог поверить собственным глазам, а затем бросил подарок обратно в лодку и закричал срывающимся от ярости голосом:
— Как вы осмелились предложить мне эти нитки? Заберите назад свой жемчуг и повесьте его себе на шею, потому что вам только и подходят женские украшения! Пусть Аллах пошлет вам встречный ветер и тысячу крокодилов, которые вас сожрут!
Он повернулся и поспешил прочь, неуклюже перебирая своими толстыми ногами. Гребцы засмеялись ему вслед, но белые восприняли происшедшее серьезно. Когда лодка отошла от берега и достигла середины реки, Шварц первый нарушил молчание.
— Этот несчастный вообразил, что получит несколько талеров. Теперь мне придется опасаться его и его людей.
— Да уж, их нужно остерегаться, — согласился Серый. — Сейчас они перетащат все вещи в деревню, а потом наверняка вернутся на пепелище еще раз, чтоб подчистить все окончательно. И коли они тебя найдут… Нет, я, ясное дело, не думаю, что эти дикари могут тебя серьезно покалечить, но все ж мне было бы спокойнее, если б я вместе с тобой дождался араба и помахал вам вслед белым платочком. Как ты на это смотришь?
— Я считаю, что ты прав, так действительно будет безопаснее. Но чтобы ты тоже не остался один, мы возьмем с собой еще одного гребца. Впрочем, я не советовал бы этим неграм связываться со мной, если они не хотят отведать пули из моего ружья.
Течение несло лодку так быстро, что уже через несколько минут путешественники оказались достаточно далеко от опасного места и снова могли причаливать. Шварц собрал все необходимое для предстоявшего ему пути и в сопровождении Отца Аиста и вооруженного до зубов ниам-ниам двинулся к лесу. Сын Тайны получил приказ ждать возвращения Пфотенхауера и внимательно следить за рекой.
Лес и здесь рос такой же узкой полосой, как возле Умм-эт-Тимсы. Путешественники быстро прошли его насквозь и по открытой равнине зашагали обратно на юг. Примерно через четверть часа пути глазам их открылось знакомое пепелище, над которым все еще курился легкий дымок. Тогда они снова нырнули в лес и, прячась за деревьями, быстро нашли высокое дерево. Шварц и Пфотенхауер устроились прямо под ним, негр же расположился немного поодаль, чтобы не мешать их беседе и наблюдать за окружающей местностью.
День уже прошел, и, глядя с тревогой, как солнце клонится все ближе к горизонту, друзья изо всех сил желали, чтобы Охотник на слонов не заставил себя долго ждать. Шварц выглядел, как всегда, спокойным. Пфотенхауер тоже старался держаться браво, но его волнение проявлялось в том, что он ни на минуту не закрывал рта. Казалось, он поставил своей целью за эти несколько часов ожидания сообщить своему другу все полезные советы, которые он знал.
— А ну, если ты попадешь в засаду, — поминутно спрашивал он. — У тебя хватит патронов, чтоб отстреляться от врагов? Ты вообще-то не забыл зарядить свое ружье?
— Конечно, нет, — улыбался Шварц, — ведь большой запас снаряжения — это самое главное из того, что мне может понадобиться.
— А как тебе понравился Охотник на слонов? По-моему, он честный малый, и вы с ним поладите. Хотя, мне, ей-Богу, было смешно, когда он размахивал тут своей ржавой гаубицей и собирался с ее помощью защищать тебя. Думаю, когда дойдет дело до схватки, это придется брать его под свою охрану!
— Не знаю, может быть. Он пришелся мне по душе, и я ему полностью доверяю. Но какая ужасная судьба! Отец, которые долгие годы повсюду ищет своего похищенного сына!
— Не говори! Я, право слово, чуть слезу не пустил, слушая его. У нас этих людей считают полудикарями, но у них ведь такие же, как у нас, сердце и душа, и потом… Стоп, видишь их? Вон там вон, самец и самочка! Может, и ты их узнал?
Он указал на двух птиц, которые приземлились под соседним деревом и, увидев людей, замерли в нерешительности. Спинки у них были черные, брюшки песочного цвета, а крылья разрисованы черно-бело-серыми узорами.
— Да, я их знаю, — подтвердил Шварц. — Это крокодиловы сторожа. Впервые они упоминаются еще у Геродота.
— Точно! Знаешь и то, как эта птичка называется здешними людьми?
— Крокодилья птица, крокодилья бабушка и сторож крокодила.
— Верно. Из тебя, ей-ей, вышел бы неплохой орнитолог, и ты сможешь мне здорово помочь, когда я буду писать мою книгу. Посмотри, как они забавно заковыляли прочь! Может, ты когда-нибудь видел, как такая птица садится крокодилу на зубы, чтоб вычистить застрявшие там остатки пищи? А гигантская рептилия при этом послушно распахивает зубастую пасть, и ей даже не приходит в голову проглотить пичужку, потому что она понимает, что та делает ей добро. И тут уж, как пить дать, срабатывает не только инстинкт, но и самый настоящий разум, в котором животным так часто отказывают. А я всегда говорил и повторяю: у этих созданий тоже есть мысли, они умеют делать выводы и копить опыт, и, между прочим, они часто оказываются поумнее человека, который вечно считает себя разумным существом.
— Я с тобой полностью согласен, потому что неоднократно убеждался в этом на собственном опыте.
— Как же?
— Очень просто: ведь нам часто не удается поймать или убить зверя, за которым мы охотимся. Ему удается ускользнуть, потому что он ведет себя умнее и осторожнее, чем мы.
— Это ты верно подметил! Животные вообще очень похожи на нас. Есть, к примеру, такие птицы, которые устраивают самые настоящие собрания и советы. Я недавно видел, как семьдесят венценосных журавлей встали в круг, а один выскочил в середину и начал кричать. Это было похоже на заседание парламента или какой-нибудь экзамен, потому что, когда этот малый в середине на минуту замолкал, другие тут же вставляли свой «курнукнукнукнук», будто и впрямь учащиеся отвечали на его вопросы. И я держу пари, что их ответы были уж поумнее некоторых, что можно услышать в какой-нибудь школе!
— На что это ты намекаешь? — поинтересовался Шварц, и на его губах заиграла лукавая улыбка.
— На что же, как не на себя самого? Или ты думаешь, что я всегда мог ответить правильно? Правда, бывают такие вопросы, которые прямо-таки ошарашивают тебя и ставят в тупик. Я сейчас как раз вспоминаю о том, как я учился в третьем классе… Или ты, может, уж знаешь об этом?
— О чем именно? Что тебе когда-то приходилось посещать этот класс, я могу догадаться.
— Да нет же, я имею в виду вопрос, что мне тогда задали. Не думаю, что я тебе рассказывал… У нас тогда должен был быть экзамен, и я вырядился в новую рубашку, а вокруг шеи обмотал пестрый шарф. Когда я потом глянул в зеркало, то решил, что в таком шикарном виде я уж никак не могу ошибиться. Но не тут-то было!
— Что же произошло? — с неподдельным интересом спросил Шварц, когда рассказчик сделал паузу.
— Ты и вообразить себе не можешь! По правде сказать, наш учитель естествознания не очень-то меня жаловал, потому как я постоянно приставал к нему с вопросами, на которые ни один здравомыслящий человек не ответит. Ну, он и решил со мной поквитаться, а тут как раз экзамен. Как до меня дошла очередь, я встал, полный почтения, и думал убить всех наповал моими знаниями. Но тут учитель разевает свой рот и спрашивает у меня, почему это, интересно, у птиц есть перья? Что скажешь?
— Да, это ясно быт вопрос на засыпку.
— Это уж точно, негодяй хотел меня завалить.
— Но тебе наверняка удалось ловко выкрутиться. Что ты ответил?
— Легко сказать, ответил! Поначалу я вообще слова не мог вымолвить, только распахнул варежку, чтобы получше напрячь свои полторы извилины, а уж когда вопрос повторили во второй раз, тут-то я…
— Внимание! — шепнул в это мгновение ниам-ниам, правой рукой указывая куда-то в сторону селения. Немцы подняли головы и увидели на тропинке, ведшей от реки к селению, двух хорошо вооруженных мужчин. Они только что вышли из леса и теперь рассматривали пепелище с кучами углей и пепла. В течение нескольких минут оба казались парализованными от ужаса, а затем с громкими криками бросились вперед.
— Двое белых! — провожая их взглядом, сказал Отец Аиста, причем нос его склонился набок, уподобившись голове птицы, которая наблюдает с высокой ветки какое-нибудь подозрительное животное. — Кто они такие и откуда могли здесь взяться?
— Это не европейцы, — ответил Шварц. — Мне кажется, они имеют отношение к поселку: с чего бы иначе они так разволновались при виде пожарища!
— Наверное, так оно и есть. Думаешь, они друзья Абуль-моута? Может, их послали вперед, чтоб они сообщили о его прибытии?
— Очень возможно. Надо понаблюдать за ними!
Он достал свою подзорную трубу и направил ее на нежданных гостей. Те вели себя в высшей степени странно: сначала они беспорядочно метались по пепелищу, затем побежали было по следам ушедших ловцов рабов, но внезапно повернули на запад и скрылись из глаз.
— Они направились в деревню джуров, чтобы узнать у них, что произошло, — сказал Шварц, складывая трубу. — За это время мы успеем разведать, откуда они пришли. Я подозреваю, что внизу, у берега, находится их лодка. Пойдем, посмотрим!
Друзья спустились к воде и действительно увидели маленькую, узкую двухвесельную лодку, которая была привязана лыковой веревкой к торчащему из воды корню. Кроме весел, лежащих на дне, в лодке ничего не было.
— Ну вот, все обстоит именно так, как мы думали, — сказал Шварц. — Эти парни — посланные вперед гонцы Абуль-моута. Теперь они наверняка захотят как можно скорее вернуться к хозяину, чтобы доложить обо всем, что здесь приключилось, и заставить его поспешить.
— Надо им как-то помешать. Может, утопим лодку?
— Нельзя: тогда они поймут, что где-то здесь прячутся их враги. Лучше просто отвяжем лодку и спустим ее вниз по реке. Пусть они подумают, что недостаточно крепко ее привязали!
Шварц распутал веревку и сильно толкнул суденышко, так что оно отплыло на самую середину реки, которая в этом месте была свободна от тростника. Быстрое течение сразу подхватило лодку, несколько раз перевернуло ее, а затем унесло прочь.
Шварц и Пфотенхауер снова вернулись к своему дереву. С возраставшей тоской и нетерпением они ждали прихода Охотника на слонов. Прошел еще час, солнце коснулось горизонта, а Охотника на слонов все не было. Вместо него вдали показались оба ловца рабов. На этот раз они совсем не обратили внимание на пожарище, а бодрым галопом направились прямо к лесу и исчезли за деревьями.
— Они собираются отбыть отсюда, — сказал Шварц. — Сейчас они увидят, что лодки нет, и начнут ее искать. Мы должны спрятаться получше, чтобы не попасться им на глаза.
Лес был слишком редким и не мог предоставить путешественникам надежного убежища. Поэтому все трое взобрались на деревья, чьи густые кроны полностью скрыли их от посторонних глаз. Только они успели это сделать, как с берега послышались разочарованные голоса арабов. Как и предсказывал Шварц, они решили, что плохо привязали лодку, и она уплыла, поэтому даже не стали осматривать окрестности, а все в том же быстром темпе двинулись обратно в деревню. Немцы и ниам-ниам спустились вниз и уселись на прежнее место.
Миновали короткие сумерки, и наступил вечер, затем ночь. Араб все еще не появлялся, и друзья из последних сил старались отгонять от себя мрачные предчувствия. Время шло, вот уже и полночь позади. Наконец немцам почудился звук приближавшихся со стороны равнины шагов.
— Это он! — с облегчением вздохнул Шварц. — Я слышу стук копыт лошадей и верблюдов. Кроме него, некому появиться здесь ночью с этими животными.
Он оказался прав, так как вскоре со стороны леса раздался негромкий оклик:
— Эй, люди!
Шварц узнал голос Охотника на слонов, но на всякий случай спросил:
— Кто здесь?
— Это я — Охотник на слонов. Иди сюда!
Оба белых и ниам-ниам последовали его призыву, хотя и несколько нерешительно. Их недоверие оказалось напрасным, так как, обойдя последнее дерево, они увидели двух лежащих на земле верблюдов, возле которых стоял Охотник на слонов.
— Я так и знал, что ты придешь не один, — сказал он, увидев спутников Шварца. — Представляю, какого страху вы натерпелись, пока меня ждали, но выбраться раньше я никак не мог.
— Почему? — спросил Серый.
— Шейх и так был полон подозрений: он видел, как я с вами о чем-то говорил в стороне, а ваш подарок еще больше разозлил его. Он никак не соглашался продать мне животных, а потом пришли люди Абуль-моута и прервали наш торг.
— Так это и вправду были его люди?
— Да. Они должны были объявить ловцам рабов, что он приедет через два дня. Когда они узнали о пожаре, то хотели вернуться к нему, чтобы организовать преследование поджигателей. Но выполнить это намерение им не удалось, так как выяснилось, что они плохо привязали свою лодку и ее унесла река.
— Это мы отвязали лодку и пустили ее по течению, потому что смекнули, кто эти двое и что у них на уме.
— Вы правильно поступили. У джуров нет ни судна, которое арабы могли бы использовать, ни материалов, нужных для того, чтобы быстро построить лодку. Поэтому Абуль-моут еще долго останется в полном неведении относительно того, что здесь происходит.
— А где сейчас этот старый черт?
— В двух днях пути отсюда. Он движется вверх по реке. В Дикине ему удалось нанять два судна, сандал и нуквер, на которых он везет в свой поселок более трехсот хорошо вооруженных нуэров. У него кончился провиант, и он послал вперед двух своих людей, чтобы они доставили ему из дома мясо и муку. Теперь из-за вас они не смогут выполнить это поручение, и Абуль-моуту, судя по всему, придется туго: на его пути больше не осталось ни одного населенного пункта, кроме деревни Магунда, а там ему лучше не показываться, потому что тамошний хозяин — его лютый враг. Чтобы не умереть с голоду, люди Абуль-моута будут вынуждены охотиться и рыбачить, и это, конечно, надолго задержит их приезд. Кстати, если вы собираетесь отправиться на вашей лодке в Магунду, советую вам очень остерегаться встречи с ними. Как только увидите на реке какие-нибудь корабли, вы должны немедленно причалить и спрятаться на берегу, пока они не пройдут мимо.
— Думаю, это не понадобится. Мы тронемся в путь прямо сейчас и будем ехать всю ночь напролет, так что в Магунде мы окажемся гораздо раньше, чем он. Ты небось тоже прямо сейчас поскачешь с моим товарищем в Омбулу?
— Нет, не сейчас, а только на рассвете.
— На рассвете? Но почему? — удивился Шварц.
— По двум очень веским причинам. Вы, христиане, не знаете, что мусульманин должен начинать свои путешествия ровно в час аср, по-вашему, в три дня пополудни. Если же это невозможно, он может в виде исключения выступить с первыми лучами солнца. Но отправляться в дорогу после ночной молитвы закон строго-настрого запрещает. Отступить от этого правила мусульманин может только в случае самой крайней необходимости, сейчас же я таковой не вижу. И даже если бы я согласился выехать немедленно, что бы это дало? Далеко нам все равно не уйти, так как следов ловцов рабов, которые должны указывать нам путь, в темноте не видно! Поэтому давай не будем спорить! Я разрешаю тебе жить по уставу твоей веры, позволь и ты мне соблюдать требования моей!
— Но если мы будем ждать, пока рассветет, джуры снова явятся сюда и увидят меня!
— Они не придут. Они сейчас сидят у себя в деревне и пьют маризу, дурманящие пары которой наверняка заставят их проспать полдня. Шейх и раньше был сильно пьян, к счастью для нас с тобой, потому что иначе он ни за что не согласился бы уступить мне этих двух верблюдов. Один из них вместе с седлом — твоя собственность, ты должен мне за него пять талеров. Это очень дешевая цена, потому что уже близок сезон дождей, во время которого верблюды все равно погибнут, но зато я требую, чтобы твои талеры были не фальшивыми.
Дело в том, что талеры Марии-Терезии считаются в Судане настоящими только тогда, когда чеканка на них нисколько не стерта. На монете должны быть явственно видны семь точек диадемы, от которых, собственно, талер и получил здесь свое имя[112], а также аграф и буквы SF. Если какой-либо из этих признаков отсутствует, талер или не принимается вовсе, ила считается дешевле на несколько пиастров.
Пять талеров за оседланного верблюда — такая цена была не то, что низкой, а просто смешной. Шварц достал кошелек и тотчас же отсчитал требуемую сумму. Так как в темноте проверить чеканку не представлялось возможным, он обещал утром обменять монеты по первому требованию Охотника на слонов. Теперь ему предстояло проститься с Пфотенхауером, который не мог ждать вместе с ним еще четыре часа до рассвета, так как должен был опередить Абуль-моута и к утру добраться до Магунды.
— Ну что ж, дай-то Бог, чтобы мы поскорей увиделись вновь, — сказал Серый, протягивая Шварцу руку. — Я вот сейчас тебя отпускаю, а на сердце у меня скребут кошки, потому я все ж считаю, что все эти беланда, вместе взятые, ей-ей, не стоят того, чтобы ты за них отдал свою жизнь. Эх, и какое нам вообще дело до этих негров?.. Но если уж того требует твоя совесть, поезжай с Богом! Или, — вдруг оживился он, — ты все-таки позволишь мне сделать это вместо тебя? Ведь сейчас еще не поздно!
— Нет, любезный доктор, на это я пойти не могу, и поэтому…
— Да замолчишь ты наконец, чертов ты паршивец? — чуть ли не со слезами в голосе закричал Серый. — Подумать только, опять назвал меня доктором! Да еще в такой момент, когда ты должен прилагать все усилия, чтобы меня не огорчать!
— Я совсем этого не хотел, я же обещал так не обращаться к тебе. Это у меня просто вырвалось! — торопливо забормотал Шварц.
— Тогда приколоти своего «доктора» внутри своей пустой башки, чтоб он больше оттуда не вырывался! Если ты не хочешь называть меня попросту Игнац, или Нац, или еще короче Наци-Птица, можешь вообще не возвращаться из этой чертовой Омбулы! Для того я, что ли, пил с тобой на брудершафт, чтоб ты не желал признавать меня за своего парня и обрушивал на меня титулы, будто я придворная особа? И если ты и дальше намерен продолжать в том же духе, оставайся лучше у своих беланда, и пусть они тебя сделают парикмахером, а еще лучше — титулярным советником! Ну вот, теперь ты знаешь, кто ты есть! — перевел ДУХ Пфотенхауер, а затем продолжал в прежнем сердитом тоне: — В общем, будь здоров, не давай никакой проклятой твари навредить тебе и вспоминай почаще о своем Наци, который будет считать секунды до твоего возвращения!
Он повернулся и, сопровождаемый негром, почти побежал прочь. Оба давно уже растворились в ночной темноте, а Шварц все смотрел им вслед и думал о том, что он до сих пор даже не понимал, как дорог стал ему этот старый ворчливый чудак.
Глава 9
РАССКАЗ ОХОТНИКА
Оставшись вдвоем, Шварц и Охотник на слонов уселись на землю и принялись ждать рассвета. Их план был прост: с наступлением утра они хотели отправиться по следам ловцов рабов, а догнав их, сделать небольшой крюк в сторону и по какой-нибудь другой дороге добраться раньше их до Омбулы.
Разговор не клеился: все детали предстоящего пути были уже обсуждены, а подробнее расспрашивать друг друга о жизни никто из них не решался.
Так они сидели, погруженные в полудрему, пока голос журавля не возвестил о приближающемся утре. Несколько цапель пролетели над деревьями, чибис прокричал свое «зик-зак», проснулся и присоединился к утренней песне шумный народ уток и аистов-разинь. Звезды на востоке сменило взошедшее светило, и Охотник на слонов встал на колени, чтобы прочитать первую молитву дня.
Шварц тоже сложил руки; как было не вспомнить о Творце в этот торжественный миг пробуждения природы!
Закончив молиться, араб молча подошел к своему верблюду и оседлал его. Шварц последовал его примеру, и «корабли пустыни» понесли своих всадников на юг, по следам ловцов рабов. Путешествие началось, и одному Богу было известно, чем оно может кончиться.
Рассветные сумерки не продлились и десяти минут как на смену им пришел светлый день. Равнина лежала перед путешественниками как на ладони. В той стороне, где была расположена деревня джуров, не было видно ни души; как и предсказывал Охотник на слонов, исчезновение обоих белых осталось незамеченным.
Только сейчас Шварц разглядел, что его спутник, оказывается, в изобилии запасся провиантом. На его седле висели несколько недавно забитых кур и два кожаных мешка, доверху наполненные мукой. Таким образом, о пропитании во время пути теперь беспокоиться не приходилось.
Гораздо менее обнадеживающее зрелище представляли собой верблюды, которых удалось раздобыть Охотнику на слонов. Они были крайне истощены, а кожа их была сплошь покрыта глубокими ссадинами от ударов, которые уже начали гноиться. Каким-то чудом они остались в живых после болезней и мучений, которые принес им последний сезон дождей, однако одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что долго они не протянут. Должно быть, толстый шейх получил немалое удовлетворение, продавая «невоспитанным» гостям своих самых плохих животных. Верблюды еле передвигали ноги, и расшевелить их нельзя было ни уговорами, ни ударами.
Только к полудню двигавшиеся вперед со скоростью средних пешеходов всадники достигли того места, где вчера были спасены Лобо и Толо. На земле были отчетливо видны следы преследователей, отсюда они уклонялись к юго-западу, река же, поросшая по берегу лесом, сворачивала на восток.
Прежде чем удалиться от реки, путешественники напоили животных, а также нарезали им большой запас зеленых веток на корм. Они знали, что до конца дня им больше не удастся найти ни тени, ни воды.
Время тянулось медленно. Измотанные полдневной жарой, верблюды плелись теперь еще тише, чем прежде. На душе у Шварца становилось все тревожнее. До сих пор он молчал, не желая обидеть своего товарища, но теперь не выдержала:
— Неужели у джуров не нашлось верблюдов получше? Или, может быть, тебе стоило купить лошадей? — спросил он.
— Лошадей не было; их всех забрал Абдулмоут, — ответил араб, — а из верблюдов выбирать не приходись — все еле стояли на ногах.
— А ездовые волы?
— Их тоже увели ловцы рабов. Не беспокойся понапрасну: один Аллах знает, что с нами должно произойти.
— Я, кажется, тоже знаю. Мы приедем в Омбулу слишком поздно. Мы продвигаемся вперед ничуть не быстрее пеших отрядов Абдулмоута, а они и так нас опередили на целый день! Если бы можно было как-нибудь заставить наших животных прибавить шагу! Но они и без того вот-вот рухнут, так что…
— Есть одно средство, которое может нам помочь, — перебил его Охотник на слонов, и глаза его загорелись. — Хорошо, что мы срезали на берегу стебли камыша.
Он взял один из этих стеблей и вырезал из него ножом маленькую дудочку. Когда он извлек из нее резкий, пронзительный звук, верблюды насторожились, а при повторном свисте внезапно перешли на бодрую рысь, которой от них трудно было ожидать.
— Видишь? — рассмеялся араб. — Если хочешь, я и тебе сделаю такую дудочку и тогда мы сможем свистеть попеременно, давая друг другу передышку.
— Да, сделай, пожалуйста! — попросил Шварц, несколько воспрянув духом. — Надеюсь, нам удастся подгонять их таким образом до самой Омбулы. Я обещаю свистеть, как заводной!
Он получил свою дудочку, и дальнейший путь сопровождался непрерывным аккомпанементом камышовых свистулек. Как только дудки замолкали, верблюды переходили на медленный, укачивающий шаг, который вызывал у седоков состояние, весьма напоминающее морскую болезнь, но с первыми звуками дудочек животные рысью устремлялись вперед.
Так, «насвистывая», всадники двигались по бесконечной, голой равнине и к вечеру достигли маленького, почти полностью пересохшего болота, которое в сезон дождей, по-видимому, превращалось в довольно широкое озеро.
Здесь было достаточно сухого тростника, чтобы развести огонь, и во всей округе — ни одного живого существа, кроме плескавшихся в болотной тине полумертвых от голода крокодилов, которые ввиду полного отсутствия какой-либо пищи в жаркое время года пожирают друг друга.
Охотник на слонов, который не забывал прочитать предписанные молитвы в полдень и в три часа дня, снова спешился и объявил, что дальше не пойдет, так как приближается час захода солнца.
Шварцу ничего не оставалось, как смириться. Вообще-то он был даже доволен результатами сегодняшнего дня. Дудочки волшебным образом подействовали на животных, так что путешественникам все же удалось покрыть значительный отрезок расстояния, отделявшего их от ловцов рабов. Шварц определил это по следам ночного лагеря арабов, которые теперь уже были далеко позади.
С наступлением темноты путники развели костер и зажарили на нем курицу к ужину. Верблюды, которых из-за опасности нападения крокодилов нельзя было подпускать к болоту, были стреножены и получили свой корм. Воды для них не было.
Когда покончили с курицей, которая, кстати, совсем не понравилась немцу, так как успела немного испортиться на жаре, было уже совсем поздно. Спать решили посменно: всю ночь нужно было поддерживать огонь, чтобы с его помощью обезопасить себя от нападения диких зверей. Араб любезно вызвался дежурить первым, и, пожелав Шварцу спокойной ночи, придвинулся поближе к костру.
Посреди ночи Шварц проснулся от выстрела. Не успев понять, что происходит, он вскочил и схватился за свое ружье.
— Ничего, это всего лишь крокодил, — сказал Охотник на слонов, спокойно сидевший на прежнем месте с дымящейся двустволкой в руке. В нескольких шагах от него корчился в предсмертных судорогах гигантский крокодил. — Видимо, голод выгнал его из болота к костру, где вместо угощения он получил мою пулю.
— Веселая история, — заметил Шварц, — может быть, стоит отойти немного подальше от болота?
— Думаю, это теперь не обязательно. Мой выстрел так испугал этих тварей, что больше ни одна не решится выползти. Можешь спокойно отдыхать. Ты можешь поспать еще полчаса, а потом наступит твоя очередь дежурить.
— Пожалуй, я начну свою вахту прямо сейчас. И если к нам заглянет еще парочка крокодилов, думаю, я не отдам себя им на съедение.
— Как хочешь. Ты убедился, что на меня можно положиться. Надеюсь, что и я буду чувствовать себя спокойно под твоей защитой.
Он перезарядил ружье, лег на землю и поплотнее закутался в свою накидку. Шварц с немалым удовлетворением признался себе, что при первом знакомстве он недооценил хладнокровие и надежность этого человека. Потом он подбросил в костер охапку тростника и приготовился ждать утра.
Этой ночью ему было одиноко, как никогда. Издалека доносились голоса диких зверей, которых отпугивало кишащее крокодилами болото и яркий свет костра. Впрочем, здешние звери никакой опасности не представляли: львы и пантеры не водятся в этой лишенной воды местности, а гиены и шакалы практически безвредны. Поэтому Шварц сосредоточил все свое внимание на болоте — но и его обитатели больше не пытались напасть.
Незадолго до рассвета Шварц бросил верблюдам немного тростника на завтрак и разбудил напарника, чтобы тот не пропустил своей обязательной молитвы.
Разумеется, за ночь куры окончательно протухли; в жарком климате здешних мест мясо не может храниться более часа, и многие местные племена вообще не едят этих птиц, хотя имеют их избытке. Немец бросил кур в болото, где мгновенно началась за них поистине жестокая борьба. В схватке крокодилы наносили друг другу смертельные ранения: Шварц видел, как одному оторвали ногу, другому хвост, а третьему откусили половину морды.
В этот день дорога была не такой трудной, а местность не такой унылой, как вчера. Следы ловцов рабов снова вели по берегу реки, которая, описав большую дугу на восток, текла теперь в прежнем, южном, направлении. Появилась питьевая вода, зелень для верблюдов и утки. Шварц одним выстрелом убил двух, и запасы провианта были пополнены.
Подбадриваемые свистками, верблюды шли сегодня еще проворнее, чем вчера. Еще до полудня всадники достигли места, где ловцы рабов останавливались этой ночью. Окрыленные успехом путники решили позволить себе и своим слабым животным час отдыху. Они спешились, развели огонь и поджарили утку.
Как и прежде, во время этого привала спутники почти не разговаривали. Охотник на слонов казался очень молчаливым человеком, да и Шварц не особенно стремился разговорить его.
После полудня почва под ногами стала неровной, а слева показались довольно высокие для этих мест холмы. У одного из них была широкая ложбина, вдоль которой, как было видно по следам, арабы поднялись на холм. Некоторые участки этого пересохшего сейчас русла была влажными, кое-где еще стояла вода. Здесь Шварц мог бы пополнить свою коллекцию флоры и фауны, но на это у него, к сожалению, совсем не было времени: ловцов рабов следовало обогнать не позднее завтрашнего утра. По этой причине дудочки звучали сегодня практически без перерыва, и верблюды побивали все личные рекорды.
Следы ловцов рабов петляли между холмами, а затем снова свернули вниз к реке. Нил делал здесь новый поворот, который арабы срезали. Но они не остались у реки: следы шли вдоль находившегося неподалеку заливчика и, обогнув его край, терялись из виду.
Нил часто образует сильно врезающиеся в сушу заливы, которые во время сезона дождей наполняются водой. В самых глубоких из этих заливов вода после половодья не высыхает, а остается стоять даже в самые жаркие месяцы. Возле одного из таких изолированных впадин и оказались сейчас оба всадника. На этом месте им пришлось разбить лагерь, чтобы ночь не застигла их в пути.
Примерно в сотне шагов от воды стоял гигантский баобаб в добрых двадцать локтей высотой. Концы его голых сейчас ветвей склонились почти до самой земли, так что верхушка образовала полукруг, в середине которого находился чудовищной толщины ствол: он достигал не менее пятидесяти футов в обхвате. К этому баобабу путешественники направили своих верблюдов, полагая, что там им будет не слишком докучать роившаяся над водой мошкара.
Окрестности залива были полны всякой живности. Пока Охотник на слонов собирал сучья для костра, Шварц успел подстрелить жирного гуся, которого он тут же принялся ощипывать. На закате солнца араб совершил вечернюю молитву, а затем разжег четыре костра по краям маленького лагеря: таким образом он надеялся обезопасить себя и своего товарища как от ночных комаров, так и от прочих, более крупных и опасных «гостей». Закончив свою работу, Охотник на слонов принялся молча наблюдать за тем, как Шварц потрошит птицу и насаживает ее на импровизированный деревянный вертел. Казалось, охотник на слонов и сегодня не собирается раскрывать рта.
Верблюдов напоили у залива и наломали им веток на ужин, теперь и людям можно было приступать к еде. Мужчины сидели у огня и с наслаждением вонзали зубы в сочное мясо.
Вся равнина была охвачена непроницаемой тьмой, с наступлением ночи жизнь на ней полностью замерла. Ослепленные светом костра, Шварц и охотник не видели ничего, кроме густой кроны баобаба. Поэтому оба вздрогнули от неожиданности, услышав совсем рядом с собой треск ломаемых сучьев и чье-то шумное сопение.
— О Боже, буйвол, буйвол! — вскричал Охотник на слонов, поднимая глаза.
В мгновение ока он вскочил, схватил свою двустволку и наугад выстрелил в темноту, но, как и следовало ожидать, промахнулся.
Дикие африканские буйволы намного сильнее индийских и обладают гораздо более необузданным нравом. Они любят заболоченные места, быстро бегают, прекрасно плавают и легко продираются сквозь самый густой подлесок. Опытные охотники на буйволов считают свое ремесло куда опаснее, чем охота на слонов, бегемотов и носорогов. Буйволы чрезвычайно выносливы: даже смертельно раненные, они продолжают нападать. Особенно опасны так называемые «бродяги» — буйволы-одиночки, изгоняемые из стад за свою безумную злобность, которой не могут вытерпеть даже их собратья. Суданцы говорят: «Если ты замечаешь стадо буйволов — оно убежит от тебя, если ты натыкаешься на буйволиную семью — тебе нечего бояться, но если ты встретишь одиночку-шатуна — пусть Аллах поможет тебе!»
Как раз «бродяга» просунул сейчас сквозь ветви баобаба свою огромную голову с мощными рогами и свисающими по бокам ушами. Вместо того, чтобы отпугнуть его, огни костров, наоборот, привлекли его внимание и возбудили в нем ярость. Он увидел людей и верблюдов и собирался на них броситься, но в этот момент ему навстречу полетели пули из двустволки Охотника на слонов. Видимо, они все же слегка задели его, потому что он на миг остановился, как будто пораженный тем, что кто-то еще осмеливается помышлять о сопротивлении, а затем с яростным ревом бросился вперед.
— Прячься за дерево! — крикнул Шварц арабу.
Это предостережение было излишним, так как охотник уже исчез за толстым стволом баобаба. Он думал, что Шварц последует его примеру, но тот остался стоять на месте, хладнокровно глядя на буйвола и сжимая в руке ружье. Зверь уже наклонил голову, готовый поднять противника на рога, но тут Шварц отпрыгнул в сторону и, почти не целясь, выстрелил. Буйвол застыл прямо в прыжке, судорога прошла по его телу — и он с шумом обрушился на землю.
Не потрудившись даже взглянуть, насмерть ли поразили зверя его выстрелы, Шварц взял патронташ и стал перезаряжать ружье, а потом сказал таким спокойным тоном, будто только что прихлопнул муху:
— Можешь возвращаться, он мертв.
— Мертв? — переспросил Охотник на слонов, осторожно высовывая из-за дерева кончик носа. — Это не может быть!
— Подойди ближе и убедись своими глазами!
— Значит, я все же попал в него!
— Ты? Не думаю. Ты, кажется, совсем не знаешь, где у буйвола уязвимое место. Куда ты стрелял?
— В лоб.
— Прекрасно. Теперь посмотри, куда попали твои пули.
Шварц склонился над поверженным чудовищем и стал осматривать его голову.
— Бог с тобой, что ты делаешь? — в ужасе закричал араб. — Ты что, убить себя хочешь? Если он еще жив, тебе конец!
— Не беспокойся, я очень хорошо знаю, что делаю. Посмотри сюда. Одна твоя пуля продырявила ему ухо, а другая скользнула по рогу. Подойди, и ты сам все увидишь!
Охотник на слонов сделал несколько шагов вперед, затем вытянул вперед руку и осторожно провел ею по спине зверя. Потом он еще подергал его за хвост и за ногу и только после этого решился приблизиться к голове и осмотреть места, в которые попали его пули.
— Не понимаю, что случилось! — воскликнул он немного погодя. — Ты был прав. Я, пожалуй, вообще его не ранил, потому что дыра в ухе не считается. Но куда же попал ты? Я видел, как он остановился посреди бега, будто Аллах схватил его собственной рукой, а потом задрожал и упал и больше уже не шевелился.
— Сначала я раздробил ему последний шейный позвонок — это тогда он остановился, а второй мой выстрел, в сердце, свалил его наземь. Выбора у меня особенно не было, потому что он бросился ко мне с наклоненной головой.
— Ты в самом деле метил именно в эти места? — опешил Охотник на слонов.
— Конечно.
— Но ты же совсем не целился!
— Ты ошибаешься. Для того чтобы как следует прицелиться, вовсе не обязательно подносить ружье к глазу. Я стрелял почти в упор и направил дуло прямо в те точки, куда собирался попасть. Конечно, здесь не обойтись без определенной сноровки. Во-первых, в таких случаях нужно действовать очень быстро, если не хочешь быть вздернутым на рога, ну и конечно, охотник должен быть абсолютно уверен в своем ружье.
Охотник на слонов выпрямился, окинул немца изумленным взглядом, а потом сказал:
— Ничего не понимаю. Ты ученый человек. Как же ты можешь так отважно вести себя с опаснейшим из зверей?
— Это не первый буйвол, которого я убил, — объяснил Шварц. — Когда я был с моим братом в Америке, нам приходилось иметь дело с тысячными стадами животных, подобных этому буйволу. Но о себе я не хочу говорить. Скажи-ка лучше, ты по-прежнему уверен, что твое ружье лучше моего только потому, что оно больше и тяжелее?
— Я теперь ни в чем не уверен, — махнул рукой араб. — Я только знаю, что сейчас был бы трупом, если бы ты двумя выстрелами не уложил этого дьявола. Он растоптал бы нас и верблюдов, которые даже не смогли бы убежать, потому что мы их стреножили. И это не случилось только потому, что ты так хорошо стреляешь. Пожалуй, мне скорее стоит просить твоей защиты, чем обещать тебе свою!
— Мы друзья и в равной степени можем рассчитывать на помощь друг друга. Ни один из нас не должен покидать другого в беде. Если мы сделаем это нашим основным законом, нам не страшны опасности, которые ждут нас впереди. А теперь, по-моему, самое время продолжить нашу трапезу. Там лежит замечательный гусь, и я думаю, он будет недоволен, если достанется на съедение коршунам или шакалам.
С этими словами Шварц снова придвинулся к костру и отрезал себе кусок жаркого. Охотник на слонов не знал, что и сказать: поразительное спокойствие и хладнокровие этого человека ставило его в тупик. В конце концов он счел за лучшее последовать примеру товарища и, подложив в костер охапку хвороста, сел, чтобы со своей стороны оказать гусю подобающую ему честь. Но мысли его все еще были сосредоточены на недавнем происшествии, поэтому через некоторое время он не удержался и спросил:
— А что мы теперь будет делать с этим Отцом Рогов?[113] Если он останется здесь лежать, сюда скоро сбегутся хищники со всей округи!
— Не думаю. Из него почти не вылилось крови, и если мы не будем его разделывать, запах за ночь не успеет далеко распространиться. К тому же ни один лев не решится пройти через четыре костра; на такое мог осмелиться только самый непокорный зверь вроде этого бычка.
— Но верблюды его боятся!
— Они скоро успокоятся. Пусть себе валяется здесь на радость коршунам — все равно он слишком стар и мясо его несъедобно. В другое время я взял бы с собой его череп с мощными рогами, но сейчас, к сожалению, не могу. Ну, да не беда: ведь цель нашей теперешней прогулки ничуть не менее благородна, чем служение науке! Итак, оставим Отца Рогов на произвол судьбы и удовлетворимся сознанием того, что благодаря нам план, который он против нас замышлял, позорно провалился!
— Эфенди, ты такой же мужественный и спокойный человек, как Эмин-паша. Могу я услышать твое имя, чтобы знать, как к тебе обращаться?
— Ты вряд ли сумеешь его выговорить, но если хочешь, я скажу его тебе в арабском переводе. На твоем языке мое имя звучит как Асвад[114], так ты можешь меня называть.
— Просто Асвад? Такое короткое имя?
— Да. На моей родине нет таких длинных имен, как у вас. Там человек с самым коротким именем вполне может стать знаменитым героем или ученым. Ну, а теперь, может быть, и ты скажешь мне, как тебя зовут по-настоящему?
— К сожалению, я не могу этого сделать, эфенди. Когда я покидал Дар-Рунг, то поклялся Аллаху никому не открывать моего имени до тех пор, пока не отыщу след пропавшего сына. Этого пока не случилось, и кто знает, случится ли когда-нибудь! Для всех я просто Охотник на слонов, но если тебе хочется называть меня иначе, зови меня Бала Ибн[115] — это имя подходит мне как нельзя лучше.
— Хорошо, я буду называть тебя так в глаза и когда мне придется рассказывать кому-нибудь о тебе. А о том, при каких обстоятельствах ты потерял своего сына, тебе тоже нельзя говорить?
— Конечно, можно, эфенди, иначе как бы я мог надеяться, что когда-нибудь найду его! Я рассказываю о моем несчастье всем и каждому, но ни один из сотен людей, которых я встречал, ничего не мог сообщить мне о моем сыне. Я уже давно сомневаюсь в том, что мой сын жив, но все же остаюсь верен моей клятве и буду искать его и его похитителя до тех пор, пока Аллах не призовет меня к себе.
Он поднес к глазам руку, как будто хотел скрыть промелькнувшую в них печаль, и продолжал:
— Я был самым богатым и уважаемым человеком своего племени, вождем наших воинов и старшиной в совете мудрецов. Я считал себя самым счастливым человеком на свете, да я и был таковым до тех пор, пока не пришел тот, кто явился причиной всех моих бед. Я безумно любил мою жену и своего единственного ребенка, мальчика, которого мы называли Мазид-эт-Тмени-Саваби-Илиджр[116]. И вот однажды…
— Постой-постой, — перебил его Шварц, — как, ты сказал, его звали? Мазид-эт-Тмени-Саваби-Илиджр? Почему ты дал сыну такое имя?
— Потому что на каждой ноге у него было не пять, как у всех, а только четыре пальца. Не знаю, приходилось ли тебе встречать таких людей в твоей стране. У нас такое бывает очень редко.
— У нас тоже. Но я знал людей, у которых пальцы на руках или ногах отсутствовали от рождения, и даже одного человека с шестью пальцами на каждой руке.
— С руками у моего сына все было в порядке, а вот на каждой ноге недоставало мизинца. Но за это Аллах наградил его необыкновенной душой; Мазид был самым умным ребенком во всем племени. Ему еще не было трех лет, когда произошла эта ужасная история. Случилось так, что в нашу палаточную деревню пришел работорговец, чтобы продать нам своих рабов. В основном это были женщины и дети, все негры, кроме одного мальчика, у которого была белая кожа, гладкие волосы и совсем не негритянские черты лица. Когда весть продаже рабов распространилась по всей округе, отовсюду к нам стали приходить бени эль араб, чтобы торговаться с ним. Светлокожий мальчик все время плакал; говорить он не мог, потому что у него был отрезан язык.
— Ужасно! Сколько ему было лет?
— На вид около четырнадцати. Торговец пробыл у нас почти неделю, когда из Биркет-Фатме пришел человек с большой свитой и заявил, что работорговец похитил его сына. Отец бросился в погоню за негодяем, и следы привели его к нам, — так он сказал.
Торговец клялся Аллахом, что впервые видит этого человека, и, так как он был нашим гостем, мы должны были взять его под свою защиту, но рассказ незнакомца звучал весьма правдоподобно, и мы не знали, что и думать. Был созван совет старейшин, на котором я решил, что мальчик должен быть показан человеку, называвшему себя его отцом. С последнего мы взяли обещание, что он при этом будет сохранять спокойствие и не произнесет ни единого слова. Затем привели мальчика, которого до сих пор держали взаперти. Увидев незнакомца, он издал радостный крик и бросился ему на шею. Он узнал и других людей из Биркет-Фатме, и они узнали его. Разве это не было доказательством, что он действительно сын этого человека?
— Разумеется, было, — ответил Шварц.
— Таким образом, торговец украл и сделал рабом сына правоверного мусульманина; по закону такое преступление карается смертью. Кроме того, он вырвал у мальчика язык, чтобы тот не мог выдать своего похитителя, и за это он должен был понести отдельное наказание. Снова собрался Большой Совет, и на нем работорговцу был вынесен приговор, в котором назначались ежедневные плети за вырезание языка и смерть за похищение мальчика. Все рабы, которых привел с собой преступник, были переданы в собственность несчастного мальчика, чтобы хоть немного вознаградить его за перенесенные им страдания.
— И что же, этот приговор был исполнен?
— К несчастью, только его малая часть. Приговор должен был приводить в исполнение отец мальчика, но наказание могло свершиться не раньше, чем через неделю. Как я уже сказал, виновный был гостем в деревне, и в течение четырнадцати дней находился под нашей защитой. Поэтому мы заперли преступника, чтобы через семь дней выдать его отцу мальчика, а до тех пор его должны были пороть каждое утро. Это произошло дважды под моим личным присмотром. На третий день работорговец исчез. Наши воины тут же оседлали лошадей и кинулись на поиски, но вскоре они вернулись ни с чем. Люди из Биркет-Фатме вместе с мальчиком отправились восвояси; от мести им пришлось отказаться.
— Как же эта история связана с пропажей твоего сына? — спросил Шварц.
— Напрямую. Через несколько недель посол из Саламата[117] доставил мне письмо, подписанное именем Абдурриза бен Лафиз — так, оказывается, звали работорговца. Этот пес обвинял меня в том, что я невинно осудил его, и клялся отомстить мне таким образом, чтобы я до конца своих дней вспоминал о похищенном мальчике из Биркет-Фатме. Мерзавец выполнил свое обещание! Примерно месяц спустя на военное празднество. Мы пробыли там всего несколько дней, когда из дома ко мне примчался вестник со страшным сообщением об исчезновении моего сына. Ребенок был похищен ночью, а утром мои люди нашли прикрепленную к колышку палатки записку. В ней Абдурриза бен Лафиз сообщал мне, что он похитил моего мальчика вместо другого, отобранного у него, и что я никогда в жизни не увижу свое единственное дитя!
— Господи, какое страшное, чудовищное злодеяние! — воскликнул Шварц.
— И это еще не все. Он писал также, что вырежет моему сыну язык и, кроме того, будет ежедневно пороть его в отместку за те плети, что пришлось ему вытерпеть. Я словно обезумел. Все мои воины рыскали по округе, надеясь схватить этого дьявола — но тщетно! Когда через несколько недель мы вернулись, моя жена лежала в горячке. Только возвращение сына могло спасти ее, но я не привез ей его — и она умерла. Похоронив ее, я дал клятву, о которой ты знаешь. Я отпустил на свободу всех своих рабов, поручил брату вести хозяйство и пустился на поиски сына. Ни один негритянский вождь в пределах досягаемости Хедива не мог позволить себе купить белого раба, поэтому я решил отправиться на север и на запад. Мой путь лежал через Ваддаи и пустыню в Борку, затем назад в Канем[118] и Борну, Багирми[119] и Адамауа[120]. Я спрашивал о сыне в каждой деревне, и однажды мне показалось, что я набрел на его след, но судьба и на этот раз посмеялась надо мной. Потом я повернул на восток, обошел весь Кордофан и Дарфур — напрасно! Шли годы. Мое сердце совсем измучилось от боли, а волосы поседели. Тринадцать лет понадобилось мне на то, чтобы сделать единственный положительный вывод: все это время я двигался в неверном направлении! Тогда я пошел на юг, от Хабеша[121] в страну галла[122] и к Великим озерам, был я и у народов, что живут к западу оттуда. С тех пор прошло еще два года. Я жил охотой. Думаю, не стоит тебе рассказывать о перенесенных мной лишениях и об опасностях, которых не удалось избежать. Сейчас я исследую районы, примыкающие к Бахр-эль-Абьяду, в них я стал известен как Охотник на слонов. Я знаю, что и здесь не найду моего сына, наверняка страдания давно убили его! Но я неустанно молю Аллаха только об одном: пусть он сведет меня с Абдурризой бен Лафизом, если тот еще жив! О, если я встречу этого дьявола, он тысячекратно проклянет день, когда появился на свет! Сама преисподняя содрогнется при виде тех мучений, которые ему придется претерпеть от меня!
Последние слова несчастный отец процедил сквозь зубы таким тоном, что у его собеседника мороз пробежал по коже, затем рассказчик наклонил голову и снова закрыл лицо руками. Он настолько погрузился в свои мрачные мысли, что испуганно вздрогнул, услышав мягкий голос Шварца:
— Аллах милосерден и всемогущ. Он никогда не карает людей безвинно. Может быть, ты жестоко обращался со своими невольниками, и он захотел показать тебе, сколько боли и ужаса заключает в себе слово «рабство».
Араб застонал, затем с тяжелым вздохом признался:
— Я был жесток с рабами. Многие негры умерли под моим кнутом, некоторым я отрубал руки, одному велел отрезать язык за то, что он оскорбил меня. Только после случившейся со мной беды я раскаялся и освободил всех.
— Вот видишь, я был прав. Все люди, белые и черные, — дети Господа и равны перед ним. Аллах справедливо осудил тебя, но он видел твое раскаяние и все страдания, которыми ты искупал свою вину. Я уверен, что он смилостивится над тобой и скоро позволит тебе вновь обрести сына!
— Нет, никогда, никогда этого не будет!
— Не говори так! Какое ты имеешь право сомневаться в Божьей милости? Разве твоя вера не обещает прощения раскаявшимся грешникам? Пусть не веришь в Спасителя, который умер на кресте за людей, и за тебя, конечно, в том числе, но уповай по крайней мере на то, что Аллах услышал твои жалобы и благая весть, быть может, находится уже на пути к тебе.
— Это невозможно, немыслимо, — возразил Бала Ибн, — если бы Аллах хотел мне помочь, он уже давно сделал бы это!
— Только он один знает, почему все в жизни происходит так, а не иначе. Может быть, ты никогда раньше не осознавал свою прежнюю жестокость с такой отчетливостью, как сегодня.
В течение нескольких секунд Охотник на слонов смотрел вниз перед собой, а потом с заметным трудом выговорил:
— До сих пор никто не осмеливался прямо указать мне на это, и я сам был не до конца откровенен с собой. Ты первый, кто, ничего не боясь, прямо заявил мне: «Ты согрешил перед своими рабами, и ты виновен». Я вижу перст судьбы в том, что именно чужестранец, христианин, которого я, в сущности, должен был бы презирать как гяура, открывает мне глаза на мои преступления. Я никогда не смогу исправить того, что сделал, теперь я понимаю, что не заслуживаю милости от Аллаха. И все же я чувствовал бы себя на седьмом небе от счастья, если бы мне было дозволено еще хоть раз увидеть его, даже если… если бы у него отсутствовал язык, и он, узнав меня, не смог бы сказать мне «отец»!
Искренность этих слов и страсть, звучавшая в голосе Охотника на слонов, глубоко тронули немца. С сияющими от радости глазами он положил руку охотнику на плечо и сказал:
— Вот теперь ты все понимаешь правильно, теперь Аллах наверняка услышит тебя и прекратит твои мучения. Я предчувствую, что очень скоро ты получишь долгожданное известие, и, может быть, одна из причин этого — наш теперешний разговор и то, что ты решился сегодня открыть мне свою душу.
— Ты говоришь загадками. Люди моего племени напрасно искали повсюду моего пропавшего мальчика. Потом я на протяжении пятнадцати лет скитался по всей стране, рассказывая всем и каждому о приключившемся со мной несчастье. Моя история передавалась из уст в уста, тысяча людей объединили свои усилия с моими, и даже после этого мне не мелькнул ни малейший луч надежды. И вот я встречаю тебя, европейца, который здесь совсем недавно и почти не знает нашей страны, наших народов и обычаев. Я совершенно случайно рассказываю тебе о своей беде только потому, что ты поинтересовался моим именем, и ты вдруг оказываешься именно тем посланником, через которого мне даруется благая весть? Нет, это было бы какое-то непостижимое чудо!
— В наши дни нередко происходят чудеса, хотя они и любят принимать форму самых простых и обыденных вещей. А что, если мне приходилось встречать твоего сына, если я его знаю? Это тебе тоже кажется нереальным?
— Нет, но… Этого не может, не может быть!
— Я начинаю думать, что ты — самый настоящим гяур. Ты отказываешься верить вести Аллаха только потому, что тебе принес ее христианин?
Бала Ибн бросил долгий, испытующий взгляд на одухотворенное лицо немца, его мрачные черты просветлели, глаза широко раскрылись, и голос его задрожал, когда он сказал:
— Аллах посылает смерть, но он дает также и жизнь. По твоему лицу я вижу, что ты неспроста говоришь мне все это. Может быть, ты думаешь, что знаешь что-то о моем мальчике; я уверен, что ты заблуждаешься, что это снова один из тех обманов, жертвой которых я оказывался сотни раз, но говори, говори! Тебе знаком кто-то, кто мог бы быть моим сыном?
— Да.
— Сколько лет этому человеку?
— Около восемнадцати.
— Где он находится?
— Он живет у ниам-ниам.
— Как его зовут?
— Его называют Сын Тайны, это имя ему дали потому, что о его происхождении никому ничего не известно. Сын вождя ниам-ниам — его закадычный друг. Однажды я случайно подслушал разговор этих двоих и узнал, что Сын Тайны, когда остается с глазу на глаз со своим другом, разрешает ему называть себя Мазидом.
— Боже милосердный! Но это может быть всего лишь совпадение!
— Не думаю. Разве имя Мазид является распространенным в вашей стране?
— Нет. Кроме моего сына, я не знаю никого, кого бы так звали.
— Вот именно. В первый раз в жизни я слышал это имя во время того разговора, а во второй и последний — сегодня от тебя.
— Какого цвета кожа у этого юноши?
— Он, пожалуй, немного темнее, чем ты был в юности.
— Верно, верно! У его матери кожа была темнее моей. Может быть, ты прав, может быть, именно тебе суждено принести свет в мою душу?! Но скажи же скорее главное! Ты видел его ступни?
— Да. На каждой ноге у него не хватает мизинца.
— О, Боже! — вскричал араб душераздирающим голосом. Затем он постарался взять себя в руки и продолжал уже спокойнее: — В моем сердце снова пробуждается надежда, и у меня такое чувство, будто волосы на моей голове в это мгновение стали темными, как прежде. Мне хочется кричать и плакать от счастья, но я должен сдерживаться, иначе у меня не хватит сил вынести новое разочарование. Я не имею права верить тебе на слово. Я должен оставаться хладнокровным, спокойно, как посторонний, которого все это совсем не касается, обдумать то, что ты мне сейчас сообщил. И я должен привести тебе все сомнения, которые тучами роятся сейчас в моей голове.
— Ну, разумеется! Нам обоим следует все хорошенько взвесить. И если у тебя есть сомнения, выскажи их прямо сейчас!
— Это я и собираюсь сделать. Ты сказал, что ты слышал, как мой сын разговаривал со своим другом. Но я убежден, что мой сын, если он еще жив, вообще не может говорить!
— Потому что работорговец пригрозил тебе тогда вырезать у него язык?
— Да.
— Он, конечно, сделал это с намерением усилить твои страдания. Но, может быть, разум посоветовал ему не приводить угрозу в исполнение. Немые рабы уже давно не пользуются спросом. Слуга должен быть в состоянии исполнить все поручения своего хозяина, и раба с таким серьезным физическим недостатком, как отсутствие языка, сейчас мало кто купит. Работорговец не мог не знать этого и, скорее всего, посчитал невыгодным увечить твоего сына.
— Но ведь он похитил Мазида из мести, а не ради денег. К тому же он наверняка мог опасаться, что мальчик выдаст его.
— Я, может быть, согласился бы с тобой, если бы мальчик был старше. Хотя, даже в этом случае немота его жертвы не обеспечила бы преступнику полной безопасности. Есть много способов сообщить окружающим то, что человек не может сказать устно: так, например, всякий немой может выучиться писать. Но все это не относится к твоему сыну. Мальчику, как ты сказал, не было еще и трех лет, когда его похитили. Абдурриза бен Лафиз прекрасно понимал, что достаточно будет нескольких месяцев, чтобы новая обстановка полностью вытеснила из детской души все прежние впечатления.
— Эфенди, каждое твое слово возвращает меня к жизни, хотя мне и горько сознавать, что мой сын теперь не помнит ни счастливых дней своего детства, ни родных отца с матерью!
— По этому поводу я не могу сказать тебе ничего определенного. Сын Тайны никогда не говорит о своем прошлом, но я знаю, что он страстно желает отомстить кому-то, и подозреваю, что этот «кто-то» — не кто иной, как его похититель.
И Шварц, и охотник давно уже вскочили на ноги и продолжали разговор, стоя друг напротив друга. Охотник на слонов не отрывал взгляда от своего собеседника, как будто от приговора, который тот ему сейчас вынесет, зависело, жить ли ему дальше или немедленно умереть.
— Так значит, месть, он жаждет мести, — задумчиво повторил араб. — Он забыл все и всех, кроме того человека, который сделал его несчастным. Как давно он живет у ниам-ниам? Он попал к ним еще ребенком?
— Нет. Он появился в краю ниам-ниам два года тому назад. Кто он и откуда, выпытать никому не удалось: так он и остался для всех Сыном Тайны.
— А что он делает у этих негров? Чем он зарабатывает на пропитание?
— Когда сын вождя впервые встретил его в лесу, он привел его к своему отцу. Чужой мальчик умел обращаться с оружием и с первых дней показал себя таким мужественным и ловким воином, что князь принял его в свою личную охрану, где он чувствует себя счастливым, насколько это возможно в его обстоятельствах. Несмотря на свою молчаливость и замкнутость, он быстро завоевал всеобщее расположение. Я много наблюдал за ним, и мне всегда казалось, что за свою короткую жизнь он многое успел повидать. Он знает все народы от Бахр-эль-Абьяда до Великих озер, он говорит на многих языках и диалектах…
— И на арабском тоже? — перебил Шварца Охотник на слонов.
— Да, и на арабском. Кроме того, он знает толк во многих вещах, которые абсолютно неизвестны его теперешним товарищам. Одним словом, он так умен, ловок и находчив, что все ниам-ниам завидовали бы ему, если бы он не обладал даром с первого взгляда вызвать к себе любовь.
— Выходит, он хороший человек и занимает в этом племени более высокое положение, чем обычные негры? — спросил Бала Ибн, и впервые за этот день радостная улыбка осветила его изможденное лицо.
— Да, у него добрая и чистая душа, — отвечал Шварц. — Он сознает свое превосходство над ниам-ниам, это сознание оказывается во всем его облике и манере держаться. Он очень горд, но его гордость далека от высокомерия и никого не задевает. Его можно сравнить с молодым, благородным конем, который находится на одном пастбище с обычными лошадьми. Он ладит с ними и, может быть, даже считает себя таким же, как они, и все же одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что когда-то он носил более красивое седло и более знатных всадников, чем другие.
— Аллах, о, Аллах, — простонал охотник, складывая руки, — умоляю тебя, сделай так, чтобы это действительно был мой сын! Мне надо скорее спешить в страну ниам-ниам, чтобы увидеть его!
— Ты его уже видел.
— Что ты говоришь?! Где?
— Среди развалин поселка Абуль-моута. Помнишь того юношу, который подошел к шейху джуров, чтобы сообщить ему о нашем прибытии?
— Да, я сразу заметил его и почувствовал к нему необъяснимую симпатию. Когда наши глаза встретились, в моей душе как будто затеплился слабый огонек; такое чувство бывает у заблудившегося путника, который вдруг видит вдали свет чьего-то костра. Так вот он какой, этот Сын Тайны! О, Мухаммед и все святые халифы! Юноша был рядом со мной, я видел его, слышал его голос и даже не подозревал о том, что это может быть мой Мазид, мой мальчик, которого я тщетно искал все эти годы! Где же он теперь? Куда он отправился?
— В деревню Магунда. Он рулевой моей лодки.
— Так он знает реку?
— Как свои пять пальцев. И не только реку, но и ее берега, и народы, которые их населяют. Но при каких обстоятельствах он так хорошо все это изучил, никому не известно.
— Кто бы он ни был, это выдающийся человек, — заключил араб. Немного погодя он снова заговорил, приложив руку к груди: — Мое сердце так сильно бьется, словно хочет выскочить наружу! Я знаю, что твои люди ожидают тебя в деревне Магунда. Он тоже останется с ними до твоего возвращения?
— Конечно! Без него я не смог бы закончить путешествие.
— Тогда я изменю свой маршрут. Я пойду с тобой в Омбулу, чтобы предупредить тамошних жителей, а потом мы вместе вернемся в Магунду, и я поговорю с Сыном Тайны. Да, эфенди, ты был прав, когда говорил, что нельзя сомневаться в милости Аллаха и что, может быть, именно тебе суждено вернуть мне надежду. Я стал теперь совсем другим, новым человеком, и за это после Аллаха мне следует благодарить тебя. Мы должны быть не просто друзьями, которые честно делят друг с другом опасности пути. Скажи, хочешь ли ты быть мне братом?
— Конечно, от всей души! Вот тебе в этом моя рука!
— А вот и моя! — сказало Охотник на слонов, пожимая протянутую Шварцем руку. — Дружба за дружбу, жизнь за жизнь, — такими словами арабы заключают между собой братский союз на всю жизнь. Теперь и ты повтори их за мной!
После того, как Шварц произнес клятву дружбы, араб обнял его, поцеловал и сказал:
— С этой минуты мы — все равно что один человек. Горе тому, кто посмеет обидеть тебя: моя месть настигнет его даже на краю земли. Но довольно с нас волнений! Давай сядем, и ты подробно расскажешь мне все, что знаешь о Сыне Тайны.
Друзья снова опустились на траву возле костра, и Шварц начал свой рассказ. Бала Ибн хотел, чтобы немец описал ему каждую мельчайшую черточку лица юноши, передал каждое слово, которым он когда-либо с ним перемолвился. Так прошло время до полуночи, и глаза у Шварца, порядком измотанного напряжением последних двух суток, начали слипаться от усталости.
— Спи ради Аллаха! — сказал Охотник на слонов, заметив это. — Спи всю ночь, сегодня я не буду тебя будить. После всего, что я узнал, мне все равно не удастся сомкнуть глаз до утра. Надеюсь, ты меня поймешь и не будешь возражать против того, чтобы я на этот раз отдежурил за тебя.
Шварц видел, что его друг и в самом деле слишком взволнован, чтобы спать, поэтому он без возражений лег на землю, завернулся в свой бурнус и тут же провалился в глубокий сон.
Глава 10
В ПУТАХ РАБСТВА
Ночью путешественников никто не потревожил. Немец крепко проспал до самого утра и проснулся от звука голоса мусульманина, который молился особенно ревностно. Позавтракали остатками вчерашнего гуся с лепешками, которые Охотник на слонов испек в золе догоравшего костра. Затем Шварц напоил и накормил верблюдов, и путники тронулись дальше.
Глядя на охотника, никак нельзя было заподозрить, что он не спал всю ночь. Он как будто помолодел на десять лет и утверждал, что давно не чувствовал себя таким веселым и бодрым, как сегодня.
Друзья были уверены, что догонят ловцов рабов еще до полудня, но их ожиданиям не суждено было сбыться. Обогнув край заливчика, следы арабов вновь свернули к реке. Вдоль ее берега тянулся густой лес, и на его границе с равниной наподобие форпостов росли многочисленные кусты. Некоторые из них были обглоданы, видно, ими успели полакомиться коровы, которых захватили с собой поджигатели отряда ловцов рабов. Последние проходили здесь не так давно: их следы еще отчетливо виднелись на влажной земле.
Всадники ехали рядом, громко беседуя между собой. Только что они миновали место, где кусты стояли почти вплотную друг к другу, и теперь собирались выехать на свободное пространство, как Шварц внезапно осадил своего верблюда и знаком приказал своему спутнику сделать то же. Когда они вернулись немного назад и снова оказались укрытыми кустарником, немец негромко сказал:
— Черт возьми! Еще секунда, и нас бы обнаружили!
— Кто? — удивился Бала Ибн.
— Люди, которые пасут свои стада снаружи, на равнине.
— Негры или белые?
— И те, и другие.
— Кто бы это мог быть?
— Сейчас увидим, — отвечал Шварц. Он заставил своего верблюда опустить на колени и спешился. Араб последовал его примеру. Затем путешественники раздвинули руками ветки, и глазам их предстала следующая картина.
У самой кромки леса, то есть слева от притаившихся за кустами наблюдателей, расположились лагерем около сорока человек всевозможных оттенков кожи и одетых в самые причудливые одежды. Возле них лежали ружья и огромные тюки с поклажей, а немного поодаль паслось довольно большое стадо коров, около которых виднелись также лошади и верблюды. Десять человек образовывали цепь по другую сторону стада, чтобы не дать животным вырваться на равнину, которая простиралась направо, к западу. Если бы Шварц позволил своему верблюду сделать еще несколько шагов, эти люди неминуемо заметили бы его.
— Ты догадываешься, кто это такие? — спросил он у своего товарища.
— Да, — кивнул головой тот.
— Ну и кто же?
— Гарнизон, который остался в поселке, а потом сжег и разграбил его.
— Вот и я так думаю. Только я не могу взять в толк, как эти парни осмелились остановиться здесь. Вообще не понятно, из каких соображений они выбрали то же направление, что и Абдулмоут. По-моему, это означает верную гибель: ведь они сами отдают себя ему в руки.
— Или наоборот, — заметил Охотник на слонов, делая жест рукой, будто закалывает кого-то ножом.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Не знаю, прав ли я, но мне кажется, я догадываюсь о их замыслах. Я слышал от джуров, что жестокий и несправедливый Абдулмоут не пользуется любовью своих подчиненных. Поэтому этот гарнизон и изменил ему. Но так же, как эти пятьдесят человек, думают и все остальные. Они тоже с удовольствием станут свободными, особенно если при этом им еще можно будет поживиться хозяйским добром. На таких единомышленников, скорее всего, и рассчитывают те, кто организовал это восстание. В самом деле, что можно сделать со всеми этими вещами, коровами и людьми? Они могут пригодиться только для основания нового поселка, и я не удивлюсь, если это действительно входит в намерения бунтовщиков. Но пятидесяти человек для ловли рабов слишком мало, значит, предводители восставших должны набрать себе новых солдат. А где же им легче всего подобрать подходящих людей, как не среди своих прежних товарищей?
— То, что ты говоришь, очень похоже на правду, — согласился Шварц.
— Только таким образом можно объяснить, почему они пошли по следу Абдулмоута, — горячо продолжал охотник. — Они хотят дождаться возвращения ловцов рабов и предложить им перейти на свою сторону. Большинство наверняка согласится на это, потому что им, конечно, пообещают более высокое жалованье, чем они получали до сих пор.
— А что будет с Абдулмоутом?
— Его, вероятно, убьют и разделят между собой все его имущество. Но, говоря это, я, разумеется, предполагаю, что нападение на Омбулу все же состоится.
— Господи, какие ужасные последствия влечет за собой торговля рабами! Люди, которые ей занимаются, теряют человеческий облик!
— Нынешней ночью я это понял с особой отчетливостью. Итак, эти ребята поджидают здесь Абдулмоута, чтобы его убить. Честно говоря, я им не завидую: даже если их замысел удастся, им не поздоровится!
— Почему ты так думаешь?
— Вспомни об Абуль-моуте, который через два дня будет со своими нуэрами в селении Умм-эт-Тимса! Как он, по-твоему, поступит, когда увидит вместо селения пожарище и узнает от джуров обо всем, что произошло?
— Он тут же бросится в погоню за мятежниками.
— Вот именно. И, несомненно, найдет их на этом самом месте, после чего перестреляет одного за другим. Одним словом, стервятники растерзают друг друга, за что Аллаха можно только поблагодарить. Но все же это очень некстати, что они расположились именно здесь! Теперь нам придется идти в обход, и мы потеряем много времени!
— К сожалению, ты и на этот раз прав. На наших верблюдах нас видно издалека, тем более в такой ясный день, как сегодня. Сейчас нам придется вернуться назад, а потом повернуть на запад и сделать довольно большой крюк по равнине. Прежде, чем мы снова выйдем на след Абдулмоута, пройдет добрых три или четыре часа.
— Да, никак не меньше. Но другого выхода у нас нет. Давай-ка поскорее отправимся в путь — это самое лучшее, что мы можем сейчас предпринять!
Всадники отъехали далеко назад, так что, когда они наконец свернули на равнину, лес с раскинутым на его опушке лагерем фельдфебеля показался им лишь узкой темной чертой, сливающейся с горизонтом. Теперь они могли быть уверены, что даже самый зоркий из ловцов рабов не сможет заметить их на таком расстоянии. Шварц достал подзорную трубу и напоследок окинул взглядом пасущихся животных и копошащиеся возле них человеческие фигуры. Затем он вновь спрятал трубу и тронул своего верблюда.
Как ни торопились путешественники, сбылись их самые худшие ожидания: когда они вернулись на след отряда ловцов рабов, прошло более четырех часов.
Эту потерю было трудно наверстать. Шварц и Бала Ибн изо всех сил погоняли животных, но те окончательно выбились из сил, и даже чудодейственные дудочки из камыша больше не вызывали у них никакой реакции.
Следы вели теперь строго на запад, и чем больше они удалялись от реки, тем суровее и печальнее становился окружающий пейзаж. Траву под ногами сменили обломки камней, каждый величиной с кулак. Это выглядело так, будто кто-то раскрошил здесь целую скалу на мелкие кусочки, которые затем равномерно разбросал по всей равнине.
Через некоторое время камни остались позади, а вместо них снова появилась земля, сначала сухая и жесткая, но постепенно становившаяся все более влажной. Потом всадников вновь обступили обильно покрытые травой холмы, между которыми извивались узкие долины. На горизонте возникла расплывчатая линия не то серого, не то бледно-голубого цвета. Она становилась все темнее и темнее и одновременно росла в высоту, так что вскоре превратилась в большой, закрывавший полнеба, горный массив.
— Памбиза, — сказал Бала Ибн, вытягивая вперед руку.
— Те горы, у подножия которых лежит Омбула? Ты уверен, что это они?
— Я, как и ты, впервые в этих краях, но думаю, что здесь поблизости нет других гор.
— Как ты считаешь, сколько нам еще до них добираться?
— Раньше вечера мы там не будем.
— Но вечером будет слишком поздно!
— Ты ошибаешься. Ловцы рабов никогда не нападают на деревню среди бела дня. Обычно они дожидаются рассвета, так что у нас есть еще немного времени, и я надеюсь, что мы успеем предупредить беланда об опасности.
— Значит, Абдулмоут будет искать надежное укрытие, чтобы вместе со своими людьми переждать там ночь?
— Вряд ли. Он поступит совсем по-другому. Видишь ли, у нас ведь редко встречаются такие большие скопления городов и деревень, как, например, в Египте. Люди могут жить только там, где есть вода, а других рек, кроме Нила, в Судане нет. Но в окрестностях Нила неграм селиться очень опасно, так как там они становятся легко достижимы для многочисленных водных экспедиций за рабами. Гораздо охотнее они оседают возле расположенных достаточно далеко от реки речных пойм и лагун. То же самое и с Омбулой. Шейх джуров сказал мне, что она находится в пустынной местности вблизи большого болота, которое в сезон дождей образует широкое и глубокое озеро. Далеко вокруг нее нет ни одной, даже самой маленькой, деревни. Поэтому ловцам рабов совсем не обязательно прятаться. Скорее всего, они пойдут прямо к своей цели.
— Но в таком случае их могут заметить!
— Ну, вплотную к деревне они, разумеется, днем приближаться не станут.
— А что, если какой-нибудь из жителей деревни встретит их неподалеку от нее?
— Это их не пугает: если такой несчастный действительно окажется на пути Абдулмоута, он уже никогда не сможет вернуться домой, чтобы предостеречь своих односельчан. Ловцы рабов никогда не нападают общим большим отрядом. Когда они оказываются в половине дня пути от нужного им места, несколько самых смышленых и ловких солдат посылаются в разведку. Остальные рассеиваются по равнине длинной цепью, через которую не может проскочить незамеченным ни одно живое существо. Цепь мало-помалу сжимается и, наконец, окружает деревню, причем ее обитатели, как правило, до последней минуты ни о чем не догадываются. Нападение обычно начинается с поджога внешней колючей изгороди. Люди просыпаются и видят, что они заперты в большом огненном кольце, за которым их подстерегают беспощадные враги. Тех, кто осмеливается оказывать сопротивление, пристреливают на месте; в результате мало кто из мужчин остается в живых. Старых женщин тоже сразу убивают, потому что их никто все равно не купит. Таким образом, основную добычу составляют молодые женщины и дети, а также стада, которые ценятся среди ловцов рабов не меньше людей. Нередко большинство рабов удается продать или обменять на слоновую кость уже на обратном пути. Если же отряд возвращается через территории племен, которые предпочитают человеческое мясо мясу животных, ловцы рабов убивают самых упитанных из захваченных негров и продают их людоедам.
— Боже, какой ужас! Неужели подобное возможно?
— Не только возможно, но случается сплошь и рядом. У притоков реки Бахр-эль-Абьяд и дальше к югу и западу страны встречается немало народов, для которых человеческое мясо является самым излюбленным лакомством. Я знал одного вождя, утверждавшего, что он не едал ничего вкуснее филейных частей человека. Он постоянно вел войны со всеми своими соседями только для того, чтобы захватывать пленных, которых тут же поедали; его собственные воины, погибавшие или получавшие тяжелые ранения, тоже съедались. Самые лакомые части подавались на стол вождя, все остальное он отдавал своим подчиненным. Наша страна живет по диким законам, и самый ужасный из них — торговля рабами. Я говорил с одним работорговцем, человеком, хорошо знающим свое дело, — так вот, он утверждал, что охота на людей уносит ежедневно до шести тысяч жизней; в год это составляет более двух миллионов. Абдурриза бен Лафиз, тот мерзавец, который похитил у меня моего сына, рассказывал нам, что он охотится на негров только в окрестностях Бахр-Куты; и в этом крошечном районе он умудрялся каждый год захватывать более тысячи рабов. При этом он, разумеется, не учитывал тех, которые были убиты во время нападения отряда.
— Откуда родом был этот человек?
— Из страны багирми.
— Ты искал его там?
— Конечно. Я первым делом отправился туда и еще много раз наведывался в страну багирми, но он никогда больше не показывался у себя на родине.
— Ты уверен, что смог бы узнать его при встрече — ведь прошло столько лет?
— Да. У него лицо, которое невозможно забыть, и возраст не в силах смягчить его жестокое выражение. Но посмотри на темную черту там, впереди! Если это деревья, значит, на склоне горы находится бывшее русло реки, в котором еще сохранилась вода. Там мы можем пополнить наши запасы воды и напоить верблюдов, которые вот-вот упадут с ног от изнеможения.
Предчувствие его не обмануло: вскоре путь всадников преградило широкое русло реки, промытое водой, которая в сезон дождей стекала с гор Памбиза в Нил.
На берегу высохшего русла стояли два высоких ладанных дерева. С их стволов веером свисали клочья эпидермиса. Тонкие ветки были усеяны множеством причудливых гнезд, которые населяли оранжевые ткачики. Дно широкого русла реки покрывали густые заросли амбага — это растение в жаркое время года отмирает до самых корней и возрождается во время половодья. Сейчас эти кусты питала до сих пор стоявшая в русле вода.
По следам ловцов рабов было видно, что они переправились через русло и поднялись на его другой берег, даже не остановившись напоить животных.
— Не понимаю, почему они этого не сделали, — сказал Бала Ибн, — но если их лошади не нуждаются в передышке, то о наших «скакунах» этого не скажешь.
Шварц и Охотник на слонов спешились и по узкой тропинке повели верблюдов вниз, к воде. Дожидаясь, пока животные напьются и подкрепятся ветками амбага, друзья в полный голос обсуждали свои дальнейшим планы. Они были уверены, что в этом пустынном месте их некому подслушать, но, к сожалению, заблуждались.
Если бы путешественники внимательно осмотрели противоположный берег, то непременно заметили бы возвышавшееся на нем молочайное дерево, под которым сидели два человека. Они пробуравили кору на стволе дерева и собирали его белый сок в большой питьевой сосуд. Оба были чернокожие, и единственную их одежду составляла традиционная набедренная повязка, но лежавшие рядом с ними ножи и ружья позволяли догадаться, что эти двое принадлежат к числу солдат Абдулмоута.
Когда Шварц и Бала Ибн приближались к высохшему руслу, они и не подозревали о том, как близко от них находятся ловцы рабов. На другом берегу русла, скрытый маленьким леском, был расположен пруд, который путешественники не могли видеть за деревьями. Возле этого пруда разбил сейчас свой лагерь Абдулмоут. В его намерения не входило нападать на Омбулу описанным Охотником на слонов способом. Он не стал посылать вперед разведчиков, но собирался провести у пруда остаток дня и под покровом ночи всем отрядом стремительно обрушиться на головы ничего не подозревающих беланда.
Переезжая высохшее русло, один из солдат заметил на берегу молочай и немного погодя вместе со своим товарищем вернулся к нему, чтобы набрать ядовитого сока, которым здесь обычно натирают стрелы и копья. Они уже собирались уходить, когда вдруг, к своему немалому изумлению, увидели двух всадников, медленно приближавшихся к ним.
— Двое белых, — сказал один солдат, — откуда они могли здесь взяться?
— Это не наши, — заметил другой, — давай спрячемся за ствол, чтобы они нас не видели! Они наверняка едут в Омбулу, больше здесь нет жилья. Абдулмоут не может их пропустить, он, конечно, увидит их и остановит. А нам пока лучше остаться здесь и посмотреть, что они будут делать.
Осторожно выглянув из-за ствола, негры увидели, что чужаки не стали пересекать русло реки, а уселись внизу, у воды.
— Это хорошо! — прошептал первый солдат. — Они сидят за амбагом и сквозь его ветки не могут видеть, что творится на этом берегу. Сейчас я попробую узнать, кто они такие и что им здесь нужно. Сиди здесь и не шуми, а я прокрадусь вниз, к кустам, и подслушаю, о чем они говорят.
Он бесшумно, как змея, прополз между кустами амбага и затаился там. Через несколько минут он вернулся и сообщил своему товарищу:
— О себе они ничего не говорили, но что они хотят, я теперь знаю. Им известно, что мы идем в Омбулу, чтобы набрать там рабов, и они торопятся предупредить беланда. Идем быстрее отсюда! Мы должны рассказать обо всем Абдулмоуту.
Они поспешили в лагерь и доложили начальнику о том, что видели. Абдулмоут в окружении своих унтер-офицеров сидел под высокой акацией. Остальные солдаты стояли, сидели или лежали возле своих стреноженных животных. Услышав неожиданное известие, Раб Смерти вскочил на ноги и вскричал громовым голосом:
— Рядом с нами находятся два белых всадника, которые говорят по-арабски и собираются нас выдать? Мы должны их взять в плен. К ним можно подобраться так, чтобы они нас не заметили? — спросил он уже спокойнее.
— Да, господин. Если хочешь, я тебя провожу, — отвечал тот из солдат, который подслушал разговор незнакомцев.
— Идем, ты покажешь мне место. Если мы пустим их на высокий берег, им, может быть, удастся от нас убежать или они вздумают защищаться и ранят кого-нибудь из наших. Лучше схватим их прямо там, где они сейчас находятся. Возьмите с собой веревки!
Абдулмоут отобрал дюжину своих самых ловких людей и вместе с ними двинулся к руслу реки. Остановившись у края, он осмотрелся вокруг и решил:
— Подкрасться к ним отсюда нетрудно. Вы должны подобраться к ним сзади и наброситься на них внезапно, чтобы у них не было времени на сопротивление. Если вам это удастся, я подарю вам самых сильных рабов, если нет — вы все будете убиты. А теперь — вперед!
Солдаты по одному скользнули вниз и исчезли за кустами. Со своего места Абдулмоут не мог видеть схватки, но по радостным крикам негров, которые послышались вслед за звуками короткой борьбы, он понял, что нападение прошло успешно. Тогда он вернулся к пруду и снова уселся под акацией. Ловцы рабов обступили его.
— Эти псы хотели нас выдать, — сказал араб. — Кто бы они ни были, они должны умереть, и притом немедленно!
Через несколько минут солдаты привели пленников со связанными за спиной руками. За ними двое солдат тащили на поводу верблюдов.
Шварц и Охотник на слонов во время нападения даже не успели сообразить, что происходит. Несчастье пришло так внезапно, так неожиданно, что обоим казалось, будто все это происходит с кем-то другим. Из обрывков фраз, которыми обменивались между собой негры, друзья поняли, что их ведут к Абдулмоуту.
— Мы ничего не знаем, — прошептал Бала Ибн Шварцу, — помалкивай и предоставь мне объясняться с ними!
К Охотнику на слонов уже вернулось все его хладнокровие. Он выходил невредимым и из еще более серьезных переделок и не считал свое нынешнее положение особенно опасным. В самом деле, зачем этим людям убивать двух совершенно незнакомых им белых? То, что их намерения стали известны ловцам рабов, не приходило ему в голову так же, как и то, что он стоит на пороге мгновения, которого ждал пятнадцать лет и которое представлял себе совсем по-другому.
По дороге от русла реки к пруду солдаты грубо подталкивали своих пленников в спину, и те спокойно сносили это, уверенные, что, как только они встретятся с Абдулмоутом, недоразумение разъяснится и их освободят. Неприятное изумление и ощущение нереальности происходящего, охватившие их в первый момент, постепенно стали уступать место любопытству: ведь сейчас им предстояло воочию увидеть таинственного Раба Смерти, о котором они столько слышали за последние несколько дней.
И вот они стоят перед ним, окруженные толпой ловцов рабов, которые пожирают их глазами и с нетерпением ожидают, что произойдет дальше.
— Господин, — обращаясь к Абдулмоуту, гордо начал Охотник на слонов, — по какому праву твои люди?..
Внезапно он осекся на полуслове и буквально остолбенел, уставившись на предводителя отряда широко раскрытыми глазами, в которых застыло выражение ужаса. Увидев своего нежданного гостя, Абдулмоут, в свою очередь, подскочил как ужаленный, но, казалось, не от страха, а скорее от радости. Лицо его покраснело, а глаза вспыхнули недобрым огнем.
— Эмир! — вскричал он голосом, в котором звучало мрачное торжество. — О, суровый эмир Кенадема!
— Абдурриза бен Лафиз, работорговец! — прошептал Охотник на слонов.
— Да, это я! — ликовал Абдулмоут. — Узнаешь меня ты, сукин сын?
— Аб-дур-риза… бен… Ла-физ!.. — повторил охотник, едва шевеля бескровными губами. — О, Боже! Это он, да, это он!
— Да, это я, я! Посмотри на меня, вглядись получше, если не веришь! Я тот, кого ты приговорил к смерти, у кого велел отобрать всех рабов! Я тот, которого дважды выпороли по твоему приказу, который чуть не умер под твоим кнутом! Я тот, который из-за тебя должен был сменить имя и навсегда покинуть свою родину: ведь ты подал на меня жалобу, и, если бы я вернулся туда, меня поймали бы и казнили! Я тот, кто в течение пятнадцати лет мечтал лишь о том, чтобы встретить тебя и стереть в порошок. И вот мои мечты стали явью: Аллах привел тебя прямо к мне. Бесконечная хвала ему за это!
— Где… где мой… сын? — выдавил из себя Бала Ибн, не обращая внимания на оскорбления и угрозы Абдулмоута.
— Твой сын? — зловеще расхохотался Раб Смерти. — Тебя, значит, интересует, где он? Ты действительно хочешь это знать?
— Да. Скажи мне, скажи скорее! — попросил несчастный отец, задыхаясь от волнения.
— Он среди негров.
— Где?
— Далеко вниз по реке отсюда, на юге, у людоедов.
— Значит, он еще жив! Слава Аллаху, милостивому и милосердному! Он заслуживает вечной благодарности!
— Не торопись со своей благодарностью! Для твоего щенка было бы лучше умереть, потому что он стал самым жалким рабом черного вождя, которому я его подарил с условием, что он будет держать его впроголодь и нещадно пороть каждый день. Я недавно видел мальчишку. Его тело сплошь покрыто ранами, глаза выколоты, он медленно умирает в страшных мучениях и при этом не может никому пожаловаться на свою судьбу, потому что я тогда исполнил свое обещание и вырвал ему язык; слышишь — не вырезал, а вырвал!
Весь этот монолог араб выпалил на одном дыхании, торопясь как можно сильнее унизить врага. Последний хотел что-то ответить, но не мог произнести ни слова, только страшный, нечеловеческий крик сорвался с его губ.
— Итак, радуйся тому, что он еще жив! — продолжал издеваться Абдулмоут. — Потому что его смерть будет ужасной, несмотря на то, что она избавит его от невыразимых страданий. И все же даже его смерть будет блаженством по сравнению с той, которой умрешь ты. Теперь ты всецело в моей власти, и нет на свете таких мучений, которых тебе не придется испытать.
— О, Аллах! — простонал эмир. Ноги его подкосились, и он рухнул на колени на траву.
— А, ты уже ползаешь передо мной на коленях, умоляя о пощаде? Прекрасно! Ты будешь скулить и целовать мои ноги, но скорее шайтан выпустит из преисподней душу грешника, чем я внемлю твоим жалобам!
Леденящий душу рассказ о положении, в котором находится его сын, заставил Охотника на слонов на миг потерять самообладание, но последние слова араба привели его в себя. Он рывком вскочил на ноги, выпрямился и ответил, гневно сверкая глазами:
— Что ты сказал? Это я должен плакать и причитать перед тобой? Это я буду молить тебя о милости? Пес, как ты осмелился вымолвить такое? Я, эмир Кенадема, и я преклоняю колени только перед Аллахом. А ты, Абдурриза бен Лафиз, — жалкая падаль, которой побрезгует даже гиена. Никогда тебе не дождаться, чтобы я склонил перед тобой голову хотя бы на дюйм!
Как известно, назвать мусульманина «псом» — значит страшно оскорбить его. Говорить так с Абдулмоутом было огромной дерзостью со стороны Охотника на слонов и ловцы рабов замерли, ожидая, что их предводитель придет в ярость и немедленно расправится с чужаками. Однако этого не произошло. Араб уже сжал кулаки и подался вперед, как будто хотел броситься на своего врага, но потом взял себя в руки и сказал насмешливым тоном:
— Это ты неплохо придумал, но я разгадал твое намерение, и оно тебе не удастся. Ты хочешь избежать тех пыток, которые тебе предстоят, и нарочно выводишь меня из себя, чтобы я в гневе убил тебя на месте. Но можешь говорить что хочешь, тебе не удастся вывести меня из терпения. Я убью тебя, это правда. Но ты будешь умирать не сразу, а в течение долгих месяцев, чтобы я мог вполне насладиться твоим страданием. Если же ты еще раз посмеешь говорить со мной в непочтительном тоне, я прикажу вырвать тебе язык, запомни это!
— Вырывай! — ответил охотник. — Я все равно готов повторить, что ты пес и притом шелудивый, поэтому тебя избегают все остальные псы!
Абдулмоут остался спокойным и на этот раз.
— Да, — качнул он головой, — язык будет у тебя вырван, но не сейчас, не сегодня, а тогда, когда у нас будет на это время. Во время похода раненый мне не нужен. Но твоих слов я не забуду: за них тебя будут каждый день сечь до костей. А теперь я хочу знать, откуда и куда ты направляешься?
— Спрашивай сколько угодно, от меня ты ответа не получишь! — заявил Бала Ибн и отвернулся.
— Ничего, я научу тебя отвечать, когда с тобой разговаривают! — ухмыльнулся Абдулмоут. — Принесите для него шабах!
Шабахом называется приспособление, которое ловцы рабов используют для транспортировки своего черного «товара». Он представляет собой тяжелый сук, на одном конце которого имеется разветвление в виде вилки. В эту вилку вставляется шея раба и закрепляется сзади поперечной палкой. Руки невольника привязываются к суку спереди, так что несчастному приходится самому нести свое орудие пытки. Таким образом, он не может убежать, хотя нога у него и остаются свободными. После того, как шабах был надет на эмира, Абдулмоут со злобой сказал немцу:
— А ты кто такой? Но не смей лгать, иначе отведаешь моего кнута.
Чувства, которые испытывал в этот момент Шварц, не поддаются описанию. Ненависть и отвращение с такой силой нахлынули на него, что он не сразу смог перевести дух. Он понимал, что по причинам, которые только что изложил Абдулмоут, ловцы рабов вынуждены до поры до времени беречь и его. Самое страшное, что они могли сделать, — это тоже надеть ему на шею шабах. Поэтому он не старался смягчить своим поведением гнев араба: окинув его презрительным взглядом, он спросил:
— Какое ты имеешь право задавать мне подобные вопросы?
На лице Абдулмоута отразилось крайнее изумление и растерянность. В первый момент он даже не нашелся, что ответить, затем натянуто рассмеялся:
— Пути Аллаха неисповедимы. Может быть, он привел ко мне стамбульского султана или, по меньшей мере, каирского хедива? Судя по твоим словам, я должен предположить что-нибудь подобное. Я допрашиваю тебя, потому что ты мой пленник.
— А по какому праву ты велел схватить и связать меня?
— Мне так захотелось. Теперь понятно? Ловцы рабов не терпят шпионов во время похода.
— Я не шпион!
— Не лги! Вы ехали в Омбулу, чтобы предупредить беланда о нашем приходе.
— Кто тебе это сказал?
— Вы сами. Мои солдаты подслушали вас внизу, у высохшего русла реки. От кого вы узнали, куда направился наш отряд?
— От людей, которым было об этом известно.
— Кто эти люди?
— Спроси у кого-нибудь другого. Я не собираюсь давать тебе справки.
— Ах, вот как? — зарычал Абдулмоут. — В таком случае, тебе тоже не нужен язык. Я прикажу вырвать его и у тебя.
— Ба! На это ты не осмелишься, если тебе дорога твоя жизнь.
— Это еще почему?
— Я не раб, а европеец. Твои действия противозаконны, и мое правительство может привлечь тебя к ответу. Я требую моего немедленного освобождения, и если ты сию минуту не выполнишь этого требования, тебя ждут тяжкие последствия!
Абдулмоут издал ехидный смешок и закричал:
— Ты совсем глуп, как я погляжу! Неужели ты думаешь, что меня могут испугать твои угрозы? Ты франк, значит, ты христианин?
— Да.
— Разрази тебя Аллах! Христианин, гяур! И ты еще осмеливаешься угрожать мне! Кто помешает мне пристрелить тебя на месте?
— Закон.
— Здесь нет законов, кроме моей воли. Если я убью тебя, как, интересно, об этом узнает твое правительство? И даже если узнает, ему не удастся схватить и наказать меня. Даже власть хедива не распространяется на эти края, а уж тем более власть неверующего шакала, который стоит во главе твоей страны. Мы нашли тебя вместе с эмиром. Ты его друг, следовательно, тебя ждет та же участь, что и его. Смягчить ее ты можешь только тем, что ответишь на все мои вопросы и открыто во всем сознаешься. Как твое имя?
— Я не назову его, потому что оно слишком честное!
— С каких пор ты находишься при эмире?
— Это тебя не касается!
— Где и от кого вы узнали, что мы выступили в Омбулу?
— Если бы я сказал тебе это, я был бы точно таким же негодяем, как и ты.
— Эй, гяур! — вскипел Абдулмоут. — Ты слишком много себе позволяешь! Эмир может меня оскорблять, и я не убью его на месте, потому что я должен ему отомстить и хочу продлить его мучения. Но в отношении тебя у меня нет никаких особых намерений, и я не боюсь лишить себя удовольствия, убив тебя сразу. Поэтому запомни: если ты оскорбишь меня хоть один-единственный раз, ты погиб!
— Ты действительно можешь меня убить, потому что я сейчас связан и беззащитен. Если бы мои руки были свободны, я показал бы тебе, как следует говорить и вести себя с европейцем! Но не думай, что тебе удастся безнаказанно отнять у меня жизнь! Знай, что я нахожусь в этой местности не один. Со мной люди, которым достаточно одного взмаха руки, чтобы уничтожить тебя и всю твою шайку!
Этот козырь подействовал: голос Абдулмоута звучал уже менее уверенно, когда он спросил:
— И кто же эти люди?
— Это тоже не твое дело. Я уже говорил тебе, что не считаю нужным что-либо тебе сообщать. Но я, пожалуй, снизойду до того, чтобы добровольно сообщить тебе, что мои друзья знают, куда и зачем я отправился. Если я не вернусь в срок, они сразу догадаются, кто этому виной.
— Почему ты хотел предупредить беланда?
— Потому что я их друг.
— По пути с тобой могло произойти что угодно, даже если бы ты не встретил меня. Никто не сможет ничего доказать!
— Не обманывай себя! Каждого из твоих людей строго допросят; ты можешь поручиться за их верность? И как ты собираешься отвечать за мою смерть перед Абуль-моутом? Если я не вернусь в течение четырех дней, его схватят; ты его подчиненный, и все твои поступки будут расцениваться как действия, совершенные с его одобрения.
— Ты знаешь Абуль-моута? — удивился Раб Смерти.
— Да.
— А он тебя?
— Нет. Но даже если ты меня убьешь, он сразу же узнает обо мне и, конечно, с ним встретятся мои спутники.
Уверенность, с которой держался Шварц, произвела впечатление. Немец заметил это и поспешил воспользоваться минутным замешательством араба, чтобы облегчить положение своего товарища, которому грозила еще более серьезная опасность, чем ему.
— Итак, я требую, чтобы меня развязали и вернули мое оружие и все вещи, которые твои люди отобрали у меня, — продолжал он. — Но это еще не все. Эмир Кенадема мой друг, и я отвечаю за его судьбу. Он будет отомщен так же, как был бы отомщен я.
Он тут же понял, что на этот раз зашел слишком далеко. Краска бросилась в лицо Абдулмоуту, и он закричал:
— Берегись, гяур! Требовать и приказывать здесь могу я один! Почему я должен тебе верить? Кто докажет мне, что ты не лжешь, пытаясь спасти свою шкуру? Так ты говоришь, что вы с эмиром — большие друзья, единое целое? Отлично! В таком случае, и я буду рассматривать все, что делает он, так, будто это исходит от тебя. Если я должен обращаться с ним, как с твоим другом, то я и с тобой буду обращаться, как с ним. Итак, тебя ждет точно такая же судьба, как твоего дружка, и, откровенно говоря, я тебе не завидую! Принесите-ка шабах и для этого христианского пса и накрепко свяжите эту парочку друг с другом! А я тем временем подожду, дадут ли о себе знать их могущественные друзья, которые могут отомстить мне за них.
Солдаты принесли второй шабах и укрепили его вилку вокруг шеи Шварца. Затем концы обоих шестов связали вместе. Когда с этим было покончено, Абдулмоут сказал с глумливой усмешкой:
— Ну вот! Теперь вы настоящие неразлучные друзья, и я с удовольствием позволю вам взаимно облегчать вашу участь. Я очень сожалею, что в данных обстоятельствах вы никак не можете выполнить свою миссию и предупредить беланда. Но взамен этого я подготовил вам другой сюрприз: вы будете присутствовать при нашем нападении на деревню. Я по дружбе укажу вам место, откуда вам все будет прекрасно видно. А пока вас привяжут к дереву, чтобы вам не пришло в голову сбежать.
Шварца и эмира аль-Кади подвели к большому дереву и крепко привязали к стволу таким образом, что надетые им на шеи деревянные «хомуты» торчали теперь вперед под острым углом. Конечно, в таком положении думать о бегстве было бы просто безумием. Ловцы рабов понимали это, поэтому они вскоре перестали обращать на пленников внимание и занялись подготовкой к вечерней операции. Друзья поспешили воспользоваться этим и начали вполголоса переговариваться между собой.
— Что за новая насмешка судьбы! — проскрежетал эмир, задыхаясь от боли и гнева. — Разве так я рисовал себе тот миг, когда увижу наконец похитителя моего сына! Я думал, что буду выступать перед ним судьей, мстителем — и вот, я нахожусь всецело в его власти. Вместо того, чтобы погибнуть от моей руки, он будет медленно истязать меня до смерти!
— Вряд ли он на это осмелится, — не очень уверенно предположил немец, желая ободрить своего товарища.
— Он осмелится, можешь быть уверен, — возразил охотник, — но я не боюсь. Так хочет Аллах — что ж, я отдаю себя на его волю. Меня огорчает только одно: ведь из-за меня тебя тоже ждет неминуемая гибель!
— Не говори так! Я виноват не меньше, чем ты. Мы вели себя так неосторожно, что я ничуть не удивляюсь тому, что с нами случилось. Как мы могли не осмотреть местность, прежде чем устроить привал? А потом еще повернулись спиной к той стороне, откуда скорее всего могла прийти опасность! Не понимаю, как я мог допустить такое: ведь я так долго жил среда диких племен и, казалось бы, должен был знать, как надо вести себя в подобных ситуациях!
— Если бы только они не напали на нас так внезапно!.. — вздохнул эмир.
— Это все равно бы нас не спасло. Мы могли бы справиться с относительно небольшой шайкой негров, но не с несколькими сотнями этих чертей, которые к тому же очень хорошо вооружены. Счастье еще, что они не отняли у нас нашу одежду: иначе нам, пожалуй, пришлось бы вдвое тяжелее, чем сейчас!
— Клянусь Аллахом, я с радостью умер бы и безропотно вытерпел бы все пытки, которые только может придумать этот человек, если бы мог прекратить страдания моего сына!
— Ты, значит, веришь тому, что Абдулмоут рассказал тебе о нем?
— Да. А ты нет?
— Нет.
— Я не сомневаюсь в том, что он сказал правду.
— А я убежден, что он солгал. Неужели ты не понимаешь, что он хотел сломить твою силу воли, увидеть тебя поверженным к его ногам!
— Ты думаешь? Вообще-то это очень похоже на него.
— Верь мне, я знаю, что говорю. Я абсолютно уверен, что Сын Тайны и есть твой Мазид. Если хочешь, я даже попробую тебе доказать, что на самом деле Абдулмоут ничего не знает о твоем сыне.
— Как ты собираешься это сделать?
— Подожди только того момента, когда он снова заговорит с нами!
— Ты разрываешь мне душу! Впрочем, даже если ты прав, если Сын Тайны действительно тот, кого я ищу, — чем это теперь может мне помочь? Я все равно его не увижу, и он никогда не узнает, кто был его отец. Нас обоих скоро убьют, а кроме нас, некому рассказать ему обо всем.
— Но пока-то мы еще живы!
— Сейчас, сегодня — да, но, боюсь, это ненадолго!
— Конечно, о бегстве в данных обстоятельствах не может быть и речи, но ведь Абдулмоут сам признался нам, что в течение нескольких дней нас не тронут. Он хочет насладиться зрелищем твоих страданий, а это «удовольствие» ему придется отложить до возвращения в селение. Мы должны выдержать этот поход, значит, он пока будет беречь наши силы. Теперь давай подсчитаем. Сегодня состоится нападение на Омбулу, завтра ловцы рабов будут праздновать свой успех, а послезавтрашний день уйдет на подготовку к отправлению. Далее: дорога назад с захваченными рабами и товарами займет едва ли не в два раза больше времени, чем путь сюда. Таким образом, пройдет не меньше семи-восьми дней, прежде чем караван достигнет селения. За это время мы успеем что-нибудь придумать. Но и это еще не все. Вспомни о том, что в селении восстал гарнизон! Мы, разумеется, ни слова не скажем об этом Абдулмоуту.
— Ты думаешь, что из этой ситуации можно будет извлечь какую-нибудь выгоду для нас?
— Конечно! Если будет удачным нападение бунтовщиков, которые подстерегают отряд на равнине, то с Абдулмоутом будет покончено, и мы получим свободу.
— Бог милостив! Ты льешь бальзам на мои раны!
— Может быть, нам удастся избавиться от шабаха. Для этого одному из нас нужно только освободить руки.
— Сомневаюсь, что это возможно. Мои так прочно привязаны к бревну, что веревка врезается прямо в тело.
— Да, со мной то же самое, но веревка постепенно ослабевает, и я лучше сотру себе с рук мясо до самых костей, чем позволю себя убить, не предприняв попытки освободиться.
Тем временем ловцы рабов принялись седлать своих лошадей, верблюдов и быков: до захода солнца оставалось неполных два часа. Абдулмоут вновь подошел к своим пленникам и сказал:
— Я пришел попросить у вас прощения за то, что никак не могу позволить вам ехать верхом. Но за это вам будет оказана большая честь: вы будете привязаны к моей собственной лошади. Видите ли, друзья мои, я вас так сильно полюбил, что не в силах расстаться с вами ни на минуту. А тебе, эмир, может быть, приятно будет лишний раз вспомнить при этом своего сына, который, да будет тебе известно, так же бежал за моей лошадью.
— Это мы знаем и без тебя, — невозмутимо ответил Шварц.
— Что ты можешь знать, гяур?
— То, что ты сделал с мальчиком Мазидом.
Абдулмоут бросил на немца долгий, испытующий взгляд, а потом сказал язвительным тоном:
— Ты бредишь! Где ты был в то время?
— Дома, в моем отечестве. Но Господь всемогущ и всеведущ, по его воле совершаются тысячи чудес. Знаю мальчика, которого ты похитил.
— Не может быть! — вскричал араб, отшатнувшись.
— В отличие от тебя я говорю правду. Желая усугубить страдания эмира, ты достиг противоположной цели: ты, можно сказать, снова вернул его к жизни.
— Я тебя не понимаю.
— Хорошо, я буду говорить яснее. Я знаю эмира только три дня, и за это время он ничего не рассказывал мне о своем прошлом. Ваш разговор о его сыне очень заинтересовал меня, и после того, как нас привязали здесь, я подробно расспросил его обо всем. Всевышнему было угодно, чтобы благодаря мне его боль превратилась в радость, потому что, как я уже сказал, я знаю его сына.
Абдулмоуту не удалось скрыть свое волнение, он весь подался вперед и закричал:
— Где он?! Где он находится?
— Совсем не там, где ты сказал.
— Это понятно, но где же?
— У очень хороших людей — у моих друзей. Он вовсе не болен и не слеп, и он прекрасно может говорить, потому что ты не вырвал ему язык. Он стал замечательным юношей, и его отец с гордостью прижмет его к своему сердцу.
— Ну, эту надежду ему придется оставить, — оборвал его Абдулмоут, — пока что вы еще мои пленники, и я сумею позаботиться о том, чтобы в этой жизни отец не встретился со своим сынком. Но кто мог подумать, что эта сука, жена вождя, убежит вместе с мальчишкой?!
Только этого Шварцу и надо было. Надеясь, что в гневе у Абдулмоута вырвутся еще какие-нибудь неосторожные слова, он продолжал его поддразнивать:
— Ты тогда поступил не очень-то умно, — заметил он. — Должно быть, Аллах обделил тебя разумом, если ты не догадался увезти мальчика подальше!
— Молчи, шакал! По-твоему, Мукамбассе расположена недостаточно далеко от Рунга? Разве не нужно несколько месяцев, чтобы добраться из Кенадема до народов мамба?
— Этого я не отрицаю. Но его побег доказывает, что нужно было увезти его еще дальше на юг. Это была глупость — продать его одному из вождей мамба.
— Не смей так говорить со мной, иначе я покажу тебе, на что я способен! Вождь отсчитал за него кругленькую сумму, больше, чем можно получить за десять черных рабов. Он хотел его как следует откормить, чтобы хоть раз в жизни попробовать мясо белого человека. Разве я был виноват, что его жена, которую он похитил, его не любила, что она убежала от него и взяла с собой мальчишку! За что только она так привязалась к этому щенку?!
— Ты мог бы отправиться на поиски этих двоих.
— Не давай мне советов! Они мне не нужны, я и сам знаю, что мне надо делать. Женщина не вернулась в свои родные места, к своему народу. До сих пор я был уверен, что она погибла в пути вместе с ребенком.
— Ну, так я должен тебя разочаровать. Они оба живы и здоровы. Именно эта женщина рассказала мне, что ты продал мальчика вождю. Совсем недавно она видела и узнала тебя.
— Где? Где она теперь? — вскинулся Абдулмоут.
— Я еще не выжил из ума, чтобы сообщать тебе это.
— Говори, я приказываю тебе!
— И не подумаю. Я люблю мальчика, или, точнее, уже юношу, а теперь я совершенно случайно нашел его отца, и скоро они оба наконец будут вместе.
— Они отправятся вместе в самую глубокую яму преисподней, и ты тоже, проклятый гяур! — полностью потеряв самообладание, завизжал Раб Смерти и, выхватив нож, замахнулся на немца.
Тот спокойно посмотрел ему в глаза и ответил:
— Ну что ж, ударь, если посмеешь! Но после этого удара ты распростишься со своей жизнью, потому что, убив меня, ты лишишься единственной надежды на спасение.
Изумление, в которое привели Абдулмоута эти слова, невозможно передать.
— Что? — оторопело переспросил он. — Ты можешь спасти меня, ты? Но от кого или от чего?
— От мести Мазида — украденного тобой мальчика. Это по его просьбе я поскакал вслед за вами, чтобы предупредить беланда и погубить тебя. Ты видишь, я не боюсь тебя и говорю откровенно. Богу было угодно, чтобы по пути я встретил его отца, которого безуспешно искал все эти годы. У него есть могущественные покровители, которые позаботились о нем, потому что он сын эмира. Если ты вернешься назад, можешь считать себя мертвецом, и твоя кончина будет вдвойне ужасной, если они не увидят с тобой меня, а, напротив, узнают, что я пал от твоей руки.
Все это звучало так убедительно, что Абдулмоут окончательно растерялся. Некоторое время он молчал, затем сказал полувопросительно, полуутвердительно:
— Ты лжешь, чтобы спасти себя?
— Думай, что хочешь, — пожал плечами Шварц, — твоя судьба в твоих руках.
— Значит, меня поджидают твои люди?
— Да.
— Где?
— Не понимаю, зачем ты задаешь вопросы, на которые сам не стал бы отвечать на моем месте. Ты считаешь, что я глупее тебя?
— О нет, ты умен! Ты так умен и хитер, что невозможно разобрать, когда ты лжешь, а когда говоришь правду!
Абдулмоут мрачно уставился себе под ноги. Он не знал, что и думать. Конечно, у этого гяура были все основания стараться ложью запугать своего врага, но он говорил с такой уверенностью… Наконец араб поднял голову, смерил Шварца пронизывающим насквозь взглядом и спросил:
— Если все так, как ты говоришь, как же ты собираешься меня спасти? Куда мне деваться после того, как окончится этот поход? Я должен вернуться назад, к Абуль-моуту, в Умм-эт-Тимсу, ведь там все мое имущество. Если бы я поверил твоим словам и убежал отсюда, я стал бы нищим!
Итак, араб заглотнул наживку. Шварц внутренне возликовал, но не подал виду и спокойно ответил:
— Теперь, когда стало известно, что ты и есть похититель мальчика, что тогдашний Абдурриза бен Лафиз и нынешний Абдулмоут — одно и то же лицо, ты уже не можешь убежать. Тебя разыщут везде, куда бы ты ни скрылся, и пятнадцать лет чужих слез и скитаний отольются тебе сполна. Но если я скажу своим, что мы находились в твоей власти и ты пощадил нас, с тобой обойдутся более мягко.
— Да, но не этот негодяй!
Абдулмоут показал на эмира, который на протяжении всего разговора сохранял молчание. Он никак не прореагировал и на последнюю реплику араба, и тогда тот спросил, обращаясь прямо к нему:
— Что бы ты сделал, если бы я сейчас подарил тебе свободу? Ты отказался бы от мести?
Это был серьезный вопрос. Ответ на него должен был решить судьбу обоих пленников. Если бы эмир обещал своему кровному врагу прощение, тот, по всей вероятности, немедленно освободил бы его и его друга. Но неужели страшное преступление этого человека должно было остаться безнаказанным? Нет, лучше смерть! — так решил эмир, а вслух неопределенно пробормотал:
— Только Аллах знает это!
— Это значит ни «да», ни «нет», — возразил Абдулмоут. — Я спрашиваю тебя перед лицом Пророка и халифа и требую, чтобы ты сказал мне правду. Если я тебя отпущу, простишь ты меня или будешь продолжать мстить?
— Аллах знает это! — повторил эмир аль-Кади.
— Это единственный ответ, который ты можешь мне дать?
— Да.
— Тогда мне больше нечего сказать. Пусть Аллах нас рассудит.
Абдулмоут круто повернулся и пошел прочь. Тогда эмир глубоко, прерывисто вздохнул и горячо зашептал:
— Друг, брат, ты оказался прав! Мой сын жив, жив! Он не убит и не изувечен!
— Я так и знал, — кивнул Шварц, искренне радуясь счастью своего друга. — Все-таки нам удалось провести этого негодяя, и он даже не заметил, как все нам рассказал!
— Сказать по правде, я на его месте тоже позволил бы тебе все у себя выпытать. Ты и в самом деде хитрее, чем лиса! Если бы ты был кади[123], ты раскрывал бы все преступления. Но скажи, действительно ли жива еще та женщина, которая убежала от своего мужа вместе с моим мальчиком?
— Этого я не знаю. Я вообще впервые услышал о ней от Абдулмоута. Но скажи теперь и ты: почему ты не ответил ему на последний вопрос?
— Потому что я не мог этого сделать.
— Одно твое «да» могло тут же вернуть нам свободу!
— А открытое «нет» означало бы верную смерть, — кивнул эмир. — Я не мог сказать ни того, ни другого! Или ты хотел бы, чтобы я согласился быть обязанным лжи моим и пусть даже твоим спасением?
— Так ты не можешь его простить?
— Нет!
— Ни в коем случае?
— Никогда! Это был бы грех против закона пустыни и закона Пророка. И даже если бы я согласился нарушить обе эти заповеди, моя клятва все равно не дала бы мне их преступить. Я поклялся отомстить, и я отомщу. Разве ты не так же поступил бы на моем месте?
— Нет. Наши библейские заповеди советуют нам предоставить месть Богу.
— Даже если вы поклялись?
— Ни один истинный христианин никогда не даст такой жестокой клятвы, потому что Иисус повелел нам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающие вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь, за обижающих вас и гонящих вас». И если бы кто-то в ослеплении яростью все же дал такую клятву, как ты, потом он просил бы Бога позволить взять ее назад.
— Ваше учение прекрасно, — подумав, сказал эмир аль-Кади. — Оно хорошо для вас, если, конечно, вы действительно можете прощать ваших врагов, но эти заповеди не подходят для здешних мест, для пустыни, для наших народов. Око за око, кровь за кровь, жизнь за жизнь — вот наш закон, и мы должны повиноваться ему. Ты не можешь осуждать меня за то, что я его выполняю!
— Значит, мы остаемся пленниками?
— К сожалению. Я очень полюбил тебя, но даже ради твоего спасения я не могу пойти на грех. Если я буду повинен в твоей смерти — да простит мне это Аллах, который является также и богом христиан!
— Ну, за это тебе пока рано себя упрекать. Мои слова крепко засели в голове Абдулмоута, они наверняка подействуют, пусть даже и не сразу. Я заронил в нем искру сомнения, и теперь нам остается только спокойно ждать результата.
Не успел он договорить, как к ним снова приблизился Абдулмоут. На этот раз он спросил уже без прежней насмешки в голосе:
— Через несколько минут мы выступаем. Вы хотите есть или пить?
— Нет, — ответил Шварц.
— По пути вы ничего не получите, так что если вас начнет мучить голод или жажда — пеняйте на себя!
Он сам отвязал пленников от дерева и подвел их к вьючным животным. Затем, обмотав веревку вокруг наконечников обеих вилок шабаха, он прикрепил другой конец ее к седлу одного из волов. Шварц бросил на товарища удовлетворенный взгляд: его ожидания оправдывались. Раз Абдулмоут предложил им подкрепиться и не стал исполнять свою угрозу привязать их к собственной лошади, значит, надежда на спасение все же оставалась.
Стоя около своего вола, друзья слышали, как Раб Смерти громко отдавал приказы солдатам. С этого момента он собирался действовать в точности по плану, который недавно эмир изложил Шварцу. Двадцать разведчиков были посланы вперед на самых быстрых лошадях, за ними следовала сотня всадников, которые должны были оцепить деревню. Остальная часть отряда двигалась медленнее, некоторые пешком, а другие на волах.
Надо заметить, что арабский вол — вовсе не та упрямая и медлительная скотина, с которой привыкли иметь дело европейцы. С дикими буйволами они не имеют ничего общего, так как волов здесь разводят столетиями. При первом взгляде на этих животных поражают их умные и, если можно так выразиться, «интеллигентные» глаза, а главным их достоинством является довольно быстрый и в то же время очень размеренный и надежный шаг.
Вол, к которому были привязаны Шварц и эмир, не составлял исключения из общего правила, и пленникам приходилось почти бежать, чтобы не отстать от него. Шабах, разумеется, неимоверно мешал им при этом. Он был сделан из цельных веток и весил более пятнадцати килограммов. Сам по себе этот груз был совсем не тяжелым, но неудобное положение, в котором приходилось его нести, удваивало его вес. Вдобавок вилки шабаха скоро натерли шеи пленников до крови, а руки, туго перетянутые в локтях, затекли и онемели.
По дороге друзья почти не разговаривали, и если делали это, то шепотом, чтобы не услышал Абдулмоут. Он все время старался держаться вблизи от своих пленников, хотя делал вид, что не обращает на них никакого внимания. Поперек живота он повесил ружье Шварца, а его револьвер заткнул себе за пояс. По тому, как он поминутно хватался за это оружие — то поглаживал рукоятку револьвера, то с видимым удовольствием снимал ружье и озабоченно разглядывал его дуло — видно было, как он гордится своей новой добычей. Часы, кошелек и остальное имущество Шварца он тоже забрал себе, а из его седельной сумки выглядывала подзорная труба.
Дорога все время вела в гору, местность вокруг была однообразной и пустынной. Впереди маячили унылые очертания Памбиза. Когда караван достиг подножия гор, солнце уже стояло на горизонте, и всадники спешились, чтобы помолиться. Эти варвары молились Богу перед тем, как совершить свое кровавое дело! Эмир тоже встал на колени, несмотря на мешавший ему шабах. Его примеру последовал и Шварц, отчасти по истинному велению сердца, отчасти для того, чтобы липший раз не восстанавливать против себя мусульман и отдохнуть от надоевшего «хомута».
Солнце село, и ловцы рабов двинулись дальше. С наступлением темноты Шварц совершенно перестал ориентироваться и замечал только, что путь ведет то по холмам, то по узким долинам. Изредка проходили мимо болот, и тогда мириады жигалок поднимались от воды и устремлялись вслед за караваном. Шварц и эмир чувствовали, как они впиваются им в тело, но не могли их отогнать: руки были связаны.
На небе стали появляться звезды, и при их свете идти стало легче. Время от времени какой-нибудь из разведчиков возвращался назад и вполголоса докладывал о чем-то Абдулмоуту. Наконец, когда до полуночи оставалось около часу, Раб Смерти приказал всем остановиться.
Как Шварц ни напрягал зрение, никакой деревни впереди он не смог разглядеть. Солдаты из авангардного отряда приходили и уходили, командующий негромко отдавал какие-то распоряжения. Все ездовые и вьючные животные были согнаны в одно место и оставлены там под присмотром нескольких сторожей. Солдаты разделились на маленькие группы и постепенно исчезли в ночи, так что в конце концов около пленников, которых давно отвязали от их вола, остался только Абдулмоут с десятком своих людей.
— Скоро вы увидите, как захватывают рабов, — сказал он, — все начнется через несколько минут. Но не думайте, что в суматохе вам представится возможность бежать: за вами будут следить, и при первом же шаге в сторону вы будете немедленно пристрелены!
У Шварца на душе скребли кошки; он думал не о себе, а о несчастных, ничего не подозревающих неграх, на которых должна напасть эта свора бандитов.
— Деревня находится близко отсюда? — спросил он, не особенно надеясь получить ответ.
Однако Абдулмоут неожиданно ответил:
— Да. Вы пойдете с нами до внешней ограды и увидите своими глазами, как мы захватим деревню.
— Нападение решено окончательно и бесповоротно?
— Аллах! А кто и с какой стати должен его отменить?
— Подумай, ведь эти сельские жители ничего тебе не сделали, и они такие же люди, как ты!
— Умолкни! — грубо оборвал его араб. — Я не для того тебя тут держу, чтобы выслушивать от тебя наставления! Эти черномазые — все равно, что скот. Они не умеют думать и чувствовать и лижут руку, которая их бьет. Скажи-ка мне, как обращаться с твоим ружьем. Я вижу, что оно гораздо лучше любого из наших ружей, но я не умею его заряжать.
— Ты собираешься стрелять из него по неграм?
— Ну да. А что еще ты мне прикажешь с ним делать?
— В таком случае можешь повесить его обратно! Я не хочу участвовать в убийстве невинных людей!
— Проклятый пес! Ты будешь меня слушаться или нет?!
— Я же сказал: нет!
— Я убью тебя!
— Давай-давай попробуй!
Абдулмоут одумался, отбросил ружье в сторону и сказал:
— Не сейчас. Ты получишь свое наказание позже. А теперь вперед!
Четверо солдат схватили шабах эмира и Шварца и потащили пленников в темноту, остальные тихо последовали за ними. Вскоре путь им преградило какое-то высокое сооружение, оказавшееся при ближайшем рассмотрении первой из двух колючих изгородей, окружавших деревню Омбула.
Всю дорогу сюда Шварц тщетно ломал голову в поисках средства оповестить негров о грозящей им беде. Единственный способ, который он видел, неминуемо должен был стоить ему жизни. Все же Шварц решил пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти несколько сотен людей.
— Я знаю, как спасти жителей Омбулу, — шепнул он на ухо эмиру.
— Как же? — так же тихо спросил тот.
— Очень просто. Я закричу изо всех сил, так что мой голос услышит вся деревня, и все спящие проснутся!
— Аллах тебя сохрани от этого! Ты отдашь свою жизнь и не спасешь при этом ни одного человека! Деревня окружена, и никто уже не сможет убежать отсюда. Твой поступок только увеличит беду, потому что лучше уж этим беднягам умереть во сне, не успев понять, что происходит.
Доводы, которые привел эмир, были вескими, но охваченный отчаянием Шварц уже не мог ничего слушать. Он открыл рот и собирался выполнить свое безумное намерение, но в этот момент к ним подошел один из унтер-офицеров и доложил командующему:
— Мы можем начинать. Все уже стоят на своих местах, часовых у входа тихо убрали, и загон для скота тоже окружен.
Эти слова несколько отрезвили Шварца, и он отказался от своей бесполезной жертвы.
— Зажигай! — коротко распорядился Абдулмоут.
Офицер присел на корточки… Тихий звон стали о кремень — вспыхнувшая искра — тлеющий ружейный фитиль — и вот уже один, а затем и десять, двадцать язычков пламени принялись лизать сухой кустарник изгороди. Пламя пожирало ограду метр за метром, распространяясь вокруг деревни с такой быстротой» будто забор был сделан из промасленной бумаги.
Первый огонь послужил сигналом для ловцов рабов, и в ту же минуту со всех сторон начали вспыхивая другие. Через две минуты вся изгородь уже полыхала. По ту ее сторону раздались чьи-то испуганные крики, на которые ответило несколько выстрелов.
— А, это проснулись пастухи, их прикончили! — вне себя от возбуждения и какого-то дьявольского восторга прокричал Абдулмоут. — Теперь началось! Сейчас вы услышите, как заверещат эти крысы.
Подул сильный ветер, и его свист вместе с треском огня нарушили тишину ночи. К этим звукам примешивались отдельные крики, срывавшиеся с губ жителей, разбуженных выстрелами. Негры выскакивали из своих токулов и с ужасом видели, что деревня горит.
— Пожар! Горим! — кричали они хором, не понимая еще всей глубины постигшего их несчастья.
Проснувшиеся расталкивали тех, кто еще спал, чтобы вместе с ними попытаться погасить огонь. Но их усилия были напрасны: летавшие вокруг искры то и дело падали на тростниковые крыши. Вскоре пылали все без исключения хижины. Палящий зной погнал негров прочь от их домов. Но куда бежать? Сквозь горящую изгородь выбраться на свободу было невозможно, и вся толпа устремилась к воротам, которые обычно днем стояли открытыми, а ночью занавешивались тростниковыми циновками и охранялись несколькими воинами. Тут-то и выяснилось, что ворота заняты ловцами рабов, которые, увидев приближающихся людей, тотчас же открыли стрельбу. Стариков убивали на месте, более молодых сбивали с ног и скручивали веревками, запасы которых составляли едва ли не большую часть имущества, взятого с собой ловцами рабов.
Сцену, представшую перед глазами эмира и Шварца, невозможно описать. Мужчины хватали на руки своих детей и пытались прорваться сквозь бушующее пламя. Они падали, сраженные пулями, и детей вырывали из их коченеющих рук. Одна старая женщина выбежала из ворот, громко ликуя, что ей удалось спастись от огня, и в тот же миг мощный удар приклада обрушил ее на землю. За ней выскочила совсем молоденькая негритянка, ведя за собой двух своих сыновей. Мальчиков тут же отняли у нее, а ее саму по рукам и ногам связали веревками. Коренастый негр, легко раненный пулей одного из ловцов рабов, внезапно отделился от толпы и бросился куда-то назад, петляя между горящими токулами. Его тут же догнали и ударом приклада в солнечное сплетение свалили наземь, а затем перерезали ему ахиллесово сухожилие, чтобы он не пытался больше бежать.
Перечень всех этих страшных эпизодов может занять не один десяток страниц. Отдельные крики, слышавшиеся поначалу, превратились в единый, разрывающий душу вой и рев. Теперь уже все люди поняли, что имеют дело не со случайно возникшим пожаром, а с нападением отряда разбойников, от которых им не спастись. Воины собирались толпой, чтобы умереть сражаясь. Но, так как они не успели выхватить из огня свое оружие, их перебили в считанные минуты. Те, кому под руку попадались ножи, использовали их, чтобы покончить с собой. Другие добровольно прыгали в огонь и толкали туда же своих жен или детей, чтобы спасти их от рабства.
Шварц чувствовал, как волосы на его голове становятся дыбом. Он судорожно прижал к глазам руки, чтобы не видеть всего этого кошмара, но крики несчастных негров и торжествующие возгласы убийц продолжали сводить его с ума. Озаренные отблесками огня, ловцы рабов казались чертями, которые водят свои адские хороводы вокруг душ проклятых грешников. Христианские заповеди были сейчас забыты немцем, и если бы он мог одним словом уничтожить всю шайку Абдулмоута, то, не задумываясь, сделал бы это.
Через полчаса все было кончено. Ворота опустели, негры больше не показывались. Те, кто не попал в руки ловцов рабов, были сражены пулями или погибли в огне.
Снаружи, перед горящей деревней, стояли захваченные стада, охраняемые несколькими солдатами. Остальные солдаты столпились около пленных. Захваченные негры вели себя по-разному. Большинство из них находилось в состоянии величайшей подавленности; они сидели на земле, тихонько плача или в оцепенении уставившись прямо перед собой. Но были и такие, которые, словно безумные, носились среди толпы и подобно диким зверям рычали от отчаяния. Этих арабы поспешили усмирить с помощью кнута.
Теперь Абдулмоут приказал своим людям осмотреть добычу. Унтер-офицеры несколько раз обошли вокруг толпы пленных, окинув каждого из них взглядами знатоков. В зависимости от возраста и пола рабов объединили в несколько групп и затем пересчитали! Среди них оказалось около четырехсот мальчиков, столько же девушек и примерно двести молодых женщин. Совсем маленьких детей, которых также было очень много, пока не пересчитывали и на первых порах оставили их матерям.
После этой «ревизии» негров снова согнали в одну кучу и заставили их сесть на землю. Веревки с их ног были сняты, чтобы они могли идти. И все же о бегстве никто из этих несчастных не думал: они были со всех сторон окружены вооруженными людьми, и им пригрозили, что тот, кто посмеет хотя бы приподняться со своего места, мгновенно получит пулю в лоб.
Разумеется, о сне не могло быть и речи. Ловцы рабов были взволнованы не меньше своих жертв: они никогда еще не захватывали столь богатой добычи! Почти тысяча рабов и огромное стадо скота! Арабы были словно пьяные от радости, они беспрерывно смеялись, выкрикивали что-то нечленораздельное и сбивчиво пересказывали друг другу подвиги, которые заключались в убийстве безоружных людей.
Окрыленный успехом своего набега, Абдулмоут пребывал в самом превосходном расположении духа. Он подошел к немцу и эмиру и сказал почти дружеским тоном:
— Вы, должно быть, голодны. Приказать дать вам что-нибудь поесть?
— Нет, отвечал Шварц, — я сыт, сыт по горло! Как можно в такую минуту думать о еде или питье?
— Как тебе будет угодно! Но разве ты не рад приобрести столько товарищей по несчастью, которым ты можешь пожаловаться на свою беду?
— Насмехайся на здоровье! Я все равно счастливее тебя. Рано или поздно тебе придется перейти Сират, мост смерти[124], и тогда души убитых тобою сегодня сбросят тебя в самую глубокую бездну преисподней. Ты будешь умолять о милости, но ни Аллах, ни твой Пророк не сжалятся над тобой. Отойди, ты внушаешь мне ужас и омерзение!
— Ты очень откровенен, — мрачно усмехнулся Раб Смерти. — Собственно, мне бы следовало наказать тебя за эти слова, но у меня сегодня праздник, и я хочу тебя простить. Я даже, пожалуй, представлю тебе доказательство моей доброты, в которой ты мне отказываешь. Шабах мешает вам спать. Я прикажу снять этот «хомут» с вас и надеюсь, что вы будете мне за это благодарны.
Он дал своим людям соответствующее распоряжение, и деревянные вилки действительно были сняты с шей Шварца и эмира. Однако снисхождение Абдулмоута не простерлось так далеко, как рассчитывал Шварц: его заставили лечь на шабах спиной и снова привязали к нему, так что он лежал, вытянувшись в струнку, и не мог пошевелиться. С эмиром поступили точно так же, после чего один из солдат уселся на землю между пленниками, чтобы охранять их ночью.
Эта ночь была самой ужасной из всех, которые Шварцу когда-либо доводилось пережить. Стоило ему закрыть глаза, как разгоряченное воображение начинало заново воспроизводить в его сознании увиденные сегодня картины расправы с безоружными людьми. Несколько часов до утра показались ему вечностью, и он был бесконечно рад, когда первые лучи рассвета заставили поблекнуть ночные звезды.
Однако новый день, праздничный для арабов, не принес немцу желанного облегчения.
После того, как ловцы рабов совершили свою утреннюю молитву, на высоком дереве был водружен флаг, и колдун, стоя около него, прочитал суру «Победа». Здесь же было забито множество коров и овец для пира в честь удачного окончания похода. Затем пленных беланда заставили показать места, где находились их матмуры и субахи.
Матмурами называются большие глубокие ямы, в которых хранится дурра. Служащие для той же цели субахи представляют собой маленькие, сооруженные на камнях и хорошо прикрытые сверху постройки цилиндрической формы.
Из деревни притащили целые горы дурры, и рабыни тут же принялись размалывать ее для приготовления неизменных лепешек и пива. Для Абдулмоута, унтер-офицеров и нескольких особенно отличившихся минувшей ночью солдат было приготовлено кушанье, называемое марарой.
Марара является излюбленным лакомством всех суданцев. Для ее приготовления используют печень, кишки и желчный пузырь коровы или овцы. Нетрудно догадаться, что последний компонент делает это блюдо неприемлемым ни для одного европейца.
Наконец праздничная трапеза была окончена и ловцы рабов стали собираться к выступлению в обратный путь. И тут Шварцу, который думал, что все самое страшное уже позади, было уготовано новое испытание. Маленькие дети создавали арабам массу хлопот и мешали им транспортировать свой живой товар в Умм-эт-Тимсу — поэтому Абдулмоут отдал приказ расстрелять всех ребятишек, не достигших возраста четырех лет. Несчастные матери сопротивлялись, как львицы, они мертвой хваткой вцеплялись в своих малюток, но что они могли поделать против ружей и кнутов своих мучителей. Когда это зверское убийство было совершено, оставшихся в живых жителей деревни выстроили в длинную колонну и связали друг с другом. Проходя мимо Шварца и эмира, которые все еще лежали на земле, Абдулмоут приостановился и заметил:
— Так поступают с черным скотом, который нельзя использовать иначе. Вы должны сознаться, что это было очень умно с моей стороны.
— Ты сатана! — выкрикнул Шварц с ненавистью и отвращением в голосе.
— Эй, поосторожнее, гяур! Не думай, что я всегда в хорошем настроении!
— Если бы я не был сейчас связан, я показал бы тебе, в каком я сейчас нахожусь настроении.
— Да? И что бы ты сделал?
— Я задушил бы тебя, негодяй! Клянусь тебе, тот миг, который вернет мне свободу, будет мигом твоей смерти!
Араб расхохотался ему в лицо.
— Можешь попусту лаять сколько тебе вздумается, пес! — прошипел он. — Ты никогда больше не почувствуешь вкуса свободы. До поры до времени я тебя не трогаю, но подожди, когда мы придем в селение, я уж там сполна отплачу тебе за все оскорбления. Проклятие ада покажется тебе блаженством по сравнению с местью Абдулмоута!
Глава 11
ШВАРЦ И ПФОТЕНХАУЕР
Дожидаясь возвращения Пфотенхауера, ниам-ниам успели перекусить и отдохнуть и теперь были готовы с новыми силами продолжать путь. Как только Серый ступил ногой на борт лодки, гребцы вывели ее на середину течения, и она, как рыбка, заскользила вниз по ночному Нилу.
Сверкающая в ярком свете звезд река представляла собой необыкновенно красивое зрелище, но Пфотенхауер, который не первый месяц жил в здешних местах, решил на этот раз пренебречь им ради нескольких часов сна. Он улегся на носу лодки, плотно закутался в одеяло и закрыл глаза.
Его сон никто не тревожил, и, когда он проснулся, солнце стояло уже высоко над пальмовым лесом, а его карманные часы показывали десять часов утра.
Течение здесь было очень быстрым, и гребцам не приходилось особенно напрягать силы. Они разделились на две команды и работали теперь посменно. Кто хотел пить, то мог напиться в любую минуту из реки, стоило только перегнуться через борт лодки. Поэтому в течение дня путешественники ехали без перерывов, но к вечеру их все же заставило остановиться одно обстоятельство, которое чуть было не стоило им жизни.
Лодка приблизилась к месту, где река делала крутой изгиб. Сильно выступающий вперед край берега не давал увидеть, что делается за поворотом. Внезапно рулевой привстал со своего места, приложил руку к уху и несколько секунд напряженно прислушивался, а потом сказал:
— Что я слышу! Там кто-то поет!
— Где? На реке? — спросил немец.
— Да. Нам навстречу движутся люди. Кто это может быть? Неужели Абуль-моут на своем корабле?
— Кто бы они ни были, они не должны нас увидеть. Правь быстрее к берегу!
— К какому?
— К левому: там больше камыша, в котором мы можем спрятать нашу лодку.
Сын Тайны согласился и стал держать левее. Когда лодка отошла от правого берега настолько, что можно было уже заглянуть за излучину, Пфотенхауер достал подзорную трубу. Едва он приставил ее к глазу, как тут же испуганно закричал:
— Назад, скорей, скорей, иначе мы себя обнаружим! Там, на реке, два корабля, и по берегу тоже бегут люди!
Сын Тайны рванул руль в другую сторону, а негры с такой силой налегли на весла, что лодка чуть не перевернулась.
— Ты говоришь, на берегу люди? — переспросил Сын Тайны. — Разве корабли стоят на якоре?
— Нет, они двигались. Я видел парус.
— Наверное, у них к мачте привязан канат. Если кораблей два, значит, они принадлежат Абуль-моуту. Я был очень неосторожен, когда послушался твоего приказа рулить налево: ведь я слышал, как люди пели, а это они обычно делают, когда тянут судно на канате. К счастью, здесь, справа, вода намыла остров из травы. Он нас укроет.
Юноша резко повернул лодку к самой середине этого острова и велел бросить якорь. Трава была невысокой, и людям пришлось ничком лечь на одно лодки, чтобы их не увидели.
Должно быть, Сын Тайны обладал необычайно острым слухом: как немец ни прислушивался, он до сих пор не слышал никакого пения. Но через несколько минут до его ушей донеслись заунывные человеческие голоса, которые монотонно повторяли только два слова: «хе — ли». Затем мелодия изменилась, и послышалась песня. Пфотенхауеру удалось разобрать слова:
Из-за поворота показался первый корабль. Это был сандал, на обеих его мачтах развевались паруса. Кроме того, от передней мачты к левому берегу был протянут канат, который тянули двенадцать негров, двигающихся вдоль реки. На корме сандала, рядом с рулевым, стояли два человека, внешность которых очень бросалась в глаза. Первый — он был одет в национальную арабскую одежду — выделялся прежде всего своим огромным ростом и невероятной худобой. У другого самым примечательным был костюм. Он состоял из трех частей: некоего рода штанов, доходивших едва ли не до колен, шкуры пантеры, которая болталась у него за спиной, и высокой, украшенной разноцветными раковинами и бусинками шапки, напоминавшей по форме сахарную голову. Кожа его была более светлой, чем кожа ниам-ниам или беланда.
— Вон тот, длинный, и есть Абуль-моут, — сказал Сын Тайны.
— Да? — заинтересовался Серый. — Ну, этого парня я должен рассмотреть как следует!
Он положил свою подзорную трубу на край лодки и, немного приподнявшись с ее дна, принялся изучать знаменитого ловца рабов. Через некоторое время он заметил:
— У него и вправду вид, как у смерти: не человек, а скелет. А кем может быть тот, что стоит рядом с ним?
— Это глава нуэров: у них только вождям позволено носить такие головные уборы. Теперь посмотри туда. Видишь негров, которые поют? Это тоже нуэры, их легко узнать по прическам.
— Значит, этот Абуль-моут подошел намного ближе, чем я полагал. Как далеко нам еще до селения Магунда?
— Мы достигнем его как раз к заходу солнца. Оно находится на правом берегу реки, поэтому Абуль-моут старается держаться ближе к левому. Если бы мы не поспешили повернуть назад и спрятаться здесь, эти люди уже раскрыли бы нас. Ты говорил, у них кончился провиант: неудивительно, что они так спешат и не полагаются при этом только на ветер.
Что касается ветра, то он дул с севера и был благоприятным для парусов сандала.
Сандал прошел мимо, и показался второй корабль немного меньших размеров. Это был нуквер, который тоже шел на всех парусах и который, как и первый, тоже тянули еще канатом. Весь он был битком набит нуэрами.
Песня кончилась: снова зазвучало монотонное «хе — ли», которое постепенно затихало вдали. Но только через четверть часа после того, как оба корабля скрылись из виду, Сын Тайны выпрямился в полный рост и сказал:
— Ну все, теперь они уже не могут нас увидеть. Мне все же было не по себе, когда они проплывали мимо нас. Благодарю Аллаха за то, что все обошлось благополучно!
— Ба! Что они могли бы нам сделать? — пренебрежительно махнул рукой Серый.
— Схватили бы и продали в рабство.
— Что, и меня?
— Наверняка.
— Но мы бы защищались!
— Без сомнения, причем, скорее всего, безуспешно. Твои ружья превосходны, но даже с ними мы не смогли бы противостоять такому количеству нуэров. Но к чему говорить об этом: ведь они, по счастью, не заподозрили о нашем присутствии, и мы можем отправляться дальше.
Якорь подняли, и путь был продолжен. Теперь гребцы уже не могли позволить себе беречь силы, так как надо было компенсировать упущенное время.
Рулевой рассчитал все правильно: не успело солнце скрыться за высокими деревьями левого берега, как на правом показался широкий мишрах. Надо заметить, что этим словом обозначается не только дорожка, ведущая к реке с высокого берега, но и гавань для кораблей, а также место водопоя стад.
— Ну, вот и Магунда, — сказал Сын Тайны.
— Где? — спросил Серый, вертя головой во все стороны. — Я не вижу ничего, указывающего на присутствие поблизости людей.
— Это потому, что деревня расположена не у самой реки, а на высоком берегу. Я знаком со здешним хозяином и знаю, что он будет нам очень рад.
С этими словами он завел лодку в гавань и привязал ее к одному из столбов, которые были для этой цели вбиты в дно. После этого ниам-ниам бросили якорь. Других лодок ни в гавани, ни на берегу видно не было: опасаясь воров, жители обычно хранят их внутри селения.
Пфотенхауеру казалось, что никто здесь не заметил его прибытия, но едва он успел ступить на берег, как, к его изумлению, из-за ближайшего куста послышался грозный окрик:
— Стой, ни шагу дальше! Кто вы такие?
Немец посмотрел туда, откуда раздался голос, и увидел сквозь ветки несколько направленных на него ружейных стволов. Нос его тут же брезгливо отвернулся в сторону, как будто не силах был терпеть столь нелюбезный прием, а сам Пфотенхауер попросил:
— Уберите ружья! Мы пришли сюда не с враждебными намерениями.
— Откуда вы плывете? — прозвучал следующий вопрос. — Отвечай, или я буду стрелять.
У спрятавшегося в кустах человека голос был очень характерный — резкий и гортанный, как будто звуки застревали у него в горле, не успев вырваться наружу. Пфотенхауер открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут вмешался Сын Тайны, который только что высадился на берег и прокричал по направлению к кустам:
— Ты можешь поверить, что мы друзья! Я узнаю тебя по голосу, эш-Шаххар![125] Выходи, не бойся!
— Этот юноша знает мое имя, — пробормотал эш-Шаххар, — значит, опасаться нечего. Идем!
Кусты раздвинулись, и показался старый, седобородый человек с длинным ружьем в руках. За ним следовали еще трое. Все они были белые, но одеты в такие же лохмотья, какие обычно носят негры.
— Откуда ты меня знаешь? — спросил старик, подходя ближе.
— Посмотри внимательнее, и ты сам все поймешь, — ответил Сын Тайны.
— Что? Но я тебя никогда раньше… — Внезапно он осекся, брови его удивленно поползли вверх, и он продолжал совсем другим, радостным тоном: — Неужели ты — тот самый мальчик, которому тогда так не терпелось познакомиться с Абдулмоутом?
— Совершенно верно, он самый.
— О, Аллах! Тот мальчик, который умел стрелять лучше меня! Но теперь тебя просто не узнать: ты очень переменился, и к лучшему. Когда ты исчез, я подумал, что у Абдулмоута с тобой случилось несчастье! Выходит, я ошибся, и я очень этому рад! Добро пожаловать к нам снова!
Он протянул юноше руку. Тот пожал ее и спросил:
— Хозяин селения дома?
— Нет. Он ускакал в Яу за порохом, а мне доверил охрану мишраха. Ты ведь знаешь, на меня можно положиться.
— Да, ты старейший этой деревни. Скажи, мимо вас сегодня проплывали два корабля?
— Да. Мы их видели, но не разговаривали с тем, кто на них плыл.
— А ты знаешь, кто это был?
— Нет. Они держались у противоположного берега, а река здесь настолько широкая, что на таком расстоянии просто невозможно разглядеть людей.
— Это были корабли Абуль-моута.
— Ах, этого, шайтан его побери! Он прав, что испугался подойти к нам поближе, потому что я угостил бы его доброй порцией свинца! Но кто этот человек с тобой и что ему здесь надо? — эш-Шаххар показал на Пфотенхауера.
— Это мой старший друг, — отвечал рулевой, — он хочет попросить у вас позволения остаться здесь и дождаться своих знакомых, которые вскоре будут проезжать мимо вашей деревни.
— Что ж, мы рады предложить ему наше гостеприимство. Проводи своего друга наверх, к лейтенанту, который пока замещает господина! А лодку вы можете оставить здесь, я за ней присмотрю.
Сын Тайны повернулся и стал подниматься по тропинке на берег с уверенным видом человека, который прекрасно ориентируется в этих местах. Пфотенхауер и ниам-ниам молча последовали за ним.
Видимо, здесь когда-то был лес, но обитатели деревни так хорошо поработали своими топорами, что язык не поворачивался назвать этим громким словом жалкую рощицу, которая еще оставалась на берегу. Подъем был довольно крут, но идти по дорожке, протоптанной ежедневно водимыми на водопой стадами, не представляло никакого труда.
Взобравшись наверх, Пфотенхауер принялся с интересом разглядывать раскинувшееся перед ним селение. Оно было очень большим, даже больше, чем поселок Абуль-моута, а в центре его возвышалась опоясанная узкой галереей деревянная башенка. Это был местный минарет, огромная редкость в здешних местах.
Перед распахнутыми воротами, от которых шла крепкая ограда, стоял часовой. Он пропустил незнакомцев, не задав ни одного вопроса. Теперь глазам путешественников предстали ряды многочисленных токулов, между которыми суетились люди. Казалось, что здесь идет подготовка к большому военному походу.
По обе стороны минарета стояли два токула больших размеров, чем остальные. Сын Тайны направил свои шаги к левому, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды, которыми его провожали жители деревни.
— В правом доме живет хозяин, а здесь — лейтенант, — объяснил он Пфотенхауеру. — Первого нет на месте, поэтому мы должны представиться его заместителю.
Не успели они подойти к токулу лейтенанта, как он сам показался в дверях. Вначале в глазах его промелькнуло удивление, но уже в следующую секунду он узнал юношу и воскликнул:
— Мальчик, это ты! Ты снова вернулся к нам, а мы-то думали, что никогда больше тебя не увидим! Добро пожаловать, и скажи, кого ты к нам ведешь? Я вижу, это ниам-ниам. Ты хочешь, чтобы я сделал их рабами?
На вид этот человек был еще старше, чем Храпун. Он тоже протянул юноше руку, и, пожимая ее, тот ответил:
— Они мои братья, в их племени я живу. Я пришел, чтобы поручить твоим заботам этого чужого эфенди, который на несколько дней хотел бы стать твоим гостем.
Тогда лейтенант повернулся к немцу и подал ему руку со словами:
— Кто бы ты ни был, я рад тебя приветствовать, потому что тебя привел ко мне этот мальчик. Пусть он отведет твоих ниам-ниам к нашим неграм, там им будет хорошо. А тебе я предоставлю токул, предназначенный для гостей. Следуй за мной!
Он подвел Серого к хижине, которая выглядела аккуратнее и чище остальных, хотя и была построена также из тростника. Ее внутреннее устройство вполне соответствовало внешнему виду. Пол был устлан шкурами, а на тянущемся вдоль стен возвышении, похожем на нары, лежали мягкие одеяла. В самих стенах были даже проделаны несколько оконных проемов, а с крыши свисала лампа.
— Этот дом — твой! — сказал лейтенант. — Устраивайся поудобнее! Я пошлю тебе слугу, который принесет все, что может тебе понадобиться. Отдохни немного с дороги, а потом я снова тебя навещу.
Пфотенхауер был чрезвычайно доволен оказанным ему приемом. Еще бы: ему выделили целый дом и при этом даже не поинтересовались его именем и целью его приезда!
Через несколько минут после того, как лейтенант покинул «гостиницу», снаружи раздался звон гонга и зычный голос глашатая:
— Собирайтесь на молитву! Солнце вот-вот исчезнет на западе, настал час вечерней молитвы. Нет Бога; кроме Аллаха, и Мохаммед — Пророк Его! Так подтвердите же, что есть только один Бог! Аллах акбар!
Немец подошел к окну и увидел глашатая на галерее башенки. Внизу, на земле, люди опустились на колени, готовые к молитве. За их спинами виднелись ворота селения. Как раз в этот момент, когда глашатай призвал к молитве, в воротах показались несколько человек, по виду которых было заметно, что они приезжие. Эти люди тоже опустились на колени и только по окончании молитвы продолжали свой путь к токулу лейтенанта.
Это были солдаты, настоящие солдаты: все они, за исключением одного, носили форму египетского войска. Впереди всех шел офицер со знаками отличия капитана. Рядом с ним шагал человек небольшого роста, который тоже был одет в униформу, но какого-то странного вида. Она состояла из голубых штанов, доходивших их владельцу только до колен, и доисторического красного мундира французской армии с огромными шерстяными эполетами на плечах. Голову его увенчивало нечто вроде тюрбана, украшенного длинными перьями. Спереди мундир широко расходился, выставляя на всеобщее обозрение щуплую грудь, не прикрытую ни жилетом, ни рубашкой. Поверх мундира был надет кожаный пояс, на котором висели несколько кошельков, набитых разнообразными полезными мелочами. Из-за пояса торчали рукоятки ножа и двух пистолетов, а в руке незнакомец держал ружье необычайно большой величины. Этот человек с примечательной внешностью вошел к лейтенанту вместе с офицером, а четверо солдат остались стоять снаружи.
Всю эту картину Серый наблюдал при быстро тающем свете дня, а потом на улице стало совсем темно, и в хижину вошел присланный лейтенантом негр-слуга. Он зажег лампу, а потом снова удалился, чтобы принести гостю кувшин маризы и несколько свежеиспеченных лепешек.
Немного погодя к Пфотенхауеру заглянул Сын Тайны. Он пришел спросить, как немцу нравится его новая квартира.
— Она превосходна! — отвечал тот. — А где поселили тебя?
— В токуле Храпуна. Я думаю, он будет очень рад узнать об этом, когда вернется со своего дежурства.
— Я был немного изумлен, когда понял, что тебя здесь все знают. Ты, значит, уже бывал в Магунде?
— Да, как ты уже слышал.
— А как долго ты здесь жил?
— Несколько месяцев.
— Это было давно?
— Четыре года назад.
— Что привело тебя сюда?
— Прости, господин, это тайна.
— Вот как! Храпун упомянул что-то об Абдулмоуте. Выходит, ты и раньше знал его и Отца Смерти?
— Да, эфенди.
— И не сказал мне об этом ни слова!
— Не обижайся! Об этом я никому не рассказываю.
— Я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться в твои дела. Скажи мне только одно: в тот раз ты приходил сюда один или с кем-нибудь?
— Об этом я тоже не могу говорить.
— Хорошо. Тогда давай поговорим о другом. Ты видел чужаков, которые недавно явились сюда?
— Да. Я был как раз в токуле лейтенанта, когда они пришли. Офицер прибыл на дахабии и спрашивал, можно ли бросить якорь в гавани.
— Откуда он идет?
— Он спускается по реке. Он интересовался у лейтенанта, не знает ли он, вернулся ли Абуль-моут в свое селение.
— Ты не спросил у этого офицера, есть ли на его корабле пассажиры?
— Нет. Он говорил с комендантом, а не со мной.
— Вполне возможно, что на этой дахабии находится брат моего товарища. Я хочу пойти к капитану и расспросить его.
— Его уже нет, он ушел вместе со своими солдатами, чтобы подогнать корабль к берегу.
— Тогда я подожду, пока он вернется.
— Может быть, ждать и не придется: его спутник, тот, что похож на попугая, остался здесь. Прислать его к тебе?
— Да, позови его, пожалуйста!
Сын Тайны вышел, и вскоре после этого в дверях появился человек в красном мундире. Все его лицо был испещрено оспинами, и, может быть, вследствие той же болезни его усы состояли всего из нескольких волосков, которые, несмотря на явную заботу хозяина, торчали, как щетина, в разные стороны. «Усач» отвесил весьма замысловатый поклон и сказал:
— Я слышал, что ты эфенди и желаешь со мной говорить. Что тебе нужно?
— Я хотел бы знать, откуда идет дахабия, на которой ты приехал?
— Из Фашоды.
— А! И ты прямо в Фашоде сел на этот корабль?
— Да.
— Кто еще на нем находится?
— Солдаты.
— А штатских там нет?
— Есть несколько человек.
— Кто эти люди?
— Ну, прежде всего я!
— Значит, ты не солдат?
— Нет.
— Но носишь форму?
— Да, потому, что мне так нравится, и потому, что мое путешествие — военный поход.
— Могу я спросить, как тебя зовут?
— Моего настоящего имени ты не смог бы выговорить. Здесь меня обычно называют Абуль-хадашт-шарин. Отец Одиннадцати Волосинок. Со мной также находится мой товарищ Абу Дих — Отец Смеха.
— И больше никого?
— С нами находится еще великий ученый и эфенди, чьим адъютантом и лучшим другом я являюсь.
— Как его имя?
— Абуль-арба-уюн, Отец Четырех Глаз.
— Четырех глаз? Он что, носит очки?
— Да.
— Куда он едет?
— К ниам-ниам, а перед этим он собирается навестить селение, которое принадлежит Абуль-моуту.
До сих пор Пфотенхауер слушал спокойно, но при последних словах собеседника он вскочил и взволнованно воскликнул:
— Он ведь чужестранец, немец, и зовут его Шварц, правда?
— Да, это он, и зовут его именно так, да. Ты его знаешь?
— Нет, но я знаю его брата, который едет ему навстречу. Итак, он здесь, здесь, на дахабии?
— Да. Я сейчас как раз пойду вниз, к гавани, чтобы его встретить.
— Я пойду с тобой. Я должен быть там, когда он высадится на берег! Мне не терпится его увидеть и поприветствовать!
— Тогда пойдем вместе.
Последние слова были сказаны тоном высокого покровителя, который находится в благодушном расположении духа. Пфотенхауер воспринял их спокойно и лишь удивленно улыбнулся, после чего новые знакомые покинули токул и сериба и зашагали к реке.
Храпун со своими людьми по-прежнему стоял на берегу. Неподалеку от них лежала лодка. Пфотенхауер и Отец Одиннадцати Волосинок забрались в нее и принялись ждать прибытия дахабии.
— Ты сказал, что ты его друг и адъютант, — снова заговорил Серый, — с каких же пор?
— С Фашоды. Но познакомились мы еще раньше, в пустыне. Там мы вместе убили двух львов и победили шайку хомров, которые хотели на нас напасть. Шварц — необычайно смелый и умный человек.
— Это я знаю.
— И он никогда ничего не делает, не посоветовавшись со мной, — с важным видом прибавил малыш.
— Даже так? Тогда вы, должно быть, являетесь действительно очень близкими друзьями.
— Очень, очень близкими! Мы с ним все равно что братья. Я думаю, мне не надо вам объяснять, что я тоже ученый?
— Ты?!
— Ну да, я! Ты что, сомневаешься в моих словах?
— Да нет, у меня пока нет оснований сомневаться, потому что ты не доказал мне противоположного.
— О, этого никогда не произойдет! Стоит тебе послушать мою латынь, и ты поймешь, что немного на свете таких образованных людей, как я!
— Латынь? Откуда ты знаешь это слово?
— Слово? — презрительно фыркнул Отец Одиннадцати Волосинок. — Ты, кажется, не понял: я в совершенстве владею латинским языком.
— Невероятно! Где же ты его изучил?
— Меня научил знаменитый Маттиас Вагнер, с которым я обошел весь Судан. Он был моим земляком.
— То есть как земляком? Насколько я знаю, Вагнер был венгром из Эйзенштадта.
— Это верно. Я тоже жил в Венгрии. Доктор Шварц был невыразимо счастлив, что может на чужбине поговорить со мной по-немецки.
— Как, ты и по-немецки говоришь?
— Конечно, и превосходно!
— В самом деле? Нет, ты правда не шутишь? Это меня тоже страшно радует, потому что я тоже немец!
Отец Одиннадцати Волосинок вскочил на ноги и в восторге вскричал, немедленно перейдя на немецкий язык:
— Что? Как? Вы — немец?
— Так оно и есть! — ответил Серый на своем сочном диалекте.
— Где вы родились?
— Я сам родом из Баварии.
— О, это есть хорошо-прекрасно! Я бывать в стороне баварной.
— Да? Мне приятно, что вы знаете мои родные края.
— Да, я в Мюнхене быть, где пью пиво, баварное, и ем редьку, черную, и сосиски, горчичные.
— Да уж, что правда, то правда, глоток доброго пива с редькой и сосиску с горчицей у нас в Баварии получить можно, в этом у нас толк знают! Но коли вы венгр, не могли же вы с самого начала называться Отец Одиннадцати Волосинок! Как будет ваше настоящее имя?
— Меня звать Иштван. А какое имя ваше будет?
— Я — Пфотенхауер. Но… вы уж простите меня, коли я спрошу: что это за диалект, на котором вы говорите? Я ничего подобного отроду не слыхал!
— Диалект? Я не говорю диалектом, а на немецком языке, безупречно чистейшем!
— Ах вот оно что! Ну, в этом я, пожалуй что, усомнюсь. Ежели ваша латынь так же чиста, как ваш немецкий, вы можете за ее прослушивание загребать хорошие барыши!
— Да, это я бы смогу, — со скромным достоинством согласился малыш. — Я всегда есть филолог, поразительный, и помолог, значительный!
— Черт побери! Так вот она, латынь-то ваша! И что ж тогда, по-вашему, филология?
— Филология наука о деревьях есть, с яблоками и грушами, вкуснейшими.
— Так-так! А помология?
— Это наука другая, об учении, премудром.
— Ну, дружище, вы уж попали впросак! Ведь дело-то обстоит совсем наоборот.
— Тогда это была путаница, научная. Я держу столько знаний в голове моей умной, что когда одно хочет выскочить наружу, то часто застревает, и вместо него выходит другое знание.
— Да, так уж нередко бывает, когда учишься сам, а академии посещать времени-то и не находится!
— О, академия, это я изучить, и апоплексию тоже!
— Да ну? Ну, в таком разе вы и точно умный плут! И что ж вы понимаете под апоплексией?
— Это школа высокая есть, университетская.
— Ох, Боже милосердный! А академия?
— Это был удар, который попал в голову и парализовал вначале руку, левую, или ногу правую.
— Тысяча чертей! Этакой чуши я за всю мою жизнь не слыхивал! Перво-наперво, что это за немецкий?! Какой бедолага разнесчастный должен разбирать эту кашу, что выливается из вашего рта? И потом вы опять все с ног на голову перевернули! Ведь высшая школа — это как раз академия, а апоплексия — это кровоизлияние.
— Это была только ошибка случайная! — защищался маленький человек. — Такое может случиться с любым и каждым!
— Но с вами это, сдается мне, случается сплошь и рядом! — рассмеялся безжалостный Пфотенхауер. — И вы еще называете себя другом и адъютантом доктора Шварца? С чем его и поздравляю! Не хотел бы я, чтоб мне такого помощничка Бог послал!
Отец Одиннадцати Волосинок почувствовал себя оскорбленным и спросил, гордо выпрямившись во весь свой небольшой рост:
— Под этим подразумевается персона, моя?
— Ну да, а что же еще? — веселился Пфотенхауер. — Конечно же, я подразумевал персону, вашу!
— Тогда протест я должен заявить. Я никогда не позволил оскорбить человек быть, респектабельный. Я никогда не позволил оскорбить честь, мою, и если вы не попросите извинения, срочно, то я буду сатисфакция требовать на пистолетах или саблях!
Серый расхохотался еще громче, чем прежде, и ответил:
— Эй, дружище, что это еще взбрело вам в голову? Никак вы меня вызываете? Подумать только, дуэль на саблях или пистолетах! Нет уж, лучше оставим это! У меня вовсе нет настроения подпортить ваши прекрасные познания и вашу латынь порохом или свинцом. И ежели вы чувствуете себя обиженным, я уж тут ничего поделать не могу. Я всего-навсего орнитолог, а не бретер[126] какой! С пташек я шкуры снимаю, что верно, то верно, но с людей — это уж дудки!
— Если вы есть орнитолог, — отвечал маленький человек, свирепея не на шутку, — то я был ученым еще намного главнее, чем вы! Я выучил орнитологию и орографию!
— Этого еще не хватало! Пари держу, вы точно знаете, что значат оба эти слова!
— Я это знаю, и уж получше, чем вы! Если вы не знаете этих двух наук, то я могу вам сразу дать объяснение!
— Ну валяйте, выкладывайте! Что такое орнитология?
— Это описание горы, карпатской и гигантской.
— А орография?
— Это естественная наука, важная, птичья и пернатая.
— Но, милейший, вы же снова все переврали! Да вы настоящий фокусник, и ваши фокус-покусы кого хочешь с ума сведут! Я от вас скоро вконец одурею. Слышите, я знать больше не желаю, что вы там говорите!
Тут разъяренный Отец Одиннадцати Волосинок выскочил из лодки и патетически вскричал:
— Вы одурели и так, совсем! Вы сами фокус-покус есть персоной, собственной, вашей! Не можете говорить и понимать немецкий! Вы сказали, вы есть ученый? Не насмехайтесь! Я могу только пожалеть вас за духовное банкротство. Я больше не желаю быть знакомым с личностью вашей! Адье, добрай ночь, гуте нахт! Я откланиваюсь!
Он повернулся и побежал прочь.
Увидев, какое сильное впечатление произвели на Отца Одиннадцати Волосинок его насмешки, Пфотенхауер раскаялся, что так сурово обошелся с этим чудаком. Он тоже выбрался из лодки и закричал беглецу вслед, чтобы тот вернулся. Никакой реакции не последовало, и Серый уже собрался было бежать вдогонку за строптивым «мудрецом», когда вдруг увидел какой-то силуэт на воде пониже мишра. Это не могло быть ничем иным, кроме дахабии, и, отложив примирение с маленьким строптивцем до лучших времен, Пфотенхауер вновь присел на край лодки и принялся глядеть на реку.
Свет становился все ближе и ближе и в конце концов оказался костром, который горел на палубе корабля и освещал парус. Гонимая ветром, дахабия медленно прошла мимо гавани, затем спустила парус и, кормой причалив к берегу, встала на якорь. Матросы бросили на берег канаты, которые были пойманы и Укреплены подоспевшим Храпуном и его людьми. Когда трап коснулся берега, Серый подошел поближе и крикнул по-немецки:
— Алло! Доктор Шварц на борту?
— Что я слышу? — прозвучало в ответ. — Немец в деревне Магунда? Вот так сюрприз.
— Так точно, земляк, самый натуральный немец стоит здесь и приветствует вас. Ежели хотите меня обнять, давайте, лезьте сюда! Но только уж постарайтесь не раздавать меня на радостях!
— Из Баварии, как я слышу? Подождите минуту, сейчас я к вам спущусь.
Едва Шварц оказался на берегу, Серый без долгих церемоний обхватил руками его широкие плечи, смачно чмокнул его в щеку и сказал:
— Итак, добро пожаловать, я, ей-Богу, от всей души рад вас видеть! Вы меня, правда, не знаете, и я, может, и не должен лезть к вам со своими нежностями, но все ж примите этот поцелуй, если и не от меня, так по крайности от вашего брата!
— От моего брата? От Йозефа? Так вы знакомы?
— С Зеппом-то? Ну, еще бы, я, можно сказать, его закадычный друг. А вы разве не встретили в Фашоде его посыльного?
— Встретил. Мальчик передал мне письмо от Йозефа.
— Ну, так я и есть тот самый Пфотенхауер и птицелов, о котором он хоть одним словом, да наверняка обмолвился. Или он ничего обо мне не написал?
— Как же, написал и очень много. Я счастлив с вами познакомиться. Но по моим представлениям вы оба должны быть сейчас в стране ниам-ниам. Что вы делаете здесь и где, собственно, мой брат?
— Он уж очень сильно о вас беспокоился, ну, мы и поехали вперед. С вами ведь легко могло в дороге приключиться что-нибудь неладное. Вот он и решил встретить вас пораньше, чем было договорено.
— Да. Это на него похоже. Так он, значит, тоже здесь? Почему же его до сих пор не видно?
— Потому, что он сюда пока не доехал. Я отправился вперед, а уж он последует за мной.
— Но почему он остался сзади? Где он находится?
— Об этом мы еще успеем потолковать. Вначале скажите мне, где вы намерены нынче ночевать: наверху, в деревне, или здесь, на корабле? Мне отвели расчудесный токул, в котором хватит места для нас обоих.
— Благодарю вас, я все же предпочел бы остаться на борту, у меня великолепная каюта, с которой ни один токул не сравнится. Надеюсь, вы окажете мне честь своим присутствием и не станете возвращаться в деревню?
— Ну, если вам так угодно, я останусь. По мне — так без разницы, в деревне или на корабле мы будем — лишь бы вместе!
— Тогда прошу вас на борт!
Оба немца прошли на ют, где чернокожий слуга распахнул перед ними дверь каюты. Украдкой Шварц бросал на своего гостя любопытные взгляды: ему было интересно познакомиться с этим Отцом Аиста, которого брат описывал ему как удивительного чудака, талантливого ученого и человека прекрасной души.
Каюта состояла из нескольких роскошно обставленных помещений. Свисавшая с потолка бронзовая лампа освещала разбросанные там и сям мягкие подушки, высокое зеркало и блестящие инструменты, которыми были увешаны стены и уставлен маленький стол.
— Лопни мои глаза! — изумленно воскликнул Серый, останавливаясь на пороге. — Да у вас тут не корабль, а дамский будуар! И это в Судане, на Верхнем Ниле? Вы никак стали миллионером?
— Нет, — улыбнулся Шварц, продолжая незаметно рассматривать земляка, — все это великолепие принадлежит не мне, а вице-королю Египта. Этот корабль — правительственная дахабия.
— Ей-ей, неплохо! Но вы-то как здесь оказались? Может, еще скажете, на борту находится паша, который взял вас с собой на прогулку в качестве почетного гостя?
— Нет, пашу я на этот раз не захватил. Дахабия предоставлена в мое полное распоряжение. Так что в данный момент я фактически распоряжаюсь кораблем. Мне подчиняется даже капитан.
Серый покачал головой, как будто желая призвать к порядку свой нос, который уже давно беспокойно вертелся во все стороны, а потом сказал:
— Что ж, вы, видать, счастливчик! Нам, немцам, а тем более таким книжным червям, как мы с вами, нечасто удается устроиться с таким шиком!
— Вы, конечно, правы. Но садитесь же и будьте как дома!
С этими словами Шварц хлопнул в ладоши, и в дверях показался слуга-негр, который впустил господ в каюту. Он нес в руках два чубука. За ним вошел другой слуга и протянул Пфотенхауеру серебряную чашку с ароматным кофе. Шварц вполголоса отдал неграм какие-то распоряжения, после чего они бесшумно удалились.
— Ну, доложу я вам, — сказал Серый, потягивая изысканный напиток, — у меня сейчас точь-в-точь такое чувство, будто я один из персонажей сказок Шехерезады. Мы-то здесь ничего не видим, окромя маризы да черствых лепешек. А у вас здесь не кофе, а просто нектар. Похоже, у вас неплохой запас продуктов, а?
— Вы уже ужинали? — вместо ответа спросил Шварц.
— Нет еще.
— Тогда я приглашаю вас отужинать вместе со мной, и вы убедитесь в верности вашей догадки.
— Но как вам удалось получить эту дахабию? Сколько вы платите за нее в день или там в неделю?
— Она мне не стоит ни одного пиастра, ни пфеннига.
Кончик носа его собеседника изумленно вздернулся вверх, когда он спросил:
— Ничего? Совсем ничего не платите? И вы хотите, чтобы я вам поверил?
— Да, не скрою, я надеюсь на это, — рассмеялся Шварц.
— Тогда я совсем ничего не понимаю. Что это за чудеса с вами творятся?
— Чуда здесь никакого нет, и все объясняется очень просто. Когда я гостил у Али-эфенди Абулгази, мидура Фашоды, его маленький сын, играя, случайно проглотил кубик из слоновой кости. Я как-то говорил мидуру, что немного смыслю в медицине, и, вспомнив об этом, он послал за мной. Приди я немного позже, ребенок бы умер от удушья, но мне все же удалось извлечь застрявший в пищеводе кубик. Радости и благодарности отца не было границ, он готов был исполнить любое, самое невероятное мое желание, так что просьба о плавании на его корабле показалась ему ничтожным пустяком. К тому же ему и самому было выгодно предоставить мне эту дахабию: ведь заполучить в свои руки Абуль-моута всегда было самым его заветным желанием.
— Что-что? Абуль-моута? Объясните мне это поподробнее! — попросил Пфотенхауер, никак не ожидавший услышать из уст Шварца это имя.
— Так зовут одного человека, который меня очень интересует. Вы его пока не знаете, но, если вы останетесь со мной, думаю, вам придется с ним познакомиться в ближайшие дни.
— А вы, значит, с ним знакомы?
— К сожалению, да. Он самый знаменитый ловец рабов на Верхнем Ниле и, кроме того, время от времени занимается разбоем в пустыне. Недалеко от Фашоды он напал на меня, чтобы ограбить и убить.
— Да?! И что же, у него ничего не вышло?
— Нет, как видите, — снова засмеялся Шварц, — я же сижу перед вами живой и невредимый.
— А, ну да, — сконфузился Пфотенхауер, — но как же вы умудрились оставить его в дураках?
— Это было не очень сложно, но, к несчастью, мне не удалось с ним покончить. Я поймал его сообщников и доставил их в Фашоду. Они получили по заслугам, но самому Абуль-моуту удалось ускользнуть.
— Экая досада! Ежели б вы его схватили, он бы на своей шкуре испытал все «прелести» своего ремесла.
— Совершенно верно. Он бы поплатился за него головой. Мидур просто горит от нетерпения увидеть наконец пойманным этого негодяя. Там, в пустыне, я подслушал разговор Абуль-моута и его людей, и как вы думаете, что я узнал?
— Думаю, не больше, чем они сказали, — отшутился Серый.
— Он уже давно запланировал набег на ниам-ниам, а некоторое время назад его шпионы сообщили ему, что сейчас у этого племени гостят двое белых ученых-естествоиспытателей. Он поклялся убить их обоих.
— Черт подери! Речь, как я смекаю, шла обо мне и вашем брате?
— Да. Сначала я в этом сомневался, полагая, что мой брат путешествует один, но когда из его письма я узнал о вас, то окончательно понял: вы — те самые, о ком говорил Абуль-моут. Уяснив это, я начал тотчас же собираться в путь, чтобы опередить разбойника. Мидур, которому я изложил суть дела, обещал мне свою помощь. Он хотел дать мне отряд солдат, а за это я должен был постараться поймать Отца Смерти и отправить его в Фашоду. Тут как раз случилось несчастье с мальчиком, и, желая отблагодарить меня за его спасение, мидур увеличил число солдат до двухсот. По удачному стечению обстоятельств в тот день, когда мы отбывали из Фашоды, туда из Хартума прибыла эта дахабия, и мидур отдал ее мне. Так я и оказался на этом корабле. Солдаты под командованием капитана, разумеется, тоже остались на борту. Да вы их, наверное, видели?
— Ну еще бы! Ими вся палуба кишит! Так вы, значит, охотитесь за этим Абуль-моутом. Интересно!
— Интересно, но не совсем безопасно. Он — настоящий злодей без чести и совести, и он способен на все. К сожалению, для того, чтобы получить корабль и подготовить его к отплытию, я вынужден был на целый день задержаться в Фашоде. В результате Абуль-моут получил преимущество во времени, которое нам было трудно наверстать. Ветер, слава Богу, был попутный, и кроме того, мы наняли шиллуков, а потом нуэров, чтобы они тянули судно на канате, и все же, когда мы достигли Диакина, выяснилось, что Абуль-моут ушел оттуда два дня назад. Я узнал, что он завербовал к себе на службу более трехсот нуэров, без сомнения, для набега на ниам-ниам. В Диакине он нанял сандал и нуквер и продолжает свое путешествие по реке. Теперь вопрос только в том, кто плывет быстрее — он на своих кораблях или мы на нашей дахабии.
— Ну, и кто же двигался быстрее?
— До сих пор он, раз мы его еще не догнали.
— Но вы, по крайней мере, знаете, далеко ли он от вас ушел?
— Нет. Если бы я преследовал его на суше, то по следам легко мог бы определить, на каком расстоянии от меня он сейчас находится. Но на воде не остается никаких следов. Мы развили самую большую скорость, на какую были способны. Когда позволяет берег, мы работаем с помощью тяговых канатов, и, так как наша дахабия — превосходный парусник, я думаю, что мы уже довольно близко подошли к ловцам рабов.
Серый с довольным видом кивнул головой, на губах его заиграла загадочная улыбка, а кончик носа беспокойно задергался, как будто и сам едва удерживался от желания огорошить собеседника эффектным сообщением. Наконец, Пфотенхауер справился с собой и поспешил переменить тему разговора.
— А где же тот мальчик, которого мы с Зеппом к вам отправили? — спросил он.
— Тоже здесь, и я должен поблагодарить вас за него. Несмотря на свою молодость, этот Сын Верности — необычайно дельный и полезный человек. Если бы не он, мы были бы еще далеко отсюда, потому что он знает Нил и его фарватер так же хорошо, как я — содержимое моих карманов.
— Это все результат таинственных поездок по Нилу, которые он совершал со своим закадычным дружком Сыном Тайны.
— Сын Тайны? А это еще кто такой?
— О, о нем вы еще услышите! Скажите-ка мне лучше, кто этот гайдук, который называет себя вашим другом и адъютантом?
— Моим другом и адъютантом? Не знаю. У меня нет никаких адъютантов. Кого вы имеете в виду?
— Ну, того разукрашенного индюка, который пыжится от сознания собственной значительности.
— Ах, так это Отец Одиннадцати Волосинок?
— Ну да, он самый!
— Это удивительный человек!
— Шутите?
— Да нет, я абсолютно серьезен. Он верный, самоотверженный, толковый и очень храбрый паренек. Представьте себе, он вместе со мной уложил в пустыне двух львов!
— Ну, это он, ясное дело, рассказал мне в первую очередь, и мне, кстати сказать, до смерти любопытно, как это все было. Но он что, и вправду умный? Мне что-то не очень в это верится.
— Почему?
— То есть как «почему»? — снова начал кипятиться Серый. — Да он несет такую околесицу, что нормальный человек уж не может разобрать, что к чему. Она опутывает его, как паутина, и в два счета сводит с ума! Этот малый заявляет, что знает латынь, и при этом говорит на таком немецком, от которого у него изо рта должны были бы к черту повыскакивать все зубы.
— Так значит, он уже и с вами успел перемолвиться? Этот парень — большой оригинал и носится с идеей прослыть великим ученым. Вы его еще узнаете получше, и я уверен, что он вам понравится. Тут у меня есть один чудак, большой его друг. Его зовут Хаджи Али, а прозвище у него — Отец Смеха. Так вот, он утверждает, что знает по именам все страны и народы, города и деревни земли. Я советую вам относиться к этим двоим снисходительно, потому что если простить им их невинные «пунктики», то оба они — прекрасные люди и настоящие друзья.
— Фу ты, черт! Мне, ей-богу жаль, что я не знал всего этого раньше, потому как я успел здорово отругать этого мальца.
— Жаль, — только и мог сказать Шварц.
— Да, так уж оно вышло. Я, сказать по совести, довольно грубо с ним обошелся. Поэтому он вскочил и убежал. Но я, право слово, вовсе не хотел его обижать, даже чуть было не стал извиняться.
— Это необязательно. Если вы будете держать себя с ним по-дружески, он сразу забудет свою обиду. Вообще все это довольно весело. Я обычно позволяю ему болтать все, что ему в голову взбредет, а когда у меня иссякает терпение, я говорю себе, что ведь и у меня есть свои слабые стороны и я тоже не всегда веду себя очень умно.
— Да уж, тут вы в точку попали! — воодушевился Серый. — Мне бы и самому иной раз следовало поумнее быть, особенно тогда…
— О чем вы говорите? Что случилось?
— Это было, когда я еще в третьем классе был.
Многозначительный тон, с каким Пфотенхауер произнес последнюю фразу, окончательно заинтриговал Шварца, и он спросил:
— И что же тогда с вами произошло?
— О, одна очень-очень злая шутка. Я вообще-то об этом никогда не говорю, так как это тайна, но уж с друзьями-то можно быть откровенным, а? Этот случай связан с моим профессором естествознания. Он, знаете ли, терпеть меня не мог, потому как на вопросы, что я ему задавал, никакой ученый бы не ответил.
— В самом деле? Интересно, — вставил Шварц, уверенный, что сейчас ему расскажут какую-то удивительную историю.
— Да, так-то вот дело и обстояло. И он, этот профессор, только и ждал случая, чтоб посадить меня в лужу. Ну, а тут как назло и экзамен нагрянул. Я с утра, как осел распоследний, облачился в свежую сорочку, стянул себе горло праздничной удавкой и думаю: «Ну, теперь-то за ответом дело не постоит!» Спрашивали нас всех по очереди. Как мою фамилию выкликнули, я встал и стал ждать, какой мне вопрос достанется.
Тут Пфотенхауер выжидающе замолчал.
— Ну рассказывайте же, что было дальше? — умоляюще сложив руки, попросил Шварц.
— Дальше-то? Дальше под ногами моими разверзлась пропасть, и я в нее упал, — с трагическим пафосом проговорил Серый. — Отвечайте-ка, что он захотел у меня узнать?
— Я?! — изумился Шварц. — Вот уж воистину не могу предположить.
— Еще бы! Я и сам мог предположить что угодно, по не это. Ему, понимаете, нужно было обязательно от меня узнать, откуда у птиц взялись перья.
Пфотенхауер рассказывал свою историю так серьезно, будто речь в ней шла о важной государственной афере. Поэтому теперь, когда он умолк, ожидая, какой эффект произведет на слушателя кульминация его душераздирающего рассказа, Шварц почувствовал себя разочарованным и одураченным. Он не знал, плакать ему или смеяться, но все же из вежливости счел своим долгом поинтересоваться:
— Какой же ответ вы дали своему учителю?
— Ну, поначалу-то я просто онемел.
— Со мной на вашем месте, наверное, случилось бы то же самое.
— Правда? Тогда вы ясно понимаете мое состояние. Я тогда только глаза выпучил да рот открыл, чтоб мне туда правильный ответ влетел, а потом я…
В этот момент в дверь постучали, и в каюту вошел с гордо поднятой головой Отец Одиннадцати Волосинок. Он не удостоил Серого ни единым взглядом и сразу обратился к Шварцу:
— Я сообщаю сведение, пришедшего, — сказал он по-немецки, чтобы лишний раз дать клеветнику-Пфотенхауеру убедиться, как блестяще он владеет этим языком.
— Кто хочет меня видеть? — спросил Шварц, поразив Серого легкостью, с какой он расшифровал донесение своего «адъютанта».
— Лейтенант селения, здешнего.
— Ах, вот как! Это очень кстати. Он уже здесь?
— Еще не полностью совсем. Он пришел сюда за спиной, моей.
— А ты только что был наверху?
— Да. Я уйти наверх, потому что внизу сидела персона, невежливая.
При этих словах маленький человек бросил на Серого уничтожающий взгляд.
— И лейтенант спрашивал тебя обо мне?
— Да. Он хотел знать, живете вы на корабле, этом, или в сериба остановиться будете. Он имел намерение, дружелюбное, зазвать вас на еду, вечернюю. Он послал меня сюда, чтобы рассказать вам о его прибытие, скором.
— Хорошо. Открой ему дверь, когда он придет!
— Это будет сделано с удовольствием, величайшим!
Отец Одиннадцати Волосинок поклонился и собрался уходить, но внезапно снова обернулся и спросил Шварца;
— Вы учитель все специальности, мои, я прошу, дайте мне свидетельство, правдивое!
— Свидетельство? О чем?
— О латыни, моем.
— Я считаю, что для твоих нужд того, что ты знаешь, более чем достаточно.
— Я объявляю благодарность, сердечную! — торжествующе воскликнул малыш, покосившись на Пфотенхауера, а потом продолжил: — И еще вопрос о цензуре языка, моего, германского. Как я на нем выражаться умею? С незнанием, печальным, или с легкостью, чрезвычайной?
— Я без труда понимаю все, что ты говоришь.
— Хорошо! Больше слышать не буду ничего и никогда! Вы спаситель, благородный, чести, моей. Персона, враждебная, обращена в бегство, позорное!
Он круто повернулся и зашагал к двери, причем постарался пройти так близко от Пфотенхауера, что едва не отдавил ему ноги. Дверь за ним с шумом захлопнулась, но тут же приоткрылась снова, и голос малыша прокричал:
— Он пришел, комендантский лейтенант деревни!
Глава 12
НОВЫЕ СОЮЗНИКИ
«Комендантский лейтенант» переступил порог каюты и отвесил низкий поклон. Узнав о том, что завернувший в Магунду корабль — дахабия хедива, он тотчас же поспешил на борт засвидетельствовать свое почтение высоким гостям.
Конечно, приход лейтенанта имел и другую цель, о которой он по вполне понятным причинам предпочитал не распространяться. Мидуру Фашоды было прекрасно известно, что жители Магунды занимаются торговлей рабами; значит, об этом должен был знать и только что прибывший эфенди. Что привело его сюда? Уполномочен ли он наказать ловцов рабов за незаконный промысел или собирается провозгласить какие-то новые законы и порядки? Пожелает ли он осмотреть деревню, в которой, к счастью, не было сейчас ни одного пленного негра? Все эти вопросы чрезвычайно беспокоили лейтенанта, и он надеялся во время своего «визита вежливости» окольными путями выведать истинные намерения чужеземца.
Однако не так-то просто было провести Шварца, который сразу почувствовал хитроумные замыслы своего посетителя. Он велел слугам принести еще одну чашку кофе и трубку, пригласил старика сесть и обратился к нему с несколькими вежливыми вопросами, избегая при этом темы торговли рабами. Он также сообщил лейтенанту, что останется в Магунде до завтра и эту ночь вместе с Пфотенхауером проведет на корабле.
Когда примерно через полчаса лейтенант распрощался с немцами и вернулся наверх, расположение духа у него было самое что ни на есть скверное. Он увидел дурной знак в том, что Шварц вел себя так уклончиво, и решил немедленно послать верхового в Яу, к хозяину. Тот, правда, в любом случае собирался вернуться не позднее завтрашнего полудня, но в сложившихся обстоятельствах лейтенант посчитал, что хозяину лучше поторопиться.
— Он меня испугался, — сказал Шварц после того, как за стариком захлопнулась дверь. — Может быть, мне удастся извлечь из этого выгоду.
— Из его-то страха перед вами? — спросил Серый. — Это еще каким способом?
— Очень просто. Он явно считает меня членом правительства и послом вице-короля. Мои солдаты, которым я разрешил выйти на берег, наверняка рассказывают сейчас в поселке о нашем намерении поймать Абуль-моута. Это еще больше усилит тревогу лейтенанта, так как он вполне может подумать, что те же планы у нас и в отношении него.
— Ежели вы так думаете, то, по-моему, зря! Я точно знаю, что здешние жители ненавидят Абуль-моута. Он даже не осмеливается показаться вблизи Магунды!
— Ах, так? Что ж, это мне на руку. Может быть, удастся уговорить их присоединиться к моему отряду. Честно говоря, я никак не предполагал, что Абуль-моут завербует столько нуэров. Трехсот негров я могу не опасаться, но ведь в сумме с населением его поселка войско Абуль-моута составит восемьсот человек, с которыми моим ста пятидесяти солдатам, конечно, не справиться. Я очень рассчитываю на свою хитрость, даже больше, чем на наши ружья, но все же пополнение мне бы совсем не помешало.
— Но, по моему мнению, вам теперь вовсе не обязательно связываться с Абуль-моутом, — сказал Серый, который, проявляя чудеса выдержки, все еще тянул со своим сообщением.
— Почему? — удивился Шварц.
— Потому, что вы приняли это решение, чтобы выручить своего брата, да меня заодно. Но теперь-то это уж не нужно!
— Ну уж нет! Даже если бы угрожающая вам опасность действительно миновала, я был бы обязан сдержать слово, которое дал мидуру Фашоды. И кроме всего прочего, я пока не вижу брата. Вы ведь так и не сказали мне, где он находится и почему не пришел меня встречать. Но как бы там ни было, Абуль-моута я в покое не оставлю: он должен быть наказан хотя бы за то, что осмелился напасть на меня. Ручаться за успех моего предприятия я, конечно, не могу и поэтому не требую от вас, чтобы вы присоединились ко мне. Вы спокойно можете остаться здесь и дождаться моего возвращения.
— Вот так так! Выходит, я должен отсиживаться в этой дыре и ждать, открутят вам голову или нет. За хорошего же парня вы меня держите! Нет уж, дудки! Я пойду вместе с вами и буду драться так, что из этих чертей только искры посыплются. К тому же, если на то пошло, я лично так понимаю, что все это дело гораздо легче, чем вы думаете. Поймать старика! Абу ничего не стоит, потому как его селение стоит сейчас пустое, а команда, которая там осталась, сожгла весь этот райский уголок и смылась оттуда.
Шварц во все глаза смотрел на Пфотенхауера, не в силах вымолвить ни слова.
— Ну и видок у вас! — рассмеялся Серый. — Вы раскрыли рот совсем как я, когда должен был смекнуть, откуда у птиц перья взялись!
— Я не могу поверить вашим словам, вы наверняка ошибаетесь!
— Нисколечко! Я это точно знаю, потому я был там вчера вечером и видел вместо хижин кучу дымящегося пепла.
— Вы были там?
— Ну, ясное дело, был вместе с вашим братцем.
— Что? Вы оба были прямо в логове льва, который задумал вас проглотить?
— Ну, льва-то дома не было! Его я повстречал только нынче утром, по дороге сюда.
— Так вы и его самого видели?
— Ну да, а глаза-то у меня на что? Понятно, видел, его и оба его корабля. Он стоял вместе с главарем нуэров на сандале у руля.
— Тогда скажите скорее, когда и как далеко отсюда это было?
— Давайте прикинем. Около часу нам понадобилось, чтоб добраться с того места до Магунды. Стало быть, при вашей скорости вы бы могли быть там часа через четыре!
— Значит, мы преследуем его по пятам. Если он этой ночью встанет на стоянку, как и мы, то я смогу догнать его еще до завтрашнего вечера!
— Это можно, отчего же и нет. У него как раз все съестное кончилось, и он по пути должен рыбачить, да и охотиться, если не хочет своих нуэров заморить голодом. А это ему тоже скорости не прибавляет.
— Вы знаете даже то, сколько у него припасов?
— Ну да. Мне Охотник на слонов сказал.
— Охотник на слонов? Это еще кто такой?
— Это… Ну, я вижу, что пора бы обо всем вам рассказать. До сих пор-то я помалкивал, хотел к вам получше присмотреться, проверял, на самом ли деле вы такой человек, как мне ваш брат рассказывал, но теперь… Одним словом, слушайте, как было дело.
Когда Шварц узнал, что произошло за последние двое суток, ему изменило его обычное хладнокровие. Он вскочил и принялся взволнованно шагать по каюте, бормоча:
— Ну и дела тут у вас творятся! Кто бы мог представить себе что-либо подобное. Селение сгорело, ловцы рабов взбунтовались, и мой брат в Омбуле! Как он мог пойти на такой риск? Это же безумие!
— Значит, по-вашему, мы должны были спокойно смотреть, как перебьют несчастных беланда или угонят в рабство?
— Нет, конечно, нет. Вы правы, на вашем месте я поступил бы точно так же. Скажите, где сейчас находятся оба эти негра-беланда, Лобо и Толо?
— Они отдыхают в лодке. Я их в поселок не отправил, потому что хотел вначале посмотреть, как мне самому там понравится. За ними приглядывает Сын Тайны. Когда мы разговаривали в лодке с Отцом Одиннадцати Волосинок, Толо спал — ну, да он вообще спит не переставая, — а Лобо сидел с ним тихо рядышком.
— Нечего им там оставаться. Я распоряжусь, чтобы их привели на дахабию.
Шварц вышел, чтобы отдать своим людям это распоряжение, и увидел на палубе Сына Верности, беседовавшего с каким-то юношей. Это был Сын Тайны, который, как только узнал, что корабль уже стоит в мишрахе, сразу прибежал из поселка встречать своего закадычного друга. Шварц пригласил обоих юношей в каюту, чтобы всем вместе обсудить, как действовать в сложившихся обстоятельствах. Больше дверь каюты не открывалась, и до глубокой ночи из-за нее слышались приглушенные голоса. Только после полуночи все четверо отправились спать.
На восходе солнца Шварц и Пфотенхауер были разбужены громкой утренней молитвой солдат. Немцы поднялись и решили, не откладывая, пойти в поселок и попросить коменданта дать им небольшой отряд своих людей.
Они еще не успели закончить свой утренний туалет, как в дверь просунулась рябая физиономия верного Отца Листьев, который безумно ревновал своего господина к чернокожим слугам и задолго до рассвета подкрался к двери каюты, чтобы ждать первых распоряжений. К тому времени, когда до его ушей донесся тихий шорох, показывавший, что обитатели каюты проснулись, у него уже было готово сообщение для хозяина.
— Там посещение снова и опять из сериба, здешнего, — доложил он по-немецки, старательно не замечая присутствия Серого. — Хотелось поговорить с господином доктором, уважаемо-достопочтенным.
— Кто там пришел? — спросил Шварц.
— Хасаб Мурад, Магунды хозяин. Уже пришел, когда еще была ночь, темная.
— И он ждет до сих пор?
— Да. Не хочет он уходить, не поговорив с эфенди.
— Пригласи его войти и позаботься о кофе и трубках!
Хасаб Мурад оказался дородным человеком с добродушным лицом, похожим скорее на честного купца, чем на работорговца. Согласно здешним нормам приличия, он не стал заговаривать первым, а лишь поклонился до земли и стал ждать, пока к нему обратятся. Шварц знаком предложил гостю сесть и продолжал хранить степенное молчание во время традиционной «кофейной церемонии». Только когда чашки были опустошены и слуги принесли зажженные трубки, он заговорил:
— Мне сказали, что ты хозяин Магунды и желаешь со мной говорить, Я слушаю тебя.
Хасаб Мурад, который примчался из Яу, встревоженный сообщением посланного к нему гонца, несколько секунд обдумывал, как отвечать на это холодное приветствие, а затем сказал:
— Этой ночью я вернулся из путешествия и узнал о том, что к нам прибыли высокие гости. Я тут же поспешил на борт дахабии, горя желанием выразить тебе свое почтение.
— У меня нет права на такую честь: ведь я намного моложе тебя!
— Посланник правительства заслуживает большей чести, чем древнейший старец, — возразил Хасаб Мурад.
— Ты ошибаешься. Я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь.
Глазки египтянина беспокойно забегали по сторонам, а по лицу его скользнула смиренно-лукавая улыбка, говорившая: «Я не собираюсь с тобой спорить, но тебе меня не провести, я точно знаю, что должен делать». Вслух же он сказал:
— Только Аллах может заставить человека раскрыть рот против воли, я же уважаю твою скрытность. Ты надолго остановился здесь, в нашем мишрахе?
— До тех пор, пока не закончится наш разговор. Скажи, ты ведь промышляешь торговлей рабами?
— Что ты, эфенди, — испуганно возразил Хасаб Мурад, — с недавнего времени это занятие запрещено законом, а я никогда не иду против властей!
— Ты можешь это доказать?
— Скажи, какие доказательства тебе нужны, и, если это в моих силах, я представлю их тебе.
— Тогда ответь откровенно на мой вопрос: Абдулмоут тоже перестал предпринимать гасуа?
— Нет-нет, он продолжает этим заниматься, он все еще ловит рабов! Пусть Аллах накажет его за это!
— Я знаю, что ты говоришь правду, но я задал этот вопрос нарочно, чтобы проверить тебя. Как раз сейчас он собирается отправиться в новую гасуа, и я приехал, чтобы помешать ему. Что ты на это скажешь?
Лицо Хасаба Мурада засветилось от радости. Если бы у Абуль-моута, его личного врага и главного конкурента, отняли его ремесло, Магунда стала бы процветать еще больше. Ни секунды не раздумывая, египтянин ответил:
— Он заслужил все, что должно теперь с ним случиться. Я молю Аллаха о том, чтобы он обрушил ему на голову все его грехи.
— Я вижу, ты уже понял, каким страшным грехом является торговля людьми, и научился ненавидеть ее. Поэтому я надеюсь, что могу рассчитывать на твою помощь. Мы хотим освободить окрестности твоей деревни от этого разбойника, но я не знаю, удастся ли нам это. Я слишком поздно узнал, что Абуль-моут завербовал новых солдат. В моем отряде, пожалуй, слишком мало людей, чтобы с ним справиться.
Услышав эти слова, Хасаб Мурад почувствовал себя наверху блаженства и тотчас же ответил так, как и ожидал от него Шварц:
— Долг каждого честного человека, эфенди, — участвовать в исполнении справедливого приговора. Могу я предложить тебе свою помощь?
— Да. Я рад, что не ошибся в тебе. Но что ты потребуешь за эту услугу?
— Ничего, совсем ничего. Я готов отрубить себе руку, если она осмелится взять у тебя хотя бы один пиастр. Я прошу тебя только об одном: разреши и мне принять участие в вашем походе! Мои люди привыкли, чтобы я сам ими командовал, я же буду находиться под твоим началом и точно следовать всем твоим указаниям.
— Это само собой разумеется. Ты пойдешь с нами и будешь одним из подчиненных мне командиров. Сколько солдат ты можешь мне дать?
— Я не могу оставить селение совсем без охраны, но я отберу триста лучших воинов и снабжу их хорошим оружием и провиантом.
— Целых триста! С ними я, конечно, был бы уверен в своей победе, но, к сожалению, мне приходится отказаться от такого большого отряда: мой корабль не сможет вместить их всех.
— А ты не хочешь идти сушей?
— Нет, по крайней мере, не отсюда. По берегу до поселка Абуль-моута не меньше трех дней пути, а мне уже давно пора быть там. Или, может быть, здесь можно достать корабли?
— Что ж, это возможно, эфенди.
— Правда?! Где? У кого?
Этот вопрос привел египтянина в некоторое замешательство, он смущенно повертел головой, а потом сказал:
— Я не могу сказать, эфенди, я дал слово. В этих краях, если ты не хочешь привлекать к себе ненужный интерес, лучше, чтобы поменьше людей знало, что у тебя есть корабль. Владельцы кораблей, если они не постоянно используют свои суда, прячут их в соединенных с рекой заводях, вход в которые загорожен густыми зарослями камыша.
— Понятно. Тогда скажи мне, в твоем распоряжении находится один или несколько кораблей?
— Я могу получить два нуквера, этого вполне достаточно, чтобы разместить триста воинов.
— Когда они будут здесь?
— Если я поспешу, мы успеем погрузиться и отплыть еще до полудня.
— Так поспеши! До этого времени я еще могу подождать, но ровно в полдень нам необходимо отправиться.
Хасаб Мурад раскланялся и ушел, крайне довольный результатами переговоров. Шварц радовался не меньше его: он никак не рассчитывал иметь в своем распоряжении еще триста хорошо подготовленных солдат и два корабля в придачу.
Проводив посетителя, Шварц отправился в каюту капитана, чтобы посвятить его в свои дальнейшие планы. Затем он вместе с Пфотенхауером и обоими юными друзьями — Бен Вафой и Сыном Тайны — сошел на берег и поднялся в селение. Над воротами Магунды уже висело знамя Пророка — знак начала военных действий, и возле всех хижин копошились люди, занятые подготовкой к походу. В центре же селения собралась огромная толпа, привлекавшая к себе всеобщие взгляды, В этой толпе среди лохмотьев жителей Магунды выделялись мундиры суданской армии: большинство солдат с дахабии еще вечером ушли в селение и завели там новые знакомства, которые тут же были скреплены. В центре толпы из двух пороховых бочонков было сооружено некое подобие подмостков, на которых возвышались монументальные фигуры Отца Одиннадцати Волосинок и его друга и оппонента Хаджи Али. Желая возбудить в своих слушателях ярость против Абуль-моута, малыш в мундире красочно описывал им сцену ужасного нападения на караван возле Бир-Аслана. По ходу рассказа он, разумеется, не забыл упомянуть, подробности славного сражения со львами и тонко дать понять присутствующим, чьи именно героические действия определили его успешный исход. Доказательством правдивости его слов должна была служить половина львиной шкуры, которую этот новый Цицерон[127] предусмотрительно захватил с корабля, заменив ею свой дивный тюрбан. Шкура была наброшена на спину поверх красного мундира, а голову увенчивал устрашающий львиный череп. В таком виде бравый малыш очень напоминал Шварцу и его товарищу древнего гота[128] с картинки в учебнике истории.
Отец Смеха тоже был облачен в свою половину шкуры. Она эффектно обвивала его щуплые плечи, а кончик хвоста волочился по подмосткам.
— О, вы, люди войны и дети храбрости, послушайте о нашем подвиге, о том, как мы убили Джеззар-Бея, — кричал маленький храбрец в тот момент, когда немцы подошли поближе. — Мы победили его и его жену, а потом взяли в плен их кровожадного сына. Может быть, вы мне не верите? Скажи, Хаджи Али, так ли это было? Подтверди этим людям, что я говорю правду!
Отец Смеха с достоинством кивнул и сказал:
— Да, мой друг не лжет.
Чтобы подчеркнуть торжественность момента, он постарался придать своему лицу как можно более серьезное и значительное выражение, но, как всегда в подобных случаях, скорчил такую уморительную гримасу, что слушатели разразились громким хохотом.
— Над чем вы смеетесь, несчастные?! — спросил Отец Листьев. — Если над Отцом Смеха, то можете смеяться сколько вам будет угодно, но я лично не выношу насмешек! Лучше прикройте свои рты и слушайте дальше! Итак, мы сидели у костра и чувствовали себя в полной безопасности, когда вдруг откуда-то издали послышалось страшное рычанье льва. Ответь, Хаджи Али, правда ли это?
— Да, все было точно так, как ты говоришь, — веско подтвердил тот, всем своим видом показывая, что вот-вот умрет от смеха.
— Вы слышите, что я вас не обманываю. «Господин с толстой головой» быстро, как ураган, приближался к нам. Все хомры и наши товарищи-джелаби, дрожа от ужаса, притаились за тюками с поклажей, и только я и вот этот мой друг, которого вы видите рядом со мной, не ведали страха. Мы храбро взялись за наши ружья и подошли к Отцу Четырех Глаз, который тоже не испугался и решил помочь нам спасти всех от свирепого хищника. Этот эфенди, Отец Четырех Глаз, стоит сейчас за вашими спинами. Вы можете сами взглянуть на него, и он сможет подтвердить истинность моих слов.
Все взгляды на миг обратились к Шварцу, затем маленький словак снова потребовал к себе внимания и рассказал о том, как лев был убит и как по его следам прибежала львица.
— Мы думали, что дело сделано, и готовились праздновать победу, когда вдруг услышали еще более грозный рев. Это была жена Отца Убийства: она услышала голоса наших ружей и поспешила к нам, чтобы помочь своему мужу или отомстить за его смерть. Мы все оказались в ужасной опасности, не так ли, Хаджи Али?
— Да, это было действительно ужасно, — согласился Хаджи Али, ухмыляясь во весь рот.
Наконец Отец Листьев закончил повествование о кровопролитной схватке и перешел к описанию дележа шкуры.
— Мне, как самому храброму, естественно, досталась передняя часть, — небрежно сообщил он, — а затем…
Тут Отец Смеха насторожился.
— Молчи! — перебил он своего друга. — Самым храбрым был не ты, а эфенди, ты же вел себя ничуть не лучше меня. Твоя половина досталась тебе по жребию, и с тех пор кроме своей большой морды ты стал обладать еще и львиной — за это все без исключения люди прозвали тебя Абуль-буз, Отец Морды.
— Сам молчи! — гневно закричал маленький словак. — Мое лицо ничуть не больше твоей морды! И, уж во всяком случае, почетнее носить на себе голову льва, чем его хвост. Или, может быть, ты считаешь за большую честь зваться Абульзанаб, Отец Хвоста, как величает тебя каждый встречный и поперечный? Ты только посмотри на себя и сам поймешь, как ты смешно выглядишь в этой своей задней половине шкуры!
— Ты сам смешной! — рассердился Хаджи Али. — Если ты будешь меня так оскорблять, я испепелю тебя своим гневом и уничтожу яростью!
Он грозно нахмурился, и его лицо приобрело такое выражение, будто он прилагает все усилия, чтобы не рассмеяться собственной удачной шутке.
— Я не боюсь твоего гнева, — заявил ему на это Отец Одиннадцати Волосинок. — Что ты значишь для меня, великого ученого, знающего латынь, о которой ты и понятия не имеешь!
— Ну и что! Мне зато известны все народы и деревни мира, и все страны и всех жителей земного шара я могу перечислить по именам! Попробуй, сделай это, если ты такой умный!
— Хорошо! Только сначала покажи мне, как это делается!
— Пожалуйста! Сейчас я так опозорю тебя перед этими людьми, что весь остаток своей жизни будешь ходить с опущенными от стыда глазами! Попроси же меня назвать любую деревню или народ.
— С удовольствием! Скажи, как называются острова, что лежат в море западнее большой пустыни Сахары?
— Билад-уль-Аджами[129].
— Неправильно! А как называется страна, которая образует верхушку Африки?
— Билад-уль-Муску[130].
— Нет! Какая страна расположена на самом севере Европы?
— Сайлан[131].
— Еще лучше! Назови хотя бы государство, которое считается самым большим на земле и лежит на востоке Азии!
— Джебел-ул-Тарики[132].
Тут словак картинно заломил руки и с громким смехом воскликнул:
— Понимаешь ли ты, Отец Хвоста, что только что сам себя поднял на смех? Острова с той стороны пустыни называются эль-Джезаиру-ль-Халидату[133], на острие Африки находится Билад-уль-Рас[134], самая северная страна Европы — Билад-уль-Лап[135], а на востоке Азии расположено большое государство Билад-уль-Сини[136]. Короче говоря, ты не смог ответить мне ни на один вопрос!
— Я отвечал правильно! — упорствовал Отец Смеха.
— Нет, ты все перепутал.
— Докажи, докажи это! — закричал «географ», гневно топая ногами по подмосткам, причем львиный хвост у его ног подпрыгивал в такт.
— Человек, который понимает латынь, всегда прав, ему не нужно ничего доказывать! — парировал Отец Листьев. — Итак, с названиями стран у тебя полный провал. Посмотрим теперь, как обстоит дело с народами и деревнями.
— Я знаю их все.
— Это мы сейчас проверим. Отвечай, какой народ живет в самой середине Европы?
— Это суахили[137].
— Неверно! А как называется народ, который живет севернее Индии?
— Фаламанку[138].
— Опять неправильно. Какой народ населяет самый юг эль-Дунья-эль-джадида?[139]
— Талиан[140].
— Ничего подобного! Но скажи, по крайней мере, где находится Надь-Михай?
— Такого места вообще нет на свете!
— Еще как есть, потому что я там родился. А где Букстехуде находится, знаешь?
— В Булунда[141].
— Ха-ха-ха! А Блазевиц?
— Такой деревни тоже не существует.
— Что ты говоришь! А где, по-твоему, Шиллер[142] женился на своей Густель[143]? Хотя об этом Шиллере ты наверняка и не слыхивал. К какой стране принадлежит Итцехо?
— Дженова[144].
— И это неверно. Если бы ты прочитал книгу по географии, которую написал как раз этот знаменитый Шиллер, ты бы знал, что это Итцехо находится в Дуар-Салак-аль-Хаджар[145]. Но ты ничего не знаешь. Ты так глуп, что мне плакать хочется!
— Докажи это! Докажи! — потребовал Отец Смеха, вне себя от ярости, что друг высмеивает его при посторонних людях. — Ты можешь сказать все, что угодно, но кто подтвердит мне, что все так и есть?
— Кто может подтвердить? Да хотя бы эти два эфенди, что стоят здесь и слушают чепуху, которую ты несешь. Спроси у них, и они скажут тебе, кто из нас прав, а кто нет.
Шварц и Пфотенхауер действительно все еще находились внизу в толпе и любовались главным образом колоритной фигурой Отца Одиннадцати Волосинок в львиной шкуре, накинутой поверх красного мундира, который он раздобыл еще в Фашоде у одного торговца. Спор двух великих умов чрезвычайно забавлял немцев, но принимать в нем участие они ни в коем случае не собирались. Когда словак предложил своему противнику апеллировать к ним, они хотели незаметно скрыться, чтобы им не пришлось обидеть Отца Смеха, но тот сам избавил их от этой необходимости, сказав:
— Я имею дело только с тобой, Отец Листьев, и другие люди здесь ни при чем. Я намереваюсь поразить своими знаниями тебя, а не этих двух эфенди, каждый из которых в десять тысяч раз умнее нас с тобой, вместе взятых. Но покажи нам теперь, сколько хорошо ты знаешь латынь и все остальные науки. Докажи, что ты знаешь народы и деревни земли лучше, чем я!
— Нет ничего проще! Скажи только, как я должен это доказать!
— Я буду задавать тебе вопросы точно так же, как ты спрашивал меня.
— Что ж давай начинай! Сейчас все увидят, как ты будешь поражаться мудрости моих ответов.
— Посмотрим! Для начала скажи мне, где находится знаменитый край под названием аль-хутама?
«Ал-хутама» означает «сокрушилище» — так в сто четвертой суре Корана именуется преисподняя. Хитрый Отец Смеха рассчитывал на то, что в знании текстов этой книги христианин-словак не сможет с ним тягаться.
— Этого я, пожалуй, не знаю, — немного помолчав, признался Отец Одиннадцати Волосинок, — мне до сих пор почему-то никогда не приходилось слышать об этом городе.
Ответом на эти слова был дружный смех всех присутствующих: им-то это слово было хорошо известно.
— Так-так. Твоя образованность покидает тебя на произвол судьбы при первом же моем вопросе! — возликовал Хаджи и скорчил гримасу удовлетворения, которая заставила слушателей рассмеяться еще громче. Нимало не смущенный этим, Отец Смеха продолжал: — Теперь ответь, в какой стране течет знаменитый тасним?
Тасним — это райский источник. Он упоминается в восемьдесят третьей суре.
— Это имя мне тоже незнакомо, — сказал малыш.
По толпе прокатился ропот, и он с досадой понял, что все, кроме него, знают, о чем идет речь, и удивляются его невежеству.
— Очень хорошо! Можешь ли ты, по крайней мере, сказать, где находится сиджжин?
Это слово встречается в упомянутой выше суре и обозначает то место в подземном мире, где хранится список проступков всех злых людей и духов. Сам этот список тоже называется Сиджжин.
— А сам-то ты знаешь, что означает это слово? — решил перейти в наступление Красный Мундир.
— Конечно, знаю! Мы все это знаем, а вот ты — нет!
— Спрашивай дальше! — потребовал словак, не давая прямого ответа на предыдущий вопрос.
— Ну, скажи хотя бы, что такое аль-Ахкаф!
«Ах-Ахкаф» переводится с арабского как «куча песка». Так называется песчаная долина в провинции Хадрамаут, где жили адиты — народ, о котором неоднократно упоминается в Коране. Об этой долине говорится в двадцать первом стихе сорок шестой суры, и поэтому вся эта сура называется «Пески».
— И этого я тоже не знаю, — еле слышно прошептал малыш, опустив голову.
— Итак, ты уже в третий раз не можешь мне ответить. Я мог бы задать тебе еще сто или даже больше подобных вопросов, и ты бы сто раз промолчал. Так кто же из нас двоих умнее?
— Никто! Ты не смог ответить мне, а я тебе, стало быть, мы оба одинаковы мудры. Ты знаешь свои народы и деревни, а я — мои науки и латынь. Каждый из нас силен в своей науке, и больше мы никогда не должны это оспаривать. Согласен?
— От всего сердца, — растроганно отвечал Отец Смеха, не преминув, разумеется, зверски ухмыльнуться.
— Тогда дай мне твою руку и поцелуй меня! Помиримся, ведь мы с тобой братья! Теперь твой враг — это снова мой враг, и твоя радость — все равно, что моя!
— Да будет так, отныне и во веки веков! Аллах-иль-Аллах! — подхватил Хаджи. Оба человека крепко обнялись и поцеловались, а потом спрыгнули со своего подиума и рука об руку зашагали прочь сквозь расступившуюся толпу.
— Что за чудные ребята! — со смехом воскликнул Серый. — Такого я, пожалуй, еще не встречал! Сперва они готовы сожрать друг друга с потрохами, а не успеешь оглянуться — они уже целуются и, довольные, убегают. И часто это с ними бывает?
— По нескольку раз в день, — ответил Шварц. — И самое интересное, что они действительно искренне любят друг друга. Да что там, они просто жить друг без друга не могут, но при этом им необходимо постоянно ругаться. Впрочем, как они говорят, ссоры лишь укрепляют дружбу.
— Вот уж спасибо! И вы считаете, что эти дурни и вправду дельные парни?
— Очень! Они так преданы мне, что готовы отдать за меня жизнь. Вы и сами в этом убедитесь, когда узнаете их поближе, господин доктор.
— Что-что? Как это вы меня обозвали? — вскинулся Пфотенхауер. — Никак, доктором? Прошу, больше ко мне так не обращайтесь! Я из-за этого и с вашим братом вечно бранился!
— Но это ведь ваше почетное звание!
— Ах, вон оно что! Звание! Плевал я на него! Мое имя — Игнациус Пфотенхауер. Именно поэтому и еще за то, что я весь мир облазил, ловя всяких птиц, меня на родине прозывают Наци-Птица. Если желаете доставить мне приятное — зовите меня тоже Наци!
— Хорошо, если вы так хотите.
— Да уж, еще как хочу. Людям вроде нас, тем, что день и ночь проводят вместе, незачем обрушивать друг другу на головы все эти, черт бы их побрал, титулы и комплименты. Может, какой чужак, которого я знать не знаю и которому до меня дела нет, и должен со мной миндальничать, от него я, может, и потребую почета и уважения и захочу, чтоб он величал меня Господин Доктор Наци-Птица-Пфотенхауер. Ежели он на это не согласится, пусть катится ко всем чертям! Но вы-то уж можете избавить себя от всех этих проклятых речей… Стоп! Что там такое? Разве уже наступил эль Дегри, что они там собрались молиться?
Шварц повернул голову в том направлении, куда смотрел Серый, и увидел на минарете колдуна. Он несколько раз ударил в гонг, а затем крикнул громким, разнесшимся на всю деревню, голосом:
— Эй, правоверные, собирайтесь: пришло время вопросить Аллаха о священном часе. Спешите к месту собраний, чтобы узнать, будет ли вам позволено выступить в полдень!
Вслед за этими словами раздался бой дарбуки, созывавший всех солдат на сбор.
— Никак, барабан, — сказал Серый.
— Совершенно верно. Кстати, знаете, как «барабан» будет по-арабски?
— Да. Дакк… эттал.
— Верно. Это слово подражает барабанному бою: «дакк… эттал — дакк… эттал» — совсем так же, как мы, немцы, говорим «румдибум, румдибум». Собственно, слово дарабукка — тоже не что иное, как подражание этому звуку. Но посмотрите, как они все побежали к минарету! Хотите тоже пойти посмотреть?
— А то! Все ж интересно, как они будут спрашивать судьбу, счастливый час будет нынче в этот полдень или нет. Мы-то, христиане, понятно, верим, что все дни и часы в руках Божьих.
Когда Шварц и Серый подошли к центру поселка, все его жители были уже там. Их лица были обращены к жилищу колдуна — большому токулу с полумесяцем на крыше.
Навстречу немцам вышел из своей хижины хозяин поселения Хасаб Мурад. Он поприветствовал их глубоким поклоном.
— Как вы думаете, колдун даст удовлетворительный ответ? — спросил у него Шварц.
— Да, эфенди, можете не сомневаться, — ответил египтянин.
— Откуда вы это знаете?
— Могу показать источник моей уверенности.
Лукаво блеснув глазами, Хасаб Мурад полез в карман своего бурнуса, достал оттуда два талера Марии-Терезии и незаметно показал немцам, а затем тотчас спрятал их обратно.
— Обычно такой жертвы бывает достаточно, чтобы назначенный для отправления час оказался счастливым, — прибавил он. — Аллах любит, когда его слугам делают подарки.
— Тогда поспеши принести свою жертву и прибавь к ней еще вот это! — сказал Шварц. Он достал из своего кошелька три талера и протянул их египтянину.
— О, эфенди, твое сердце полно доброты и мудрости! — воскликнул тот. — Теперь Аллах не покинет нас во все время нашего путешествия!
Он повернулся и исчез в токуле колдуна. Через некоторое время оба снова вышли наружу, и колдун торжественно возвестил:
— Слушайте, о правоверные! Я раскрыл книгу судьбы и прочитал там добрые вести. Предсказываю вам победу и трижды победу! Вы разобьете врагов и отправите их души в преисподнюю. Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его!
— Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его! — повторили за ним четыреста голосов, и затем собрание было распущено. Хасаб Мурад приказал своему баш-муни[146] раздать людям табак и мариза, — это распоряжение солдаты, разумеется, приняли с большим восторгом, — а Шварца и Пфотенхауера пригласил в свою хижину. Хасаб Мурад из кожи вон лез, чтобы угодить новым начальникам и расположить их к себе. Он поставил перед ними самые лучшие кушанья, какие только можно было достать в селении, и настоял на том, чтобы лично прислуживать им за столом. Трапеза как раз подходила к концу, когда в хижину вошел один из солдат-негров и что-то прошептал на ухо хозяину. Хасаб Мурад кивнул головой и, знаком приказав негру удалиться, сказал:
— Эфенди, мне только что сообщили, что корабли прибыли и стоят внизу, в мишрахе. Если вы хотите их осмотреть, вы можете сделать это сейчас, пока они еще не нагружены. Вы позволите мне сопровождать вас туда?
Все трое немедленно отправились к реке, где рядом с дахабией уже стояли на якоре оба нуквера.
— Посмотрите на них! — с заметной гордостью сказал египтянин. — Ваша дахабия — отличный парусник, в этом я убедился сегодня утром, но не сочтите за дерзость, если я скажу, что мои корабли не уступают ей. Они построены по моему заказу на верфи в Кеауне. Их острые носы с легкостью разрезают воду, и я не видел еще на Ниле ни одного судна, конечно, за исключением вашего, которое могло бы с ними сравниться.
— Если так, то прекрасно! — ответил Шварц. — Значит, наши корабли смогут держаться вместе, и тем, кто поплывет на дахабии, не придется терять время, поджидая остальных.
Немцы осмотрели оба корабля, а затем Шварц снова повел египтянина на дахабию. Поднявшись на ее верхнюю палубу, он сказал:
— Теперь я хочу показать тебе кое-что, чего ты, скорее всего, утром не заметил. Следуй за мной!
Они прошли мимо каюты Шварца и остановились перед длинным, узким и низким деревянным домиком на колесиках, о предназначении которого трудно было догадаться.
— Как ты думаешь, что находится здесь внутри? — спросил Шварц египтянина, показывая на это странное сооружение.
— Не могу себе представить, — недоуменно покачал головой Хасаб Мурад.
— А вы? — обратился тогда немец к Серому.
— Я так смекаю, может, это пушка вращающаяся, а домик сверху скрывает ее, чтобы враг поначалу не заметил, чего ему ждать, — сказал Пфотенхауер по-немецки.
— Угадали. Смотрите!
Шварц открыл дверь домика и, потянув за заднюю стенку, снял его с пушки. Ее дуло крепилось на специальном металлическом стержне таким образом, что его можно было поворачивать во все стороны.
— Пушка, Мать Дракона! — воскликнул египтянин, на ходу подобрав для пушки выразительное имя. — Это очень хорошо! С нею мы наверняка победим Абуль-моута!
— Надеюсь, — кивнул Шварц и продолжал: — Эта пушка — для схватки с врагом на воде, на случай же сухопутного боя у меня есть кое-что получше. Идемте, я вам покажу.
Он повел Серого и Хасаб Мурада на нос корабля, где лежала высокая куча одеял. Шварц снял несколько штук одеял и под ними оказалась еще одна пушка. Лафет и колеса были прикреплены к полу веревками, так, чтобы орудие не могло перевалиться через борт.
— Еще одна пушка! — вскричал Хасаб Мурад. — Но как она сделана? Я никогда раньше не видел такой!
— Охотно верю, — сказал Шварц. — Это совсем новая конструкция, которая пока является большой редкостью даже в Европе. Хедив получил несколько таких пушек из Англии и две из них послал в Хартум Яффар-паше как раз для борьбы с ловцами рабов. Одна, как вы видите, была установлена на дахабии, и я думаю, что с таким запасом снарядов, который есть у нас, пушка сможет сослужить нам хорошую службу. Она, как я уже сказал, предназначена главным образом для сухопутного боя, но может быть использована и здесь, на палубе. Из нее можно выпускать пятьсот, а если потребуется, то и шестьсот ядер в минуту.
— Тысяча чертей! Да ведь в таком случае мы за две минуты можем перестрелять этого Абуль-моута со всей его шайкой!
— Ну, разве что они все будут стоять очень близко друг к другу, — улыбнулся Шварц. — Нет, дело обстоит, конечно, не так хорошо, как вы думаете, но один выстрел из этой пушки действительно может уложить довольно большое количество людей. Главное сейчас — разработать тактику, при которой мы сможем применить это орудие.
— Ну, за этим-то дело не станет! Я, ясное дело, не Мольтке[147] и не Наполеон, но уж согнать в кучу работорговцев и стрельнуть в них наверняка смогу — понятно, если никто в это время не будет целиться в меня самого!
Пушку снова укутали в одеяла, а затем Шварц отдал распоряжение нагружать корабли. К полудню все было готово: триста солдат из Магунды разместились на обоих нукверах, гарнизон из Фашоды по-прежнему оставался на дахабии. Эти два вида кораблей похожи между собой, различие же между ними состоит в том, что нуквер меньше дахабии по размерам, а кроме того, более открытый и не имеет палубы.
Глава 13
В ПОГОНЮ ЗА РАБОТОРГОВЦЕМ
Ровно в полдень, когда из селения донесся звук гонга и оставшиеся наверху люди приступили к молитве, на кораблях были подняты якоря.
С криком «Йа рабб, йа рабб!» (что значит «Господи Боже!» — этим кличем помогают себе все суданцы, занятые тяжелой физической работой) матросы оттолкнули корабли от берега, усеянного провожающими — главным образом, женщинами и детьми. Хозяева некоторых поселков работорговцев, нанимая новых людей, разрешают им брать с собой своих родных, считая, что семьи привяжут солдат к селению, заставят их служить господину верой и правдой. «Лулулулулулу!» — пронзительно кричали вслед отъезжающим жены и дети, и этот прощальный привет долго еще звучал над рекой, после того, как паруса были подняты и корабли понеслись вперед, гонимые попутным ветром.
Хасаб Мурад не преувеличивал, когда расхваливал свои нукверы: они и в самом деле ничуть не отставали от дахабии, и Шварц к своей немалой радости заметил, что матросы на них работают, не жалея сил.
Экипаж дахабии возглавляли опытный капитан и хорошо обученный рулевой. Сейчас они оба находились в подчинении у Шварца. На нукверах, разумеется, тоже имелись свои капитаны и рулевые. Каждый из этих капитанов ревниво следил за скоростью других кораблей и стремился обогнать их. Азарт соревнования охватил всех членов экипажей: матросы и солдаты старались изо всех сил. Такие гонки устраивают иногда команды конкурирующих пароходов на Миссисипи, но на Ниле подобные соревнования проходили впервые.
Среди общего шума резко выделялся гортанный голос эш-Шаххара, старого «Храпуна», назначенного капитаном одного из нукверов. По обычаю всех здешних капитанов, он не замолкал ни на минуту, подбадривая своих матросов речами, в которых льстивые слова переплетались с самыми отборными ругательствами.
— О, Боже, о, Пророк, давайте же, давайте, о, Господи, давайте! — кричал он. — Ради Бога, ради заступника нашего, давайте, живее! Подтвердите же, что есть только один Бог на свете; о, Господи, помоги нам, облагодетельствуй милостью твоей!
Люди работали под палящим солнцем, не обращая внимания на пот, который струями стекал по их лицам. Нуквер Храпуна замыкал маленькую флотилию, а впереди шла дахабия. Чтобы поймать попутный ветер, эш-Шаххару необходимо было обогнать второй нуквер, и он во что бы то ни стало стремился сделать это. Когда суданский капитан хочет «делить» или «резать» ветер, он должен воткнуть нож в мачту корабля и громко произнести имя Бога. Храпун так и сделал. Он достал свой длинный кривой нож, высоко поднял его над головой, так, чтобы всем было видно, и закричал голосом, который мог разбудить мертвых:
— Быстрее, быстрее! Давайте же, поднатужьтесь! Толкайте, двигайте же, собаки, трусы, лентяи проклятые! Видите мой нож, вот он, видите его? Давайте, разрезайте ветер! Отнимите у этого нуквера ветер, чтобы его паруса повисли! Ну же, ребятки, сынки, голубчики! Постарайтесь, родные мои! Осталось совсем немножко… Ну, еще чуть-чуть… Вот мой нож!
Он подошел к мачте и замахнулся для удара, а в тот момент, когда парус его корабля сравнялся с парусом шедшего впереди нуквера, воткнул нож в мачту с криком:
— Ради Бога, работайте, работайте, благословенные! Мы обходим его, обходим этот нуквер! Вперед, вперед! Так, так, хорошо, мы уже проходим мимо, мы их обогнали! Позор им, слава Аллаху!
Парус на корабле соперников опал и начал беспомощно биться о мачту. Не замечая этого, рулевой продолжал удерживать руль, и в это мгновение нуквер сильно накренился влево, и эш-Шаххар гордо проплыл мимо него. Победители возликовали, побежденные разразились яростными ругательствами и заработали с удвоенным рвением, старясь искупить свой позор.
Теперь Храпун направил все усилия на то, чтобы обогнать дахабию, но ему не удалось отнять у нее ветер, так как ее паруса были выше и больше, чем у нуквера. Все же ни один из капитанов не терял надежды на победу, и в результате корабли развили поистине небывалую скорость, которая еще больше увеличивалась за счет того, что Нил пока был свободен от плавучих островов и тростниковых полей. Еще до начала послеполуденной молитвы дахабия достигла излучины, возле которой Пфотенхауер вчера повстречал корабли Абуль-моута. Серый немедленно сообщил об этом Шварцу.
— Значит, разбойник имеет перед нами преимущество в неполный день, — задумчиво проговорил тот. — Что ж, мы будем плыть всю ночь. Она скорее всего будет лунной, и даже если нет — звезды сейчас очень яркие, и вода светится. К утру мы будем совсем недалеко от них.
— А ну как матросы не выдержат? — обеспокоенно спросил Серый. — Они уж и так работают из последних сил.
— Пусть разделятся на две команды и работают посменно, у нас есть достаточное количество солдат, которые помогут. Надо сообщить об этом Хасаб Мураду.
Через несколько секунд один из солдат уже плыл на маленькой лодке по направлению к нукверу Храпуна, на борту которого находился хозяин Магунды. Оба немца провожали его глазами, сидя в тени самого большого паруса. Их молчание было нарушено Сыном Тайны, который неслышно подошел к ним и сказал, обращаясь к Шварцу:
— Эфенди, сегодня утром ты выразил желание услышать мою историю. Если у тебя сейчас есть время, я могу ответить тебе на некоторые твои вопросы.
— Я был бы тебе очень признателен, — ответил Шварц. — Садись рядом с нами и расскажи то, что считаешь нужным.
Предложение сесть было привилегий для почетных гостей, которую юноша принял, как всегда, со скромным достоинством. Другой бы на его месте отказался от такой чести, но Сын Тайны обладал чувством собственного достоинства и внушал окружающим уверенность, что он стоит неизмеримо выше своих товарищей и имеет право на многое такое, чего не может себе позволить ни один из них.
— Кое-что я уже успел тебе рассказать, — начал он, не торопясь, — но главное ты узнаешь сейчас. О моем отце мне ничего не известно, за исключением того, что он был арабом. В этом я убежден, потому что все слова, которые остались у меня в голове с того времени, принадлежат арабскому языку.
— А к какому диалекту? Нам очень помогло бы, если бы мы смогли это установить.
— К сожалению, это трудно сказать: слов, которые я помню с детства, слишком мало.
— А знаешь ли ты, куда тебя привез твой похититель?
— Тоже нет. Я помню только, что жил вместе с неграми и что одна женщина с более светлой кожей, чем у других, очень меня полюбила. Она унесла меня с собой далеко-далеко, в какую-то неведомую страну. Она много дней несла меня на руках, а потом легла и больше не встала. Я был очень утомлен и заснул, а когда проснулся, она лежала на прежнем месте и не шевелилась. Она умерла от голода и изнеможения. Я тоже очень хотел есть и плакал не переставая. Мой голос услышала одна женщина, она подобрала меня и привела в деревню, где мне дали есть и пить. Потом пришло много черных людей, они измеряли мои руки, ноги и все тело и непрерывно кормили меня в течение нескольких дней. Если я отказывался есть, меня били и заставляли силой.
— А, понятно — это были людоеды!
— Да, эфенди, это были именно они, как я узнал гораздо позднее. В том месте, откуда со мной убежала добрая женщина, меня тоже принуждали очень много есть, поэтому я думаю, что и те негры были людоедами.
— К какому же народу ты потом попал? Этого ты тоже не знаешь?
— Знаю. Они называли себя ямбарри.
— Верхнее Конго! Они живут далеко, очень далеко отсюда!
— Да, эфенди. Потом туда пришел белый человек в зеленом тюрбане и зеленых башмаках на ногах. Он был очень приветлив со мной и взял меня с собой на другую сторону реки, в Мавембе.
— Столица корору!
— Ты знаешь название этих народов, эфенди?
— Да, из книг. Ты можешь сказать, кто был этот белый человек?
— Да. Он был странствующий имам, который ходил от одного народа к другому и проповедовал у них ислам. Он пришел и к ябарри и узнал, что меня собираются съесть. Тогда он выкупил меня у них и сделал своим сыном. Он сделал это после того, как услышал от меня слова молитвы, которую часто произносила моя мать и которую я еще не успел забыть, а именно слова: «Аллах-иль-Аллах, ва Мохаммед расул Аллах».
— Значит, он понял из этих слов, что твои родители были мусульманами, и его вера не позволила ему оставить тебя в беде.
— Он понимал и те немногие слова, которым научила меня убежавшая со мной женщина. Вначале я помнил много этих слов, она часто повторяла их мне, чтобы я выучил их наизусть, но в моей памяти осталось только несколько, а именно: «Ана араб, ана нахаби». Я произносил их неправильно, но имам все же понял, что я араб и что меня похитили. Он потратил немало усилий, стараясь вытянуть из меня еще что-нибудь, но напрасно: я все забыл. Единственное, что я точно помнил, было лицо похитившего меня разбойника, и имам сказал, что только это последнее воспоминание может помочь мне когда-нибудь разыскать моих родителей. Поэтому я должен был каждый день так подробно описывать ему это лицо, что его образ навеки отпечатался в моей памяти. Теперь благодаря мудрости имама я знаю, кто был моим похитителем.
— Так он еще жив?
— Да. Чуть позже ты узнаешь его имя. Имам любил меня как своего собственного сына, он брал меня с собой из страны в страну, от одного народа к другому. Я постепенно изучал языки этих народов, но со мной имам всегда говорил по-арабски. Он научил меня всему, что знал сам, он занимался со мной плаваньем, греблей и стрельбой и разными ремеслами, так что теперь я знаю и умею многое, что недоступно другим. Я находился при нем уже двенадцать лет, когда однажды — это было в стране бонго — он внезапно умер. Он оставил мне свое скудное имущество и свое благословение, которое помогло мне, и вот каким образом. Всего через несколько дней после его смерти к бонго пришел человек, который хотел завербовать себе воинов, и в нем я с первого взгляда распознал своего похитителя. Я хотел тоже завербоваться к нему, чтобы пойти с ним в военный поход и при первом же случае жестоко отомстить, но я был слишком молод, и он не принял меня на службу. Все же я продолжал к нему приставать, и тогда он ударил меня кнутом и предупредил меня, чтобы я поостерегся еще раз показываться ему на глаза.
— Ты слышал тогда его имя?
— Нет.
— Но откуда он явился, тебе, по крайней мере, удалось узнать?
— Тоже нет. И то, и другое от меня утаили: ведь я был не бонго, а чужой, и никто не знал, зачем мне это надо. Поэтому они опасались отвечать на мои расспросы, но я подслушал, как негры говорили, что этот человек нанимал воинов для охоты на рабов и что он поплывет с ними вверх по Нилу, в селение работорговцев. Тогда я припрятал лучшую лодку, что была у бонго, положил в нее две пары весел, парус и мое оружие, принес запас лепешек и фруктов и стал ждать, когда чужак вместе с новыми солдатами отправится на свой нуквер, который стоял на якоре у берега. Когда они тронулись в путь, я сел в свою маленькую лодку и тайно последовал за ними.
— Это был очень смелый поступок, особенно если вспомнить, что тогда ты был совсем юным.
— Жажда мести делает человека сильным и отважным, эфенди. У меня было только два желания: узнать у этого человека имя моего отца и затем убить его. Трое суток я плыл за нуквером, не отставая. В первый же день моя лодка наткнулась на корягу и опрокинулась. Теперь у меня не было ни оружия, ни еды: все мои припасы утонули. Я выдерживал голод два дня, на большее меня не хватило. Вечером второго дня нам на пути повстречался какой-то мишрах. Я заметил, что люди на нуквере стараются миновать его как можно быстрее, и предположил, что здесь живут враги человека, которого я преследовал. Я набрался храбрости и причалил возле мишраха, чтобы попросить немного дурры или лепешек и заодно расспросить кого-нибудь о нуквере. Первый человек, которого я встретил на берегу, был эш-Шаххар.
— Храпун, который едет сейчас с нами!
— Да. Он помог мне и ответил на все мои вопросы, не требуя, чтобы я открыл ему свою тайну. Нукверу все же не удалось проплыть мимо незамеченным, и я узнал, кому он принадлежит. Теперь я мог отказаться от преследования, поэтому я на некоторое время остался в поселке Хасаб Мурада. Хозяин Магунды ненавидел моего врага, но уговорить его выступить против него с оружием мне не удалось: Хасаб Мурад считал свой отряд слишком слабым, чтобы справиться с ним. Один я тем более был бессилен: я мог бы тайно напасть на моего похитителя и убить его, но я хотел выпытать у него, кто был мой отец, а для этого он был нужен мне живым. Я понял, что должен искать других союзников. Неподалеку от Магунды находились деревни джуров. Я отправился туда, спрятал лодку на берегу и отважился даже подняться в одну из этих деревень, которая расположена совсем рядом с селением моего врага. К сожалению, там я узнал, что джуры живут в дружбе со своим соседом.
— Ах, вот оно что! — перебил юношу Серый. — Ну, так я знаю, кто он такой. Это, как пить дать, Абуль-моут, а ты наведался в деревню толстого шейха джуров. Я прав?
— Не совсем. Это не Абуль-моут, а другой человек. Но слушайте, что было дальше. Я продолжал искать людей, которые согласились бы мне помочь. Так я пришел к сандехам, которых вы называете ниам-ниам. Они приняли меня очень радушно, а сын вождя стал моим лучшим другом. Ему, Сыну Верности, я рассказал историю моей жизни, и он захотел помочь мне. Открыто призывать ниам-ниам к войне с Абуль-моутом мы не могли, потому что его люди еще не обижали этот народ, но мы всеми силами разжигали в своих соплеменниках ненависть к нему. Постепенно у нас созрел план: с маленьким отрядом молодых воинов, которые меня любят, мы без ведома короля, отца моего друга, решили пробраться в селение Абуль-моута, и захватить в плен моего врага. Тогда я нашел бы способ заставить его сообщить мне имя моего отца и все подробности моего похищения.
— Ты не только смелый, но еще и умный, осмотрительный человек, — сказал Шварц. — Насколько я понимаю, ты не успел привести свой план в исполнение, но это даже к лучшему: ведь теперь обстоятельства складываются для тебя очень удачно.
— Да, эфенди. Как раз когда мы собирались осуществить наш замысел, Сыну Верности пришлось отправиться в Фашоду, к тебе. Он хорошо знал самый опасный участок пути, потому что мы с ним часто, тайком от короля, который думал, что мы охотимся в его дальних владениях Майен, совершали разведывательные поездки в поселение. Твой брат и Отец Аиста с нетерпением ждали вашего приезда, но вас долго не было. Тогда они испугались, что вы попали в беду, а решили плыть вам навстречу. Я сказал им, что хорошо знаю реку, и вызвался ехать с ними в качестве рулевого. Что произошло дальше, ты знаешь от Отца Аиста.
— Спасибо тебе за то, что ты так искренне доверился мне. Я обязательно помогу тебе осуществить твою мечту. Но назови мне наконец имя человека, которого ты преследуешь!
— Пообещай мне сначала две вещи.
— Какие?
— Во-первых, что ты заставишь его рассказать мне все, что я хочу знать.
— Конечно, я сделаю это. Даю тебе слово.
— И во-вторых, ты отдашь его в мои руки.
— Для расправы?
— Да.
— На это мне нелегко согласиться.
— Почему?
— Я христианин и поэтому против всякой жестокости.
— Тогда подумай о том, что пришлось вытерпеть мне, подумай о горе моих родителей! Вспомни также и о том, сколько других страшных грехов совершил этот человек. Тысячи несчастных проданы им в рабство, и кровь многих сотен убитых взывает о мести.
Шварц не отвечал, и Сын Тайны, немного помедлив, заговорил снова:
— Мне не хотелось напоминать тебе, что я и Сын Верности оказали вам несколько маленьких услуг. Я не требую ни благодарности, ни, тем более, награды, но неужели ты откажешь мне в первой и единственной просьбе, с которой я к тебе обращаюсь?
С этими словами гордый юноша опустился на колени и умоляюще сложил руки.
— Ну не мучайте же парнишку! — не выдержал Серый. — Мы и вправду должны его как следует отблагодарить. К тому же он верно говорит: этот Абдулмоут — а речь тут шла, понятное дело, о нем, — сущий дьявол, и я совсем не огорчусь, коли его маленько поучат.
— Но послушайте, доктор, это же убийство!
— Убийство? Знаете что, доктор, оставьте меня в покое и вообще катитесь отсюда подальше, а не то я так двину вам в ухо, что вы в два счета улетите на тот берег, да и повиснете в кустах! Вы толкуете об убийстве, когда этот паршивый негодяй сам убил тысячи ни в чем не виноватых бедняг. И при этом он еще обзывает меня доктором, когда я ему уже сказал и пояснил, что я просто-напросто Наци-Птица. Я, ей-Богу, вот-вот лопну от злости, как воздушный шар! Я сам человек мирный, но если меня так обижают, тут уж никто не выдержит?
Шварц знал Серого еще не так хорошо, как его брат: пораженный этой вспышкой, он не нашелся, что ответить, и только оторопело следил за круговыми движениями пфотенхауеровского носа, который, казалось, собирался вывинтиться из своего места и отлететь прочь.
— Ну и что, спрашивается, вы на меня уставились? — продолжал Пфотенхауер уже несколько спокойнее. — Может, думаете, это вам поможет? Нет уж, если я уж стою на своем, так десять слонов меня не заставят в сторону свернуть. Так что будьте-ка умником и скажите хоть одно разумное слово! Я готов дать себя зажарить и съесть на месте, коли тот мерзавец, о котором он толкует, не Абдулмоут.
Несмотря на всю серьезность момента, Шварц не выдержал и рассмеялся. Затем он осведомился у все еще стоявшего на коленях юноши:
— Отец Аиста прав, ты действительно имеешь в виду Абдулмоута?
— Да, эфенди.
— Хорошо, я отдам его тебе, если, конечно, мой план удастся, в чем я далеко не уверен. Если я смогу его поймать, он будет считаться твоим пленником.
— Больше я ни о чем и не прошу, — ответил Сын Тайны, поднимаясь и собираясь уходить. — Благодарю тебя, эфенди!
— И еще одно, — жестом остановил его Шварц. — Когда я слушал твою историю, мне вспомнился один эпизод, который рассказал мне Отец Аиста. Ты видел Охотника на слонов, того, что вместе с моим братом поскакал в Омбулу?
— Конечно, видел.
— Он никогда не встречался тебе раньше?
— Нет.
— Подумай хорошенько! Может быть, тебе все же когда-нибудь приходилось его видеть?
— Нет, мне совершенно не знакомо его лицо.
— Может быть, много-много лет тому назад ты все же его видел?
— Нет, не помню.
— Ну хорошо. Но ты до сих пор не сказал мне, знаешь ли ты свое настоящее имя.
— Моя мать называла меня сердце мое, душа моя, жизнь моя; отец же не говорил таких ласковых слов. Он всегда называл меня Мазидом. Это слово тоже принадлежит к тем немногим, которые я помню с детства.
— Мазид! Гм! Никаких имен Охотник на слонов, к сожалению, не упоминал, но он араб, и у него тоже похитили сына.
— Ты думаешь, что он мой отец?
— Я в этом, конечно, не убежден, но в жизни часто происходят невероятные вещи.
— У многих людей были похищены дети. Он говорил, откуда он родом?
— Нет, он не упоминал об этом.
— Он вообще что-нибудь рассказывал о себе?
— Почти ничего.
— Значит, это не мой отец.
— Почему ты так решил?
— Мой отец — знатный человек, а таким людям незачем скрывать свое положение. Кроме того, неужели ты думаешь, что знатный и богатый человек станет зарабатывать себе на пропитание охотой?
— Ты прав, вряд ли он станет заниматься этим.
— Вот видишь, ты и сам готов согласиться, что этот Сеяд Ифъял не имеет ко мне никакого отношения.
— Но он сказал, что много лет назад покинул свою родину и отправился на поиски сына. В этом случае он не может воспользоваться своим состоянием и должен охотиться, чтобы как-то жить.
— У моего отца достаточно слуг, которые могли бы пуститься на поиски вместо него. Охотник на слонов говорил что-нибудь о матери своего сына?
— Нет.
— Значит, этот суровый человек ищет только своего сына, а не сына своей жены. От всей души желаю ему успеха, только я здесь ни при чем.
Сын Тайны повернулся и пошел прочь.
— У юноши сильный характер, — сказал Шварц, глядя ему вслед. — Счастлив будет его отец, когда вновь обретет своего потерянного ребенка.
— Да, я уж тоже полюбил парнишку всей душой и ничуть не удивляюсь, что промеж ниам-ниам нашлись охотники рискнуть собственной шкурой, чтоб поймать и притащить домой этого Абдулмоута со всеми потрохами. Но, черт меня подери, вот же они! Да, клянусь моей печенкой, они самые!
Пфотенхауер вскочил со своего места и возбужденно замахал руками, глядя куда-то вверх.
— Кто, кто «они»? — почти испуганно спрашивал Шварц.
— Как то есть «кто»? Вы сами, что ли, не видите? Вон же они летят на ту сторону, прямо над нами!
— Ах, эти птицы?
— Ну да, а то кто же?
— Я уж думал, где-то появился Абдулмоут, мы ведь только что говорили о нем.
— Ах, этот? Да ну его совсем! По мне, так один только кончик крыла такой вот птахи поважнее будет, чем весь Абдулмоут от пяток до бровей. Видите, видите их? Вот они, приземлились на том берегу. Вы их узнали?
— Да, конечно.
— Ну и кто это, по-вашему, такие?
— Ибисы, и притом «священные».
— А по-латыни как?
— Ibis religiosa[148].
— Верно. У них белое оперение. А как зовется по-латыни другой вид?
— Ibis fallinellus, — отвечал Шварц, которого чрезвычайно развеселил этот неожиданный экзамен.
— Да, у этих перья черного цвета. Теперь скажите мне, как здесь называют ибиса?
— Герец или Абу Мингал.
— Это по-арабски, а я спрашиваю про местное наречие.
— Недше.
— Почему?
— Потому что приблизительно так звучит его голос.
— Ну, тут вы в самую точку попали! Суданцы любят называть зверей по их голосам или другим заметным свойствам. Священный ибис зовется «недше-аби-ад», потому как он белый, а другой, черный, — тот уж «недше-асвуд» называется. Мне нечасто доводилось видеть, чтоб они летали так далеко, как эти. А вы, дружище, как я погляжу, совсем неплохой знаток птиц! Вашим братом я тоже всегда бывал очень доволен потому как ни разу такого не случалось, что он отвечал неверно или вовсе ответить не мог — нет, он-то уж все знал не хуже меня. Очень он меня этим радовал, и я надеюсь, что вы тоже не подкачаете. По мне птицы из всех животных самые интересные, потому я ими и занимаюсь. Одна пичужка мне милее, чем десять млекопитающих или двадцать рыб, так что мне, ей-ей, наплевать, поймают сейчас вон те парни что-нибудь на крючок или нет: это ведь может пригодиться разве что для еды, а не для наблюдения!
Шварц задумчиво посмотрел на нос корабля, где несколько солдат только что забросили в воду удочки, а их товарищи встали наготове со специальными крючками в руках: ими они должны были подцепить рыбу, если она окажется слишком крупной и леска не сможет ее выдержать.
— Но ведь вы бы не отказались отведать пойманной рыбки? — спросил Шварц Пфотенхауера.
— Ну ясное дело, нет. Но что мне с ней делать с научной точки зрения — ровным счетом нечего! А взять такого вот ибиса, вроде того, что мы сейчас видели? Если хотите знать, эти птицы уже в древности считались священными, их бальзамировали и хоронили вместе с фараонами. Может, вы когда видели такую мумию ибиса?
— Да, и не одну.
— Вот и я тоже. Самую первую я увидел еще в детстве, когда в школу бегал. Этой мумией наш профессор естествознания страсть как кичился и с особливой гордостью ее показывал, как наступало время изучать аистообразных. Он был очень неплохим орнитологом, я это должен признать, хотя и не ходил в его любимчиках. И знаете почему?
— Почему же?
— Потому что я то и дело задавал ему такие задачки, какие и самому что ни на есть великому ученому решить было бы не под силу. Но он все же нашел способ мне отплатить! Это было, как сейчас помню, на экзамене в третьем классе. Я этого экзамена совсем не боялся, а даже, наоборот, ему радовался. Вот я на радостях и облачился в свою лучшую парадную манишку, да еще галстук вокруг шеи затянул. В этом костюме я смотрелся таким франтом, что мне казалось, я готов к экзамену — лучше некуда! И все ж дело вовсе пошло не так гладко, как я б хотел. Когда дошла моя очередь, он взял да и спросил… как вы думаете, что?
Шварц, который еще не успел изучить все слабости своего нового друга, не смог скрыть выражения скуки на своем лице: ему казалось, что Пфотенхауер должен был помнить, как совсем недавно уже рассказывал эту же самую драматическую историю своего провала.
— Ну и лицо у вас! — расхохотался ничего не замечавший Пфотенхауер. — Точь-в-точь как у меня, когда я этот вопрос услышал! Обычно-то я не говорю о том, что чужих людей не касается, но уж между старыми приятелями, как мы с вами, можно без экивоков всяких обойтись, потому вам я, так и быть, скажу: он меня спросил, почему у птиц имеются перья?
— Это я уже знаю, — осторожно заметил Шварц. Но Серого не так-то легко было сбить с толку.
— Теперь-то я это, понятное дело, тоже знаю, но тогда я так и застыл столбом, да и простоял с открытым ртом до тех пор, пока…
Конец фразы Пфотенхауера потонул в нестройном гомоне нескольких десятков голосов, который раздался в этот момент на носу корабля.
— Рыба, рыба, большая, тяжелая рыба! — наперебой кричали рыбаки. — Тащите скорее, вот, вот она!
Солдаты втащили на палубу огромную рыбину в добрых три локтя длиной. Они тут же убили ее и поволокли на ют, чтобы похвастаться своей добычей перед обоими эфенди. Это был сом — вид рыбы, которым очень богат Верхний Нил. Мясо старых сомов невкусно, но этот был еще совсем молодой, и люди недаром радовались и гордились своим уловом. После того, как Шварц поздравил и похвалил их, они с топотом и восторженными криками отправились на кухню. Возле немцев остался стоять только Отец Одиннадцати Волосинок. Бросив вызывающий взгляд на Серого, он сказал Шварцу по-немецки:
— Я ловил с господин Вагнер уже очень частенько такую рыбу, огромную. Были люди, которые хотели быть полным-полны учености, великой, и, может быть, не знали, как называется рыба, эта.
Видимо, малыш решил предпринять новую попытку покорить Серого своими знаниями, однако суровый Пфотенхауер смотрел куда-то в сторону и, казалось, совсем не замечал его присутствия. Шварц же доброжелательно поддержал разговор, спросил:
— Ну, и как называется эта рыба?
— Ее имя есть сом, он вкусный деликатес, когда еще маленький и молодой, когда совсем и очень маленький, он нежный, как карп.
— Да ты, как я вижу, еще и ихтиолог?
— Я всегда бывал ихтиолог и френолог, известный.
— Вот как! В таком случае не скажешь ты нам, кто такой, по твоему мнению, ихтиолог?
— Это знаток мозга, людского.
— А френолог?
— Это есть знаток рыб, речных.
— Наоборот, дорогой мой, как раз наоборот. Ихтиологией называется наука о рыбах, а френологией — наука о строении человеческого мозга.
— Это совершенно все равно! — безапелляционно заявил Отец Листьев. — Почему это должен быть только я не прав, всегдашний? Что ли не мог ошибиться и человек, другой? Разве у рыбы тоже нет мозга, внутреннего? Значит, ихтиология и френология — одно и то же.
Тут терпение Пфотенхауера лопнуло. Он вскочил на ноги и закричал:
— Молчи, парень, а не то я сейчас в обморок грохнусь! У меня от твоего бреда волосы дыбом встают! Что я такого натворил, чтоб такое наказание терпеть? Перво-наперво, этот вывороченный немецкий, потом эта сумасшедшая путаница слов и понятий, а больше всего мне нравится самоуверенность, с какой этот остолоп преподносит свою бессмыслицу, и еще считает себя самым что ни на есть мудрым человеком. Ежели в доброй старой Венгрии много этаких чудаков, им лучше сразу сигануть в Дунай и утонуть со всеми потрохами, иначе Австрии, считай, конец пришел! Этот человек говорит, что разумеет латынь? Да он лягушку от гуся не отличит! Эй, беги отсюдова, парень, беги, убирайся с глаз моих долой! Потому, коли ты сию минуту не испаришься, я, ей-ей, набью тобой мою трубку и развею тебя по воздуху, слышишь, ты, гомункулус несчастный?
Серый разошелся не на шутку, он принял угрожающую позу, а нос его с грозным сопением елозил из стороны в сторону, всячески давая понять, что разделяет праведный гнев хозяина.
Но малыш не ведал страха. Он стоял, гордо выпрямившись и глядя прямо в глаза разъяренному Пфотенхауеру. Казалось, обличительная речь немца не произвела на него никакого впечатления; внимание его привлекло только слово «гомункулус», которое ему приходилось часто слышать от своего прежнего господина, герра Вагнера.
— Что вы сказали? — переспросил он. — Я должен бежать от персоны, вашей? Это и в голову не может прийти, мою. Я убивал львов, хищных, и, конечно, не стану испугаться человека, невежливого! Если вы хотеть оскорбить честь мою, вы должны были выбрать слово, другое! Гомункулус не есть ругательство, обидное. Я знать очень хорошо, что гомункулус означать. Я к тому же еще учил, что такое есть лютик.
— Ах, так? Ну так давай, выступи с этим! Мне уж невтерпеж услыхать, какая еще чушь вывалится из твоего рта!
— Это не будет чушь, смешная, потому что я учился учености, растительной. Гомункулус зовет лютик на языке немецком.
— Вот оно, значит, как! А ранунклус?
— Так назывался человек, маленький и жалкий.
— Наоборот! — в полном отчаянии закричал Серый, возбужденно размахивая руками. — Это все правильно, но только наоборот! Сказать тебе, кто ты такой? Ты — создание, у которого шкура внутрь глядит, а мясо — наружу. Может, мне тебя вывернуть, ты гомункуранункулус?! Мне не терпится приняться за это сию минуту.
— Я очень благодарный! — с достоинством возразил словак. — Мне совсем незачем выворачивание, наружное. Я находился в состоянии, нормальном, но я не могу знать, какие я в вас вызываю чувства. Сразу, как вы меня встретили, вечером, вчерашним, вы стали в позу, обидную. Вы, кажется, совсем не можете любить персону, мою, поэтому я буду держаться в отдалении и отчуждении, сдержанном и благородном!
Малыш отвесил Серому глубокий поклон и удалился. Пфотенхауер мигом пришел в себя. Его гнев как рукой сняло, он осознал весь комизм ситуации и разразился громким и искренним хохотом. Шварц тоже рассмеялся и сказал:
— Вот так-то лучше, милейший Наци! Я не понимаю, как можно сердиться на этого оболтуса, как вы изволили его назвать.
— Пожалуй, что вы и правы, — согласился Пфотенхауер. — Как это вы сказали? «Милейший Наци»? Это мне подходит, пусть оно так и остается. Я уж постараюсь больше не сердиться. Но хоть убейте меня — я в толк не возьму, как парень дошел до такой чертовщины?
— Он много лет был слугой у знаменитого ученого Маттиаса Вагнера. Он помогал ему собирать его коллекции и, конечно, слышал от своего господина множество научных названий и выражений. К сожалению, как ни парадоксально, но в данном случае действительно «к сожалению», у Стефана очень хорошая память. Он удерживает в голове все непонятные для него слова, но они перемешиваются там самым причудливым образом. Когда он извлекает на свет божий какое-нибудь из этих названий, оно тут же тянет за собой другое, сходное по звучанию. А когда он пытается объяснить, что эти слова значат, он, конечно, все путает. Но все это я вам уже рассказывал и советовал не принимать его болтовню всерьез, ведь она не только безобидна, но и весьма забавна. Признаться, сначала он меня тоже немного раздражал, но теперь я не только позволяю ему говорить все, что ему вздумается, но иногда даже нарочно навожу разговор на «научные» темы, чтобы он выложил мне очередную порцию своих так называемых «знаний».
— Что ж, в дальнейшем и я тоже постараюсь так делать.
— Ну, для вас это теперь будет не так-то просто. У него есть чувство собственного достоинства, и он, как и обещал, постарается держаться от вас подальше. Так что придется вам отказаться от невинного развлечения, которое я себе изредка позволяю!
На всем протяжении этого разговора Шварц не выпускал из рук подзорной трубы. Время от времени он прикладывал ее к глазам и осматривал берег, стараясь обнаружить следы ночного лагеря Абуль-моута, который должен был быть где-то поблизости. Но ни костровищ, ни примятой травы, ни сломанных веток нигде не было заметно: очевидно, ловцы рабов плыли всю ночь напролет. Оставалось лишь надеяться на то, что следующей ночью они все же сделают привал: в этом случае Шварц мог рассчитывать нагнать врага за два оставшихся дня. При этом он делал очень большую ставку на свои корабли, которые, по заверениям Серого, были куда лучше нуквера и сандала Абуль-моута.
Подошло время молитвы при заходе солнца, а затем и вечернего молебна. Отужинав, Шварц и Пфотенхауер вернулись в свою каюту и улеглись спать, закутавшись предварительно в противомоскитные сетки, которые имелись на дахабии в огромном количестве. Волшебное зрелище, которое представляет собой Нил ночью, заставляет любого новичка забыть о сне и мучениях жигалок, но оба немца уж могли позволить себе отказаться от любования прекрасной природой ради столь необходимого им отдыха.
Проснувшись ранним утром, друзья узнали от Сына Тайны, что никаких происшествий за последние несколько часов не произошло, корабли движутся вперед с хорошей скоростью и покрыли уже довольно большое расстояние. Словак, против обыкновения, не показывался: пока Шварц делил каюту с Пфотенхауером, он решил к ней и близко не подходить.
Этот день тянулся медленно и не принес ничего нового, лишь один раз на борт дахабии наведался Хасаб Мурад, чтобы о чем-то посоветоваться со Шварцем. К вечеру Толо очнулся от своего забытья, которое подействовало на него лучше всякого лекарства. Нервы его успокоились, лихорадка прошла — он был здоров, и никто не радовался этому обстоятельству так сильно, как Лобо, чьи раны тоже почти затянулись.
Перерыва на ночь снова не делали. Это оказалось возможным только благодаря тому, что река была свободна от камыша, а солдаты присоединились к матросам и стали работать посменно двумя вахтами.
К середине следующего дня флотилия подошла вплотную к сожженному селению Умм-эт-Тимса. Теперь Шварцу и его спутникам надлежало вести себя особенно осторожно. Прежде всего нужно было произвести разведку: с этим заданием никто не мог бы справиться лучше, чем Сын Тайны и его друг Сын Верности, которые прекрасно знали здешние места. Оба юноши с готовностью согласились исполнить поручение Шварца, и он дал им точные инструкции относительно того, как они должны действовать дальше.
При отплытии из Магунды плоскодонка, на которой раньше плыли Серый и Йозеф Шварц, была взята дахабией на буксир. Теперь она была снова отвязана, Сын Тайны, Бен Вафа и все ниам-ниам спустились в нее и оттолкнули от корабля. Десятка два весел ударили по воде, лодка стрелой понеслась вперед и скоро исчезла вдали.
По расчетам Шварца, при сохранении прежней скорости корабли должны были достичь селения только к часу вечерней молитвы. Он приказал своим людям взяться за шесты, и эта вспомогательная работа продолжалась до самого захода солнца.
С наступлением темноты Шварц встал на нос по-прежнему плывшей впереди дахабии и стал внимательно следить за берегом, чтобы не пропустить условленных знаков, которые должны были оставить ему Сын Верности и Сын Тайны. Но прежде чем корабли достигли места, где следовало искать эти знаки, разведчики сами вернулись назад. Они причалили к дахабии и поднялись на борт. Шварц торопливо пересчитал их и с облегчением убедился, что все живы и невредимы. Но то, что они вернулись вопреки уговору, тревожило его, и ему не терпелось услышать, добрые или дурные известия принесли его посланцы.
— Не переживай, эфенди, — сказал Сын Тайны, заметив его волнение, — все прошло хорошо.
— Вас никто не заметил?
— Ни один человеческий глаз не смог бы нас обнаружить — так хорошо мы спрятались на берегу. Мне нельзя было показываться в поселке: ведь я был там несколько дней назад, и если бы джуры увидели меня снова, они наверняка заподозрили бы неладное. Поэтому Сын Верности пошел в поселок без меня и не встретил там никого, кроме одного-единственного джура.
— Значит, они все же вас видели, а этого надо было избежать!
— Да, так ты приказал, но ситуация там изменилась, и нам пришлось вести себя соответственно новым обстоятельствам.
— Каковы бы они ни были, показываться на глаза жителям вам все равно не следовало: этот джур непременно доложит обо всем Абуль-моуту.
— Этого он никак не смог бы сделать, даже если бы захотел, потому что Абуль-моута уже нет в селении.
— Нет? Значит, он отправился преследовать мятежников?
— Да.
— Сколько людей он взял с собой?
— Всех. Поселок стоял пустой и заброшенный. Только один старый джур рылся в куче обломков в надежде найти еще что-нибудь, что могло бы ему быть полезным.
— Я подошел к нему, — подхватил Сын Верности, — и стал расспрашивать его обо всем, что там произошло. Я не подвергал себя никакой опасности, потому что было еще светло, и я прекрасно видел, что вокруг нет ни души. Я сказал этому человеку, что пришел из деревни Мелан и хочу завербоваться на службу к Абуль-моуту, а он посоветовал мне немедленно отправляться обратно, потому что мое желание невозможно исполнить.
— Но ты все же сумел кое-что у него выведать?
— Да. Старик оказался болтуном, он выложил мне все, что знал, даже не дожидаясь моих вопросов.
— И что же ты узнал?
— Он мне рассказал, что пятьдесят мятежников с украденными стадами и товарами находятся в двух с половиной днях пути вверх по реке, на правом ее берегу. Там они собираются подкараулить Абдулмоута, переманить его людей на свою сторону, отнять у него всю добычу и, скорее всего, убить его.
— Они что, прежде чем уйти, сообщили джурам о своих намерениях?
— Нет.
— Откуда же тогда они могли это узнать?
— Недавно один из унтер-офицеров вернулся в селение, чтобы дождаться Абуль-моута и рассказать ему обо всем. Этот человек хотел остаться верным своему господину, но старый фельдфебель — главарь мятежников — заставил его идти с ними. Чтобы сохранить себе жизнь, он вынужден был повиноваться, но при первой же возможности убежал от них и поспешил назад предупредить хозяина. Так он сказал джурам, но я ему не верю.
— Ты думаешь, он лжет?
— Да. Он наверняка добровольно принял участие в мятеже: ведь как унтер-офицер он мог рассчитывать на большую долю добычи и хорошую должность в селении, которую баш-чауш собирается основать на юге. Вернулся же он, наверное, потому, что по дороге поссорился с унтером и решил, что для него будет выгоднее разыграть перед Абуль-моутом роль невинной жертвы и получить за свое двойное предательство щедрое вознаграждение.
— Думаю, что никакой выгоды это предательство ему не принесет: мятежники, от которых он сбежал догадаются о его замыслах и не замедлят покинуть место своего лагеря, пока их не настиг там Абуль-моут.
— Не думаю. Дело в том, что они считают этого офицера мертвым. Вчера вечером вместе с двумя своими товарищами он спустился к реке, сделал вид, что случайно упал в нее, несколько раз позвал на помощь, а затем скрылся под водой. Его спутники вернулись к своим в полной уверенности, что он утонул, а тело его стало добычей крокодилов. Он же вплавь удалился на безопасное расстояние, после чего снова выбрался на берег. Из камыша он смастерил себе плот, а из двух длинных сучьев — весла и на этом плоту отправился назад, в селение. Течение здесь быстрое, так что он был на месте уже к полудню. Как раз в это время к берегу причалил и Абуль-моут на своих сандале и нуквере. Увидев вместо селения груды пепла, старик чуть не лишился дара речи, когда унтер-офицер рассказал ему, кто это сделал, ярости его не было границ. Он наведался еще в деревню джуров в надежде узнать от них какие-либо подробности, а затем вернулся на корабль и бросился по следам бунтовщиков, взяв с собой унтер-офицера и всех своих нуэров.
— Значит, в селении его больше нет? — уточнил Шварц.
— Нет.
— И никого из его людей тоже нет?
— Ни единого, можете мне поверить. Я обшарил все окрестности и даже прочесал лес, пока было еще светло. Потом я вернулся назад к лодке, и мы с Сыном Тайны решили не дожидаться вас, а, чтобы сэкономить время, отправиться вам навстречу.
— Это вы правильно сделали. Но почему Абуль-моут решил преследовать их по воде, а не по суше? Ведь корабли движутся медленнее, чем лошади и верблюды!
— Всех животных забрал Абдулмоут, так что у джуров не осталось ни одного верблюда. Абуль-моут собирается плыть всю ночь и думает, что через два дня будет на месте.
— Я не сомневаюсь, что дело обстоит именно так, как ты говоришь, но мне все же хотелось бы пойти туда и убедиться во всем собственными глазами. Вы сейчас отвезете меня назад в селение. Пока подойдут корабли, я успею произвести там осмотр. Как далеко мы сейчас от Умм-эт-Тимсы?
— В получасе пути на лодке.
— Значит, корабли будут там через час; времени у меня будет достаточно. Итак, вперед!
Шварц взял свое оружие и отдал капитанам необходимые распоряжения, а затем вслед за обоими юношами спустился в лодку. Сидевший у руля Сын Тайны искусно обходил встречные течения и лавировал между полями камыша. Благодаря его ловкости и сноровке лодка развила большую скорость и достигла селения даже раньше указанного Сыном Верности времени.
Не теряя времени на поиски укромного местечка, где можно было бы незаметно причалить, Сын Тайны направил суденышко прямо к мишраху: ведь Абуль-моут уехал, а следовательно, бояться было нечего. Однако к своему немалому изумлению, приблизившись к берегу, путешественники увидели у самой воды большой, яркий костер. Не ожидая команды, ниам-ниам прекратили грести, и только двое из них продолжали работать веслами так, чтобы лодку не относило назад.
— Костер, — полувопросительно произнес Шварц, — очень странно! Может быть, джурам все же удалось обмануть вас? Может быть, Абуль-моут еще не покидал селения или зачем-то вернулся назад?
— Конечно, нет, эфенди! — возразил Сын Тайны. — Говорю тебе, он был просто вне себя от ярости, и ты сам понимаешь, что он не станет возвращаться назад, начав преследование, когда ему дорог каждый час.
— Это звучит убедительно, тем более, что в погоню за баш-чаушем его заставила броситься не только жажда мести, но и необходимость. Изменники дочиста разграбили селение, и в числе прочего взяли с собой весь запас пороха, который там был. Когда мы были в Диакине, где Абуль-моут нанял свои корабли, я специально поинтересовался, покупал ли он там порох. Мне сказали, что он его искал, но не смог нигде достать. Ловец рабов без пороха — это все равно, что слон без бивня, он не может ни нападать сам, ни обороняться от врагов. Поэтому у Отца Смерти есть дополнительная причина стремиться как можно скорее догнать мятежников. Вряд ли он мог вернуться, если он действительно в походе. Но кто же в таком случае те люди у огня?
— Скорее всего негры-джуры.
— Что они там делают?
— Рыбачат. Пока в селении были арабы, джуры были отрезаны от реки, и чтобы добраться до воды, им приходилось делать огромный крюк. Может быть, теперь они спешат наверстать упущенное. Ночью улов богаче, чем днем, особенно когда на берегу горит костер, чей свет привлекает рыбу.
— Пожалуй, ты прав, но все же осторожность нам не помешает. Давайте причалим на окраине селения, а потом тихонько подкрадемся к костру и посмотрим, что там делается.
Лодку подвели к берегу и привязали. Гребцы остались сидеть на своих местах, а Шварц с Сыном Тайны и Бен Вафой, прячась за деревьями, стали пробираться к костру. Подойдя к нему достаточно близко, они остановились и принялись рассматривать людей на берегу. У реки были действительно джуры. Они сделали из камыша плот, насыпали на него земли, а сверху развели огонь. Этот плот стоял на якоре в нескольких шагах от берега, и на нем находился только один человек, который следил за тем, чтобы костер не погас. Остальные четверо лежали на берегу и всматривались в освещенную почти до самого дна воду. Оставляя без внимания многочисленных мелких рыбешек, они время от времени метали в более или менее крупных гарпуны или копья с веревками на конце. Улов сегодня и вправду был неплохой: на земле рядом с рыбаками лежала целая куча рыб от двух футов до двух локтей величиной.
— Подойдем к ним поближе! — предложил Сын Тайны.
— Не сейчас, — возразил Шварц, — сначала я хочу взглянуть на то, что осталось от поселка.
— Тогда нам в другую сторону. Это совсем рядом: чтобы пройти через заросли, нам потребуется меньше минуты.
Все трое тихо поднялись на берег, пересекли лес и остановились на его опушке. С первого же взгляда на раскинувшееся перед ними пепелище Шварц убедился, что вокруг действительно нет ни души и что все его сомнения относительно отъезда Абуль-моута были напрасны. Удовлетворенный осмотром, он вернулся к огню.
— Оставайтесь здесь, — сказал он своим спутникам, — эти люди могли видеть вас днем в деревне, и ваше вторичное появление может вызвать ненужные подозрения. Они говорят по-арабски?
— Не все. Но их вождь, тот толстяк, что лежит посередине, понимает этот язык достаточно, чтобы ответить на твои вопросы.
Шварц вышел из леса и поздоровался с неграми. Услышав чужой голос, они испуганно вскочили, а когда увидели отделившуюся от деревьев и приближавшуюся к ним высокую фигуру, бросили рыбу и снасти на произвол судьбы и с воплями ужаса кинулись врассыпную. Человек, сидевший на плоту около костра, поддался общей панике: не имея возможности выбраться на берег, он, недолго думая, прыгнул в реку и поплыл вниз со всей быстротой, на какую был способен. К счастью, он не стал добычей крокодилов и благополучно выбрался на берег совсем рядом с лодкой, в которой сидели ниам-ниам. Они чрезвычайно удивились, увидев выскочившего из воды прямо перед ними человека, но сочли за лучшее не давать ему знать о своем присутствии.
Толстый вождь тоже сделал было движение бежать, но Шварц сильной рукой схватил его за густую шевелюру и удержал. Джур не сопротивлялся, но поднял оглушительный вой, который разносился далеко над рекой и даже достигал противоположного берега.
— Тише! — прикрикнул на него Шварц. — Я тебе ничего не сделаю.
— О дьявол, о дьявол, о добрый дьявол, смилуйся, смилуйся, пощади! — скулил толстяк, не осмеливаясь не только сделать попытки вырваться, но и вообще пошевелиться.
— Да замолчи ты наконец! Я никакой не шайтан, а такой же человек, как и ты. Я не собираюсь причинять тебе зла. Ты должен только ответить мне на несколько вопросов, а потом я уйду, откуда пришел.
— Тогда иди, уходи прямо сейчас, я прошу тебя! — взмолился негр, и голос его звучал так умоляюще, что Шварц не смог удержаться от смеха. Продолжая крепко держать шейха за волосы, он ответил:
— Я уйду, но только после того, как ты мне кое-что объяснишь. Чем быстрее ты расскажешь мне то, что я хочу знать, тем быстрее я отпущу тебя.
— Тогда спрашивай, спрашивай скорее!
— Вот и хорошо! Но я требую, чтобы ты сказал мне правду. Если ты солжешь, я свяжу тебе руки и ноги и брошу в воду крокодилам на ужин!
— Я клянусь тебе, что не буду лгать! — заверил толстяк, все еще дрожа от страха и не решаясь поднять глаз.
— Где сейчас Абуль-моут?
— Его здесь нет.
— Когда он ушел?
— За час до захода солнца.
— Кто с ним?
— Пять арабов и нуэры, которых он привез на кораблях.
— Кого он оставил здесь?
— Никого.
— Помни, если ты хоть что-нибудь от меня утаишь, можешь считать себя мертвецом! Здесь точно не осталось никого из его людей?
— Ни одного, господин.
— Куда отправился Отец Смерти?
— Вдогонку за унтером, чтобы поймать его и наказать!
— Что он намерен делать дальше?
— Он вернется сюда, и мы должны будем помочь ему заново выстроить селение.
— Где находится баш-чауш?
— В двух с половиной днях пути отсюда, на Ниле, возле большого залива бегемотов.
— Когда Абуль-моут придет туда?
— Он хотел быть там послезавтра, потому что он собирается плыть и ночью, но я думаю, ему понадобится больше времени.
— Почему?
— Потому что уже к утру, задолго до наступления дня, он приплывет на место, где река полностью заросла камышом. Протиснуться через него на больших кораблях очень трудно, а ночью и совсем нельзя. Абуль-моуту придется ждать, пока станет светло, и пройдет еще очень много времени, прежде чем он прорубит камыш и снова выйдет на фарватер.
— Очень хорошо! Теперь скажи мне, может быть, ты слышал, не собирается ли Абуль-моут в скором времени предпринять новый поход за рабами?
— Мне говорили, что собирается.
— На кого он хочет напасть?
— На ниам-ниам. Но теперь ему придется отложить поход до тех пор, пока не будет восстановлено селение. Ему сейчас не нужны новые рабы, потому что Абдулмоут приведет их из Омбулы.
— Сколько он взял с собой ловцов рабов?
— Пятьсот.
— Знаешь ли ты Сеяд Ифъяла?
— Охотника на слонов? Да. Он был у нас как раз в тот день, когда загорелось селение.
— Ты знаешь, где этот человек сейчас?
— Нет. Никто не знает, куда он направился.
— Как его настоящее имя?
— Он его никому не открывает. Все знают его только под именем Сеяд Ифъяла.
— Он говорил тебе, куда собирается пойти?
— Нет. Он выменял у меня двух верблюдов. Когда мы утром проснулись, его уже и след простыл.
— Он ушел один?
— Да, как и пришел.
— Больше никто из пришельцев не интересовался Абдулмоутом и Омбулой?
— Здесь был один белый чужестранец, который хотел попасть в эту деревню.
— Зачем?
— Этого я не знаю. Он просил у меня проводника, но я сказал ему, что беланда — наши кровные враги и что тот, кто пойдет к ним отсюда, не вернется назад живым. Тогда он ушел.
— Куда?
— Он не сказал. Отправился, наверное, по своим делам.
— Ты говорил сегодня с Абуль-моутом?
— Да. Он приходил к нам, и я должен был рассказать ему все, что случилось здесь в его отсутствие.
— Об Охотнике на слонов ты тоже упомянул?
— Нет.
— А о белом незнакомце, который хотел нанять проводника до Омбулы?
— Ни слова.
— Почему?
— Потому что я просто не успел ему ничего рассказать. Абуль-моут очень спешил, он хотел как можно скорее отплыть.
— Как были вооружены нуэры?
— У некоторых из них были ружья, у других — нет.
— Ты видел их всех?
— Да, потому что я был здесь, когда они высадились на берег, а потом снова поднялись на корабли.
— Сколько примерно ружей у них имелось?
— Не больше двадцати. У остальных были стрелы копья, ножи и щиты из кожи бегемота.
— Но сам Абуль-моут и пять его арабов были хорошо вооружены?
— У них были ружья, пистолеты и ножи.
— Как у них обстояли дела с порохом?
— Его было ровно столько, сколько они имели в своих рогах. Абуль-моут был очень разгневан, потому что фельдфебель забрал с собой весь запас, который оставался в селении. Свинца для пуль тоже не было.
— Так! Спасибо тебе за подробный рассказ. Это все, что я хотел знать.
— Теперь я могу идти?
— Можешь идти, а если хочешь, то останься и продолжай рыбачить — тебе ничего не грозит. Чтобы ты поверил в это и перестал бояться, я подарю тебе один талер. Вот, возьми!
Только сейчас Шварц убрал руку с головы шейха, достал из кармана кошелек и вытащил из него один талер Марии-Терезии. Это оказалось самым верным средством успокоить негра. Он наконец отважился поднять голову и взглянуть в глаза своему страшному собеседнику и спросил:
— Господин, этот талер действительно принадлежит мне?
— Да.
— Тогда ты и правда не шайтан, а очень хороший человек. Ты гораздо умнее и добрее того белого незнакомца, который обещал мне денег, а вместо них хотел дать только несколько жалких жемчужин. Я вижу, что мне нужно с тобой дружить.
— Ты совершенно прав. Позови своих товарищей обратно и спокойно продолжай свой лов рыбы. Я уже ухожу. Через некоторое время мимо вас проплывут три больших корабля, но и их вам нечего пугаться: они не станут здесь останавливаться.
— Корабли, ты сказал? Что это за корабли? Кому они принадлежат? Откуда и куда идут? Может быть, на них будут работорговцы? — засыпал его вопросами шейх.
— Нет, на этих кораблях плывут не ловцы рабов, а честные люди.
— И они в самом деле не остановятся здесь?
— Нет. Можешь положиться на мое слово. Доброй ночи!
Шварц повернулся к негру спиной и скрылся в темноте. Сын Тайны и Бен Бафа поджидали его под ближайшими деревьями и слышали всю беседу. Шагая рядом с немцем к лодке, Сын Верности заметил:
— Теперь я понимаю, эфенди, что недостаточно умно вел себя со старым джуром.
— Почему же?
— Я спрашивал его только об Абуль-моуте, тебе же удалось выведать у шейха множество других полезных сведений.
— Откровенно говоря, я и сам не рассчитывал, что смогу узнать так много. Счастье, что мы встретили этих людей.
Как только Шварц и его спутники вновь оказались на борту лодки, ниам-ниам дружно взялись за весла и двинулись в обратный путь. Им пришлось плыть совсем недолго: уже через несколько минут впереди показались огни по-прежнему шедшей впереди дахабии. Для того чтобы дать Хасаб Мураду необходимые инструкции, Шварц приказал подвести лодку сначала к его нукверу, и, только переговорив с комендантом Магунды, поднялся на борт своего корабля.
На носу каждого судна горели большие костры, освещавшие фарватер. Они бросали красные блики на воду, из которой то и дело выпрыгивали стайки резвящихся рыбок. Ветер, все эти дни благоприятствовавший морякам, гнал снопы искр к берегу, туда, где горел еще один костер, и стоявшие возле него рыбаки молча провожали взглядами проходившие мимо корабли.
Часто, когда флотилия достигала очередной излучины, выступавший вперед край берега мешал ветру, и паруса вяло опадали. Позднее, около полуночи, ветер затих совсем и больше не поднимался. Тут уж ничего нельзя было поделать, и утешением могло служить только то, что и Абуль-моут где-то там, впереди, тоже вынужден беспомощно стоять на месте, пока не переменится погода.
— Эх, ничего бы нам сейчас не пришлось так кстати, как добрый ветер, который бы живо нас дальше потащил! — крякнул Пфотенхауер. — Кабы сейчас, по крайности, был день, мы б могли хоть тяговые канаты задействовать, понятно, если бы берег для этого годился. А далеко ли от нас сейчас находится этот Абуль-моут?
— Он отплыл из селения за час до захода солнца, мы же были там через два часа после заката. Значит, мы отстаем от него всего на три часа.
— Так мы, гладишь, завтра его и догоним!
— Несомненно.
— И что вы тогда делать думаете? Поймаете его?
— Да.
— Я б не так поступил.
— А как же?
— Я бы дал ему спокойно добраться до лагеря этого фельдфебеля. Там они все, как пить дать, передерутся, потому что изменники небось не захотят сдаваться-то. Ну, а как они наполовину друг-дружку бы перебили, тут бы уж и мы подоспели.
— Эта мысль приходила мне в голову, но я быстро понял, что она никуда не годится.
— Как-как? Ни на что не годится? Ну, это уж нельзя назвать большой мне похвалой!
— Да вы подумайте сами и убедитесь, что я прав.
— Что-то я покамест не могу с этим согласиться. Я думаю, что только мы Абуль-моута схватим, нам тут же придется за фельдфебеля браться. По мне лучше с ними обоими одним разом покончить.
— Нет, потому что я пока еще в здравом уме. С нашими тремя кораблями и отрядом в четыреста пятьдесят человек мы намного превосходим Абуль-моута. У него сейчас мало ружей и почти нет пороха, мы же в избытке снабжены и тем, и другим. Если мы нападем на него на реке, мы справимся с ним очень быстро и почти без потерь с нашей стороны. Позволить же ему добраться до залива — значит дать ему в руки порох и свинец. Конечно, ему и тогда нас не одолеть, но в последнем случае даже его жалких тридцати ружей будет достаточно, чтобы убить добрую сотню наших людей. А этого я хочу избежать любой ценой.
— Гм! Об этом я, сказать по совести, и не подумал!
— И это еще не все. На реке ему от нас не уйти, на суше же велика вероятность, что он пустится в бегство, как только поймет, что схватка проиграна. Вдруг ему удастся ускользнуть, что тогда? Я не могу этого допустить, я непременно должен взять его живым и передать в руки мидура Фашоды.
— Фу ты, черт, а ведь вы верно все растолковали! Знаете, вы все ж таки совсем другой парень, чем я! В своей-то науке я уж толк знаю, но со стратегией этой — тут у меня кой чего не хватает. Вам бы офицером быть — вы б сейчас уж до полковника, а то еще и до генерала дослужились!
— Спасибо! Я выполнил свой долг, отслужив в армии, а в остальном я весьма доволен своей гражданской профессией.
— Вот оно что! Вы, стало быть, были солдатом? Я-то нет.
— Не проходили службу? Вы и ростом даже выше, чем требуется и кажетесь вполне здоровым человеком.
— Здоров как бык и длинный точно жердь, что верно, то верно. Да я и сам, правду сказать, уверен был, что меня возьмут в солдаты, да не тут-то было — освободили.
— Но по какой же причине?
— Вы еще спрашиваете? Сами, что ли, не видите?
— Нет, — с искренним недоумением отвечал Шварц, окидывая всю фигуру Пфотенхауера изучающим взглядом.
— Неужели у вас глаз нету? — сказал Серый. — Оно конечно, причина, по которой они меня забраковали, уж очень необыкновенная, я и сам поначалу ушам своим не поверил, но от моего удивления им было ни жарко, ни холодно. Когда я перед этой комиссией-то военной появился, господа зенки свои повылупили да как начали зыркать то на меня, то друг на друга, а потом и давай хохотать и остановиться не могут. Ну, я стою перед ними как молокосос, который только что горшок разбил, и лицо у меня, должно быть, не шибко умное. А они только успокоятся, а как снова на меня глянут, их снова смех разбирает. Наконец тот, что впереди всех стоял — а он майором был, — подошел ко мне, потрепал меня этак ласково по щеке, да и говорит, дескать, я свободен и могу идти на все четыре стороны.
— Но причина, причина? Он что, не назвал вам ее?
— Назвал, и еще как! Он уж взял со стола линейку и добрых три четверти часа ею мой нос обихаживал, а потом сказал: «Нет, не пойдет, как ни крути, ничего тут не выйдет! Этот рекрут будет своим носом толкать в затылок впереди идущего! А ежели мы из-за него взяли бы двойную дистанцию, то весь полк не смог бы направо равняться! Да и самому-то ему быстрее, чем за три часа, свой нос направо не развернуть! Нет, мы уж должны его отпустить!» Так майор сказал, и, стало быть, только благодаря моему носу меня не пристрелили на месте с другими в году шестьдесят шестом или семидесятом Анно Домини[149].
Пфотенхауер рассмеялся так искренне и заразительно, что Шварц должен был присоединиться к нему.
— А, и вам, значит, смешно? — продолжал Серый. — А мне-то тогда, по правде сказать, не до веселья было, потому я себя почитал за отчаянного малого и Адониса[150] вдобавок. Ну, да я и нынче о себе весьма высокого мнения. У меня есть мой нос, и мне на него жаловаться грех, а бравый герой-воин из меня, что и говорить, навряд бы получился. Да, так мы раньше об Абуль-моуте толковали — его и вправду лучше взять на корабле. То-то он удивится, когда гром пушки услышит! Но у вас есть человек, который умеет с ней обращаться?
— Да, и на этого человека я всецело могу положиться.
— Кто ж он такой?
— Я сам.
— Вы! Вы и из пушки стрелять можете? Да есть ли на свете такая премудрость, в которой бы вы ничего не разумели?
— Если такая и найдется, то уж зарядить, направить и запалить орудие я смогу всегда. Дело в том, что я был вольноопределяющимся в артиллерии.
— Вон как! Тогда понятно. А я во всей этой артиллерии ровным счетом ничего не смыслю. Мне кажется, ежели б мне надо было нажать на спусковой крючок, я непременно встал бы перед дулом. Но пора вернуться к нашему плану. Что вы будете делать, как мы поймаем Абуль-моута и фельдфебеля?
— По-моему, ответ напрашивается сам собой. Мы останемся в лагере бунтовщиков и подождем возвращения Абдулмоута. Независимо от того, какой исход будет иметь нападение на Омбулу, ловцы рабов будут проходить мимо залива, таким образом, неминуемо попадут в наши руки.
— А как же будет с вашим братом?
— Ему, к сожалению, пока придется надеяться только на себя самого да на счастливый случай. А что я могу сделать? Не бросаться же за ним?
— Нет, ведь мы и не знаем даже, где его теперь искать.
— Он пошел по следу Абдулмоута, по нему же наверняка и вернется. Мы обязательно встретим его, если с ним по пути не случится несчастья. Как ни печально, такая вероятность все же есть.
— Я надеюсь, все обойдется хорошо, тем более, что у него такой верный спутник.
— Значит, этот Охотник на слонов вам понравился?
— Да. Он, конечно, человек необычный и, должно, немало на своем веку повидал и пережил. Он мне показался неглупым малым, и я думаю, он не из тех, кто станет рисковать своей шкурой, когда без этого можно будет обойтись.
— Я никак не могу отделаться от мысли, что он как-то связан с Сыном Тайны. Если предстоящее нам дело удастся, эти двое скоро встретятся, и тогда мы узнаем, верны ли были мои предчувствия. Но посмотрите туда, на Отца Одиннадцати Волосинок! Он постоянно поглядывает в нашу сторону, как будто хочет мне что-то сказать. Пойду поговорю с ним: ведь из-за сложных отношений с вами сам он к нам ни за что не подойдет!
— Лучше оставайтесь и позовите его сюда. Ежели мы с ним будем друг дружки чураться, мне уж так и не придется исправить свой промах, который я допустил по отношению к нему.
Шварц поманил словака к себе, и тому не оставалось ничего другого, как приблизиться. На вопрос немца, нет ли у него какой-нибудь просьбы, он ответил:
— У меня есть просьба, покорнейшая. Мы говорили там, на палубе, о ветре, уснувшем, и о пути, замедленном. Если мы хотели прийти к Абуль-моуту, то корабль, наш, должен идти с быстротой, большей. Поэтому мы решили: сядем в лодки, имевшиеся, закрепим впереди корабля и погребем вперед с поспешностью, удовлетворительной.
— Ах, так! Ты предлагаешь привязать впереди корабля лодки?
— Да, все.
— Я об этом уже думал. Лодок нам, пожалуй, хватило бы. На дахабии, кроме фелюги, есть еще маленькая шлюпка, на каждом нуквере имеется по две лодки, и кроме того, у нас есть большая плоскодонка ниам-ниам. Но я не хотел давать такого приказа, потому что его выполнение потребовало бы от людей слишком большого напряжения сил.
— Люди об этом говорили, сами. Они хотели представить добровольцев. Просили меня сообщить это эфенди, командующему.
— Значит, они добровольно вызвались грести? Это меняет дело. Скажи этим добровольцам, что я им очень благодарен и с радостью принимаю их помощь. Тебя я назначаю старшим над ними. Пойди и позови их всех сюда.
По рябому лицу словака скользнуло выражение радостного удовлетворения. Он метнул гордый взгляд на Серого и уточнил:
— Если я есть шеф, назначенный, то значит мне можно командовать добровольцами, всеми?
— Да, — кивнул Шварц, — ты теперь старший над ними, но все же стоишь под моим началом.
— Я буду старшим, хорошим. Я уже всегда владел свойством, подходящим, командовать ротой и батальоном с легкостью, военной. И так как я имел мундир, красный, то я выполню долг, мой, с апломбом, выдающимся. Приказывай, эфенди!
Человек приосанился, приложил два пальца к своему тюрбану, затем повернулся кругом и, по-аистиному задирая ноги, зашагал прочь.
— Ну, теперь уж он доволен! — рассмеялся Пфотенхауер. — И что у него за взгляды! Из-за того, что он имеет красивый мундир, он уж считает себя подходящим, чтоб командовать батальоном!
— О, не волнуйтесь за него! Я убежден, что он сумеет так раззадорить гребцов, что они предстоящую им тяжелую работу примут как подарок судьбы. Смотрите внимательно!
Через несколько минут словак собрал на палубе около тридцати солдат, умеющих хорошо грести и обученных править лодкой. К ним присоединились все ниам-ниам, а Сын Тайны и Сын Верности предложили свою помощь в качестве рулевых. Фелюга, шлюпка и лодка ниам-ниам были спущены на воду, нагружены и крепким канатом привязаны к носу дахабии. Пятьдесят сильных рук налегли на весла, и корабль медленно двинулся с места. В тот же миг тишину ночи прорезал каркающий голос Храпуна:
— Вставайте, люди, лодки на воду, живо! За работу, давайте, давайте! Или, по-вашему, дахабия должна сделать вас посмешищем в глазах всего Нила? Быстрее, быстрее, сынки, быстрее, молодцы! Да вы что, спите, что ли, вы, сучьи дети, вы, бездельники?!
Вскоре лодки были привязаны к обоим нукверам, и корабли пошли вперед достаточно быстро, хотя, конечно, и медленнее, чем раньше, когда они были гонимы попутным ветром. Чтобы сэкономить силы, гребцы поделились на две команды, которые стали сменять друг друга каждый час.
Блики костров то и дело выхватывали из ночной тьмы ярко-красный мундир сидевшего в передней лодке словака. Малыш очень ревностно нес свою воинскую службу. Он не давал себе ни минуты отдыха, непрерывно крича что-то вроде:
— Батальон, вперед, вперед! Весь артиллерийский корпус, быстрее, работайте, работайте!
Так проходила ночь. Под утро Шварц забылся коротким сном, а когда он поднялся с первыми лучами солнца, капитан доложил ему, что гребцы отлично справились со своим заданием. Сейчас все они снова находились на борту, потому что свежий утренний ветер снова надул паруса и весело погнал корабли вверх по реке. Уставшие люди крепко спали под своими одеялами, забывая во сне об опасностях, которые ждали их впереди.
Глава 14
ПУШЕЧНЫЙ ЗАЛП
Когда Шварц и Отец Аиста сидели в каюте и попивали свой утренний кофе, к ним постучался Сын Тайны и деликатно попросил, обращаясь к Шварцу:
— Эфенди, позволь мне поговорить с тобой об одном обстоятельстве, которое могло ускользнуть от твоего внимания!
— Что это за обстоятельство? — заинтересовался Шварц.
— Последние несколько часов ты проспал и, скорее всего, еще не знаешь, как далеко мы продвинулись вперед. Я также осмелюсь предположить, что и река в этом месте может быть тебе незнакома, и поэтому хочу сообщить, что мы вот-вот достигнем камышовых зарослей, о которых говорил вчера шейх джуров. Перед этим камышом Абуль-моут обязательно должен был остановиться. Только с восходом солнца он мог продолжать свой путь, причем сейчас он вынужден двигаться очень медленно, освобождая фарватер от камыша. Одним словом, мы уже почти наступаем ему на пятки!
— Да, я это понимаю.
— Тогда, может быть, нам стоит отправить вперед маленькую лодку, чтобы разведать обстановку?
— Что ж, предложение дельное. Ты хочешь сам взяться за это дело?
— Я и мой друг готовы выполнить его.
— Тогда возьмите маленькую шлюпку, ее труднее заметить в зарослях камыша.
Через несколько минут Шварц получил очередную, возможность убедиться в том, как хорошо Сын Тайны знает Нил: корабли уткнулись носами в густые заросли камыша, простиравшиеся на всю ширину реки, от одного берега до другого. Толстые стебли камыша росли так близко друг к другу, что только маленькая лодка могла бы проскользнуть между ними, но в самой середине реки поля перерезала прямая и довольно широкая полоса свободной воды. Снаряженная в разведку лодка резво полетела по этой полосе и скоро исчезла за поворотом. Задумчиво провожая ее глазами, капитан дахабии сказал:
— Этот путь появился только вчера. Не кто иной, как Абуль-моут, проложил его. Стоит нам еще немного пройти вперед, и мы просто врежемся в его корабли.
Предсказание капитана сбылось даже быстрее, чем он предполагал: не прошло и четверти часа — за это время флотилия как раз успела миновать камыши — как лодка вернулась назад, и Сын Тайны, не дожидаясь, пока его поднимут на борт, обратился к плывущим на дахабии:
— Прикажи спустить паруса, эфенди! Если ты немедленно не остановишься, они тебя заметят!
— Они на свободной воде? — спросил Шварц.
— Нет. Они только что уперлись в новое камышовое поле. Им потребуется не менее трех часов для того, чтобы проделать себе фарватер.
— Хорошо. Тогда мы спустим паруса, встанем на якорь и осмотрим их корабли.
Чтобы облегчить сообщение между экипажами, капитаны подвели суда вплотную друг к другу, так что их носы образовали прямую линию. Были брошены якоря, а затем Шварц, Пфотенхауер, Хасаб Мурад и Сын Тайны с Бен Вафой спустились в лодку и отправились в новую разведку. Держась подальше от середины реки, они завели лодку в камыши, островки которого еще оставались на воде возле обоих берегов, и под прикрытием камышей стали подбираться поближе к вражеским судам.
Сандал и нуквер Абуль-моута стояли за крутой излучиной реки, и притом так близко, что на лодке до них можно было добраться за каких-нибудь десять минут. Как только они появились в поле зрения преследователей, Шварц и Пфотенхауер схватили свои подзорные трубы и приложили их к глазам. Река здесь была очень широкой, и всю ее сплошь покрывали непроходимые заросли камыша, в которых прочно застряли оба судна. Вокруг них сновали несколько лодок; они были заполнены ну эрами, которые с помощью подручных средств пытались расчистить кораблям путь.
— Ты знал о существовании этого поля? — спросил Шварц Сына Тайны.
— Да. Как-то мы пытались проложить через него путь на наших лодках.
— Оно очень длинное?
— Да. Как я тебе уже сказал, Абуль-моут не проберется сквозь него раньше чем за три часа.
— А что там дальше?
— Свободное пространство, равное нескольким сотням длин лодок, а за ним — еще одно, последние в этой местности, но и самые большие камышовые заросли.
— Значит, нет лучшего места для нападения, чем между этими двумя полями. Когда мы его настигнем, он не сможет податься ни вперед, ни назад.
— Но сможет выбраться на берег, — вставил Хасаб Мурад.
— Мы отрежем его от берега. Мой план готов, и я надеюсь, что он получит ваше одобрение.
— Так расскажи о нем скорее.
— Абуль-моут должен быть окружен со всех сторон таким образом, чтобы не только корабль, но и ни один человек не мог от нас ускользнуть. Мы пропустим их через заросли, сквозь которые они сейчас пробираются, и начнем атаку, как только они выберутся на короткий отрезок свободной воды. Я на своей дахабии подойду к разбойникам с левой стороны, а сзади, так, чтобы им некуда было отступать, встанут на якорь оба наших нуквера.
— Но тогда мы оставим для них свободным путь к правому берегу! — возразил Хасаб Мурад. — Надо, чтобы один из нукверов преградил им его!
— Нет, иначе, когда начнется стрельба, я могу попасть в твой корабль. Мы поступим по-другому. Ты возьмешь сотню своих самых проверенных людей отправишься с ними на берег и устроишь засаду.
— О, теперь я понимаю! Ты придумал хитрую ловушку!
— Это ты должен сделать как можно скорее, не дожидаясь, пока Абуль-моут очистит для прохода судов фарватер, — продолжал Шварц. — В этом случае у тебя будет достаточно времени, чтобы изучить местность и найти для своего отряда подходящее укрытие. Главной твоей задачей будет не пропустить на сушу ни одного человека. Те твои люди, которые не пойдут с тобой на берег, будут поделены на две команды, по сотне на каждый нуквер. Таким образом, Абуль-моут окажется в кольце, и должно произойти настоящее чудо, чтобы он не попал прямо в наши объятия вместе со всей своей шайкой. Ну как, вы согласны?
План был превосходен, это невозможно было не признать. Хасаб Мурад объявил, что полностью его одобряет и принимает, после чего все пятеро вернулись назад, на свои корабли.
Первым делом Шварц приказал снарядить и высадить на берег сто человек, которых отобрал Хасаб Мурад. Матросы спустили на воду все лодки, и через четверть часа люди были на берегу. Не слишком доверяя военному гению коменданта Магунды, Шварц объявил, что хочет вместе с ним прогуляться по берегу, чтобы «осмотреть место битвы с более близкого расстояния».
Прямо от воды здесь начинался лес, не слишком густой, хотя и имевший подлесок. Люди шагали вверх по реке, раздвигая руками ветки деревьев и кустов и стараясь поспеть за маячившими впереди фигурами Шварца и Хасаб Мурада.
Через десять минут слева показались мачты сандала и нуквера ловцов рабов. Мельком взглянув на них, Шварц ускорил шаги и прошел вдоль камышовых зарослей до самого их конца. Тут, к его немалой радости, оказалось, что пространство, на котором предстояло вести бой, полностью свободно от камышей и река просматривается до самого противоположного берега.
— Итак, вы спрячетесь за кустами и просидите там до тех пор, пока не появятся сандал и нуквер, — сказал Шварц. — Я сразу же последую за ними, чтобы не дать им времени сесть в лодки возле следующих камышовых зарослей. А вы, как только увидите, что кто-нибудь собирается спустить лодку на воду, немедленно стреляйте.
— Но долетят ли наши пули до кораблей? — спросил Хасаб Мурад.
— Да. Ловцы рабов будут держаться ближе к этому берегу, потому что с той стороны река больше заросла камышами, чем здесь. Помните, я доверил вам очень важное дело и надеюсь, что вы справитесь со своим поручением.
Шварц вернулся к лодке, которая ждала его, чтобы снова отвезти на дахабию. Были подняты якоря, и корабли подошли совсем вплотную к врагу, а затем снова остановились. Один из солдат получил приказ подобраться на маленькой шлюпке еще ближе к ловцам рабов, затаиться в прибрежных камышах и с помощью подзорной трубы вести непрерывное наблюдение за сандалом и нуквером, чтобы не пропустить того момента, когда на них будут подняты паруса. Это означало бы, что люди Абуль-моута закончили проделывать фарватер в камышах, пришло время начинать наступление.
Затем, по приказу Шварца, Бен Вафа привез на дахабию капитанов обоих нукверов, и они получили необходимые инструкции относительно своего поведения во время боя. Когда маленькое совещание закончилось, Шварц привел в боевую готовность обе пушки и зарядил их. Среди солдат оказалось несколько человек, которые когда-то служили в артиллерии в Египте. Им он доверил вращающуюся пушку, объяснив предварительно, как с ней следует обращаться, сам же вместе с несколькими подручными занялся большой пушкой, дуло которой смотрело теперь в сторону левого борта.
За всеми этими приготовлениями прошло около двух часов, и теперь с минуты на минуту следовало ожидать возвращения посланного вперед дозорного. Солдаты заняли свои боевые посты, где были заблаговременно сооружены надежные укрытия от вражеских пуль; последнее оказалось возможным, так как было известно, с какой стороны могут лететь эти пули.
С тех самых пор, как он вернулся на корабль, Пфотенхауер, не раскрывая рта, работал вместе с другими. Сейчас он с ружьем в руке остановился около Шварца и сказал:
— Ну, вскоре мы уж увидим, взаправду ли я в солдаты не гожусь и впрямь ли об мой нос не только я, но и все другие спотыкаются. Если это так и есть и мне кто-нибудь добрый кусок носа отстрелит, я уж не обижусь, а премного доволен буду. Эх, как представлю, что у них за лица будут, когда они нас увидят — так меня смех и разбирает! Хорошо б еще, кабы мы к ним так подойти изловчились, чтоб они нас до самой последней минуты не заметили!
— Думаю, что так и получится, — ответил ему на это Шварц.
— Да ну? Что ж они, по-вашему, уставятся перед собой, да так ни разу и не обернутся?
— Конечно, нет, но дело не в этом. Большинство сандалов и нукверов имеют на корме дополнительные паруса, которые свисают так низко, что полностью загораживают задний обзор. — Шварц обернулся к Сыну Тайны, который договаривался в это время с одним из канониров, чтобы тот дал ему на время боя свое ружье и патроны, и спросил у него: — Скажи, на кораблях Абуль-моута установлено только по одному основному парусу?
— Нет, — ответил юноша, — оба судна достаточно большие, и для того, чтобы они поймали ветер, им необходим еще задний парус.
— Ну вот, все обстоит так, как я думал, — удовлетворенно кивнул Шварц.
— Может быть, нам удастся сделать так, чтобы они заподозрили о нашем присутствии не раньше, чем мы окажемся с ними бок о бок. В этом случае они просто олухи, каких свет не видывал! — заявил Серый.
— Почему? В том, что они нас не заметят, не будет ничего удивительного. Мысль о том, что кто-то здесь может их преследовать, им, разумеется, не приходит в голову; кроме того, все их внимание направлено вперед, а парус мешает им видеть то, что происходит у них за спиной… Но смотрите: к нам возвращается дозорный. Кажется, пора начинать. — Шварц дождался, пока солдат вновь окажется на борту, а потом крикнул капитану:
— Прикажите сняться с якоря и поднять паруса!
Загремели якорные цепи, огромный белый холст взвился ввысь, выгнулся под напором ветра, и дахабия, а за ней и оба нуквера снова тронулись с места.
Шварц и капитан перешли на нос корабля и стали теперь около штурвала. Дахабия миновала излучину и стала медленно подбираться к зарослям камыша. Теперь камыши разделял на две равные части узкий канал, по которому плыли сандал и нуквер. Палубы кораблей были скрыты трепетавшими на ветру парусами.
— Нам их не видать, да и им нас тоже, — сказал, подойдя к Шварцу, Пфотенхауер. — Теперь-то и я так смекаю, что мы к ним на расстояние протянутой руки подойдем до того, как они почуют неладное. Вот удивятся-то они. Я бы ни за что не хотел такое на своей шкуре испытать!
Эти слова Серый произнес шепотом, так как говорить в полный голос было уже нельзя. На всех трех судах царила гробовая тишина, которая всегда предшествует бою.
Перед началом атаки Шварц отдал приказ постараться не убивать Абуль-моута, обещая щедрое вознаграждение тому, кто сумеет захватить его живым. Теперь каждый солдат втайне молил Бога, чтобы счастливая возможность выпала именно ему.
Вслед за вражескими кораблями дахабия прошла по только что проделанному нуэрами каналу и оказалась на свободной воде. Абуль-моут только сейчас увидел, что перед ним лежит новое поле камыша, и, крякнув от досады, приказал снова спустить паруса и бросить якоря. Старик сидел на палубе вместе с пятью своими помощниками, единственными из всей шайки, кто уцелел после неудачного нападения на Источник Льва. Арабы курили трубки и обсуждали план нападения на отряд фельдфебеля. Сейчас им дорога была каждая минута, а новое препятствие грозило задержать их еще на несколько часов! Правда, через камыши вел узкий проход, но через него могла протиснуться в лучшем случае маленькая лодка. Нос сандала был направлен прямо на этот проход и немного углубился в него, прежде чем якорь успел вонзиться в дно. Нуквер тоже подошел ближе и стал на якорь справа от сандала. После этого были спущены паруса.
Абуль-моут сидел лицом к камышовым зарослям и не мог видеть того, что делается у него за спиной. Он подскочил от неожиданности, услышав испуганный крик капитана:
— За нами корабль! Дахабия! О, боже, откуда она могла здесь взяться?
Все арабы резко повернули головы назад и в течение нескольких мгновений безмолвно смотрели на этот, как будто с неба свалившийся корабль. Двух следовавших за ним нукверов они пока еще не видели.
— О, боги и дьяволы! — приглядевшись получше, воскликнул Абуль-моут, и вся кровь отхлынула от его лица. — Это дахабия вице-короля!
— Не может быть! — возразил один из помощников. — С чего ты взял?
— А у тебя у самого глаз нет, что ли? Ты что, не видишь на носу королевский герб — пирамиду со сфинксом? И клянусь Аллахом, на дахабии полно солдат!
— Что им здесь нужно?
— А я откуда знаю. Во всяком случае, нас это наверняка не касается. Нам нечего бояться до тех пор, пока их офицер не узнает, что я Абуль-моут.
— А если тебя кто-нибудь выдаст?
— Кто стал бы это делать? Вы — нет, нуэрам это тоже невыгодно, иначе они будут схвачены как мои сообщники, и моряки, которым я хорошо плачу, тоже вряд ли захотят мне изменить. Нет, я думаю, что… Аллах акбар! Там за ним идет еще один корабль, а за тем — третий! Два нуквера и дахабия! Да это же самый настоящий флот!
— Оставь их! Ты же сам говоришь, что это нас не касается.
— Я сказал это, но… но… Гром и молния! Кажется, я все же ошибался! Я узнаю эти два нуквера. Они принадлежат моему заклятому врагу Хасаб Мураду из Магунды. Не понимаю, как он, ловец рабов, мог оказаться вместе с солдатами вице-короля? Должно быть, они поймали его во время похода за рабами и отобрали у него нукверы. Люди Хасаб Мурада прекрасно меня знают, и они с радостью выдадут меня!
— Тогда спрячься скорее!
— Это бесполезно: офицер наверняка поднимется к нам на борт и все обыщет. Я буду лгать, пока это будет возможно, а потом нам придется защищаться. Надо подготовиться к бою. Посмотрите, вон дахабия! Она хочет встать слева от нас, а оба нуквера бросили якоря сзади. Значит, путь к левому берегу пока свободен. Черт побери, у нас, как назло, почти совсем нет огнестрельного оружия и пороха! Ладно, скажите нуэрам, чтобы были наготове. С этим офицером я сам буду говорить.
Дахабия была уже у самого левого борта сандала, она бросила якорь примерно в сорока шагах от него и потом прошла немного назад, насколько позволяла якорная цепь. Таким образом, она оказалась на полкорпуса позади сандала, и с нее теперь было удобно обстреливать палубы обоих кораблей. Итак, позиция судов была следующей: впереди, зарывшись носом в заросли камыша, стоял сандал, рядом с ним нуквер меньших размеров. Справа и чуть сзади остановилась дахабия, а за этими тремя кораблями на расстоянии ружейного выстрела бросили якоря оба нуквера из Магунды.
Шварц спрятался за пушку, так как не хотел, чтобы Абуль-моут увидел его раньше времени. Говорить с ловцами рабов должен был офицер из Фашоды, командовавший отрядом мидура. Он подошел к капитану, который все еще стоял возле штурвала и громко крикнул, обращаясь к людям на сандале:
— Кто вы такие? Кто хозяин этих двух кораблей?
— Я, — ответил Абуль-моут, с удовлетворением отметив про себя, что все его нуэры уже готовы к бою.
— Кто ты и чем занимаешься? — продолжал расспросы капитан.
— Меня зовут Юсуф Хелам, я купец.
— Чем ты торгуешь?
— Всевозможными товарами.
— Откуда ты едешь?
— Из Вау[151].
— И куда направляешься?
— Вверх по течению, чтобы продавать и менять свой товар у племен, что живут на реке.
— Эй, человек, я думаю, что ты обманываешь меня!
— Аллах пусть улучшит твой слух! Я сказал тебе правду, и если ты услышал что-то другое, в этом виноваты твои уши, которые слышат не то, что им говорят!
— Ты напрасно смеешься: я тебя знаю!
— А вот я вижу тебя впервые.
— Ты Абуль-моут, работорговец.
— Тогда пусть Аллах просветит твои глаза, потому что они видят вещи и людей, которых здесь нет!
— С моими глазами все в порядке, и они видят тех пятерых, что стоят позади тебя. Разве они не хомры и разве не к этому же народу принадлежит Абуль-моут?
— Нет. Они тоже торговцы из Вау. Они перевозят свои товары на моих кораблях.
— Это ложь. Я знаю и их, и тебя. Мидур Фашоды Али-эфенди Абу Хамса Мийа поручил мне найти и доставить вас к нему.
— Так выполняйте свое поручение и ищите тех, кто ему нужен, только это не мы.
— Не вы? Значит, вы — не те, кто на Источнике Льва, западнее Фашоды, напал на приезжего эфенди, чтобы убить его?
— О, Аллах! Дело обстоит плохо, — прошептал своим хомрам Абуль-моут. — Кажется, боя нам не миновать. Смотрите же, сражайтесь отважно! — И, обращаясь к капитану, он громко ответил: — Мы никогда не были в той местности и не имели дел ни с каким эфенди!
— Как? И со мной тоже нет? — спросил Шварц, выпрямляясь во весь рост и делая шаг вперед.
Абуль-моут побледнел, и с его губ сорвалось яростное проклятие. Он ожидал всего, чего угодно, но увидеть этого эфенди здесь, так далеко от Источника Льва!.. Старик действительно растерялся, что случалось с ним нечасто, и замолчал, лихорадочно соображая, говорить ли ему правду или продолжать отпираться.
— Это он, — негромко сказал один из хомров, — но я думаю, что большой опасности нет. Нукверы ничего нам не сделают, потому что на них пленники из Магунды, а с дахабией мы справимся в два счета.
Эти слова вернули Абуль-моуту самоуверенность и хладнокровие, и, когда Шварц повторил свой вопрос, он угрожающе крикнул:
— Да, с тобой я имел дело — ты, пес, ты, сучий внук! А теперь ты поймешь, что значит иметь дело со мной! Отправляйся в геенну!
Он приставил приклад ружья к плечу и выстрелил. Шварц молниеносно пригнулся за пушку, и пуля просвистела мимо.
— Открыть всем огонь! — приказал Абуль-моут своим людям. — Убейте офицера!
Ловцы рабов не заставили себя долго упрашивать. Их было триста человек — двести на сандале и сто на нуквере, — и, видя на дахабии вдвое меньше солдат, они были убеждены, что легко их победят. Затрещали ружья, и целое облако стрел и метательных копий полетело в сторону дахабии. Но солдаты Шварца позаботились об укрытии. Они спрятались за мачты, ящики, коробки и другие предметы, которые были нагромождены на палубе. Только несколько человек были легко ранены.
Шварц засунул голову и руки под одеяла, которыми была замаскирована пушка, отодвинув лишь верхнее из них в сторону, направил ствол и прицелился. Краем глаза он успел заметить, что Абуль-моут ищет его, держа в руке свою двустволку, в которой оставался еще один заряд. Второй выстрел Отца Смерти должен был оказаться более верным, чем первый.
В ответ на атаку нуэров прозвучала команда капитана. Его люди тоже начали стрелять. Почти все их пули попали в цель, многие из нуэров упали, и крики боли смешались с азартными воинственными кличами.
Когда Шварц выпрямился, Абуль-моут снова прицелился и выстрелил с криком:
— Вот твоя смерть! На этот раз я попаду точно!
Но от острого, натренированного взгляда немца не ускользнуло движение старика, и он ловко увернулся во второй раз, а затем отбросил с пушки покрывало и закричал в ответ:
— Ты снова промахнулся, а я попаду, но не в тебя, потому что ты мне нужен живой!
С этими словами он запустил механизм большой пушки, и первые снаряды полетели на палубы сандала и нуквера. Попадали убитые и раненые, река огласилась криками, воем и ревом. Абуль-моут застыл неподвижно с широко раскрытыми глазами, и тут, к еще большему его изумлению и ужасу, канониры привели в действие вращающуюся пушку, а с обоих нукверов из Магунды затрещали ружейные выстрелы.
Абуль-моут моментально сообразил, что на нукверах находятся отнюдь не пленники, и в это самое мгновение, как будто для того, чтобы лишить его последних сомнений, оттуда донесся громкий, резкий голос, который Отец Смерти очень хорошо знал:
— Ах, как хорошо, прекрасно! Ай да залп, вы, герои, вы, храбрецы! Заряжайте скорее снова и покажите им еще раз! Пусть Аллах испепелит этого Абуль-моута! Стреляйте же, стреляйте, вы, трусы, лентяи, мерзавцы.
— Эш-Шаххар, Храпун! — крикнул Абуль-моут хомрам, которые столпились вокруг него. — Хасаб Мурад, сын шелудивой суки, связался с чужаком и солдатами. Стреляйте, стреляйте! Цельтесь в офицера и этого христианского пса!
Хомры последовали его приказу, но не попали ни в того, ни в другого, потому что капитан стоял за мачтой вне досягаемости пуль, а Шварц снова наклонился, чтобы зарядить пушку. Неуязвимы для вражеских пуль были и канониры у вращающейся пушки; они выпускали снаряд за снарядом, укрывшись за маскировочным домиком, который изнутри был окован прочным листовым железом.
Последствия второго залпа большой пушки были еще более разрушительными, чем в первый раз. Нуэры, которые вначале были настроены очень воинственно, отбросили прочь свои ружья и попрятались внутри кораблей. Абуль-моут понял, что сопротивляться дальше означает только впустую потратить остаток боеприпасов, и решил попытаться спастись бегством.
— Всем быстро в лодки, и гребите к берегу! — крикнул он. — Путь туда пока свободен.
Нуэры тотчас же бросились к бортам сандала и нуквера, но едва первые из них стали спускать на воду лодки, как с берега послышались выстрелы и из-за кустов высыпали люди Хасаб Мурада. Сам комендант Магунды, бежавший впереди всех, «приветственно» замахал своим ружьем и крикнул:
— Правильно, иди к нам, дорогой Абуль-моут, иди скорее! Мы примем тебя с такими почестями, что ты на своей шкуре почувствуешь всю силу нашей к тебе любви. Ах, вонючая гиена, ты еще узнаешь меня! Ну что же ты медлишь, иди сюда, и я живьем сдеру с тебя твою проклятую шкуру!
Абуль-моут затравленно вертел головой во все стороны. Путь к берегу был отрезан: слева стояла дахабия, справа — нукверы из Магунды, а впереди простирались непроходимые заросли камыша. «Непроходимые? Да, но не для лодки!» — мелькнула внезапно у него в голове спасительная мысль.
— Нас мало, и мы окружены. Вы сами видите, что наше дело проиграно. Но пойдемте со мной в каюту, мне надо кое о чем с вами поговорить, — сказал он своим хомрам, по-прежнему стоявшим рядом с ним. Ни один из них пока не получил ни малейшего ранения, как будто они были заговорены от пуль и снарядов, которые сплошным дождем сыпались вокруг. Причиной этому было то, что люди Шварца намеренно не стреляли в сторону Абуль-моута, который был нужен им живым.
Несмотря на то, что нуэры спрятались, а пушки замолкли, нельзя было сказать, что схватка подошла к концу. Ловцы рабов все еще метали из-за укрытий стрелы и копья, и когда какой-нибудь из них нечаянно высовывал наружу голову или руку, целый град пуль из солдатских ружей тут же летел в эту мишень.
Итак, план Шварца полностью удался, и даже сотня Хасаб Мурада блестяще справилась со своим заданием — преградила путь нуэрам в лодки. Теперь у ловцов рабов не было другого выхода, как признать свое поражение и сдаться во главе с Абуль-моутом.
Но для Отца Смерти сдаться означало пойти на верную гибель, и он прекрасно понимал это. Нет, ему надо было бежать и притом как можно скорее, потому что через несколько минут все было бы кончено.
Когда Абуль-моут нанимал сандал, капитан не захотел предоставить ему свою каюту на корме корабля. Тогда на носу, в самой передней его части, была сооружена дощатая перегородка, которая образовывала вместе со смыкавшимися в этом месте бортами отгороженный от палубы закуток. Этот угол во время плавания Абуль-моут делил с хомрами; туда он и повел их сейчас.
Войдя в «каюту», старик плотно прикрыл за собой дверь и сказал:
— Нам надо бежать, причем сделать это мы должны так, чтобы нуэры ничего не заметили, иначе они все сбегутся сюда и привлекут к нам внимание врагов.
— Да, бежать — это хорошо, — поддержал один из хомров, — но как? Я не вижу никакого пути к спасению.
— А я вижу. Разве вы забыли, что одна из наших лодок висит здесь, на носу? Люди этого гяура не могут ее видеть, потому что с той стороны стоит наш нуквер и загораживает лодку от их взглядов.
— Да, я знаю, что она находится здесь, но как мы в нее сядем? Как только мы захотим перебраться через борт, нас тут же пристрелят.
— А мы не станем перебираться через борт. У нас здесь есть топор, большая и маленькая секира. Та часть борта сандала, что находится над водой, сделана из тонкого дерева, которое ничего не стоит прорубить. Ни один человек не увидит, как мы спустимся в лодку.
— Но потом, когда мы поплывем отсюда, они заметят и схватят нас!
— Нет. Ты ведь видел, что нос сандала упирается прямо в камыш, как раз в то место, где через заросли ведет узкий открытый канал. По нему мы и поплывем. Но все это мы должны сделать очень быстро, так что соберите скорее ваши вещи и за работу!
Абуль-моут сам взял колун и ударил им по дереву, которое сразу же поддалось. Двое хомров помогали ему, и через какую-нибудь минуту немного повыше ватерлинии образовалось отверстие, достаточно большое для того, чтобы в него мог протиснуться человек.
Абуль-моут высунулся наружу, дернул за веревку, на которой висела лодка, и спустил суденышко на воду. Он сошел в нее первым, за ним последовал один из хомров. Остальные кинули в лодку те вещи, с которыми не хотели расстаться, и лишь после этого покинули корабль.
Лодка была шестивесельной, как раз по числу пассажиров. Хомры отвязали ее, схватили весла и стали медленно продвигаться между бортом корабля и камышами, пока не достигли канала. Абуль-моут сел у руля, решив самостоятельно править лодкой.
— До сих пор все шло хорошо, — сказал он, — но сейчас начнется самое трудное. Когда мы оттолкнемся от сандала и поплывем по этой свободной от камыша дорожке, на дахабии нас увидят и начнут стрелять. Чтобы мы как можно скорее вышли из пределов досягаемости их пуль, надо налегать на весла изо всех сил. Ну, а теперь вперед! Пусть Аллах защитит нас и погубит наших врагов!
Хомры погрузили весла на воду, и лодка двинулась по каналу.
Из-за выстрелов, которые все еще продолжали греметь, находившиеся на сандале нуэры не слышали или не обратили внимания на звуки ударов топоров по дереву. Они не подозревали, что брошены своими предводителями на произвол судьбы, до тех самых пор, пока голос Шварца не известил их об этом.
Немец поднялся к вращающейся пушке, собираясь с помощью нескольких ядер сделать во вражеских кораблях пробоины и тем вынудить команды сдаться. Когда он стал направлять дуло, его взгляд случайно упал на тростниковые заросли, и он увидел лодку, которая только что выглянула из-за сандала и быстро стала удаляться по узкой водной тропинке. Мгновенно оценив ситуацию, Шварц резко повернул дуло пушки в другую сторону и стал торопливо заряжать. Однако лодка была уже довольно далеко, и Шварц понял, что, если он не попадет в цель с первого раза, враги будут уже вне досягаемости пушечных ядер и ружейных пуль. Тогда он повернулся к берегу и громко крикнул, перекрывая своим голосом шум затихающей битвы:
— Эй, Хасаб Мурад! Там, в тростниках, лодка, а в ней Абуль-моут. Бегите скорее вверх по течению, догоните их и прикончите! Не старайтесь спасти им жизнь!
Египтянин расслышал его слова и понял, что от него требуется. Шварц увидел, как он и его люди побежали вдоль камышового поля. Но этого немцу было недостаточно, и он окликнул Сына Тайны:
— Абд-эс-Сиррф! Быстро спускайся в лодку со своими людьми! Стефан, возьми пять хороших стрелков и отправляйся с Сыном Тайны! Постарайтесь догнать лодку с беглецами и доставить мне Абуль-моута живого или мертвого. Но если вы их все-таки упустите, тогда выйдите на правый берег и попробуйте по крайней мере отыскать его лодку. А теперь вперед, скорее!
Плоскодонку сандехов сняли с борта дахабии, и Сын Тайны, ниам-ниам и Отец Листьев с солдатами прыгнули в нее и бросились в погоню за арабами.
Тем временем канониры успели зарядить вращающуюся пушку. Шварц направил ее на уплывавшую лодку, наскоро прикинул ее скорость, прицелился и выстрелил. К сожалению, он еще не очень хорошо знал свое орудие, а цель была слишком маленькой: ядро с шумом вспенило воду в каких-нибудь шести футах впереди лодки.
Шварц увидел, что хомры перепугались и с удвоенными силами налегли на весла. Он быстро перезарядил пушку и выстрелил снова. На этот раз ядро упало чуть позади беглецов, рикошетом отскочило от воды, ударило совсем рядом с лодкой и только после третьего подскока погрузилось на дно. Для очистки совести немец дал еще один залп, но, как и следовало ожидать, он снова не попал в цель: враги были слишком далеко.
Уже при втором выстреле Шварца лодка Сына Тайны прошла мимо сандала и понеслась по каналу. Ниам-ниам лучше гребли, чем арабы, и те, кто наблюдал за ними с кораблей, не сомневались, что они скоро нагонят Абуль-моута.
Когда вокруг стали падать снаряды, старый ловец рабов ничуть не испугался.
— Гребите, гребите! — закричал он. — Этот пес стреляет по нас из пушки. Он целится, как дьявол! Давайте, давайте, иначе мы пропали! Если ядро хотя чуть-чуть заденет нас, лодка перевернется и нас сожрут крокодилы!
Увидев второе ядро, Отец Смерти начал подгонять своих хомров с еще большей горячностью, но после третьего выстрела он громко возликовал:
— Мы спасены, больше выстрелов не будет — ядра не долетают.
Вскоре камыши кончились, и лодка выбралась на широкое свободное пространство.
— Направо! — коротко бросил Абуль-моут. — Глубже погружайте весла с левого борта! Здесь мы причалим к берегу и постараемся как можно быстрее добраться до Абдулмоута. Когда к нам присоединятся пятьсот его молодцов, мы живо расправимся с этим чужеземным псом!
Он резко повернул руль вправо, и в этот момент из-за деревьев вынырнули люди Хасаб Мурада. Если бы египтянин спрятал свою сотню на берегу и не дал врагам раньше времени заметить себя, они бы неминуемо оказались у него в руках. Но он, охваченный азартом гонки, подскочил к самой воде и выстрелил по лодке.
— О, Аллах! — воскликнул старик. — Чужак натравил на нас этих гиен! Мы пока не можем высадиться. Но ничего, там, дальше на берегу, лес становится совсем густым, и по этим зарослям им за нами не угнаться. Давайте, налегайте на весла; нам нужно получить преимущество во времени! Скоро мы выйдем на берег, и только они нас и видели!
Абуль-моут снова вырулил на середину реки, где его не могли достать пули солдат. В это время кто-то из хомров оглянулся назад и увидел лодку, спешившую вслед за ними.
— Смотрите, лодка, большая лодка, и в ней много людей! — испуганно закричал он. — Они преследует теперь нас и по воде, и по суше!
Абуль-моут обернулся и в течение нескольких секунд наблюдал за плоскодонкой ниам-ниам, а потом мрачно выругался:
— Ах, провались они ко всем чертям! Они гребут быстро и сцапают нас, если мы будем плыть в том же направлении!
— Тогда мы будем защищаться!
— Идиот! Что это даст, когда их вчетверо больше, чем нас? Сейчас речь идет о том, чтобы спасти свои шкуры, и поэтому никакого сражения не будет. Попробуем повернуть налево. Если мы поторопимся и сумеем достичь правого берега раньше их, считайте, что мы от них избавились.
— А что будет с нашей лодкой?
— Можешь не сомневаться, они, конечно, не оставят ее на берегу специально для нас.
— Но тогда как мы переберемся через реку? Ведь если мы хотим к Абдулмоуту, нам нужно будет вернуться назад, на левый берег!
— Мы построим плот. Но сейчас вас это не должно заботить. Главное гребите, сильнее гребите, даже если сотрете руки до крови! Если они нас догонят, мы погибли, но горе этим псам, если нам удастся уйти! Клянусь, они нечеловеческими мучениями заплатят мне за сегодняшние унижения.
В этот момент хомры увидели, что ниам-ниам уже миновали камыши. Страх придал беглецам силы, и их лодка, как птица, полетела по реке, которая, к счастью для них, была в этом месте не особенно широкой. Правый берег был все ближе и ближе, вот, наконец, они достигли его и, прихватив свои пожитки, выскочили на сушу. Разумеется, они не стали тратить времени на то, чтобы привязывать свое суденышко, и его снова вынесло на середину течения.
Все время, пока длилась погоня, маленький словак стоял посреди лодки со своим огромным ружьем в руке и без устали подгонял гребцов. Теперь он прервал поток своего красноречия и разочарованно протянул:
— Они от вас все-таки убежали. Видите, вон они прыгают на сушу! Но пристрелить одного из них я еще успею.
— Оставь это! — возразил Сын Тайны. — Ты ведь не можешь хладнокровно прицелиться.
— Я целюсь очень хорошо, — отчеканил Отец Одиннадцати Волосинок. — Сейчас я покончу с этим парнем!
Он поднял свое тяжелое ружье и прицелился в Абуль-моута, который вот-вот должен был исчезнуть за кустом. Все гребцы подались к левому борту, чтобы увидеть, как Отец Смерти упадет. Вследствие этого лодка покачнулась, словак потерял равновесие, и ружье выстрелило, наградив, по обыкновению, своего хозяина весьма солидной отдачей, от которой он подлетел вверх, описал в воздухе красивую дугу и шлепнулся за борт.
К счастью, один из пятерых солдат успел подхватить на лету «слоноубийцу» и тем уберег его от неизбежной гибели. Другой крепко уцепился за мелькнувшую над лодкой фалду красного мундира, и подоспевшие ниам-ниам помогли ему втащить малыша обратно в лодку.
Сын Тайны без улыбки оглядел сиротливую фигуру Отца Одиннадцати Волосинок, с которого ручьями стекала вода, и невозмутимо заметил:
— Я же говорил, что ты в него не попадешь.
— Я бы попал, если бы вы не качнули лодку, — запальчиво возразил словак, отряхиваясь. — Из-за вас я запросто мог утонуть или угодить в пасть крокодилам! Ну, что будем делать теперь? Продолжим преследование по суше?
— Нет, это все равно было бы бесполезно. Мы выловим его лодку и вернемся назад.
— Значит, мы упустили его навсегда!
— Я так не думаю. Этот человек сейчас вне себя от ярости и хочет отомстить. Он наверняка отправится теперь к своим в Омбулу, чтобы потом натравить их на нас. Но смотрите, к нам несет их лодку. Поймаем-ка ее!
Оставшиеся на кораблях Абуль-моута нуэры были в ярости от того, что их предводитель предательски бросил их в минуту опасности. Теперь гнев победителей должен был всецело обрушиться на них, и, посчитав, что лучше не усугублять ненависть врагов дальнейшим сопротивлением, они решили сдаться. Другого выхода у них не было: после бегства Абуль-моута люди Шварца с удвоенным вниманием стали следить за обоими кораблями. Наученный горьким опытом, немец даже отрядил к каналу среди тростников специальную сторожевую шлюпку, так что и этот последний путь к спасению был для нуэров отрезан.
Практически сразу после того, как Абуль-моут покинул корабль, выстрелы с обеих сторон полностью прекратились. Наступило краткое затишье. Шварц не предпринимал никаких действия, ожидая возвращения посланной в погоню лодки, а нуэры, встревоженные молчанием противника, не отважились выйти из своих укрытий. Однако постепенно их страх несколько улегся, и самые отважные стали осторожно выглядывать из-за бортов сандала и нуквера. Никакой реакции противника на это не последовало, и через некоторое время осмелевшие нуэры сгрудились на палубах двух кораблей.
Шварц приказал капитану не открывать огня до тех пор, пока нуэры не начнут стрелять, а сам поднялся наверх и присел возле вращающейся пушки. К нему подошел Пфотенхауер, которому не терпелось поделиться впечатлениями о схватке, так быстро завершившейся благодаря наличию большой пушки.
— Думаете, они снова начнут палить? — спросил он Шварца.
— Вряд ли. Это было бы слишком глупо с их стороны. Они не могут не осознавать, что мы превосходим их и в вооружении, и в численности. А после того, как их покинул Абуль-моут, они остались без главаря.
— У них уж имеется свой вожак!
— Ба! Он не посмеет нам сопротивляться, поскольку прекрасно понимает, что это выйдет ему боком. Наши солдаты показали им, как хорошо они умеют обращаться со своими ружьями. Кстати, я должен вас поздравить и выразить вам свое восхищение!
— С какой это радости?
— Ну как же! Вы так здорово стреляли! Я видел, вы ни на минуту не покидали линии огня.
— Да уж, стрелял-то я, что и говорить, здорово. Но вы, может быть, углядели, в кого и куда?
— Нет.
— Ну, так я уж вам скажу. Целился-то я все время в прическу повыше головы. Я решил, что нельзя ж стрелять прямо в человека, а эти их прически… Вы бы видели! — Серый рассмеялся, а потом продолжал: — Ну да, у вас уж было столько хлопот с этой пушкой, что вам в сторону некогда было глянуть. Но, может, вы все же заметили эти их высокие вихры? Знаете, как они их сооружают?
— Нет, — улыбнулся Шварц. — У меня не нашлось времени провести столь серьезное исследование образа жизни и нравов этого небольшого народа. Пришлось удовлетвориться поверхностными наблюдениями.
— Ну, они уж отращивают длинные волосья, зачесывают их наверх и смазывают эдаким тестом из пепла и коровьего помета. Эта смесь должна защищать их от кое-каких насекомых, которые очень любят селиться в их шевелюрах. Когда она застывает, прическа превращается в высокую и твердую башню, которая так прочно сидит на голове, что кажется ее частью. Ежели эту башню прострелить, нуэр от удара сваливается на пол и думает, что пуля ему прямо в голову угодила. По крайности, из тех, что я уложил, никто больше не встал. Может, им прическа так дорога, как сам череп, и они не желают показываться на глаза, чтобы враги не могли опять надругаться над этим распрекрасным украшением.
— Да, это действительно забавно. Впрочем, я совершенно с вами согласен, когда вы говорите, что человека можно убить только в случае самой крайней необходимости. Мне и самому очень не хотелось использовать пушку, но нужно было показать Абуль-моуту, что ему не следует с нами шутить. Если бы я этого не сделал, бой длился бы намного дольше, и с нашей стороны могло бы оказаться больше жертв. А если уж приходится выбирать, то, по-моему, пусть лучше погибнут три работорговца, чем хотя бы один из наших солдат. Конечно, если бы я мог предположить, что Абуль-моут найдет способ бежать, я пристрелил бы его и хомров в самом начале. Тогда бы и схватки никакой, скорее всего, не было, потому что нуэры наверняка так перепугались бы, что тут же решили бы сдаться.
— Да уж, это вы все верно говорите. Ох, если б вы только знали, до чего мне не терпится узнать, убежал ли он, или наши его все ж поймали.
— В последнем я очень сомневаюсь. Если даже они его догонят, он так просто не сдастся, а будет защищаться до последнего. Я думаю, он убежал или убит.
— Помните его лицо, когда он вас увидал?
— Да.
— Будто его кто обухом по голове ударил! Он, уж конечно, и подумать не мог, что… Ах, что это? Глядите, вон они! Вон, вон, туда глядите! Знаете, кто это такие?
И, забыв обо всем, Серый завороженно уставился на двух больших птиц, которые летели через реку. Ни опасности, ни забот, которыми были поглощены люди здесь, на земле, для него больше не существовало; все его внимание было направлено вверх, в небо, он вскочил и вытянулся в струнку, и даже нос его вздернулся и устремился ввысь, как будто хотел вместе с птицами взмыть под облака.
— Да, я их знаю, — с улыбкой ответил Шварц.
— Ну? А их латинское имя?
— Balaeniceps rex.
— Верно, знаете! А какое местное название птицы?
— Абу Меркуб, Отец Ботинка.
— Почему?
— Потому что верхняя половина ее клюва имеет форму ботинка[152].
— Верно! Здешние жители всегда дают животным названия по их особенностям. Странно, обычно Абу Меркуб не летает так высоко. Его, наверно, спугнули. Он прилетел как раз оттуда, куда лодки ушли, оттуда… Глядите, вон она, наша лодка! Видите, там, снаружи, в канале!
— Да. И к ней привязана вторая. Сейчас мы узнаем, чем закончилась погоня.
Солдаты на дахабии начали громко окликать друг друга и показывать в сторону канала: они тоже заметили оба суденышка. Нуэры, которые занялись сейчас своими убитыми и ранеными, на минуту прервали работу и стали напряженно вглядываться в очертания приближавшихся лодок.
Лодки подошли ближе, и люди Шварца к своему разочарованию увидели, что Абуль-моута среди пассажиров нет. Ниам-ниам и солдаты вернулись назад в полном составе, невредимые, а лодка, на которой бежали арабы, была пуста. Таким образом, лодку с беглецами не догнали и Отцу Смерти снова удалось ускользнуть.
Ниам-ниам пришвартовались к дахабии, и Отец Одиннадцати Волосинок поспешил первым подняться на борт и доложить Шварцу о результатах погони.
— Что у тебя за вид? — спросил немец. — Ты же весь мокрый!
Малыш снял с головы свой тюрбан, провел рукой по его уныло обвисшим перьям и с достоинством ответил:
— Я упал в воду.
— Как же это случилось?
— Я стрелял в Абуль-моута, презренного, и тут качнулась эта лодка, и тогда я сделал кувырок в воду, головой вниз.
— Значит, Абуль-моут ушел?
— Да. Он уехал на берег, для нас недосягаемый, и побежал потом в кусты.
— И хомры с ним?
— Тоже убежали, хомры, пятеро.
— Выходит, вы не смогли догнать лодку?
— Да, не смогли, потому что она быстрее нас пристала к берегу. Но мы поймали лодку, пустую, и доставили ее сюда с триумфом, победным.
— На какой же берег он высадился? На левый?
— Не на левый, а на правый, но от нас на левый, потому что мы едем вверх по реке.
— Все-таки смылся! — сказал Пфотенхауер, когда Шварц закончил расспрашивать словака. — Теперь-то он небось и носа наружу не высунет, и вы не сможете сдержать слова, что дали мидуру.
— Надеюсь, что смогу, — возразил Шварц.
— Ну уж, это вы вроде вспылили!
— Нисколько. Я убежден, что Абуль-моут сам позаботится о том, чтобы повстречать нас снова, и притом как можно скорее.
— Да вы его совсем за идиота держите, что ли?
— Вовсе нет, я просто ставлю себя на его место. Мы только что нанесли ему поражение, какого у него не было за всю жизнь. Конечно, с его стороны было бы умнее не только постараться не показываться больше нам на глаза, но и вообще исчезнуть из этой местности, но это не в его характере. Сейчас Отец Смерти думает только о том, как бы отомстить мне и Хасаб Мураду, и никакие разумные довода его не остановят. Наоборот, как я уже сказал, он поторопится сам перейти в контрнаступление.
— И с чего он, по-вашему, начнет?
— Призовет на помощь своих людей.
— Тех, что в Омбулу ушли? Так вы думаете, он туда теперь направился? А ведь это в самом деле на правду похоже! Там сейчас добрых пять сотен людей, и вооружены они как надо. С ними он уж может рискнуть нас по новой атаковать. Но до залива Хусан-эль-Бахр отсюда не так далече, как до Омбулы. Может, он вначале туда наведается?
— Не думаю. Он не пойдет с пятью хомрами против пятидесяти мятежников. Это был бы слишком большой риск.
— Но ему же нужно туда, потому, больше негде достать боеприпасы, а без них он не сможет ничего предпринять. А может, он думает, что, если он этого фельдфебеля простит, он снова к нему вернется.
— Это возможно, но мне все же кажется, что он сначала пойдет в Омбулу и уже оттуда вместе с Абдулмоутом и всеми ловцами рабов отправится разыскивать фельдфебеля.
— Да, красиво вы мне тут все расписали, ничего не скажешь! По-вашему выходит, нам осталось распахнуть объятия, и эта птичка сама в них так и влетит! Но я все ж не так радостно настроен, как вы. Я так понимаю, не станет он снова лезть навстречу опасности, от которой он только что еле ноги унес. Да и вообще откуда он знает, где ему нас теперь искать.
— Это-то он как раз знает. Он ведь слышал, что мы хотим его поймать, и думает, что я только за этим и приехал сюда из Фашоды. Кроме того, он понимает, что Хасаб Мурад так легко не откажется от мысли его уничтожить. Нет-нет, он не сомневается, что мы будем его искать.
— Он что, взаправду так думает? Он, выходит, держит нас за болванов, которые будут его искать наобум, даже понятия не имея, где он может прятаться?
— Нет, зачем же? Он знает, что мы пойдем за ним в Омбулу.
— Но как он об этом догадается?
— Очень просто. Он рассуждает так: мы пришли с селение, чтобы его поймать и наказать. Там его не было, а само селение было сожжено дотла. Тогда мы, естественно, должны были расспросить джуров о том, что здесь произошло, узнать от них, куда он направился, и немедленно последовать за ним, что мы и сделали. Джуры должны были рассказать нам и про Омбулу, и теперь, когда он от нас ускользнул, он прекрасно понимает, что нам известно, куда он обратится за помощью и где нам следует его искать. Исходя из этих соображений, он и будет действовать дальше.
— Что ж, по-вашему все складно выходит, комар носа не подточит. Ну, а мы-то куда теперь двинемся — к заливу или в Омбулу?
— К заливу. У меня есть на то веские причины.
— Это какие ж?
— Во-первых, мы окажемся в более выгодном положении, чем Абуль-моут, который думает, что мы отправились за ним прямо в Омбулу. Там он будет готов к новой схватке с нами, а мы подстережем его на обратном пути, в месте, которое сами выберем, и захватим врасплох. И кроме того, разобравшись вначале с фельдфебелем, мы обезопасим себе тыл, если же мы сначала пойдем в Омбулу, то рискуем оказаться между двух огней.
— Но этот Абу все равно, как пить дать, будет разыскивать фельдфебеля. Он ведь должен предупредить его о нас, чтобы спасти свои стада и остальное имущество.
— Об этом я уже думал. Мы попытается опередить его. Поэтому я, не дожидаясь нукверов, поплыву на дахабии вперед. Пятисот солдат будет вполне достаточно, чтобы справиться с отрядом фельдфебеля. Но для начала нам необходимо закончить переговоры с нуэрами. Сейчас я поговорю с их вождем.
Вождь нуэров восседал на палубе сандала, окруженный неграми, которые сидели и лежали вокруг него и что-то оживленно обсуждали, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. Предметом их беседы было, очевидно, то незавидное положение, в которое поставил их вероломный Абуль-моут. Шварц подошел к борту дахабии и окликнул главаря. Тот встал и сделал несколько шагов вперед.
— Я хочу с тобой поговорить, — сказал Шварц.
— Так говори! — отвечал нуэр.
— Ну, на таком расстоянии разговора не получится. Ты должен прийти на мой корабль.
— Почему бы тебе не прийти на мой?
— Насколько я понимаю, существует обычай, при котором первый шаг делает побежденный к победителю.
— Я еще не побежден!
— Да, потому что мы вас пощадили. Но мы можем и передумать, если ты откажешься выполнять мои требования.
— Как ты можешь требовать, чтобы я пошел к тебе и таким образом добровольно отдал себя в твои руки?
— А этого я и не прошу. Я только хочу с тобой поговорить, убивать вас я не собираюсь. Здесь ты будешь в полной безопасности, тебя никто не тронет и даже не станет задерживать.
— Ты говоришь правду?
— Да.
— И я смогу вернуться к своим людям, даже если не соглашусь пойти с тобой на мировую?
— Конечно, я обещаю тебе это.
— Поклянись мне именем Пророка!
— Изволь! Повторяю тебе, и пусть Мохаммед будет свидетелем моих слов: ты сможешь отправиться восвояси, когда тебе заблагорассудится.
— Тогда я иду на твой корабль!
— Тоже неплохо! — рассмеялся Пфотенхауер. — Этот естествоиспытатель Шварц уж клянется стариком Мохаммедом. Чего только не приключается с сорвиголовами, которые любят совать нос в дела чужих народов. Какие условия вы думаете ему поставить?
— Сдаться. Это единственное, на чем я буду настаивать, а потом может идти на все четыре стороны.
— Что-то уж чересчур мягко!
— Да нет. От этих нуэров нельзя требовать, чтобы они понимали, как ужасно и отвратительно ремесло, которым они занимаются. И даже если бы они отдавали себе в этом отчет, как я должен был их наказать? Перестрелять, что ли, всех до единого?
— Ну, зачем уж так взять и всех перестрелять.
— Или посадить в каторжную тюрьму?
— Это, может, им бы и не повредило, если бы здесь такая была!
— Да к тому же, у меня вообще нет полномочий их судить.
— Да, это точно. Кстати говоря, мне сдается, на них даже власть мидура не распространяется.
— Вот именно! А совершать самосуд у меня нет никакого желания. Кроме того, мне просто некуда девать такое количество пленных. Не хватало нам только таскать их за собой, чтобы они нам всюду мешали да еще при первом же удобном случае подняли восстание. Нет, я отпущу их на свободу.
В это время на маленькой лодке подъехал вождь. Он был очень хорошо сложен, если не принимать во внимание узкой грудной клетки — отличительной черты всех народов, которые живут в речных низинах и болотистых местностях с влажным климатом, вызывающим у людей лихорадку. Лоб вождя пересекали три параллельных шрама. Эти порезы, которые считаются у нуэров украшением мужчины, родители наносят своим младенцам сразу после их рождения. У них также есть труднообъяснимый обычай вырывать детям нижние передние зубы, вследствие чего выговор нуэров приобретает своеобразный шепелявый оттенок, который очень трудно воспроизвести.
Повинуясь приглашающему жесту Шварца, вождь нуэров сел, выпил традиционный кофе и благосклонно принял от чернокожего слуги уже зажженную трубку. Сделав первые две или три затяжки, он издал удовлетворенное и одновременно восторженное хрюканье. Запах и вкус табака, которым угостил его Шварц, привели нуэра в настоящий экстаз: ведь до сих пор ему не приходилось курить ничего, кроме скверной табачной трухи, смешанной с листьями разных растений. Шварц счел, что настало время приступить к разговору, и начал:
— Ты сказал, что не считаешь себя побежденным. Может быть, ты все же надеешься ускользнуть от нас?
— Нет, — с наивной откровенностью признался негр.
— Что же ты думаешь делать?
— Сражаться, пока последний воин не упадет мертвым.
— И чего ты хочешь этим добиться?
— Мы убили бы многих из вас.
— Но не получили бы от этого никакой выгоды!
— Но у нас ведь нет другого выхода!
— Есть.
От удивления вождь так широко раскрыл рот, что чуть не уронил трубку. Он подхватил ее, сделал несколько быстрых затяжек, и затем спросил:
— Ты действительно не собираешься продолжать сражение с нами?
— Нет.
— Но мы не позволим убить себя без сопротивления!
— А я и не думал, что вы на это способны. Я знаю, что все войны в этих местах заканчиваются одинаково: победители или убивают побежденных, или делают их рабами. Но я не признаю ни того, ни другого. Я христианин.
— Христианин? — переспросил нуэр и задумался, старясь вспомнить, что означает это слово. Наконец, в его мозгу мелькнула какая-то смутная догадка, и он сказал: — Кажется, христианами называются люди, которые едят свинину?
— Да. Но это не главное, что отличает христиан от последователей Пророка. Наша религия повелевает нам любить вместо того, чтобы ненавидеть, и делать добро даже нашим врагам.
Эта христианская заповедь очень понравилась нуэру, и он спросил:
— И вы действительно повинуетесь этой религии?
— Да.
— Но ты ведь знаешь, что мы твои враги?
— Конечно!
— Тогда ты должен сделать нам какое-нибудь добро.
— Я тоже так считаю, — согласился Шварц, про себя улыбаясь той смеси простодушия и хитрости, которую обнаруживал его собеседник.
— Как же ты хочешь с нами поступить?
— Это будет зависеть только от тебя. Прежде всего ты должен откровенно ответить на все мои вопросы. Скажи, зачем Абуль-моут вас завербовал?
— Ему нужны были люди, чтобы поймать новых рабов.
— Где он собирался их ловить?
— В деревнях ниам-ниам.
— И что он обещал вам за это?
— Еду и питье, одежду, какую носит наш народ, ружья на все племя и по одному талеру за каждого пойманного раба.
— Не очень-то он щедр! Значит, вас завербовали только для похода. Почему же, в таком случае, вы стали сражаться против нас?
— Потому что так хотел Абуль-моут. Мы его товарищи и союзники и, значит, должны его защищать.
— Теперь вы поняли, что водить дружбу с ловцом рабов довольно опасно? Ведь эта дружба стоила жизни многим из вас!
— Да, это верно, — уныло подтвердил вождь. — Твоя пушка была очень голодна, она сожрала больше наших людей, чем может проглотить ее маленький рот.
— Ты их сосчитал?
— Да. Убиты у нас около тридцати, а раненых вдвое больше. А у многих даже прострелены прически. Но ты обещал сказать, что с нами будет дальше!
— Ответь сначала, кому принадлежат ваши корабли?
— Одному человеку из Диакина.
— Он работорговец?
— Нет.
— Значит, он богат?
— Тоже нет. У него ничего нет, кроме этих кораблей, и когда ты их сожжешь, он станет совсем нищим.
— Кто сказал тебе, что я собираюсь их сжечь?
— Каждый победитель сжег бы корабли или оставил их себе.
— Абуль-моут нанял эти корабли для похода?
— Нет. На них мы должны были только добраться до селения. Но селение сгорело, и с ним вместе — нуквер Абуль-моута, и поэтому Отец Смерти снова нанял эти корабли.
— Хозяин кораблей должен получить их обратно. Передай ему, что это мой подарок!
— Ты так решил? О, господин, кто может сравниться с тобой в доброте? Но как я могу передать тому человеку твои слова?
— Разыщи его, когда приедешь в Диакин.
— А разве я туда приеду? — насторожился негр.
— Да, и ты, и все твои люди. Я даю вам свободу.
Нуэр все-таки выронил трубку, вскочил и воскликнул:
— Он дарит нам свободу? Разве это возможно? Господин, ты, наверное, шутишь надо мной!
— Нет, я говорю вполне серьезно. Я не хочу лишать вас жизни.
— Мы все останемся в живых? Все? И я тоже?
— Да, и ты тоже. Но в ответ на это хочу поставить свои условия.
— Назови, назови их! — ликовал негр. — Мы сделаем все, что ты потребуешь, если это только в человеческих силах.
— Во-первых, вы сдадите все ваши ружья.
— Ты их получишь. У нас дома достаточно другого оружия.
— Во-вторых, вы навсегда забудете об Абуль-моуте. Вы не будете делать попыток его разыскать, а как можно быстрее возвратитесь на своих кораблях домой.
— Мы сделаем все, как ты велишь, и притом очень охотно!
— Надеюсь. Скоро я на моей дахабии покину это место, но оба нуквера останутся здесь, и мои люди проследят, чтобы и второе условие было в точности выполнено. Запомни: если вы вздумаете его нарушить и повернете назад, вы тотчас будете схвачены и убиты!
— Поверь, господин, мы очень рады, что можем вернуться домой, и нам не придет в голову остаться. Этот Абуль-моут предал нас, и если он когда-нибудь снова попадется на моем пути — он погиб.
— Очень хорошо! Таким образом, можно считать, что разговор окончен, и…
— Нет, не окончен! — вмешался вдруг Пфотенхауер. — У меня тоже есть одно условие!
При этих словах (а говорил Серый, разумеется, по-арабски) кончик его носа так игриво заерзал в разные стороны, что Шварц, который уже успел достаточно хорошо узнать своего нового друга, понял: сейчас произойдет что-то забавное.
— Скажи свое условие, — повернулся к нему нуэр. — Я надеюсь, что в моих силах выполнить и его.
— Вот и прекрасно! Я хочу, чтобы вы отрезали свои прически и отдали их мне.
Произнося это требование, Пфотенхауер вряд ли ожидал, что оно произведет на негра столь сильное впечатление. Бедняга отшатнулся, всплеснул руками, выкатил глаза, громко вскрикнул и заплетающимся языком пробормотал:
— О нет, господин, о таком ты не можешь нас просить.
— Как это не могу? Я не просто прошу, а требую этого.
— Но мы не можем выполнить твое желание!
— Почему? Здесь у нас достаточно ножей и есть даже несколько пар ножниц, с помощью которых мы вас в два счета обкорнаем.
— В чем мы провинились перед тобой? За что ты хочешь заставить нас претерпеть такую боль?
— Боль? Если вы будете вести себя осторожно, то никакой боли вы не почувствуете.
— Ты ошибаешься. У нас нельзя отнять прически так просто, как у других, потому что они делаются совсем по-другому. Они жесткие и прочные, как камень. Мы не знаем, где у нас кончается голова и начинаются волосы.
— Зато я прекрасно это знаю, потому что я врач, и я изучал строение человеческого черепа. Так что вы можете не бояться: если даже я ненароком и отхвачу у кого-нибудь из вас кусок головы, то я же и приставлю его обратно.
— Нет, нет, господин, не пугай нас! Я охотно верю, что ты великий табиб[153], потому что ты обладаешь огромным, как у великана, носом, а мы, негры, знаем, что человек тем умнее и ученее, чем длиннее у него нос. Но если даже ты действительно можешь безболезненно отрезать у нас прически, то ты не сумеешь избавить нас от вечного позора, на который сам же нас и обречешь, похитив нашу красу и гордость. Когда мы вернемся домой, как же сможем показаться на глаза нашим женщинам без этого самого главного знака нашего мужского достоинства?!
— Но что я могу сделать, — упорствовал Серый. — Вы провинились и должны понести хоть какое-то наказание!
— Если ты непременно хочешь нас наказать, то я предлагаю тебе поступить по-другому, — сказал негр, дрожа от волнения и страха. — Понимаешь, нуэр скорее умрет, чем согласится лишиться своей прически. Позволь моим людям бросить жребий. Пусть половина из них вернется домой целыми и невредимыми, а других ты можешь убить или, что еще хуже, отнять у них их лучшее украшение. Кроме того, мы отдадим тебе прически наших убитых товарищей.
Чем серьезнее и озабоченнее становился нуэр, тем большие усилия приходилось делать обоим немцам, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Стараясь придать своей физиономии как можно более строгое выражение, Пфотенхауер спросил:
— Итак, ты хочешь, чтобы вашу судьбу решил жребий? И что же, ты собираешься тянуть его вместе с остальными?
— Я? Ни в коем случае! Я — их вождь и, конечно, освобождаюсь от этого испытания. Подумай сам, ведь если бы жребий выпал мне, я должен был бы умереть!
— Ах, вот как! А ты, значит, умирать не хочешь? Ну что ж, это вполне можно понять, и за это я не вправе на тебя обижаться. Но мое чувство справедливости восстает против того, чтобы кто-то освобождался от жребия в то время, как другие будут ставить свои жизни на карту. Видно, придется мне над вами сжалиться, хоть вы этого и не заслуживаете. Что ж, ладно, я, так и быть, отказываюсь от того, чтобы срезать у вас прически, но взамен ты должен подарить мне твою шапочку из ракушек.
— Мою жемчужную шляпу?! — Лицо нуэра исказилось гримасой ужаса, и он обеими руками схватился за свою голову, на которой был водружен упомянутый головной убор. — Заклинаю тебя, господин: все что угодно, но только не это, ведь она — символ моей верховной власти!
— Знаю, но что же я могу поделать? Зато этим поступком ты спасешь жизнь целой сотне своих соплеменников, которые будут избавлены от необходимости тянуть жребий!
— Пусть лучше они умрут, — без колебаний сказал вождь нуэров. — Ни один шах и ни один король никогда не отдаст своей короны без боя. Не понимаю, зачем тебе понадобилась моя бесценная шапочка, если ты все равно не собираешься стать королем нуэров?
— Да, это действительно не входило в мои намерения, — признался Пфотенхауер. — Но ты ведь побежден и должен представить нам какой-нибудь знак твоей покорности. Вот если бы ты остался с нами и стал нашим другом и союзником, это было бы необязательно. Тогда мне не нужны были бы ни твой головной убор, ни прическа, наоборот, я сам бы одарил вас многими весьма полезными дорогими подарками.
Услышав эти слова, негр глубоко, облегченно вздохнул и ответил:
— Господин, ты заставил меня испытать большой страх, но теперь ты снова возвращаешь меня к жизни. Скажи, что я должен сделать, чтобы стать твоим союзником?
— Ты должен выступить вместе с нами против Абуль-моута, который так подло бросил вас на произвол судьбы.
— Господин, я сделаю это охотно, очень охотно, — с горячностью ответил нуэр. — Абуль-моут обязан был сообщить нам, что собирается бежать, но он предал нас и заслуживает самой страшной мести. Даже если ты захочешь быть великодушным и отпустишь нас домой, не отнимая у нас ни кораблей, ни оружия, ни причесок, это не будет для нас такой большой радостью, как возможность остаться с вами и показать этому негодяю, что ему следовало вести себя с нами более порядочно. Убежав от нас, он тем самым разорвал наш союз, и теперь я имею право заключить новый, с вами. Мы поможем вам поймать этого негодяя и наказать его.
— Хорошо! Ты наверняка и сам понимаешь, что сделал правильный выбор, решив перейти на нашу сторону: ведь ты имел возможность убедиться, что мы намного превосходим Абуль-моута в силе. Кроме того, могу тебе обещать, что у нас вам будет гораздо лучше, чем у него. Мы подарим вам не только жизнь, оружие, прически, а тебе также твою шляпу. В придачу к этому вы получите солидную часть добычи, которую мы захватим. Все стада и припасы Абуль-моута скоро попадут в наши руки, а у его солдат, которых возьмем в плен, мы отнимем ружья и отдадим их вам. Тогда вы будете вооружены лучше, чем все племена на реке и в междуречье, и сможете легко подчинять их себе.
— О, господин, это больше, намного больше, чем мы получили бы от Абуль-моута! — возликовал нуэр. — Подумать только, вы дарите нам жизнь вместо смерти и осыпаете милостями вместо того, чтобы наказать! Отныне мы — ваши друзья до гроба, и вы смело можете на нас положиться в минуту самой страшной опасности!
— Мне очень хотелось бы тебе верить, и я с радостью принимаю твою дружбу. Да, кстати, у нас ведь есть еще одно преимущество перед Абуль-моутом, и ты обрадуешься, когда узнаешь какое. Я уже сказал тебе, что я табиб, а вот этот эфенди, мой друг, является еще более великим и знаменитым табибом, чем я. Мы будем лечить ваших раненых, большая часть которых была бы обречена на смерть, если бы вы остались с Абуль-моутом. Теперь скажи: для того чтобы заключить с нами союз, тебе нужно посоветоваться со своими людьми?
— За кого ты меня принимаешь? — гордо спросил вождь. — Я — король племени нуэров, и мои воины беспрекословно повинуются мне. Конечно, они согласятся с моим решением, но не думай, что они сделают это с неохотой. Они уже распрощались с жизнью и с восторгом примут хорошие вести, которые я принесу им вместо ожидаемого смертного приговора.
— Тогда дай мне руку! С этого момента вы — наши друзья и союзники. А теперь возвращайся назад, на сандал. Мы послушаем, что скажут твои люди, а потом перейдем на ваш корабль, чтобы перевязать раненых.
Негр пожал обоим немцам руки и вернулся в свою лодку, которая помчала его к нетерпеливо ожидавшим решения своей судьбы нуэрам.
— Ну, что скажете? — обратился Серый к Шварцу. — Как по-вашему, я все верно сделал?
— По-моему, все получилось хорошо. Правда, у нас и без нуэров было достаточно сил, чтобы справиться с Отцом и Рабом Смерти, но искусство превращать врагов в друзей еще никогда никому не вредило. Кто знает, может быть, это новое подкрепление и в самом деле окажется нам полезным. Но скажите мне ради всего святого, зачем вам понадобилось так пугать несчастного малого и покушаться на все эти их прически и шляпы?
— Потому что я и вправду не прочь был заполучить себе его чепчик. Я с большой бы охотой притащил его домой в качестве трофея или там этнографического курьеза. Но коли уж он так прикипел душой к своему колпаку, то так и быть, пускай оставляет его себе и любуется на него сколько влезет! Но стоп, что это? Слышите вопли и рев там, снаружи? Я так понимаю, наш чернокожий приятель добрался до своих ребят и поведал им, до чего мы тут договорились. Пойдемте-ка скорей наверх, мне не терпится поглядеть, что у них за лица!
Несмотря на закрытую дверь каюты, последние слова Серого почти потонули в гуле голосов, доносившихся снаружи. Негры кричали так, будто их всех посадили на кол, и непонятно было, от радости или горя они так разошлись. Однако, прислушавшись, можно было разобрать, что нуэры наперебой повторяют только три слова: «О, блаженство, о, счастье, о, радость!» — выкрикивали они так громко и пронзительно, что хотелось немедленно заткнуть уши и убежать на край света.
Немцы вышли на палубу и увидели, что нуэры устроили на своих кораблях безумные пляски, от которых жалобно скрипели доски сандала и нуквера.
— Что и говорить, неплохое наказание я им выдумал! — засмеялся Серый. — Теперь нам нужна целая шайка психиатров, чтобы снова вернуть этим парням здравый рассудок.
Увидев своих новых господ, вождь нуэров подошел к борту сандала и крикнул:
— Посмотрите, как ликуют мои воины! Их переполняет блаженство, они готовы верно служить вам и, не раздумывая, отдадут за вас жизнь. Идите же к нам и облегчите страдания наших раненых, которые ждут вас, превозмогая боль.
Прежде чем последовать этому приглашению, Шварц вызвал к себе капитанов и Хасаб Мурада, который к этому времени уже успел перевезти свою сотню обратно на корабль. Все трое очень обрадовались, когда узнали, что нуэры перешли на их сторону, и обещали отныне обращаться с ними как с союзниками.
Шварц понимал, что не может терять ни минуты, если он хочет попасть в лагерь фельдфебеля раньше Абуль-моута или его посланца. Поэтому он распорядился, чтобы солдаты спустили на воду все имеющиеся в наличии лодки и принялись расширять узкий проход сквозь камышовые заросли. Времени, которого требовала эта работа, обоим немцам как раз должно было хватить на осмотр раненых нуэров. Они пошли в каюту, чтобы взять необходимые инструменты, и возле самой ее двери столкнулись с Сыном Тайны. Шварц остановил юношу за плечо и сказал:
— Мы решили отправиться к заливу Хусан-эль-Бахр. Ты, конечно, знаешь это место?
— Да, эфенди, я его знаю, — кивнул Сын Тайны. — Я несколько раз бывал там вместе с Бен Вафой. Этот залив знаменит тем, что его населяет огромное количество бегемотов.
— Как ты думаешь, когда мы сможем туда добраться, если окажется попутным ветер?
— К завтрашнему утру, если не будем останавливаться на ночь. Мы можем себе это позволить, потому что река впереди совсем свободна от камыша, а ни дождей, ни ураганов в это время года не бывает.
— А пеший человек может поспеть туда к этому же времени?
— Да, если он поторопится. Нил здесь очень петляет, а пешком можно пройти напрямик.
— Вот как? Это мне не нравится: очень возможно, что Абуль-моут тоже отправится к заливу.
— Тогда мы должны впрячь впереди кораблей лодки, так же, как мы сделали прошлой ночью. Нам нетрудно будет с этим справиться, потому что нас достаточно много, чтобы часто сменять друг друга. Кстати, и нуэры нам очень пригодятся: они наверняка лучшие гребцы, чем наши солдаты.
— Ты прав, как всегда; скорее всего, мы так и поступим. А сейчас я хочу попросить тебя пройти вместе с нами на сандал. Нам с Отцом Аиста не хватит рук, чтобы унести все инструменты, а кроме того, ты ловок и сможешь помочь нам перевязывать раненых.
Эти слова случайно услышал словак, который тоже околачивался поблизости. Конечно, он не преминул подойти поближе и вмешаться:
— Эфенди, и я обладаю ловкостью, значительной. Я перевязал уже раненых, многих. Я рассказывал однажды про аиста с ногой, сломанной, которого сам перевязал. Теперь хочу помогать нуэрам, раненым!
— Хорошо, подожди здесь! — коротко распорядился Шварц. Он вместе с Сыном Тайны отправился в каюту за аптечкой, Пфотенхауер же остался стоять снаружи, решив, что настал подходящий момент положить конец недоразумениям между ним и словаком. Однако не так-то это было просто! Малыш с отсутствующим видом смотрел на берег и делал вид, что не замечает присутствия Серого. Поведение этого невоспитанного эфенди возмущало его до глубины души! Мало того, что он совершенно не воспринимал Отца Листьев как ученого, он еще имел наглость «тыкать» ему прямо в лицо! Только двум человекам во всем мире, а именно: Шварцу и достойнейшему господину Вагнеру, была оказана высокая честь называть Отца Одиннадцати Волосинок на «ты». Все остальные, разумеется, если беседа шла не на арабском языке, где вообще не распространено обращение в форме второго лица множественного числа, просто обязаны были, по мнению словака, соблюдать в обращении с ним хотя бы элементарные нормы вежливости. Пфотенхауер же, который понятия не имел об амбициях своего «ученого коллеги», продолжал с ним фамильярничать, легкомысленно следуя примеру Шварца и не подозревая при этом, что каждый раз забивает новый клин в здание еще не родившейся дружбы. Вот и сейчас, так и не дождавшись, Пока Стефан изволит сфокусировать на нем свой взгляд, он простодушно заговорил с ним самым что ни на есть дружеским тоном:
— Так ты, выходит, кой-чего и в перевязке смыслишь? Это нам очень на руку, потому как с твоей помощью мы скорее управимся.
— Я мог перевязать намного лучше, чем другие некоторые, очень из себя ученых воображающие, — сухо отрезал Отец Листьев, по-прежнему не глядя на немца. — Я мог варить и намазывать катаплазма и мазь, целительную и рассасывающую для карбункула.
— Что я слышу! Ты знаешь, что такое катаплазма?
Пфотенхауер сказал это из самых лучших побуждений, но малыш так и взвился.
— Вы считаете это чудом, огромным? — гневно вопросил он. — При обширном богатстве образования, моего, катаплазма и пластырь для меня просто чушь, ерундовейшая! Я изучать уже иметь катаплазма, каталог и катастрофа в том числе!
— Хорошо-хорошо! — примирительно сказал Пфотенхауер. — Могу я спросить у тебя, что такое каталог?
— Каталог есть событие, потрясательное и трагическое, как землетрясение, подземное.
— А катастрофа? — поинтересовался Серый, который поклялся себе не спорить сегодня с малышом, что бы тот ни сказал.
— Катастрофа — это есть книга и опись полей, а также лугов и нив, принадлежащих.
Пфотенхауер ожидал, что словак, как обычно, ограничится тем, что перепутает катастрофу с каталогом. Поэтому, когда тот внезапно ввел новое понятие, застигнутый врасплох Серый не удержался и добродушно поправил:
— Но такая книга уже зовется на катастрофа, а кадастр! Ты все-таки путаник чистой воды! Никак я в толк не возьму, как ты с такими…
— Молчите тихо! — перебил его словак, резко поворачиваясь к нему всем телом и в упор глядя на него бешеными от ярости глазами. — Если вы не понимать меня, то я вас тоже не понял, совсем! Я оставлял вам ученость, вашу, а вы теперь можете оставлять мне знания, мои! Если я однажды и перепутал что-нибудь, нечаянно, то я все же был человеком, вежливым и снисходительным, а вы всегда были человек, грубый и оскорбительный.
— Я? — ошеломленно переспросил Пфотенхауер, испуганно уставившись на метающего громы и молнии малыша. — Да что с тобой такое, приятель? Разве можно так кипятиться из-за одного маленького возражения?
— Я стал рассерженный не только из возражения, противостоящего, а из нарушения правил, заглавных! Поняли?
— Ежели начистоту, то не очень. Что это еще такое, «заглавные правила»?
— Этого вы не знаете и не понимаете? Я всегда говорил вам «вы», множественное, а вы всегда говорите мне «ты», единственное. Но мы еще не делали друг с другом брудершафт, дружеский. Если вы и дальше останетесь при своем единственном «ты», то и я не буду говорить «вы». Я учился, и вы учились, и мы стоим на уровне, одинаковом. Теперь у вас есть выбор. Я говорю «вы», и я говорю «ты», совсем так же, как вы говорите его мне!
Эта тирада произвела на Пфотенхауера, пожалуй, еще более сильное впечатление, чем известный вопрос одного профессора естествознания. Как и в те давние времена, Серый остался стоять с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. Впрочем, словак и не ожидал от него никакого ответа; он отвернулся и зашагал прочь, предоставив противнику в одиночестве осознавать свое полное ничтожество. В это время из каюты вышел нагруженный медикаментами Шварц. Он окинул быстрым взглядом гордо удалявшуюся фигурку малыша, потом пристально взглянул на уныло поникший, как будто его застали за воровством варенья из буфета, нос Пфотенхауера, и, оценив ситуацию, спросил:
— Вы, кажется, снова с ним не поладили?
— Да уж, — махнул рукой Серый. — Этому парню палец в рот не клади! Он отчитал меня как сопляка какого за то, что я обращаюсь к нему на «ты», и грозил тоже начать мне «тыкать», ежели я не буду величать его по всем правилам хорошего тона.
— Он так и сказал? Ну что ж, любезный друг, в конце концов он имеет право требовать от вас уважения к «персоне, своей».
— Благодарю покорно! Не хватало еще, чтоб он стал называть меня попросту Наци или еще лучше Наци-Птица. Это действительно была бы самая настоящая катаплазма!
Глава 15
УСПЕШНОЕ НАПАДЕНИЕ
На следующий день между часами послеполуденной и вечерней молитв, а точнее, около четырех часов пополудни, флотилия из пяти кораблей достигла места, где река так широко разливалась, что образовывала целое озеро, берега которого отстояли довольно далеко друг от друга.
— Вот мы и прибыли! — сказал Сын Тайны, стоявший вместе с обоими немцами на носу дахабии. — Прикажите править к берегу, потому что, если мы пройдем немного дальше, нас могут заметить.
— Разве фельдфебель со своими людьми находится поблизости, на берегу озера? — спросил Шварц.
— Нет. Если мы завернем направо, в озеро, и пройдем его до конца, то перед нами окажется узкий канал, который ведет в залив со стоячей водой. В некоторых местах этот залив очень глубокий, и поэтому он не высыхает даже жарким летом. На более мелких участках растет камыш, а всю поверхность воды покрывают травяные островки, которые движутся только при порывах сильного ветра или когда их корнями вздумает полакомиться гиппопотам. Это и есть залив Хуса-эль-Бахр.
— Значит, нам незачем оставаться здесь, на реке. Мы можем войти в озеро и уже там бросить якоря.
— Я не стал бы этого делать. Фельдфебель расположился на берегу залива, и не исключено, что кто-нибудь из его людей захочет наведаться к озеру. Зачем тебе лишний риск?
— Ты прав. Мы причалим здесь, а потом я хочу как следует расспросить обнаши.
Обнаши, о котором шла речь, был не кто иной, как тот самый капрал, который бежал от фельдфебеля к Абуль-моуту и теперь вместе с нуэрами попал в руки Шварца и его людей. Как и нуэры, он был страшно разгневан на бывшего хозяина за его предательство и с радостью готов был сделать все от него зависящее, чтобы помочь Шварцу как можно скорее настичь и наказать Отца Смерти.
Дахабия и нухверы бросили якоря у самого берега, корабли из Диакина, которые немного отставали, подошли и встали позади них.
Шварц вызвал онбаши к себе в каюту и, когда того привели, спросил:
— Ты бывал когда-нибудь в здешних местах?
— Нет, эфенди, — покачал головой капрал.
— Как, разве ты никогда не видел этого озера?
— Нет.
— Но тебе совершенно точно приходилось бывать в его окрестностях. Ведь в него впадает залив, на берегу которого поджидают Абдулмоута твои недавние сообщники.
— Пока я был с ними, никто из наших не ходил к озеру. Залив давал нам все необходимое: камыш для костров, воду и сколько угодно рыбы.
— Но если я вместе с тобой поплыву по каналу в залив, ты сможешь указать мне то место, где мятежники разбили лагерь?
— Конечно, смогу. Они остановились у самого края залива, там, где он резко впадает в сушу. Это место легко найти даже в темноте.
— На берегу залива есть лес?
— Да, эфенди.
— И деревья подступают вплотную к самой воде?
— Да.
— Этот лес очень густой? Можно ли по нему пройти и нет ли там кустарника, который затрудняет ходьбу?
— Кусты есть только на опушке леса, сам же он тянется узкой полоской и состоит из крупных деревьев, между которыми довольно легко пройти. Если хочешь, я провожу тебя туда!
— Я подумаю над твоим предложением, — холодно ответил Шварц.
— Эфенди, ты что, не доверяешь мне?
— Конечно, нет. А как я могу тебе доверять? Ты ведь сбежал от своих товарищей, бросив их.
— Потому что они сами были предателями!
— Но ты был с ними заодно, и они надеялись на тебя, верили тебе.
— Я пошел с ними против своей воли. Я был единственным онбаши, который оставался в селении. После ареста фельдфебеля я его охранял. Но старик подговорил меня бежать от Абуль-моута и вместе с ним и пятьюдесятью моими солдатами основать на юге новое селение.
— Где именно?
— На землях ниам-ниам.
— Этого еще не хватало! Похоже, вы собираетесь сеять смерть дальше и дальше, по всей стране! И что за безумная идея! Разве могут пятьдесят человек покорить целый народ? Хотя так ведь и получается: жалкая кучка работорговцев держит в страхе весь Судан. Но я перебил тебя, рассказывай дальше.
— Я согласился на уговоры фельдфебеля, потому что он обещал мне, что я буду руководить всеми наравне с ним. Но с первого же дня он стал вести себя как единовластный правитель, и тогда я ушел.
— Значит, причиной твоего ухода было не раскаяние, а обида?
— Теперь это не играет никакой роли, эфенди! Напрасно ты мне не веришь! К Абуль-моуту я больше не вернусь. Сегодня утром я говорил с Хасаб Мурадом. Он обещал взять меня к себе в поселок, где я буду служить ему в прежнем чине онбаши. Теперь ты видишь сам, что мне нет никакого резона тебя обманывать и что я действительно готов во всем тебе помогать.
— Хорошо, я попытаюсь довериться тебе. Ты будешь нашим проводником, когда мы выберемся на сушу.
В то время, как Шварц говорил это, взгляд его случайно упал на реку и различил маленькую точку, которая только что отделилась от противоположного берега. Это вполне могла быть лодка, и Шварц насторожился. Взглянув в подзорную трубу, он понял, что не ошибся: это действительно была лодка, совсем крошечная, и в ней сидел только один человек. Он был чернокожий.
Шварц подумал, что Абуль-моут мог не сразу переправиться через реку, а пройти по левому берегу дальше вверх по течению. В этом случае он наверняка нанял бы в ближайшей негритянской деревне человека и, не открывая своего настоящего имени, послал его предупредить фельдфебеля о возможном нападении врагов. Одним словом, лодку необходимо было перехватить. Шварц приказал двум самым сильным гребцам спустить на воду маленькую шлюпку и сам сел в нее, прихватив свое ружье и револьвер.
Негр достиг середины озера и стал держаться немного выше, чтобы очень быстрое в этом месте течение не относило его вниз. У Шварца уже почти не осталось сомнений в том, что он направляется к заливу. Немец подпустил негра еще ближе и затем велел гребцам оттолкнуться от корабля. Его лодка находилась в более спокойной воде, чем суденышко негра, и поэтому двигалась быстрее. Когда неизвестный увидел приближавшихся к нему людей, он на несколько секунд перестал грести, обдумывая, как ему следует поступить, а потом резко повернул к югу, стараясь проскочить мимо незнакомцев и раньше них выбраться на берег. Его действия могли быть вызваны желанием выполнить данное ему поручение или простым проявлением осторожности, которую должен был соблюдать в этих неспокойных местах всякий одинокий человек, а тем более чернокожий.
Однако расстояние до берега, к которому он так стремился, было в четыре раза больше, чем то, которое отделяло его от лодки немца. Несчастный греб изо всех сил, но тщетно: преследователи неумолимо настигали его.
— Это негр-абака, — негромко сказал один из ниам-ниам. — Я узнаю его по прическе.
— Стой! — крикнул незнакомому гребцу Шварц, но тот словно не слышал оклика. Для острастки немец хотел было стрельнуть в воздух, но побоялся, что выстрел может услышать кто-либо из людей фельдфебеля, находящийся на берегу озера. К тому же ниам-ниам налегли на весла и уже вот-вот должны были догнать беглеца.
Когда между лодками оставалось не более тридцати локтей, Шварц приставил к щеке свое ружье и пригрозил:
— Остановись, иначе я пристрелю тебя!
Негр наконец повиновался и обессиленно поник, еле живой от усталости. Дыхание его было прерывистым, а грудь высоко вздымалась. Шварц подвел свою лодку еще ближе и спросил:
— Кто ты такой?
— Я Хали, — на ломаном арабском языке ответил негр.
— Из какого племени?
— Абака.
— Где ты живешь?
— Там, у воды, — негр показал рукой на правый, восточный, берег озера.
— Один?
— Все абака живут там посреди поля.
— Куда ты сейчас едешь?
— Хали нельзя это говорить.
— Почему?
— Ему запретить.
— Кто?
— Хали тоже нельзя сказать об этом.
— Можешь не говорить, я и сам знаю кто. Тебе запретил белый человек?
— Откуда это знать?
— К вам приходили пять арабов? — спросил Шварц, оставляя без внимания вопрос негра. По его удивленному лицу немец понял, что попал в точку. Он немного помолчал, разглядывая своего собеседника. Это был еще молодой, высокий и полный сил человек. Лицо его было очень приятным, если бы его не обезображивала страшная опухоль размером с мужской кулак.
— Один из этих людей был очень длинным и очень худым, так? — снова заговорил Шварц через некоторое время.
— Откуда мне это знать? — повторил негр.
— Он послал тебя на ту сторону озера, к заливу?
— Зачем спрашивать, если ты уже знать?
— Я знаю только, что ты посланец этого человека, и хочу, чтобы ты рассказал мне, что ты должен передать солдатам на том берегу.
— Нет, нет, это нельзя сказать!
— Почему?
— Тогда Хали будет умереть!
— Понятно. Ну-ка, перейди на нашу лодку!
— Почему перейди? Хали отпустить! — испуганно пролепетал негр.
— Не бойся, мы ничего тебе не сделаем. Я хочу подарить тебе немного еды и табаку, а потом ты снова будешь свободен.
При слове «табак» лицо человека просияло, и он спросил:
— Куда Хали должен идти с вами?
— На наш корабль, который стоит тут неподалеку.
— Корабль? — снова обеспокоился Хали. — Иметь три корабля? Дахабия и два нуквер?
— Нет, — возразил Шварц, отметив про себя предусмотрительность Абуль-моута. — У нас не три, а пять кораблей.
— Это хорошо, очень хорошо! Если бы вы имели только три корабля, то были плохие люди.
— Мы хорошие люди, и ты сам скоро в этом убедишься. Я не только дам тебе табак, но и вылечу тебя. Эта опухоль на твоей щеке, наверное, причиняет тебе сильные боли?
— Очень, очень сильные! У многих из нас есть опухоли.
— Как же вы с ними боретесь?
— Мы их мочим горячей водой.
— Этого недостаточно. От воды червь в опухоли только еще глубже проникает в кожу. Я покажу тебе, как нужно его удалять.
— Тогда Хали хотеть пойти с тобой. Табак получать и червя лечить! Бежать скорее на корабль!
Негр прыгнул в шлюпку Шварца, привязал к ней свой челн, и ниам-ниам стали править к дахабии.
Филария — гвинейский, или мединский, червь — называется в Судане «френдит». Он толщиной со скрипичную струну, а в длину может достигать двух метров. Его личинки попадают в организм человека вместе с питьевой водой, а потом червь начинает путешествовать по всему телу, и в месте его выхода наружу образуются толстые гнойники. Иногда в одном-единственном глотке грязной воды может содержаться несколько личинок этих животных, и горе тому несчастному, которому придется сделать этот глоток! Вскоре его руки, ноги, грудь и спина превратятся в сплошную красную, распухшую массу, покрытую язвами и нарывами. Эти нарывы причиняют больному ужасные страдания и очень часто влекут за собой смерть. Когда гнойники образуются на лице, это особенно опасно, и Шварц видел, что негру необходимо немедленное хирургическое вмешательство, иначе он обречен. Хали охотно поднялся на борт дахабии, и Шварц повел его в свою каюту, чтобы ножом вскрыть ему опухоль. Эту операцию следует производить с величайшей осторожностью, дабы ни в коем случае не разрезать филарию. Для того, чтобы совсем удалить червя, его нужно постепенно накручивать на небольшую щепочку — эта неприятная процедура обычно занимает несколько дней. Шварц поймал голову червя, крепко привязал к щепочке переднюю часть его тела, чтобы он не мог выскользнуть, и объяснил больному, как он должен действовать дальше.
— Это очень хорошо! — одобрительно сказал негр. — Червя не будет, и Хали станет здоровый. Хали и другим сказать, как червя вынимать. Но теперь дать ему и табак.
Ему тотчас выдали желанный табак, и, хотя его было совсем немного, Хали подпрыгнул от радости и восторженно вскричал:
— Ох, ох, ах! Теперь Хали курить и быть гордым, потому что у других нет такой табак. Белый человек хороший есть, не такой злой, как люди на дахабии и двух нуквер!
— А что это за люди такие? — непринужденно поинтересовался Шварц.
— Это ловцы рабов и воры!
— Так сказал длинный, тощий араб? — поддерживал беседу предводитель «воров».
— Да, он.
— Когда этот человек пришел в вашу деревню?
— Немного время раньше вас.
— Он все еще там?
— Нет.
— Куда он пошел со своими пятью товарищами?
— Все время по реке, дальше, на юг.
— А ты знаешь, кто он такой?
— Бедный человек. У него все забрать воры, которые хотят тоже к заливу, где солдаты, и все у них похитить. Поэтому Хали поплыл туда, им это сказать.
— Ты должен сказать и то, что тебя послал высокий человек?
— Нет, это промолчать.
— Но они же спросят тебя, откуда ты знаешь про воров?
— Тогда Хали сказать, он случайно пришел. Он видел три корабля, он слышал, говорили воры на берегу, и они сказать, к заливу идти хотеть.
— А что тот человек дал тебе в награду?
— Ничего. Он сказал, солдаты что-то мне дадут. Может быть, мне дадут водки, тогда Хали очень счастлив быть.
— Ты так любишь ее пить?
— Ох, ох, ах, очень!
При этих словах обезображенное лицо негра засветилось блаженством.
— У меня тоже есть водка, настоящая, хорошая водка. Ты хотел бы ее попробовать?
— Да, очень, очень, очень хотел!
Шварц получил в подарок от мидура Фашоды несколько бутылок крепкой араки. Сейчас он достал одну из этих бутылок, налил доверху большой стакан, отвел негра в укромный уголок, где никто не мог тому помешать, и оставил его наедине с его любимым напитком. По расчетам немца, крепкая виноградная водка должна была быстро подействовать на Хали и погрузить его в глубокий сон.
Когда Шварц отошел от негра, Пфотенхауер, который молча присутствовал при операции и последовавшим за ней разговором, с улыбкой заметил:
— Ну, нынче старик-фельдфебель навряд дождется нашего червивого друга, потому этот посланец, как пить дать, продрыхнет до десятых петухов.
— Этого я и добивался, — ответил Шварц. — Мне не хотелось силой задерживать бедного малого, и я решил помешать ему с помощью его любимой араки.
— Стало быть, Абуль-моут был на той стороне, в деревне абака. Теперь он, ясное дело, захочет перейти реку выше по течению и сразу повернуть в Омбулу. Что ж, мы, может, еще и успеем его обойти!
— Я очень на это надеюсь. Правда, эту ночь нам придется провести возле залива, но я думаю, что и Абуль-моут с наступлением темноты сделает привал.
— Жалко, что мы теперь должны топать пешим порядком. Очень уж медленно мы движемся.
— Но мы будем идти все же быстрее, чем Абуль-моут. Он добрался до озера практически одновременно с нами, значит, он шел всю прошлую ночь напролет. Сейчас он, должно быть, очень утомлен, поэтому я и предполагаю, что сегодня он будет отдыхать до самого утра. Мы же пока свежи и бодры и прекрасно сможем шагать вперед, а часть из нас поскачет на лошадях, которых мы отберем у фельдфебеля.
— Когда, кстати, мы нападем на него?
— Когда совсем стемнеет. Мы должны подобраться к нему незаметно.
— Мы пойдем, конечно, пешком?
— Только половину пути. Вначале на лодках переплывем озеро и доберемся до входа в залив, который покажет нам Сын Тайны. Там мы высадимся на берег, и онбаши проведет нас по берегу залива прямо в лагерь фельдфебеля. Но вы посмотрите только на нашего чернокожего друга.
Взглянув туда, куда указывал его друг, Серый увидел лежавшего на полу негра с разбросанными в разные стороны руками, закрытыми глазами и просветленным лицом. Шварц велел Хали пить араку осторожными, маленькими глотками, но тот не послушался и осушил стакан залпом; поэтому опьянение наступило гораздо раньше, чем предполагали оба немца.
— Ловко вы его обезвредили, — рассмеялся Серый, — теперь он тут проваляется до завтрашнего утра!
Пока Шварц и Пфотенхауер возились с неграми, а остальные были заняты подготовкой в предстоящему наступлению, день прошел, и на реку спустились сумерки. Все лодки были спущены на воду, и отобранные для участия в схватке с фельдфебелем люди выстроились на палубах кораблей.
Первая половина суданской ночи обычно бывает очень темной, и поэтому все набеги, как правило, совершаются после полуночи, когда на небо высыпают яркие звезды. Шварц же, желая захватить фельдфебеля врасплох, выбрал для выполнения своего плана последние вечерние часы. Итак, солдаты сели в лодки, и несколько десятков весел бесшумно опустились в воду.
Сын Тайны, который знал озеро, как свои пять пальцев, правил передней лодкой. Остальные старались держаться вплотную друг за другом, чтобы не потеряться в темноте. Вскоре озеро кончилось, и впереди замаячили неясные очертания берегов.
Причалить оказалось не так-то легко, так как по краям озеро сплошь заросло высоким камышом, который с громким треском ломался, когда люди пытались провести сквозь него свои лодки. Прошло довольно много времени, прежде чем весь отряд высадился на сушу.
Шварц и Пфотенхауер все время держались рядом и ни на шаг не отпускали от себя онбаши. Они понимали, что показываться на глаза фельдфебелю тот не захочет, но он вполне мог вынашивать тайный замысел — при первом же удобном случае убежать к Абуль-моуту в Омбулу. Поэтому оба немца были начеку и бдительно следили за каждым движением капрала. Впоследствии их недоверие рассеялось, так как онбаши не делал никаких попыток к бегству и все его поведение подтверждало, что на него вполне можно положиться.
Оставив озеро позади, люди зашагали вперед по правому берегу залива. Онбаши вел их по опушке леса, через кустарник: он был не слишком густым, и кроме того, здесь было светлее, так как верхушки деревьев не закрывали неба.
Место, где кончался залив, было ярко освещено. Два огромных костра горели возле самой воды, а за ними начиналась бесконечная темная равнина, вдоль которой виднелась полукруглая цепь огней.
— Это и есть лагерь фельдфебеля? — спросил Шварц онбаши.
— Да, господин, — отвечал тот, — если мы подойдем ближе, то увидим его людей.
— С этим мы пока подождем. Что это за маленькие огни там, вдалеке?
— Это сторожевые костры. По ночам несколько часовых стерегут лошадей, чтобы те не разбежались.
— Я насчитал десять костров. Правильно?
— Да.
— Ты знаешь, когда часовые меняются?
— Только один раз, в полночь.
— Устроено не очень-то умно, но нам это только на руку. Значит, смена постов нам не помешает.
— В чем не помешает, эфенди?
— В том, чтобы нейтрализовать этих десятерых, прежде чем мы начнем нападение на фельдфебеля.
— А не лучше ли сперва схватить чауша и тех, кто с ним?
— Это было бы глупо: сторожа наверняка услышали бы шум и убежали.
— Но с ними нам тоже не удастся справиться без шума!
— Об этом не беспокойся! У меня есть один план, и я надеюсь, что могу рассчитывать на твою помощь.
— Конечно, эфенди! Я вижу, что ты все еще мне не доверяешь, но я сумею доказать тебе, как сильно ты ошибаешься. Какое поручение ты хочешь мне дать?
— Ты знаешь всех этих людей?
— Еще бы! Они ведь недавно были моими подчиненными!
— И ты помнишь их имена?
— Все до единого.
— Очень хорошо. Сейчас у меня при себе есть сотня человек. Я отберу двадцать из них, по двое на каждого часового.
Шварц подозвал к себе двадцать солдат, которые показались ему наиболее подходящими для выполнения предстоящего задания, и стал вполголоса их инструктировать:
— Сейчас мы с обнаши пойдем вперед, а вы двинетесь за нами, захватив с собой веревки и шнуры, чтобы связать десять человек. Когда мы приблизимся к первому часовому, вы ляжете на землю, чтобы он вас не заметил, а онбаши подойдет к нему поближе и окликнет его по имени. Когда этот человек увидит перед собой унтер-офицера, которого все здесь считают погибшим, он, должно быть, чрезвычайно удивится и забудет об осторожности. Пока онбаши будет отвлекать его разговором, я подкрадусь к нему сзади и так крепко схвачу его за горло, что он не сможет издать ни единого звука. Тогда один из вас должен быстро подняться с земли, подойти к нам и крепко-накрепко связать парня. Вот и все, что от вас требуется.
— Но что я ему скажу? — растерянно спросил капрал.
— Все, что тебе в голову взбредет. Долго говорить тебе вообще не придется, так что попасть в затруднительное положение ты, скорее всего, не успеешь. Я постараюсь сделать так, чтобы первая же фраза застряла у него в глотке, а ты, если тебе это будет приятно, можешь вообразить себе, что он лишился дара речи, пораженный твоим неожиданным появлением. Главная твоя задача — увести его как можно дальше от костра и встать таким образом, чтобы он вынужден был повернуться ко мне спиной. Понял?
— Да, эфенди. Обещаю тебе, что я так хорошо справлюсь со своим поручением, что ты останешься мной доволен.
— Это в твоих интересах, потому что, если ты допустишь хоть малейшую ошибку, я попросту пристрелю тебя из этого вот револьвера, который, как ты, наверное, заметил, я постоянно ношу при себе.
— Он тебе не понадобится, вот увидишь! Но что мы будем делать дальше?
— Двое из вас будут оставаться около каждого связанного часового. Один сядет на его место около костра, другой отползет со своим пленником в сторону и будет стеречь его, чтобы он не ушел. После того, как я расправлюсь с фельдфебелем, вы приведете часовых к нам в лагерь.
— А как же мы узнаем, что фельдфебель и его люди схвачены? — спросил один из солдат. — Отсюда не видно, что делается там, у воды.
— Я пошлю человека, который сообщит вам об этом. И еще одно. Возможно, не все ловцы рабов сейчас находятся в лагере. Поэтому, если кто-то захочет пройти мимо вашего костра, вы должны повалить его на землю и связать, причем сделать это надо совершенно бесшумно. Тех же, кто попытается пройти к заливу уже после того, как лагерь будет в наших руках, вы можете беспрепятственно пропускать. У вас есть какие-нибудь вопросы?
— Нет, — ответили солдаты.
Тогда Шварц повернулся к тем восьмидесяти солдатам, которые не должны были принимать участия в нападении на часовых, и сказал:
— Вы пока останетесь здесь. Если наш план не удастся, я громко свистну. По этому сигналу вы должны немедленно бежать в лагерь и нападать на фельдфебеля и его людей. Поняли? Ну, теперь мы можем начинать.
В этот момент к немцу подошел Отец Одиннадцати Волосинок и спросил:
— Эфенди, вы можете исполнить просьбу, покорную?
— В чем дело?
— Вы пробираетесь сейчас к посту, вражескому. Это есть нападение, интересное. Я хотел идти тоже с людьми, вашими. Я прошу теперь о позволении, добром и дружеском!
— Хорошо. Ты можешь идти с нами, — разрешил Шварц, не желая обижать венгра. Затем он вместе с Серым двинулся вперед, а онбаши и солдаты последовали за ними. Неподалеку от первого поста оба немца остановились, не подозревая о том, что как раз на этом месте три дня тому назад наткнулись на лагерь фельдфебеля Йозеф Шварц и Охотник на слонов.
Шварц оставил своих людей под присмотром Пфотенхауера, а сам с унтер-офицером и двумя солдатами стал осторожно пробираться к маленькому и совсем неяркому костру. Когда до него оставалось не более пятнадцати шагов, Шварц и солдат легли на землю. Дальше онбаши должен был действовать самостоятельно.
— Ты знаешь, как зовут этого человека? — шепотом спросил Шварц, указывая на неподвижно лежавшего у огня сторожа.
— Да, — так же тихо ответил капрал. — Это Салеф, он был одним из моих лучших друзей.
— Тогда давай! Когда будешь с ним говорить, не забудь повернуться спиной к костру, чтобы я мог незаметно напасть на него сзади.
Обнаши сделал еще пять или шесть шагов и остановился.
— Салеф! — сдавленным голосом окликнул он часового.
Тот насторожился.
— Салеф! — чуть громче повторил унтер-офицер.
Пока что онбаши делал все правильно, и Шварц несколько успокоился, хотя и продолжал держать капрала на мушке, чтобы при попытке измены тотчас же всадить в него пулю.
Часовой повернул голову направо, к соседнему костру. Этот костер находился более чем в семидесяти шагах от первого, и разглядеть сидевшего возле него человека на таком расстоянии было невозможно.
— Салеф! — в третий раз позвал онбаши. Теперь часовой услышал, откуда идет звук. Он поспешно вскочил, схватил свое ружье и сдавленным шепотом спросил:
— Кто здесь?
— Я, — ответил капрал.
— Кто это «я»?
— Ну я же! Ты что, не узнаешь меня?
При слабом свете костра часовому удалось различить неясные очертания человеческой фигуры. Лицо таинственного посетителя по-прежнему было скрыто темнотой, но в его облике часовому почудилось что-то знакомое.
— Назови свое имя, иначе я буду стрелять! — пригрозил он.
— Что за ерунда! Зачем тебе стрелять в своего лучшего друга?
— Аллах! Что ты говоришь? Если ты мой лучший друг, то подойди ближе!
— Я не могу.
— Почему?
— Я боюсь, что меня увидят: твой костер светит слишком ярко. Лучше ты сам подойди сюда, ко мне!
В другой ситуации часовой, конечно, не стал бы следовать этому приглашению, но теперь ему показалось, что он узнает голос своего невидимого собеседника. Он выронил свое ружье, изумленно всплеснул руками и воскликнул:
— Аллах, защити меня! Разве мертвецы встают? Это действительно ты, онбаши?
— Да, это я.
— А может быть, это только твой призрак?
— Нет, это я собственной персоной. Тебе нечего бояться!
— Но ты же мертв: люди видели, что ты утонул в реке и съеден крокодилами!
— Ничего подобного! Я нарочно упал в реку. А теперь я хочу сказать тебе кое-что, что может оказаться для тебя очень важным и полезным. Но если я подойду к огню, меня может увидеть соседний часовой, а я этого не хочу.
— О, вы, Пророки и святые халифы! — воздев руки к небу, проговорил Салеф. — Значит, бывают еще на свете знамения и чудеса! Подумать только, онбаши жив, он не умер!
— Перестань кричать и иди сюда! Говорю тебе, я не хочу, чтобы нас кто-нибудь услышал.
Часовой медленно и нерешительно отошел от костра. Он был суеверен и очень боялся всевозможных духов и привидений. Он внимательно осмотрел онбаши, ощупал его, потом схватил за руку и развернул к свету, сам встав при этом спиной к Шварцу, и только после этого со вздохом облегчения сказал:
— Хвала Аллаху! Это не призрак, это действительно ты! Но, друг, объясни мне тогда, зачем тебе понадобилось прыгать в воду?
— Это была хитрость. Я хотел уйти отсюда.
— Уйти теперь, когда наша жизнь стала такой радостной и привольной? И это ты называешь хитростью? По-моему, ты просто…
Договорить он не успел, так как именно в этот момент железные пальцы Шварца сомкнулись у него на шее, так что у бедняги на миг перехватило дыхание.
— Связать его! — шепотом приказал немец солдату, оттаскивая ошеломленного часового еще дальше от огня. Они тотчас же повиновались, и через несколько минут крепко связанный по рукам и ногам Салеф неподвижно лежал на земле. Только теперь Шварц снял руки с его горла и, приставив к его обнаженной груди острие ножа, пригрозил:
— Произнеси только одно слово, и я проткну тебя насквозь!
— Аллах, помоги мне, — еле слышно прошептал пленник. — Схвачен и связан… Предан моим собственным унтер-офицером!
Что касается последнего, то он предусмотрительно удалился, чтобы не слушать упреков своего бывшего товарища.
— Успокойся! — перебил часового Шварц. — Я не собираюсь причинять тебе зла. Если ты будешь вести себя тихо, то останешься цел и невредим, но если ты подашь свой голос и его можно будет услышать в двух шагах от этого костра, мои люди мгновенно вонзят тебе нож прямо в сердце. Запомни это хорошенько.
— Но кто вы такие и что вам здесь надо?
— Это тебя не касается. Итак, будешь ты молчать или я должен вставить тебе в рот кляп?
— Нет, нет, не надо кляпа, я ведь могу задохнуться! Я буду молчать, не скажу ни слова, ни единого звука не издам!
— Ну что ж, это похвальное намерение, и я советую тебе не отступать от него, потому что твоя жизнь висит сейчас на тонком волоске.
Тем временем один из солдат улегся возле костра в той же позе, в какой недавно лежал часовой, а другой с ножом в руке присел на корточки возле поверженного пленника. Перед тем, как уходить, Шварц сказал ему:
— Когда мой человек принесет тебе известие, что лагерь взят, ты снимешь с ног этого парня веревки и приведешь его ко мне. Руки его пусть останутся связанными, чтобы он не мог убежать. Но если ты все-таки его упустишь, то поплатишься за это собственной жизнью. Поэтому будь начеку!
Пфотенхауер вместе с остальными восемнадцатью солдатами подошел к Шварцу и восхищенно прошептал:
— Здорово это у вас вышло, ничего не скажешь! Если и с прочими мы так же быстро сладим, то уж можем быть собой по уши довольны!
— А вы думать, что это может не удастся нам, храбрейшим? — пренебрежительно спросил Отец Одиннадцати Волосинок. — Господин Шварц, доктор, уже не раз доказывал, что он может подкрасться ко всем врагам с безопасностью, элегантной и комфортабельной!
— Комфортабельная безопасность! Сильно сказано! — пробормотал Серый.
— Перестаньте! — оборвал его Шварц. — Нашли время браниться!
— Вот уж и не думал! — возразил Пфотенхауер и умолк.
— Ну, как я справился со своим заданием, эфенди? — спросил подошедший онбаши, которому не терпелось услышать похвалу.
— Очень хорошо! Если ты и дальше поведешь себя с таким же умом и осторожностью, то получишь от меня щедрое вознаграждение.
— Я заслужу его, поверь мне! Но посмотри, эфенди, мы подошли совсем близко ко второму костру!
— Ты знаешь имя того человека, который там сидит?
— Я ведь говорил тебе, что знаю всех по именам. Этот часовой будет удивлен еще больше, чем первый, потому что он стоял на берегу, когда я упал в воду.
— Тем легче тебе будет отвлечь его внимание. Итак, вперед!
Второй сторож тоже был быстро обезврежен, а с ним и остальные восемь. Онбаши блестяще выполнил свою роль, его «воскрешение из мертвых» неизменно производило на ловцов рабов ошеломляющее впечатление.
Когда последний пост оказался занятым солдатами Шварца, оба немца, онбаши и Отец Одиннадцати Волосинок двинулись назад, к тому месту, где ожидали их остальные солдаты. Возле сторожевых костров все было тихо, люди у залива тоже не подавали никаких признаков беспокойства.
Вернувшись к своим, Шварц сказал Пфотенхауеру:
— Теперь вы останетесь здесь за главного, а я проберусь в лагерь и посмотрю, что там делается.
— А это обязательно? — с сомнением в голосе спросил Серый.
— Да. Мне надо знать, как лучше расставить людей.
— Я, пожалуй, на вашем месте по-другому бы сделал.
— А как же?
— Я уж не стал бы с этими ребятами особо церемониться и так, всем скопом, на них бы и налетел.
— Отчасти вы правы. Нападение было бы для них столь неожиданным, что они вряд ли смогли бы оказать мало-мальски достойное сопротивление. Но, несмотря на победу, мы могли бы оказаться в проигрыше.
— Как так?
— Если мне удастся подойти к ним достаточно близко, я, может быть, услышу какие-нибудь сведения, которые могут оказаться нам полезными. Вообще, я придерживаюсь того мнения, что разведка никогда не помешает.
— Но это же опасно!
— Нисколько! Я могу подкрасться даже к самому осторожному человеку так тихо, что он ни на секунду не заподозрит неладное!
— Тогда, по крайней мере, возьмите с собой и меня, чтоб я в случае опасности мог оказаться полезным.
— Ваше присутствие, честное слово, не принесет мне пользы, а может только навредить. Если со мной действительно что-нибудь случится, хотя я убежден, что никакой опасности мне не грозит, я подниму стрельбу. Услышав выстрелы, вы тотчас же со всеми солдатами поспешите мне на помощь. До тех же пор, пока я не дам этого знака, я нахожусь в совершенной безопасности. Вы не должны беспокоиться обо мне, даже если мое отсутствие окажется долгим.
Шварц махнул рукой и растаял во мраке. Серый посмотрел ему вслед и сердито откашлялся. Опасное предприятие, которое затеял его друг, пришлось Отцу Аиста совсем не по душе.
— Будьте наготове! — недовольным тоном приказал он солдатам. — Слышали, что сказал эфенди? Как только он выстрелит, мы тотчас поскачем в лагерь, а тот, кто не захочет пойти туда добровольно, будет застрелен или изрублен на мелкие кусочки! Боюсь, что нам не придется долго ждать сигнала этого сумасшедшего. Что за безрассудство — одному бросаться навстречу опасности, которой ничего не стоит избежать!
Такого чудовищно дерзкого выпада против его возлюбленного господина доблестный Отец Одиннадцати Волосинок, разумеется, стерпеть не мог. Он должен был немедленно вступиться за поруганную честь Шварца и в то же время не хотел спорить с Пфотенхауером при солдатах. Поэтому он дипломатично сказал на немецком языке, которого солдаты не понимали:
— Что сделал доктор Шварц, очень хорошо и правильно быть!
— Так, — проворчал Пфотенхауер, — этот джелаби, оказывается, и в военном деле толк знает!
— Я очень хорошо толк знаю! — запальчиво продолжал словак. — Я был очень долгое время всегда с эфенди, доктором, и узнал персону, его, распрекрасно. Что он делает — это всегда правильно.
Серый с кротким видом выслушал этого выговор: он во что бы то ни стало решил не поддаваться ни на какие провокации и не вступать в перебранки с неугомонным человечком. Не встретив возражений, Отец Листьев обернулся к солдатам и принялся рассказывать им о том, каким образом были захвачены сторожевые посты. Только что он собирался перейти к краткому описанию своих героических действий, которые, как обычно, определили успех всей операции, как вдруг беспардонный Отец Смеха заявил, прервав своего товарища на полуслове:
— То, что ты хочешь нам рассказать, мы и без тебя уже знаем!
— Что? Откуда тебе это знать? Может быть, ты там был?
— Нет. Но эфенди еще перед тем, как отправиться, сказал нам, как будет происходить налет. Я уверен, что все вышло в точности, как он предполагал, так что незачем тебе снова повторять нам это.
— Но знаешь ли ты, как вел себя при этом я?
— Да.
— Ну, и как же?
— Ты совсем ничего не делал, а только смотрел. Или ты опять хочешь начать описывать подвиги, которых вовсе не совершал?
— Молчи! Ты сам сказал, что тебя там не было, и, значит, ты не можешь знать, как я отличился в этом кровопролитном бою! Ты-то, конечно, ничего не совершил и ни на что не решился, а только все проспал, потому что ты никчемный человек! Не зря эфенди взял с собой меня, а не тебя!
— Он меня не взял, потому что я не просил его об этом. И тебя он тоже не хотел брать, но ты так его умолял взять с собой, чуть в ногах не валялся. Поэтому он и разрешил тебе пойти с ним, а вовсе не потому, что ты был там так незаменим.
— Что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я ни на что не гожусь.
— Нет, так я не думаю, потому что каждый человек, даже самый безмозглый, на что-нибудь да годен.
— Ого! — гневно выкрикнул словак. — Так вот как ты ко мне относишься? Ты называешь меня безмозглым? Знай же, что я изучал все науки и знаю их досконально. А что учил ты? Ничего, совсем ничего!
— Оставь меня в покое со своими науками! — вспылил и Хаджи Али. — Мы все здесь прекрасно знаем цену твоей хваленой учености. Я намного умнее тебя, потому что я знаю названия всех народов и деревень, всех стран и имена всех жителей земного шара.
— Этого ты мне не докажешь!
— Я это уже доказал!
— Когда же?
— В Магунде, где ты позорно не смог ответить на все мои вопросы!
— Точно так же, как и ты на мои, ты, десятикратный Отец Смеха и Смехотворности!
— Перестань ругаться! Твое имя звучит не лучше моего! Ты всегда был и останешься Отцом Одиннадцати Волосинок, жалких маленьких щетинок — пяти слева и шести справа. А теперь посмотри, какими усами наградил Аллах меня! Каждый, кто видит меня, преисполняется уважением к этому украшению настоящего мужчины!
— Не выставляй себя на посмешище! Ты и носишь-то свои усы всего несколько недель! Неизвестно еще, что из них вырастет. А что касается моего имени, то мне нечего его стыдиться. Меня издавна прозвали Абульбуз, Отец Морды, потому что в честном бою с Убийцей Стад я завоевал себе переднюю часть его шкуры. А ты должен быть доволен той жалкой долей, которая досталась тебе, ты, несчастный Отец Хвоста!
— Вовсе не твои заслуги, а жребий решил между нами, кому достанется передняя или задняя часть львиной шкуры. Но что ты скажешь о твоем собственном имени, которым называют тебя на родине! Я запомнил его: всего два коротеньких словечка! Тот, кто носит такое куцее имя, не может быть известным человеком, а тем более ученым. А послушай только мое! Я — Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Хаджи Отайба Абуласкар бен Хаджи Марван Омар аль-Сандези Хафиз Якуб Абдулла аль-Санджаки!
— Остановись во имя Аллаха! — закричал словак, обеими руками зажимая уши. — Это бесконечное имя тянется у тебя изо рта так же, как тянулся сегодня червь из опухоли абака-негра!
— Да замолчишь ты когда-нибудь? — не вытерпел Серый. — Ты вопишь так, что я удивляюсь, как до сих пор тебя не услышали во вражеском лагере. Может быть, ты хочешь, чтобы эфенди по твоей милости попал в беду?
Эти слова остудили пыл Отца Листьев. Он притих на несколько минут, а потом подошел к Отцу Смеха и вполголоса спросил его:
— Хаджи Али, ты сердишься на меня?
— Да, — отвечал тот, — но ведь и ты тоже?
— Ужасно!
— Кто же в этом виноват?
— Я.
— Нет, я!
— Выходит, мы оба виноваты?
— Да. А значит, и правы тоже мы оба. Ты меня прощаешь?
— Конечно! А ты меня?
— От всего сердца! Давай руку! Больше мы не будем ссориться.
— Не будем, по крайней мере, сегодня. Это я тебе обещаю.
Пока Хаджи Али и Отец Листьев так мило коротали время в ожидании Шварца, последний достиг берега залива. Для наблюдения за лагерем он выбрал место, где прибрежный кустарник сильно вдавался в лес. Толстые стволы деревьев и сами по себе надежно прикрывали немца, кусты же позволили ему вплотную подобраться к ловцам рабов без всякого риска быть обнаруженным.
Солдаты сидели между двумя кострами, пламя которых должно было защитить их от роившихся над водой жигалок. Над одним из костров висел большой глиняный сосуд, в котором варилась пойманная днем в заливе рыба, на другом пекли лепешки несколько рабынь, уведенных из селения.
Все без исключения мятежники сжимали в зубах свои трубки: запас краденого табака был столь огромен, что теперь они могли курить с утра до вечера.
Тюки с награбленным добром лежали в стороне от костров, под деревьями; много их было или мало, Шварц видеть не мог. Он подбирался все ближе и ближе и наконец достиг двух кустов, которые росли в каких-нибудь пяти шагах от первого костра. Немец медленно и осторожно вполз в узкое пространство между этими кустами и, согнувшись в три погибели, притаился там.
С этого места Шварц мог отчетливо разглядеть сидевшие у огня фигуры. Подсчитав их, он выяснил, что отряд фельдфебеля находится в лагере в полном составе. Сам чауш — с первого же взгляда на этого человека Шварц догадался, кто он такой, — сидел совсем близко от кустов и что-то негромко говорил своим людям. Прислушавшись, Шварц уловил слова:
— Мне жаль, что он утонул, хотя его, собственно, не за что жалеть. Видно, его смерть была угодна Аллаху. Этот онбаши был нам недостаточно предан. Он, правда, ненавидел Абдулмоута, но был близок к Абуль-моуту. Я никогда не мог на него полностью положиться и, честно говоря, подозревал, что рано или поздно он захочет предать нас и сбежит.
— Ну, на это он бы ни за что не решился! — возразил один из солдат.
— Почему?
— Потому что Абуль-моут пристрелил бы его на месте как изменника.
— Не думаю. Скорее всего, он бы его помиловал. Этот онбаши наверняка представил бы себя невинной жертвой нашего заговора. И горе тогда нам! Если бы мы попались Абуль-моуту в руки, он заставил бы нас испытать такие мучения, каких не ведают даже грешники в аду.
— Это уж точно! Именно поэтому не стоило бы нам здесь задерживаться!
— О, уверяю тебя, здесь мы в полной безопасности!
— Я в этом очень сомневаюсь. Когда Отец Смерти вернется в селение и увидит вместо него кучу золы, он наверняка сразу пойдет в деревню к джурам, и они обо всем ему расскажут. Тогда он вместе с нуэрами, которых он собирался завербовать, кинется по нашим следам и в два счета расправится с нами.
— Все это верно, но Абуль-моут вернется еще не скоро.
— Ты так думаешь?
— Я это знаю совершенно точно.
— Но ходили слухи, что он может нагрянуть с минуты на минуту.
— Я и сам говорил это, чтобы заставить вас поторопиться, но на самом деле я уверен, что он вернется в поселок еще через много дней.
— Он так тебе сказал?
— Нет, но у меня есть другие доказательства моей правоты. Скажи, знает ли Отец Смерти о походе, который в его отсутствие предпринял Абдулмоут?
— Нет, он ничего не подозревает об этом. Абдулмоут затеял поход самовольно и говорил, что всю ответственность берет на себя.
— Так. А знает ли Абдулмоут, когда возвращается его и наш господин?
— Конечно, Абуль-моут всегда посвящает его в свои планы.
— И ты думаешь, он мог отправиться к Омбулу как раз в то время, когда должен вернуться его хозяин?
— Нет, это невозможно.
— Вот именно! — торжествующе заключил старик. — А это значит, что пока Раб Смерти не вернется из Омбулы, нам нечего опасаться прибытия Отца Смерти. Поэтому мы можем спокойно оставаться у этого залива и с распростертыми объятиями поджидать Абдулмоута.
— Ты что-то чересчур уверен в успехе. Неизвестно еще, захотят ли остальные ловцы рабов перейти на нашу сторону.
— Они должны захотеть! Я хорошо знаю своих людей.
— Будем надеяться! Вообще-то я тоже думаю, что никто из них не питает особой любви к Абдулмоуту. Но даже если наш план удастся, основные трудности будут ждать нас впереди. Ведь люди из отряда Раба Смерти приведут с собой огромное количество рабов и животных, и это еще не считая тех стад, что мы пригнали с собой из дома. Переходы с этим гигантским караваном отнимут у нас очень много сил и времени и чрезвычайно затруднят наш путь на юг. Мы будем двигаться страшно медленно, и Абуль-моут со своими нуэрами легко настигнет нас.
— Все это я уже давно обдумал и тщательно взвесил. Если весь отряд перейдет на нашу сторону, то Абуль-моут со всеми его нуэрами уже не будет нам страшен. Сколько человек он может привести с собой? Двести, самое больше триста. Нас же к тому времени будет намного больше пятисот, так что мы сумеем встретить его как следует. Что же касается животных, то с ними нам возиться не придется.
— Как так? Ты хочешь сказать, что мы не возьмем их с собой?
— Да, именно это я и хочу сказать.
— Что же мы с ними сделаем?
— Продадим.
— Это очень непросто!
— Ты ошибаешься. Ничего сложного в этом нет для того, кто умеет как следует взяться за дело. Мы обменяем их на слоновую кость.
— Аллах! Как эта мысль пришла тебе в голову?
— Разве она тебе не нравится?
— Она превосходна, но как ты собираешься ее осуществить? У нас совсем нет времени, мы ведь не собираемся просидеть здесь всю оставшуюся жизнь!
Фельдфебель сунул в рот свою трубку, глубоко затянулся, потом выпустил дым, погладил свою бороду и, снисходительно улыбаясь, сказал:
— Сейчас вы все снова убедитесь, какого мудрого предводителя послал вам Аллах. Если вы помните, вчера я отлучился из лагеря и вернулся только сегодня под вечер. Как вы думаете, где я был?
— Но ты же нам все объяснил, — удивленно проговорил солдат.
— Нет.
— Разве ты не ездил в Омбулу, чтобы разведать, как там обстоят дела?
— Даже и не думал.
— Но ты же совсем недавно рассказывал нам, как ты дошел почти до Омбулы и что ты там видел!
— Я нарочно разыграл вас, чтобы посмотреть, как вы поразитесь завтра утром, когда увидите, что за сюрприз я вам приготовил. Скажи, ты случайно не знаешь, кто является в этих местах самыми известными торговцами слоновой костью?
— Конечно же, негры-доры.
— А как далеко отсюда до их селений?
— На лошади — почти целый день пути.
— Ну, так я был у них.
— Что ты говоришь?! Ты узнавал у них насчет слоновой кости?
— Да.
— Это хорошо, это очень хорошо!
Среди солдат, которые внимательно прислушивались к разговору, прокатился одобрительный ропот. Их всех очень обрадовала возможность освободиться от животных и получить взамен дорогую слоновую кость, которую впоследствии можно было продать с большой выгодой.
— Я видел их ямы, — продолжал фельдфебель, — огромные ямы в земле, доверху наполненные слоновой костью. Доры годами собирают эту кость и хранят ее в ямах до тех пор, пока им не представится возможность обменять свои сокровища на коров. Опасаясь воров, они держат в тайне местонахождение своих тайников, но, когда я сказал им, зачем пришел, они открыли несколько ям и показали мне их содержимое. Говорю вам, я так и застыл на месте с открытым от изумления ртом. А цена, которую они потребовали за свой товар, была просто смехотворной. С этой костью мы можем провернуть такое прибыльное дело, какое самому Абуль-моуту не снилось!
— Так ты, выходит, уже с ними сторговался?
— Я сказал им, сколько животных мы можем им дать. Они хотят прийти сюда завтра и заключить сделку. Кость они принесут с собой.
— Значит, завтра. В какое время?
— Я попросил их поторопиться. Они обещали выйти из своей деревни еще сегодня и идти всю ночь напролет, чтобы на рассвете быть уже здесь.
— Это…
Договорить солдат не успел, так как в этот момент со стороны равнины явственно послышался приближавшийся стук лошадиных копыт. Потом возле крайнего, самого южного, сторожевого костра раздались громкие голоса, прозвучал крик, похожий на возглас изумления, и неизвестный всадник въехал в лагерь.
Люди повскакали со своих мест и стали напряженно вглядываться в темноту, стараясь угадать, что за непрошеный гость к ним явился. Судя по всему, он приехал с юга, оттуда, где лежала Омбула. Может быть, это был посланец Абдулмоута?
Так и оказалось. Когда всадник вступил в круг света и фельдфебель увидел его лицо, он воскликнул с явным облегчением в голосе:
— Ах, это ты, Бабар! Я рад тебя видеть. Слезай с лошади и иди к нам, погрейся у костра!
Вновь прибывший соскочил с седла, подошел ближе и, изумленно глядя на своих товарищей, вскричал:
— Клянусь Аллахом, я не могу поверить своим глазам! Может быть, я стал хуже видеть? Почему вы здесь, а не в селении, которое вы должны были охранять? И что делает среди вас фельдфебель? Ты же был арестован! — сказал он, обращаясь к старику.
— Как видишь, я уже свободен, — отвечал тот.
— Но кто же освободил тебя? Абуль-моут? Он что, уже вернулся?
— Об этом я скажу позже. Сначала ответь мне, куда ты дел свое ружье?
— Оно там, висит на седле, — машинально ответил Бабар, все еще не понимая, что происходит.
— А где твой нож?
— Вот он, висит на ремне.
— Ну-ка покажи!
Недолго думая, фельдфебель выхватил у него из-за пояса нож и поинтересовался:
— А еще у тебя есть при себе оружие?
— Нет. Но почему ты спрашиваешь и зачем тебе понадобился мой нож?
Джауш подошел к лошади Бабара, снял с седла ружье, передал его вместе с ножом одному из своих людей, который молча отнес и то и другое к тюкам с поклажей, а потом добродушным тоном ответил:
— Видишь ли, Бабар, ты один из лучших и самых храбрых людей в нашем селении, и я искренне желаю тебе всяческого добра и счастья. Но сейчас я с огорчением должен тебе сообщить, что ты одной ногой стоишь на краю могилы.
— Как это понимать? — ошеломленно переспросил Бабар.
— Ты прекрасно слышал мои слова и можешь мне поверить, дело обстоит именно так, как я сказал. Скоро я все тебе объясню, но прежде мне хотелось бы знать, успешно ли прошел поход?
— Очень! Мы взяли более тысячи рабов.
— А теперь вы возвращаетесь назад?
— Нет. Удача вскружила голову Абдулмоуту, и он решил напасть еще на одну деревню, где он надеется захватить такую же богатую добычу.
— Значит, он уже покинул Омбулу?
— Да. Это место стало для нас опасным. Беланда из соседних деревень могут собраться вместе и попытаться отбить у нас своих соплеменников, а в окрестностях Омбулы теперь трудно обороняться, потому что там все сожжено дотла. Поэтому Абдулмоут поделил всех на два отряда. С тремя сотнями солдат он двинулся за новыми рабами, а остальные должны были отойти назад и дожидаться Абдулмоута в месте, где беланда будет гораздо труднее их атаковать.
— Что же это за место?
— Оно расположено в половине дня пути отсюда, как раз посередине между этим заливом и Омбулой. Там протекает наполовину пересохшая река, а позади нее находится еще один залив. Между двумя водоемами растет небольшой лес, в котором мы и разбили наш лагерь. По дороге в Омбулу мы тоже останавливались в этом лесу и поймали там двух белых, которые собирались предупредить беланда о нашем приходе.
— А сейчас ты куда направляешься?
— В селение, к Абуль-моуту.
— О, Аллах! Разве он уже вернулся?
— Послушай, но ведь ты должен знать это лучше меня! Абдулмоут думает, что он прибудет домой в один из ближайших дней. Мне поручено передать ему, чтобы он как можно быстрее выходил нам навстречу вместе со всеми нуэрами. Они помогут нам доставить в селение рабов и защитят нас в случае нападения беланда.
— Черт возьми, — выругался фельдфебель. — Кто бы мог подумать, что Абуль-моут явится так скоро! Может быть, он уже гонится за нами!
— С какой стати он будет вас преследовать? Как это понимать? Не хочешь ли ты сказать, что вы ушли из селения без его ведома?
— Да, так и было.
— А кто же там остался?
— Никого.
— Как это понимать? Значит, селение никто не охраняет, все токулы стоят брошенные?
— Нет, они не стоят брошенные, и вообще их уже просто нет.
— Ты сошел с ума? Куда же они делись?
— Сгорели.
— Что?..
Слова замерли у Бабара на губах. Фельдфебель с какой-то двусмысленной улыбкой кивнул ему и подтвердил:
— Ты не ослышался. Все селение сожжено дотла.
— Аллах, сохрани мои уши! — вскричал Бабар. — Теперь я не верю и им! Но выражение твоего лица не похоже на выражение лица человека, у которого только что сгорел дом. Ты даже смеешься! А вон там, в стороне, я вижу большие корзины и мешки. Что все это значит?
— Сейчас поймешь. Садись поближе к костру, и я поведаю тебе обо всем, что произошло.
— Да, да, расскажи скорее, а то я не знаю, что и думать. Но как же мое ружье и мой нож? Почему ты забрал их у меня и не отдаешь обратно?
— Ты и это узнаешь. В ваше отсутствие произошли вещи, которые могут круто изменить жизнь каждого из вас. Если ты достаточно умен, то сумеешь воспользоваться обстоятельствами. Запомни: твое счастье всецело в твоих руках.
Он усадил Бабара около себя и начал свой рассказ.
С этого места разговор у костра перестал интересовать Шварца. Он решил, что теперь знает достаточно, и тихо вернулся к ожидавшим его солдатам. Пфотенхауер встретил друга словами:
— Ну, мы уж вас совсем заждались, прогулка-то ваша на добрый час затянулась! Слышали что-нибудь полезное для нас?
— Да, уж более чем достаточно.
— Но я надеюсь, это были добрые вести?
— Совсем наоборот. Мой брат схвачен.
— Тысяча чертей! Это точно?
— Да. В половине дня пути отсюда он вместе с Охотником на слонов попал в руки Абдулмоута.
— И где он сейчас?
— Об этом ловцы рабов не говорили, а я не мог долее мешкать и поспешил сюда. Но скоро мы обязательно узнаем, где мой брат!
— Нам нужно немедленно отправляться к ним на выручку, пока с ними не стряслось ничего ужасного.
— Разумеется, но эту ночь нам все же придется провести здесь. Йозефу и Охотнику на слонов не удалось предупредить беланда. Нападение на их деревню все же произошло. Омбулы больше нет. Абдулмоут захватил более тысячи рабов, но этого ему показалось недостаточно, и теперь он задумал совершить еще один набег — на соседнюю деревню.
— Боже правый, экие страсти вы рассказываете! Но ничего, мы постараемся спутать его расчеты и постараемся так сделать, чтобы он за свои черные делишки жизнью поплатился! А сейчас растолкуйте-ка мне как следует, что говорили эти негодяи там, у костра. Если ваш брат, а мой закадычный дружок Зепп попал в беду, так я должен не хуже вашего знать, как Абдулмоут, дьявол его побери, все это устроил. Не зря говорят, ум хорошо, а два лучше — уж вдвоем-то мы сумеем придумать, как их снова освободить!
Шварц слово в слово пересказал Серому все, что он слышал, после чего Пфотенхауер пришел в необычайное волнение. А когда Шварц закончил, гневно воскликнул:
— Так значит, вот оно как дело-то обстоит! Они отняли у меня моего Зеппа, и одному Богу известно, что с ним теперь будет! Раз уж они знают, что он хотел им дорогу перебежать, то небось не будут с ним как с желанным гостем обращаться. Но они еще не имели дела со мной, Наци-Птицей, а я уже иду, и горе им, если хоть один волос упадет с головы моего друга! Ну, а теперь — быстрее туда, к костру, коли мы не хотим, чтоб этот болван-фельдфебель ускользнул у нас из-под носа!
— Вы правы, — согласился Шварц, — нам следует поторопиться. Фельдфебель, конечно, никуда от нас не денется, но как раз сейчас он может отдать своим людям кое-какие распоряжения, которые могут нам помешать.
— Что еще за распоряжения?
— Ему только что сообщили о возвращении Абуль-моута. Старик сразу испугался, что Отец Смерти уже отправился в погоню за ним, и рано или поздно он наверняка догадается выставить на пути преследователей дополнительные сторожевые посты.
— Ну, это-то нам не очень навредит, потому что с постами мы живо управимся. Но что мы тут с вами стоим и лясы точим? Не могу я больше ждать, мне уж невтерпеж показать этим молодчикам, где раки зимуют.
— Да, пора двигаться, уже время.
— Ну наконец-то! Как будет происходить все нападение?
— Мы должны их окружить, что восьмидесяти человекам сделать совсем несложно. Для этого мы разделимся на два отряда. Я возьму тридцать солдат и отведу их на то самое место, откуда только что наблюдал за мятежниками. Остальные пятьдесят — я оставлю их под вашим началом — пройдут мимо стад и полукругом оцепят лагерь со стороны равнины. Концы этого полукруга должны будут соединиться с крайними точками ведущей вдоль залива прямой линии, которую образуют мои люди. Если все будет сделано в точности так, как я сказал, то ни один человек не сможет прорваться сквозь наше оцепление. Потом мы кинемся на мятежников и прикладами начнем сбивать их на землю. Без крайней необходимости убивать никого не надо, стрелять мы начнем только в том случае, если они первыми поднимут пальбу. Впрочем, я думаю, что сегодня обойдется без этого: слишком неожиданным для них будет наше нападение. Быстрота и внезапность должны стать главными нашими козырями.
— Ружья у них при себе? — деловито спросил Пфотенхауер.
— Нет, они свалены в кучу возле тюков с поклажей, но ножи и пистолеты торчат у всех разбойников за ремнями. Мы должны не дать им опомниться. Что касается меня, то я буду оглушать своих жертв точным ударом приклада и быстро связывать их по рукам и ногам.
— Ну что ж, это самое умное, что можно предпринять. Особенно это подходит для вас. Нас восемьдесят против сорока? Если мы будем их щадить, то кто-нибудь, чего доброго, и сбежать от нас может. Я скажу моим молодцам, чтобы они вели себя тихо, не разговаривали. Чего проще: молча подойти, да и тюкнуть прикладом по башке. Верно я говорю?
— Да. Я не сомневаюсь, что у нас все получится.
— Но как мы дадим друг другу знать, когда будем готовы к нападению?
— Мы должны выбрать условный сигнал.
— Какой?
— Все равно, какой хотите.
— Голос птицы — это будет самый лучший сигнал! Но только подражать ему надо как следует, чтоб ловцы рабов ни о чем не догадались. Вы, возможно, знаете такой вид аиста — абдим?
— Да.
— Ну-ка, как он зовется по-латыни?
— Sphenorhynchus abdimii.
— Точно! А по-арабски?
— Симбил или симбила.
— А местное название? — не унимался Пфотенхауер.
— Шумбриа.
— Очень хорошо! — похвалил Серый, который даже сейчас не мог упустить возможности поговорить на свою любимую тему. — Этот аист, когда надумает отправляться на боковую, издает этакое резкое щелканье, если ему кто-нибудь мешает, то есть сердится. Слышали такие звуки когда-нибудь?
— Да.
— Но подражать ему, наверное, не умеете?
— Отчего же, умею. Это совсем не трудно.
— Вот и славно! Это и будет нашим знаком. Кто первый управится, кликнет по-аистиному, а уж другой, как будет готов, ему ответит. Ну что, идем?
— Да, только дам указания солдатам.
Шварц объяснил солдатам, как им следует действовать, а затем разбил их на две группы. Тем, кто отправился с ним, выпало более трудное задание: надо было подобраться совсем близко к врагам, причем абсолютно бесшумно, чтобы те до последней секунды ничего не заметили. Как ни старались солдаты двигаться осторожно, то и дело кто-нибудь из них наступал на сухую ветку, и по лесу разносился оглушительный, как казалось Шварцу, треск. К счастью, люди у костра были слишком поглощены своим разговором и не обращали внимания на то, что происходит вокруг них.
Шварц показал каждому из солдат его место, что заняло довольно много времени, а сам устроился прямо позади фельдфебеля, которого он наметил своей первой жертвой. Однако главной фигурой был для него сейчас Бабар, разведчик Абдулмоута. Только от этого доверенного человека Абдулмоута немец мог узнать то, что интересовало его больше всего на свете, и поэтому он ни на миг не выпускал Бабара из поля зрения.
Только что Шварц закончил все приготовления к бою, как со стороны равнины послышалось клекотание аиста. Как раз в это время фельдфебель говорил Бабару:
— Ну вот, я все тебе рассказал. Будь же благоразумен и выбирай, с кем ты хочешь остаться: со мной или Абуль-моутом.
— Конечно, с тобой, — не раздумывая, ответил Бабар. — У тебя нас ждет совсем другая жизнь, чем была раньше, я уверен, что большинство людей из отряда, когда обо всем узнают, тоже встанут на твою сторону. Конечно, в этом есть довольно большой риск: ведь если Абуль-моут нас выследит, мы пропали!
— Он нам ничего не успеет сделать. Я не боюсь!
— Подумай, ведь нас всего пятьдесят, а он приведет с собой несколько сотен!
— Скоро нас будет гораздо больше, чем пятьдесят. Обстоятельства складываются иначе, чем мы предполагали, и я должен изменить свой план. Мы не можем оставаться здесь дольше и ждать, пока Абуль-моут разыщет нас и уничтожит. Завтра на рассвете доры принесут сюда слоновую кость. Я постараюсь произвести обмен как можно быстрее, а потом мы выступим в Омбулу. Там я разверну знамя бунта, и все люди из селения перейдут ко мне. Тогда нам не страшен будет Абуль-моут. Пусть он приходит, и моя пуля положит конец его господству.
— И начало — твоему! — вставил Бабар.
Однако его пророчеству не суждено было сбыться: в этот самый момент Шварц в ответ на крик аиста подал Серому такой же ответный сигнал, прыгнул вперед и с такой силой хватил фельдфебеля кулаком по виску, что старик замертво рухнул на землю и остался там лежать, не подавая никаких признаков жизни. Следующий удар немца обрушился на Бабара.
Ловцы рабов продолжали неподвижно сидеть у огня, оцепенев от неожиданности и ужаса. Никто из них не попытался сопротивляться даже тогда, когда со всех сторон на них посыпались люди и, ни слова не говоря, стали сбивать их с ног и крепко опутывать веревками. Только под конец схватки те немногие, кто еще не был повержен на землю, принялись вяло отбиваться, но, разумеется, безуспешно.
Подобного боя испокон веков не видывал Судан, жители которого никакой, даже самой пустяковой, работы не могут выполнить, не подбадривая себя громкими криками. Однако на этот раз тишина ночи нарушалась только глухими ударами прикладов и стуком падающих тел. В точности следуя указаниям Шварца, солдаты не издали ни единого звука за все время схватки, которая, правда, продлилась всего несколько минут. Уже через четверть часа после того, как Шварц ответил на условленный сигнал Серого, вся команда фельдфебеля, связанная, лежала возле костра. Большинство мятежников были без сознания, те, кому удалось защитить голову от удара, молили о пощаде.
Вскоре чауш очнулся от своего обморока. Он застонал и хотел дотронуться до того места, куда поразил его железный кулак Шварца, но с удивлением обнаружил, что не может пошевелить рукой. Открыв глаза, он увидел лежавших рядом с ним сообщников, над которыми, опираясь на свои ружья, стояли солдаты Шварца. Затем взгляд его упал на Шварца и Пфотенхауера, а потом…
— Боже всемогущий! — вскричал он, вздрогнув всем телом. — Господи, спаси меня от козней дьявола и всех его чертей! Разве души мертвецов бродят по земле?
Онбаши — это, конечно же, он так испугал фельдфебеля, — ответил:
— Да, бывает, что и бродят. Они превращаются в духов мести, которые преследуют тех, кто не держит свое слово. Ты уговорил меня изменить моему хозяину, пообещав, что я буду повелевать всеми наравне с тобой. Ты обманул меня и хотел сделать своим подчиненным. Теперь наказание настигло тебя.
Старик молчал, неподвижно уставившись на капрала. Тот продолжал:
— Я нарочно прыгнул в воду и поплыл прочь, чтобы убежать от вас и вернуться к Абуль-моуту. Аллах распорядился иначе: не ему суждено расправиться с вами. Теперь ваша жизнь в руках этих двух эфенди, и я вам не завидую.
— Он жив! Он не умер! — воскликнул фельдфебель, вновь обретая дар речи. — Он не утонул, а… Предатель! Пусть Аллах испепелит его своим священным огнем!.. Но кто эти люди, что осмелились напасть на нас, хотя мы не причиняли им никакого зла? Немедленно развяжите нас!
Последние слова относились уже к Шварцу.
— Терпение! — отвечал тот. — Ты не всегда будешь носить эти путы, если примешь мои условия.
— Я не желаю их носить ни часу, ни минуты, ни одного мгновения! Освободи меня сейчас же, иначе ты погиб! Может быть, ты думаешь, что все мои люди находятся здесь? В таком случае ты ошибаешься: у меня еще много воинов, они остановились там, на равнине.
— Ты имеешь в виду тех десять сторожей, что должны охранять твой лагерь? Они уже почти два часа лежат возле своих костров, точно так же крепко связанные, как и ты. А Бабара пропустил сюда один из моих людей.
— Ты знаешь мое имя? — воскликнул изумленный Бабар.
— Да.
— Откуда?
— Неважно. Я знаю его, и этого достаточно. А теперь слушайте меня внимательно.
Шварц уселся на землю перед фельдфебелем и Бабаром и неторопливо заговорил:
— Вы взбунтовались против Абуль-моута, но схвачены вы не по этой причине. Как раз наоборот: я взял вас в плен, чтобы вы не могли помешать мне уничтожить Абуль-моута и Абдулмоута, моих заклятых врагов. Что будет с вами дальше — зависит только от вас.
— Эфенди, кто ты? — тихо спросил фельдфебель.
— Этого тебе пока незачем знать. Я хочу сообщить тебе, что Абуль-моут вернулся. Он приплыл на двух кораблях вместе с тремя сотнями нуэров. Я напал на него и победил, но ему удалось бежать в Омбулу. Я настигну его и там, и тогда…
— Освободи нас! Мы поможем тебе! — взмолился фельдфебель.
— Я не нуждаюсь в вашей помощи. Вы восстали против своего господина, нарушив данное ему слово, такие люди мне не нужны. Ваше ремесло — преступление, и Абуль-моут — закоренелый грешник. Тем не менее, вы — клятвопреступники по отношению к нему, и я не хочу иметь с вами никаких дел. Вы все заслуживаете смерти, но буду ли я сам судить вас или предоставлю вас на суд вашей совести, решит вот этот человек.
С этими словами Шварц показал на Бабара.
— Я, эфенди? — пораженно спросил тот.
— Да, ты.
— Похоже, что ты прекрасно знаешь меня и всех нас.
— Да, я знаю вас и знаю все ваши отношения, может быть, лучше, чем вы сами.
— Но кто ты? Я ничего не понимаю. Ты для нас загадка!
— Разгадка будет вам дана, но не сейчас и не здесь.
— Я вижу тебя в первый раз в жизни и никогда раньше не слышал о тебе. Я ничего не понимаю, кроме того, что мы все — твои пленники и что при определенных условиях ты согласен нас помиловать.
— Совершенно верно. И, как я уже сказал, ваша дальнейшая судьба будет зависеть только от тебя.
— Что я должен сделать?
— Откровенно ответить на мои вопросы.
— Спрашивай! Я расскажу тебе все, что смогу.
— Сможешь, если захочешь. Итак, отвечай: правда ли, что в половине дня пути отсюда вы взяли в плен двух незнакомых вам белых?
— Да.
— Прежде всего скажи, живы ли они до сих пор?
— Да, пока живы.
— Они не ранены?
— Нет. Они целы и невредимы, но Абдулмоут собирается их убить.
— Когда?
— Сразу, как вернется в селение.
— Слава Богу! Значит, мы не опоздали! Ты знаешь, кто эти люди?
— Один — незнакомый эфенди, гяур, и лицо его, кстати, так похоже на твое, что, мне кажется, вы братья.
— А второй?
— Другой — эмир, араб.
— Тебе известно его имя?
— Абдулмоут назвал его по имени только один раз, когда впервые увидел его возле залива. Кажется, он сказал, «Барак аль-Кади, эмир Кенадема».
Внезапно с губ Сына Тайны, который до сих пор безучастно наблюдал за происходящим, сорвалось громкое восклицание. Мальчик подскочил к Бабару и закричал в сильнейшем волнении:
— Повтори, что ты сказал? Как ты назвал этого человека?
— Эмир Кенадема.
— Ке-на-дем! — медленно, по слогам произнес Сын Тайны, а затем еще несколько раз повторил это слово. Скулы его покрылись ярким румянцем, а дыхание прерывалось, когда он снова бессвязно заговорил: — Кенадем! Кенадем! О, моя голова, о, моя память! Аллах, Аллах! Кенадем, Кенадем! Что за чудесное слово! Я знал его когда-то, но оно было погребено во мне… нет, не погребено, оно просто спало, его только нужно было разбудить! Но я не встретил ни одного человека, который сказал бы мне это слово — Кенадем, так называлась моя родина, так называлось место, где жили мои родители! Кенадем, о, Кенадем! Где это? Кто знает, где он находится?
Юноша окинул присутствующих таким пронзительным, ожидающим взглядом, как будто от ответа на этот вопрос зависела вся его жизнь.
— В Дар-Рунге, — ответил Шварц. — Южнее озера Рахат-Герази.
— Ты знаешь это место, эфенди? Ты бывал там?
— Нет, но название «Кенадем» попадалось мне в книгах и на картах.
— В книгах и на картах! Аллах, о, Аллах! Если бы я мог увидеть такую книгу или такую карту! Я так долго не мог найти мою родину, я был так далеко от нее! Я часто представлял себе пальмы, заслоняющие мое окно, но увидеть их воочию я не мог. Каким счастьем было бы для меня просто подержать в руках книгу или карту и найти там любимое имя! Кенадем, о, Кенадем!
Тогда Шварц полез в карман и достал небольшую тетрадку в красной обложке. Это были несколько карт, переплетенных вместе.
— Я иду с севера, и у меня осталась одна карта Северного Судана, — сказал он. — На ней есть Кенадем.
— Покажи мне скорее карту, эфенди. Где это название? — вскричал юноша, вырывая тетрадку у немца из рук.
— Подожди! Ты сам не найдешь его, давай я тебе покажу!
— О нет! Я, конечно, найду его, легко найду! Я сразу увижу это название среди тысяч других!
— Нет, потому что оно написано на языке, которого ты не знаешь.
Сын Тайны опустился на землю. Шварц развернул карту на коленях и, водя по ней пальцем, стал объяснять:
— Зеленым раскрашена страна Дар-Рунга, вот это маленькое продолговатое пятно — озеро Рахат-Герази. А теперь видишь это крошечное колечко? Это и есть Кенадем. Его название написано латинскими буквами.
— Убери свой палец! — потребовал Сын Тайны. — Я сам хочу дотронуться до Кенадема. Так вот он какой! Там колышутся на ветру олеандровые рощи, которые я так часто видел в своих снах… Там, там! О, Кенадем!.. Эфенди, твоя доброта так велика, ты не откажешь выполнить мою просьбу?
— Какую?
— Подари мне Кенадем!
— Но это не в моей власти, ведь он не принадлежит мне.
— Как? Разве эта карта не твоя собственность?
— Карта? Да, она моя.
— И ты не хочешь дать мне мой Кенадем? Эфенди, я ведь не прошу у тебя всю карту, я умоляю тебя только об одном: разреши мне вырезать ножом маленький кусочек, на котором нарисована моя родина!
Юноша находился в состоянии крайнего возбуждения. Он то и дело подносил карту к своим губам и целовал маленький зеленый островок, на котором сосредоточился теперь для него весь мир.
— Ах, вот ты о чем! — улыбнулся Шварц. — Тогда мы можем обойтись без ножа и не будем резать карту. Я с удовольствием подарю тебе всю ее целиком.
— Это правда? Это действительно возможно? О, господин, о, эфенди, если бы ты знал, как ты осчастливил меня!
И тут этот всегда сдержанный и гордый юноша снова вскочил с места и порывисто поцеловал немцу руку, чего в других обстоятельствах он не согласился бы сделать ни за какую награду. Затем, все еще сжимая в руках красную тетрадку, он снова обратился к Бабару:
— А как, ты сказал, звали эмира?
— Барак аль-Кади, — ответил тот.
— Ба-рак… аль-Ка-ди, — повторил Сын Тайны, прикладывая руку ко лбу, как будто хотел поймать ускользающее воспоминание. Потом он вздрогнул и воскликнул: — Да, так и есть, я знаю это имя! Барак аль-Кади — так звали моего отца! Когда по его приказу пороли провинившегося подчиненного или раба, он с мрачным лицом стоял рядом и приговаривал: «Вы называете меня Барак аль-Кади[154], что ж, хорошо, я им и буду». Поэтому я ненавидел это имя, и моя мать бледнела, когда слышала его. Значит, тот человек, которого поймал Абдулмоут, и есть Барак аль-Кади, эмир Кенадема?
— Да.
— Отец, мой отец! Скорее, скорее к нему! Эфенди, разреши нам выступить сейчас же! Мне немедленно нужно к отцу, я должен освободить его из рук этих негодяев.
— Опомнись, Сын Тайны, возьми себя в руки! — строго приказал немец. — Потерпи до утра, и спозаранку мы тронемся в путь.
— Ждать до утра! Но это же целая вечность! Впрочем, ты прав, эфенди. Мое сердце рвется прочь отсюда, но голова советует мне остаться. Но как ты назвал меня только что? Сын Тайны? Так я звался в течение пятнадцати лет, но теперь я отбрасываю от себя это имя, потому что оно лжет. Тайна раскрыта, теперь я знаю, кто я на самом деле. Меня зовут Мазид, значит, мое полное имя — Мазид бен Барак аль-Кади Кенадеми! Я вспомнил свое имя, я вспомнил свою родину! О, эфенди, не удерживай меня здесь! Мне тесно, я хочу уйти и поведать ночи свою тайну! Я обернусь лицом к северу и крикну: «Кенадем!», а потом обернусь на юг, туда, где находится сейчас мой отец, и громко позову его: «Барак аль-Кади Кенадеми!» Я пойду, я помчусь, иначе сердце выпрыгнет у меня из груди!
Юноша побежал прочь, продираясь сквозь густой кустарник. Шварц хотел было остановить его, но передумал. Он хорошо знал рассудительность Сына Тайны и был уверен, что тот вернется назад, когда немного успокоится.
Пфотенхауер отвернулся, чтобы скрыть выступившие у него на глазах слезы, и проворчал:
— Ах он, шельмец проклятый! Другого такого парнишки днем с огнем не сыщешь! И эти наши горе-ученые еще толкуют, дескать, полудикие народы не имеют ни души, ни сердца! Небось не так бы они заговорили, кабы сами сюда наведались да собственными глазами на здешних людей поглядели! Что вы думаете, прав я или нет?
— Конечно, правы, — отвечал Шварц, к которому был обращен этот вопрос. — Честно говоря, эта сцена и меня растрогала. Но сейчас у нас нет лишнего времени на проявление эмоций. Мы узнали еще не все, что нам нужно.
— Да, конечно, о вашем брате и моем друге! Давайте, спрашивайте дальше!
Шварц снова повернулся к Бабару и задал следующий вопрос:
— Из твоих слов я понял, что Абдулмоут был знаком с этим эмиром, а тот тоже узнал его?
— Да, он даже назвал его по имени.
— Ты не запомнил, как оно звучало?
— Абдуризза бен Лафиз.
— Где находятся сейчас оба белых? С теми двумястами, что стоят возле залива, или с Абдулмоутом и остальными?
— Эфенди, ты ясновидящий? — спросил Бабар. — Ведь я один знал о том, что наш отряд разделился.
— Как видишь, я действительно знаю много, хотя и не все. Поэтому можешь не сомневаться: я обязательно замечу, если ты скажешь мне неправду. Я должен освободить обоих пленников. Если ты поможешь мне в этом, я подарю всем вам жизнь и свободу.
— Ты обещаешь?
— Да.
— Тогда я все тебе расскажу. Я отведу тебя к пересохшему руслу реки и заливу, между которыми находится наш лагерь.
— Я также хочу, чтобы в мои руки попался Абдулмоут.
— Я и в этом тебе помогу. Только сдержи слово!
— Я сдержу его. Но сегодня вы все еще останетесь связанными. Веревки снимут с вас завтра.
Шварц замолчал, и наступившую тишину прорезал донесшийся откуда-то издалека крик:
— Кенадем! — а затем еще: — Барак аль-Кади!
Видимо, оставшись один, Сын Тайны дал волю обуревавшему его восторгу.
— Не стоило нам его отпускать, — покачал головой Серый. — Если его кто услышит, нам всем очень не поздоровится!
— Кто его может услышать? — возразил Шварц. — Кроме нас, вокруг нет ни души. Впрочем, давайте позовем его! Может быть, он уже хочет вернуться.
Шварц не забыл послать к сторожевым кострам своего человека с сообщением о том, что лагерь захвачен. Солдаты стали приводить связанных часовых. Если до сих пор эти люди надеялись, что фельдфебель освободит их, то, увидев своих товарищей беспомощно лежащими на земле, они приуныли. Шварц приказал им сесть рядом с другими пленниками. Они послушались и стали искать глазами онбаши, который предусмотрительно затерялся в толпе солдат.
Солдаты Шварца тоже уселись на землю неподалеку от пленников. Некоторые произвели осмотр сложенной под деревьями поклажи и с радостными возгласами извлекли на свет божий кувшины с мериза и большие запасы табака. Рабыни снова принялись растирать сухую дурру в муку и печь из нее лепешки.
Между тем Шварц и Пфотенхауер заставили Бабара подробно рассказать обо всем, что произошло во время похода на Омбулу. Он много находился вблизи обоих пленников и слышал, о чем говорил с ними Абдулмоут. Он очень точно описал немцам лагерь и его окрестности, а также место, где держали Йозефа Шварца и Охотника на слонов. Кроме того, он ответил на множество самых разнообразных вопросов Шварца, смысл которых не всегда понимал. Многие из этих вопросов даже Серому казались совершенно бесполезными и странными, и он то и дело бросал на своего друга изумленные взгляды.
В заключение Бабар сообщил, что Абдулмоут вернется из своего второго похода только послезавтра и что он отдал распоряжение убить обоих белых в случае, если в его отсутствие кто-нибудь нападет на лагерь. Едва Шварц это услышал, он тут же обернулся к нескольким сидевшим поблизости солдатам и спросил:
— Кто из вас решится сейчас, ночью, взять маленькую лодку и вернуться на дахабию?
— Я, — поспешно ответил Отец Одиннадцати Волосинок. — Я охотно хочу навещать дахабию, нашу.
— Но это очень опасно!
— Вы, что ли, меня еще не знаете как словака, неустрашимого?
— Да, я знаю, что ты не из пугливых, и все же пускаться одному через озеро… Я дам тебе с собой еще двух солдат.
— Я могу идти, один. Мне не нужно сопровождение, солдаты.
— Не стоит переоценивать свои силы. Еще неизвестно, удастся ли тебе без приключений добраться до лодки: вся округа так и кишит дикими зверями!
— Я никогда не боялся скота, некультурного, — презрительно отмахнулся словак. — Я даже победил двух львов, женатых.
— Да, да, это я отлично помню. Но здесь водятся и другие крупные животные, и прежде всего гиппопотамы, которые по вечерам выходят на сушу, а утром снова возвращаются к реке. Что, если по пути тебе встретится одно из таких толстокожих чудовищ?
— Это меня не пугает. Я никогда раньше не боялся лошади, сухопутной, значит, мне нечего бояться и лошади, речной[155]. Я же возьму с собой мое ружье, слоноубийственное!
— То самое, которое дает тебе приличный толчок при каждом выстреле? Нет, одного я тебя не отпущу. Ищи себе двух спутников!
— Если вы мне приказываете, мне необходимо повиноваться, обязательно. Но что я должен делать на дахабии?
— Скажи Хасаб Мураду и капитанам, что у нас все в порядке, и передай им, чтобы они завтра чуть свет привели все пять кораблей на озеро и пристали к берегу в том месте, где мы оставили наши лодки. Кроме того, прикажи моим слугам на дахабии зажечь смоляные факелы и жир и приготовить мне горсть сажи.
— Хорошо! Я выполню приказ, беспрекословно, и дам также слугам поручение. Но когда я должен вернуться назад, снова в лагерь, здешний?
— Если хочешь, можешь утром, когда корабли снимутся с якоря, отправиться вперед, чтобы сообщить мне об их прибытии.
— Выполняю с удовольствием, результативным!
Отец Листьев по-военному отсалютовал, небрежно ткнул пальцем в двух солдат, которых он выбрал себе в спутники, и удалился вместе с ними.
— Сажа? — спросил Серый. — Она-то за каким чертом вам приспичила?
— Чтобы на некоторое время превратиться в негра.
— Никак не пойму, вы шутите или нет?
— Я говорю совершенно серьезно.
— Но разве на Верхнем Ниле есть еще и карнавальные чудаки?
— Да, как выясняется. И может быть, я даже буду просить вас стать одним из таких чудаков.
— Ну уж дудки! С этим вы ко мне и не приступайте! Мой нос уж не подходит для этаких игрищ. Я никогда не мог участвовать в маскараде, а почему, знаете?
— Почему же?
— Потому, что ни одна маска не налезала на мой здоровый нос, а если я шел на карнавал без маски, то по этому же носу меня тут же все узнавали!
— Да, это, конечно, неприятно. Я вам очень сочувствую и готов признать, что с вашим носом из вас действительно получился бы весьма странный негр. Но, к сожалению, я не знаю никого другого, кому можно было бы доверить эту роль.
— Да о какой роли вы тут толкуете?
— Вы же слышали, что в случае нападения на лагерь мой брат и эмир должны быть немедленно убиты. Поэтому прежде, чем атаковать Абдулмоута, мы должны освободить обоих пленников. Для этого я должен пробраться в лагерь под видом негра, другого способа я, признаться, не вижу.
— И вам для этого нужен помощник?
— Да.
— Ну, это же совсем меняет дело! Конечно, я с вами пойду! Как получите свою сажу, можете разрисовать меня как самого настоящего трубочиста!
— Но вы отдаете себе отчет в том, как это рискованно? Если нас раскроют, нам не миновать гибели!
— Ну вот еще! Меня этим ребяткам не поймать, кишка тонка!
— Мы, конечно, примем необходимые меры предосторожности. Вылазку мы совершим под покровом темноты, тогда ваш выдающийся нос, может быть, и не привлечет ничьего внимания. Кроме того, предварительно я велю нашим людям окружить лагерь, так что, если нас все-таки схватят, мы подадим солдатам условный знак и они бросятся нам на помощь. Думаю, с двумя сотнями мерзавцев мы сумеем справиться!
— Ну ясное дело, справимся! Итак, я пойду с вами в негритянском обличье! А знаете, мне это начинает нравиться!
— Но нам придется раздеться почти догола и намазать все тело сажей и жиром.
— Ну, в этом уж большой беды нет, ежели только я смогу потом снова вступить во владение моим кавказским происхождением. Авось от одного раза я навсегда в негра не превращусь! Да что там долго рассуждать, когда мы уж обо всем договорились. Завтра я иду с вами, и баста!
Глава 16
У ЗАЛИВА БЕГЕМОТОВ
Итак, этот длинный и богатый событиями день закончился, и пора было подумать об отдыхе. Все солдаты, за исключением нескольких часовых, которые должны были охранять пленников и угнанные стада, спали глубоким сном. У костра остались лишь Шварц и Пфотенхауер: беспокойство о судьбе брата и друга не давало им сомкнуть глаз.
Через некоторое время в лагерь вернулся Сын Тайны и тоже присел к огню. Его волнение несколько улеглось, но о сне он, разумеется, не мог и думать. В груди юноши теснились противоположные чувства: радость оттого, что тайна его происхождения, наконец, открылась, боролась с тревогой за жизнь отца и страхом вновь потерять его.
В полночь, когда сменились посты, все трое прилегли на землю и закутались в свои москитные сетки, надеясь поспать хотя бы несколько часов. Время от времени кто-нибудь открывал глаза и видел, что его соседи тоже не могут сомкнуть глаз. Под утро Шварц не выдержал и встал, решив проверить посты. Пфотенхауер тотчас же отбросил свою москитную сетку, поднялся с земли и спросил:
— Ну что, маленько вздремнули?
— Нет, — покачал головой Шварц.
— Вот и я тоже не спал. Больше никогда возле залива спать не лягу! Эти чертовы мухи — от них же никакого спасу нет, и даже сетка не помогает! Я б еще мог стерпеть, что они забираются мне в сапог, но если бы они на этом успокаивались! Так нет же, эти чертовы бестии то и дело нацеливались на мой нос! Как видно, у них напрочь отсутствует эстетический вкус и чувство прекрасного! Одним словом, я тоже встаю. Что будем делать?
— Я собирался осмотреть посты.
— Глупости! Это никому не нужно. Я предложил бы вам кое-что поинтереснее.
— Что же?
— Охоту на гиппопотамов. По мне, так просто позор — побывать у залива Бегемотов и ни одного из них не увидеть. Ну что, согласны? Сейчас как раз время, когда они уже торопятся с берега окунуться в воде.
— Великолепная идея! Я иду с вами.
— Отлично! Но какое у вас имеется с собой оружие?
— У меня есть мое ружье.
— Это маловато. Одним выстрелом, да и двумя, впрочем, тоже, вам бегемота не уложить, если вы, конечно, не зарядите ружье разрывными пулями.
— У меня нет при себе ни одной такой пули, они все остались на корабле.
— Экая досада! У меня, может, парочка и нашлась бы, да они для вашего калибра не подойдут. А вы уж знаете, где у гиппопотама ахиллесова пята?
— Да, между глазом и ухом.
— Неплохо! Но еще вернее будет, если попасть за ухо: тогда разрывная пуля пробьет ему череп и вышибет оттуда все мозги. Вы-то только что с севера приехали и, понятно, такая охота для вас в новинку, но мы-то с вашим братом Зеппом уж нескольких бегемотов таким манером уложили. Погодите одну минутку: я только приведу в порядок свое ружьишко, и пойдем.
Серый зарядил разрывными пулями свое ружье, и оба немца покинули лагерь. Небо на востоке посветлело, и в утренних сумерках начали вырисовываться резкие очертания деревьев и кустов, между которыми пробирались охотники. Путь их лежал не к озеру, а вдоль берега залива, где, по мнению Серого, скорее можно было повстречать бегемота. Через несколько минут совсем рассвело. Друзья медленно и осторожно шагали вперед, внимательно глядя по сторонам и обращая внимание на любые мелочи, встречавшиеся им на дороге. Один раз Серый остановился и указал на след огромной звериной ноги, глубоко отпечатавшийся в земле.
— Знаете, кто тут пробежал? — спросил он Шварца.
— Разумеется, гиппопотам.
— Точно! Приглядитесь-ка повнимательнее! Этот бегемот вышел из воды вон там: в трясине хорошо виден еще один отпечаток. А вон, смотрите, целый ряд следов, справа и слева, а посередке — жирная полоса на земле: это он волочил свое пузо. И… ах, глядите, глядите скорее! Видели?
— Да.
— А ну-ка, что это такое было? Оно выскочило из пустого пня, где наверняка полным-полно муравьев.
— Это трубкозуб.
— Верно. А как он называется по-латыни?
— Orycteropus aethiopicus.
— Правильно! А по-арабски?
— Абу Батлаф, Отец Когтя.
— Да, потому что когти у него очень длинные. Впервые я такой коготь у нашего профессора естествознания видал, у него в коллекции видимо-невидимо всяких редкостей было. Он, вообще-то, был орнитолог, и очень неплохой. Я от него многому научился и весьма благодарен ему за это, хоть он и ненавидел меня лютой ненавистью.
— Ненавидел? Однако в это трудно поверить, — сказал Шварц, снова устремляясь вперед. — Вы мне кажетесь совсем безобидным человеком.
— Что правда, то правда, парень я довольно-таки добродушный. Но я всегда был страх как любопытен и прямо-таки обожал задавать вопросы, которые кого хочешь в тупик поставят. Это моего профессора здорово бесило, и он задумал при случае со мной рассчитаться. Ну, а случай-то уж скоро представился. Знаете когда?
— Когда же? — благодушно спросил Шварц.
— Да на экзамене. Там он меня отделал, что я по гроб жизни вспоминать буду. Я вообще эту историю никогда не рассказывал, потому, считаю, до нее никому дела нет, но с хорошим приятелем скрытничать не стоит, и вам я, так и быть, свой секрет поведаю. Знаете, что было дальше?
— Понятия не имею, — заверил Шварц.
— Ну так я вам скажу что. Когда я уже обучался в третьем классе, у нас устроили экзамен. Для меня это, понятно, целое событие было, и я готовился к нему, как к большому торжеству. Вскочил я, как сейчас помню, ни свет ни заря, помылся, почистился, надел белоснежную сорочку с этаким большим воротником, да кашне вокруг шеи обмотал. Ну, думаю, теперь мне, такому франту, ничего не грозит — да не тут-то было! Вот сижу я, стало быть, на экзамене, весь такой спокойный и уверенный, и жду, какой же мне вопрос достанется. И тут он достается — догадайтесь-ка какой?
— Скажите лучше сами!
— Да уж, это и впрямь будет лучше, потому что вам все равно никогда не догадаться, что у меня тогда спросили. Стало быть, как дошла до меня очередь, я встал с места, как пай-мальчик, и жду, когда мне можно будет сразить всех своими знаниями. Тот профессор открывает свой бесстыжий рот и требует, чтоб я ему разъяснил, почему у птиц есть перья. Что вы на это скажете?
— Я, право, не знаю. К счастью, мне никогда не задавали таких вопросов.
— Это уж вам повезло!
— И что же вы ответили?
— Ну, поначалу я и слова вымолвить не мог. Стоял себе на месте и глазел на профессора, как баран на новые ворота, или там мопс на луну. Но потом меня что-то будто озарило, и я…
Пфотенхауер оборвал свой увлекательный рассказ на полуслове, потому что где-то совсем рядом раздался выстрел. Он прозвучал странно: как будто стреляли не из ружья, а из легкой мортиры.
— Это еще что такое? — обеспокоенное спросил Отец Аиста. — Никак, у бегемотов пушки завелись?
— Мне кажется, это Стефан, — отвечал Шварц. — У его «слоноубийцы» именно такой звук. С ним, наверное, что-нибудь случилось. Бежим скорее!
Друзья со всех ног помчались вперед, не замечая камышей и кустов, которые царапали им кожу и цеплялись за одежду. Через несколько секунд после выстрела оба услышали испуганный крик:
— На помощь, на помощь!
— Да, это он, — запыхаясь, проговорил Шварц. — Слышите, он кричит то по-арабски, то по-словацки, то по-немецки. — И, повысив голос, он крикнул: — Держись, Стефан, мы уже идем!
Отец Одиннадцати Волосинок узнал его по голосу и ответил на своем удивительном немецком:
— Идите быстрее, быстрее! Это чудовище съест меня заживо! Он уже расхлопнул пасть!
Шварц понял, что Отец Листьев стоит лицом к лицу с каким-то ужасным зверем, и еще прибавил шагу.
Обогнув заросли кустарника, немцы оказались на берегу залива, около небольшой бухты. Камыши возле воды были примяты и затоптаны: видимо, в этом месте имел обыкновение выбираться на сушу гиппопотам. Нынешней ночью он, как всегда, отправился в кусты пастись, а возвращаясь назад, столкнулся со словаком, который только что причалил на своей лодке. Вместо того, чтобы обратиться в бегство, бравый малыш выстрелил в бегемота, но пуля не убила животное, а лишь слегка задела его. Словак в ужасе выронил ружье и застыл на месте с широко раскрытыми глазами и сложенными на животе руками. Он оказался в самой настоящей ловушке: прямо перед ним, на расстоянии четырех шагов, стоял разъяренный зверь, а за спиной расстилался кишащий крокодилами и гиппопотамами залив.
Бегемот стоял неподвижно против своего противника и смотрел на него налитыми кровью глазками. Пасть его была так широко раскрыта, что он мог проглотить Стефана целиком, но он отчего-то медлил. С тех пор, как прозвучал выстрел «слоноубийцы», зверь не издал ни единого звука, не слышно было даже его сопения. Непонятно было, куда попала пуля, но она, казалось, на миг парализовала животное. Если бы не это секундное замешательство, приключение Отца Одиннадцати Волосинок могло быть последним.
Когда немцы выбежали из-за кустов, малыш закричал, все еще не осмеливаясь пошевелиться:
— Стреляйте быстро в гиппепитума, иначе он кушать захочет меня с потрохами, всеми! Попадайте только в него точно, иначе нам всем пришел конец!
Шварц поднял свое ружье, но Отец Аиста крикнул ему:
— Нет! Не стреляйте! Ваша пуля недостаточно мощная! Если будете глядеть внимательно, сейчас увидите, как эта скотина свалится от моей!
Серый встал таким образом, чтобы ему было удобнее попасть бегемоту за ухо, и спустил курок. За треском выстрела тотчас же послышался другой треск — в голове зверя. Бегемот пошатнулся и рухнул на землю с раскроенным на кусочки черепом, но потом снова поднялся, качнулся направо, потом налево и снова упал. Пасть его была уже закрыта. Толстая кожа собралась в мелкие, дрожащие складки, затем снова разгладилась. Гиппопотам был мертв.
Оправившись от своего столбняка, Отец Листьев сделал огромный скачок в сторону и что есть силы завопил:
— Не подходите к нему, не трогайте! Бегемот очень любит притворяться. Если он еще живой, он укусит всех троих, нас!
— Чепуха! — рассмеялся Серый. — Этому дядюшке и в голову не придет притворяться. Но куда вы так резво поскакали? Мне сдается, это вам стоило сделать несколько раньше.
Несмотря на все еще владевший им испуг, малыш не мог пропустить мимо ушей показавшиеся ему обидными слова Пфотенхауера. Он уязвленно возразил:
— Может, вы бы стали прыгать, когда перед вашим носом встал бегемот? Если бы я пошевелился, он бы тоже пошевелился и откусил бы мне голову, всю.
— Нет, приятель! Вы попали зверю куда-то в челюсть, и у него получился спазм жевательных мышц. Раньше-то ему поди не приходилось такого испытывать, поэтому он перепугался до смерти. Он ведь, как и вы, от страха с места не мог двинуться!
Словак с сомнением посмотрел на Серого и ответил:
— Этому не могу верить. Спазм мышц всегда есть болезнь, человеческая, а не судорога, бегемотская.
— Ну, если вы в этом деле лучше меня понимаете, то я спорить не буду. Мне, признаться, и самому в диковинку было увидеть бегемота с отвисшей челюстью! Но что ни говори, вовремя мы подоспели, ежели бы не мы, вы б уже, как пить дать, в ящик сыграли! Мне кажется, вы немножко сдрейфили, ведь так?
— Да, — сознался Отец Одиннадцати Волосинок. — Я стрелял слонов, часто, и бегемотов тоже, но я еще никогда не стоял так близко к скотине, ужасной. Вы есть спаситель жизни, моей, и я с удовольствием, охотным, протяну вам руку, правую, если сначала узнаю точно, что гиппопотам мертвый, наверняка.
Словак протянул руку, однако не решился подойти к Пфотенхауеру, который в это время наклонился над бегемотом, чтобы осмотреть его раны. Разрывная пуля проделала в голове животного огромную дыру, через которую весь мозг вытек наружу.
— Сильный, взрослый зверь! В длину, наверное, метра четыре будет, — сказал Шварц, разглядывая гигантскую тушу.
— Да, это уж редкий экземпляр, — согласился Серый, — пари держу, его мясо покажется нашим людям вкуснятиной!
— Не знаю! Я еще ни разу не пробовал мяса бегемота.
— Да ну? Так вы уж обязательно должны его отведать! Оно на вкус совсем неплохо, это я вам говорю, а сало бегемота даже гурманы считают очень даже лакомым куском. Вы согласны, господин Иштван?
Это вежливое и к тому же произнесенное таким добродушным тоном обращение растопило сердце Отца Одиннадцати Волосинок. Он был отходчив по натуре и к тому же сознавал, что Пфотенхауер только что спас его от смертельной опасности. Он подошел ближе, пожал, наконец, Серому руку и ответил:
— Да, сало, бегемотово, есть деликатес, большой. Я уже ел сало, сырое, и сало, жареное, и это были вкусности, чрезвычайной. Но если бы вы не пришли, сейчас, я бы сам стал лакомством, изысканным, а это совсем не могло быть желанием, моим. Вы были враг, мой, а я враг, ваш, и это должно…
— Эй, старина, что это вы такое говорите, — перебил его Пфотенхауер, — никогда я не был вашим врагом, просто мы временами не совсем верно друг друга понимали.
— О, я понимать вас очень хорошо, всегда, но вы не хотеть понять образование и учености, моей. Но если бы бегемот, этот, искусал меня насмерть, то остался бы только пшик, жалкий, от всех моих знаний, латинских. Поэтому желаю простить вам все оскорбления, ваши, и отныне быть другом, вашим и прекрасным. Хотите?
— Ну конечно, хочу! Друга-то иметь всегда лучше, чем врага, это я точно знаю. Вот вам на это моя рука, жмите крепче! С этой самой минуты промеж нами не должно быть больше ни ссор, ни разных раздоров.
Венгр все еще держал Пфотенхауера за правую руку, а при последних словах тот протянул ему и левую. Малыш схватил ее, доверчиво заглянул в смеющиеся глаза Серого и сказал:
— Я согласен, очень и целиком. Дружба, наша, должна быть вечной, и еще намного более задушевной, чем вы сказать только что. Давайте мы прямо здесь, над трупом бегемотовым, сделаем брудершафт до гроба, нашего. И я скажу вам «Шмоллис», мое, а вы скажете мне «Фидуцит»[156], ваше.
— Знаете, дружище, по мне, так это будет не всамделишный фидуц. Я так понимаю, сомнительное это дело — брудершафт над трупом, хотя бы даже и бегемотовым! Да у нас и напитка-то нет подходящего для такого случая. Настоящий «Шмоллис» нужно запивать добрым баварским пивом, а раз уж здесь такого не имеется, то давайте подождем, пока мы оба не вернемся в Мюнхен. Там-то у нас дело быстро на лад пойдет!
— Это было мнение, правильное, — неожиданно легко согласился Отец Листьев. — Брудершафт, мокрый, лучше, чем брудершафт, сухой. Пусть останемся на «вы», вежливое, но дружба наша будет все равно очень прочной!
— Конечно! Уж вы увидите, я умею быть хорошим другом, и если вам понадобится моя помощь — на меня положиться можно. Ну, и хватит об этом! Скажите-ка лучше, что мы с этим зверюгой делать будем? Коли оставить его здесь валяться, сюда со всей округи крокодилы сбегутся.
— Пусть Стефан останется его сторожить, — предложил Шварц, — а мы вернемся в лагерь и пошлем сюда людей, чтобы они перетащили тушу к костру. Похоже, наша утренняя прогулка подошла к концу.
— Да, наверное. Солнце уже давно встало, и все солдаты, должно быть, проснулись. Пойдемте скорее, чтоб не заставлять Стефана прозябать тут целый день. Я думаю, он не даст утащить у себя свою добычу.
— Что? — воскликнул словак. — Вы опять хотеть меня оскорбить!
— Я? И не думал даже. Мы же теперь друзья и не должны больше обижать друг друга.
— Я хотел бы настаивать на этом! Если вы думали, что я позволяю утащить у себя бегемота, мной охраняемого, то мне и в голову не пришло бы делать с вами брудершафт, баварский. Я сейчас тут же приму состояние, оборонительное, а вы можете идти в спокойствии, доверительном.
Он поднял с земли свое ружье и принялся его перезаряжать, а немцы повернули в сторону лагеря. Обсуждать только что пережитое приключение им почему-то не хотелось, и они шагали по лесу в совершенном молчании. Только благодаря этому обстоятельству шедший впереди Шварц заметил деталь, которая в другое время легко могла бы ускользнуть от его внимания. Когда до лагеря оставалось еще больше половины пути, он остановился и, указывая на сломанный папоротник, вполголоса сказал Серому:
— Стойте! Смотрите: здесь кто-то проходил!
— Ну и что с того? — равнодушно, но так же тихо спросил Пфотенхауер.
— Вы, кажется, не придаете этому никакого значения?
— А вы этот пустяк уж слишком близко к сердцу принимаете.
— В нашем положении ни одну мелочь нельзя оставлять без внимания.
— Да это наверняка был кто-нибудь из нашего лагеря.
— Нет, ведь к нам никто не приходил.
— Ну, тогда, возможно, мимо пробегал какой-нибудь зверь, да и надломил папоротник.
— Вот сейчас и проверим.
— Ну, если вам это интересно, проверяйте, ради бога, а я пока дальше пойду.
— Нет, пожалуйста, дорогой мой, подождите немного!
Шварц наклонился и принялся внимательно рассматривать влажную, заболоченную почву. Когда он снова выпрямился, лицо его было задумчивым и встревоженным. Пфотенхауер заметил это и спросил:
— Что такое, что вы там увидели? Ваша физиономия не очень мне нравится.
— Здесь шел босой человек, и причем совсем недавно.
— Может, вчера?
— Нет, потому что иначе на папоротнике осталась бы роса. Ее стряхнули, значит, растение было сломано уже после рассвета.
— Мало ли, кто нас мог искать. Может, поутру нас хватились и послали кого-нибудь посмотреть, куда мы делись.
— Тоже нет. След ведет не от лагеря, а к нему. Идите-ка за мной и постарайтесь не производить ни малейшего шума!
Шварц медленно двинулся вперед, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не потерять след. Сначала он точно следовал направлению, откуда пришли оба немца, потом свернул влево. Шварц остановился, и, указывая своему спутнику на отпечатки босых ног, которые были хорошо видны на рыхлой земле, прошептал:
— Это очень глупый человек. До сих пор он шел точно по нашим следам, и значит, должен был знать, что из лагеря ушли двое. Как же он мог не подумать о том, что когда они будут возвращаться, то обязательно увидят следы, которые он здесь оставил?
— Может, это все же кто-то из наших? Тогда ему ни к чему скрываться.
— Если бы это было так, если бы кто-то вышел искать нас, он шел бы совсем в другую сторону и наверняка звал бы нас. Нет, мы явно имеем дело с незнакомцем и должны быть очень осторожны. Смотрите вперед во все глаза, чтобы он не заметил нас раньше, чем мы его.
След вел к тем кустам между лагерем и заливом, где вчера устроили засаду Шварц и его тридцать солдат. Вся земля между кустами была вытоптана, и, опасаясь, что там он может потерять след, Шварц ускорил шаги, чтобы догнать неизвестного прежде, чем он достигнет этого места.
Камыш отступил в сторону, и теперь под ногами друзей была только сырая земля, по которой тянулась частая цепь следов. Преследователи двигались короткими перебежками, укрываясь за толстыми, отстоящими довольно далеко друг от друга деревьями. В какой-то момент они оказались под высоким деревом, и Шварц как раз собирался снова выбежать на открытое пространство, когда Пфотенхауер обхватил его сзади и прошептал ему в самое ухо:
— Оставайтесь на месте! По-моему, я только что его видел.
— Где? — не оборачиваясь, спросил Шварц и снова отступил за дерево.
— Может, я и ошибся, хотя мне сдается, что нет. Отсчитайте-ка шесть деревьев туда, вперед, а потом гляньте направо. Видите, там стоит здоровенное дерево, чуть ли не больше этого? Так вот, мне померещилось, что возле него что-то движется, и я думаю, что это и есть тот парень, что нам нужен.
Шварц посмотрел туда, куда показывал Серый, его более острый и натренированный, чем у товарища, глаз сразу различил не только дерево, но и стоявшего за ним человека.
— Вы правы, — шепнул он, — там кто-то стоит.
— Кто?
— Этого я, разумеется, не знаю. Во всяком случае, как я и предполагал, он не принадлежит к нашему отряду. На нем одежда из обезьяньей шкуры, она точно такого же цвета, как стволы деревьев. Потому-то его так трудно различить.
— Ну, и чего он там застрял? Почему дальше-то не идет?
— Может быть, его внимание привлек шум, который доносится из лагеря? Ясно одно: он зачем-то хочет подкрасться к нам. Не исключено, кстати, что он не один.
— Что будем делать? Пристрелить его, что ли?
— Что вы?! Ни в коем случае!
— Но если он нас заметит, то тотчас же убежит, и мы останемся с носом.
— Он обязательно должен нас заметить, точнее, не нас, а только вас одного.
— Что? Но это же чушь какая-то! Большей глупости, чем попасться сейчас ему на глаза, я и представить себе не могу!
— Это не глупость, а военная хитрость. Видите, он настороженно прислушивается, значит, если мы попытаемся подобраться к нему ближе, то неминуемо обнаружим себя. Поэтому вы сейчас пойдете налево, сделаете большой крюк, а потом снова повернете направо и притворитесь, будто направляетесь в лагерь. Устройте все так, чтобы он вас увидел, но сами не подавайте виду, что замечаете его. Постарайтесь отвлечь на себя все его внимание, и тогда о моем присутствии он заподозрит не раньше, чем окажется в моих руках.
— Гм, ну что ж, идея, ей-ей, неплохая! Только вы уж как подкрадетесь к нему, покрепче его держите, чтоб он, не ровен час, не вырвался!
— Об этом не беспокойтесь! Впрочем, я позову вас, как только схвачу его. Вы подоспеете мне на помощь, и вдвоем мы с этим негром легко сладим. Ну, а теперь поспешите, пока он не отправился дальше.
Пфотенхауер кивнул головой и шмыгнул за ближайшее дерево. Шварц скоро потерял его из виду и стал следить за неизвестным. Тот сначала стоял спокойно, потом вздрогнул, нагнулся и, укрываясь за стволом дерева, стал напряженно вглядываться куда-то вдаль: он заметил Пфотенхауера. Шварц понял, что настала пора действовать. Осторожно пробираясь от дерева к дереву, он скоро остановился в нескольких шагах от неизвестного. Тот ничего не замечал: он натянул свою маскировочную накидку на голову, стараясь спрятаться от шедшего в сторону лагеря человека. Пфотенхауер прошел совсем близко от незнакомца. Он шагал медленно и казался целиком погруженным в свои думы. Шварц подкрался к чужаку еще ближе и хотел броситься на него, но передумал и решил подождать, пока тот выпрямится. Ждать пришлось недолго: через несколько секунд человек поднял голову, в тот же миг Шварц оказался около него и, схватив его за горло, рванул вниз. Незнакомец закричал, сделал рывок вперед, чтобы вырваться, и повернул к нападавшему искаженное ужасом лицо.
Шварц чуть не выпустил свою жертву, увидев это лицо, правая половина которого вместе с носом напрочь отсутствовала. Страшное впечатление еще усугубляли выкаченные от изумления и испуга глаза незнакомца. Этот человек не был негром, что подтверждали узкие губы и светлая, хотя и очень загорелая, кожа на здоровой половине его лица и непокрытой, бритой наголо голове. Возраст чужака определить было трудно, но, во всяком случае, он был уже немолод. Рядом с ним, на земле, лежала дубинка с утыканным короткими иглами набалдашником; она, да еще заткнутый за набедренную повязку нож составляли все его оружие.
Услышав крик незнакомца, прибежал Пфотенхауер. Он помог Шварцу связать пленнику руки за спиной.
За все время короткой борьбы с обеих сторон не было произнесено ни одного слова; теперь Шварц впервые нарушил молчание и спросил по-арабски:
— Кто ты и что ты здесь высматривал?
Человек окинул обоих немцев мрачным взглядом и поинтересовался в свою очередь:
— А сами-то вы кто такие и почему напали на меня?
— Потому что друг пришел бы к нам открыто, ты же скрывался, и мы приняли тебя за вражеского лазутчика.
— Где же находится ваш лагерь?
— Здесь, у залива Хусан-эль-Бахр.
— На этом его берегу?
— Да.
— Значит, вы люди того ловца рабов, что остановились здесь?
— Нет. Но теперь ты отвечай на мои вопросы! Кого или что ты здесь искал?
— Я пришел, чтобы купить животных и некоторые другие товары.
— Ах, так ты тот самый человек, которого фельдфебель ожидает сегодня утром?
— Да.
— Тогда почему ты пробирался сюда тайно?
— Из предосторожности. Я хотел убедиться, что фельдфебель сказал мне правду. Но, как я вижу, ты его знаешь и в то же время говоришь, что не принадлежишь к его людям. Как я должен это понимать?
— Мы ведем войну с ловцами рабов, и вчера мы захватили фельдфебеля в плен.
— Так значит, все его имущество попало теперь в твои руки?
— Да. Но тем не менее ты можешь выполнить то, зачем пришел, потому что я тоже хочу заключить с тобой сделку.
Тут и без того безобразное лицо пленника исказилось гримасой гнева, и он проскрежетал:
— Разрази тебя Атлах! Ты меня опередил, но ты не долго удержишь добычу! Немедленно освободи меня, иначе сегодня же, в час, когда солнце будет в зените, ты и все твои люди отправитесь в преисподнюю!
— И кто же любезно отворит нам дверь в нее?
— Мои воины, которые придут сюда, если я не вернусь к ним в назначенный час.
— И как велико их число?
— Под моим началом стоит больше людей, чем пальцев на руках и ногах у всех твоих воинов!
— То есть в девять раз больше! А ты знаешь, сколько солдат находится в моем распоряжении?
— Могу себе представить. Итак, развяжите меня, если вам дорога жизнь!
— А что ты будешь делать, если я выполню твою просьбу?
— Это не просьба, а приказ, которому ты обязан повиноваться. Тогда я разделю с тобой добычу, которую ты отнял у фельдфебеля.
— Гм, забавно, — улыбнулся Шварц. — Где же сейчас твои люди?
— Некоторые из них совсем близко, я оставил их позади, когда пошел на разведку. Если я в скором времени не вернусь, они поспешат навстречу основному отряду, который тоже скоро будет здесь, и сообщат, что я попал в руки врага. Тогда не ждите пощады ни от Аллаха, ни от меня!
— Ты говоришь, как эмир, владеющий многотысячным войском. Это неосторожно с твоей стороны, потому что тебе придется горько раскаяться, если ты выведешь меня из себя. Ты не хочешь назвать мне число твоих воинов, у меня же нет оснований что-либо от тебя скрывать. Пойдем со мной, я кое-что тебе покажу.
Это приглашение Шварц произнес потому, что услышал с реки человеческие голоса: к берегу приближались его корабли. Он поднял пленника с земли и в сопровождении Пфотенхауера повел его к заливу. Выйдя на опушку леса, откуда можно было увидеть озеро, немец понял, что не ошибся: флотилия уже подходила ко входу в узкий залив. Несмотря на попутный ветер, впереди кораблей были привязаны лодки. И они, и все палубы буквально кишмя кишели людьми.
— Аллах акбар! Сколько кораблей! — потрясенно и одновременно растерянно воскликнул пленник. — Что делают здесь все эти люди?
— Они собираются сразиться с твоими воинами, как только выберутся на сушу. Ну и как, ты по-прежнему горишь нетерпением отправить нас в преисподнюю?
— Но это же настоящая эскадра, это целая армия!
— Ты еще не все видел. Идем дальше!
Шварц взял пленника за руку и отправился с ним в лагерь. Выйдя из-за кустов на равнину и увидев перед собой целые толпы солдат, пленник воскликнул:
— Еще одно войско? Господин, может быть, ты решил завоевать Судан?
— Нет, я только хочу разгромить отряд Абуль-моута и наказать его самого.
— Абуль-моута? — быстро переспросил человек. — А что ты будешь делать дальше?
— Ничего.
— Значит, ты не собираешься нападать на деревни онго?
— Нет. Единственная моя цель — уничтожить Отца Смерти. Как только с ним будет покончено, мы тут же вернемся восвояси.
— Ты можешь поклясться в этом?
— Да.
— Твоими предками и твоей бородой!
— Клянусь!
— Тогда да сохранит тебя Аллах, и да будет тебе уготовано одно из лучших мест на седьмом небе! Если бы мои руки не были связаны, я обнял бы тебя и попросил навеки считать меня твоим другом и союзником.
— Ты говоришь серьезно? — спросил Шварц, несколько ошарашенный таким неожиданным оборотом.
— Как нельзя более серьезно, господин. Работорговцы создали настоящий ад для жителей страны, а Абуль-моут — сущий дьявол в человеческом облике. До сих пор никто не нашел в себе сил или мужества вступить в открытую борьбу с ним, и этот негодяй заковал весь Судан в цепи и кандалы. Он требует все, что пожелает его душа, и все должны повиноваться ему, а тот, кто откажется это сделать, будет убит или угнан в рабство. Так было раньше, но теперь, когда пришел ты, великий эмир, обладающий могучей властью, теперь всякий страх должен исчезнуть, и многие встанут под твои знамена. Я первый предлагаю тебе принять мою помощь; я и мои люди готовы вместе с тобой сражаться против Абуль-моута.
Человек говорил с неподдельной искренностью, его озаренное вдохновением лицо уже не казалось таким страшным. В чистоте его намерений невозможно было усомниться, и все же осторожный Шварц спросил:
— Значит, ты не друг Абуль-моута?
— О нет, я ненавижу его всем сердцем!
— И все же ты пришел, чтобы заключить с фельдфебелем сделку?
— Сделку? — мрачно усмехнулся чужак. — Да, я хотел с ними кое-что сделать, но не совсем то, чего ждал от меня фельдфебель. Я не принес с собой никаких товаров для обмена, потому что я собирался напасть на этих псов и убить их всех до единого. Поэтому меня разозлило известие о том, что они и их имущество уже попали в твои руки. Но теперь я не буду претендовать на добычу, оставь ее себе, если хочешь. Скажи мне только, где находится Абуль-моут. Должно быть, его дела обстоят не так благополучно, как прежде, иначе фельдфебель не предал бы его. Честно говоря, только это предположение и подтолкнуло меня совершить набег на чауша, в других обстоятельствах я вряд ли решился бы на такое.
— Как твое имя? — спросил Шварц.
— Меня зовут Отец Булавы, потому что я всегда дерусь только этим оружием, и еще никому не удавалось одолеть меня.
— Сколько все же воинов ты привел с собой?
— Две сотни.
— Тебе нужен такой большой отряд для нападения на пятьдесят ловцов рабов?
— Нет, господин, мы не трусы! Но для транспортировки скота необходимо много людей. Кроме того, нам нужно было сделать все очень быстро и так искусно замести следы, чтобы Абуль-моут никогда не смог узнать, что произошло у этого залива. Фельдфебель вместе со всеми своими людьми и всем добром должен был бесследно исчезнуть.
Шварц развязал пленника и ответил:
— Я возвращаю тебе свободу. Если все действительно обстоит так, как ты говоришь, то ты станешь моим союзником и будешь стоять рядом со мной, когда Абдулмоут будет валяться в пыли у наших ног и умолять о пощаде.
— Господин, ты скоро убедишься, что я не лгал. Мои спутники подтвердят тебе это, если ты разрешишь прибыть им сюда. Один из них мог бы поскакать назад, навстречу основному отряду, и сообщить воинам об изменениях в наших планах.
— Это мы еще успеем сделать. Но ты сказал «поскакать»? Значит, твои люди на лошадях?
— Нет, на верблюдах. Я привел с собой также вьючных верблюдов, на которых собирался нагрузить отнятую у фельдфебеля добычу.
— Часть ее ты получишь. То, что у тебя при себе столько верблюдов, может оказаться очень кстати. Это ускорит наш путь.
— Куда?
— В Омбулу, в страну беланда. Там сейчас находится Абдулмоут. Он сжег деревню дотла и угнал в рабство ее жителей, а немощных убил.
В течение нескольких секунд Отец Булавы стоял неподвижно, обдумывая только что услышанное, а потом сжал кулаки и воскликнул:
— О, пусть Аллах не даст свершиться этому злодеянию! Мы живем в союзе с беланда и имеем среди них родственников!
— К сожалению, Аллах не захотел этого предотвратить, потому что все уже кончено.
— Ты наверняка это знаешь?
— Да. Вчера вечером сюда пришел человек Абдулмоута и рассказал обо всем. Теперь Раб Смерти вознамерился совершить еще одно нападение, а Абуль-моут хочет с ним объединить свои силы.
— Так что же мы медлим?! Надо срочно отправляться в погоню за этими псами! Теперь у нас достаточно возможностей, чтобы расправиться с ними.
— Мы выступим сегодня же. А сейчас пойдем, мы должны все обсудить с моими друзьями.
До сих пор собеседники все еще стояли на опушке леса, теперь они, наконец, отделились от деревьев и вошли в лагерь. Ловцы рабов все еще лежали или сидели на земле связанные. Увидев приближавшегося Отца Булавы, фельдфебель с облегчением воскликнул:
— Вот и шейх доров! Слава Аллаху, что он пришел: он не даст нас в обиду!
В ответ на это радостное приветствие шейх наградил фельдфебеля увесистым пинком и сказал:
— Закрой свой рот, ты, отродье шелудивого пса! То, что произошло с вами — справедливо, и если бы вы не попали в руки этому чужому эмиру, я сам удушил бы вас! Будьте вы прокляты! Чтоб вам вечно гореть на адском огне, от которого даже смерть вас не избавит!
Эта страстная тирада привлекла к шейху взгляды всех присутствующих, в том числе и Сына Тайны, который тихо беседовал с Сыном Верности в стороне от остальных солдат. Увидев незнакомца, юноша вскочил с места и впился в него широко раскрытыми глазами.
— Что с тобой? Ты знаешь этого человек? Кто он? — засыпал его вопросами Бен Вафа.
— Я… он… да, он, кажется, мне знаком.
— Кто же он такой?
— Я… этого я не знаю.
— Но как же ты не знаешь, если говоришь, что знаком с ним?
— Я не могу вспомнить…
Сын Тайны обеими руками сжал голову и даже зажмурился, изо всех сил напрягая свою память, но тщетно. Он то вскакивал на ноги и принимался взволнованно шагать взад-вперед, то снова присаживался на корточки рядом с Бен Вафой и при этом произносил вслух какие-то непонятные звуки, которые вертелись у него на языке, но никак не складывались в нужное ему имя. Наконец, он в полном отчаянии бросился ничком на землю и стал судорожно рыть ее пальцами, как будто хотел извлечь из ее недр давнее воспоминание. Однако, как он ни мучился — все было напрасно.
Тем временем Шварц и Пфотенхауер кратко ознакомили шейха доров с событиями последних дней. Он узнал также, что привело обоих друзей в Судан и почему они преследует Абуль-моута. Многого из их рассказа он не понял, некоторые взгляды и поступки этих двух ученых показались ему странными и необъяснимыми. Он твердо усвоил только одно: с Отцом Смерти скоро будет покончено, его схватят и доставят в Фашоду, в руки страшного Отца Пятисот. Такая перспектива приводила его в восторг, и он готов был выступить в поход тотчас же, как прибудут его люди.
— С таким сильным войском, как у нас, мы можем быть уверенными в успехе, — говорил между тем Шварц. — Но меня несколько тревожат нуэры. Если они пойдут с нами, то не исключено, что они захотят переметнуться к Абуль-моуту, если же нет — к ним придется приставить целый отряд охранников, без которых мне трудно будет обойтись во время боя.
— Если тебя беспокоит только это, я могу тебе помочь, — ответил шейх.
— Каким образом?
— Среди моих воинов, которые скоро будут здесь, находится проповедник нашего племени. Аллах наградил его даром красноречия, против которого не может устоять даже самое черствое сердце. Когда на него снисходит вдохновение, он покидает нас и отправляется странствовать далеко вниз, до самой страны шиллуков. Среди нуэров ему тоже приходилось бывать, он хорошо их изучил и знает, как с ними говорить. Разреши ему пойти на корабль и прочитать твоим пленникам проповедь. Можешь быть уверен: он так воодушевит их, что они будут гореть желанием пролить свою кровь в борьбе против Абуль-моута.
— Что ж, можно попробовать. А сейчас мы пойдем к твоим людям и отправим одного из них навстречу остальным, чтобы он заставил их поторопиться.
Шварц и Отец Булавы снова направились в сторону леса. Пересекая лагерь, они прошли совсем близко от Сына Тайны, который все еще не мог вспомнить какое-то имя и бормотал:
— Абу… Абу… Абу эн… эн… эн… О, Аллах, сжалься надо мной, дай мне вспомнить это имя!
— Что такое с этим юношей? — спросил шейх удивленно. — Он, должно быть, лишен рассудка?
— Нет. Он долгие годы не знал ничего о своем происхождении, но до недавнего времени у него не было ни малейшей надежды когда-нибудь узнать правду о себе. Наверное, сейчас он снова пытается и не может что-то припомнить.
Они пошли дальше. Совсем недалеко от лагеря, поблизости от того места, с которого Йозеф Шварц и Охотник на слонов наблюдали за мятежниками, шейх остановился и указал своему спутнику на высокие кусты, между которыми притаились три всадника верхом на верблюдах. Они держали на привязи еще одного, четвертого, верблюда, который, по-видимому, принадлежал шейху.
Отец Булавы подошел к всадникам и объяснил им положение дел. Он старался говорить как можно медленнее и четче, чтобы Шварц слышал каждое слово и мог удостовериться, что его недавний пленник действительно не имеет никаких задних мыслей.
Доры были немало изумлены, когда выяснилось, что во вражеском лагере шейх неожиданно обрел союзников. Однако, узнав подробности, они принялись с восторгом предвкушать ожидавшее их впереди приключение. Один из всадников поспешил прочь, горя нетерпением сообщить новость своим товарищам, остальные двое вместе с шейхом и немцем вернулись в лагерь.
Сын Тайны все еще пытался совладать со своей непокорной памятью. «Абу… Абу эн…» — все время повторял он, но как звучало имя дальше — вспомнить не мог. Сочувственно наблюдая за терзаниями друга, Бен Вафа спросил:
— А где ты видел этого человека, тоже не знаешь?
— Нет, — покачал головой Мазид.
— Но тогда его имя ничего тебе не даст.
— О нет! Если я вспомню, то сразу пойму, когда и где я его встречал. У меня такое чувство, будто этот незнакомец может пролить свет на мою тайну.
— Тогда напряги свою память! Я уверен, Аллах выведет тебя на правильный путь. И я тоже буду стараться тебе помочь.
— Ты? Разве ты можешь назвать мне имя, которого никогда не знал и которое даже я сам давно забыл?
— Если Аллах захочет меня вразумить, может быть, я найду его даже скорее, чем ты. Но вон тот человек возвращается вместе с эфенди и какими-то двумя неграми. На твоем месте я просто подошел бы к нему и спросил, как его зовут.
— Да, конечно, я это сделаю, но ведь люди так часто меняют свои имена и прозвища! Но попытаться все равно стоит.
Юноша поднялся с земли, сделал шаг вперед и, когда шейх поравнялся с ним, обратился к нему со словами:
— Господин, могу я попросить тебя назвать мне свое имя? Конечно, я еще слишком молод и не должен первым заговаривать со старшим, но я задаю тебе этот вопрос не из пустого любопытства. Аллах вознаградит тебя, если ты согласишься ответить мне на него!
— Да, разумеется, я тебе отвечу, — сказал шейх. — Меня зовут Абузабих.
Поблагодарив, Сын Тайны вернулся к своему другу и разочарованно протянул:
— Я так и думал! Он назвал мне не то имя, которое я имел в виду.
— Может быть, ты обознался? — предположил Бен Вафа.
— Нет, нет, я не мог ошибиться! Эту рану на лице я уже видел однажды, причем в то время она еще не зажила. С тех пор должно было пройти много лет, значит, я был тогда еще совсем ребенком.
— У моего народа такого обычая нет, но говорящие по-арабски люди, кажется, выбирают друг другу имена по каким-то особенностям, которыми они обладают? — задумчиво спросил Сын Верности.
— Да, зачастую так и происходит.
— Хочешь, я скажу тебе, как я бы назвал этого человека?
— Как?
— Абу эн-Нисфи аль-Уаджи — Отец Половины Лица.
Тут Сын Тайны ударил в ладоши и вскричал:
— Вспомнил, вспомнил! Да, ты был прав, Аллах просветил тебя раньше, чем меня. Ты сказал Отец Половины Лица? Не совсем так, его имя не было таким длинным, его звали просто Абу-эн-Нисфи, Отец Половины. Все-таки я вспомнил! Хвала Аллаху и всем Пророкам!
— Я рад, что смог тебе помочь. Но ты знаешь теперь, где ты слышал это имя и видел его обладателя?
— Да, да, знаю. Он пришел в нашу палатку, истекая кровью, и мать промыла и перевязала ему рану. Потом он долго-долго находился у нас, медленно выздоравливая. Он часто сажал меня к себе на постель и играл или разговаривал со мной. Он много шутил и просил, чтобы я всегда называл его Отец Половины, потому что теперь у него была только одна половина лица. Это, как и многие другие эпизоды, совсем стерлось из моей памяти, но при взгляде на него воспоминание снова затеплилось во мне. О, Аллах, я могу поговорить с ним о моей родине и моей матери!
— Если это действительно он!
— Это он! Этот человек не может быть никем иным, кроме Абу эн-Нисфи! Я пойду к нему!
Он хотел было бежать за шейхом, но это оказалось ненужным, так как тот услышал его последние слова и подошел сам.
— Мне показалось, ты назвал меня Абу-эн-Нисфи, — сказал он. — Можно узнать, о ком ты говорил?
— О тебе, господин, — ответил Сын Тайны. — Разве это не твое имя?
— Нет, но когда-то меня так в шутку называл один маленький мальчик. Его общество облегчало мои страдания и смягчало боль.
— Где это было? Скажи мне, пожалуйста, не скрывай!
Шварц, Пфотенхауер и некоторые солдаты тоже подошли поближе, чтобы послушать, что так взволнованно обсуждает с новым союзником Сын Тайны.
— Это было в Кенадеме, в стране Дар-Рунга.
— Кенадем, о, Кенадем! — воскликнул Сын Тайны, услышав это сладостное для его ушей слово.
— Ты разве знаешь это место? — удивился Отец Булавы.
— Нет, но не расспрашивай меня сейчас ни о чем во имя Аллаха, а отвечай, пожалуйста, на мои вопросы, хоть я и намного моложе тебя! Как ты попал тогда в Кенадем?
— Я дал обет посетить могилу знаменитого марабута[157] из Тунджура. Путь мой был очень далек и труден, но я достиг цели и совершил все обряды. Потом, освобожденный от моих грехов, я отправился назад, но между озером Рахат-Герази и Кенадемом на нас напали бандиты из разбойничьего каравана. Некоторые из нас защищались, и я был среди них. Страшным сабельным ударом один из разбойников отсек мне нос, щеку и половину подбородка. Аллах на время забрал из тела мою душу, чтобы избавить меня от нечеловеческой боли. Разбойники победили, унесли все наше имущество и ушли, я же остался бездыханным лежать на земле. В таком виде нашел меня один проходивший мимо путешественник. Он обнаружил, что во мне еще теплится жизнь, и отнес меня к себе домой, в Кенадем. Там я и очнулся, когда меня стали перевязывать.
— Как звали того человека, который тебя спас?
— Это был эмир Кенадема, Барак аль-Кади.
— А ты когда-нибудь видел его жену?
— Много раз, потому что среди женщин Кенадема не принято закрывать лицо от гостей своих мужей и повелителей.
— Опиши мне ее!
— Зачем?
— Опиши ее, пожалуйста, я прошу тебя! — упрямо повторил юноша, не замечая резкости своего тона.
— Она была доброй, мягкой и нежной, как луна, на лучах которой спускается на землю благодатная роса. Все любили ее. Ее муж, эмир, был мрачный и суровый человек, но он спас мне жизнь, за то я ему благодарен до конца своих дней. Мы открыли друг другу вены, чтобы смешать нашу кровь. Так мы побратались, и две наши жизни слились в одну. Он очень любил меня, но больше меня — о, намного больше — он любил только свою жену и ребенка.
— Их ребенка ты тоже знал?
— Их любимого сына? О да! Он был подарком Аллаха, на нем сосредоточились все мечты его матери и надежды отца.
— И что же, эти надежды сбылись?
— Этого я не знаю, потому что с тех пор я ни разу больше не бывал в Кенадеме.
— И эмир, твой кровный брат, тоже не был у тебя в гостях?
— Нет. Правда, месяц назад, когда я находился в отлучке, к нам приходил какой-то человек. Он назвался Бараком аль-Кади, эмиром из Кенадема, и спрашивал меня. Узнав, что меня нет, он в тот же день ушел. Но это, скорее всего, была ошибка, потому что многие из моих воинов узнали в пришельце известного в этих местах Охотника на слонов.
— Эмир Кенадема и Охотник на слонов — одно и то же лицо, — вскользь бросил Сын Тайны.
— Аллах! Не может быть! В чем причина?
— Скоро узнаешь. Ты помнишь, как звали сына эмира?
— Да. У него на каждой ноге не хватало мизинца, поэтому ему дали имя Мазид-эт-Тмени-Саваби-Илиджр — Мазид с Восьмью Пальцами.
— Ну, так посмотри сюда!
Сын Тайны поспешно разулся и показал шейху сперва правую, а затем левую ногу.
— Что за чудо! И у тебя на ногах только восемь пальцев! Ах, так ты, может быть…
Отец Булавы осекся на полуслове, внимательно посмотрел на Сына Тайны, а потом продолжал:
— Твои черты еще по-юношески мягкие, я не могу узнать в них черты твоего отца или твоей матери, но внутренний голос говорит мне, что ты — сын моего кровного брата. Ответь мне скорее, так ли это, подтверди, что мое предчувствие не обманывает меня!
— Да, это я, господин, я — тот самый мальчик, которому разрешено было играть с тобой и называть тебя в шутку Абу эн-Нисфи. До последнего времени я и сам не знал, кто я, и только совсем недавно я смог бросить взгляд на изображение моей родины на карте. Но едва ты появился, я сразу узнал тебя, и теперь я так уверен, что я — сын эмира из Кенадема, как будто сам Пророк сказал мне об этом.
— Дай же мне обнять тебя, сына и наследника моего кровного брата! Я почувствовал, что нас связывает какая-то нить, еще до того, как твои слова убедили меня в том же самом. Я чувствую такую же радость, как если бы встретил самого эмира. Отныне все твои друзья станут моими друзьями, и моя рука будет безжалостно крушить всех твоих врагов!
Он крепко прижал юношу к своей груди поцеловал его. Потом Сын Тайны и Абу эн-Нисфи отошли в сторонку от других и, усевшись под развесистым деревом, углубились в беседу. Они больше не замечали никого и ничего вокруг, и не удивительно: им много нужно было рассказать друг другу!
Чтобы не мешать старым знакомым предаваться воспоминаниям, Шварц отвернулся от них и только сейчас вспомнил, что Отец Одиннадцати Волосинок все еще стоит на берегу залива и дожидается обещанной подмоги. Тогда немец, к немалому восторгу солдат, громко объявил, что только что был убит большой, жирный бегемот, и поручил Отцу Смеха и еще нескольким солдатам перетащить тушу бегемота в лагерь.
Солдаты довольно легко отыскали по описанию Шварца место, где должен был ожидать их словак. Он, действительно, все еще стоял с ружьем на плече возле поверженного бегемота. Еще издалека завидев приближавшихся к нему людей, Отец Листьев сердито закричал им навстречу:
— У вас что, ноги отсохли, что вы ими еле передвигаете? Я уже больше часа стерегу это чудовище, чтобы к нему не вернулась жизнь! Если бы оно проснулось и убежало, никакие мои просьбы и уговоры не смогли бы заставить его вернуться. Разве недостаточно, что я застрелил его для вас? Я должен был еще взвалить его на спину и поднести прямо к вашим ногам?
— Что? Это ты его застрелил? — спросил Отец Смеха.
— Ну да, а кто же еще? — ответил малыш, гордо подбоченясь.
— Кто-то другой. Хотя пули твоего громового ружья очень большие, все же они не смогли бы проделать такую дыру. Это должна быть разрывная пуля, а я знаю, что такие пули есть только у Отца Аиста. Значит, он и убил бегемота, а вовсе не ты.
Привыкшие к перебранкам двух джелаби солдаты, не обращая на них внимания, принялись разделывать тушу зверя своими длинными ножами. Отец Одиннадцати Волосинок в гневе топнул ногой и перебил своего друга:
— Молчи! Ты не можешь ничего знать, потому что тебя при этом не было! Хотя твоя морда и велика так же, как морда этого чудища, но мозг внутри нее такой маленький и ничтожный, что им не насытился бы и муравей. Ты, что ли, не слышал грохота моего ружья?
— Мы услышали два выстрела, и от этого проснулись, — невозмутимо пояснил Отец Смеха. — И сразу поняли, кто стрелял. Так что можешь не пытаться внушать мне, что это был ты, потому что не так-то просто одурачить того, кто знает названия всех деревень и народов, всех городов, а также имена всех людей земли!
— Оставь меня в покое со своими деревнями и народами! Я не верю, что ты знаешь даже то место, где все люди в ужасе разбежались, увидев тебя младенцем. Вот я действительно ученый, потому что я постиг все языки мира и все латинские науки. В моей голове можно читать как в раскрытой книге, в которой есть ответы на все вопросы, и если я пожелаю, мой разум снизойдет на несведущих, как солнце, с которым не сравнится ни одно из других творений Небесного Отца.
— Да прекратишь ты когда-нибудь свою идиотскую болтовню? — раздраженно вскричал Отец Смеха, в то время как по лицу его разлилось неизъяснимое блаженство. — Солнце и весь небосвод возликовали, когда я впервые появился на свет! Ты, может быть, забыл, кто я такой? Так знай же, меня зовут Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Отайба Абуласкар бен Хаджи Марван Омар аль-Сандази Хафиз Якуб Абдулла аль-Санджаки! А ты всего лишь жалкий Ускар Иштван. Разве это имя можно сравнить или даже просто произнести рядом с моим?
— Еще как можно! Твое длинное имя не что иное, как отвратительный от головы до хвоста ленточный червь, которого все ненавидят и радуются, когда могут удалить его прочь. Мое же исполнено силы, звучно и благородно, оно ласкает слух, как прекрасная музыка. А каково имя, таков и человек. Пока ты спал и оглашал всю вселенную своим мерзким храпом, я стоял на страже и вел кровопролитную борьбу с великаном животного мира. Посмотри на него! Видишь дыру у него в голове? Туда попала моя пуля, и действие ее было столь велико, что зверь получил спазм жевательных мышц. Он не мог даже пошевелиться. Только благодаря моей меткости он отправился к своим праотцам! А теперь скажи мне, совершал ли ты когда-нибудь или мог бы совершить в будущем что-либо подобное моему подвигу?
— С легкостью! — ответил Отец Смеха. — Только позови сюда гиппопотама, и ты увидишь, как при нашей встрече им овладеет ужас!
— Этому я охотно верю, потому что стоит ему увидеть твое лицо, и он тотчас в ужасе бросится прочь.
Теперь Хаджи Али рассердился не на шутку.
— Ни слова больше о моем лице! — потребовал он. — Кто, как не ты, виноват в том, что оно стало таким?
— Я?
— Да, ты один! Мое лицо было образцом мужской красоты, черты его сияли, как первые строки Корана, глаза лучились отвагой и нежностью, а щеки рдели подобно утренней заре. Но вот пришел ты, и когда я тебя увидел, ужас, словно землетрясение, прошел по всему моему телу. С тех пор всякий раз, как ты попадаешься мне на глаза, меня охватывает тот же неодолимый страх, убивший мою былую красу, воплощение небесной души моей. Я только тогда могу надеяться на исцеление от моих нечеловеческих страданий, когда ты навсегда исчезнешь из моей жизни и твой мерзкий облик перестанет маячить у меня перед глазами!
— Тогда иди отсюда и не смей больше попадаться на моем пути! — срывающимся от обиды и негодования голосом проговорил Отец Одиннадцати Волосинок. — Ты — гвоздь в моем гробу, и ты станешь причиной моей смерти. С тех пор, как мы познакомились, я медленно чахну, и злость на тебя, как червь, подтачивает меня изнутри. Ты убил мою молодость и заранее отравил дни моей старости. Пусть ангел в День Суда утыкает всю твою кожу иголками, как шкуру шелудивого пса!
— А тебя пусть он подвесит на одиннадцати волосках твоих усов как раз над дымовой трубой преисподней, из которой…
Он не успел договорить, так как упоминание об одиннадцати волосках окончательно вывело их обладателя из себя.
— Закрой рот, ты, дедушка деревень и народов! — проревел он, дико вращая глазами. — Сейчас ты узнаешь меня и мои усы!
С этими словами он бросился на Хаджи, чтобы схватить его за горло и хорошенько проучить. В жару спора оба противника изменили свое первоначальное местоположение и стояли теперь у самой воды. Пытаясь увернуться от словака, Отец Смеха отпрыгнул назад и — потерял равновесие.
— О, Боже, мы тонем! — взвизгнул он, прежде чем исчезнуть под водой.
Употребив местоимение «мы», Отец Смеха не оговорился: его другу угрожала та же опасность, что и ему самому. Дело в том, что слишком сильно разогнавшийся Отец Листьев не успел вовремя затормозить и вслед за Хаджи упал в воду.
Увидев, что произошло, солдаты испустили единодушный крик ужаса. Они не боялись, что незадачливые драчуны утонут, — все жители прилегающих к Нилу районов обычно являются превосходными пловцами, — нет, главную опасность представляли крокодилы, которыми кишмя кишел залив Хусан-эль-Бахр.
Именно поэтому солдаты даже не посмотрели туда, где над головами двух джелаби взметнулись огромные фонтаны брызг, а стали обшаривать глазами всю поверхность залива, боясь увидеть где-нибудь одного из кровожадных чудовищ. Действительно, в нижней части залива на небольшом островке суши грелись на солнышке несколько этих тварей. Они подняли головы на крик, но в воду идти не решились. Человеческие голоса отпугивают крокодила и часто могут помешать ему совершить нападение, даже если хищник очень голоден.
Отец Одиннадцати Волосинок вынырнул из воды и боязливо оглянулся сначала на крокодилов, а потом на то место, где, по его расчетам, должна была торчать голова Отца Смеха. Не обнаружив последней, он испуганно воскликнул:
— Его нет, где же он?
— Еще под водой, — ответили ему.
— О, Аллах, у него кончится воздух, и он может тотчас же утонуть!
Ссора была забыта, и словак снова нырнул, чтобы спасти своего гибнущего друга. В тот же миг на поверхности показался Отец Смеха; он повертел головой в разные стороны и воскликнул:
— Где Отец Одиннадцати Волосинок? Я его не вижу!
— Он ищет тебя под водой, — наперебой загомонили солдаты.
— О, добрейший, вернейший, достойнейший друг! Он готов пожертвовать жизнью ради меня! Я иду к нему вниз!
Хаджи погрузился на дно, а в следующую секунду появился словак. Не увидев друга и на этот раз, он жалобно заголосил:
— Он мертв! Ни один человек не сможет продержаться без воздуха так долго! Он утонул, но я должен, по крайней мере, вытащить его останки!
— Оставайся наверху! — крикнул один из солдат. — Он только что нырнул, чтобы отыскать тебя.
— О, храбрейший, возлюбленный брат мой! Я не могу оставить его, иначе он попадет в пасть крокодилам.
И Стефан нырнул в воду. Так продолжалось несколько раз, пока, наконец, две мокрые головы одновременно не вынырнули на некотором расстоянии друг от друга. Отряхнув с себя воду, Стефан обрадованно воскликнул:
— Ты ли это, утешение души моей, отрада моего сердца?
— Да, это я! Какое блаженство видеть тебя живым и невредимым, о свет очей моих!
— Иди же скорее сюда, чтобы я мог обнять тебя, радость моей жизни!
— И ты иди ко мне, я горю желанием прижать тебя к своему сердцу!
Громко ликуя, оба человека устремились друг к другу и горячо обнялись в воде, а потом рука об руку поплыли к берегу. Едва они успели достичь его и выбраться на сушу, как один из солдат предостерег их, указывая на островок, где недавно лежали крокодилы:
— Они нырнули в воду, они вас увидели и плывут сюда, чтобы напасть на вас! Отойдите подальше от залива!
Посмотрев туда, куда указывал солдат, все действительно увидели несколько прорезавших воду борозд. Через считанные мгновения темные, тупые морды крокодилов высунулись из воды у самого берега.
— Они опоздали! Ты меня спас! — вскричал словак, снова заключая своего друга в объятия.
— Да, они просчитались! — присоединился к восторгам друга Хаджи. — Но не я тебя, а ты меня спас. Если бы не ты, я достался бы на обед этим чудовищам, да разразит их Аллах!
— Да, пусть их жизнь будет короткой, а смерть — ужасной! Пусть имена их предков будут навеки забыты, а потомки пусть будут томимы муками вечного голода! Пусть болезни разрушат их тело, а несчастья — их души до тех пор, пока они не принесут искреннего покаяния и не признают, что есть мясо живых людей — грех против законов Аллаха!
— Они никогда не раскаются, потому что их сердца очерствели, а их уши не слышат предостерегающих голосов. Они будут и дальше костенеть в своем грехе, и за это в загробной жизни им придется вечно гореть на медленном огне. Но мы должны радоваться, что избежали их зубов и должны показать им, как сильно мы их презираем отныне и навсегда.
И друзья по восточному обычаю наградили крокодилов самыми уничижительными именами и пожелали им скорее попасть в пучину преисподней. Покончив с этим, они принялись церемонно благодарить друг друга. Каждый утверждал, что именно другой спас его от великой опасности, и оба с такой же горячностью твердили о своей вечной любви и преданности, с какой еще недавно они осыпали друг друга оскорблениями и насмешками. Когда поток их красноречия, наконец, иссяк, словак и Отец Смеха скинули мокрую одежду и принялись помогать солдатам разрезать на длинные полосы мясо и сало гиппопотама. Эти полосы они нанизали на копья и принесли в лагерь, где для приготовления вкусного жаркого уже было разведено несколько костров.
Тем временем корабли подошли к берегу и встали на якоря. Почуяв запах жареного мяса, солдаты стали рваться на берег. Это не очень понравилось Шварцу, так как он не был до конца уверен ни в людях Хасаб Мурада, ни, тем более, в нуэрах. Однако Хасаб Мурад уверял, что оказанное им доверие только укрепит преданность солдат, и Шварцу волей-неволей пришлось с ним согласиться. Он позволил всем желающим покинуть корабли, однако из предосторожности приказал своим людям тайно следить за каждым шагом нуэров. Теперь ни один из них не мог удалиться с места стоянки незамеченным.
Глава 17
ИСТОРИЯ СО СЛОНАМИ
Итак, грозный гиппопотам превратился в чудовищную гору мяса, которого оказалось так много, что каждый солдат смог получить довольно солидный кусок и приготовить его своим излюбленным способом. В последующие полчаса на равнине можно было наблюдать множество любопытнейших сценок, которые дали бы какому-нибудь художнику материал для целой папки этюдов. Никто не подозревал о том, что вскоре веселая трапеза будет прервана самым неожиданным и весьма неприятным образом.
Шварц, Пфотенхауер, Отец Половины и Хасаб Мурад сидели в стороне от других и ели жареное сало гиппопотама, которое Шварц нашел чрезвычайно вкусным.
— Ну, как вам это угощеньице? — спросил Отец Аиста. — По мне, так даже в старой доброй Германии ни один мясник или там коптильщик не сможет что-нибудь предложить лучше! А уж тут, на Ниле, я только одно блюдо знаю, которое смогло бы сравниться с этим, да, пожалуй что, и перещеголяло б его.
— Что же это за блюдо? — заинтересовался Шварц.
— Какое блюдо? Известно, жаркое из слона, только оно уж должно быть приготовлено по всем правилам. Тут все дело в том, чтобы точно знать, откуда вырезать мясо. Да вы небось его уж пробовали?
— Мясо слона я ел, но я не знаю, какая часть его тела вкуснее всего.
— Что ж, я могу вам подсказать. Весьма вероятно, что в этой глуши нам может встретиться какой-нибудь из этих слонов-великанов, а то, глядишь, и целое стадо. И тогда, если дело дойдет у нас до стрельбы, я уж вам покажу и куда целиться надо, и как мясо готовить. Или вы, может, знаете, в какое место стрелять надо, чтоб сразу наповал уложить слона?
— Туда, где хобот переходит в голову.
— Верно, хотя, если, к примеру, стрелять разрывной пулей, то и другая рана может для животного оказаться смертельной. Так вот мясо нужно вырезать из хобота, около того места, что вы назвали. Лучшего жаркого я, ей-богу, никогда в жизни не едал.
Как будто для того, чтобы усилить действие своих слов, Пфотенхауер зацокал языком и завращал глазами. Нос его энергично качнулся сверху вниз, выражая свое полное согласие с мнением хозяина.
— Слоновий хобот? — недоверчиво переспросил Шварц. — Мне всегда казалось, что он должен быть довольно жестким.
— О нет! Он нежный и мягкий — ну точь-в-точь, как язык северного оленя. Но тут не только сам кусок важен, его нужно уметь приготовить. Жарят его на особом жире, который берется около слоновьих почек, такой, доложу вам, это жир, что и сравнить ни с чем его нельзя. Эх, хотелось бы мне, чтоб к нам сейчас прибежал хоть какой-никакой слон! Тогда вы сами бы отведали, о чем я вам пытаюсь рассказать.
— Да вы гурман! — улыбнулся Шварц. — Я уже готов поверить, что ради маленького кусочка мяса вы действительно согласились бы на встречу с целым стадом слонов. Довольно рискованное пожелание!
— А вы, кажется, боитесь?
— Нет, конечно, но представляю, какой переполох учинили бы здесь эти гигантские животные!
— Ну, когда они в добром расположении духа, с ними еще можно сладить, а вот если бы сюда забежал разъяренный слон, нам всем туго бы пришлось. Может, слышали, кого здесь «бродягами» величают?
— Да, так называют старых слонов-самцов, которые из-за своего злобного нрава не могут прижиться в стаде и вынуждены бродить везде в одиночку. Это очень опасные животные! Горе тому, кто неожиданно столкнется с одним из них, особенно на открытом пространстве!
— Да уж, это точно! Если б такой бродяга вздумал к нам заглянуть, он бы в два счета затоптал всех наших коров, одну за другой. А уж самое страшное — это когда такой слон от своего стада улепетывает. Уж тогда он все на своем пути с землей равняет, он прямо-таки ума лишается от ярости, и даже ежели вы самый распрекрасный стрелок на свете, лучше вам с ним не связываться, а удрать подобру-поздорову в ближайшие кусты, да и схорониться там, чтоб он вас, не дай Бог, не заметил.
— Вы говорите как человек, который испытал все это на собственном опыте.
— Да уж, было дело там, на реке Джур. Я тогда только что подстрелил птицу, ну и возился с ней, и мне помогали двое ниам-ниам. Тут вдруг у нас под ногами начинает дрожать земля, и раздается такой грохот, как будто… О, Господи, что это? Вы часом ничего не слышите?
Шварц прислушался и ответил:
— Такое впечатление, что где-то вдалеке гремит небольшой водопад. Но здесь вроде бы…
— Нет, это уж не водопад, а кое-что совсем другое. Эх, недаром говорят умные люди: «Не кличь лихо, пока оно тихо!» Только б нам успеть спрятать стада!
Серый вскочил, приложил руки рупором ко рту и, обращаясь к солдатам, которым было поручено присматривать за скотом, закричал:
— Эй, пастухи, уводите коров на равнину, как можно дальше! Слоны идут! Они всех растопчут!
Его зычный голос разнесся по всему лагерю. Солдаты повскакали со своих мест и схватились за оружие. Сторожа подбежали к животным и копьями погнали их прочь, туда, куда указывал Пфотенхауер, который все еще стоял на прежнем месте, размахивая руками, словно ветряная мельница.
Шум, который услышали Серый и Шварц, доносился из леса, видневшегося на другом берегу залива. Сейчас этот шум заглушили громкие крики впавших в панику солдат и пастухов. Пфотенхауер набрал побольше воздуху в свои могучие легкие и загремел, перекрывая стоявший над лагерем гомон:
— Тише, успокойтесь все, иначе мы погибли!
Действие этого приказа было мгновенным: люди разом умолкли, и на равнине воцарилась гробовая тишина.
Теперь грохот послышался снова, он стал уже вдвое сильнее и приближался с каждой секундой. Казалось, страшное землетрясение вот-вот расколет земной шар надвое.
— О, Боже, это действительно слоны! — в страхе закричал Отец Половины.
— Идет целое стадо! — подхватил Хасаб Мурад. — Мы должны спрятаться, пока они нас не настигли!
Он метнулся было в сторону кустов, но попавшийся ему на пути Отец Одиннадцати Волосинок схватил его за руку со словами:
— Если ты не боишься охоты на ловцов рабов, то сейчас тебе тем более нечего бояться. Слон — это ангел по сравнению с ловцом рабов.
Затем, обращаясь к Шварцу, Стефан по-немецки продолжал:
— Господин доктор, только что увидите вы, как я не боялся слона, огромного. Я даю ему пулю из ружья, моего, прямо в нос, хоботообразный.
Шварц не успел ответить на заявление словака: как всегда в подобных ситуациях, каждая секунда была сейчас на счету. С того момента, как Серый уловил отдаленный рокот, прошло около двух минут. Слоны были уже совсем близко. Земля сотрясалась от их топота так, как трясутся стены маленького деревянного домика, когда мимо проезжает сильно нагруженная повозка. Затем воздух прорезал громкий, пронзительный звук, как будто сто труб взревели одновременно; и вот из-за края кустарника показался четвероногий Голиаф с воинственно поднятым хоботом, хлопающими ушами и торчащим, словно оборонительное жало, маленьким смешным хвостиком.
Один бивень у слова отсутствовал, а тот, который имелся в наличии, был чудовищной величины и указывал на солидный возраст животного. Высота слона достигала более четырех метров.
При виде этого грозного великана суданцев объял непреодолимый ужас. Они побросали свое оружие и кинулись врассыпную с испуганным воем, который насторожил нежданного гостя. До сих пор разъяренный чем-то зверь не замечал ничего вокруг себя, но теперь он остановился и увидел небольшую кучку людей, неподвижно стоявших посреди быстро пустевшего лагеря. Слон описал хоботом широкую дугу, затем снова поднял его и с яростным ревом бросился в атаку.
Храбрецы, решившиеся оказать сопротивление страшному зверю, были не кто иные, как три европейца, Сын Верности и бравый Отец Смеха. Все остальные, в том числе и Отец Половины с Хасаб Мурадом, скрылись за ближайшими деревьями и кустами. Люди фельдфебеля, которые не могли убежать, так как все еще были связаны, вжались в землю и затаили дыхание, чтобы не привлечь к себе внимание слона.
Впрочем, был еще один человек, который не испугался вступить в схватку с опасным врагом. Речь идет, конечно, о Сыне Тайны. Как только животное выскочило из-за кустов, юноша бросился наземь и быстро пополз ему навстречу.
— Беги, ради Аллаха! — крикнул ему Сын Верности. — Он же растопчет тебя! Разве ты не видишь, это хахшил!
«Хахшил» означает по-арабски «бродяга», «шатающийся». Таким образом, зверь, который так внезапно вторгся в бывший лагерь фельдфебеля, был одним из тех страшных слонов-одиночек, о которых недавно вспоминал Пфотенхауер и Шварц.
— Да, так оно и есть, это хахшил, — подтвердил Серый. — Ваши пули ничего ему не сделают. И помилуй нас, Боже, если моя не окажется смертельной.
Люди стояли плечом к плечу и держали наготове свои ружья. Но стрелять они пока не могли, так как слон поднятым хоботом прикрывал то единственное место на своей голове, которое было у него уязвимым.
— Разойдитесь и стреляйте в него с боков, — по-арабски крикнул Отец Аиста, когда между людьми и животным оставалось не более сорока локтей. — Оттуда удобнее целиться!
Он отпрыгнул в сторону, и другие последовали его примеру. На месте остался только маленький словак. Он встал на колени и направил в открытую пасть зверя дуло своего «слоноубийцы».
— Помоги Аллах моей пуле застрять у него в мозгах! — проговорил он. — Иначе эта скотина проломит мне череп!
С этими словами он выстрелил. Как всегда, выстрел имел двойной успех: мощным толчком ружье свалило своего хозяина на землю.
— Приятного аппетита! Со мной все кончено! — воскликнул малыш, вытаращив на «бродягу» полные ужаса глаза.
Все на миг зажмурились, ожидая, что сейчас слон протянет свой хобот, чтобы схватить и разорвать им врага на мелкие кусочки, но тот отчего-то медлил. Тяжелая пуля словака остановила его смертоносный бег, и он застыл как парализованный — конечно, всего лишь на несколько мгновений, но их оказалось достаточно, чтобы Стефан был спасен.
— Беги! Я его задержу! — крикнул его верный друг — Отец Смеха, увидев, какая опасность угрожает малышу. Он вскочил и всадил пулю в нижнюю, самую сильную, часть слоновьего хобота. Этот выстрел только еще пуще разозлил животное, и оба джелаби неминуемо погибли бы, если бы короткая пауза, которую им удалось выиграть, не дала Сыну Тайны возможности выполнить то, что он задумал. Все это время юноша держался немного в стороне, и слон, не заметив его, пробежал мимо. Сразу после выстрела Отца Смеха юноша вскочил на ноги, подбежал к животному сзади и своим длинным ножом полоснул его по одной из задних ног, стараясь перерезать сухожилие. То ли он промахнулся, то ли нож оказался недостаточно острым, во всяком случае, его намерение не удалось, и слон быстро обернулся, чтобы посмотреть на нового противника.
Однако не один, а несколько, много врагов стояли перед ним.
До сих пор всеобщее внимание было целиком поглощено схваткой с «бродягой», и никто больше не думал о том, что грохот, предшествующий его появлению, говорил о присутствии целого стада. Между тем так оно и было. Слоны гнались за старым отшельником, который осмелился переступить границы их владений. Обогнув залив, он исчез из поля зрения преследователей, и они не сразу поняли, в какую сторону он побежал. Теперь они тоже миновали кустарник и остановились на краю равнины. Вновь увидев свою жертву, они громко, торжествующе затрубили и бросились в атаку. Эти враги показались «бродяге» гораздо опаснее, чем люди; отказавшись от мести за нанесенные ему ранения, он снова обратился в бегство.
Число его четвероногих противников равнялось двенадцати — с таким количеством ему, конечно, было не справиться. Все они явно принадлежали к одной семье, глава которой, большой, старый слон, бежал впереди всех. За ним следовали четыре самца, столько же самок и три детеныша. Охваченные яростью и азартом погони, они даже не заметили присутствия людей и с невероятной быстротой пронеслись мимо них.
Стремительно рванувшийся прочь «бродяга» едва не затоптал Стефана и Хаджи Али, но им каким-то чудом удалось увернуться.
— Пропустите самцов и стреляйте только в детенышей! — крикнул Пфотенхауер. — Тогда самки сами прибегут навстречу своей гибели.
С этими словами он сам поднял свое ружье и прицелился в хобот первого слоненка. Шварц последовал его примеру и взял на мушку второго. Оба выстрела прозвучали одновременно, а через несколько секунд и еще один, из второго ствола ружья Серого.
Два детеныша, в которых попали разрывные пули Пфотенхауера, были убиты наповал. Третий, тот, в которого стрелял Шварц, умер не сразу, хотя и был поражен в ту самую точку у основания хобота, куда целятся все опытные охотники на слонов. Слоненок остановился, несколько раз, как маятником, покачал хоботом туда и сюда, издал пронзительный крик боли и зашатался, словно пьяный.
— И этот готов! — закричал Пфотенхауер. — Теперь прячьтесь за большие деревья! Живее, живее!
Все, за исключением Сына Тайны и Бен Вафы, опрометью бросились за немцем к опушке леса; эти двое, вместо того, чтобы послушаться его приказа, улеглись на землю и спрятались в густой траве.
— Зачем надо было бежать? — спросил Отец Смеха, останавливаясь под высоким деревом недалеко от Пфотенхауера. — Ведь мы победили!
— Направо, скорее направо, — коротко распорядился тот, не отвечая на вопрос Хаджи. — Они уже идут! Перезарядить ружья! Матери захотят отомстить нам за своих детенышей.
Он оказался прав. Услышав крик смертельно раненного Шварцем слоненка, самки прервали преследование и вернулись назад. Склонившись над своими детенышами, они принялись осторожно теребить их хоботами. Мать умиравшего слоненка встала бок о бок с ним, чтобы поддержать его и не дать ему упасть. Она осматривала рану своего дитя, нежно гладила и ласкала его. Однако все ее усилия были напрасны: слоненок все больше и больше клонился вниз и, наконец, рухнул бездыханный. Немного погодя самки поменялись местами, чтобы взглянуть и на других детенышей. Поняв, что все трое мертвы, слонихи подняли головы к небу и громко, пронзительно и жалобно затрубили.
— Ну, теперь уж они захотят нас наказать, — негромко сказал Пфотенхауер.
— У меня такое чувство, будто мы заслужили наказание, — признался Шварц. — Всякий, у кого есть сердце, не смог бы равнодушно смотреть на горе этих матерей.
— Я вижу, и вам не чужда знаменитая немецкая сентиментальность? — грустно улыбнулся Пфотенхауер. — Что и говорить, трудно найти страшнее хищника, чем человек. Но гляньте-ка туда! Видите?
— Да. Одна из самок села на задние ноги и трубит еще жалостливее.
— А вон и вторая вниз сползает! Ах, я, кажется, смекаю, в чем тут дело! А вы еще не угадали?
— Может быть, это Сын Тайны?
— Вот-вот, так оно и есть, и Бен Вафа с ним. Что за отчаянные ребята! Они уж подобрались к этим слонихам, да и пустили в ход свои ножи. Но нам, пожалуй, стоит поспешить к ним на подмогу, покамест они в беду не попали. Да и зверей этих надобно от мучений лишних избавить.
Самки, занятые своими детенышами, не заметили укрывшихся в траве юношей. Пользуясь этим, друзья осторожно подкрались к ним сзади на расстояние приблизительно в десять шагов. Затем Бен Вафа извлек из набедренной повязки свой кульбедах — этот тяжелый серповидный нож является очень опасным оружием и используется как для удара, так и для метания — и, метнувшись к первой самке, перерезал ей сухожилия задних ног. После этого он осторожно подполз ко второй слонихе и в два сильных взмаха парализовал и ее. Это произошло как раз в ту же секунду, когда третий зверь рухнул под ударами Сына Тайны.
Взревев от боли и ярости, слоны обернулись к своим мучителям и попытались подползти к ним, чтобы отомстить, но все было тщетно. Это было действительно душераздирающее зрелище. К счастью, подоспевшие охотники несколькими меткими выстрелами прекратили страдания несчастных животных.
— Ну вот, теперь для них все уж позади, — сказал Пфотенхауер, снова заряжая свое ружье. — Славная вышла охота, ничего не скажешь! Шесть слонов за каких-нибудь четверть часа — это вам не фунт изюма слопать.
— А по-моему, это скорее напоминает жестокую, а главное, совершенно бесполезную бойню, — заметил Шварц.
— Это еще почему?
— Потому что такое огромное количество мяса нам просто некуда будет деть. А бивней ни самки, ни детеныши не имеют.
— Ну, я уж на этот счет другого мнения! Я так разумею, мясо нам очень даже не повредит. По крайности, на ближайшие дни мы уж можем не беспокоиться, чем кормить всю эту ораву людей, которая собралась в лагере.
— Ба! Если мой глазомер Меня не подводит, каждый детеныш весит около двух тысяч фунтов, а каждая самка — не меньше восьми. Все это вместе составляет триста тысяч фунтов мяса. Нам ни за что не съесть столько за два дня, а дольше его все равно нельзя хранить.
— По-моему, вы недооцениваете наших суданцев! Помяните мое слово, они умнут это мясо в два счета! Ну, а кроме того, слон состоит ведь не из одного мяса. У него еще внутренности имеются, и кость, да какая! И уж если о человечности толковать, то пусть уж лучше пара-тройка слонов помрет, чем сотни людей, хотя б и в течение короткого времени, голодными ходить будут. Ну, да что это мы тут с вами лясы точим! Зарядите-ка снова ваше ружьишко! Наше приключение, надо думать, еще не кончилось.
— Вы полагаете, что сюда придут еще и другие слоны?
— Насчет других, не знаю, а те, что здесь уж были, еще к нам наведаются, в этом можете не сомневаться. Как только они обнаружат, что дамочки их куда-то запропастились, то враз бродягу своего бросят и станут их разыскивать. Слоны ведь не хуже людей по следу идти умеют.
— Но убивать их, я надеюсь, мы не будем?
— Не будем, хоть их клыки — соблазнительная добыча. У того здорового слона, что впереди бежал, каждый бивень на добрых сто двадцать фунтов потянет! Ба, гляньте-ка вокруг! Никак, наши друзья-суданцы рискнули носы наружу высунуть? Не прошло и года!
Действительно, первые солдаты стали осторожно выходить из лесу. Увидев, что опасность миновала, они звали остальных, и вскоре вокруг убитых слонов собралась огромная толпа. Даже нуэры явились в полном составе, и это обстоятельство окончательно убедило Шварца в том, что у них не было намерения разыскивать Абуль-моута или кого-нибудь из его людей.
Для разделки новой добычи из числа солдат тут же было набрано несколько команд. В предвкушении вкусного ужина среди людей царило необычайное оживление, которое, однако, продлилось недолго. Едва успели солдаты окончательно оправиться от пережитого волнения и занялись каждый своим делом, как вдруг с запада, оттуда, куда сторожа угнали скот, послышался сильный шум, в котором голоса людей мешались с диким ревом быков и коров.
— Что бы это могло значить? — спросил Шварц. — Должно быть, животных что-то напугало?
— Кто его разберет? Подождем, может быть, скоро все станет ясно, — ответил Пфотенхауер.
Ждать пришлось недолго: едва успели прозвучать эти слова, как солдаты забеспокоились и с криком стали разбегаться в разные стороны. В мгновение ока лагерь снова опустел, и так как теперь никто не загораживал немцам обзора, она смогли беспрепятственно увидеть, что происходит на равнине. По ней, напрягая все свои силы и громко ревя от страха, бежал бык. За ним по пятам несся старый слон, которого недавно преследовало все стадо. В том, что это был именно он, сомнений быть не могло: его легко можно было узнать по отсутствию одного бивня.
— Черт возьми, что-то мне эти шутки перестают нравиться! — в тревоге вскричал Пфотенхауер. — Теперь все зависит от того, куда бык повернет.
— Ему не спастись, — заметил Шварц. — Слон бежит вдвое быстрее.
— Самое плохое, что бык как назло мчится прямо на нас, но слон его вот-вот догонит. Нам сейчас надо быть тише воды, ниже травы, может, тогда и пронесет.
В следующее мгновение «бродяга» настиг быка. Вместо того, чтобы ударить его сзади, он поравнялся с ним и своим огромным бивнем вспорол его бок.
Бык взревел и упал на землю. Несмотря на страшную рану, он хотел снова вскочить, но слон нанес ему вторую, еще более глубокую, а потом начал топтать его ногами и поддевать бивнем с такой силой, что несчастное животное вскоре превратилось в окровавленную, бесформенную массу.
Ярость «бродяги», возбужденная стычкой со слонами, была еще усилена видом коровьих стад. Расправа с быком, казалось, не удовлетворила его, он оглянулся в поисках новых жертв. Взгляд его упал на группу людей, которые стояли возле края кустарника в том же составе и почти в тех же позах, что и в прошлый раз. Слон взревел и бросился на них со скоростью, какую нечасто удается развить даже самой лучшей скаковой лошади.
— Спасайтесь! — закричал Пфотенхауер. — Бегите в лес и лезьте на деревья! Стрелять в него бессмысленно, мы все равно не успеем прицелиться!
Люди последовали его совету и со всех ног понеслись прочь. Отец Одиннадцати Волосинок мчался впереди всех непомерно большими для своего крошечного роста скачками и вопил при этом по-немецки:
— Стреляйте в слона, господин доктор, стреляйте же! Если он поймает нас своим зубом, мы полетим в воздух, атмосферный, и будут размолоты кости, наши! Стреляйте же быстрее, быстрее!
Отец Смеха ни на шаг не отставал от своего друга. Он тоже несся вперед огромными прыжками, словно молодая пантера, и сходство это еще усиливало рычание, которое срывалось с его губ.
— О, Аллах! О, провидение! О, вечность! — на одном дыхании кричал Хаджи. — Он меня сейчас схватит, этот слон, проклятый! О, пусть бы он обрушился в самую глубокую дыру преисподней, туда, откуда уже нет выхода!
Как известно, суданец абсолютно ничего не может делать молча. Он должен непрерывно говорить что-то, подбадривать сам себя, даже если тем самым нещадно себе вредит.
Сын Тайны и Бен Вафа тоже подали голоса, может быть, надеясь отпугнуть слона. Они повернули немного вправо, слон же бежал строго по прямой, в том направлении, которое выбрали оба джелаби. Шварц и Пфотенхауер свернули налево. Заметив, что животное уже не гонится за ними, немцы остановились.
— Фу ты, черт, так я, кажись, никогда не бегал, — отдуваясь, сказал Серый. — Если бы мы еще чуточку замешкались, эта бестия растоптала и раздавила бы нас, и от наших пуль ей бы было ни жарко, ни холодно. Теперь «бродяга» вломился в чащу, вон он, видите? Он нацелился на малыша и на знатока деревень и народов! Бежим скорее за ним, покамест не стряслась беда!
— Осторожнее! — остановил его Шварц. — Только не с этой стороны! Стефан и Хаджи уже достигли кустарника, они наверняка смогут найти в нем надежное укрытие. Мы же, если сейчас бросимся по их следам, рискуем нос к носу столкнуться с «бродягой», когда он будет возвращаться. Надо незаметно подобраться к ним сбоку. Идемте туда!
Теперь и «бродяга» вломился в кустарник. Он продирался сквозь него с такой легкостью, будто у него под ногами была мягкая трава, и при этом раздвигал в стороны или просто обламывал попадавшиеся ему на дороге тонкие стволы. Отец Одиннадцати Волосинок слышал у себя за спиной страшный треск и грохот. Ему казалось, что слон уже совсем рядом, но оглянуться он не решился и только постарался бежать еще быстрее. Внезапно он зацепился ногой за вьющееся растение и упал, Отец Смеха промчался мимо него. Словак снова вскочил, сделал последний судорожный рывок — и, вылетев на берег залива, чуть не свалился в воду во второй раз за этот день. Каким-то чудом малыш успел затормозить; он остановился возле большого дерева и, подняв голову, увидел на верхушке Хаджи. Отец Одиннадцати Волосинок подпрыгнул, ухватился за нижний сук, подтянулся и влез на него. До следующего сука было недалеко, словак взобрался и на него и хотел было подняться выше, так как находился все еще в пределах досягаемости слоновьего хобота. Однако дальше лезть было некуда: крона дерева была снесена ударом молнии, и последний оставшийся сук, точнее, короткий обрубок сука, был уже занят Отцом Смеха, который восседал на нем с таким лицом, будто находился не в смертельной опасности, а на седьмом небе.
— О, Аллах, что мне делать? — жалобно закричал малыш. — Все остальные деревья выше, и на них больше сучьев, почему же тебе надо было выбрать именно это? Сейчас слон сорвет меня отсюда, как спелый плод.
— А кто тебя заставлял лезть за мной? — донеслось сверху. — Я здесь в безопасности. До меня хобот не достанет!
— А как же я? О, Аллах, Аллах, что сейчас будет?! Он идет, все ближе, он уже здесь!
Страх Отца Листьев был вполне обоснован, потому что треск раздавался уже в двух шагах от него.
— Лезь дальше по суку! — крикнул Хаджи. — Он такой же толстый, как и ты, и протягивается над берегом до самой воды. Там чудовище не сможет тебя достать, но торопись, потому что я его уже вижу!
Со своего более высокого места Отец Смеха заметил голову слова, который хватал хоботом мешавшие ему деревца, с корнем выдирал их из земли и затем отбрасывал в сторону.
— Да, я лезу, лезу! — в ужасе воскликнул Стефан. — Больше мне ничего не остается!
Цепляясь ногами и руками, он с необычайной быстротой стал карабкаться по суку, который склонился под его тяжестью почти до самой воды. Здесь слон не смог бы до него дотянуться, и малыш с облегчением перевел дух, но только на одну секунду, потому что в этот момент под ним что-то зашевелилось, и, посмотрев вниз, он увидел торчащие из воды ноздри, глаза и уши гигантского гиппопотама.
— Аллах керим![158] — с новой силой завопил венгр. — Боже, будь ко мне милостив: я вишу над головой бегемота!
В это мгновение слон добрался до дерева, и крик малыша привлек его внимание. Но сначала он заметил не его, а Хаджи, который сверху подавал своему другу советы:
— Держись крепче, так крепко, как только можешь, иначе ты пропал! Если этот хусан тебя поймает, от тебя мокрое место останется!
Слон пристально посмотрел на говорившего своим маленькими глазками, издал угрожающий трубный рев и протянул хобот, чтобы схватить им человека. К счастью, Отец Смеха сидел с поджатыми под себя ногами на два локтя выше, чем мог достать хобот. Увидев, что все попытки слона увенчиваются провалом, Хаджи полуиспуганно-полузлорадно обратился к нему:
— Ну-ка попробуй заполучить меня, ты, сын бесчестного отца, ты, племянник дяди, который стал из-за тебя всеобщим посмешищем! Я смеюсь над твоей силой и презираю твою мудрость! Лезь же сюда, если я тебе так понадобился.
Увидев бесполезность дальнейших усилий, слон перевел взгляд на Отца Одиннадцати Волосинок. Он подошел почти к самой воде и вытянул хобот, чтобы схватить его, но и это ему не удалось. Малыш с удовлетворением отметил это и участливо поинтересовался:
— У тебя разыгрался аппетит, ты, прадед хобота и больших ушей? Ну иди же ко мне, чтобы мы могли наконец обнять друг друга после столь долгой разлуки! Я очень хотел бы…
Донести до сведения слона, чего же ему так сильно хочется, Отец Листьев не успел, так как тот принял молниеносное и роковое для словака решение. Он обвил хобот вокруг сука и с такой силой стал трясти его, что Отец Одиннадцати Волосинок не смог удержаться и, описав в воздухе широкую дугу, шлепнулся в воду.
Слон тоже не смог сохранить равновесие, его передние ноги соскользнули с берега. Он попытался схватиться хоботом за сук, но вес его тела был слишком велик: сук обломился, и туша слона рухнула в воду, которая высоко взметнулась, а затем сомкнулась над ним.
В следующий миг он снова вынырнул на поверхность, точнее, сначала из воды показался только его хобот, который тут же постигла ужасная судьба. Дело в том, что слон упал в залив, совсем недалеко от гиппопотама. За какие-то доли секунды бегемот подобрался ближе, распахнул свою широкую пасть и, ухватив ею хобот «бродяги», погрузился на дно. В течение нескольких минут по воде ходили огромные кровавые волны, затем на поверхности показался слон без хобота. Он издал страшный, не поддающийся никакому описанию крик боли и ярости и обернулся к противнику, который тоже вынырнул на поверхность всего в нескольких локтях от него. Слон взмахнул головой и до самого основания вонзил бивень бегемоту в бок. Затем оба снова исчезли.
Вся дальнейшая борьба происходила под водой, из которой изредка выглядывали то спина слона, то бок гиппопотама. Слон никак не мог высвободить свой бивень, а бегемот напрягал все силы, чтобы удержать врага внизу и утопить. Волны вздымались вокруг, как небольшие горы, между ними то и дело взметались высокие фонтаны брызг, так что отдельных движений обоих зверей разглядеть было невозможно.
Во время этой схватки двух великанов животного мира остальные обитатели залива старались благоразумно держаться в отдалении, что было на руку несчастному Отцу Одиннадцати Волосинок: он отлетел на самую середину залива, так что если бы крокодилы вздумали им поживиться, ему ни за что не удалось бы раньше них добраться до берега. Пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, малыш изо всех сил заработал руками и ногами, стремясь как можно быстрее покинуть поле страшной битвы. Оказавшись на суше, он повернулся лицом к заливу, выбросил вперед руки со сжатыми кулаками и вскричал:
— Аллах, я спасен! Вы хотели сожрать меня, но теперь вас самих проглотит шайтан, и все ваше потомство тоже! Идите скорее сюда и посмотрите, как я победил слона и бегемота!
Последний призыв относился к Шварцу и Отцу Аиста, которые только что вышли на берег с другой стороны леса.
— Да, идите, идите же быстрее! — подхватил со своего дерева Хаджи. — Нам даже не нужно их убивать, потому что они сами друг с другом разделаются! Посмотрите на Отца Хобота! Он тащит бегемота на сушу, но не может от него освободиться и вот-вот распростится со своей жизнью!
Бегемот был мертв. Слон почувствовал под ногами дно и, пятясь задом, тащил труп врага на своем бивне к берегу. Несмотря на все усилия, он не мог высвободить бивень и от ярости кричал на одной ноте, а кровь рекой лилась из его смертельной раны.
— Стало быть, все обошлось, гроза прошла стороной, — сказал Пфотенхауер. — Пора уж положить конец всей этой истории.
Он направил свое ружье на слона и спустил курок. При первом выстреле зверь пошатнулся, при втором отступил назад и рухнул на дно залива. Убедиться в том, что опасность миновала, и соскользнуть с дерева на землю было для Хаджи делом одной секунды.
— Ура! — воскликнул он в полном восторге. — Мы победили страшных и одолели ужасных, они, покрытые позором, лежат в воде, вспоминая о своей бесславной кончине. Они пали жертвами моей хитрости и покорены благодаря моей храбрости. Все будут хвалить и славить меня, поедая мясо этих гигантов.
— Молчи! — перебил его Отец Одиннадцати Волосинок. — Что ты, собственно, такого сделал? Ты залез на дерево и дождался, когда схватка кончится, и только после этого ты решился снова слезть вниз. Вспомни лучше о моем мужестве, и твоя хвалебная песня самому себе мигом оборвется!
— Что-что? — начал кипятиться Хаджи, и на его лице засияла презрительная улыбка. — Ну-ка, перечисли нам свои подвиги! Ты тоже взлетел на дерево, да еще долез до самого края сука. Потом слон стряхнул тебя в воду, а теперь ты стоишь передо мной, как мокрая курица, и всем своим жалким видом внушаешь сострадание.
— Не говори ерунды! Разве не я своим головокружительным прыжком заманил кровожадного слона в воду, где он тотчас нашел свою смерть? Кому же, как не мне, следует приписать победу в этом неравном поединке?
Вероятно, дело и на этот раз дошло бы до драки, если бы разгоравшаяся перепалка двух друзей не была прервана радостными криками, поднявшимися вокруг. Услышав выстрелы, разбежавшиеся от слонов солдаты набрались храбрости и осторожно вылезли из своих укрытий. Увидев, что бояться больше нечего, они издали многоголосый триумфальный клич чудовищной силы. Если бы они подобным образом напрягали свои глотки немного раньше, то слон вместе со всеми водившимися в округе бегемотами без оглядки убежал бы прочь. Люди танцевали и прыгали от восторга, и прошло довольно много времени, прежде чем Шварцу и Отцу Аиста удалось призвать счастливых солдат к спокойствию и порядку.
Когда это, наконец, произошло, с кораблей были принесены канаты, с помощью которых солдаты вытащили обоих животных на сушу. Часть людей принялась разделывать туши, остальные же во главе с обоими немцами вернулись назад к месту стоянки. Собственно говоря, праздновать победу было еще рано, так как существовала вероятность, что оставшиеся в живых самцы вернуться разыскивать своих подруг.
Глава 18
НАВСТРЕЧУ ФИНАЛУ
К счастью, опасения Пфотенхауера не подтвердились: слоны-самцы позорно бежали с поля битвы. Однако, сюрпризы на этом не кончились: едва оба немца подошли к лагерю, как один из занятых на берегу солдат догнал их и сообщил, что на реке видели лодку, которая правила ко входу в залив. Шварц, Пфотенхауер и некоторые находившиеся поблизости солдаты тотчас же поспешили назад, к воде. Выйдя на открытое место, откуда залив просматривался до самого его конца, люди действительно увидели быстро приближавшуюся со стороны озера лодку. Шварц взял в руки подзорную трубу и направил ее на суденышко, немного погодя он передал трубу Серому. Едва Отец Аиста поднес ее к глазам, как тут же воскликнул, обращаясь к стоявшему рядом с ним Сыну Верности:
— Я вижу в судне сидящих ниам-ниам! Что бы это могло означать? На-ка, взгляни!
Бен Вафа взял трубу из рук Пфотенхауера и посмотрел сквозь ее стекла. Потом он задумчиво проговорил:
— Военная лодка нашего племени! Как она оказалась здесь? Я узнал рулевого: это Вахафи, самый умный и хитрый воин моего народа. Он знает берега Нила до самого озера Омбай, что расположено далеко вниз по течению. Если мой отец послал сюда этого воина, значит, речь идет об очень серьезном и важном деле. Я очень удивлен появлением этой лодки.
— Хорошо уже то, что нам нечего бояться, так как в лодке плывут наши друзья. Они не могут знать, что мы находимся здесь, и поэтому, увидев наши корабли, тут же захотят повернуть назад. Мы должны сообщить им, что никакая опасность им не угрожает.
— Это я сделаю, — кивнул Бен Вафа. Он побежал вдоль левого берега залива и достиг входа в него одновременно с лодкой. Было слышно, как юноша прокричал что-то гребцам, которые ответили радостными криками и стали править к берегу. Сын Верности прыгнул к ним в лодку, после чего она вошла в залив. Вахафи, рулевой, еще издалека узнал Отца Аиста.
— Господин, как я рад тебя видеть! — приветственно взмахнув рукой, крикнул он. — Мы пришли сюда не одни, за нами следует много других воинов.
— Но что вы здесь делаете? — спросил Пфотенхауер, когда лодка причалила к берегу, и люди высадились из нее.
— К нам приходил торговец из Метамбо, — пояснил Вахафи. — Он был перед этим в селении Абуль-моута и слышал там, что хозяин находится в отлучке, а сразу по возвращении собирается напасть на нас. Тогда наш король решил опередить его. Он созвал и снарядил в поход всех своих воинов, а мне приказал ехать вперед и разведать, как обстоят дела в селении.
— Тогда считай, что твое задание выполнено: все, что тебе нужно, ты можешь узнать здесь, у нас, совершенно точно и гораздо быстрее. Куда ты должен прибыть, чтобы принести королю свою весть?
— На маленькую речушку, которая впадает в Нил немного выше Нирре. Там король собирался спрятать свой флот и дожидаться моего возвращения.
— Большое ли с ним войско?
— Больше, чем пять раз по сто храбрых воинов, разделенных на много лодок.
— Это большая сила. Мы и сейчас достаточно сильны, но если вы к нам присоединитесь, никакой враг не сможет нам противостоять. Как долго нужно добираться отсюда до того места, где вас ждет король?
— Не больше одного дня на лодке.
— Понятно. А сейчас идемте в наш лагерь. Мы можем рассказать тебе много интересного.
Гости были необычайно рады так неожиданно встретить сына своего короля и Сына Тайны. Когда же они узнали обо всем, что произошло с тех пор, как оба юноши и Отец Аиста покинули страну ниам-ниам, эта радость уступила место величайшему изумлению. Состоялся краткий совет, на котором было решено, что Вахафи со своими людьми немедленно отправится в обратный путь и сообщит королю сандехов о положении вещей на сегодняшний день. После этого ниам-ниам должны были выступить с места своей стоянки прямо в Омбулу и уже там встретиться со Шварцем и его людьми.
Вахафи как раз собирался возвращаться в свою лодку, когда кто-то вдруг заметил всадника, который медленно приближался к лагерю со стороны юга.
— Белый, — сказал Пфотенхауер, направляя на него подзорную трубу, — и вооружен до зубов. Кто бы это мог быть? Во всяком случае, это не посланец Абдул-моута, потому что вчера к нам от него уже наведался один разведчик.
Вахафи тоже попросил разрешения взглянуть в трубу: за время пребывания Пфотенхауера у ниам-ниам он успел научиться пользоваться этим инструментом и полюбить его. Увидев лицо всадника, он воскликнул:
— Это же Даувари, искатель! Он вечно бродит по всей стране, и везде за ним по пятам следуют убийство и беда.
— Ты его знаешь? — спросил Шварц.
— Слишком хорошо. Я единственный из моего племени, кто знает этого человека. Я видел его у моро. Не успел он от них уйти, как на этот народ напал невольничий караван. Он поддерживает отношения с селениями работорговцев и знаком со всеми охотниками на людей.
— Он тебя тоже знает?
— Нет.
— Тогда повремени пока с отъездом. То, что он появился здесь, мне кажется не случайным. Одинокий путешественник поостерегся бы приближаться к лагерю вроде нашего.
Между тем, человек на лошади, казалось, не испытывал ни малейшей неуверенности. Он подъехал прямо к Шварцу, в котором он сразу угадал главного, спешился и сказал:
— Меня прислали к вам. Вы ведь люди из отряда Абдулмоута?
— Кто ты? — в свою очередь, поинтересовался Шварц, оставляя без внимания вопрос незнакомца.
— Я солдат. Несколько дней назад я встретил невольничий караван, которым командует Абдулмоут. Он взял меня к себе на службу, а теперь вот послал разыскивать вас.
— Что ты хочешь нам сообщить?
— Вы должны сейчас же отправиться к горам Гута и встретиться с его отрядом в ущелье эс-Сувар.
— Зачем он собирается туда?
— Он задумал напасть на несколько деревень мундо.
— А когда он туда прибудет?
— Послезавтра. Если вы поторопитесь, то днем позже тоже сможете там с ним встретиться.
— Как тебя зовут?
— Амар бен Суба.
Шварц окинул своего собеседника пристальным взглядом, который тот выдержал со спокойной улыбкой. Он казался храбрым человеком, однако глаза его не вызывали доверия.
— Ты говоришь правду? — спросил Шварц.
— Да. Зачем мне лгать?
— Не знаю, но все же ты лжешь.
Тогда человек выхватил из-за ремня пистолет и пригрозил:
— Повтори только свои слова, и я тебя пристрелю! Я никому-не позволю оскорблять себя!
Если Даувари думал, что эта выходка расположит немца в его пользу, то он жестоко ошибался. Шварц молниеносно выбил из его правой руки пистолет, из левой выхватил ружье, замахнулся им и так сильно ударил наглеца по голове, что тот как подкошенный рухнул на землю, На то, чтобы забрать у него остальное оружие и связать его по рукам и ногам, потребовалось всего несколько секунд. Удар на мгновение лишил Даувари сознания, когда же он снова пришел в себя и увидел, что весь опутан веревками, он гневно закричал:
— Так-то вы обращаетесь с посланцем и доверенным лицом вашего господина? Абдулмоут непременно узнает об этом, и тогда вам не поздоровится!
— Замолчи! — прервал его Шварц. — Нам не страшны твои угрозы. Ты лжец, и с тобой обошлись так, как ты того заслуживаешь. Ты пришел не от Абдул-моута.
— Ты, кажется, совсем меня не понял?
— Я понял тебя лучше, чем ты думаешь. Ты называешь себя Амар бен Суба, но я прекрасно знаю, что это не твое настоящее имя. Ты Даувари — агент ловцов рабов.
— Ты ошибаешься. Меня действительно зовут Амар бен Суба, и мне незачем выдавать себя за другого человека.
— Не верь ему, господин, — вставил Вахафи. — Это Даувари, я хорошо его знаю.
Связанный бросил на негра гневный взгляд и спросил:
— Кто ты такой и с какой стати утверждаешь, что знаком со мной, да еще осмеливаешься обвинять меня во лжи? Как только я буду свободен, мой нож отплатит тебе за это оскорбление!
По его виду было понятно, что он в состоянии выполнить свое обещание. Самоуверенность этого человека не понравилась Шварцу, и он перебил его:
— Прикуси свой язык! Мне известно, кто ты и что тебе надо, и смотреть на твои наглые выходки у меня нет никакого настроения.
— Ничего тебе не известно! Все обстоит именно так, как я сказал, и если вы не повинуетесь приказу, который я вам передал, то будете иметь дело с самим Абдулмоутом.
— Ты, должно быть, хотел сказать с Абуль-моутом?
— Нет, меня послал Абдулмоут.
— Вот как? Когда же он, в таком случае, послал предыдущего гонца?
— Не знаю, об этом он ничего не говорил. Значит, он уже присылал к вам своего человека?
— Да. И если бы ты действительно пришел от него, ты бы знал, что днем раньше он отдал нам совсем другое распоряжение. Где же ты встретил Абдулмоута?
— В Омбуле.
— Неужели? Насколько мне известно, его там уже нет.
— Он все еще там!
— Ты опять лжешь и скоро сам в этом признаешься.
— Мне не в чем признаваться, я могу только еще раз подтвердить то, что уже сказал.
— Ну, так скоро убедишься, кто из нас прав. Сейчас ты получишь столько ударов по пяткам, сколько потребуется, чтобы снова, хотя бы на время, сделать тебя честным человеком.
— Ты не посмеешь! Помни, моя месть будет ужасной!
— Что я слышу? Ты, ничтожный червь, осмеливаешься угрожать мне? Эта дерзость должна быть немедленно наказана. Кто из вас вызовется исполнить мой приговор?
Более двадцати находившихся поблизости солдат с охотой согласились взяться за это поручение. Они срезали с одного из деревьев толстый сук и, положив Даувари на спину, привязали к этому суку его поднятые вверх ноги. Один из солдат сел пленнику на живот, другой наломал в кустах пучок прутьев толщиной в палец и стал с оттяжкой бить Даувари по обнаженным ступням.
Пленник изо всех сил сжал зубы, чтобы стерпеть боль молча, но не смог. Уже при третьем или четвертом ударе он громко закричал, затем крики перешли в звериный вой, и наконец он взмолился:
— Перестаньте, отпустите меня! Я во всем сознаюсь, я скажу правду!
Шварц сделал своим людям знак прекратить истязание и сказал:
— Итак, ты, кажется, убедился, что я не из тех людей, которые могут позволить обвести себя вокруг пальца да еще станут выслушивать твое вранье. Теперь отвечай на мои вопросы, но не смей лгать, иначе тебя будут бить до тех пор, пока все мясо не слезет с костей. Ты признаешь, что не был в Омбуле у Абдулмоута?
— Да, — простонал Даувари.
— На самом деле ты повстречал где-то Абуль-моута и его хомров?
— Да.
— И Отец Смерти послал тебя сюда с поручением, которое ты попытался исполнить?
— Да.
— Какую цель он преследует? Что он замышляет?
Даувари замялся, и Шварц пригрозил:
— Не раздумывай, а отвечай быстро, иначе я прикажу дать тебе еще десяток ударов. Я и без тебя прекрасно знаю, в чем тут дело. Абуль-моут хочет заманить нас в ловушку. Так это или нет?
Пленник все еще медлил с ответом, глядя на немца полными ненависти глазами. С каким удовольствием он расправился бы с ним и его солдатами, которые только что причинили ему такую боль! Однако в этот момент солдат, державший в руках розги, отвесил ему два столь сильных удара, что Даувари, взревев от боли, заголосил:
— Остановитесь, прекратите, я все скажу! Да, это так. Отец Смерти собирается заманить вас в ущелье эс-Суар и там уничтожить.
— Каким образом? Ведь у Абуль-моута при себе только несколько человек. Он хочет объединиться с Абдулмоутом и повести его и всех его людей в ущелье?
— Да.
— Но он знает, что даже тогда он будет заметно уступать нам в силе. Следовательно, он должен искать себе новое подкрепление. Среди негров он союзников не найдет, значит, он обратится к другим ловцам рабов. Скорее всего, он уже послал одного из своих хомров в какое-нибудь селение. Я прав?
Даувари снова отвел было глаза, но когда солдат снова замахнулся прутьями для удара, он испуганно вскричал:
— Стой, стой, я же отвечаю! Да, господин, ты угадал. Аллах наградил тебя великой проницательностью. Абуль-моут послал двух хомров в селение Уламбо, господин которой, — его большой друг.
— Вот теперь ты действительно говоришь правду. Это умно с твоей стороны, и я советую тебе так же вести себя и впредь. Ты находишься всецело в моей власти и уже имел возможность убедиться, что я шутить не люблю. Ты пришел, чтобы погубить нас, и, стало быть, заслуживаешь смерти. Можешь быть уверен, она тебе обеспечена, если ты останешься враждебен к нам. Но если ты раскаешься и отбросишь прочь предательские мысли, то я буду обращаться с тобой не столь сурово, а позднее, может быть, и отпущу тебя.
— Это правда? — быстро спросил Даувари.
— Да. В отличие от тебя, я не имею обыкновения лгать.
— Поклянись!
— Я христианин и никогда не клянусь. Мое слово стоит десяти лживых клятв. Теперь скажи, рассчитывает ли Абуль-моут на нуэров, которые попали в наши руки?
— Да. Раз ты обещаешь мне свободу, я расскажу тебе все, что знаю. Абуль-моут предполагает, что ты уговорил нуэров перейти на твою сторону. По дороге в ущелье я должен был тайно провести с ними переговоры и посулить им любые блага, если они согласятся вернуться к прежнему хозяину.
— Неплохо придумано, только он, да и ты тоже забыли учесть, что имеете дело с европейцами, а не с простодушными неграми. Мы, конечно, сделали бы вид, что поверили тебе, но очень скоро раскрыли бы твои происки. Это не пустые слова, и доказательством того служит сейчас то положение, в котором ты оказался. Но ты сказал, что должен был поговорить с нуэрами по дороге. По какой дороге мы должны отправиться отсюда? Как Абуль-моут представлял себе наш путь в ущелье?
— Я должен был убедить вас оставить корабли здесь и отправиться к горам Гута по суше.
— Такой переход занял бы два дня. За это время Абуль-моут смог бы хорошо подготовиться. Ну что ж, теперь я знаю достаточно, и у меня нет желания продолжать нашу беседу. До поры до времени ты останешься связанным. Когда я сочту, что ты уже не можешь нам повредить, тебе вернут свободу. Наказание, которые ты получил, было тобой вполне заслужено. Мое дальнейшее обращение с тобой будет всецело зависеть от твоего поведения. Запомни это хорошенько!
Даувари оттащили в сторону и положили отдельно от остальных пленников, так, чтобы он не мог ни с кем говорить. Потом оба немца, Отец Половины, Вахафи, Хасаб Мурад и некоторые другие верные им люди собрались под большим деревом для нового совещания.
Выяснилось, что как Вахафи, так и Сын Верности с Сыном Тайны очень хорошо знают горы Гута и ущелье эс-Сувар. «Сувар» — это множественное число от слова «сура», словечко «эс» — артикль арабского языка. Таким образом, «ущелье эс-Сувар» означает «ущелье сур», то есть глав Корана. Вахафи так объяснил это название:
— В этом ущелье жил когда-то благочестивый проповедник ислама. Он хотел обратить негров в веру Аллаха, но те не пожелали его слушать и убили его. Перед смертью он проклял место своей гибели, и все деревья, которые росли в ущелье, тотчас завяли. Источник, что бил там, иссяк, ни капли росы не падало с неба, и все звери покинули это печальное место. Но через много лет туда пришел другой имам и снял с ущелья проклятие. Он вырастил сто четырнадцать пальм, ровно столько, сколько сур содержит Коран, и около каждого дерева он произнес начальные слова Корана: «Хвала Аллаху, Господу миров». Ты скоро увидишь, что эти пальмы стоят там и по сей день. Теперь ущелье эс-Сувар считается священным местом, и Абуль-моут замышляет вдвойне тяжелый грех, собираясь уничтожить нас там. За это Аллах отдаст его в наши руки.
— Ты в этом так убежден? — спросил Шварц.
— Да. Ему от нас не уйти. Он уверен, что прибудет в ущелье раньше нас, но мы устроим ему небольшой сюрприз. Мы пойдем не по суше, а по реке и на несколько часов обгоним его.
— Ты думаешь, что на кораблях получится быстрее? Нил сильно петляет, а по суше мы могли бы идти напрямик. К тому же подумай: ведь нам придется все время плыть против течения.
— Это, конечно, так, но ведь вы уже и раньше привязывали к кораблям лодки? Так следует поступить и сейчас. Конечно, гребцам придется туго, но у вас достаточно людей, они будут часто сменять друг друга. Корабли могут плыть и днем, и ночью, если же вы пойдете пешком, вам будет необходимо время на отдых и сон, и вы потеряете драгоценные часы. Кроме того, Абуль-моут никак не ожидает, что вы приплывете по Нилу, и направит все свое внимание в противоположную сторону. Одним словом, я советую вам выбрать водный путь и отправиться прямо сейчас. Сын Тайны и Бен Вафа хорошо знают реку — они будут вашими штурманами. Я же немедленно вернусь назад и сообщу королю обо всем, что узнал. Место, где он ожидает меня вместе с нашими воинами и лодками, находится по соседству с селением Уламбо, от которого Абуль-моут надеется получить помощь. Если тамошние охотники на людей захотят выполнить его просьбу и выступят ему навстречу, мы постараемся им помешать.
— Мы не можем уйти отсюда, пока не подойдут воины Отца Половины.
— Они будут здесь не позже, чем через час, — пообещал шейх доров.
— Но они все верхом, как же мы их возьмем на корабли?
— Значит, они отведут своих животных в лагерь, — пояснил Отец Булавы. — Вам ведь все равно придется оставить в лагере какое-то количество людей, которые будут охранять ваши стада до тех пор, пока вы не вернетесь. Но посмотри туда, на равнину! Видишь, по ней тянется длинный караван всадников? Это и есть мои люди, так что тебе и часу ждать не придется.
— Итак, мы обо всем договорились, и я отправляюсь к своей лодке, чтобы не терять времени, — сказал Вахафи. — Завтра вечером вы будете у нас, а к послезавтрашнему утру мы можем достичь ущелья эс-Сувар. Собственно, мы завернули к заливу, чтобы настрелять немного дичи, но теперь и это оказалось ненужным, так как мы можем взять себе часть слоновьего мяса. Да хранит вас Аллах, и пусть он избавит вас от новых напастей!
Вахафи повернулся и зашагал прочь, не дожидаясь, пока Шварц окончательно согласится с его предложением. Впрочем, последний уже убедился в том, что оно действительно не лишено здравого смысла.
От посланного им навстречу гонца всадники Отца Половины уже знали обо всем, что произошло в лагере, и поэтому они не удивились, увидев вместо пятидесяти ловцов рабов несколько сотен воинственно настроенных солдат. Доры казались на вид сильными и мужественными людьми, к тому же, все они были хорошо вооружены. Солдаты Шварца с радостью приняли новых союзников в свое пестрое войско.
На следующий день, когда солнце почти коснулось горизонта, небольшая эскадра достигла места, где Нил круто заворачивал на восток, а с юга в него впадала маленькая по сравнению с ним, но все же довольно широкая речка.
— Нам нужно войти в этот рукав, — сказал Сын Тайны, стоявший рядом со Шварцем и Отцом Аиста на палубе переднего корабля. — Я хорошо знаю его, а также то место, где нас ожидает верховный вождь ниам-ниам.
Шварц хотел что-то ответить, но в этот момент впереди послышался резкий, пронзительный крик, и из устья реки вырулила большая военная лодка. Вслед за ней показалась другая лодка, потом еще одна — и вот уже целая флотилия стремительно неслась по воде навстречу кораблям. На носу передней лодки стоял Вахафи и громкими криками призывал своих товарищей не отставать от него.
Ветер был попутный, и корабли Шварца шли под парусами, но кроме этого впереди к ним были еще привязаны весельные лодки. Ниам-ниам принялись помогать гребцам, вследствие чего скорость кораблей увеличилась едва ли не вдвое. Эскадра вошла в приток и двигалась вверх по нему до тех пор, пока сбоку не показалась еще одна, совсем маленькая речушка, в которую едва смогла протиснуться дахабия. В русле этой речушки бросили якоря все пять кораблей.
К этому времени солнце уже исчезло за горизонтом, и на землю спустились короткие суданские сумерки. Речка по обоим берегам поросла кустами, за которыми высились деревья. На левом берегу, неподалеку от того места, куда причалили корабли, кустарник был срезан острыми ножами, и на образовавшейся поляне ниам-ниам разбили свой лагерь. Сучья и ветки они использовали для постройки своеобразных хижин или шалашей, которые стояли по краям поляны и вместе с рекой образовывали ровный квадрат. В середине этого квадрата, несмотря на то, что еще не совсем стемнело, был разложен большой костер. Между костром и водой стояла толпа воинов и радостными криками приветствовала прибывших. Воины сгруппировались вокруг некоего подобия подиума, сооруженного из земли и веток. На этом своеобразном троне восседал человек и тоже смотрел в сторону реки. Обе его руки были чем-то заняты, но что это были за предметы, Шварцу разглядеть пока не удавалось.
— Это король ниам-ниам, — пояснил другу Пфотенхауер, — его хлебом не корми, но дай только перед чужеземцами во всем блеске своего величия показаться.
— А что он держит в руках?
— Известно что — скипетр да державу!
— Черт возьми! Настоящий карточный король!
— Вот-вот. Он уж от кого-то услышал, что среди европейских правителей эти предметы почитаются знаком их власти, ну, и приказал себе тоже что-то вроде этого изготовить. Теперь во время аудиенций он свои регалии из рук не выпускает. Но поторопимся на берег: он уже ждет нас.
— Как я должен его приветствовать, чтобы сохранить свое достоинство и в то же время не нанести ему оскорбления?
— Как всякий добропорядочный немец, а как же еще? Можете повторять все за мной и ни о чем не заботиться. Я думаю, вы легко найдете с ним общий язык, тем более что он очень даже сносно говорит по-арабски.
Солдаты спустили трап, и немцы в сопровождении своих обычных спутников сошли по нему на сушу. Шварц и Серый шагали впереди, за ними шел Хасаб Мурад с Отцом Половины, потом неразлучные Хаджи и Отец Одиннадцати Волосинок, и замыкали шествие юный сын короля ниам-ниам и его друг Сын Тайны. Солдаты должны были до поры до времени оставаться на борту, только ниам-ниам вытащили свои лодки на берег и с Вахафи во главе двинулись вслед за Шварцем и его друзьями. Они образовали довольно многочисленную и очень живописную свиту, едва ли уступающую свите самого короля.
Когда колонна достигла трона, ниам-ниам встали в круг у его подножия, а остальные поднялись по четырем ступенькам, которые вели на вершину. Оказавшись рядом с королем, Пфотенхауер без всяких церемоний подошел к королю и протянул ему правую руку со словами:
— Добрый вечер, о король, как твои дела?
Король отложил скипетр в сторону, схватил руку Серого и, пожав ее, добродушно ответил:
— Слава Богу, все хорошо, а ты как поживаешь?
— Твоими молитвами, спасибо! — непринужденно поблагодарил Пфотенхауер и затем прибавил, указывая на Шварца: — Я привел к тебе моего друга, которого прошу любить и жаловать. Он брат Асвада, с которым я недавно покинул твою страну.
— Вахафи уже рассказал мне о нем. Он похож на своего брата, а зовется он, как я слышал, Отец Четырех Глаз? Что ж, он будет для меня очень желанным гостем.
Все еще продолжая усердно трясти руку Пфотенхауера, король отбросил теперь и державу и протянул Шварцу освободившуюся левую длань. При этом он спросил, с улыбкой кивая в сторону словака и его друга:
— А это, наверное, и есть Отец Одиннадцати Волосинок с Отцом Смеха? Вахафи упомянул мне об этих двоих друзьях, и…
Договорить он не успел, потому что Отец Смеха гордо выступил вперед и сказал:
— Прости, о король, но я перебью тебя. Так, как ты только что сказал, я позволяю себя называть только самым близким друзьям. Настоящее же мое имя Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Отайба Абуласкар бен Хаджи Марван Омар аль-Сандази Хафиз Якуб Абдулла аль-Санджаки.
— Довольно, довольно! — засмеялся король. — Это имя слишком длинно для моего слуха и языка, и так как я тоже считаю себя твоим близким другом, то я буду называть тебя так же, как и прежде.
Затем королю были представлены Отец Половины и Хасаб Мурад. Добродушный правитель обошелся с ними так же ласково, как и с остальными. Наконец, церемония приветствия подошла к концу, и король счел возможным обратить внимание на собственного сына. Он сердечно обнял и расцеловал его, затем прижал к своей груди Абд эс Сирра. Шварц подумал, что точно так же вел бы себя любой немецкий отец при встрече со своим ребенком и его другом. Любовь к сыну и искреннее расположение к чужеземцам так явственно выражались во всем облике этого милого человека, что он сразу же завоевал горячие симпатии своих гостей.
Это был плотный, очень высокий человек, с круглым темно-коричневым лицом, одетый в простое, немного напоминавшее шлафрок одеяние. На поясе этого «халата» висела сабля; другого оружия при короле сейчас не было. Не было на нем и украшений, если не считать великолепных густых волос, которые были заплетены в бесчисленное множество тоненьких косичек и уложены наверх в виде своеобразной воронки. Эта удивительная прическа увенчивалась прекрасно набитым и искусно сделанным чучелом зяблика.
Длинное сиденье трона тянулось вдоль трех его сторон и было рассчитано на нескольких персон. Шварц и Пфотенхауер должны были сесть возле короля, а их спутники расположились справа и слева от них. Теперь король предложил, чтобы немцы подробно поведали обо всех своих приключениях, Он слушал внимательно, не перебивая, а когда рассказ подошел к концу, обратился к Шварцу со словами:
— Я надеюсь, что твой брат жив и невредим, и Охотник на слонов тоже. Если с ними что-нибудь случится, я обещаю тебе, что Абуль-моут и Абдулмоут заплатят за это нечеловеческими страданиями. Во всяком случае, тебе осталось недолго пребывать в неизвестности: завтра в это же время мы уже будем знать, на что нам рассчитывать, потому что мы достигнем ущелья эс-Сувар еще до наступления дня.
— Значит, ты считаешь, что мы должны идти и ночью?
— Да, только не «идти», а плыть. Эта речка протекает совсем рядом с ущельем, так что мы будем на месте через каких-нибудь полчаса после того, как сойдем с кораблей.
— А не знаешь ли ты, как обстоят дела с селением Уламбо? Абуль-моут послал туда за помощью двух своих хомров.
— Посланцы быстро вернулись назад. Они там совсем не задержались.
— И какого же успеха они добились?
— Этого я не знаю, они не захотели мне сказать.
— Разве ты с ними говорил?
— Да. Мои люди схватили их. Мне не хотелось допрашивать их до вашего прибытия. Я велел привязать их к деревьям, там, сзади, и приставил к ним двух сторожей. Если желаете, я прикажу привести их сюда.
— Да, мне бы хотелось их увидеть прямо сейчас.
Тем временем ниам-ниам развели на поляне еще несколько костров и расположились вокруг них. Все воины были вооружены длинными, серповидными ножами, луками и стрелами, а также копьями и метательными кинжалами. По приказу короля один из них удалился, чтобы привести пленников и их сторожей.
Шварц сразу узнал обоих арабов и заметил, что они тоже узнали его и испугались. Что же касается еще одного их старого знакомого, Отца Одиннадцати Волосинок, то он при виде врагов пришел в сильнейшее негодование. Он вскочил с места, сжал кулаки, затопал ногами и, видимо, не желая унижать себя прямым обращением к этим ничтожествам, повернулся к Шварцу и Пфотенхауеру и воскликнул:
— Это хомры, проклятые и убийцы! Не дадим им снова убежать! Они должны понести наказание, справедливое!
— Не волнуйся, им, конечно, не удастся ускользнуть от нас во второй раз, — успокоил его Шварц. Затем он сказал хомрам: — Я вижу, что мне не нужно представляться — вы меня хорошо помните. Теперь слушайте внимательно: ваша дальнейшая судьба зависит только от вас. Если вы откровенно расскажете мне все, что я хочу знать, вы избежите мучительной смерти. Итак, первый вопрос: чего вы добились в селении Уламбо?
Хомры мрачно посмотрели на немца, потом о чем-то пошептались друг с другом, и наконец один из них ответил:
— Мы не были в Уламбо.
— Не лги! Мне доподлинно известно, что Абуль-моут послал вас туда.
— Это неправда!
— Я искренне советую тебе не быть лжецом, если ты не хочешь, чтобы с тобой обошлись так же, как Даувари.
— Даувари?! — изумленно вскричал человек.
— Да-да, ты не ослышался. Вы думали, что мы поверим ему и так просто позволим заманить себя в ловушку? Должно быть, солнце выжгло весь ваш разум, если вы могли посчитать нас за таких глупцов. Я велел своим людям дать ему плетей, и он быстро во всем сознался.
— Проклятый пес!
— Ха! Сейчас ты готов поносить его последними словами, но несколько ударов по пяткам и вас заставят стать столь же правдивыми и чистосердечными.
— Ты не посмеешь и пальцем нас коснуться! Мы — правоверные мусульмане, последователи Пророка, ты же всего-навсего христианин!
— Ваша вера меня не интересует, я обращаюсь с вами в соответствии с вашими поступками. Если же вы будете поносить мою веру, то вам придется вытерпеть двойную порцию ударов.
— Покажи нам Даувари, тогда мы поверим тебе! — сказал хомр.
— Честно говоря, мне не обязательно выполнять это требование, потому что наказание плетьми и без того заставит вас заговорить, но все же я пойду тебе навстречу, потому что, как истинный христианин, я являюсь врагом всякого насилия.
Шварц послал Отца Листьев и Хаджи, чтобы они привели Даувари. Оказалось, что вследствие полученных ударов тот не может стоять на ногах. Тогда несколько нуэров принесли его и положили к ногам хомров, а сами уселись рядом. Арабы бросили на своего сообщника сердитый взгляд, а потом презрительно отвернулись.
— Кажется, вы полны высокомерия по отношению к нему, — сказал Шварц, — но скоро ваша надменность уступит место смирению. Итак, вы отказываетесь сказать мне, о чем вы договорились с жителями Уламбо?
— Мы не раскроем рта, несмотря на все пытки.
— Что ж, посмотрим, сдержите ли вы слово.
С хомрами обошлись так же, как днем раньше — с Даувари. Их ноги привязали к копью таким образом, чтобы босые ступни были направлены вверх. После первых же ударов арабы сознались, что были в Уламбо, и сообщили, что тамошние ловцы рабов отказали им в помощи. Правда, это вполне могло быть и ложью, но Шварц поверил пленникам, рассудив, что в случае успешного исхода переговоров они вряд ли выступили бы навстречу Абуль-моуту одни. Хомрам развязали ноги и оттащили их в сторону вместе с Даувари.
Среди ниам-ниам нашлось несколько воинов, которые отлично знали дорогу к ущелью эс-Сувар. Имеющихся у ниам-ниам лодок оказалось достаточно, чтобы вместить все разросшееся войско Шварца. Небольшой отряд сандехов должен был остаться в лагере для охраны кораблей. Поход решено было начинать сразу после ужина.
Недостатка в пище люди не испытывали. Перед отправлением из страны ниам-ниам сандехи как следует запаслись провиантом, у солдат же оставалось еще более чем достаточно мяса, которое было еще достаточно свежим. Все, что солдаты не съели за ужином, Шварц распорядился взять с собой, предполагая, что похищенные Абдулмоутом негры наверняка будут нуждаться в еде и питье.
Мясо было зажарено на кострах: в таком виде оно могло храниться дольше, чем в сыром. Затем король назначил людей, которые должны были остаться на кораблях. Лодки были нагружены и спущены на воду, и все заняли свои места. В преддверии ночной поездки ниам-ниам заранее приготовили факелы, которые должны были освещать реку. Шварц, Пфотенхауер, их друзья и король ниам-ниам сели в первую, самую большую, лодку, вмещавшую почти сорок человек. На ее носу, в небольшом, сложенном из камней очаге горел костер. Лодки оттолкнулись от берега и тронулись вперед, к ущелью эс-Сувар.
Фельдфебель и его люди остались на кораблях. Шварц взял с собой Даувари и обоих хомров, полагая, что они могут ему пригодиться. Арабам оказалось достаточно нескольких часов, проведенных во вражеском лагере, чтобы понять, как сильно отряд их хозяина уступает в численности войску Шварца. Поэтому последнее время они вели себя очень тихо.
Была уже глубокая ночь, и на фоне звездного неба вырисовывались причудливые очертания девственного леса, возвышавшегося на обеих берегах реки. Все живое давно уснуло крепким сном, и лишь тысячи светлячков, словно искры, прорезали мрак, и сотни тысяч, даже миллионы жигалок и комаров слетались на пламя факелов.
Король сидел у костра с неизменной приветливой улыбкой и не обращал ни малейшего внимания на насекомых, которые скоро стали сыпаться с неба сплошным дождем. Шварц и Пфотенхауер натянули на головы москитные сетки. Позади немцев тихонько шептались о чем-то Хаджи и Отец Одиннадцати Волосинок. Блики костра освещали ближний берег и дрожали на листьях тропических растений, которые росли у самой воды.
— Верите ли, — негромко сказал Отец Аиста, — мне уж иногда кажется, я сижу в театре, а лес — это декорации, где феи да эльфы всякие водятся. Вы гляньте только, как свет на ту вон пальму взбирается и бегает вокруг ее кроны. У этих южных растений совсем не такой вид, как у наших северных, и все ж таки по мне наш родной еловый или там буковый лес в тысячу раз милее, чем эти вот тропические заросли. Верно я говорю?
— Я с вами полностью согласен, — подтвердил Шварц.
— Само собой! Различие-то между ними как между небом и землей, это и мне понятно, хоть я и не ботаник. Мне-то, правду сказать, гораздо больше по душе зверюшками всякими заниматься, а особливо птицами. Эх, кабы вы знали, что за птиц я здесь отыскал и препарировал. Чистое великолепие и красотища… А все ж не сравнить с тем, что у нас на родине можно увидать в лесу или даже услышать приводится! Вы слышали здесь что-нибудь подобное, что хотя б отдаленно птичьим пением обозвать можно? То-то же, ничего похожего на птичье пение здесь нет. А дома! Дома я могу часами валяться в траве и зябликов слушать, и… Опля! Что это было такое? Видели этого молодца?
Большая темная птица бесшумно перелетела с правого берега на левый прямо над самым костром. Отец Аиста вскочил и повторил свой вопрос, бессознательно протягивая руку вслед птице. При свете костра было отчетливо видно, что нос Серого стремительно отклонился влево, как будто вознамерился пуститься вдогонку за мимолетным пернатым гостем.
— Да, разумеется, я его видел, — ответил Шварц.
— И вы его уж знаете?
— Конечно. Это был филин, чрезвычайно редкая в этих краях птица.
— Да уж, это точно, тут он не слишком часто попадается, по крайней мере, я его покамест ни разу не видел. Ну вы небось знаете, как его здешние жители называют?
— Свидетель.
— А почему?
— Из-за голоса. Его крик звучит похоже на слово «шухуд», а это по-арабски означает множественное число от «шахид» — «свидетель».
— Верно! А латинское название у него какое?
Слово «латинское», конечно же, не могло незамеченным пролететь мимо ушей Отца Одиннадцати Волосинок. Малыш тут же вскочил, весь вытянулся в струнку и торопливо ответил, пока Шварц не успел его опередить:
— Филин по-латыньски зовется Bubalus! Я это знаю уже давно, очень!!!
Пфотенхауер повернулся в сторону словака, немного подумал, а потом спросил:
— Вот, значит, как? Филин, по-вашему, называется Bubalus. А что тогда, скажите мне на милость, обозначает латинское сочетание Bubo maximus?
— Bubo звался буйвол, рогатый, — не моргнув глазом, ответил Отец Листьев.
— Ого, что вы, оказывается, знаете! Никогда бы не подумал! Жалко только, что опять все наоборот: Bubo-то название филина, a Bubalus — как раз-таки буйвол!
— Этому я не могу верить. Вы, должно быть, ошиблись.
— Нет, я не ошибся. В чем, в чем, а в этом-то я собаку съел!
— А вы не могли забыть?
— Нет. Если уж вы мне не верите, Фома вы неверующий, спросите у господина доктора Шварца, кто из нас прав.
Отец Одиннадцати Волосинок так и поступил. Шварц, конечно, вынужден были признать правоту Отца Аиста, и тогда словак пробормотал недовольным тоном:
— Значит, это есть с моей стороны ошибка, наименьшая. Голова, ученая, по временам исчезает из дома. Но она тут же снова возвращается домой и снова тут же быстро во всем разберется. Я хорошо учил мою латынь, гимназическую. У меня всегда был даже открытый капюшон.
— Капюшон? — с недоумением переспросил Пфотенхауер. — Это еще что за чертовщина?
— Вы это не знавать?
— Что это обозначает, я, ясное дело, знаю, но уж что вы под этим понимаете — ума не приложу!
— Capuz, латиньское, называется же голова, немецкая![159]
— Ах, вот оно что! А как же вы в таком случае слово Caput переведете?
— Caput есть колпак, чепчик на воротнике. Вы же должны это знать!
— Да, это я уж должен был бы знать, только, любезный друг, все это снова наоборот! Голова по-латыни испокон веку «Caput» зовется, а под вашим капюшоном подразумевается нечто другое, чепчик или колпак.
— Как вы меня называть? «Любезный друг»? Оставьте при самом себе этого друга! Если вы позорите латынь, мою, то я не друг, ваш. Друг признается всегда по знаниям, обоюдным. Вы отказали мне в признании, заслуженном, тогда я обязан всегда рассматривать вас, как врага, противного. Всегда я должен быть тот, кто ошибается в путанице! Я лучше прошу, не говорите больше по-латыни, потому что каждый ребенок может услышать и понять, что вы в вашей жизни не учить ее по-настоящему.
Этот совет заставил Пфотенхауера расплыться в широкой улыбке, которая привела малыша в такую ярость, что он затопал ногами и закричал:
— Что вы ухмыляетесь? Вы смеетесь над мной или зубоскалите над собой? Если над мной кто-то издеваться вздумает, я беру ружье и делаю из моего врага труп, мертвый!
Не помня себя от гнева, словак действительно схватился за свое ружье и взвел курок.
— Что? — спросил Пфотенхауер, который иногда в минуты волнения переходил со своего баварского диалекта на чистый немецкий язык. — Если я вас правильно понял, вы хотите меня застрелить?
— Да, я застреляю вас с потрохами, всеми! Я тоже иметь честь в сердце, моем!
— Этого я и не оспариваю. Но поверьте мне. Не стоит доводить дело до стрельбы. Вы хотите убить того, кто только вчера спас вас от страшного бегемота?
Тут малыш выронил ружье, ударил себя по лбу и воскликнул:
— Я сам бегемот! Гнев мой, теперешний, был больше, чем гиппопотам, вчерашний! Вы спасли мне жизнь, а я хотел за это вас застрелить со злости. Вот я протягиваю руку, мою, и прошу прощения, снисхождающего!
Отец Аиста сердечно пожал протянутую ему руку. Только что Отец Листьев чувствовал себя всерьез оскорбленным; то, что он смирил свою гордость и извинился, еще раз показало Серому, какое у него на самом деле доброе сердце.
Недоразумение было улажено, и оба немца продолжали прерванную беседу, но теперь старались говорить тише, чтобы не провоцировать Отца Одиннадцати Волосинок на новые дискуссии. Около полуночи все, кто не должен был сейчас грести, закрыли глаза и вскоре заснули, убаюканные непрерывным монотонным плеском весел.
Когда Шварц и Пфотенхауер проснулись, стояла еще темная ночь. Вокруг царила полная тишина, весла грудой лежали на дне лодки: путь был окончен. Люди высадились на берег и привязали лодки к стоявшим у самой воды стволам деревьев.
Здесь тоже пришлось оставить небольшой отряд, который должен был стеречь лодки, остальные разобрали оружие и провиант, взяли в руки по факелу, и последний переход начался.
Дорога вела сквозь высокий лес, деревья стояли довольно далеко друг от друга, и пробираться между ними не представляло особенной сложности. Факелы горели ярко, так что проводники не могли заблудиться. Люди старались избегать малейшего шума, так как существовала вероятность того, что кто-то из отряда Абдулмоута может находиться поблизости.
Так, медленно и осторожно, солдаты двигались вперед в течение неполного часа, затем шагавшие впереди ниам-ниам остановились и о чем-то вполголоса доложили королю. Тот подошел к немцам и сообщил, что ущелье уже совсем близко, и воины спрашивают, следует ли им спускаться вниз.
— Нет, ни в коем случае, — возразил Шварц.
— Почему нет?
— Потому что это было бы неразумно. Если наши враги уже там, что, конечно, маловероятно, то, спустившись в ущелье, мы свалились бы прямо к ним в объятия. Однако скорее всего, они еще не подошли, и мы можем вполне не торопиться, а подождать наступления утра. Вели потушить факелы! Мы останемся здесь до рассвета, это самое умное, что сейчас можно придумать.
Огни тотчас были потушены, и теперь ни один человек, по воле случая оказавшийся в этом пустынном месте, ни на секунду не заподозрил бы о присутствии здесь нескольких сотен готовых к бою людей.
Утренние сумерки в Судане столь же коротки, как и вечерние. Было еще совсем темно, когда где-то глубоко внизу, на самом дне ущелья, раздался громкий птичий крик. В тот же миг, как будто утро проснулось по этому сигналу, мрак стремительно начал рассеиваться. В неясном сером свете стали постепенно проступать стволы деревьев, потом кустарники, вскоре можно было различить уже отдельные маленькие ветки, листья и цветы. Через какие-нибудь три минуты лес залил свет, и сотни, даже тысячи радостных птичьих голосов приветствовали восходящее светило.
Шварц и Пфотенхауер первыми поднялись с земли и дали солдатам знак отправляться дальше. Оказалось, что проводники прекрасно знали свое дело: стоило им ночью сделать еще хотя бы сотню шагов, и люди врезались бы в высокую, почти отвесную стену гранитных скал. Все горы Гута сплошь состоят из этого камня.
Основная часть отряда все еще находилась под сенью густых крон, которые так тесно переплетались между собой, что сквозь них едва просвечивало небо. Но над головами шагавших впереди немцев уже не было сплошной лиственной или хвойной крыши: они только что вышли на открытое пространство и остановились на краю ущелья эс-Сувар.
По краям оно было уже, чем в середине, и достигало около восьмидесяти шагов в ширину, длина же его была раз в десять больше. Стены ущелья так круто вздымались вверх, что по ним, казалось, невозможно было спуститься. Однако напротив того места, где стояли сейчас Шварц и Отец Аиста, вниз вел узкий коридор, вход в который находился приблизительно на одном уровне с дном долины; оттуда можно было проникнуть в ущелье без особых сложностей. Лес подступал к скалам почти вплотную, сами же они были абсолютно голыми, на их ровном сером фоне не было заметно ни единого стебелька или травинки. Однако на дне ущелья колыхались на утреннем ветерке верхушки стройных пальм; это говорило о том, что там, внизу, должна была иметься вода.
Король и Вахафи подошли ближе, и последний сказал, указывая себе под ноги:
— Это и есть сто четырнадцать пальм глав Корана, которые посадил имам, чтобы снять с ущелья проклятие. Во всей округе вы не встретите больше ни одной пальмы; они не растут в здешних краях, и это служит доказательством чуда, которое пожелал сотворить Аллах, вняв молитвам своего преданного слуги.
— Кажется, внизу нет еще ни одного человека, — сказал Шварц. — Таким образом, нам действительно удалось опередить Абуль-моута, и я думаю, у нас есть время осмотреть ущелье. Где здесь есть спуск вниз?
— Вон там, впереди, напротив нас. Это единственный вход в ущелье, другого нет.
— Ты в этом уверен?
— Да. Я неоднократно бывал здесь и много раз тщетно пытался вскарабкаться на скалы. Сейчас я провожу вас к тому спуску, и вы все увидите сами. Прикажите своим людям следовать за нами!
— Погоди, погоди, не так быстро! Ты что, думаешь, что мы отправимся в ущелье в полном составе?
— Конечно!
— И там будем ждать прибытия Абуль-моута?
— А разве нет?
— Разумеется, нет, иначе мы пропали!
— Почему?
— Потому, что Абуль-моут подойдет к краю ущелья, заметит нас и перекроет нам выход. Тогда мы окажемся запертыми среди скал, и он сможет перебить нас как котят.
— Что за мысль, господин! Ты разве забыл, сколько у нас воинов? Сколько голов и рук?
— Чего может стоить даже миллион рук, если головы, которым они служат, не научились думать? Посмотри, как узок этот вход! Достаточно будет двадцати человек, чтобы перегородить его!
— Так мы нападем на них!
— Это может нам дорого обойтись: видишь, там повсюду разбросаны обломки скал, за которыми могут укрыться ловцы рабов. Они будут стрелять в нас, оставаясь при этом в безопасности за камнями.
— Какое значение имеет, если мы и потеряем тридцать, сорок, пусть даже пятьдесят человек? С нашими сотнями Абуль-моуту все равно не совладать.
— Послушай, Вахафи, я ведь христианин, а моя вера учит, что жизнь каждого отдельного человека должна быть свята для нас. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы ни один из наших солдат не пострадал в предстоящем бою.
— Но, господин, это невозможно.
— Давай не будем сейчас об этом спорить! Прежде всего мне нужно осмотреть ущелье, только после этого я смогу понять, как нам действовать дальше. Я спущусь туда с несколькими моими друзьями. Остальные останутся здесь и будут ждать нашего возвращения. Против того, чтобы в ущелье отправился весь отряд, я категорически протестую, потому что тогда случилось бы именно то, чего так ждет Абуль-моут: мы попали бы в западню!
— Но тогда каким образом ты собираешься его победить?
— Там будет видно. Может быть, Отец Смерти сам захочет войти в ущелье и подкараулить нас там. Тогда мы заняли бы вход, и он попался бы в свою собственную ловушку. Впрочем, не думаю, что он способен на такую безумную выходку; я считаю его слишком умным человеком для этого.
— Почему, собственно, вам это кажется столь нереальным?
— Потому что, если бы он это сделал, его бы стали презирать все ловцы рабов.
— Да, если бы он мог предположить, что мы уже здесь. Но он-то не ждет нас раньше завтрашнего дня! Поэтому вполне возможно, что на сегодня он решит остановиться в этом удобном для лагеря месте.
— Гм, об этом я не подумал. Пожалуй, что вы и правы!
— Конечно, ставку можно делать только на то, что он будет рассчитывать на успех своего плана, в противном случае я совершенно согласен с вами. Но вы, помнится, собирались спуститься вниз и провести рекогносцировку. Давайте-ка сделаем это, не откладывая, потому что Абуль-моут может появиться довольно быстро.
Оставив солдат на опушке леса, предводители двинулись вперед по левому краю ущелья. Отсюда оно хорошо просматривалось. Со всех сторон долина была окружена пальмами, в центре ее лежал зеленый травяной ковер, однако ни ручья, ни какого-либо другого источника видно не было. Шварц выразил свое удивление по этому поводу, на что Вахафи ответил:
— Когда мы спустимся вниз, ты увидишь, что там все же имеется вода.
Путь к входу в ущелье преграждал большой вертикальный обломок скалы, и друзьям пришлось немного углубиться в лес, чтобы обойти его слева. Это, впрочем, было совсем нетрудно; уже через десять минут путники почувствовали, что склон стало полого понижаться. Лес кончился, уступив место кустарнику, а потом Шварц с изумлением увидел перед собой ровное, лишенное травы поле, посреди которого возвышалась гора в форме подковы. Внутренняя сторона этой горы и образовывала ущелье.
Вход в него составлял в ширину всего двенадцать шагов. Оказавшись внутри, люди на миг замерли, пораженные открывшимся перед ними зрелищем.
Ровные, голые стены ущелья достигали в высоту не менее ста футов, за ними приветливо кивали верхушки деревьев. Вдоль подножия скал, вокруг всей долины, шло своеобразное возвышение, напоминавшее дамбу. Сочившаяся сверху вода стекала в желоб, который имелся посередине дамбы; и образовывала маленький ручеек. Чуть поодаль от входа в ущелье в ручеек впадала подземная речка, выходившая наружу через дыру в камне. Эта вода и питала пальмы, которые росли прямо на дамбе, на равном расстоянии друг от друга.
— Сосчитай их! — предложил Вахафи Шварцу. — Справа и слева по пятьдесят, сзади семь и здесь, впереди, тоже семь — вместе получается ровно сто четырнадцать. А теперь подойди поближе и посмотри, как каждая называется.
Он подвел немца к ближайшей пальме. На ее стволе, на уровне человеческих глаз было вырезано слово на арабском языке, подобные надписи были на других пальмах. Вздутые, крупные буквы толщиной в палец разобрать было нетрудно. Их можно было перевести примерно так: «Открывающая Книгу», «Корова», Семейство Имрана», «Женщины», «Трапеза» и «Скот». Они соответствовали заглавиям пяти первых сур Корана. Неудивительно, что такое ущелье считалось среди мусульман священным местом. Так же воспринимали его и ниам-ниам, которые, хотя и не были последователями Пророка, но в постоянном общении с таковыми бессознательно усвоили очень много идей ислама. Охваченные благоговейной робостью, они остановились у входа, Шварц же и Пфотенхауер двинулись дальше. Тем, кто хотел было последовать за ними, Шварц коротко приказал:
— Оставайтесь на месте! Здесь много камней и щебня, на котором отпечатков ваших ног видно не будет, но дальше, в траве, вы можете оставить следы и тем самым выдать нас Абуль-моуту. Помните: он ни в коем случае не должен заподозрить, что сегодня здесь кто-то уже был. Мы же с Отцом Аиста умеем ходить по траве, почти не приминая ее, и ликвидировать даже немногие, еле заметные следы нашего присутствия.
Дойдя примерно до середины ущелья, немцы окончательно убедились в том, что даже самому ловкому и отчаянному тирольскому охотнику на горных козлов не удалось бы вскарабкаться по одной из этих отвесных скал. Больше друзьям ничего не нужно было знать, и, они, удовлетворенные, вернулись назад, причем, как и обещали, не забыли заботливо уничтожить оставленные в траве следы.
Глава 19
В ЛОВУШКЕ
Шварц и Пфотенхауер были правы, когда решили поторопиться с осмотром ущелья: не успели они снова выбраться наверх, как Отец Одиннадцати Волосинок, указывая в сторону равнины, закричал на своем тарабарском наречии:
— Внимание давайте! Там показалась точка, черная и двигающаяся. Что там могут идти за люди, не дружелюбные, а враждебные? Мы давайте спрячемся, чтобы они не могли видеть нас стоящими.
Солдаты быстро спряталась под прикрытие кустов и деревьев. Оттуда они могли, оставаясь незамеченными, видеть все, что происходило на равнине.
За первыми четырьмя или пятью точками следовали все новые и новые, и вот уже длинная, тонкая и очень прямая, будто по линейке вычерченная линия протянулась к подножию гор от самого горизонта.
С каждой секундой точки увеличивались в размерах, через десять минут можно было уже различить пятерых ехавших впереди всадников и поспевавших за ними пеших. Еще через пять минут показался весь караван. Он двигался в строгой последовательности: небольшие группки пеших людей перемежались всадниками.
— Это караван Абуль-моута со своими ловцами людей и похищенными неграми, — сказал Пфотенхауер.
— Они пунктуальны, как немцы, — не заставили себя долго ждать! Ну, теперь-то начнется настоящее веселье!
— Печальное веселье, если не для нас, то для них, — заметил Шварц и, обернувшись к королю и ниам-ниам, продолжил по-арабски: — Мы с моим другом останемся здесь наблюдать за караваном, а вы возвращайтесь в наш лагерь и сообщите солдатам о прибытии тех, кого мы поджидали. Никто из солдат не должен покидать своего места, пока мы не придем за ними. Обоим хомрам и Даувари заткните рты кляпами, чтобы они не вздумали подать голос и предупредить своих единомышленников.
После того, как их спутники удалились, оба немца снова направили свое внимание на приближавшийся караван. Они увидели, как один из всадников галопом промчался от его хвоста к голове, без сомнения, для того, чтобы отдать ехавшим впереди людям какой-то приказ.
— Бьюсь об заклад, это Абуль-моут, — сказал Пфотенхауер. — Он хочет кого-то послать в ущелье на разведку, чтоб разнюхать, все ли там в порядке.
Он не ошибся: двое из пяти возглавлявших караван всадников отделились и во весь опор поскакали к горам. Это были бородатые парни с разбойничьими лицами. Казалось, они и мысли не допускали о том, что им здесь может повстречаться хоть одна живая душа: не соблюдая ни малейшей осторожности, они совершенно открыто подъехали к ущелью и углубились в него, а через некоторое время снова выбрались из него и так же поспешно вернулись к своему вожаку.
Между тем караван подошел уже так близко, что можно было разглядеть каждую отдельную фигуру, хотя лица все еще сливались в расплывчатые бледные или темные пятна. Не в силах сдержать волнение, Шварц судорожно сжал руки и с глубоким вздохом сказал:
— Через десять минут я узнаю, там ли мой брат или его уже нет в живых. Горе этому сброду, если я его не увижу! Пусть не ждут тогда от меня пощады!
В этот момент перед друзьями открылось зрелище, которое заставило содрогнуться даже их закаленные сердца. Они впервые видели невольничий караван в походе.
К лошади одного из передних всадников был привязан конец каната, обвитого вокруг шей пятнадцати шагавших друг за другом негров. Несчастные были полностью раздеты, их руки были скручены за спиной веревками, а тела сплошь покрыты шрамами и лопнувшими нарывами — следами плетей, которые они получили за свою непокорность.
За этой группой три всадника тащили за собой двенадцать негров, привязанных также к одной веревке. Кроме того, ноги невольников были закованы в тяжелые деревянные колодки, которые натирали им огромные кровавые мозоли и врезались в мясо до самых костей.
Далее следовал длинный ряд рабов, несших на шее устрашающий шабах — тяжелую деревянную вилку, в которую продевается голова пленника.
Следующую часть каравана составляли слабые женщины и девушки, которые едва не падали с ног под непомерной тяжестью грузов, навьюченных им на спины. Лодыжки рабынь были связаны короткими веревочками, так что женщины могли передвигаться только очень мелкими шажками. Тут должны были исчезнуть всякие мысли о бегстве, если таковые приходили им в голову.
За женщинами шли крепко-накрепко связанные друг с другом мальчики. Их лица были изуродованы страшным клеймом рабства, которое они должны были отныне носить всю жизнь. Длинные, глубокие ножевые раны на их щеках еще даже не начали затягиваться, они гноились и над ними роем кружились насекомые.
Перо отказывается описывать все зверства, которые измышляли ловцы рабов, чтобы принудить своих жертв к покорности и помешать им бежать. Некоторым они привязывали руки к голеням таким образом, что несчастные на протяжении всего пути вынуждены были оставаться в скрюченном положении, с вывернутым туловищем. На спину одной женщине был намертво прикручен веревками разлагающийся труп ее восьмилетнего сына. Всю дорогу она с плачем умоляла своих мучителей вернуть ей отнятого у нее ребенка, и тогда эти изверги застрелили мальчика и таким страшным способом вновь объединили его с матерью.
Все невольники от голода, жажды и усталости еле волочили ноги; видно было, что они шагали всю ночь.
Конечно, Шварц далеко не сразу заметил все эти подробности, так как мысли его были заняты другим: он напряженно искал среди пленников своего брата и до сих пор его не видел. По мере того, как караван скрывался за входом в ущелье, пульс Шварца бился все лихорадочнее, а его дыхание становилось все более тяжелым и прерывистым. Пытаясь взять себя в руки, он заскрипел зубами с такой силой, что Пфотенхауер услышал это.
— Только не теряйте надежды, — прошептал он, желая его успокоить. — Вожаки-то еще мимо не прошли, а таких важных пленников, как ваш брат да Охотник, они, как пить дать, от себя ни на шаг не отпускают.
Теперь к ущелью приблизились два всадника в белых накидках. Шварц еще издалека узнал лицо одного из них и воскликнул вполголоса:
— Абуль-моут! Это он, наконец!
— Точно, он, собственной персоной, — кивнул Отец Аиста, — а другой — сам Абдулмоут. Но гляньте, посмотрите, кто идет сразу за ними. Он жив, жив! Сеяд Ифъял с ним!
Действительно, это были они, Йозеф Шварц и Охотник на слонов. Судя по всему, ловцы рабов обращались с ними далеко не так жестоко, как с чернокожими невольниками; им даже оставили их одежду. Оба пленника выглядели сравнительно неплохо и держались с достоинством. Несмотря на плачевное положение, в котором находились друзья, лица их не выражали ни тени покорности.
— Слава Богу! — облегченно вздохнул Шварц. — Как бы мне хотелось броситься к нему и вырвать его из рук этих негодяев.
— Но тогда вы погубите все наши планы! — не на шутку испугался Серый.
— Конечно, я это знаю! Я должен сохранять хладнокровие. Но не сообщить ему о своем присутствии я все же не могу.
— Ради всего святого, не делайте глупостей! — шепотом взмолился Пфотенхауер, хватая товарища за руку.
— Не беспокойтесь! Я подам Йозефу знак, который он хорошо знает.
Охотник на слонов и его товарищ по несчастью были крепко связаны одной веревкой, так что они не могли ни на шаг отойти друг от друга. Руки их также были прикручены к телу, а вокруг туловища каждого был обмотан толстый канат, другой конец которого ловцы рабов прикрепили к стремени Абдулмоута. Тот уже въезжал в ущелье, и пленники вот-вот должны были скрыться в скалах вслед за ним, когда из лесу раздалось характерное карканье коршуна. Никто не обратил внимания на этот звук, так как коршуны встречаются в Судане на каждом шагу, однако Йозеф Шварц вскинул голову и прислушался. Его глаза заблестели, щеки разрумянились; он посмотрел направо, в сторону кустов, откуда донесся крик птицы, и заметил среди ветвей руку, которая махнула ружьем и тотчас исчезла. У Шварца хватило самообладания ничем не выдать охватившее его волнение. Он не сбился с шага и снова опустил голову. Но в тот момент, когда они с Охотником на слонов подошли ко входу в ущелье, Йозеф склонился к своему товарищу и тихонько прошептал ему на ухо:
— Какое счастье, что Абуль-моута не насторожил крик этого коршуна!
— А почему, собственно, он должен был… — начал Охотник.
— Это была не птица, а крику коршуна подражал мой брат.
— О, Аллах! Кто же…
— Ради Бога, не говорите так громко! Нас могут услышать! Мне очень хорошо знакомо это карканье, оно не раз выручало нас во время опасных путешествий по чужим странам. Если нам на короткое время приходилось разлучаться, с помощью этого сигнала мы снова находили друг друга. Итак, мой брат здесь! Один он или с ним есть еще кто-нибудь, это совершенно не важно: он найдет способ вызволить нас отсюда, прямо из каравана, причем сделает это еще сегодня вечером или самое позднее ночью. Единственное, что остается делать нам — это не дать ловцам рабов заметить, что у нас появилась надежда.
Увидев, что брат понял его знак, Эмиль Шварц несколько успокоился. Теперь он был уверен, что завтра Йозеф будет уже свободен. Дождавшись, пока последние рабы и всадники исчезли в ущелье, он вместе с Пфотенхауером поспешил назад, к лесу.
— Ну, с чего мы теперь начнем? — спросил Серый, когда оба друга начали взбираться по крутому склону горы. — Сразу нападем на них?
— Нет, потому что тогда они сразу убьют моего брата. У меня уже созрел план, я сообщу вам его, как только мы поднимемся наверх. Но у меня до сих пор в голове не укладывается, как этот всегда такой хитрый и осторожный Абуль-моут мог легкомысленно завести свою шайку в ущелье, где мы можем их так великолепно накрыть! Для того, чтобы блокировать выход, нам понадобится совсем небольшое количество людей. Таким образом, превосходство в численности по-прежнему останется за нами, и мы можем спокойно перестрелять их всех сверху, не подвергая при этом себя ни малейшей опасности. Да, они обречены, в этом нет сомнения, но все же мы пока не должны применять против них силу, чтобы не подвергать опасности моего брата и Охотника на слонов, а также всех похищенных ими рабов. Находясь на пороге гибели, такой человек, как Абуль-моут, способен на самые ужасные поступки: когда поймет, что попал в ловушку, он наверняка захочет, чтобы все его пленники отправились на тот свет вместе с ним.
Король прекрасно справился с данным ему поручением: когда немцы вернулись в лагерь, все солдаты были на месте и в полной боевой готовности. Сын Тайны подошел к Шварцу и сказал:
— Господин, я знаю, что невольничий караван прибыл, и очень волнуюсь за моего отца. Скажи, там ли Охотник на слонов?
— Да, мы его видели.
— И как он? Здоров ли, как он выглядел?
— Хорошо, насколько это возможно в его положении.
— Хвала Аллаху! — воскликнул юноша. — И горе этим мерзавцам, если нам не удастся освободить его.
— Все будет хорошо, можешь быть уверен. Впрочем, твой отец уже знает, что спасение близко. С ним был мой брат, и я подал ему сигнал, что нахожусь рядом.
— Но тогда мы не должны медлить, нужно сейчас же атаковать ловцов рабов!
— Нет, сначала мы должны вступить в переговоры с Абуль-моутом.
— Нужно ли это? Они не подозревают о нашем присутствии. Если мы внезапно нападем на них, ужас парализует их, так что мы станем победителями прежде, чем они успеют подумать о сопротивлении.
— Даже если бы все произошло так, как ты говоришь, во время боя могла бы пролиться человеческая кровь, а этого мне хотелось бы избежать. К тому же я думаю, что ты не совсем прав. Даже если оба вожака каравана будут захвачены врасплох, они ни в коем случае не потеряют самообладания. И можешь не сомневаться: первое, что они сделают — это убьют твоего отца и моего брата. По-твоему, мы имеем право подвергать их такому риску?
— Нет, господин, нет! — быстро ответил Сын Тайны. — Но как ты собираешься вызволить их оттуда?
— Это я и собираюсь вам рассказать.
И Шварц посвятил друзей в свой план, который сразу получил их единодушное одобрение. Теперь можно было приступать к началу операции.
Первым делом Шварц отдал воинам приказ окружить ущелье. Им удалось сделать это так тихо и осторожно, что находившиеся внизу враги ничего не заметили. Через десять минут весь верхний край ущелья был занят солдатами, которые получили подробные инструкции относительно своих дальнейших действий.
Несомненно, из всех людей, находившихся под началом Шварца, самыми опытными и надежными были солдаты из Фашоды, и поэтому именно им немец поручил занять вход в ущелье. Король, Хасаб Мурад и Отец Половины получили в свое подчинение отряды, которые оставались наверху. Шварц, Пфотенхауер, оба джелаби и Сын Тайны отправились вниз с остальными солдатами; Сын Верности пожелал помогать своему отцу.
Шварц приказал взять с собой Даувари и обоих хомров. После полученного наказания плетьми они не могли ходить, и их пришлось снести с горы на руках. Все трое видели приготовления к бою и понимали, что никакой надежды на спасение у Абуль-моута нет.
Между тем, этот последний продолжал вести себя с поразительной беззаботностью. Спустившись вниз, Шварц и его спутники увидели, что вход в ущелье даже не охраняется. Прежде, чем подойти к нему, Шварц остановился под деревьями и обратился к троим своим пленникам со словами:
— Я решил дать вам возможность искупить ваши грехи, и если вы сумеете воспользоваться ею, то, возможно, впоследствии я верну вам свободу. Сейчас с вас снимут веревки, и вы пойдете к Абуль-моуту в ущелье; расстояние здесь совсем небольшое, так что, несмотря на незажившие шрамы от плеток, вы сумеете его преодолеть. Скажите своему хозяину, что он заперт со всех сторон, а также скажите, сколько штыков насчитывает наше войско и каким оружием мы располагаем. Думаю, что эта информация заставит его стать более сговорчивым, чем он был до сих пор. Я ставлю перед ним следующие условия: он должен немедленно отпустить Охотника на слонов и моего брата и отдать им все имущество, которое у них отобрали. Если он сам сдастся вместе с Абдулмоутом, то я обещаю сохранить обоим жизнь. Если он согласится на эти условия, то мы выпустим отсюда всех его людей и не причиним им никакого вреда. Если же он откажется выполнить мои требования, пусть не ждет от нас милости! Вы видели наши приготовления к бою и прекрасно понимаете, что весь караван находится в нашей власти. В ваших же интересах постараться убедить Абуль-моута принять верное решение: ведь вам придется разделить его судьбу. Если он покорится, вы будете свободны, если же он вынудит нас начать военные действия, вы погибнете вместе с остальными.
Пленники мрачно смотрели перед собой; они были убеждены, что Абуль-моут не пойдет на эти условия. Поэтому один из хомров спросил:
— Ты не можешь принять сдачу на других условиях, которые были бы немного помягче?
— Какие, например? Я и так снисходителен к вам сверх всякой меры. Я собираюсь подарить вам жизнь, которой вы уже почти лишились, на что же еще вы хотите рассчитывать?
— Он никогда не согласится, — покачал головой араб.
— Этим он обречет себя на верную смерть.
— Могут ли его воины узнать, что ты велел ему передать?
— Да. Я был бы очень рад, если бы он сообщил им об этом. Может быть, у кого-нибудь из них достанет ума понять свою выгоду и уговорить его сдаться. Но особую надежду я возлагаю в этом деле на вас. Помните: теперь ваша жизнь отдана в ваши собственные руки.
— А каким образом ты узнаешь о его решении?
— Пусть он пошлет мне человека для переговоров.
— Твои люди не задержат его?
— Нет. Я даю тебе слово, что он сможет вернуться назад, когда ему заблагорассудится.
— Вы отпустите его, кто бы он ни был?
— Да.
— А если бы Абуль-моут захотел прийти сам?
— Я даже в этом случае сдержал бы свое слово: ведь он пришел бы к нам в качестве парламентера, чьи личность, свобода и собственность являются неприкосновенными. Поэтому мы ни в малейшей степени не стали бы препятствовать его возвращению. Более того, я даже был бы готов показать ему все наши позиции, чтобы он понял, что его горячность может всех вас погубить. Ну вот, теперь вы все знаете и можете идти.
Шварц снял с пленников веревки, и они, прихрамывая, заковыляли вниз. Как только они исчезли за входом, солдаты заняли его и завалили срубленными деревьями и кустами. Таким образом они обезопасили себя от вражеских пуль на случай, если Абуль-моуту все же пришло бы в голову предпринять немедленную атаку.
Шварц и Пфотенхауер выбрали наблюдательную позицию, откуда отлично просматривалось все ущелье. Теперь они могли видеть, что происходит во вражеском лагере. Похищенные негры были согнаны в заднюю часть ущелья, впереди ловцы рабов усердно занимались обычными при устройстве стоянки делами. Справа, на дамбе, уже был раскинут шатер, предназначавшийся для обоих предводителей каравана. Люди беспорядочно сновали на лагерной площадке и были настолько поглощены своей работой, что не сразу заметили трех медленно приближавшихся к ним человек, равно как и несколько неясных силуэтов, маячивших у входа в ущелье.
Но вот пленники подошли ближе и, обратившись к одному из охотников на рабов, стали что-то взволнованно ему говорить. Шварц увидел, что они при этом показывают руками назад, и приказал стоявшим у входа воинам вскинуть ружья, как будто они собираются стрелять. Посмотрев в указанном направлении, ловец рабов испустил громкий крик ужаса, и взгляды всех присутствующих обратились на него.
Когда разбойники поняли, что произошло, их охватила страшная паника. Все что-то кричали, кто-то хватался за оружие, другие беспомощно метались в разные стороны. Каждый хотел что-нибудь сделать для своего спасения, но никто не знал, что предпринять. Хомров и Даувари больше не было видно, они исчезли в толпе.
Внезапно откуда-то из глубины ущелья раздался глухой, но очень громкий и повелительный голос, который перекрыл все остальные голоса.
— Это Абуль-моут, — сказал Шварц своему товарищу. — Он призывает к спокойствию.
Шум и беготня тотчас же прекратились, люди неподвижно застыли там, где стояли. Шварц приказал солдатам опустить ружья. На дальнейшие четверть часа в ущелье воцарилась гробовая тишина, но она казалась затишьем перед бурей, так как все ловцы рабов уже успели вооружиться до зубов и теперь бросали на столь неожиданно появившихся врагов грозные взгляды.
По прошествии пятнадцати минут Шварц заметил в лагере Абуль-моута какое-то движение. Толпа расступилась, и вперед вышел человек без оружия и с пальмовой ветвью в руке. Он стал медленно приближаться к осаждавшим и, подойдя на расстояние приблизительно в двадцать шагов, остановился.
— Салам! — начал он, взмахнув ветвью в знак приветствия. — Я действительно могу прийти к вам и беспрепятственно вернуться назад?
— Да, я ведь обещал, — ответил Шварц, — иди и ничего не бойся!
Тогда человек подошел совсем близко. Это был рядовой солдат, без сомнения, Абуль-моут послал его только для того, чтобы проверить, нет ли у противников коварных намерений.
— Я пришел по поручению Абуль-моута, — сказал солдат. — Он хотел бы поговорить с вами сам и велел мне спросить, отпустите ли вы его назад и в том случае, если он не придет с вами к согласию?
— Скажите ему, что я привык держать свое слово!
— Итак, он может прийти?
— Да. Но он, разумеется, не должен иметь при себе оружия.
— Тогда я передам ему, что вы подтвердили свое обещание. Салам!
Человек повернулся и так же медленно зашагал прочь, однако, пройдя несколько шагов, оглянулся, бросил на врагов радостно-удивленный взгляд и огромными скачками помчался прочь, как будто пытался спастись от смертельной опасности. Очевидно, он до последней минуты не был уверен, что люди Шварца все же не схватят его.
— Боже ты мой, этот парень так выбрасывает вперед свои ноги, будто они у него растут отдельно от тела! — рассмеялся Пфотенхауер. — Он чуть умом не тронулся от радости, что мы его не сожрали!
— Кто съесть бы захотел болвана, такого, тот сам был бы не в своем уме, здоровом, — резонно заметил Отец Одиннадцати Волосинок. — Лучше, гораздо кусок жаркого, свиного, или шницель с красным перцем, говяжий… Смотрите, смотрите! Там идет Абуль-моут, персоной, собственной!
Он не ошибся: стая ловцов рабов снова расступилась, и показался Отец Смерти. Он выступал вперед, гордо распрямив свои узкие плечи, но голову держал опущенной. Только оказавшись в двух шагах от Шварца, он впервые поднял на него глаза.
— Салам, — так же коротко, как перед этим его посланец, поприветствовал он своего врага. — Я надеюсь, что ты будешь верен своему слову и не задержишь меня.
— Если ты выполнил мои условия, то я отпущу тебя.
— Какие?
— Прийти без оружия.
Абуль-моут распахнул свою накидку и ответил:
— Посмотри сам! Или вели своим людям обыскать меня и посмотришь, найдут ли они хоть одну иглу в моей одежде.
— Я верю тебе, — кивнул Шварц. — Итак, как только наш разговор кончится, ты можешь вернуться в свой лагерь.
— Даже если я не захочу пойти навстречу твоим желаниям?
— Даже в этом случае.
— Тогда давай выйдем отсюда и поговорим снаружи!
Абуль-моут хотел было протиснуться между кустами, которыми был перегорожен вход в ущелье, но Шварц остановил его и сказал:
— Стой, не так быстро! Если ты хочешь выйти наружу, то необходимы дополнительные меры предосторожности.
— Что еще за меры? — спросил Отец Смерти оскорбленным тоном.
— Мне придется связать тебе руки за спиной.
— Зачем это?
— Чтобы ты не мог убежать.
Ловец рабов язвительно усмехнулся:
— Убежать? Что за мысли приходят тебе в голову? Как я могу убежать в тот самый миг, когда вы, наконец, попали мне в руки и мои мечты о мести вот-вот сбудутся? Ты же слышал, что я согласился на переговоры только при условии, что мне разрешат вернуться!
— Все равно я тебе не доверяю.
— Да и куда мне бежать? Даже если бы мне удалось быстро прыгнуть в кусты и скрыться от вас, — что бы я делал в этой глуши без запасов еды и без оружия? Я бы через несколько дней умер от голода.
— Ба! Ты питался бы фруктами до тех пор, пока не нашел бы какую-нибудь деревню. Впрочем, не прибедняйся: ты сейчас вовсе не так уж беден, как пытаешься изобразить.
— Что ты хочешь сказать?
— Ведь здесь с тобой только рабы. Где же ты оставил похищенные стада?
Изможденное, безжизненное лицо старика на миг исказилось злобной гримасой, потом он снова рассмеялся:
— Стада? Я тебя не совсем понимаю.
— Нет, уж если здесь кто-то кого-то не понимает, то это не ты, а я. Я действительно не возьму в толк, как после всего, что ты пережил со времени нашей первой встречи, ты можешь считать меня столь глупым человеком? Мне прекрасно известно, что во время похода вы забираете не только людей, но и животных, и все, что имеет для вас хоть какую-то цену. Я не сомневаюсь, что вы увели стадо и из Омбулы. Кроме того, Абдулмоут напал на обратном пути еще на одну деревню и наверняка захватил там богатую добычу.
— Ты ошибаешься. Мы брали только рабов. Посмотри в ущелье: разве ты видишь там что-нибудь похожее на лошадей, коров, овец или верблюдов?
— Не думай, что меня так просто обвести вокруг пальца. Ты ведь хотел заманить нас сюда и уничтожить. Конечно, стада только помешали бы тебе при этом. Кроме того, они замедлили бы твое продвижение вперед, поэтому ты и оставил их где-то по дороге.
— Какую мудрость, какую проницательность ты проявляешь в каждом своем слове! — с издевкой сказал Абуль-моут, но по лицу его было видно, что под маской иронии он пытался скрыть овладевшие им злость и растерянность.
— Итак, если бы тебе удалось сейчас от нас убежать, — невозмутимо продолжал Шварц, — ты первым делом поспешил бы к этим стадам. Люди, которым ты поручил присматривать за ними, снабдили бы тебя оружием. С их помощью ты легко перенес бы сегодняшнее поражение и продолжил свою прежнюю разбойную жизнь.
— А этого ты, конечно, допустить никак не можешь?
— Конечно, не могу.
— Так! Но кто поставил тебя судьей надо мной?
— Закон, который распространяется даже на эти дикие места и здешних людей.
— Это просто смешно! Мне сказали, у тебя при себе столько воинов, что тебе ничего не стоит раздавить нас. Ты можешь это доказать?
— Без труда.
— Каким же образом?
— Я проведу тебя вокруг ущелья, и ты убедишься, что окружен со всех сторон.
— Так сделай это!
— С удовольствием, но сначала я должен связать тебе руки.
— Что за вздорные мысли приходят тебе в голову! — гневно сказал старик. — Чтобы я, Абуль-моут, позволил подвергнуть себя такому унижению? Да ты просто безумец!
— Помолчи! — прикрикнул на него Шварц. — Я был столь любезен, что согласился разговаривать с тобой как с парламентером, но если ты будешь грубить мне, я ударю тебя плеткой по лицу! Кто, собственно, такой этот «великий» Абуль-моут, который требует к себе такого почтения? Можно подумать, это уважаемый всеми человек, едва ли не святой! Но нет же, Абуль-моут — вор и разбойник, которого надо уничтожить как вреднейшего и опаснейшего из паразитов. То, что я иду навстречу твоему желанию и соглашаюсь показать тебе расположение и величину наших сил, является величайшей милостью с моей стороны, и за это ты должен беспрекословно подчиняться всем моим приказам. Если ты отказываешься их выполнять — что ж, я не имею ничего против, но тогда можешь считать наши переговоры оконченными и можешь возвращаться к себе.
Слова Шварца и в особенности тон, которым он их произнес, не замедлили оказать свое действие. Кроме того, Абуль-моут прекрасно понимал, как важно ему осмотреть позиции противника и понять, насколько серьезно положение, в которое он попал. Поэтому он примирительно сказал:
— Ну ладно, я признаю, что не будет позором, если я добровольно позволю наложить на себя путы. Но я надеюсь, что потом вы снова снимете их с меня!
— Само собой разумеется!
— Ну тогда вяжите меня! Я согласен пойти на это унижение.
После того, как руки Абуль-моута были крепко связаны за спиной, ему разрешили пройти засеку. Двое солдат взяли старика под конвой, и обход начался. Никто из постоянных спутников Шварца не принимал в нем участия, даже Серый, который не очень-то полагался на офицера из Фашоды, предпочел остаться с солдатами на случай, если Отец Смерти отдал своим людям приказ попытаться прорвать осаду во время их отсутствия.
Если Абуль-моут полагал, что запуганные врагами хомры сгустили краски, когда обрисовали ему настоящее положение ловцов рабов, то теперь он увидел, что заблуждался. По мере того, как он продвигался по краю ущелья, физиономия его становилась все задумчивее. Он пересчитывал стоявших за скалами солдат, видел их прекрасные ружья, ловил мрачные взгляды, которые они бросали на него, и постепенно приходил к убеждению, что его отряд действительно не может сравниться с этим войском в силе и он должен рассчитывать только на свою хитрость и изворотливость.
Проходя мимо нуэров, которых Абуль-моут совсем недавно завербовал для себя, Отец Смерти плюнул в сторону их главаря и гневно крикнул:
— Позор вам!
Но это оскорбление не сошло ему безнаказанным: вождь нуэров подошел и ударом кулака разбил своему бывшему господину лицо, прибавив:
— Это на тебе лежит позор, потому что ты пес и предатель! Вспомни битву на реке! Разве не ты убежал тогда первым, как последний трус? Разве не ты коварно покинул нас в беде? Если бы Отец Четырех Глаз, да благословит его Аллах, не обладал таким добрым сердцем, нас всех давно уже не было бы в живых. И после этого ты смеешь обвинять меня за то, что мы решились отблагодарить его своей преданностью? Твой путь скоро приведет тебя к погибели и преисподней, где ты будешь гореть на самом жарком огне!
— Господин, почему ты позволяешь своим людям поднимать на меня руку? — обратился Абуль-моут к Шварцу. — Разве ты не обещал мне полную безопасность?
— Каждый получает то, что он заслуживает, — спокойно ответил немец. — Ты же сам специально вызываешь гаев моих людей. Если тебе угодно их оскорблять, то изволь нести ответственность за свои поступки, в которых виноват только ты сам. Вообще-то в данной ситуации тебе следовало бы быть более разумным и осторожным.
— Но ты должен обеспечивать мою неприкосновенность!
— А ты должен вести себя скромно и вежливо. Если ты этого не выполняешь, то те, кого ты оскорбляешь, могут даже убить тебя, и я пальцем не пошевельну, чтобы помешать им, потому что это будет совершенно справедливо.
Затем Шварц повел своего пленника дальше, и, когда обход был завершен, оба вернулись вниз. За время их отсутствия солдаты под руководством Пфотенхауера успели окончательно перегородить вход в ущелье. Они сплели из веток настоящую стену, а все щели законопатили землей, так что ни одна пуля не могла бы теперь пробить это заграждение. В нем была оставлено только одна крошечная лазейка, через которую мог бы протиснуться человек не очень плотного сложения. Когда Абуль-моут увидел баррикаду, лицо его стало еще более мрачным, и он сказал, нарочито посмеиваясь:
— Однако вы, должно быть, до смерти нас боитесь. Вы готовитесь к бою с нами с таким усердием, будто речь идет о взятии неприступной крепости.
— Я думаю, ты и сам понимаешь, что обвинения нас в трусливости полностью лишены основания. Но никакую работу нельзя назвать излишней, если она направлена на то, чтобы сохранить жизнь хотя бы одного человека.
— Ладно, сними с меня веревки! Я вижу, ты хочешь начать нашу беседу. Хотя, я считаю, она не даст никаких результатов.
— Ну, какой-то успех она в любом случае будет иметь, если и не для тебя, то для меня. Итак, приступим.
Старику развязали руки, и все участники переговоров уселись в кружок на траву. На лице Абуль-моута появилось высокомерно-презрительное выражение, как будто это от него зависела судьба Шварца и его друзей и как будто великой милостью с его стороны было позволить всем этим людям находиться вблизи него и внимать его речам.
— Этот человек мне что-то совсем не нравится, — по-немецки сказал Шварцу Пфотенхауер. — Он скроил такую самоуверенную, да попросту бесстыжую рожу, что я думаю, не скрывает ли он за душой чего такого, о чем бы мы не догадывались?
— Не знаю, что бы это могло быть, мы, кажется, все предусмотрели, — с сомнением сказал Шварц.
— Да, я уж тоже ума не приложу, что он замышляет, но вот помяните мое слово, что-то этот мерзавец все же задумал! Поэтому нам надобно ухо востро держать!
— Почему вы говорите на языке, которого я не понимаю? — вмешался Абуль-моут. — Вы разве не знаете, что это невежливо? Или, может быть, вы меня боитесь?
— Если кто-то здесь и боится чего-либо, так это, кажется, ты, — возразил Шварц. — Только страх делает человека недоверчивым. Что же касается твоего замечания по поводу вежливости, то, по-моему, ты требуешь от нас слишком многого. Дела, которыми ты себя прославил, не дают нам никаких оснований расточать комплименты в твой адрес. И вообще, я посоветовал бы тебе несколько снизить тон, в котором ты говоришь с нами! Мы были столь снисходительны, что предложили тебе поговорить с нами, но, если ты будешь нас раздражать, мы ведь можем отказаться от переговоров.
— Снисхождение ко мне? — рассмеялся старик. — Как такая чушь могла прийти тебе в голову? Скорее это я оказываю вам милость своим присутствием здесь, потому что не я нахожусь в вашей власти, а вы в моей!
— Только безумец мог произнести такие слова!
— Молчи! Безумие охватило не меня, а тебя, и я могу это доказать.
— Так докажи!
— Пожалуйста! Разве условия, которые ты поставил мне, не достойны безумца?
— Как сказать!
— Что значит «как сказать»? Ты требуешь, чтобы я не только вернул тебе твоего брата и Охотника на слонов, но сдался вместе с Абдулмоутом. Ведь я тебя правильно понял?
— Абсолютно.
— И ты не признаешь, что это безумие?
— Нет. Впрочем, мы сидим здесь вовсе не для того, чтобы обсуждать мотивы моих требований и поступков. Ты должен ответить мне только на один вопрос: согласен ли ты выполнить мои условия?
— Это я мог сказать тебе сразу, как пришел.
— Ну, так скажи.
— Мне смешны твои требования!
— Так, все понятно, можешь ли ты еще что-нибудь сказать мне?
— Нет.
— Что ж, наша беседа подошла к концу раньше, чем я предполагал, — сказал Шварц и поднялся.
— Пожалуй, это так, — согласился Абуль-моут, тоже поднимаясь. — Теперь я могу идти?
— Можешь.
— Тогда всего хорошего, мне пора, — с этими словами Отец Смерти повернулся и, не задерживаемый никем, подошел к оставленному в засеке отверстию. Перед тем, как пролезть в него, он оглянулся на своих врагов и спросил:
— Что же вы собираетесь делать дальше?
— Об этом ты очень скоро узнаешь.
— Может быть, откроете стрельбу?
— Без сомнения.
— Нет, этого вы не сделаете!
— Кто же нам помешает?
— Ваш собственный разум, если только он у вас остался, потому что как только раздастся первый выстрел с вашей стороны, я тотчас прикажу убить твоего брата.
— А при втором выстреле будет убит Охотник на слонов? — спросил Шварц, улыбаясь, хотя на душе у него было не очень-то весело.
— Совершенно верно. А потом последует еще кое-что.
— Что же?
— С каждым следующим выстрелом мои люди будут закалывать одного из рабов, которых вы хотите освободить. Таким образом, вы достигнете как раз противоположного результата, чем тот, к которому стремитесь.
Абуль-моут торжествующе взмахнул рукой, а потом прибавил:
— Теперь вы сами понимаете, кто в чьей власти находится.
— Конечно, — кивнул Шварц, — вы — в нашей.
— Что? Я был прав, ты действительно сумасшедший!
— А ты находишься в сильнейшем заблуждении относительно того, как будет происходить наше сражение. Первым, кого сразит моя пуля, будешь ты, а вторым — твой прихвостень Абдулмоут. Мне кажется, у тебя уже была возможность убедиться, как хорошо я стреляю!
— Ты можешь стрелять как сам шайтан, мне нет до этого никакого дела. Или ты, может быть, думаешь, что я сам подставлю свою грудь под твои пули, так, чтобы тебе даже целиться не пришлось? Твои угрозы веселят меня до слез!
— Так спрячься же за чужие спины и убивай, пока не захлебнешься кровью! Мы поступим иначе. Мы перестреляем твоих людей одного за другим, а вас с Абдулмоутом до поры до времени оставим в живых. Но ты даже представить себе не можешь, как ужасна и мучительна будет твоя смерь!
— Давай, давай, продолжай пугать меня; я знаю, что все твои слова ничего не значат. Ты никогда не согласишься пожертвовать жизнью своего брата.
— Я все равно не могу его спасти — значит, ему придется умереть.
— Не пытайся меня обмануть! Я так уверен в успехе своего дела, что готов даже снизойти до того, чтобы сделать вам одно предложение.
— Я не желаю его слушать, потому что ты не можешь снизойти до меня.
— Тогда заткни свои уши, и пусть его выслушают другие. Я согласен освободить твоего брата и Охотника на слонов тоже. Они также получат обратно все свои вещи, но при одном условии…
— И чего же ты потребуешь за это?
— Вы должны убраться отсюда и навсегда оставить меня в покое!
— Этого никогда не будет!
— Тогда пусть вас сожрет шайтан! Я сказал вам мое последнее слово и повторяю еще раз: твой брат умрет при первом же выстреле.
— А вот тебе и мое последнее слово: я прикажу тебя четвертовать, если хоть один волос упадет с головы Йозефа. Теперь ты можешь идти.
— Да, я ухожу. И знаешь, лучше поберегись меня, потому что я не шучу!
Старик протиснулся сквозь узкое отверстие в засеке и с высоко поднятой головой зашагал вниз, в ущелье. Глядя ему вслед, словак взял свое ружье и спросил:
— Может, мне застрелить его, наглого и бесстыжего? Тогда история сразу быть бы кончена, вся и целиком!
— Нет, — возразил Шварц. — Раз я дал ему слово, то не могу его нарушить.
— Да уж, — согласился Пфотенхауер, — клятвопреступником стать — это последнее дело, хотя я бы сейчас с удовольствием подпалил ему шкуру! Это надо же — наглец был у нас в руках, и вновь ускользает невредимым! Ну что за нахальный тип! Вместо того, чтоб быть с нами покладистым, как ягненок, он вел себя так, будто это мы ему челом бить пришли! Что теперь будет — ума не приложу! Как по-вашему, он и вправду сделает то, что сказал?
— Не думаю.
— Да ну! Я склонен ему поверить.
— А я нет!
— Значит, вы, должно быть, чересчур хорошо о нем думаете.
— Чего нет, того нет; я просто считаю его слишком умным для того, чтобы исполнить свою угрозу.
— Вот те на! Что ж тут было б опрометчивого?
— Тем самым он лишил бы себя последней надежды на снисхождение с нашей стороны.
— Еще бы, это уж точно! Но что толку будет от нашей мести: ведь ежели он убьет наших друзей, нам их уж не оживить!
— Я внимательно наблюдал за ним во время переговоров и видел: он понимает, что ему от нас не уйти. У него остался только один-единственный козырь, и он показал его нам, но пустить его в игру он вряд ли решится. Этим он подписал бы свой смертный приговор.
— Ну не знаю… Должно быть, вы, как всегда, правы, но по мне, от этого мерзавца чего угодно ожидать можно. Но что я вижу? Он, никак, вновь возвращается?
Действительно, Абуль-моут снова направлялся в их сторону. На этот раз он не подошел вплотную к заграждению, а, остановившись на почтительном расстоянии от него, крикнул:
— Если я приду к вам еще раз, вы не задержите меня?
— Нет, — ответил Шварц.
— Эх, зря вы это обещаете! — с досадой прошептал Пфотенхауер. — Теперь-то у него не было вашего слова, и мы могли б его сцапать!
— К сожалению, уже поздно, я дал слово. Впрочем, возвращение Отца Смерти доказывает, что я рассуждал совершенно верно.
Старик приблизился к отверстию в засеке, но пролезать в него не стал, а лишь выглянул наружу и спросил:
— Что вы сделали бы со мной, если бы я сдался?
— Мы сохранили бы тебе жизнь, — отвечал Шварц.
— А свободу вернули бы?
— Нет. Я доставил бы тебя в Фашоду.
— Что?! Везти меня в Фашоду? К Отцу Пятисот?
— Да, я обещал ему это.
— Ты был очень откровенен со мной, и я благодарен тебе. Теперь можешь делать что хочешь: живым вы меня не получите!
Абуль-моут снова зашагал прочь. Он шел очень медленно и ни разу не обернулся: так твердо он был уверен, что Шварц сдержит свое слово.
— Негодяй что-то слишком далеко заходит! — вскипел Пфотенхауер. — Его самоуверенность так меня бесит, что я даже боюсь, как бы у меня внутри не разлилась желчь! Ах, ежели бы вы только не пообещали ему неприкосновенность — он бы уж лежал там, в траве, с моей пулей в башке!
— Ничего, — сказал Шварц. — То, что он вернулся с этим вопросом, меня очень обнадеживает.
— Но мы, несмотря на всю эту болтовню, с мертвой точки не сдвинулись!
— Да, но мы же не собираемся стоять на месте.
— Так бегите быстрее вперед и нас с собой взять не забудьте! Вы скажите только, что дальше-то делать? Думаете, ежели мы теперь стрелять начнем, это уж не так будет опасно для вашего брата?
— Я думаю так же, как и раньше, и я лучше не буду испытывать терпение Абуль-моута. Нам ни к чему применять силу, потому что своей цели мы можем достичь при помощи небольшой хитрости.
— Вон оно что! И что же вы опять задумали?
— Да ведь я вам уже говорил! Мы постараемся вызволить моего брата и Охотника на слонов. Если нам это удастся, мы тогда отберем у Абуль-моута последний козырь, и тогда нам больше не нужно будет с ним церемониться.
— Тысяча чертей! Вы что, серьезно?
— Ну конечно!
— Я вас верно понял? Вы хотите, чтоб мы этот балаган с переодеваниями устроили?
— Я, по крайней мере, полон решимости осуществить свою идею. Но я ни в коем случае не хочу вас уговаривать, потому что дело, которое мне предстоит, действительно очень опасно, и вы…
— Да бросьте вы, наконец, свои экивоки и говорите без дураков! — перебил его Отец Аиста. — То, что можете вы, и мне по плечу, а брата вашего я так люблю, что ради него я уж охотно поучаствую в такой карнавальной шутке!
— Но это совсем не шутка! Если нас схватят, то все будет кончено, и не только для нас, но и для всех тех, кого мы собираемся спасти!
— Ну это понять и у меня башки хватит, и я уж считаю это вполне уважительной причиной для того, чтобы нам не попадаться! Теперь меня занимает только одно — как и когда мы все это проделаем. Я так разумею, не раньше нынешнего вечера?
— Да. Наш план можно выполнить только в темноте.
— А ну, как до этого времени что-нибудь приключится?
— Не думаю. Абуль-моут не станет первым предпринимать какие-либо действия, а, наоборот, скорее всего, будет рад, что мы до поры до времени оставили его в покое.
— Ну, в таком случае, вопрос «когда» отпадает, и остается только «как». Мы, стало быть, должны превратиться в негров?
— Да.
— Сказать по совести, не очень-то мне это нравится!
— Почему же?
— Да по целому ряду причин. Перво-наперво, как мне с такой длиннющей бородой стать похожим на негра? Даже если я ее в самый что ни на есть вороний цвет выкрашу, мне все равно никто не поверит! И потом, если мы будем неграми, мы только в ту часть ущелья пробраться сможем, куда эти разбойники всех рабов согнали. Но наших-то друзей старикашка Абу, как пить дать, где-то около себя держит! Не лучше ли будет, если мы рожи-то наши в коричневый цвет покрасим, да оденемся так, чтобы нас за ловцов рабов принять было можно?
— В этом случае нас тоже можно будет легко узнать по нашим бородам. Нет, так мы делать не станем. Возле похищенных рабов нам, конечно, делать нечего, потому что и среди людей Абуль-моута достаточно чернокожих. И вообще, нам лучше не показываться никому на глаза. Мы постараемся пробраться в их лагерь бесшумно, как подкрадываются индейцы. Так что черный цвет нам нужен не столько, чтобы нас приняли за негров, сколько для того, чтобы нас труднее было заметить в темноте.
— Ну, что ж, вы меня убедили! Что и говорить, вы опытнее да и половчее меня будете, так что делайте как знаете, я уж помогу вам чем могу. Но где же мы черную краску-то достанем? Будем жечь дерево, чтоб уголь получился?
— Уголь плохо пристает к коже. Стоит нам случайно к чему-нибудь прикоснуться, и он сразу смажется, а белые пятна на коже будут светиться в темноте и легко нас выдадут. Но у нас ведь есть жирное мясо слонов и сало гиппопотамов. Из них мы можем получить сколько угодно сажи.
Весь этот разговор велся на немецком языке, поэтому никто из присутствующих не понимал его, кроме словака, который, конечно, не мог удержаться, чтобы не сказать:
— И я хотел бы намазать сажу на лицо, мое, чтобы я стал негр, черный, и мы идти тоже выручать обоих друзей, захваченных!
— Ты тоже хочешь? — рассмеялся Шварц. — Да, ты как раз будешь подходящий парень для этого!
— Да, я буду парень подходящий, — не почувствовав иронии, согласился Отец Листьев. — Я не боялся никого!
— В этом я не сомневаюсь, но для того, чтобы выполнить задуманное нами дело, одной смелости маловато. Каждого человека, который попадется нам навстречу, надо будет одним ударом сбить с ног, причем сделать это следует так, чтобы он не успел произнести ни звука и сразу лишился сознания. Но и это еще не все. Нужно уметь еще многое, очень многое из того, чего ты, к сожалению, не умеешь!
— О, я мочь все и каждое! Я прошу разрешить мне делать тоже пролезание, интересное!
— Не обижайся, но я вынужден отклонить твою просьбу. Ты поставишь на карту не только свою жизнь, но и нашу.
— Я ничего не буду ставить на карту, выигрышную! Я хотеть…
— Довольно! — перебил его Шварц. — Я говорю нет, нет и еще раз нет!
Словак разочарованно отвернулся. Увидев его огорченное лицо, друзья поинтересовались, что сказал ему немец. Когда Сын Тайны узнал, что задумали Шварц и Пфотенхауер, он тоже захотел принять участие в вылазке: ведь речь шла о спасении его отца. Однако, как и Отец Листьев, он получил отказ.
Приближалось время обеда, и Шварц поручил словаку подняться с несколькими солдатами наверх и принести оттуда сала для приготовления сажи. Легким кивком Стефан пригласил Сына Тайны и Хаджи следовать за ним.
Пропустив солдат немного вперед, чтобы они не могли услышать их разговор, Отец Одиннадцати Волосинок сказал:
— Почему мы тоже не можем переодеться неграми? Ведь Охотник на слонов — твой отец. Кто же, как не ты, должен его освободить?
Если легкомысленный Отец Листьев решился пойти против воли Шварца лишь из желания испытать новые приключения, то Абд-эс-Сирра заставила присоединиться к нему только сыновняя любовь. Что же касается Хаджи, то он везде и всюду готов был следовать за своим другом, поэтому новая выдумка словака сразу получила его горячее одобрение. Заручившись согласием обоих. Отец Одиннадцати Волосинок продолжал:
— Итак, нам ничего не мешает тоже сделать из сала сажу и превратиться в негров. Мы подождем ухода Отца Аиста и Отца Четырех Глаз, а потом начернимся с ног до головы и последуем за ними.
— Но где мы будем приготовлять эту сажу? — спросил рассудительный, как всегда, Сын Тайны. — Нужно найти такое место, где никто не смог бы застать нас за этим занятием.
— Совсем необязательно, — возразил словак. — Оба господина, конечно, не станут сами возиться с сажей, а я уж позабочусь о том, чтобы они поручили это дело мне. Тогда я приготовлю ее столько, чтобы осталось и на нашу долю. Мы тоже герои и не хотим сидеть рядом с врагами сложа руки.
— Нет, мы вовсе не герои, — возразил Сын Тайны, — и мы не идем ни в какое сравнение с обоими эфенди. Но мой отец схвачен, он находится в смертельной опасности, и долг повелевает мне быть рядом с ним. Вы поможете мне его освободить, но ни один человек не должен узнать о нашем плане.
Всю дальнейшую дорогу сообщники продолжали обсуждать задуманную ими авантюру, и к тому времени, как они поднялись наверх, в головах у них созрел подлинный заговор против их предводителей.
На опушке леса лежали завернутые в пальмовые циновки припасы, часть из которых взяли сейчас трое друзей и солдаты. Они захватили также выдолбленную тыкву, в которой собирались жечь сало. Как только мясо прибыло вниз, солдаты развели большой костер и занялись стряпней. Отец Одиннадцати Волосинок вызвался снабдить Шварца и Пфотенхауера сажей, что, к его величайшему удовлетворению, и было ему поручено. Он отошел в сторону и развел еще один костер, но несколько меньших размеров, чем первый. Над костром он повесил длинную ветку с нанизанными на нее кусочками сала, а тыкву приладил внизу таким образом, чтобы вытопленный жир стекал прямо в нее. Когда все сало растаяло, словак снял тыкву с огня и положил ее на траву, затем воткнул вокруг нее в землю несколько сучьев, расстелил сверху одну из циновок и поджег жир. Сгорая, жир образовывал черный дым, который оседал на циновке сажей. По прошествии часа сажи набралось достаточно, чтобы намазать с ног до головы добрый десяток человек.
Тем временем Шварц ушел в лес, чтобы рассказать оставшимся там людям, какой результат имели его переговоры с Абуль-моутом, и отдать им новые распоряжения. Главным из них было следующее: что бы ни происходило внизу, не открывать огня до тех пор, пока посланец Шварца не принесет им соответствующего приказа.
Вернувшись к ущелью, Шварц отправился на поиски воды, которая была необходима ему и его солдатам. Недалеко от засеки ему удалось найти место, где подземная речушка еще раз выходила наружу. Теперь осаждавшие были снабжены всем, что могло им понадобиться в течение ближайших нескольких дней.
Глава 20
ИЗБАВЛЕНИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ
Остаток дня прошел без особенных происшествий. В лагере Абуль-моута все было тихо. Ловцы рабов отступили в глубину ущелья и, казалось, совершенно не были озабочены своим осадным положением. Что же касается обоих предводителей невольничьего каравана, то они тщетно ломали головы в поисках спасительного выхода и все же не могли придумать плана, который имел хотя бы минимальные шансы на успех.
Наступил вечер. В ущелье, в самой его середине, был разведен большой костер, в который все время кидали тонкие пальмовые ветки, имевшиеся у осажденных в изобилии. В это время к засеке сверху спустились Лобо и Толо, спасенные Йозефом Шварцем и Серым. Когда Шварц спросил, зачем они пришли, то Лобо ответил:
— Лобо и Толо быть беланда, бедные негры из Омбулы — тоже беланда. Лобо и Толо хотеть пойти, чтобы друзей-беланда утешать и им, если опасность, помогать.
— Как, вы хотите спуститься туда, в ущелье?
— Да, желаем идти в ущелье.
— Но вас могут поймать!
— Не поймают. Вечер черный, ущелье черный и Лобо с Толо тоже черные, их совсем не видно. Если не получать разрешения, они оба будут очень плакать.
— Но если вас кто-нибудь увидит, вы пропали! Подумайте, ведь решились убежать от самого Абдулмоута! А вас непременно увидят и узнают.
— Мы ползти к пленным, и нас совсем не заметить. Мы взять острые ножи и резать у пленных веревки.
Когда Шварц услышал последние слова, план этих двоих, которые готовы были пожертвовать жизнью ради своих земляков, перестал казаться ему столь уж бессмысленным. Он немного подумал, затем посоветовался с Пфотенхауером и, наконец, сообщил неграм свое решение:
— Хорошо, я не имею ничего против вашего замысла, но вы должны будете в точности выполнить все мои предписания.
— Лобо и Толо сделать все, что добрый белый господин приказать.
— Тогда слушайте внимательно! Вы проберетесь к вашим землякам и освободите их от пут, но, чтобы не привлекать внимания сторожей, они должны слегка обмотать веревками руки и ноги, чтобы казаться связанными. Как только вы услышите сигнальный выстрел отсюда, все должны сбросить веревки и как можно быстрее бежать к выходу. Понятно?
— Да, понятно.
— Тогда вы можете идти, но сначала я хочу пробраться на ту сторону, чтобы посмотреть, свободен ли для вас путь.
— Нет. Не господин, а Лобо ползти через дырку. Лобо черный, и ночью ему хорошо ползти; он уже ползал в селении до дома Абдулмоута.
Шварц слышал об этом и решил доверить Лобо произвести разведку. Он кивнул головой в знак согласия; негр пролез в отверстие засеки и моментально растворился во мраке. Со стороны ущелья его тоже нелегко было разглядеть, потому что с наступлением вечера Шварц приказал потушить все огни, и ведущий вниз коридор оказался погруженным в глубокую тьму. Примерно через четверть часа Лобо благополучно вернулся и доложил:
— Быть все хорошо. Бедные беланда совсем сзади. За ними — охранники. В середине костер. Справа наверху стоит палатка Абуль-моута. Недалеко только шесть охранников должны наблюдать. Но они сидят рядом друг с другом и что-то рассказывают. Лобо два раза мимо них проползал, а они не увидели. Можно теперь Лобо и Толо уходить?
— Да, идите с Богом, но будьте осторожны, не натворите глупостей и не забудьте сделать все точно так, как я вам сказал!
Теперь оба негра протиснулись через лаз и исчезли из поля зрения. Оставшиеся по эту сторону засеки напряженно прислушивались: не выдаст ли какой-нибудь шум, что храбрые беланда попали в беду, — но, как и прежде, в ущелье царила глубочайшая тишина.
— Вот вам достойный пример, — заметил Шварц, — два живых представителя той группы людей, которых в Европе презирают и ставят чуть не на одну ступень с животными. А ведь среди тысячи белых едва ли найдется один, который решился бы ради своих друзей на такой риск, на какой, не задумываясь, пошли эти два отличных парня!.. Но теперь, я думаю, настало время и для нас. Вы готовы начать гримироваться и переодеваться для участия в нашем маскараде?
— Да, — ответил Пфотенхауер. — Покамест мы, можно считать, в безопасности находимся. Если они там, внутри, и смекнут, что мы что-то задумали, то они наверняка позднее нас будут поджидать. Одним словом, давайте начнем наше превращение.
Отец Листьев принес черную циновку, оба немца сняли с себя всю одежду, затем надели набедренные повязки и с ног до головы намазались сажей. Отец Аиста выглядел устрашающе, и вовсе не его серая (а теперь, разумеется, черная) борода была тому причиной. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы проникнуться непоколебимой уверенностью в том, что ни разу за всю историю человечества не рождалось на Земле негра с таким чудовищным носом, как у этого мнимого мавра. Однако выбирать не приходилось: друзья заткнули за набедренные повязки свои ножи и револьверы и нырнули в оставленный в засеке проем.
Не успели они скрыться из виду, как словак выудил откуда-то вторую циновку, которую он приготовил и спрятал, пока Шварц был наверху. Затем он, Хаджи и Сын Тайны разделись и принялись усердно натираться сажей. Увидев это, оставшийся теперь за главного капитан поинтересовался, что они собираются делать. Отец Одиннадцати Волосинок поспешил успокоить его заверением, что они выполняют предписание обоих ушедших «негров», которые велели им немедленно следовать за собой. Прежде чем капитан успел что-либо возразить, трое заговорщиков пролезли в дыру и тоже пропали во тьме.
Оказавшись по ту сторону засеки, Шварц и Пфотенхауер легли на землю и медленно, бесшумно поползли вперед. Они еще не успели далеко продвинуться, когда заметили перед собой шестерых часовых, о которых говорил Лобо. Тогда разведчики круто забрали вправо и благополучно миновали опасный участок. Шварц оказался прав: черная краска служила для них превосходной защитой.
Друзья взобрались на дамбу, за которой стояла палатка Абуль-моута. Они во что бы то ни стало хотели добраться до нее, так как предполагали, что те, кого они ищут, находятся где-то вблизи или даже внутри жилища обоих главарей.
Внизу, по левую руку от лазутчиков, горел костер, вокруг которого уютно расположились ловцы рабов. Между костром и входом в ущелье не было никого, кроме шестерых часовых. Впереди, там, куда разбойники согнали рабов, было темно и тихо.
Над головами Шварца и Пфотенхауера едва слышно шелестели на ветру верхушки пальм. Продвинувшись еще на некоторое расстояние, немцы увидели перед собой какой-то белый предмет, резко выделявшийся на фоне темных скал. Это был шатер Абуль-моута; друзьям удалось достичь его без каких-либо помех.
Каркас палатки состоял из тринадцати жердей. Двенадцать из них были по кругу воткнуты в землю и связаны вверху с еще одной, самой длинной жердью, которая возвышалась в центре. Сверху было натянуто светлое полотно. Палатка была обращена входом к костру, а в задней ее части, на высоте около трех футов от земли, к жердям были каким-то образом прикреплены несколько деревянных планок. Нижний край полотна в этом месте не был прибит колышками прямо к земле, а свободно лежал на планках. Таким образом, в палатке был сооружен дополнительный отсек, куда ее обитатели поместили все мешавшиеся им под ногами предметы. Стену этого отсека образовывала скала, к которой вплотную примыкала палатка.
Изнутри последней донесся чей-то голос, а другой ему ответил.
— Это Абуль-моут с Абдулмоутом, — прошептал Шварц.
— Да, я тоже узнал эти голоса, — ответил Пфотенхауер. — Что-то эти негодяи на наш счет больно спокойны: даже поста у двери не выставили!
— Они слишком полагаются на то обстоятельство, что у них есть два заложника. Но слушайте!
Снова послышался замогильный голос Абуль-моута. В ответ прозвучал другой, но это не был голос второго вожака бандитов.
— Боже, мой брат! — прошептал Шварц. — Значит, пленники находятся внутри!
— Слава тебе, Господи! Идемте уж скорее туда, вытащим их из лап этих чертей!
— Только спокойно! Ни в коем случае не горячитесь! Помните: сначала смотреть и слушать, затем нужно разведать обстановку, а потом уже действовать! Следуйте за мной и не предпринимайте ничего самостоятельно! А самое главное — избегайте малейшего шума, иначе мы погибли, и не только мы одни!
Шварц осторожно приподнял свисавшее с планок полотно шатра и заглянул внутрь. Прямо перед собой он увидел темный, низкий закуток, но дальше впереди горел свет. В стороне, прикрытые тряпьем, лежали несколько тюков. В палатке сидели четыре человека, но Шварцу сейчас видны были только их ноги.
— Идите сюда! — прошептал он своему товарищу. — Но ради всего святого — тише, как можно тише!
Он пролез немного вперед и оказался внутри шатра. Пфотенхауер последовал его примеру. Теперь они почти достигли палаточных жердей, и полотно больше не загораживало им обзора, в то время как их вымазанные сажей лица все еще оставались в тени. Шварц принялся жадно рассматривать четверых обитателей палатки.
Его брат и Охотник на слонов сидели возле центрального шеста, к которому они были привязаны веревкой. Ноги их были связаны вместе, и руки скручены за спиной. Справа от пленников сидел Абдулмоут, слева, спиной к Шварцу, — Абуль-моут, который в этот момент как раз говорил:
— Аллах пусть накажет меня, если я вас обманываю! Кроме нас в этой местности никого нет, да и мы завтра поутру выступим отсюда в мое селение.
— Не лги! — ответил Йозеф Шварц. — Если ты собирался возвращаться в селение, зачем тогда тебе понадобилось сворачивать с прямой дороги в это ущелье?
— Я не обязан давать тебе отчет в моих решениях и поступках!
— Кто знает, может быть, со временем мы и потребуем у тебя такого отчета. Я даже думаю, что это время наступит очень скоро.
— Думай, что хочешь! Мне просто смешно это слышать!
— Твое лицо выглядит скорее озабоченным, чем веселым. Нынешним утром ты пребывал в более приподнятом настроении. Почему ты сегодня был строг с нами, как никогда раньше? Почему этой ночью ты решил, что мы вдруг должны спать в вашей палатке? Все это говорит о том, что хочешь постоянно иметь нас перед глазами, и у меня есть основания предполагать, что кто-то собирается нас освободить.
— Ах! Интересно, кто бы это мог быть?
— Мой брат.
— Пес! Кто проболтался об этом? — вскричал старик, вскакивая на ноги.
— Кто проболтался? Да ты сам выдал себя только что! Значит, я не ошибся. Ты, оказывается, знаешь моего брата, хотя еще недавно даже не подозревал о его существовании. Этому может быть только одно объяснение: он здесь и уже говорил с тобой. И он, я думаю, пришел не один, иначе ты давно схватил бы его. У него с собой целый отряд, наверняка больше людей, чем ты имеешь! Итак, я спасен?
— Не радуйся раньше времени! Я скорее убью вас обоих, чем отпущу на волю.
— Ба! Выходит, ты все же плохо знаешь моего брата! Он стоит сотни таких, как ты!
— Да проткни ты его ножом! — предложил своему патрону Абдулмоут. — Как ты можешь позволять гяуру насмехаться над собой?
— Молчи! — обрезал его старик. — Я и без тебя знаю, что мне делать. Чем сидеть здесь и давать мне советы, выйди-ка лучше наружу и посмотри, как часовые выполняют свои обязанности. Если они спят, вели их выпороть!
Абдулмоут поднялся с места и, ворча, удалился. По его шагам было слышно, что он отправился в сторону дамбы, откуда недавно пришли Шварц и Пфотенхауер.
Абдулмоут снова устремил взгляд на пленников и спросил угрожающим тоном:
— От кого вы узнали, что твой брат здесь? Это должен был выболтать вам кто-то из моих людей!
— Я не назову тебе его.
— Ты скажешь мне это, или я велю дать тебя отстегать плетьми!
— Попробуй! Тогда я, в свою очередь, прикажу запороть тебя до смерти.
— Когда это будет «тогда»? Когда шайтан унесет тебя в ад? Что ж, это, может быть, случится еще до наступления утра.
— Напротив, насколько я знаю моего брата, до наступления утра мы получим свободу.
— Кто же вернет вам ее?
— Я! — послышалось за спиной старика.
Это, конечно, был Эмиль Шварц, который тем временем прополз еще дальше в глубь шатра и выпрямился во весь рост позади Абуль-моута.
Лицо Отца Смерти исказилось гримасой смертельного ужаса, он хотел обернуться, но почувствовал, как его горло что-то сдавило. У него перехватило дыхание, и он замертво упал на землю.
Пфотенхауер тоже быстро выбрался из своего укрытия. В слабом свете плошки, которая свисала с одной из палаточных жердей, пленники увидели две черные, почти полностью раздетые фигуры с длинными бородами. Один из этих странных негров обладал поистине гигантским носом, который, несмотря на его темный цвет, Йозеф Шварц тотчас узнал. Узнал он и голос второго негра, хотя тот произнес всего лишь одно короткое словечко.
— Эмиль, ты! Пфотенхауер! Возможна ли такая встреча? — вне себя от радости и изумления воскликнул он.
— Тихо, тихо! — предостерегающе прошептал брат. — Пфотенхауер, займитесь пленниками, разрежьте им веревки! У меня тут есть кое-какие дела со стариком.
Продолжая одной рукой держать Абуль-моута за шею, он другой нанес ему несколько ударов по голове, после чего тот, наконец, потерял сознание.
— Вот это я называю счастьем! — заметил Шварц, выпрямляясь. — Я не только освободил вас, но и заполучил этого мерзавца. Это означает, что мы одержали бескровную победу: после того, как они лишились своего главаря, разбойникам не остается ничего другого, как сдаться. Теперь давайте выбираться отсюда. Со стороны входа мы показаться не можем, иначе нас тут же обнаружат и схватят.
С этими словами Эмиль снова лег на землю и, таща за собой бездыханного Абуль-моута, выполз из палатки в том же месте, откуда недавно проник в нее. Остальные последовали за ним. Пленники тяжело дышали и с наслаждением разминали затекшие от веревок конечности.
— Слава Богу, наконец мы свободны! — вполголоса воскликнул Йозеф. — Эмиль, Пфотенхауер, этого я вам никогда не забуду!
— Тише! — настойчиво повторил Шварц. — Мы еще далеко не в безопасности. Свет костра проникает сюда, и нас могут увидеть, тем более, что на вас светлая одежда. Приникните как можно теснее к земле и ползите за мной! Помогите мне тащить старика!
Все четверо стали осторожно пробираться ко входу в ущелье. Эмиль Шварц тянул Абуль-моута за руки, а остальные подталкивали его сзади. Они не успели еще уйти далеко, когда с того места, где сидели шестеро часовых, раздался истошный вопль:
— Стой, ни с места, хватайте его!
Несколько голосов подхватили этот крик, затем прозвучал выстрел. Одновременно с этим на тропинке, ведущей к выходу, показались несколько бегущих фигур, которые несли какой-то большой светлый предмет.
— Что это? — шепотом спросил Шварц. — Сторожа повскакали с мест и бегут наверх. Кто же те люди там, впереди? Ах, кажется, я догадался! Словак не случайно тоже хотел… Йозеф, Сеяд Ифъял, берите старика и быстрее бегите к выходу! Там есть дыра, через которую вы вылезете наружу. С той стороны засеки наши солдаты. Пфотенхауер, вытаскивайте ваш нож и револьвер и бегите за мной!
Он спрыгнул с дамбы и огромными скачками понесся вдогонку за часовыми, Отец Аиста ни на шаг не отставал от него. Впереди грохнули еще два пистолетных выстрела; часовые, находившиеся уже недалеко от засеки, отступили назад. Они увидели двух спешивших к ним негров и приняли их за друзей.
— Помогите! — крикнул им один из часовых. — К нам ворвались враги, а теперь снова пытаются выбраться наружу! Они поймали одного из наших, и… о, Аллах: там, наверху, появились еще двое, которые тоже кого-то несут!
— Сейчас вас тоже можно будет нести, негодяи! — ответил Шварц и ударом кулака уложил говорившего на землю. Так же быстро он расправился со вторым часовым и бросился на третьего.
Шварц по-прежнему не хотел проливать лишней крови и не применял оружие, Пфотенхауер тоже не стал стрелять. Он подскочил к четвертому часовому, выхватил у него из рук ружье — которое было у них одно на всех шестерых, — и прикладом сбил ошеломленного человека с ног. Затем Серый повернулся к пятому, но тот вместе с шестым уже бежали к костру. Первые четверо тоже вскочили и со всех ног кинулись за ними. В этот момент из глубины ущелья раздался ужасный, леденящий душу вой, как будто хищники всего мира собрались там на дьявольский концерт.
— Боже праведный, это рабы! — закричал Шварц. — Выстрелы, выстрелы! Я сказал Лобо, что по этому сигналу невольники должны сбросить с себя веревки и бежать к выходу. Но боюсь, что все выйдет по-другому: они не побегут, а набросятся на своих мучителей! Что за ужасная резня сейчас начнется! Нам надо поспешить наружу, к нашим: они ведь не знают, как им себя вести! Думаю, там мы поймем, что произошло.
А произошло, собственно, следующее: когда предприимчивый Отец Одиннадцати Волосинок, получивший, наконец, возможность стать настоящим героем, пробрался через лаз, он вместе со своими двумя товарищами повернул направо, к дамбе, туда же, куда незадолго до этого отправились Пфотенхауер и Шварц. Все трое взобрались на нее как раз в тот момент, когда Абдулмоут по приказу своего хозяина отправился проверять пост. Увидев приближавшийся к нему силуэт, словак, недолго думая, выпрямился и непринужденно спросил:
— Ты кто?
— Я! — возмутился Раб Смерти. — Я Абдулмоут! А вы, черные псы, какого черта вы здесь шляетесь? Я вас…
Закончить свою угрозу он не успел, потому что в этот момент малыш прыгнул на него, цепко обхватил обеими руками его шею, изо всех сил сжал ее и бросил противника на землю с криком:
— Держите его, а я сейчас проломлю ему череп!
Все это ему, конечно, не удалось проделать без шума, который привлек внимание часовых, они поднялись с земли и стали пристально вглядываться в темноту.
— Неплохой улов! — сказал своим товарищам Отец Листьев. — Давайте подтащим его к дыре, а потом вернемся назад!
Они схватили потерявшего сознание Абдулмоута за руки и за ноги и опрометью кинулись прочь. Увидев странные бегущие фигуры, часовые окликнули их, однако ответа не последовало. Тогда один из них выстрелил и, к счастью, промахнулся. Все шестеро охранников бросились в погоню за беглецами, но последние были так проворны, что, несмотря на свою тяжелую ношу, добрались до засеки раньше преследователей. Не солоно хлебавши арабы повернули назад и наткнулись на Шварца и Пфотенхауера, которые в считанные секунды обратили их в бегство.
Оказавшись по ту сторону заграждения, Шварц приказал солдатам немедленно развести огонь. Словак по голосу узнал своего господина и торжествующе закричал:
— Вы уже тоже быть здесь? Ничего не иметь поймать? Я поймал одного врага, известного, и стукнул по голове, крепкой!
— Кого же? — без особого воодушевления поинтересовался Шварц.
— Абдулмоута. Пойду опять и поймать еще Абуль-мота, чудовищного!
— Ты это серьезно говоришь?
— Да, я ударил его с умом, чрезвычайным, и отвагой, огромнейшей. Я схватил его за горло и душил потом до без сознания и притащил потом сюда.
— Ты не шутишь? Ты в самом деле поймал Абдулмоута?
— Вы могли верить этому. Он был Абдулмоут, настоящий и истинный!
— Ах ты, чертов сорванец! Это могло дорого обойтись тебе и всем нам. Слышишь вой и рычание там, внизу? Только ты один виноват в том, что там сейчас творится! Ну что вы там возитесь с костром? — обратился Шварц к солдатам. — Быстрее, быстрее, мне нужен свет!
Наконец костер запылал, и отблеск упал на лицо Абдулмоута, который по-прежнему лежал на земле с закрытыми глазами. В течение нескольких секунд Сын Тайны вглядывался в это лицо, единственное, которое сохранила его память с давних, давних времен. Потом юноша воскликнул:
— Абдуриза бен Лафиз! Я узнаю его, это он, Абдуриза бен Лафиз, который гостил тогда у моего отца!
Тут чей-то взволнованный голос из темноты спросил:
— Кто назвал это проклятое имя? Кто из вас может его знать?
С этими словами Охотник на слонов (голос, конечно же, принадлежал ему) выступил вперед. Сын Тайны перевел на него взгляд и ответил:
— Это был я. Но кто ты? Может быть, Охотник на слонов? Ты — Барак аль-Кади, эмир Кенадема?
— Да, это я, — подтвердил эмир.
— О, Аллах! Отец, мой отец, я наконец-то нашел тебя!
Прежняя робость, даже холодность по отношению к отцу, которые изредка проскальзывали в рассказах юноши о своем детстве, внезапно исчезли. Он подлетел к Сеяд Ифъялу и бросился ему на грудь.
— Ты… ты — мой сын? Разве это возможно? Неужели Аллах все же пожелал сотворить чудо ради своего недостойного слуги? — пролепетал эмир, совершенно растерянный.
— Да, это я, это я, твой сын! Пожалуйста, верь мне! Я все объясню тебе потом!
— Я верю, конечно, верю! Какое счастье! Значит, я больше не Бала Ибн, Отец, Потерявший Сына! Значит, клятва моя исполнена, и я могу вернуться в край моих предков, в дом моей семьи, в мой Кенадем!
— Да, в Кенадем, в Кенадем! И я пойду туда с тобой! Ты называл себя Бала Ибн, я же в течение многих лет был Бала Аб, Сын Без Отца. Но теперь мы нашли друг друга, и ничто, ничто больше не сможет нас разлучить!
Отец и сын снова и снова сжимали друг друга в объятиях и не замечали никого и ничего вокруг. Эта сцена была способна растрогать даже мертвого, и в другое время она целиком привлекла бы всеобщее внимание, но сейчас каждый из присутствующих был слишком занят собой.
Как только пламя разгорелось достаточно ярко, чтобы можно было различить лица стоявших возле засеки людей, Эмиль Шварц поспешил к своему брату, чтобы, наконец, обнять его. Он несколько раз прижал Йозефа к своей груди и крепко расцеловал его, затем немного отстранил брата от себя, чтобы получше вглядеться в любимое лицо, и в ужасе воскликнул:
— Ради Бога, Йозеф, что с тобой? Почему у тебя такой вид?
— А какой у меня вид? Обычный, такой же, как и всегда, — недоуменно ответил Йозеф, которому нежности брата до сих пор не позволяли и рта раскрыть.
— Нет, совсем не как всегда! У тебя все лицо покрыто какими-то страшными язвами! Должно быть, этот Абдулмоут и его люди мучили тебя, и я…
— Ах, вот ты о чем! — со смехом перебил его Йозеф. — Вы только посмотрите на этого человека! Он, точно трубочист, с ног до головы мажется сажей, потом обнимает и целует меня, так что на мне живого места не остается, а после всего этого еще удивляется, отчего это по его брату пошли черные пятна! Да ты, парень, совсем голову потерял!
— Да, пожалуй, — согласился Эмиль, — я от радости, что снова вижу тебя живым и невредимым, напрочь позабыл, что мы вымазаны сажей. Но вон стоит наш Пфотенхауер! Неужели я выгляжу так же ужасно, как он?
В этот момент сквозь толпу солдат протиснулся Отец Одиннадцати Волосинок и восторженно закричал:
— Смотрите на лицо, мое! Разве я не быть негр, черный и неподдельный?
При взгляде на малыша оба Шварца и Пфотенхауер разразились поистине гомерическим хохотом, который стал еще громче, когда к ним подошел Отец Смеха и гордо сказал, растягивая свое черное лицо в зверской улыбке:
— И я был там, Хаджи Али, я тоже ловил Абдулмоута!
— Так значит, вот кто устроил всю эту суматоху! Но мне казалось, я видел троих человек. Где же, в таком случае, третий смутьян?
— Вон он стоит, — сказал Хаджи, показывая на Сына Тайны. Как раз в эту минуту Сеяд Ифьял, который все еще держал юношу за плечи, отшатнулся от него и, испустив крик разочарования, воскликнул:
— Асвад, мой друг, сказал мне, что среди его друзей я найду своего сына. Ты выдавал себя за него, и я поверил тебе, потому что больше всего на свете хотел в это верить. До сих пор костер горел недостаточно ярко, и я не мог разглядеть твое лицо, но теперь я вижу, что мы оба ошиблись. Ты негр, а в жилах моего сына течет чистейшая арабская кровь. Цвет его кожи должен быть даже светлее, чем у меня!
— Так оно и есть, — пояснил Шварц, — мальчик просто натерся сажей, чтобы под видом негра пробраться в лагерь Абуль-моута и спасти тебя.
— Что? — переспросил пораженный эмир. — Ты действительно сделал это? Ради своего отца ты решился подвергнуть себя такой страшной опасности? О, теперь у меня нет сомнений: конечно, ты — мой сын! Аллах позволил тебе унаследовать храбрость твоего отца! Дай мне еще раз прижать тебя к моему сердцу!
Он хотел было снова обнять своего сына, но внезапно оттолкнул его и прыгнул в сторону с криком:
— А, ты хотел убежать от нас, ты, Сын Ада, которому мы обязаны всеми нашими страданиями? Нет уж, оставайся с нами, чтобы я мог растоптать тебя, как ядовитую гадюку!
Оказалось, что, пока все присутствующие с интересом наблюдали за разыгрывавшейся перед их глазами развязкой многолетней драмы, одно из ее главных действующих лиц, а именно Абдулмоут, пришел в себя. Мгновенно оценив ситуацию, он понял, что сейчас за ним никто не следит, и хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы незаметно скрыться. Однако эмир помешал ему. Он схватил своего врага и с такой силой швырнул его на землю, что казалось, разбойник развалится на кусочки.
— Да, мы не должны расслабляться, — сказал Шварц, — добыча, что попала в наши руки, слишком редкая и ценная, чтобы мы могли позволить ей снова ускользнуть. Свяжите-ка этих негодяев покрепче, чтобы не смогли больше вырваться. А потом… Но слышите? Там, внизу, происходит что-то ужасное! Ловцам рабов пришлось поплатиться за все свои деяния!
Доносившийся из ущелья рев к этому времени усилился до такой степени, что в нем уже невозможно было различить отдельных голосов. Сквозь дырку в засеке не было видно ничего, кроме темных, призрачных теней, мелькавших на фоне ярко горевшего костра. Иногда от этой массы теней отделялись какие-нибудь две фигуры. Как правило, одна из них повергала другую на землю, на миг склонялась над ней, а потом снова исчезала в толпе.
— Что делать-то будем? Может, надо бы нам вмешаться, остановить как-то эту бойню? — обеспокоенно спросил Пфотенхауер.
— Из этого все равно ничего бы не вышло, — печально возразил Шварц. — Если негру однажды удается освободиться от оков, он будет сражаться, пока последние силы его не покинут.
— Да, по правде сказать, из нашей-то помощи ничего, кроме вреда, небось, и не вышло бы. Я, во всяком случае, хоть убейте меня, друга от врага в такой тьме ни в жисть бы не отличил!
Он был совершенно прав, этого нельзя было не признать. Понимая, что им не остается ничего другого, люди уселись вокруг огня и принялись дожидаться окончания битвы.
Мало-помалу вой становился тише, а потом и вовсе смолк. Теперь только изредка тишину пронзал одинокий предсмертный крик, а следом за ним раздавался торжествующий клич победителя. Наконец, и эти ужасные звуки стихли. Одновременно прекратилось и мелькание неясных силуэтов, теперь находившиеся в ущелье люди скучились около костра и, казалось, держали совет. Потом один из них выступил вперед и стал медленно приближаться. Это был Лобо.
— Ну, — спросил Пфотенхауер, когда негр пролез через лаз, — что ты можешь нам сообщить?
— Они мертвы, — просто ответил Лобо.
— Кто мертв?
— Все.
— А если точнее? Кто это «все»?
— Все охотники на рабов. Больше ни одного нет в живых.
— О, Боже! Это, конечно, совсем не входило в наши намерения. Но как это произошло?
— Лобо стал ползти с Толо туда, и их никто не увидеть. Прийти к бедным, хорошим неграм-беланда, все связаны, но всех развязать и ждать. Потом выстрел и потом еще два выстрела, теперь, значит, время. Негры бросить прочь веревки и кидаться на охотников, душить их рукой до смерти, закалывать их своим ножом, пока не стать мертвы, все мертвы!
— Это и вправду была самая настоящая бойня! Удивительно, что ловцы рабов не просили у нас защиты.
— Они не могли; негры встать на их пути, не пропускать никого.
— Но такая схватка должна была стоить жизни многим из вас!
— Многие мертвы тоже и ранены, очень многие, но похищение отомщено. Не поймать снова бедных беланда!
— Тебя послали к нам твои товарищи?
— Да. Должен прийти сюда, чтобы сказать, что битва окончена. Друг должен прийти и руку пожать храброму и благородному негру.
— Хорошо, мы придем. У вас есть еще какие-нибудь желания или неотложные просьбы? Вы голодны?
— Не голодны. Абуль-моут имел в караване много мяса и муки. Негры раньше должны их нести, теперь будут есть.
Лобо вернулся к своим землякам, немцы и их друзья последовали за ним. Негры приняли их с шумным ликованием: Лобо уже успел рассказать им, чем они обязаны этим чужим людям. Место сражения представляло собой неописуемое зрелище, оставаться среди горы трупов и рек крови нельзя было ни минуты. По совету белых, после того, как засека была устранена, негры выбрались из ущелья на равнину и там разбили свой лагерь. Абуль-моута и Абдулмоута предусмотрительно спрятали от их глаз, иначе бывшие невольники разорвали бы своих мучителей на куски.
Когда белые спросили у освобожденных негров, что они теперь собираются делать, те ответили, что с наступлением утра хотят выступить на родину. Восстанавливать деревню им пришлось бы не совсем на пустом месте, так как все отнятое у них разбойниками добро вновь стало их собственностью. Шварц не ошибся и насчет домашних животных: как он и предполагал, похищенные стада, а также некоторые особенно неудобные для транспортировки предметы были оставлены Отцом Смерти неподалеку от ущелья под присмотром пятидесяти ловцов рабов. Негры знали это место и на обратном пути собирались заглянуть туда, чтобы вернуть то, что по праву принадлежало им. Разумеется, пятьдесят солдат Абдулмоута были обречены на столь же мучительную смерть, которую только что нашли их собратья. Справиться с ними неграм было тем более нетрудно, что они захватили себе все оружие отряда.
— Конечно, они поступили очень жестоко, — сказал Эмиль Шварц, когда они с братом снова сидели у костра. — Более пятисот убитых! Впрочем, охоты на людей теперь прекратятся надолго — единственное положительное следствие этой ужасной ночи.
— А мне ничуть не жалко этих мерзавцев, потому что я был их пленником и знаю, что это были за негодяи. В сегодняшнем массовом убийстве виноваты те, кто сделал их такими — два дьявола, которые лежат там, в стороне, и еще имеют наглость взглядами подавать друг другу какие-то сигналы!
— Они недостойны того, чтобы находиться в поле нашего зрения, — громко заявил Шварц. — Надо привязать их к дереву где-нибудь подальше отсюда!
Его брат хотел что-то возразить, но Эмиль сказал по-немецки, в то время как до сих пор они говорили на арабском языке:
— Не беспокойся и предоставь мне действовать, как я считаю нужным. Я давно заметил, что они тайком обмениваются знаками, которых я пока не понимаю. Но по-моему, нам не мешало бы знать, что им так не терпится сообщить друг другу. Итак, оттащи их к тому дальнему дереву и привяжи таким образом, чтобы они не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой, но чтобы им было удобно беседовать друг с другом. Солдат, который будет их охранять, пусть, как бы ненароком, сядет на достаточном отдалении от них, чтобы не смущать их своим присутствием. Тем временем я подкрадусь к ним поближе и подслушаю, о чем они говорят.
— Что ж, идея неплохая. Пожалуй, так мы и сделаем.
Пленников, которые лежали у костра с тех пор, как негры удалились в свой лагерь, оттащили к выбранному Шварцем дереву, которое было окружено густыми зарослями кустарника. Пока их там привязывали, Шварц прокрался к этим кустам и затаился в них. Теперь он находился так близко от пленников, что едва не касался их, и ни одно их слово, даже сказанное шепотом, не могло быть им пропущено. Впрочем, ему не приходилось слишком напрягать свой слух: по его приказу арабов привязали к дереву с разных сторон, так что они, если хотели быть понятыми друг другом, вынуждены были говорить достаточно громко. Дерево стояло довольно далеко от костра, и разбойники не могли видеть, что Шварца уже нет на его прежнем месте. Как только приставленный к ним часовой отдалился на порядочное расстояние, пленники решили, что теперь они остались одни, и Абдулмоут воскликнул вполголоса:
— Что за день! Самый несчастный в моей жизни! Мне кажется, будто сегодня под моими ногами разверзлась преисподняя, и эти немцы — самые главные среди чертей! И как ты только мог позволить себя сцапать?!
— То же я могу спросить и у тебя, — огрызнулся Абуль-моут.
— Они кинулись на меня с дамбы, трое на одного!
— А меня они схватили прямо в палатке — не понимаю, как им удалось незаметно прокрасться туда. Эти псы, часовые, должно быть, заснули. Теперь они мертвы, и поделом! Пусть Аллах заставит их вечно сидеть на крутящемся шаре, чтобы им никогда больше не суждено было вкусить сладости сна!
Бывшие вожаки каравана рассказали друг другу, что с ними произошло, а потом Абуль-моут яростно прошипел:
— Будь проклят день, когда я решил связаться с этим Отцом Четырех Глаз! Он ученый, а люди такого сорта обычно — сущие болваны во всем, что не касается их книжек. Я думал, что расправлюсь с ним в два счета, но клянусь Аллахом, все шло совсем по-другому! Если бы он тогда просто улизнул от меня, я навсегда оставил бы его в покое, — но он последовал за мной и полностью уничтожил и опозорил меня.
— Полностью?
— Да.
— Ты уверен?
— Конечно! Я погиб! У меня больше ничего не осталось.
— А как же деньги?
— Разве они у меня есть? Или я могу их достать? Да если бы и мог — что бы я стал с ними делать? Сейчас для меня единственный путь к спасению — это бесследно исчезнуть из этих краев, скрыться в таком глухом и отдаленном месте, где никто не знал бы меня и куда не смог бы добраться ни один из моих прежних соратников. Но ты и сам понимаешь, что теперь это совершенно невозможно.
— Ты действительно считаешь наше положение таким уж безнадежным?
— Да, во всяком случае, мое. Ты знаешь, что со мной собираются сделать?
— Что?
— Этот немецкий пес хочет отправить меня к Али-эфенди в Фашоду.
— К Отцу Пятисот? О, Аллах! Если он действительно выполнит свою угрозу, ты пропал!
— Вот именно. Меня просто запорют до смерти, как запороли моих хомров, которых Отец Четырех Глаз поймал и доставил туда.
— Может быть, он только пугает тебя?
— Нет, этот человек никогда не бросает слов на ветер.
— Но надежда у нас все-таки есть. Фашода очень далеко отсюда, может быть, по пути тебе представится возможность бежать?
— В это я не верю! Скорее всего, меня упрячут так глубоко в трюм корабля и будут охранять так тщательно, что я не смогу даже думать о побеге… Хотя… пожалуй, один шанс вновь получить свободу у меня все же есть.
— Какой же?
— Это может произойти не по дороге, а уже в Фашоде, после того как я буду передан в руки Отца Пятисот. Мидур любит справедливость, но еще больше он любит деньги. Ты меня понимаешь?
— Да. Ты хочешь предложить ему за себя выкуп. Но тогда тебе придется сообщить ему место, где ты хранишь свой клад!
— Ни за что! Тогда он нашел бы эти деньги и все же убил бы меня. Нет, мой доверенный заплатит ему только половину, а остальное я отдам ему только после того, как буду свободен.
— Но где ты возьмешь доверенного?
— Он у меня уже есть.
— Кто же это?
— Ты.
— Но у меня нет никаких денег, и сам я нахожусь в плену!
— О, я думаю, что тебя немного высекут и отпустят: ведь ты был всего лишь моим подчиненным, а стало быть, не отвечаешь за все мои разбои.
— Подумай об Охотнике на слонов! Чувства, которые он ко мне испытывает — это нечто большее, чем кровная месть.
— Сейчас он снова обрел своего сына и переполнен счастьем. Если ты как следует попросишь, он простит тебя. Кинься ему в ноги, поплачь, изобрази раскаяние, и тогда эти немецкие христиане наверняка раскиснут и вступятся за тебя.
— Ах, если бы они замолвили за меня слово, я, конечно же, был бы спасен! Ты даешь мне хороший совет!
— Они так и сделают, если ты сможешь убедить их в том, что полностью раскаиваешься. Скажи им, пожалуй, что ты хочешь стать христианином, и если они этому поверят — считай, что ты спасен. Потом ты пойдешь в селение и достанешь деньги.
— Я не знаю, где они.
— Я скажу тебе. Я верю, что ты не предать меня и сделаешь все, чтобы спасти меня. Ты поклянешься мне в этом?
— Я готов поклясться собой и моим отцом, бородой Пророка и всех халифов!
— Довольно, я верю тебе. Помнишь, когда мы лежали у костра, я подавал тебе знаки? Ты понял, что я хотел сказать?
— Не совсем. Я понял только, что имелись в виду деньги.
— Я пытался объяснить тебе, в каком месте они лежат. К счастью, теперь я могу описать тебе это место на словах, и я хочу сделать это как можно быстрее, потому что нас в любой момент могут снова разлучить. Слушай: когда после пожара я добрался до селения, шейх со своими людьми уже перерыл там все вверх дном. Конечно, он сразу догадался, что я закопал деньги в земле: где же еще может храниться богатство, накопленное за столько лет! Все же они не нашли клада, потому что это было не так-то просто. Помнишь, южнее ограды нашего поселка был расположен загон для скота? Посреди него всегда горел костер. Так вот, если ты начнешь копать землю под костровищем, то через некоторое время тебе покажется, что ты наткнулся на большой камень или скалу. На самом деле это не скала, а застывшая смесь из песка, извести и глины, которую я прочно вбил в землю. Под этим твердым слоем спрятаны шесть больших бурдюков, доверху наполненных звонкими и блестящими монетами. Там все мое состояние. Если тебе удастся меня спасти, один из этих бурдюков будет твоим. Но если ты…
— Если он не захочет тебя спасать, он возьмет себе все? — продолжил за него чей-то голос. — Не беспокойся! Он не получит ни единого талера, но и ты не получишь их тоже. Я сам выкопаю деньги и разделю их между своими людьми. Им же достанутся и стада, которые твой фельдфебель увел из селения.
Не дожидаясь ответа, Шварц выпрямился и пошел к костру, чтобы прислать к пленникам второго часового и таким образом лишить их возможности возобновить разговор.
Абуль-моут испустил громкий крик ярости и отчаяния, потом он опустил голову и больше не шевелился. На душе у него было так скверно, будто он сидел на краю собственной могилы…
На следующее утро, сразу после восхода солнца, освобожденные беланда попрощались со своими спасителями и выступили в обратный путь. Бесконечная радость оттого, что им удалось избежать рабства, несколько омрачалась горькой мыслью о возвращении в пустую, разоренную деревню. Тела своих погибших товарищей негры взяли с собой, чтобы похоронить их рядом с теми, кто был убит ловцами рабов во время нападения на Омбулу.
Через несколько часов собрались в дорогу и остальные. Они разыскали то место, где были спрятаны лодки, и двинулись по направлению к речке Нирре, чтобы пересесть там на ожидавшие их корабли. Трупы ловцов рабов пришлось бросить в ущелье на растерзание хищным зверям и птицам. К Абуль-моуту и Абдулмоуту был приставлен столь мощный конвой, что оба разбойника должны были распрощаться с мыслью о побеге.
Корабли в целости и сохранности стояли на реке возле бывшего лагеря ниам-ниам. За время отсутствия основной части войска, оставшийся здесь отряд никто не потревожил. Шварц и все его люди, в том числе и король со своими сандехами, поднялись на борта кораблей, и флотилия немедленно отплыла к заливу Бегемотов. По прибытии туда был сделан короткий привал. Шварц приказал своим солдатам забить несколько коров из стада фельдфебеля, а остальных животных получили в награду за оказанную ими помощь Абу эн-Нисфи и его доры. Отец Половины остался очень доволен подарком и, пожелав друзьям благополучно завершить свой поход, отправился восвояси.
От залива Бегемотов вся эскадра двинулась вниз по реке в злополучное селение Умм-эт-Тимса. На глазах Абуль-моута Шварц выкопал из земли бурдюки с золотыми монетами и разделил их между всеми своими людьми.
Здесь пути недавних союзников разошлись. Братья Шварцы и Пфотенхауер должны были вместе с ниам-ниам вернуться на юг. Они собирались продолжить свои научные исследования в областях, принадлежавших владениям Эмин-паши, а потом через Занзибар вернуться в Европу. Все остальные двигались дальше на север.
Абуль-моута и Абдулмоута Шварц препоручил Охотнику на слонов; этому строгому и надежному стражу он мог доверять, как самому себе. Сеяд Ифъял должен был на дахабии доехать до Фашоды и там передать в руки Отца Пятисот Абуль-моута вместе с фельдфебелем и его сообщниками. Что же касается Абдулмоута, то о нем эмир сказал:
— Этого я возьму с собой в Кенадем. Там он похитил моего сына, там его должно постигнуть наказание. С тех пор, как я вновь обрел свое дитя, сердце мое — смягчилось, но по отношению к этому сатане я останусь тем же, кем всегда был раньше, а именно Бараком-Судьей, перед которым трепещут непокорные.
Итак, приключение, которое неожиданно свело вместе и сделало друзьями нескольких столь разных людей, было окончено, и настал час испить горечь прощания. Эмиль Шварц дал эмиру свой адрес и просил его писать, если случится оказия. Словак и Отец Смеха пожелали продолжать путешествие с немцами, на что те с охотой согласились. Тяжелее всех расставание далось Сыну Тайны и Сыну Верности, но вот, наконец, и они попрощались. Эскадра разделилась на две части; корабли отправились на север, в то время как лодки ниам-ниам повернули к югу.
Невольничий караван был уничтожен, и победители разошлись в разные стороны, чтобы никогда больше не встретиться. Но несколько дней, прожитые ими вместе, не прошли для них без следа. Каждый унес с собой горячую ненависть к рабству и поклялся себе до конца жизни по мере сил бороться с ним. Только Хасаб Мурад в глубине души думал по-другому. Теперь, когда он освободился от своего самого опасного конкурента, его сомнительное ремесло обещало приносить еще больший доход. Конечно, он не собирался расставаться с торговлей рабами, однако решил впредь вести себя осмотрительнее, а главное, проявлять больше человечности. Очевидно, сцены, которые ему пришлось наблюдать и пережить, произвели впечатление даже на его очерствелую душу.
Если какой-нибудь турист, которого судьба занесет в один из известных университетских городков на юге Германии, возьмет в руки адресную книгу этого городка и раскроет ее на первой странице, в глаза ему сразу бросится необычно длинное и странное имя. Оно гласит: Хаджи Али бен Хаджи Исхак аль-Фарези ибн Отайба Абуласкар бен Хаджи Марван Омар аль-Сандези Хафиз Якуб Абдулла аль-Санджаки. Под этим именем значится краткая справка: «Торговец восточными редкостями, Гартенштрассе, 6, 1 этаж». Тот, у кого возникнет желание пойти по указанному адресу и приобрести себе бутылочку розового масла, турецкую трубку или что-либо подобное, увидит перед собой большой, похожий на дворец особняк, левую половину которого занимает магазин. Над дверью магазина красуется не совсем грамотно, но зато золотыми буквами написанная табличка: «Хаджи Али, ориенталист». Войдя внутрь особняка, в просторной прихожей с высоким потолком и красиво расписанными стенами можно увидеть еще одну табличку: «Ускар Иштван, комендант, учитель языков и орнитологический автор — 1 этаж справа, профессор, доктор Эмиль Шварц — 2 этаж, профессор, доктор Йозеф Шварц — 3 этаж, профессор, доктор Игнациус Пфотенхауер — 4 этаж». И если любопытный прохожий, прогуливаясь по Гартенштрассе, поднимет голову и заглянет в открытое окно четвертого этажа, то он непременно увидит там ярко-красный колпак, из-под которого торчат мундштук суданской курительной трубки и гигантский, тонкий и острый нос, который непрерывно ерзает в разные стороны, стараясь не пропустить ничего из того, что делается на улице. Одно из окон первого этажа, то, что расположено справа, как раз рядом с дверью, тоже почти всегда открыто. Возле него сидит, прилежно склонившись над толстой рукописью, маленький редкоусый паренек. Все свои часы досуга он проводит за обработкой объемистого труда с красноречивым заголовком: «Почему у птиц есть перья». Этот орнитолог, разумеется, не кто иной, как Отец Одиннадцати Волосинок. Когда трое ученых закончили свою работу в Судане, он и Хаджи Али решили вместе с ними переехать в Германию. Отец Смеха посвятил себя торговле, и его дело процветает, причем покупателей привлекает не столько продающийся в лавке товар, сколько забавное лицо хозяина. Стефан же стал комендантом дома, в котором поселились он и его друзья. Однако эту работу он считает скорее дополнительной, чем основной. Не имея ни одного ученика, он именует себя преподавателем иностранных языков, а также вбил себе в голову идею с помощью издания научной книги доказать Отцу Аиста, что он «тоже видел птиц и много думал о них». Теперь он просит величать его «орнитологическим автором», а в качестве темы своего исследования он выбрал знаменитый вопрос из не менее знаменитой истории Пфотенхауера, до конца которой этот последний не добрался и по сей день.
Как раз сейчас Стефан снова корпит над своей рукописью, которую он разослал уже в двадцать различных издательств и всякий раз получал ее назад с замечанием, что язык произведения не соответствует серьезности затрагиваемых в нем проблем. Внезапно рядом с ним открывается маленькое окошко, и почтальон кладет на стол потрепанный, оклеенный множеством иностранных марок конверт. «Комендант и автор» берет его в руки и читает коряво, как будто детской рукой нацарапанный адрес Эмиля Шварца. На обратной стороне стоит написанное по-арабски имя: Барак аль-Кади.
Тогда малыш вскакивает с места и опрометью бежит в магазин, крича еще издалека:
— Есть еще три профессора в саду, заднем?
Хаджи, к которому обращен этот вопрос, отвечает на вполне сносном немецком, который он усвоил в течение двух проведенных здесь лет:
— Да, я их только что еще видел.
— Идем со мной тогда туда, быстрей-быстрей! Пришло письмо, африканское, от Охотника на слонов, пишущего!
Отец Листьев во весь опор несется в сад, расположенный позади дома, Хаджи едва поспевает за ним со своей блаженной улыбкой на лице. Братья Шварцы и Пфотенхауер покуривают послеобеденные трубки в большой беседке. Услышав громкие крики Стефана и Отца Смеха, все трое вскакивают на ноги и спешат им навстречу. Письмо внимательно осматривают со всех сторон и затем вскрывают. Оно, конечно, написано по-арабски и в переводе звучит примерно так:
«Кенадем, 12 раби аль-авваль[160].
Моему другу, известному Отцу Четырех Глаз!
Аллах велик и дает ночи росу. Я обещал тебе, поэтому я пишу. У меня все хорошо. О, сын моего блаженства, ведь я нашел тебя в ущелье молитв! Утешение моих глаз, отрада моей души. Финики обильно уродились в этом году, и был собран хороший и большой урожай. Мой любимый верблюд ослеп на один глаз, а как дела у тебя, твоего брата и Отца Аиста? Пророк постился в пустыне — то же самое и вы для меня, и я для вас. Хорошо тому, у кого есть сын! Абуль-моута запороли до смерти. Ты знаешь, что он это заслужил, этот негодяй. Я не проклинаю его. Пусть и твои верблюды хорошо растут, и пальмы на твоих полях тоже. Потому что вино запрещено, и ни один правоверный не принюхивается к бочке. Все же фельдфебеля и его людей настигла судьба. Только дети послушания пожинают достойные плоды. Они, собственно, были высечены и потом брошены в тюрьму, где и сидят до сих пор. А мое богатство умножается, слава Аллаху, день ото дня. Абдулмоут тоже мертв. Вот я тебе посылаю письмо. Теперь пиши и ты! Со следующей пятницы я буду смотреть на юг и восток и ждать, придет ли твой ответ. Пиши четко, так как глаз замечает многое, чего не видит разум. Разорваны также две мои палатки, и несколько овец заблудились. Снимай обувь, когда входишь в мечеть, и исправно подавай милостыню. Остаюсь при сем твой друг —
Барак аль-Кади,эмир Кенадема».