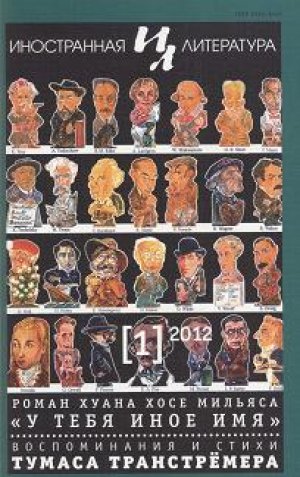
Озабоченность статусом. Ален де Боттон
Вступление
Можно сказать, что жизнь каждого взрослого человека определяют две любовные истории. Первая — романтическая — хорошо известна и досконально изучена, ее превратности служат основным содержанием музыкальных и литературных произведений, и общество принимает ее благосклонно. Вторая — история о том, как мы добиваемся взаимности от окружающих — более тайная и постыдная. Если о ней и упоминают, то обычно насмешливо, как об уделе завистливых и мелких душ, а само стремление к более высокому статусу толкуют исключительно в меркантильном смысле. Однако эта вторая любовная история ничуть не банальнее первой: она не менее сложна, значительна и универсальна, а боль утрат — не менее мучительна. На этом пути тоже разбиваются сердца, как свидетельствует обреченный, потухших взор тех, кого мир отверг, объявив их пустым местом.
Снобизм
В начале жизни нас любят безо всяких условий — просто за то, что мы есть. Мы можем срыгивать молоко, орать без умолку, бросать на пол ложку и т. п… — никто не требует, чтобы мы зарабатывали деньги или водили дружбу с влиятельными людьми — нас любят и без того.
Однако, становясь взрослыми, мы вступаем в мир, где заправляют пренеприятные личности — снобы. Они-то и заставляют нас тревожиться из-за нашего общественного статуса. Да, возлюбленные и друзья обещают оставаться с нами даже в бедности и унижениях (и мы порой испытываем искушение поверить им на слово), однако большую часть времени мы вынуждены пробавляться вниманием снобов, а те предоставляют его на строго определенных условиях.
Слово снобизм впервые появилось в Англии в зо-х годах XIX века. Утверждают, что оно возникло из обычая, существовавшего во многих колледжах Оксфорда и Кембриджа: якобы в экзаменационных листах после фамилий студентов-простолюдинов там писали sine nobilitate (неблагородного происхождения), дабы отличать их от титулованных собратьев.
Первоначально снобом называли человека, не обладающего высоким статусом, но вскоре это слово приобрело современный, почти противоположный, смысл и стало обозначать того, кого возмущает отсутствие высокого статуса у других. Было также понятно, что термин этот уничижительный и подразумевает дискриминацию, которую говорящий находит зазорной и достойной осмеяния. В своей “Книге снобов” (1848), пионерском исследовании на эту тему, Уильям Теккерей писал, что за двадцать пять лет снобизм “распространился по всей Англии, наподобие железных дорог; снобы стали известны и получили признание во всей империи, где, как мне говорили, никогда не заходит солнце”[1].
Однако на самом деле новым был не снобизм, а дух равенства, на фоне которого традиционные проявления дискриминации выглядели все более неприемлемыми, по крайней мере для таких личностей, как Теккерей.
Философия. Разумная мизантропия
Если мы прислушиваемся к обоснованной критике нашего поведения, вносим необходимые коррективы и самокритично оцениваем промахи, а наш статус тем не менее остается низким, возникает соблазн обратиться к подходу, который практиковали многие величайшие философы Запада. Мы можем, трезво оценив изъяны господствующей системы ценностей, избрать путь разумной мизантропии, чуждой гордыни и ранимости.
Когда мы, как издавна советуют философы, пристально вслушиваемся в суждения других людей, мы делаем открытие, разом печальное и дающее странное ощущение свободы: взгляды широкой публики на большую часть вопросов путаны и неточны, а то и просто ошибочны. Шамфор выразил мизантропический подход как предшественников, так и потомков, сказав: “Нет мнения зловредней, чем общественное мнение” [2].
Причина такой ущербности общественного мнения состоит в том, что люди, как правило, не хотят подвергать свои мысли строгому анализу, предпочитая чувства, интуицию и традицию. “Можно побиться об заклад, что любое ходячее мнение, любая общепризнанная условность глупы: в противном случае они не были бы общепризнанны”, — писал Шамфор, добавляя, что “так называемое общественное благоразумие на самом деле есть обычно не что иное, как общественное неразумие, страдающее упрощениями и алогичностью, предвзятостью и отсутствием глубины. И во Франции, и в других странах самые нелепые обычаи, самые смешные условности пребывают под защитой двух слов:‘Так принято’. Именно этими словами отвечает готтентот на вопрос европейцев, зачем он ест саранчу и пожирает кишащих на нем паразитов. Он тоже говорит: ‘Так принято’”.
Разочарование в общественном мнении может быть болезненным, зато оно безусловно помогает нам избавиться от тревоги о собственном статусе, от изматывающего желания нравиться окружающим и мучительной тоски по знакам любви.
Одобрение других важно по двум причинам: материальной, поскольку быть изгоем опасно и неприятно, и психологической, поскольку трудно, а то и невозможно сохранять веру в себя, если окружающие нас не уважают.
Именно в этом втором отношении и полезен философский подход: он предлагает не огорчаться всякий раз, как общество нас отталкивает или не замечает, а сперва задуматься: правы ли те, кто так к нам относится? Наше самоуважение должно страдать только от справедливых упреков. Надо остановить мазохистский процесс и добиваться одобрения людей, выяснив прежде, достойны ли их мнения того, чтобы к ним прислушиваться, не стоит искать любви тех, с кем мы перестанем считаться, как только узнаем их образ мыслей.
Возможно, после этого мы начнем отвечать презрением на презрение — мизантропическая позиция, пример которой подают нам многие философы прошлого.
“Происходящее в чужом сознании само по себе для нас безразлично, мы сами к этому равнодушны, лишь только ознакомимся с поверхностью и пустотой мыслей, с ограниченностью понятий, с мелочностью помыслов, с извращенностью взглядов и с заблуждениями, присущими большинству людей… Вот когда мы поймем, что ценить высоко мнение людей — для них слишком много чести! ”[3] — утверждал Артур Шопенгауэр, идеальный образец философа-мизантропа.
В “Parerga und Paralipomena” (1851) он утверждал, что от желания нравиться другим быстрее всего исцеляет понимание их подлинной сущности, по большей части исключительно глупой и грубой. “Во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества, — писал Шопенгауэр, — она мерило его ценности, явное обнаружение умственного банкротства”. Более того, картежники обычно хитры и безнравственны: “К сожалению, к сказуемому ‘coquins méprisables’[4] на свете имеется дьявольски много подлежащих”. Если же люди не порочны, они, обычно, просто скучны. Шопенгауэр одобрительно приводит изречение Вольтера: “La terre est couvert de gens qui ne méгitent pas qu’on leur parle”[5].
Так стоит ли нам всерьез прислушиваться к мнению этих людей? — спрашивает Шопенгауэр. Неужто мы позволим их вердикту и дальше нами управлять? Неужто наша самооценка зависит от кучки картежников? И даже если эти люди уважают нас, чего стоит их уважение? Или, как сформулировал сам Шопенгауэр:
Едва ли аплодисменты публики польстили бы виртуозу, если бы он узнал, что, за исключением одного или двух слушателей, все остальные глухи.
У трезвого взгляда на человечество, при всех очевидных достоинствах, есть один изъян: мы можем растерять большую часть друзей. Шамбор, собрат Шопенгауэра по философской мизантропии, ясно видел эту проблему:
Когда человек принимает решение вести дружбу лишь с теми людьми, которые хотят и могут общаться с ним в согласии с требованиями нравственности, добродетели, разума и правды, а приличия, уловки тщеславия и этикет рассматривают лишь как условности цивилизованного общества, — когда, повторяю, человек принимает такое решение (а это неизбежно, если только он не глуп, не слаб и не подл), он быстро убеждается, что остался почти в полном одиночестве.
Шопенгауэр не страшился такого исхода. “На свете только и есть выбор, что между одиночеством и пошлостью”, — указывал он и советовал учить юношество “переносить одиночество”, ибо необщительность есть признак высоких нравственных достоинств. По счастью, считал Шопенгауэр, всякий разумный человек, поживший и поработавший среди людей, “питает не больше склонности к тому, чтобы вступать в общение с другими, чем педагог к тому, чтобы вмешиваться в шумную игру детей”.
Таким образом, решение избегать общества не обязательно проистекает из нелюдимости — возможно, причина в том, что дружить не с кем. Циники — те же идеалисты, просто с непомерно высокими запросами. Или, словами Шамфора:
О людях, живущих уединенно, порою говорят: “Они не любят общества”. Во многих случаях это все равно что сказать о ком-нибудь: “Он не любит гулять”, — на том лишь основании, что человек не склонен бродить ночью среди разбойничьих вертепов.
Философы-затворники советуют нам прислушиваться к собственной совести, а не к голосам одобрения или осуждения, звучащим вокруг нас. Важно не то, какими мы представляемся некой группе людей, а то, что мы сами о себе знаем. Или словами Шопенгауэра:
Упрек оскорбителен лишь постольку, поскольку справедлив: малейший попавший в цель намек оскорбляет гораздо сильнее, чем самое тяжкое обвинение, раз оно не имеет оснований. Кто действительно уверен, что ни в чем не заслуживает упрека, тот может и будет спокойно пренебрегать им.
Чтобы исполнить совет мизантропической философии, мы должны отказаться от детской тревоги о том, как отстоять свой статус (задача в любом случае невыполнимая, поскольку, в теории, нам пришлось бы до конца жизни вызывать на дуэль каждого, кто когда-либо нелестно о нас отзывался), а вместо этого черпать удовлетворение из более надежного источника: осознания своей подлинной ценности.
Искусство
Вступление
Какой прок от искусства? В Британии 60-х годов XIX века вопрос этот витал в воздухе, и, согласно многим комментаторам, ответ был таков: да почти никакого. Не оно возводит большие промышленные города, прокладывает рельсы, роет каналы, раздвигает границы империи, выводит Британию на первое место в мире. Напротив, искусство подтачивает те самые свойства характера, благодаря которым все эти достижения стали возможны: продолжительный контакт с искусством порождает нерешительность, рефлексию, гомосексуализм, подагру и пораженчество. В речи 1865 года Джон Брайт, член парламента г. от Бирмингема, назвал культурных людей претенциозной кликой, считающей себя лучше других на том лишь основании, что они “вызубрили два мертвых языка: греческий и латынь”. Оксфордский ученый Фредерик Гаррисон не менее едко отозвался о пользе приобщения к литературе, истории и живописи:
Культура нужна критику, пишущему о новых книгах, и вполне пристала беллетристу, но в приложении к повседневной жизни или политике она означает лишь мелочную придирчивость, склонность к эгоистическому самопопустительству и слабоволие. Культурный человек — самый жалкий из смертных. В педантичности и отсутствии житейской сметки ему нет равных. Он готов гнаться за любой химерой, тратить время на любую, самую непрактичную цель.
Когда все эти громогласные прагматики оглядывались вокруг в поисках человека, который наиболее ярко воплощает в себе недостатки, свойственные людям искусства, перед ними тут же представала очевидная мишень: поэт и критик Мэтью Арнолд, профессор поэзии в Оксфорде и автор нескольких тоненьких книжечек меланхолических стихов, одобрительно принятых интеллектуальной элитой. Мало того что Арнолд разгуливал по Лондону, опираясь на трость с серебряным набалдашником, он еще и разговаривал тихим писклявым голосом, носил чудные бачки, расчесывал волосы на прямой пробор, а что хуже всего — постоянно объявлял в газетных статьях и публичных лекциях, что искусство — одно из важнейших занятий в жизни. То была эпоха, когда люди впервые обрели возможность добраться из Лондона в Бирмингем за одно утро, а Британия снискала себе титул всемирной кузницы. Газета “Дейли телеграф”, рьяная защитница промышленности и монархии, негодовала. Ее журналисты окрестили Арнолда изысканным Иеремией, обличителем-обольстителем, они издевательски утверждали, будто Арнолд уговаривает британских тружеников “бросить работу и свои обязанности, чтобы декламировать стихи, петь баллады и читать эссе”.
Арнолд терпеливо сносил насмешки, пока в 1869 году не разразился книгой, где систематически изложил, зачем, на его взгляд, нужно искусство и какую важную роль играет оно в жизни — даже для поколения людей, при жизни которых появились складной зонтик и паровая машина.
“Культура и анархия” Арнолда начинается с перечисления упреков, высказываемых в адрес искусства. С точки зрения большинства, писал он, это не более чем “ароматическая мазь от людских горестей, религия, пропитанная духом рафинированного безделия, отвращающая своих приверженцев от борьбы со злом. Часто утверждают, что искусство непрактично, или — как более не обинуясь формулируют некоторые критики — это пустые бредни”.
Однако великое искусство, писал Арнолд, вовсе не пустые бредни, а способ разрешить самые болезненные вопросы человеческой жизни. Каким бы бесполезным ни представлялось искусство “молодым львам из ‘Дейли телеграф’”, оно способно явить нам несовершенство бытия и показать, как это несовершенство исправить.
Возьмите творение любого великого художника, и вы увидите в нем прямо или косвенно выраженное “стремление исправить человеческое общество, развеять человеческие заблуждения, облегчить человеческие страдания”. Все великие художники, писал Арнолд, наделены “желанием сделать мир лучше и счастливее, чем он есть”. Пусть желания не всегда превращаются в политические действия, пусть сами художники не всегда осознают, чего хотят, в их произведениях все же непременно есть протест против положения вещей, а следовательно — попытка исправить наше мировосприятие, разбудить наши чувства, научить нас видеть красоту и понимать чужую боль, заставить плакать или смеяться над пороками общества.
Арнолд завершил свои доводы аргументом, на котором строится эта глава. Искусство, сказал Арнолд, есть “критика жизни”.
Как следует понимать эту сентенцию? Первое и самое очевидное объяснение: жизнь нуждается в критике, всем нам, падшим созданиям, постоянно угрожает опасность: мы склонны поклоняться ложным богам, плохо понимать себя и неверно — других, мы живем в плену нелепых тревог и вздорных желаний, амбиций и заблуждений. Исподволь, под видом развлечения, с улыбкой или всерьез, произведения искусства — романы, стихи, пьесы, картины, а теперь и фильмы — рассказывают нам о нас самих. Они могут стать проводниками, с чьей помощью мы придем к более правильному, взвешенному, разумному пониманию мира.
Мало что так нуждается в критике (а также в пристальном анализе), как наш подход к общественному статусу и его распределению, поэтому немудрено, что на протяжении веков многие творцы в той или форме оспаривали принятую социальную иерархию и те принципы, на которых она строится. Вновь и вновь, гневно или с иронией, сквозь смех или сквозь слезы, искусство бросает вызов существующей табели о рангах.
Искусство и снобизм
Джейн Остен начала писать “Мэнсфилд-парк” весной 1811-го и опубликовала его тремя годами позже. Роман рассказывает историю Фанни Прайс, робкой и скромной девочки из бедного портсмутского семейства, взятой на воспитание богатыми родственниками — сэром Томасом и леди Бертрам. Бертрамы стоят на самой вершине английской сельской иерархии, соседи отзываются о них с глубочайшим уважением и даже страхом, их кокетливые дочери Джулия и Мария не знают недостатка в нарядах, у них — собственные верховые лошади; старший сын, Том, неотесанный, самоуверенный и эгоистичный юнец, проводит время в лондонских клубах, угощая друзей шампанским в ожидании той поры, когда смерть отца принесет ему наследство и титул. Сэр Томас и его семья строго придерживаются правил поведения английского высшего общества, то есть прежде всего — показного самоуничижения, но и на минут)' не забывают (и не дают забыть другим) о превосходстве и почете, которым должны быть окружены владельцы огромного ландшафтного парка, где в тихие часы между чаем и ужином можно увидеть оленей.
Фанни живет под одной крышей с Бертрамами, но никогда не станет им ровней. Мелкие удобства предоставляются ей по усмотрению сэра Томаса, кузины относятся к ней покровительственно, соседи — со смесью жалости и подозрительности. Для семьи в целом Фанни — что-то вроде компаньонки, которая скрашивает их жизнь, но чьи чувства, по счастью, они не обязаны принимать в расчет.
Перед приездом Фанни в Мэнсфилд-парк Остен дает нам возможность подслушать семейный разговор, исполненный самых разнообразных опасений. “Надеюсь, она не станет дразнить моего мопсика”[6], — замечает леди Бертрам; дети гадают, какие у кузины платья, говорит ли она по-французски и знает ли имена английских королей и королев. Сэр Томас Бертрам (хотя именно он и предложил взять девочку на воспитание) ждет худшего: “Многое в ней нам, вероятно, захочется изменить, и надо быть готовыми к вопиющему невежеству, к некоему убожеству взглядов и весьма неприятной вульгарности манер”. Его свояченица миссис Норрис напоминает, что Фанни следует сразу указать на то, что она никогда не будет одной из них. Сэр Томас соглашается:
Нам предстоит одна сложность… не дать ей забывать, что она отнюдь не мисс Бертрам. Я не против, чтобы они подружились, и никак не стал бы поощрять в своих дочерях ни малейшего высокомерия по отношению к их родственнице, но все же она им не ровня. Их положение, состояние, права, виды на будущее всегда будут несравнимы.
Появление Фанни лишь укрепляет семью в убеждении о ничтожестве тех, кто не родился в поместье с ландшафтным парком. Джулия и Мария обнаруживают, что у девочки только одно платье, по-французски она не говорит и совершенно не образованна. “Вы только подумайте, кузина не может правильно расположить ни одно государство на карте Европы, — рассказывает Джулия матери и тетке. — Не может показать главные реки России и слыхом не слыхала про Малую Азию… она уж такая невежда! Вы знаете, вчера вечером мы ее спросили, в какую сторону она поедет, чтобы попасть в Ирландию, и она сказала, она переправится на остров Уайт”. — “Ну конечно, мои дорогие, — отвечает миссис Норрис, — но Господь наградил вас обеих замечательной памятью, а у вашей бедняжки кузины, может, и вовсе ее нет. Память бывает очень разная, как и все прочее, и потому надобно быть снисходительными к кузине, сожалеть об ее несовершенстве”.
Джейн Остен, впрочем, не торопится делать вывод о том, кто несовершенен и в чем именно. Более десяти лет она терпеливо следует за Фанни по коридорам и залам Мэнсфилд-парка, наблюдает за нею на прогулках и в спальне, читает ее письма, слушает ее разговоры с родными, следит за движениями ее глаз и губ, заглядывает в душу. И видит там редкую, чистую добродетель.
В отличие от Джулии и Марии, Фанни не думает о том, есть ли у молодых людей поместье и титул. Ей претит бесчувственность Тома и привычка миссис Норрис обсуждать доходы соседей. Тем временем родственники Фанни, занимающие столь высокую ступень на существующей общественной лестнице, в другой статусной системе — иерархии автора — оказываются на куда более шаткой позиции. У Марии и ее жениха, мистера Рашуота, есть лошади, дома и деньги, однако Джейн Остен видела, с чего началась их любовь, и не забыла этого:
Мистер Рашуот был с самого начала покорен красотою старшей мисс Бертрам и, имея намерения жениться, скоро вообразил себя влюбленным. То был скучный молодой человек, отличавшийся разве что здравым смыслом; но так как ни в наружности его, ни в обращении не было ничего неприятного, его избранница была очень довольна своей победою. Марии Бертрам шел уже двадцать первый год, и она начинала считать замужество своим долгом; а так как брак с мистером Рашуотом сулил ей радость большего дохода, чем у отца, а также, без сомненья, дом в Лондоне, что было сейчас главною целью, она опять же по чувству долга сочла своей прямой обязанностью, если удастся, выйти замуж за мистера Рашуота.
В “Справочнике аристократических семейств Англии” Дебретта о мистере Рашуоте и Марии, вероятно, написали бы в высшей степени уважительно. Джейн Остен, которой принадлежит вышеприведенный пассаж, не способна их уважать — и не позволит читателю. Писательница заменяет стандартную лупу, через которую смотрит на человека общество, — лупу, увеличивающую богатство и влиятельность, на другую — моральную, в которой отчетливо проступают свойства характера. В этом увеличительном стекле могущественная знать выглядит мелкой и жалкой, зато люди скромные и незаметные предстают во всем своем духовном величии. В мире романа добродетель не связана с материальными благами. Богатые и благовоспитанные не обязательно хороши, бедные и неученые — не обязательно дурны. Доброта может жить в сердце некрасивого хромого ребенка, нищего привратника, горбуна, ютящегося на чердаке, или девочки, не имеющей понятия о простейших географических фактах. Пусть у Фанни нет денег и красивых платьев, пусть она не говорит по-французски, но в конце “Мэнсфилд-парка” мы видим благородство ее души, прочие же члены семейства, рафинированные аристократы, оказываются нравственно несостоятельны. Сэр Томас Бертрам снобизмом испортил собственных детей, его дочери вышли замуж ради денег и жестоко за это поплатились, жена замкнулась в полнейшем равнодушии ко всем и вся. Иерархическая система Мэнсфилд-парка перевернулась вверх дном.
Однако Джейн Остен не излагает свои взгляды с суровостью проповедника, но пускает в ход все писательское мастерство, весь свой юмористический дар, чтобы привлечь нас на свою сторону и отвратить от тех, кто думает иначе. Она не говорит, почему ее взгляд верен, она показывает это в контексте романа, который заставляет нас хохотать в голос и увлекает настолько, что мы торопливо глотаем ужин, чтобы поскорей вернуться к чтению. Лишь дочитав “Мэнсфилд-парк”, мы готовы вернуться в мир, из которого извлекла нас Остен, и поступать с другими так, как научила нас она: избегать алчности, заносчивости, гордыни, тянуться к добру, замечать его в себе и в окружающих.
Остен скромно и блистательно назвала свои произведения миниатюрами на слоновой кости: “Они не более двух дюймов в ширину, и я пишу на них такой тонкой кистью, что, как ни огромен этот труд, результат почти незаметен”, — однако на деле она метила выше. Ее творчество — это попытка через описание “трех или четырех сельских семейств” обличить, а следовательно, исправить несовершенство жизни.
Остен не была одинока в этом своем устремлении. Почти в каждом великом романе XIX–XX веков мы увидим, что автор выражает порицание общепринятой социальной иерархии, и симпатии его на стороне обладателей высоких душевных качеств, а не больших доходов и знаменитых родословных. Героями и героинями в литературе редко выступают те, кого поставил бы на первое место справочник Дебретта. Первые становятся последними, последние — первыми. В бальзаковском “Отце Горио” (1834) нас привлекает не мадам де Нусинген с ее раззолоченным домом, а старый беззубый Горио, влачащий дни в затхлом пансионе. У Харди в “Джуде Незаметном” (1895) уважение вызывают не оксфордские доны, а нищий необразованный каменщик, который чинит горгулий на фасадах университетских зданий.
Показывая незримые движения человеческой души, литература выступает в качестве противовеса господствующий системы ценностей. Мы видим, что горничная, которая подает завтрак, наделена душевной чуткостью и нравственным величием, а громко хохочущий барон, владелец серебряных рудников, не способен любить и чувствовать.
Если мы склонны забывать этот урок, то, среди прочего, вот по какой причине: лучшие свойства человеческой натуры редко проявляются во внешних достижениях, которые только и способны привлечь наше обычно рассеянное внимание. Джордж Элиот начинает “Миддлмарч” (1878) с разговора об этой человеческой склонности восхищаться лишь явными подвигами и проводит неожиданное сравнение своей героини со святой Терезой Авильской (1512–1582). Святая Тереза происходила из богатой и влиятельной семьи и, соответственно, могла воплотить свои благородные порывы и творческие способности в конкретных делах. Она основала семьдесят монастырей, переписывалась со многими светилами веры, оставила потомкам автобиографию и множество трактатов о молитве и мистическом опыте, католическая церковь чтит ее как одну из величайших святых. Ко времени смерти Терезы ее статус соответствовал ее заслугам и личным качествам. Однако Джордж Элиот напоминает, что в мире довольно людей, не менее умных и талантливых, которым личные заблуждения и неблагоприятные условия помешали совершить что-либо великое, и потому они обречены занимать положение, мало соответствующее их внутренней сущности. “Рождалось много таких Терез, которым не удалось найти для себя эпический жизненный путь, не удалось целиком отдаться живой и значительной деятельности. Быть может, уделом их становилась жизнь, полная ошибок, порожденных духовным величием, так и не получившим случая проявить себя”, — пишет Элиот. Об одной из таких женщин — Доротее Брук, жившей в английском городке в первой половине XIX века — и повествует “Миддлмарч”. Роман бросает упрек миру, не способному разглядеть то, что Элиот называет “духовным величием”, если оно не выливается в “деяния, долго хранящиеся в памяти людской”.
Доротея обладает многими добродетелями святой Терезы, но они незримы для мира, замечающего лишь проявления статуса. Из-за того что она вышла за больного священника, а потом, меньше через год после его смерти, отказалась от наследства ради брака с родственником покойного мужа (человеком бедным, не особо родовитым), свет осудил и отверг Доротею. Элиот признает, что “оба эти столь важные в ее жизни поступка не блистали благоразумием. Но только так сумело выразить свой протест благородное юное сердце, возмущенное несовершенством окружающей среды”. Однако дальше идут едва ли не самые проникновенные строки во всей английской литературе XIX века: Элиот призывает нас взглянуть дальше не приемлемого для общества замужества Доротеи, дальше бесплодности ее устремлений, — увидеть, что в святости она не уступает Терезе Авильской:
Ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили. В своей душевной щедрости она, подобно той реке, чью мощь сломил Кир, растеклась на ручейки, названия которых не прогремели по свету. Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, — огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний; и, если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами, незаметно и честно, и покоятся в безвестных могилах[7].
К этим строкам можно свести идею романа: художественное произведение помогает оценить незаметно протекшую жизнь тех, кто покоится в безвестных могилах. “Если искусство не учит жалости, значит, оно не учит ничему”, — знала Джордж Элиот.
У Зэди Смит в романе “Белые зубы” (2000) мы встречаем Самада, немолодого бангладешца, работающего официантом в индийском ресторане. Он терпит грубое обращение начальства, работает до трех часов ночи и обслуживает хамоватых посетителей, которые оставляют ему на чай жалкие пятнадцать пенсов. Самад мечтает вернуть себе человеческое достоинство, привлечь внимание к своим душевным качествам, не видимым для посетителей, которые, делая заказ, почти не замечают официанта. Он воображает, как вешает на шею белую табличку, на которой крупными буквами написано:
Я НЕ ОФИЦИАНТ, Я УЧИЛСЯ, ЗАНИМАЛСЯ НАУКОЙ, ВОЕВАЛ. МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ АЛСАНА, МЫ ЖИВЕМ НА ВОСТОКЕ ЛОНДОНА, НО ХОТЕЛИ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ НА СЕВЕР. Я МУСУЛЬМАНИН, НО АЛЛАХ МЕНЯ ОСТАВИЛ, А МОЖЕТ, Я ОСТАВИЛ АЛЛАХА, ТОЧНО НЕ ЗНАЮ. У МЕНЯ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ — АРЧИ И ДРУГИЕ. МНЕ СОРОК ДЕВЯТЬ, НО ЖЕНЩИНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НА МЕНЯ ОГЛЯДЫВАЮТСЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НЕКОТОРЫЕ.
Самад так и не изготовил себе такого плакатика, но получил кое-что получше: писательницу, которая дала ему голос. Весь ее роман, в котором действует Самад, — что-то вроде исполинского плаката, и читателям впредь будет чуточку труднее заказывать курицу карри небрежно-безразличным тоном. Роман Зеди Смит учит нас жалости; быть может, вся история литературы, по сути своей, одна длинная череда плакатов, взывающих к людям:
Я НЕ ПРОСТО ОФИЦИАНТ, НЕВЕРНЫЙ МУЖ, ВОР, ДЕРЕВЕНЩИНА, РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНЩИНА, СТРАННЫЙ РЕБЕНОК, УБИЙЦА, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ДВОЕЧНИК ИЛИ РОБКИЙ ЧЕЛОВЕК, НЕ УМЕЮЩИЙ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ.
Живопись тоже нередко бросает вызов устоявшимся представлениям о том, что в жизни важно.
Жан-Батист Шарден написал свою “Еду для выздоравливающего” в 1746 году. Просто одетая женщина стоит в бедно обставленной комнате и очищает яйцо для больного, которого мы не видим. Заурядный эпизод из жизни обычных людей. Зачем его изображать? Многие критики — современники Шардена — разделяли скепсис этого вопроса, недоумевая, почему одаренный художник пишет ножи и вилки, битые тарелки и хлеб, груши и яблоки, а также скромных тружеников — представителей бедной части среднего класса, — занятых своими немудреными делами в комнате или на кухне.
Совсем не такие сюжеты следовало выбирать живописцам в соответствии с правилами, предписанными Французской академией художеств. Основанная Людовиком XIV в 1648 году, она учредила иерархию жанров. На первое место ставилась историческая живопись: картины на античные и библейские темы, прославляющие доблесть или содержащие моральный урок. Второе место занимали портреты, особенно — царствующих особ. Затем шли пейзажи и лишь в самом конце — то, что уничижительно именовалось жанровыми сценами: зарисовки из жизни простых людей. Художественная иерархия повторяла общественную: король на коне, объезжающий свои владения, был естественно выше бедно одетой женщины, очищающей яйцо.
Однако картины Шардена опрокидывают систему взглядов, согласно которой домашние хлопоты или вспыхнувшая в лучах вечернего солнца старая глиняная посуда не заслуживают внимания (“Шарден показал, что груша может быть исполнена жизни, как женщина, а кувшин — прекрасен, как драгоценный камень”. Марсель Пруст).
В истории живописи мы найдем немало единомышленников Шардена, вносящих поправки в обычные представления о значимом и незначимом. Например, валлийский художник Томас Джонс, работавший в Италии, сперва в Риме, затем в Неаполе, в 1776–1783 годах. Именно в Неаполе, в начале апреля 1782 года, Джонс завершил два полотна, возможно, величайшие в западной живописи: “Неаполитанские крыши” (музей Ашмола, Оксфорд) и “Дома в Неаполе” (Национальная галерея Уэллса, Кардифф).
Изображенные Джонсом сцены типичны для средиземно-морских городков, где дома стоят тесно и окна выходят на голые стены соседних зданий. Когда жарко, в улочках обычно прохладно, в полуприкрытых окнах еле-еле угадывается силуэт женщины, идущей из одной комнаты в другую, или спящего мужчины. На балконе с ржавыми перилами старуха развешивает белье; изредка доносится детский плач.
Джонс показал нам облупленную штукатурку под южным солнцем, подчеркивающим каждую трещинку, каждую выщербину. Она так же красноречиво, как грубые, обветренные руки рыбака, говорит о круговороте времен года, когда одуряющий летний зной сменяется яростными зимними ветрами, а те, спустя вечность, — робким весенним теплом. Штукатурка Джонса в родстве с россыпью изъеденных непогодой камней на средиземноморских холмах. Нагромождение зданий пробуждает в нас ощущение города, где разворачивается множество индивидуальных судеб: жизнь за каждым окном — величайший роман, в ней есть страсть и тоска, радость и отчаяние.
Как редко мы замечаем крыши, как часто наш взгляд устремляется к более эффектным античным храмам или ренессансным церквям. Джонс предлагает нам задуматься о том, чем мы обычно пренебрегаем, делает зримой скрытую красоту, включает южные крыши в наше понимание счастья — и мы уже никогда не будем к ним равнодушны.
Датский живописец Кристен Кёбке — еще один великий художник, подрывающий устоявшиеся взгляды на то, что следует ценить. В 1832–1838 годах Кёбке писал пригороды, улицы и сады родного Копенгагена. На одной его картине две коровы пасутся летом на поле. На другой — две семейные пары высаживаются из лодки; вечер, но тьма не спешит сгущаться над озером, отзвуки дня, кажется, навеки замерли в огромном небе (где только-только взошла луна), обещая теплую ночь, когда хочется спать с открытым окном или на одеяле в саду. Кёбке запечатлел вид с крыши Фредериксборгского замка: лоскутное одеяло полей, садов и ферм, образ упорядоченной жизни тех, кто довольствуется тихими радостями обыденности.
Подобно Шардену и Джонсу, Кёбке бросает вызов господствующей системе ценностей. Эти художники словно говорят: если вечернее небо, облупленная штукатурка, безвестная женщина, чистящая яйцо для больного, так прекрасны, то стоит усомниться в значительности того, к чему нас учили стремиться.
Быть может, чересчур смело приписывать квазиполитический смысл кувшину на столе или корове на поле, но мораль произведений Кёбке, Шардена и Джонса куда глубже того, чего мы ожидаем от куска холстины или бумаги. Подобно Джейн Остен и Джордж Элиот, великие певцы повседневной жизни помогают нам избавиться от снобистских воззрений на то, что достойно почета и уважения, а что — нет.
Трагедия
Возможно, мы меньше боялись бы провалов, если бы не знали, как сурово нас за них осудят. К страху перед материальными последствиями оных примешивается страх быть зачисленным в неудачники, как безжалостно именуют людей, которые потерпели крушение и тем самым утратили всякое право на сочувствие.
Загубленную жизнь, как правило, обсуждают в таком обличительном тоне, что случись кому-либо из героев бессмертных произведений искусства: Эдипу, Антигоне, Лиру, Отелло, Эмме Бовари, Анне Карениной, Гедде Габлер или Тесс, — подвергнуться разбору приятелей или бывших однокашников, им бы не поздоровилось. И уж тем более не пощадили бы их газетчики:
“Отелло”: Чернокожий мигрант в припадке ревности задушил дочку сенатора
“Госпожа Бовари”: Шопоголичка отравилась мышьяком, чтобы не возвращать долги
“Царь Эдип”: Правда глаза колет! Сынуля переспал с родной матерью!
Эти заголовки выглядят смехотворными только потому, что мы привыкли считать вышеперечисленные истории очень серьезными, заслуживающими отношения почтительного, а не беспардонного, с которым газетчики перемывают косточки своим жертвам.
Однако на самом деле в упомянутых сюжетах нет ничего, что само по себе вызывало бы уважение. Легендарные страдальцы, знакомые нам по великим произведениям искусства, представляются благородными не в силу собственных качеств, а благодаря своим создателям и хронистам, которые научили нас так к ним относиться.
Есть род искусства, который с первых дней своего существования рассказывал о великих неудачниках без насмешки или осуждения. Не освобождая героев от ответственности за содеянное, этот род искусства предлагал людям с поломанными судьбами — опозоренным политикам, убийцам, банкротам, психопатам — то сочувствие, которого заслуживает каждый, но получает в жизни очень редко.
Трагедия возникла в Греции в VI веке до нашей эры. Зрители прослеживали путь героя — обычно царя или великого воина — от благополучия и славы к позору и гибели, которые тот навлекал на себя той или иной ошибкой. История преподносилась так, чтобы зрители не спешили осуждать героя за постигший его жребий и одновременно проникались смирением, сознавая, как легко оступиться, попав в сходную ситуацию. Трагедия учила с горестью думать о том, как трудно вести добродетельную жизнь и не презирать тех, кому это не удалось.
Если на одном краю спектра понимания разместить газеты с их психами, чудилами и неудачниками, то на противоположном краю окажется трагедия — трагедия, которая старается навести мосты между виновными и внешне неповинными, которая бросает вызов привычным представлениям об ответственности, дает психологически точный отчет о том, как низко может пасть человек, но не лишает этого человека права быть выслушанным.
В “Поэтике” (ок. 350 до н. э.) Аристотель попытался определить суть трагедии. Он утверждал, что в ней должен быть один центральный персонаж, а действие должно развиваться в относительно короткий промежуток времени, причем (что неудивительно) не от невзгод к счастью, а наоборот — от счастья к невзгодам.
Однако имелись и два более важных требования. Трагический герой должен быть не чрезмерно добродетельным и не чрезмерно порочным — обычным в нравственном смысле человеком, с которым зрителям нетрудно себя отождествить. Пусть он обладает набором хороших качеств и какими-либо недостатками, скажем, большим самомнением, гневливостью или порывистостью. Дальше он совершит впечатляющий промах — не из откровенно дурных побуждений, а из-за того, что Аристотель по-гречески называл гамартия — трагической ошибки, временного ослепления, неведения либо эмоционального срыва. Промах повлечет за собой ужаснейшую перипетию, то есть коренную перемену, в ходе которой герой утратит всё, что ему дорого, и, почти наверняка, жизнь.
Естественная реакция на такое развитие событий — жалость к герою и страх за себя, возникающий из нашего с ним самоотождествления. Трагедия учит нас не переоценивать собственную способность избегать несчастий и одновременно подталкивает к сочувствию тем, с кем они случаются. Мы должны выйти из театра с намерением никогда больше не отзываться о падших с высокомерием и презрением.
Аристотель понимал, что наше сочувствие к чужим провалам почти всегда проистекает из явственного ощущения того, как легко мы сами можем в определенных обстоятельствах стать жертвой подобных бедствий. Поэтому сострадание наше тем меньше, чем более чуждыми представляются нам действия героя. “Как мог нормальный человек совершить такое?” — думаем мы, слыша, что кто-то заключил глупейший брак, вступил в связь с кровной родственницей, в приступе ревности убил жену, обманул начальство, украл деньги или поддавшись скупости, загубил свою жизнь. Пока мы убеждены, что между их ситуацией и нашей — высокая каменная стена, мы нетерпимы к этим несчастным и не испытываем ничего, кроме холодного презрения.
Однако трагедия подводит нас вплотную к осознанию почти невыносимой истины: любое безумство в истории имело корнем неприятные свойства, присущие людской природе. Мы несем в себе весь спектр человеческих качеств, как хороших, так и дурных, поэтому в благоприятных, вернее, очень неблагоприятных обстоятельствах тоже способны на все. Как только зрителя подведут к пониманию этой истины, он почувствует прилив сострадания, побоявшись, что некоторые далеко не лучшие свойства его характера, покамест не доводившие его до серьезной беды, могут однажды, в силу внешних причин, возобладать над остальными и разрушить жизнь — и тогда ему будет так же горько и стыдно, как бедолаге, о котором газета поместила бы материал под шапкой: Сынуля переспал с родной матерью.
Аристотелевской концепции наиболее полно отвечает трагедия Софокла “Царь Эдип”, впервые поставленная в Афинах на празднике Великих Дионисий весной 430 года до н. э.
Фиванский царь Эдип боготворим народом за милостивое правление и за победу над крылатой девой — сфинксом, который много лет убивал фиванцев. Эдип разгадал его загадку, и благодарный народ провозгласил его царем. Однако Эдип далек от совершенства. Он порывист и гневлив. За много лет до начала действия он в приступе ярости убил старика, преградившего ему дорогу в Фивы. Впрочем, происшествие почти забылось, поскольку вскоре после этого Эдип победил сфинкса, подарив городу мир и процветание, и женился на прекрасной Иокасте, вдове своего предшественника — царя Лая, убитого неизвестным юношей на дороге в Фивы. Однако теперь город постигла новая беда: жителей косит моровое поветрие, от которого нет исцеления. Отчаявшиеся фиванцы ищут помощи у царя. Шурин Эдипа, Креонт, побывал у Дельфийского оракула и получил загадочный ответ: город наказан за возросшую в нем скверну. Креонт и другие считают, что речь идет о неразгаданном убийстве прежнего царя. Эдип соглашается с ними и клянется найти, а затем безжалостно покарать убийцу.
Иокаста, слыша это, вспоминает другое прорицание: ее первому мужу, Лаю, сказали, что он погибнет от руки собственного сына. Дабы отвратить несчастье, они с царем велели отнести младенца в горы и бросить там умирать. Однако пастух, которому это поручили, пожалел ребенка и отнес в Коринф, где того усыновил тамошний царь. Когда мальчик вырос, оракул сообщил ему, что он убьет своего отца и женится на собственной матери. Тогда Эдип бежал из Коринфа и оказался в Фивах, где разгадал загадку сфинкса и, по нелепой случайности, убил старика, преградившего ему дорогу в город.
Иокаста, поняв, что произошло, скрывается в спальне и кончает с собой. Эдип видит ее висящее тело, вынимает его из петли и выкалывает себе глаза пряжкой с ее одежды. Он обнимает своих дочерей, Антигону и Исмену, по молодости лет не понимающих ужаса случившегося, и уходит скитаться.
Мы могли бы ответить, что нам едва ли грозит опасность повторить подобную ошибку: убить отца и жениться на собственной материи. Однако чудовищность гамартии Эдипа. не заслоняет более универсального смысла трагедии. История Эдипа актуальна для нас, поскольку в ней явлены пугающие стороны нашей собственной личности и человеческой доли: ужасные последствия мелких, на первый взгляд незначительных ошибок, непонимание того, к чему ведут наши действия, склонность думать, будто мы сами управляем своей судьбой, непрочность нашего счастья и мощь того, что Софокл называет Роком — неведомой темной силой, противостоящей слабому человеческому рассудку. Эдип был далеко не идеален. Он возомнил, будто обманул пророчество, и принял как должное поклонение фиванцев. Из-за вспыльчивого и гордого нрава он вступил в ссору с королем Лаем, из трусости не связал убийство со словами оракула. Он настолько не сомневался в себе, что на долгие годы забыл обо всем и едва не казнил Креонта, когда тот назвал его убийцей Лая.
Но если даже Эдип сам повинен в своих несчастьях, трагическое действие не позволяет нам легко его осудить. Оно признает ответственность Эдипа, но не отказывает ему в жалости. Как предполагает Аристотель, зрители выйдут из театра ужасаясь, но и сочувствуя, и в их ушах будет по-прежнему звучать финальное предостережение хора:
Трагедия позволяет нам сопереживать чужому падению куда сильней, чем в обычной жизни, главным образом потому, что дает увидеть его истоки. В данном случае, чем больше мы знаем, тем больше наша готовность понять и простить. Трагедия искусно показывает нам мелкие, иногда невинные шаги, ведущие героя или героиню от благополучия к краху, демонстрирует плачевное несоответствие намерений и результатов. В итоге нам трудно сохранять безразличный или осуждающий тон, который мы, вероятно, приняли бы, узнав из газетной статьи голые факты.
Летом 1848 года нормандские газеты опубликовали скандальный материал. Двадцатисемилетняя Дельфина Деламар, урожденная Кутюрье, из городка Ри, что недалеко от Руана, затосковав от монотонности брака, влезла в чудовищные долги, накупила дорогих платьев и ненужных вещей, завела любовника и, не выдержав эмоционального и финансового стресса, отравилась мышьяком. У госпожи Деламар остались маленькая дочь и безутешный муж, Эжен Деламар, который после курса обучения в Руане занимал должность врача в Ри, где пользовался любовью пациентов и уважением соседей.
В числе тех, кто прочел газету, был двадцатисемилетний начинающий литератор Гюстав Флобер. История госпожи Деламар захватила его настолько, что превратилась в род одержимости: он провез ее с собой через Египет и Палестину, где совершал путешествие, а в 1851 году засел за “Госпожу Бовари”. Шестью годами позже роман был опубликован в Париже.
Когда госпожа Деламар, неверная жена из Ри, превратилась в госпожу Бовари, неверную жену из Ионвиля, история претерпела ряд изменений и, в частности, утратила свою черно-белую однозначность. Провинциальные консервативные газетчики ухватились за происшедшее с Дельфиной Деламар, увидев в нем свидетельство растущей коммерциализации общества, неуважения к браку и утраты религиозных ценностей. Однако искусство Флобера — полная антитеза грубому морализаторству. В нем человеческие мотивы и поведение исследованы с глубиной, не позволяющей считать одних святыми, других — грешниками. Читатель Флобера сознает наивность эмминых представлений о любви, но при этом понимает, откуда они взялись. Он видит ее в детстве, читает через ее плечо в монастыре, сидит с нею и ее отцом летними вечерами в Тосте, на кухне, куда со двора долетает хрюканье свиней и квохтанье кур. Он видит всю историю ее злополучного замужества, знает, что Шарля очаровали одиночество и красота девушки, а Эммой двигало желание вырваться из деревенской жизни, а также представления о людях, почерпнутые из третьесортной литературы. Читатель сочувствует Шарлю, когда тот жалуется на Эмму, и сочувствует Эмме, когда та жалуется на Шарля. Флоберу как будто нравится разбивать надежду читателя на однозначный ответ: только что он представил Эмму в благоприятном свете и тут же снижает ее образ ироническим замечанием. А едва она начинает раздражать читателей, уже готовых объявить ее сластолюбивой эгоисткой, как Флобер рассказывает о ее чуткости, и нам хочется плакать. К тому времени, как Эмма утрачивает свой общественный статус, принимает мышьяк и ложится умирать, мало кто способен ее осудить.
Когда мы добираемся до последних страниц книги, нам становится больно и страшно: как же мы жили раньше, не сознавая, сколь плохо понимаем себя и других, сколь катастрофичны последствия наших действий и с какой бескомпромиссностью окружающие карают нас за ошибки.
Когда мы читаем трагедию или смотрим ее на сцене, мы максимально далеки от того духа, который выражен в заголовке Шопоголичка отравилась мышьяком, чтобы не платить по долгам. Трагедия заставляет нас отбросить обыденный, упрощенный взгляд на жизненное поражение, учит прощать свойственную нам от природы глупость и нарушение моральных норм.
В мире, где все усвоили бы урок, который преподносит трагедия, последствия наших неудач тяготили бы нас значительно меньше.
Сатира и юмор
Летом 1831 года французский король Луи-Филипп смотрел в будущее с оптимизмом. Политический и экономический хаос Июльской революции, год назад приведшей его к власти, сменились порядком и процветанием. У короля была команда толковых помощников во главе с премьер-министром Казимиром Перье, во время поездки в северные и восточные части страны провинциальный средний класс приветствовал своего нового монарха как героя. Его окружала роскошь Пале-Рояля, каждую неделю в честь короля устраивались банкеты; он любил поесть (особенно жаловал дичь и фуа гра), обладал большим личным состоянием, при нем были любящие жена и дети.
Лишь одно омрачало его покой. В конце 1830 года безвестный двадцативосьмилетний художник Шарль Филипон начал выпускать сатирический журнал “Карикатюр”. На страницах этого журнала он изобразил голову короля (которого обвинял в продажности и некомпетентности) в виде груши. Мало того что карикатура безжалостно высмеивала отвисшие щеки короля; само французское слово poire, груша, означающее также харя и болван, явственно указывало на неуважение к Луи-Филиппу и его методам правления.
Король пришел в ярость. Он приказал своим агентам закрыть журнал и скупить в парижских киосках все экземпляры номера. Филипона это не остановило, и в ноябре 1931-го рисовальщик был вызван в суд по обвинению в оскорблении Величества. Выступая перед переполненным залом, Филипон поблагодарил власти за арест столь опасного преступника, как он, и добавил, что правосудие недостаточно рьяно карает королевских хулителей. В первую очередь следовало бы взять под стражу все, имеющее форму груши, в том числе сами груши — а их во Франции на деревьях многие тысячи, и каждая — преступник, подлежащий тюремному заключению. Судей не насмешила выходка Филипона. Художника приговорили к шести месяцам тюрьмы, а когда на следующий год он повторил шутку с грушей в своем новом журнале “Шаривари”, его тут же вновь отправили за решетку. В общей сложности за изображение монарха в виде фрукта он провел в тюрьме два года.
Тремя десятилетиями раньше Наполеон — в ту пору самый могущественный человек Европы — страдал от насмешек ничуть не меньше. В 1799 году, придя к власти, он приказал закрыть все сатирические журналы и сказал начальнику полиции Жозефу Фуше, что не потерпит издевательств со стороны карикатуристов. Наполеону куда больше нравилось, как изображает его персону Жак-Луи Давид. По просьбе императора великий художник изобразил его на вздыбленном коне, указывающим армии путь к альпийскому перевалу. “Наполеон на перевале Сен-Бернар” (1801) так понравился герою картины, что он попросил Давида запечатлеть свой главный триумф: коронацию, которая состоялась 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам. Церемония прошла с невероятной торжественностью. На нее собрались все первые люди Франции, прибыл даже папа Пий VII, представители большей части европейских государств явились засвидетельствовать свое почтение, а музыку специально для этого случая написал композитор Жан-Франсуа Лесуэр.
Благословляя Наполеона, Папа возгласил посреди умолкшего собора: “Vivat imperator in aeternum”[9]. Давид закончил “Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины” в 1807 году и преподнес “моему блистательному господину”. Наполеон торжествовал. Он сделал Давида кавалером ордена Почетного легиона “За службу искусству” и, прикрепляя награду к его груди, сказал: “Вы вернули Франции хороший вкус”.
Однако не все художники смотрели на Наполеона глазами Давида. За несколько лет до того, как Давид закончил “Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины”, английский карикатурист Джеймс Гилрей изобразил примерно ту же сцену, озаглавив ее “Большая коронационная процессия Наполеона, первого императора Франции” (1805). Однако никто не пригласил его в Париж принять орден Почетного легиона за возвращение Франции хорошего вкуса.
На карикатуре одутловатый, напыжившийся император вышагивает впереди процессии лизоблюдов и невольников. Пий VII присутствует и здесь, но у Гилрея из-под края папского облачения выглядывает мальчишка-хорист — он снимает маску, и мы видим, что это черт. Жозефина — не юная нежноликая дева, как у Давида, а прыщавая толстуха. Край императорской мантии несут представители стран, завоеванных Наполеоном: Испании, Пруссии и Голландии — и вид у них отнюдь не радостный. Следом маршируют скованные по рукам солдаты: император получает власть не по воле народа. За солдатами шествует интендант полиции, Жозеф Фуше, с “мечом правосудия”, как пояснил Гилрей в подписи. Меч обагрен кровью.
Наполеон был в ярости. Он приказал Фуше без суда бросать в тюрьму каждого, кто доставит во Францию экземпляр карикатуры. Кроме того, он через своего посла в Лондоне заявил дипломатический протест и в свойственной ему манере поклялся отыскать художника, если когда-нибудь завоюет Англию. При заключении Амьенского мира в 1802 году Наполеон даже попытался внести в договор пункт, по которому лиц, рисующих на него карикатуры, приравнивали бы к убийцам и фальшивомонетчикам и депортировали во Францию для суда. Английские представители на переговорах удивились и пункт отклонили.
Луи-Филипп и Наполеон не реагировали бы так болезненно на юмор, будь это просто игра. Они отлично понимали, что шутка — род критики, способ укорить их за жестокость и чванство, за отступление от гуманности и здравомыслия.
Такого рода назидания особенно действенны именно потому, что преподносятся под видом забавы. Сатирик не обличает пороки власти, проповедуя, он заставляет нас смеяться и тем самым признать справедливость упреков.
Более того (невзирая на тюремные сроки Филипона), внешняя невинность шутки позволяет высказать мысль, которую опасно или невозможно изложить прямо. Придворные шуты могли говорить государям то, чего те не потерпели бы в серьезной форме. Когда английский король Яков I посетовал на худобу одного из своих скакунов, его шут Арчибальд Армстронг, намекая на жадность духовенства, сказал, что достаточно назначить коня епископом, как тот быстро наберет недостающие фунты. В статье “Остроумие и его отношение к бессознательному” (1905) Фрейд писал: “Острота позволяет нам отметить в нашем враге все то смешное, о чем мы не смеем сказать вслух”. Шутливая подача, продолжает Фрейд, обеспечивает критическому высказыванию “успех у слушателя, которого оно никогда не имело бы в неостроумной форме… [вот почему] острота особенно охотно употребляется для критики вышестоящих лиц”.
Впрочем, не всякое вышестоящее лицо вызывает у сатириков желание острить на свой счет. Мы редко смеемся над хирургом, выполняющим сложную операцию. А вот если он, придя домой, начнет сыпать медицинскими словечками в присутствии жены и дочерей, дабы вызвать им восхищение, — тут уж мы посмеемся, потому что это глупо и неуместно. Мы хохочем над королями, которые важничают, весьма себя переоценивая, у которых много власти, но мало достоинств, смеемся над высокостатусными индивидуумами, когда те злоупотребляют своими привилегиями и забывают о человечности. Мы хохочем над разными проявлениями несправедливости и неумеренности и тем самым их критикуем.
Таким образом, у лучших сатириков и юмористов смех становится орудием морали, шутки — средством обратить людей к исправлению себя и своих дурных привычек, остроумие — способом наметить политический идеал, создать более справедливый, более здоровый мир. Как сказал Сэмюэль Джонсон, сатира всего лишь один из эффективных методов “осудить глупость или порок”. Или, словами Джона Драйдена: “Истинная цель сатиры — исправление недостатков”.
История знает множество шуток, имевших целью исправить пороки высокостатусных лиц, указать сильным мира сего, что те слишком много о себе мнят или поступают недолжным образом.
На исходе XVIII столетия у знатных молодых англичанок вошли в моду высоченные парики. Карикатуристы, возмущенные их нелепостью, не преминули откликнуться рисунками, которые в относительно безопасной форме призывали светских дам одуматься — совет, который, как заметил Фрейд, художникам было бы трудно сообщить в прямой форме, поскольку адресаты критики владели немалой частью королевства.
Примерно тогда же высший свет охватила мода на грудное вскармливание; дамы, прежде не слишком тревожившиеся о своих потомках, спешили показать, что не отстают от прогресса. Женщины, зачастую не знавшие, где в их доме детская, спешили обнажить грудь, в том числе между переменами блюд на званых обедах. И вновь карикатуристы призвали их не впадать в крайности.
Во второй половине XIX века среди высших классов Англии распространилось еще одно модное поветрие: шиком считалось говорить по-французски, особенно в ресторанах, чтобы подчеркнуть свою значимость. “Панч” тотчас узрел новый порок, нуждавшийся в исправлении. В одном из номеров за 1985 год можно было прочесть следующее:
Разговор в ресторане на Лестер-сквер:
Джонс. О… э… гарсон, регарде исси… э… аппорте-ву ле… ля…
Официант. Прошу прощения, сэр, я не понимаю по-французски!
Джонс. Тогда, Бога ради, позовите кого-нибудь, кто понимает!
Столетием позже в Соединенных Штатах “глупости и порока” по-прежнему было хоть отбавляй, и манхэттенская элита давала карикатуристам “Нью-Йоркера” обильную пищу для сатиры. В бизнесе многие управляющие внезапно захотели держаться с подчиненными на дружеской ноге. В этом желании не было одного важного компонента — искренности. Новый деловой жаргон лишь камуфлировал жестокую эксплуатацию, мало отличавшуюся от прежнего фабричного ада, придавая ей (в глазах тогдашних управленцев) некое подобие респектабельности. Карикатуристы не поддались на обман.
Бизнесмены по-прежнему придерживались строго утилитарного взгляда на работников, и всякий серьезный разговор о благополучии подчиненных на деле был ересью.
Юмор позволяет не только пристыдить обладателей высокого статуса, но и умерить собственную озабоченность статусом.
Многое из того, что нас смешит, относится к ситуациям и чувствам, которых мы обычно стыдимся. Величайшие сатирики вытаскивают на свет наши потаенные слабости; чем сильнее тревога, тем громче мы хохочем, отдавая дань мастерству, с которым неназываемое выставлено в смешном свете.
Неудивительно, что многие юмористические произведения направлены против чрезмерной заботы о статусе. Из них мы узнаем, что другие люди, так же как и мы, завидуют чужому успеху и дрожат за свое финансовое благополучие и что под маской равнодушия, которого требует от нас общество, все мы немножко психи, и это отличный повод протянуть руку помощи товарищам по несчастью.
Самые добрые из юмористов не глумятся над нашей озабоченностью статусом, а мягко над ней подтрунивают, давая понять, что в целом мы вполне славные люди. Благодаря им мы с искренним весельем принимаем горькие истины о себе, хотя тот же урок, преподнесенный обличительным тоном, вызвал бы лишь негодование или обиду.
Таким образом, сатирики и юмористы прекрасно подходят под данное Мэтью Арнолдом определение искусства как критики жизни. Их мишенью становится и несправедливость власть имущих, и зависть к стоящим на социальной лестнице выше нас. Подобно трагикам, они видят и описывают все самое прискорбное, что в нас есть.
Исподволь, средствами комического, юмор и сатира создают мир, в котором становится чуть меньше объектов для высмеивания.
Политика
Идеальные человеческие типы
Каждое общество чтит людей одного типа, а другого — презирает, потому что они чего-то не умеют, потому что у них неправильный акцент, не тот темперамент, пол или цвет кожи. Однако эти критерии далеко не вечны. Качества и навыки, дающие высокий статус в одном обществе, в другом неважны, а то и вредны.
Если посмотреть на прошлое в историческом разрезе, откроется широкий диапазон качеств, которые в разных обществах в разное время требовались от достойного человека.
Требования к высокому статусу
Спарта, Балканский полуостров, 400 год до н. э.
Наиболее чтимыми членами древнеспартанского общества были мужчины, особенно агрессивные, мускулистые, с мощным (би)сексуальным аппетитом, мало интересующиеся семьей, презирающие торговлю и роскошь, зато любящие убивать на поле брани, прежде всего афинян. Спартанские воины не знали денег и забав, не испытывали нежных чувств к женам и детям. Позором было даже просто появиться на рынке. Умение считать не одобрялось, как свойственное торгашам. С семи лет спартанцы учились военному делу, ели и жили в казарме, отрабатывали боевые маневры. Женившись, не селились вместе с женами, а посещали их раз в месяц, чтобы произвести потомство. Если ребенок рождался слабым, его бросали в ущелье.
Западная Европа, 476—1096 годы
После крушения Западной Римской империи во многих частях Европы наибольшим уважением пользовались люди, строившие свою жизнь согласно учению Христа. Святые, как называла их церковь, не брали в руки оружие, не убивали людей и старались, по возможности, не убивать животных (святой Бернард, как многие другие монахи, был вегетарианцем и даже ходил очень медленно, чтобы не давить муравьев — ведь они тоже Божьи твари). Святые чурались материального богатства. У них не было дворцов и лошадей. Святой Илларион жил в келье четыре на пять футов. Святой Франциск Ассизский говорил, что сочетался браком с госпожой Бедностью, он и его последователи жили в лачугах, обходились без столов и стульев, спали на полу. Святой Антоний Падуанский ел только травы и коренья. Святой Доминик де Гусман отводил глаза, проходя мимо богатых купеческих домов. Святые старались подавлять половое влечение и славились исключительным целомудрием. Святой Казимир отверг девицу, которую родные подложили ему в постель. Святого Фому Аквинского заперли в башне с женщиной, которая пыталась соблазнить его своей красотой и благовониями, но он, хоть и распалился поначалу, отринул ее и принял от Бога узду вечного воздержания.
Западная Европа, ок. 1096–1500 годы
После Первого крестового похода предметом восхищения западноевропейского общества стали рыцари. Рыцари происходили из богатых семейств, жили в замках, спали в постелях, ели мясо и считали необходимым убивать нехристиан (особенно сарацин). Когда они не убивали людей, то истребляли животных. Жан де Грайи, по утверждению современников, добыл на охоте четыре тысячи диких кабанов. Рыцари достигли высот в искусстве любви и ухаживали за дамами при дворе, пуская в ход утонченную поэзию. Особенно они ценили девственниц. Деньги их тоже занимали, но только если то были доходы от земли, а ни в коем случае не от торговли. Кроме того, они любили лошадей. “Рыцарю негоже ездить на осле или на муле, — писал Гутьер Диас де Гамес (1379–1450), автор “Непобедимого рыцаря” (ок. 1431). — Рыцарями не становятся слабые и трусливые; рыцарями становятся лишь отважные, сильные, решительные и бесстрашные, посему ничто так не пристало рыцарю, как добрый конь”.
Англия, 1750–1890 годы
В Англии к 1750 году воинская доблесть уже не входила в перечень достоинств, необходимых уважаемому человеку, — куда важнее было умение танцевать. Больше всего общество восхищалось джентльменами. Они были богаты, ничем особо себя не утруждали, разве что присматривали за тем, как управлялись их поместья, не гнушались предпринимательством и торговлей (особенно с Индией и Вест-Индией), но никогда не смешивались с представителями низшей касты — купцами и фабрикантами. Считалось, что джентльмен должен быть заботливым семьянином и уж конечно не бросать своих детей в ущелье, однако иметь любовниц не возбранялось.
Важно было следить за безупречностью прически и регулярно посещать цирюльника. Лорд Честерфилд в “Письмах к сыну” (1751) писал, что джентльмен в разговоре должен быть сдержанным и не привлекать к себе внимания неуместными анекдотами, начиная их “с глупого предисловия, вроде: ‘Сейчас я расскажу вам замечательную историю’… — Честерфилд также подчеркивал, как важно обучаться танцам, особенно менуэту. — Помни, что изящные движения плеч, уменье подать руку, красиво надеть и снять шляпу — все это для мужчины является элементами танцев”[10]. Что до отношения к женщинам, мужчина должен жениться, памятуя при этом, что “женщины — те же дети, только побольше ростом”. Сидя рядом с дамой за обедом, мужчине следует не молчать, а поддерживать светскую беседу, иначе она сочтет его скучным или высокомерным.
Бразилия, 1600–1960 годы
В племенах кубео, живущих в северо-западной Амазонии, самым высоким статусом обладали мужчины, которые мало говорили (считалось, что с болтовней уходит сила), не танцевали, не принимали участия в воспитании детей, а — первое и главное — умели убивать ягуаров. В то время как низкостатусные мужчины ловили рыбу, высокостатусные охотились. Человек, убивший ягуара, носил на шее ожерелье из его зубов. Чем больше ягуаров убил охотник, тем выше были его шансы стать вождем племени. Вожди носили огромные ожерелья из зубов ягуара и набедренные повязки из панциря броненосца. Уделом женщин было выращивание маниоки, а мужчина, взявшийся помогать жене в приготовлении пищи, навлекал на себя несмываемый позор.
По какому принципу присваивается статус? Почему одно общество ценит воинов, другое — землевладельцев?
На ум приходят по меньшей мере четыре ответа. Высокий статус получают те, кто способен подавлять других физически, добиваться уважения угрозами и силой.
Еще одно основание для высокого статуса — возможность предоставить другим защиту, покровительство или еду. В опасные времена (древняя Спарта, Европа XII века) ценились отважные воины и конные рыцари. Если в рационе людей важное место принадлежит мясу диких животных, как в Амазонии, то почет и набедренные повязки из шкуры броненосца достаются охотникам за леопардами. В странах, где уровень жизни большинства зависит от промышленности и высоких технологий (современная Европа и Северная Америка) принято восхищаться предпринимателями и учеными. Верно и обратное: группа, неспособная ничего дать другим, рано или поздно утратит свой статус — такова участь мускулистых людей в отсутствие внешних врагов или охотников за леопардами в земледельческом обществе.
Группа может завоевать высокий статус качествами, которые вызывают у общества восхищение: праведностью, физической силой, артистическими талантами или умом — как, например, святые в христианской Европе или футболисты в современном мире.
И наконец, группа может взывать к совести и чувству справедливости, столь красноречиво защищая правоту своего дела, что никто, стремящийся сохранить уважение к себе, не останется глух к ее призывам о перераспределении статуса.
Поскольку детерминанты высокого статуса постоянно меняются, естественно, меняются и поводы для тревоги. В одной группе мы озабочены своим умением метко поразить копьем бегущего зверя, в другой — воинской доблестью, в третьей — набожностью, в четвертой — наличием коммерческой жилки.
Для тех, кто сильно обеспокоен или недоволен идеалами своего общества, история статуса, даже самая схематичная, несет важную и обнадеживающую весть: идеалы не заданы раз и навсегда. Представления о статусе менялись в прошлом и наверняка будут меняться в будущем. И то, что производит эти изменения, носит название “политика”.
Различные группы добиваются для себя большего уважения, стараются изменить существующую систему, вступая в политические баталии с теми, кому выгоден старый уклад. Избирательным бюллетенем или ружейным дулом, забастовками или книгами эти группы меняют взгляды общества на тех, кто заслуживает высокого статуса.
Озабоченность статусом и современная политика
Если умение охотиться на ягуаров, танцевать менуэт, скакать на лошади или подражать Христу уже не придает человеку вес с точки зрения окружающих, то что же составляет современный западный идеал: что нужно уметь делать, чтобы получить высокий статус?
Не претендуя на научную строгость, можно набросать хотя бы некоторые черты современного преуспевающего человека, наследника того высокого статуса, которым прежде обладали воин, святой, рыцарь или знатный землевладелец.
Требования к высокому статусу
Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сидней, 2004 год
Категория людей процветающих включает лиц обоего пола, вне зависимости от расы, сумевших получить деньги, славу и власть собственными усилиями (а не по наследству) в одной из бесчисленных областей коммерческой деятельности (включая сюда науку, искусство и спорт). Поскольку общество считается в основном меритократическим, финансовые достижения рассматриваются как заслуженные. Способность наживать богатство ценится потому, что отражает по меньшей мере четыре главных достоинства: способность к творчеству, отвагу, ум и упорство. Прочие достоинства — например, смирение или добродетель — значения практически не имеют. В отличие от прошлого, достижения не приписываются удаче или Божьему промыслу — нынешнее секулярное общество верит, что индивидуум сам управляет своей судьбой. Соответственно, финансовые неудачи считаются заслуженными, а безработных презирают примерно так же, как в более воинственные эпохи презирали трусов. Деньги стали мерилом нравственности. Их наличие указывает на высокие качества обладателя; ту же роль играют разные материальные блага, которые на них можно приобрести. Подобно ожерелью из зубов леопарда в Амазонии, зажиточность говорит о достоинствах человека, а старый автомобиль и ветхое жилье заставляют подозревать в нем моральный изъян. Деньги дают не только высокий статус, но и счастье через приобретение постоянно меняющихся товаров — думая о людях прошлого, лишенных этого изобилия, мы можем их только пожалеть.
Каким бы естественным ни представлялся этот идеал, он — как мы увидим, если рассмотрим вопрос в политической ракурсе, — создан людьми, причем относительно недавно, в середине XVIII века, под воздействием определенных факторов. Более того, если посмотреть на дело политически, видно, что идеал этот порой страдает излишним упрощением, временами несправедлив и не так уж неизменен.
Ни один аспект современного идеала не рассматривался так пристально, как вера в связь богатства и добродетели или — бедности и порока. В “Теории праздного класса” (1899) Торстейн Веблен показал, как в начале XIX столетия деньги стали главным признаком, по которому коммерциализованное общество оценивает своих членов:
Основа, на которой в конечном счете покоится хорошая репутация в любом высокоорганизованном обществе, — это денежная сила. И средствами демонстрации денежной силы, а тем самым и средствами приобретения или сохранения доброго имени являются праздность и демонстративное материальное потребление… В результате в качестве идеала благопристойности представители каждого слоя общества принимают образ жизни, вошедший в моду в следующем соседнем, вышестоящем слое, и устремляют свои усилия на то, чтобы не отстать от этого идеала. Боясь в случае неудачи поплатиться своим добрым именем, а также потерять уважение к себе, они вынуждены подчиняться общепринятому закону благопристойности, по крайней мере внешне.
Развивая мысль Веблена, можно сказать, что в коммерциализованном обществе образ порядочного человека практически несовместим с образом бедняка. Даже тот, кто чужд материальным устремлениям, считает себя обязанным накапливать и демонстрировать богатство, дабы избежать порицания, и стыдится бедности в случае неуспеха.
Таким образом, обладание большим количеством материальных благ необходимо современному человеку, не потому что они приносят удовольствие (хотя поэтому тоже), а ради репутации. В древности философы спорили о том, что из материальных предметов необходимо для счастья, а что — нет. Эпикур утверждал, что простая пища и кров необходимы, а вот без дворцов и пышных яств разумный, философски мыслящий человек вполне может обойтись. Много веков спустя Адам Смит, возвращаясь к этому спору в “Исследовании о природе и причинах богатства народов”, с иронией заметил, что в современном материалистическом мире есть множество вещей, без которых можно прожить, но которые практически стали предметами необходимости, поскольку без них человек теряет уважение окружающих, а следовательно, и душевный комфорт:
Греки и римляне, надо думать, жили с большим удобством, хотя и не имели полотна; но в наше время в большей части Европы уважающий себя поденщик постыдится показаться на людях без полотняной рубашки, отсутствие которой будет сочтено свидетельством той унизительной степени бедности, в которую, как предполагается, никто не может впасть иначе как в результате чрезвычайно плохого поведения. Обычай точно так же сделал кожаную обувь предметом жизненной необходимости в Англии. Самое бедное уважаемое лицо того или другого пола постыдится появиться на людях без нее. В Шотландии обычай сделал кожаную обувь предметом необходимости для мужчин самого низшего класса, но не для женщин того же класса, которые могут, не вызывая осуждения, ходить босиком. Во Франции она не составляет предмета необходимости ни для мужчин, ни для женщин; мужчины и женщины низшего класса ходят там на людях, не вызывая осуждения, иногда в деревянной обуви, иногда босиком. Поэтому под предметами необходимости я понимаю не только те предметы, которые природа сделала необходимыми для низшего класса населения, но и те предметы, которые сделали необходимыми установившиеся правила приличия[11].
С тех пор экономисты почти единодушно сошлись во мнении, что бедность тяжела (и унизительна) не столько из-за прямых лишений, сколько из-за стыда, вызванного негативной реакцией окружающих, которые воспринимают ее как отход (пользуясь словами Адама Смита) от “установившихся правил приличия”. В “Обществе изобилия” (1958) Дж. К. Гэлбрейт[12] высказал (с поклоном в сторону Смита) следующую мысль:
Люди бедны, если их доход, пусть и достаточный для выживания, заметно ниже, чем у окружающих. Тогда они не могут позволить себе то, что считается необходимым всякому порядочному человеку, и потому в глазах большинства выглядят непорядочными.
Вот это-то представление, связывающее порядочность с богатством, а непорядочность с бедностью, и дает почву для основной претензии к современному статусному идеалу. Почему неумение зарабатывать рассматривается как признак неисправимого человеческого изъяна, а не просто как неуспех в одной конкретной области куда более обширного и многогранного проекта: прожить достойную жизнь? Почему богатство и бедность должны быть главным мерилом нравственности?
Большой загадки туг нет. Для того чтобы зарабатывать, как правило, нужны определенные положительные качества. Почти любая работа требует ума, энергии, умения думать наперед и взаимодействовать с людьми. Более того, чем прибыльнее работа, тем обычно выше требования, которые она предъявляет к человеку. Хирурги и адвокаты не только получают больше дворников; они, по большей части, еще и квалифицированнее и собраннее.
Поденщику стыдно показаться на людях без рубашки, поскольку (возвращаясь к цитированному абзацу) отсутствие рубашки означает ту степень бедности, в которую, по мнению современников Смита, никто не может впасть иначе как в результате чрезвычайно плохого поведения. Только беспробудный пьяница, ненадежный, вороватый человек или вечный смутьян не устроятся на такую работу, которая позволит купить рубашку, — а значит, наличие рубашки служит минимальной гарантией положительности данной личности.
Отсюда не так далеко до вывода, что целый шкаф рубашек, яхты, виллы и драгоценности свидетельствуют о чрезвычайно хорошем поведении и множестве добродетелей. Понятие статусной вещи, дорогого предмета, дающего своему обладателю престиж, зиждется на довольно распространенной и не столь уж нелепой идее, что самое дорогое по карману лишь самым достойным.
Впрочем, противники экономической меритократии давно утверждают, что истинные человеческие достоинства куда более сложны и не могут быть выражены суммой годового дохода — точно так же как некоторые люди, работающие в сфере образования, не верят, что интеллект группы студентов можно измерить, подсчитав сумму баллов в тесте.
Эти критики вовсе не утверждают, что ум и достоинства распределены равномерно или же что их невозможно измерить в принципе. Они лишь говорят, что вы и я не знаем, как эти качества измерять правильно, и потому должны быть крайне осторожны в действиях, построенных на такого рода оценках, например, в экономической сфере, когда мы требуем отменить налоги для богатых (которые, по утверждениям наиболее ярых сторонников экономической меритократии, заслуживают того, чтобы оставлять себе весь доход) или прекратить государственную поддержку бедных (дабы они, как сказали бы те же идеологи, в полной мере ощутили заслуженные лишения).
Подобный скепсис нелегко согласовать с требованиями повседневной жизни. Вполне понятно желание получить такую систему, образовательную ли, экономическую ли, которая позволит выбрать из студенческой группы, общества и т. п. достойнейших и со спокойной совестью отвернуться от неудачников.
Однако настойчивое желание еще не гарантия разумного решения. В “Руководстве для умной женщины по вопросам социализма и капитализма” (1928) Бернард Шоу утверждал, что современное капиталистическое общество пало жертвой исключительно глупой системы установления иерархии: согласилось руководствоваться верой в то, что, “если каждому позволить зарабатывать, как ему вздумается, ограничив законодательно лишь грубое насилие и прямое мошенничество, богатство само собой распределится пропорционально предприимчивости, трезвости и вообще достоинствам граждан; хорошие люди станут богатыми, а дурные — бедными”.
Однако на самом деле, писал Бернард Шоу, ясно, что бессовестный человек “отхватит себе три-четыре миллиона, продавая плохое виски, или спекулируя зерном, или выпуская дурацкие газеты и журналы с лживыми объявлениями”, в то время как люди, “проявляющие самоотверженность или рискующие жизнью ради знаний и блага человечества”, могут окончить дни в бедности и забвении.
Шоу вовсе не солидаризируется с теми, кто утверждает, будто при нынешнем устройстве общества хорошие люди всегда бедны, что было бы точно таким же упрощением. Он лишь призывает не судить о нравственных качествах по доходу и смягчать по возможности многочисленные негативные последствия имущественного неравенства.
В “Последнему, что и первому” (1862) Джон Рёскин, не менее рьяно критиковавший идею меритократии, иронически описывает выводы, к которым пришел, наблюдая сотни богачей и бедняков в разных странах на протяжении четырех десятилетий:
Те, кто сумел разбогатеть, как правило, предприимчивы, решительны, горды, алчны, расторопны, методичны, рассудительны, лишены воображения, бесчувственны и невежественны. Те, кто пребывает в бедности, до крайности глупы, исключительно умны, ленивы, опрометчивы, смиренны, несообразительны, чутки, начитаны, обладают богатым воображением, недальновидны, подвержены дурным порывам, подлы, вороваты и просто святые люди.
Другими словами, как бедные, так и богатые принадлежат к огромному спектру человеческих типов, а значит — следуя мысли, которую впервые высказал Христос, а позже секулярным языком повторили мыслители XIX–XX веков, — не нам судить об окружающих по их доходу. Множество внешних событий и внутренних качеств Становятся причиной того, что один богатеет, другой нищает. Есть удача и обстоятельства, болезнь и страх, подходящее и неподходящее время.
За три века до Шоу и Рёскина Мишель де Монтень в сходном духе подчеркивал роль побочных факторов в жизненном успехе:
Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, не делая никакого различия [13].
Бесстрастный подсчет достижений и провалов должен оставлять чувство, что не следует слишком уж гордиться собой и вместе с тем — слишком уж себя корить: далеко не всё определяется нашим поведением. Монтень советует умерять восторг при встрече с богатыми и влиятельными, воздерживаться от осуждения при виде бедных и незаметных:
Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом… Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и знания и предстанет перед вами в одной рубашке… Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю?.. Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях.
Критика идеала экономической меритократии заключает в себе призыв: не приписывать моральных коннотаций деньгам, в распределении которых так велика роль случая, не принимать за догму общепринятое мнение о связи богатства и человеческих достоинств — другими словами, убирать ходули, прежде чем судить о росте.
Помимо предполагаемой связи между достатком и достоинствами, современный идеал успеха постулирует и другую связь: между деньгами и счастьем.
Эта идея базируется на трех допущениях. Первое: не так уж трудно определить, что делает нас счастливыми. Как тело обычно знает, что ему нужно для здоровья, и просит копченой рыбы при нехватке натрия и персиков — при низком уровне сахара в крови, так и разум (утверждает эта теория), понимая, что нам во благо, естественно направляет нас к определенным действиям. Второе: огромное многообразие занятий и потребительских товаров, доступное в современном обществе, — не просто ярмарка, призванная возбудить в нас желания, а нечто и впрямь способное удовлетворить самые насущные потребности. И третье: чем больше у нас денег, чем больше продуктов и услуг мы можем приобрести, тем больше у нас шансов достичь счастья.
Едва ли не самую меткую критику этой группы допущений (и по глубине, и по литературному слогу) мы находим в “Рассуждении о происхождении неравенства между людьми” Жан-Жака Руссо. Первым делом он утверждает, что, какими бы независимо мыслящими мы себя ни считали, мы плохо понимаем собственные потребности, что небезопасно. Душа редко может выразить, что именно ей нужно для удовлетворения, а если и бормочет нечто, ее запросы часто не обоснованы и противоречивы. Руссо предлагает сравнивать ее не со здоровым телом, которое просит полезной пищи, а с нездоровым, которое хочет вина, хотя на самом деле нуждается в воде, и рвется танцевать ночь напролет, хотя на самом деле ему надо лежать в постели. Рассудок внемлет чужим голосам, внушающим нам, чего следует хотеть, и эти голоса заглушают слабые звуки, издаваемые душой, отвлекают от трудного, вдумчивого груда по расстановке приоритетов.
Дальше Руссо кратко обрисовывает историю человечества не как движение по пути прогресса — от дикости к европейским городам и мануфактурам, но как регресс от блаженного состояния, в котором мы жили, просто, но имели возможность оценить потребности своей души, к нынешней развращенности, заставляющей нас стремиться к образу жизни, чуждому нашей натуре. В технологически отсталую доисторическую эпоху (естественное состояние по Руссо) люди жили в лесу, никогда не видели магазинов, зато, как считает философ, куда лучше понимали себя. Их влекли вещи куда более существенные: любовь к семье, уважение к природе, преклонение перед красотой вселенной, любопытство к окружающим, вкус к музыке и простым забавам. Из этого-то состояния и вырвала нас современная цивилизация, вынудив терзаться завистью и неудовлетворенными желаниями в мире изобилия.
Для тех, кто готов счесть это нелепым романтизмом, рожденным фантазией пасторального автора, излишне досадующего на современность, стоит добавить, что XVIII век прислушался к доводам Руссо, потому что имел перед глазами убедительный пример: судьбу коренного населения Северной Америки.
Рассказы об американских индейцах, составленные в XVI веке, описывали их общество как материально примитивное, однако нравственно здоровое: маленькие сплоченные общины, где люди равны, набожны, веселы и воинственны. Индейцы безусловно были отсталыми в финансовом смысле. Они питались плодами и мясом диких животных, спали в вигвамах, из года в год носили одну и ту же одежду из шкур, одни и те же кожаные мокасины. Даже у вождя нередко бывало всего одно копье и несколько горшков. Однако, по рассказам, индейцы были вполне довольны этой простой жизнью.
Впрочем, контакт с европейской технологией за несколько десятилетий революционизировал статусную систему индейцев. Теперь ценились не мудрость и понимание природы, а владение оружием, украшениями и огненной водой. Индейцы мечтали о серебряных серьгах, медных и бронзовых браслетах, оловянных кольцах, бусах венецианского стекла, ружьях, алкоголе, пешнях, котелках, мотыгах и зеркалах.
Жажда эта возникла неслучайно. Европейские торговцы нарочно разжигали ее в индейцах, чтобы побудить их к добыче пушнины, столь ценимой на европейском рынке. В 90-х годах XVII века английский натуралист преподобный Джон Банистер сообщал, что индейцы Гудзонского залива под влиянием торговцев теперь стремятся “ко многим вещам, которых прежде не хотели, поскольку никогда не видели, а теперь считают насущными и необходимыми”. Двумя десятилетиями позже путешественник Роберт Беверли писал: “Европейцы познакомили индейцев с роскошью, которая умножила их потребности и заставила мечтать о тысяче вещей, доселе им совершенно неведомых”.
Увы, тысяча столь вожделенных вещей не сделала индейцев счастливее. Безусловно, работать им теперь приходилось больше. По оценкам специалистов, между 1739 и 1759 годами две тысячи воинов племени чероки убили на потребу европейцам 1,25 миллиона оленей. За тот же период индейцы монтанье на северном берегу реки Святого Лаврентия продали британским и французским торговцам в Тадуссаке от двенадцати до пятнадцати тысяч шкурок пушных зверей. Но счастье не росло вместе с объемом торговли. Увеличилось количество самоубийств, угрожающих масштабов достигло пьянство, племена дробились на группы, воевавшие за право торговать с европейцами. Индейские вожди, не читая Руссо, единодушно пришли к тому же выводу, что и он. Раздавались призывы отказаться от европейской роскоши, В 60-е годы XVIII века делавары Западной Пенсильвании и долины Огайо сделали попытку вернуться к обычаям предков. Прорицатели утверждали, что индейские племена исчезнут с лица земли, если не откажутся от торговли. Однако поздно было поворачивать вспять. Индейцы психологически мало отличались от остального человечества: они поддались на пошлые соблазны современной цивилизации, перестали вслушиваться в тихие голоса, говорящие о немудреных радостях племенной жизни, и красу пустынных каньонов на закате.
У защитников коммерческого общества есть ответ тем, кто жалеет коренных обитателей Северной Америки и вообще сетует на разлагающее действие развитой экономики: никто не принуждал индейцев покупать бусы венецианского стекла, пешни, ружья, котелки, мотыги и зеркала. Никто не мешал им жить в вигвамах, не навязывал деревянные дома с крылечками и винными погребами. Индейцы отказались от простой и трезвой жизни по собственной воле — а значит, возможно, эта жизнь была не так хороша, как ее хотят представить.
Довод этот сродни тому, что приводят в свою защиту рекламные агенты и газетные издатели: не мы, мол, разжигаем нездоровый интерес к жизни звезд, моде или новым товарам, просто некоторые СМИ публикуют такого рода информацию для тех, кто хочет ее получить. Остальные, надо думать, сами по себе предпочтут помогать бедным, думать о своей душе, читать “Историю упадка и разрушения Римской империи” Эдварда Гиббона или размышлять о скоротечности жизни.
Из этого довода видно, почему Руссо раз за разом упорно подчеркивает: людям трудно определить свои истинные нужды, поэтому они так прислушиваются к чужим советам о том, куда направить мысли и что ценить для достижения счастья, — особенно если эти советы подкреплены авторитетом печатного слова или визуальной привлекательностью рекламного щита.
Забавно, что рекламные агенты и газетные издатели, как правило, приуменьшают действенность своего ремесла. Они утверждают, что публика мыслит достаточно независимо, поэтому не слишком поддается на те истории, которые ей скармливают, и не особенно подпадает под чары рекламных щитов, которые они так старательно изобретают.
Увы, они себя недооценивают. Масштаб их неискренности обличает скорость, с которой недавние излишества, при должной рекламной поддержке, переходят в разряд предметов первой необходимости.
| ДОЛЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНЦЕВ, НАЗЫВАЮЩИХ НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕОБХОДИМЫМИ | ||
|---|---|---|
| товар | 1970 | 2000 |
| Второй автомобиль | 20% | 59% |
| Второй телевизор | 3% | 45 % |
| Более чем один телефон | 2% | 78% |
| Кондиционер в машине | 11% | 65% |
| Кондиционер в доме | 22% | 70% |
| Посудомоечная машина | 8% | 44 % |
Критики потребительского общества обращают внимание не только на убожество товаров (здесь легко переборщить, поскольку лишь законченный брюзга не оценит, например, мягкость кашемирового свитера или красоту приборной доски автомобиля во время ночной поездки по автобану), но и (более справедливо) на искаженную картину наших потребностей, формируемую рекламой. Мы воспринимаем эти товары как существенные, наделенные чудесной силой дарить счастье, потому что не понимаем ни их истинных функций, ни устройства собственной души.
Например, реклама автомобиля тщательно обходит стороной те аспекты нашей психологии, которые могут отравить или хотя бы уменьшить радость от покупки рекламируемой машины. Она не упоминает, что мы довольно скоро перестаем ценить вещи, которыми пользуемся. Самый быстрый способ перестать обращать внимание на какой-либо предмет — купить его, так же как самый быстрый способ утратить жгучий интерес к человеку — вступить с ним в брак. Нас убеждают, что некие достижения или приобретения гарантируют нескончаемую радость. Мы воображаем, будто взбираемся по крутому уступу на широкое плато счастья, которого хватит на всю жизнь; никто не напоминает, что, достигнув вершины, мы быстро скатимся к новым тревогам и желаниям.
Жизнь можно представить как череду переходов от одних тревог к другим и замену старых желаний новыми. Это не значит, что нам не следует стремиться к устранению тревог или удовлетворению желаний, просто нелишне помнить: того уровня спокойствия и довольства, который мы стремимся достичь, они по определению дать не могут.
Автомобиль, как и все приобретенные ранее чудеса техники, вскоре станет обычным материальным фоном нашей жизни, который мы просто не замечаем, — пока однажды ночью грабитель не окажет нам парадоксальную услугу, разбив стекло и украв радиолу; вот тогда-то, глядя на осколки, мы вспомним, какая это была хорошая вещь.
Реклама молчит и о том, как мало материальные приобретения значат по сравнению с душевными переживаниями. Самый элегантный, самый современный автомобиль не даст и доли тех чувств, которые дарит любовь, и не уменьшит горечь семейной ссоры или разрыва. В такие минуты мы даже порой досадуем на бездушную эффективность машины, мерное тиканье индикаторов и методичные расчеты бортового компьютера.
Точно так же мы переоцениваем привлекательность некоторых видов деятельности, потому что нам рассказывают о них лишь то, чем нельзя не восхищаться, опуская неприятные подробности. Мы знаем о результатах, не о процессе.
Если уж мы не можем не завидовать, то особенно жаль, что мы всю жизнь завидуем не тому, чему стоит.
Главный упрек современной идеологии высокого статуса состоит в том, что она чудовищно искажает приоритеты, ставя на первое место процесс материального накопления, который при более глубоком, более истинном подходе должен быть лишь одним из множества человеческих устремлений.
Досадуя на этот сдвиг приоритетов, Джон Рёскин, обличал современных ему британцев (он никогда не был в Соединенных Штатах), утверждая, что за всю историю человечества не существовало людей, столь одержимых богатством. Мысли их вертятся вокруг того, кто что получил и каким образом. (“Верховную богиню вернее всего назвать богиней успеха”). Они стыдятся бедности и завидуют чужому богатству.
Однако Рёскин сделал неожиданное признание: он тоже всей душой стремится к богатству. Мысли о богатстве занимают его с утра до вечера. Впрочем, он лишь иронически играл с двойным смыслом слова “богатство”, чтобы яснее показать, как далеко его соотечественники отклонились от правильного пути. Ибо словари сообщают, что богатство подразумевает не только, а исторически и не столько, деньги. Это слово означает обилие чего угодно, от бабочек до книг и улыбок. Рёскин хотел богатства, даже вожделел к нему. Однако он имел в виду богатство особого рода: он хотел богатеть добротой, любознательностью, чуткостью, смирением, праведностью и умом — качествами, которые называл жизнью. Согласно этому взгляду богатейшими людьми страны должны считаться не банкиры и землевладельцы, а те, кто сильнее других дивится звездному небу или лучше понимает и облегчает страдания ближних. Рёскин писал:
Нет иного богатства, кроме жизни — жизни, включающей всю мощь любви, радости и восхищения. Богаче всех те страны, которые взрастили больше всех благородных и счастливых людей; самый богатый тот, кто, устроив собственную жизнь наиболее правильным образом, еще и более прочих помогает другим, как лично, так и своим достатком… Многие из тех, кто почитается богачами, в действительности не богаче замков на своих сундуках; они начисто лишены способности быть богатыми.
Рёскин изрекал простые, детские истины пророков, и, когда над ним не потешались (“Санди ревю” называло философа безумной гувернанткой, а его тезисы — истерикой, абсолютной чепухой и отвратительным пустословием), к нему прислушивались. В 1906 году первые двадцать семь депутатов от лейбористской партии стали членами парламента. На вопрос, какая книга сильнее всего повлияла на их решение добиваться справедливости политическими методами, семнадцать из двадцати семи ответили: “Последнему, что и первому” Рёскина. Тринадцатью годами позже, в лекции, посвященной столетию со дня рождения Рёскина, Бернард Шоу сказал, что инвективы Ленина и филиппики Маркса в сравнении с работами Рёскина — трюизмы сельского священника (хотя сам Рёскин, дразня любителей клеить ярлыки, называл себя “ярым тори старой школы: вальтер-скоттовской, иными словами — гомеровской”). “Я видел немало убежденных революционеров, — продолжал Шоу, — и многие из них на мой вопрос: ‘Кто привел вас к революционным взглядам? Маркс?’ отвечали: ‘Нет, Рёскин’. Последователи Рёскина, возможно, самые непримиримые критики современного общественного порядка. Послание Рёскина культурным людям его эпохи, классу, к которому он сам принадлежал, начинается и кончается простой фразой: ‘Вы — шайка воров’”.
Рёскин не был одинок в этом своем мнении. Многие его современники пытались, гневно или со скорбью, донести до соотечественников критику общественного устройства, при котором деньги из одной, быть может, не самой главной части полноценной жизни, превратились в основной критерий уважения, главный знак человеческой ценности. “Люди всегда склонны рассматривать деньги как желанную и самодостаточную цель, а в современной Англии — особенно, — сетовал Мэтью Арнолд в ‘Культуре и анархии’ (1869). — Никогда и ни во что люди не верили так твердо, как верят сейчас девять англичан из десяти, что наше величие и благополучие доказывается богатством”. Как и Рёскин семью годами раньше, Арнолд призывал граждан самой промышленно развитой страны в мире думать о богатстве как об одном из многих способов достигнуть счастья, которое определял (вызывая очередной приступ веселья у критиков из “Дейли телеграф”) как “внутреннюю духовную деятельность, умножающую сладость и свет, жизнь и сочувствие”.
Томас Карлейль соглашался с ним, хотя и в более гневном тоне:
Эта успешная английская промышленность, это чрезмерное изобилие… кого из нас оно обогатило?.. Мы окружены роскошью, однако разучились в ней жить. Многие едят более изысканные блюда, пьют более дорогие вина, но в чем их выигрыш? Разве они стали лучше, красивее, сильнее, отважнее? Могут ли они хотя бы назвать себя более счастливыми? Больше ли вещей и человеческих лиц на Божьей земле радуют их взор, больше ли вещей и человеческих лиц взирают на них с радостью?.. Отнюдь нет. Мы начисто позабыли, что передача денег из рук в руки — не единственный вид отношений между людьми.
Карлейль не был слеп к благотворным сторонам экономического прогресса, даже восхищался новыми методами бухгалтерского учета (“двойная запись превосходна — она позволяет точно отражать множество разных операций”). Однако, подобно Рёскину, Арнолду и многим критикам общества до и после себя, он не признавал того образа жизни, в котором служение Маммоне стало заменой стремлению к благу и радости на Божьей земле.
Политические перемены
Как бы ни смущала и ни раздражала нас общественная иерархия, мы склонны принимать ее, обреченно думая, что она слишком укоренилась, что общество и взгляды, на которых она основана, практически неизменны, что они попросту естественны.
На протяжении истории немало типических идей возводилось в ранг естественных.
“Естественные” идеи, 1857–1911 годы
Непреложный факт, что мужчине изначально дано повелевать женщиной: это вечное установление, которое мы не в силах и не вправе изменить.
Граф Перси (1873)
Между европейским мужчиной и европейской женщиной больше различий, душевных и физиологических, чем между европейским мужчиной и негром из какого-нибудь дикого центрально-африканского племени.
Лорд Кромер (1911)
Большинство женщин (на свое счастье) практически не испытывает полового влечения.
Сэр Уильям Эктон (1857)
Африканцы как раса ниже белого человека, и для них естественно подчиняться белым. Посему наша система, рассматривающая африканцев как низших, основана на фундаментальном законе природы.
Александр Стивенс (1861)
Скорее всего, политическое сознание рождается вместе с открытием, что взгляды, принимаемые большинством влиятельных членов общества за априорные истины, на самом деле не безусловны и могут быть оспорены. Пусть эти взгляды кажутся такой же частью бытия, как небо или деревья, — политика помогает увидеть, что их формируют конкретные люди, защищающие свои конкретные интересы, практические и психологические.
Если это не всегда укладывается в голове, то лишь потому, что господствующие воззрения исподволь внушают нам мысль, будто изменить их не легче, чем земную орбиту. Они якобы просто констатируют очевидное. И тут полезно вспомнить данное Марксом определение идеологии: идеологическим утверждением зовется такое, где под видом объективного преподносится тенденциозное.
По Марксу, за распространение идеологии в значительной степени ответственен правящий класс; вот почему в обществах, где у власти стоит земельная аристократия, идея благородства неразрывно связана с помещичьей собственностью (даже с точки зрения тех, кому эта система невыгодна), а при плутократии — мерилом успеха становятся коммерческие достижения. Говоря словами Маркса: “Идеология, господствующая в обществе, есть идеология господствующего в нем класса”.
Однако эти взгляды не были бы так прочны, если бы воспринимались как навязанные силой. Суть идеологического утверждения в том, что без развитого политического чутья его невозможно распознать. Идеология выпускается в общество, как газ, лишенный цвета и запаха. Она пронизывает газеты, рекламу, телевизионные программы и учебники, маскируя однобокое, нелогичное и часто несправедливое мировоззрение под вечные истины, с которыми станет спорить лишь дурак или сумасшедший.
Однако нарождающийся политический разум отбрасывает условности и традицию и, не смущаясь того, что идет против общепринятого, с наивностью ребенка и упорством адвоката в суде спрашивает: “А должно ли так быть?”
Так, унижение можно считать проявлением того, что природой нам предопределено страдать вечно, но — переосмыслив его политически — можно объяснить его действием определенных общественных сил, которые, возможно, удастся изменить. Тогда стыд и самобичевание преобразуются в готовность добиваться более справедливого распределения статуса.
Бернард Шоу, “Руководство для умной женщины по вопросам социализма и капитализма” (1928):
Выбрось из головы мысль, с которой мы все начинаем в детстве, будто существующие институции естественны, как погода. Это не так. Поскольку они таковы в нашем мирке, мы принимаем за аксиому, будто они были всегда и будут вечно. Это опасное заблуждение. На самом деле все они временны. Перемены, казавшиеся невозможными, происходят при жизни нескольких поколений. Для современных детей девятилетнее обучение, пенсии по старости или вследствие утери кормильца, право голоса для женщин и дамы в коротких юбках на скамьях парламента — часть вечного и неизменного порядка вещей, но их бабушки, скажи им кто, что такое вскоре случится, объявили бы говорящего сумасшедшим, а всех, кто желает таких перемен, — дурными людьми.
Изменение статуса женщины в западном обществе на протяжении XX века — вероятно, самый яркий пример успеха такого рода, а то, что многие представительницы женского пола ощутили себя вправе требовать иного положения вещей, позволяет лучше понять, как именно рождается политическое сознание.
Вирджиния Вулф начала эссе “Своя комната” с того, как однажды осенью посетила Кембриджский университет и зашла в библиотеку Тринити-колледжа: ей надо было свериться с рукописями “Люсидаса” Мильтона и “Истории Генри Эсмонда” Теккерея. Впрочем, не успела она переступить порог, как появился “расстроенный, седовласый, добрый джентльмен” и “тихим голосом выразил сожаление, что дамы допускаются в библиотеку лишь в сопровождении члена колледжа, либо по предъявлении рекомендательного письма”. Таким образом Вирджиния Вулф столкнулась с одним из главных положений, на котором зиждется дискриминация женщин: отсутствием равных с мужчинами прав на высшее образование.
Многие женщины на месте Вирджинии Вулф оскорбились бы, но мало кто ответил бы на обиду политически. Куда естественней было счесть, что всему виною они сами, или Бог, или природа. В конце концов, у женщин никогда не было равных с мужчинами прав на образование. Разве самые влиятельные английские врачи и политики не говорят, что мозг у женщин менее развит по причине меньших размеров черепа? Так какое право имеет одна-единственная женщина усомниться в мотивах джентльмена, выставившего ее из библиотеки, особенно если тот был вежлив и сопроводил отказ извинениями?
Однако Вулф не поддалась на такие доводы. Она выполнила главный политический маневр — вместо того чтобы спросить себя: “В чем мой недостаток, если меня не пускают в библиотеку?”, она задала совсем другой вопрос: “В чем недостаток библиотечных служителей, если они меня не впускают?” Если установления естественны, то в страданиях либо никто не виноват, либо виновата страдающая сторона. Но политический подход позволяет предположить, что беда в идеях, а не в наших особенностях. Вместо того чтобы гадать, что в нас неправильно (пол, цвет кожи, отсутствие денег), этот подход призывает задать вопрос: “Что неправильно, несправедливо или нелогично в обществе, которое нас отвергает?”, — не вследствие уверенности в собственной непогрешимости (такова позиция тех, для кого политический радикализм — средство избежать самокритики), но вследствие понимания, что институции и законы безумнее и пристрастнее, нежели принято считать.
По пути в кембриджскую гостиницу Вулф мысленно перешла от своей личной обиды к размышлениям о положении женщин вообще: “Я думала о том, как влияют на разум богатство и бедность, думала о достатке и уверенности одного пола, скудости и незащищенности другого”. Вулф усомнилась в том идеале, к которому была приучена с детства: женщина всегда “исключительно мила и крайне самоотверженна. Она в совершенстве овладевает трудным искусством семейной жизни. Она каждодневно жертвует собой. Если на обед курица, она берет кусок, на который никто не претендует. Если в комнате дует, она садится на сквозняке — короче, она так устроена, что у нее нет своих мыслей и желаний, она живет мыслями и желаниями других”.
По возвращении в Лондон возникли новые вопросы: “Почему мужчины пьют вино, а женщины — воду? Почему один пол процветает, а другой — бедствует?” Чтобы разделить личное и случайное, Вулф отправилась в Британскую публичную библиотеку (куда женщин допускали уже два десятилетия) и принялась изучать отношение мужчин к женщинам в прошедшие века. Она обнаружила череду диких предрассудков и поверхностных мнений, высказанных священниками, философами и учеными. Господь сотворил женщин низшими существами, они по самой своей природе неспособны править или вести дела, слишком слабы, чтобы работать врачами, а во время месячных не могут сладить с техникой или сохранять беспристрастность во время судебных слушаний. И за всеми этими обвинениями Вулф увидела главную причину: деньги. Женщины менее свободны, в том числе и духовно, потому что не располагают собственным доходом. “Женщины были нищими не только два последних столетия, а от начала времен. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов”.
Эссе Вулф заканчивается конкретным политическим требованием: женщине нужно не только уважение, но и равный доступ к образованию, доход в пятьсот фунтов годовых и своя комната.
Идеологическая составляющая современного статусного идеала, возможно, не так громогласна, как суждения XIX века о расе и гендере. На лице у нее улыбка, и она кроется во всех тех невинных пустяках, которые мы читаем и слушаем. Однако во всех этих пустяках протаскивается весьма предвзятое представление о том, какой должна быть правильная жизнь, — представление, в которое полезно вглядеться попристальнее.
Вездесущие призывы текстов и картинок действуют на нас куда сильнее, чем кажется. Мы недооцениваем мощь воскресной газеты, когда полагаем, будто после ее прочтения наши приоритеты и желания останутся такими же, как если бы мы провели это время над “Культурой Италии в эпоху Возрождения” Якоба Буркхардта или “Посланием к галатам” апостола Павла (ритуал чтения воскресной газеты, по словам Макса Вебера, заменил посещение церкви).
Главная цель политического подхода— понять идеологию, достичь точки, где анализ срывает с нее покров естественности, перейти от горечи и растерянности к ясному, историческому осознанию ее причин и следствий.
При таком анализе современный статусный идеал уже не кажется природным или богоданным. Он сложился вследствие перемен в промышленности и государственном устройстве, которые начались в Британии во второй половине XVIII века и постепенно захватили Европу и Северную Америку. Стремление к материализму, предпринимательству и меритократии (идеология, господствующая в обществе, есть идеология господствующего в нем класса) отражает интересы тех, кто руководит системой, в рамках которой большинство граждан зарабатывает себе на жизнь.
Оттого что мы это поймем, наши тревоги, связанные со статусом, не развеются, как по волшебству. Осознание так же соотносится с политическими проблемами, как метеорологический спутник — с погодными катаклизмами. Оно не всегда может их предотвратить, но, по крайней мере, формирует такое отношение, при котором резко уменьшается чувство униженности, бессилия и замешательства. Если же ставить перед собой более смелые задачи, то осознание может стать первым шагом к действию, к попытке изменить, сдвинуть общественный идеал, приблизиться к миру, где будет чуть меньше преклонения перед стоящими на ходулях.
Христианство
Смерть
Герой повести Льва Толстого “Смерть Ивана Ильича” давным-давно разлюбил жену, не понимает своих детей, а дружеские отношения устанавливает исключительно с теми, с кем лестно или полезно знаться. Иван Ильич в высшей степени озабочен своим статусом. Он живет в Санкт-Петербурге в роскошной квартире, обставленной как принято, и часто дает приемы, на которых не звучит ни одного искреннего человеческого слова. Он — член судебной палаты, и в этой должности ему больше всего нравится связанный с ней почет. Иногда, перед сном, Иван Ильич читает книгу, про которую много говорят, и узнает из журналов, какие строки оттуда следует цитировать. Толстой суммирует его жизнь так:
Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт.
И вот в сорок пять лет у него начинаются боли в боку, которые постепенно распространяются на все тело. Доктора не могут найти причину болезни. Они важно и неопределенно рассуждают о блуждающей почке и слепой кишке, прописывают все более дорогие и бесполезные лекарства. Иван Ильич не может работать, внутренности как будто горят огнем, у него пропадает аппетит и, что существеннее, интерес к винту. Постепенно до него и до окружающих доходит, что он скоро умрет.
Это не особенно огорчает коллег Ивана Ильича, которые уже думают о вакансии, которая скоро откроется, и грядущих перемещениях по служебной лестнице. Родные тревожатся чуть больше: жена озабочена размерами будущей пенсии, дочь, светская красавица, боится, что из-за похорон отца придется отложить свадьбу.
Сам Иван Ильич в последние недели жизни осознает, что понапрасну растратил отпущенные ему годы, что вел внешне респектабельное, но внутренне пустое существование. Он вспоминает детство, учебу, карьеру и видит, что все его поступки определялись желанием выглядеть значительно в глазах окружающих; собственные мысли и чувства приносились в жертву мнению людей, которым, как теперь стало ясно, он глубоко безразличен. Однажды ночью, мучимый болью, он вдруг понимает:
…те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то.
Ощущение растраченной жизни усугубляется пониманием того, что окружающие любили его статус, а не его истинное, трепетное “я”. Его уважали как судью, состоятельного отца и мужа, но все это вмиг исчезло, и сейчас, когда ему плохо, он не находит любви:
…мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого.
После того как Иван Ильич умирает, его так называемые друзья заходят проститься с покойным, но сожалеют лишь о том, что не успеют сегодня поиграть в винт. Глядя на восковое, исхудалое лицо Ивана Ильича, его коллега Петр Иванович начинает думать о том, что и сам когда-нибудь умрет, а если так, то глупо растрачивать жизнь на карты:
Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня, — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать.
Так как же именно смертельная болезнь помогает нам избавиться от чрезмерной озабоченности общественным статусом?
Главным образом это происходит потому, что болезнь отнимает у нас многое из того, за что общество ценит своих членов: возможность давать приемы, работать, оказывать покровительство. Таким образом она обнажает хрупкость, а возможно и никчемность того внимания, которое мы надеемся получить благодаря статусу. Когда мы сильны и здоровы, мы не задумываемся, почему нас превозносят: потому что искренне нами восхищаются или потому что ищут какой-то выгоды? Очень редко нам хватает отваги или цинизма, чтобы спросить себя: “Что для них важно: я или мое положение в обществе?” Однако болезнь быстро и безжалостно проводит эту границу. На пороге смерти, в больничной пижаме, мы злимся на тех, кто любил в нас лишь статус, и на собственное тщеславие: как же мы могли поддаться на обман, как могли сами его поддерживать? Мысль о смерти — лакмусовая бумажка отношений. Лучший способ почистить календарь встреч — задуматься, кто из знакомых навестит нас в больнице.
С утратой интереса к корыстной любви теряет значение все то, к чему мы стремились, чтобы ею заручиться. Если богатства, почести и власть приносят любовь, которая исчезнет вместе со статусом, оставив нас в последние часы тосковать о человеческой ласке, не лучше ли сосредоточиться на отношениях, которые строятся на чем-то более прочном?
Геродот пишет, что в Египте существовал обычай: под конец пира, когда веселье было в самом разгаре, в зал входили слуги, неся на носилках скелет. Увы, историк не объясняет, какое действие мысль о смерти должна была оказать на пирующих: принимались ли они веселиться с удвоенной силой, памятуя о скоротечности жизни, или расходились по домам, посерьезнев?
Вероятно, мысль о смерти толкает нас к тому, что для нас особенно важно, будь то бражничество на берегу Нила, написание книги или зарабатывание денег, и одновременно заставляет меньше думать о мнении окружающих — в конце концов, они вместо нас не умрут. Мысль о неизбежной кончине может направить нас к тому образу жизни, к которому мы стремимся душой.
На этом тезисе основана знаменитая поэтическая попытка Эндрю Марвелла заманить юную особу в постель стихами, в которых говорилось не только о ее красоте и его верности, но и о куда менее романтическом обстоятельстве: скоро их обоих не станет. Очевидно, героиня стихотворения “Застенчивой возлюбленной” (1681) не смела отдаться страсти из страха перед общественным порицанием, и Марвелл рассчитывал, что призрак смерти заставит ее отбросить страх и дать волю чувствам. Ее стыдливость не была бы преступной, писал Марвелл, если бы не следующее обстоятельство:
Шекспир, судя по всему, тоже считал напоминание о смерти действенной тактикой соблазнения. Во многих сонетах он предлагает возлюбленной задуматься о той поре
и не забывать, что
Хотя порою мысль о смерти толкает людей на странные поступки, хочется верить, что чаще она напоминает: нельзя жить так, будто мы можем вечно откладывать самое важное ради процветания. Она дает нам мужество отбросить самые необоснованные из требований общества. При взгляде на скелет чужое порицание уже не кажется таким пугающим.
При всей разнице христианских и светских представлений о том, что сохраняет осмысленность перед лицом смерти, поражает общий акцент, который ставится на любовь, подлинную человеческую близость и милосердие в противовес стремлению к власти, военной силе, деньгам и славе. Есть занятия, которые мысль о смерти обесценивает практически в любой системе взглядов.
В другом месте Геродот рассказывает о Ксерксе, могущественном царе Персии, который в 480 году до н. э. успешно высадился с двухмиллионным войском на берегах Греции. Увидя, что весь Геллеспонт усеян его кораблями, а все берега и равнины заполнены его воинами, Ксеркс возликовал, а потом заплакал. Артабан, дядя царя, удивленно спросил, из-за чего тот плачет, и Ксеркс ответил:
Я был охвачен жалостью при мысли о том, как коротка человеческая жизнь: ведь не пройдет и ста лет, и из этого великого множества людей никого не останется в живых.
Можно не меньше опечалиться и усомниться в значимости некоторых других достижений — скажем, разглядывая фотографию, сделанную на собрании фирмы “Хайнц” весной 1902 года в Чикаго. Легко представить, как взволнованно эти люди обсуждали рост продаж кетчупа в Соединенных Штатах, — и зарыдать.
Конечно, мысль о смерти заставляет вспомнить о тщете любых усилий — не только завоеваний или раскрутки бренда. Глядя на мать, которая учит своего пухлощекого малыша завязывать шнурки, можно проливать слезы, думая о том, что они оба когда-нибудь умрут. И все же мы чувствуем, что перед лицом смерти воспитание детей более осмысленная задача, чем продажа кетчупа, а помощь другу — более достойная, чем вторжение в чужую страну.
“Суета сует, всё суета!” — сетовал автор Екклесиаста (1:2). “Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки”. И все же, учат христианские моралисты, не все занятия равно бессмысленны. В XVI веке в христианских странах появился новый живописный жанр, на два столетия завоевавший любовь ценителей искусства. Натюрморты vanitas (от латинского vanitas — суета) вешали дома, обычно в кабинете или в спальне. На них можно было видеть разнородный набор предметов: цветы, монеты, гитару или мандолину, шахматы, лавровый венок и бутыли с вином — символы мирских удовольствий, а рядом — главные символы смерти и скоротечности жизни: череп и песочные часы.
Эти натюрморты вовсе не должны были нагонять на владельцев тоску мыслями о тщете всего сущего. Глядя на такую картину, человек должен был задуматься: “Что неправильно в моей нынешней жизни?” — и направить сердце к добродетелям любви, праведности, искренности, смирения и доброты.
Зрелый подход к проблеме статуса начинается с понимания того, что статусом человека наделяют общественные группы: промышленники и богема, семья и философы — и мы вольны выбрать себе группу по собственному усмотрению.
Озабоченность статусом, безусловно, неприятна, однако трудно вообразить благополучную жизнь совсем без него: страх пасть в глазах окружающих естественно вытекает из здорового честолюбия, предпочтения одних обстоятельств другим и уважения к кому-либо помимо себя. Озабоченность статусом — наша плата за то, что мы понимаем разницу между успехом и неуспехом так же, как это делает общество.
Однако у нас есть выбор, как именно удовлетворять свою потребность в статусе. Ничто не мешает нам позаботиться о том, чтобы наша боязнь уронить себя в чьих-то глазах относилась лишь к тем людям, чьи критерии оценки мы понимаем и разделяем. Озабоченность статусом опасна лишь постольку, поскольку зависит от установок, которые мы принимаем из трусости или из чрезмерной покорности, потом)' что привыкли бездумно верить в их естественность и чуть ли не богодан-ность, ведь все вокруг им следуют, вот нам и не хватает интеллектуальной отваги придумать альтернативу.
Философия, искусство, политика, христианство и богемный образ жизни не стремятся уничтожить статусное неравенство: они лишь предлагают свою иерархию, основанную на ценностях, не признаваемых и даже осуждаемых большинством людей. По-прежнему четко различая успех и провал, добро и зло, честь и позор, они зовут нас пересмотреть смысл этих важнейших понятий.
Таким образом, они придают значительность тем, кто в каждом поколении не умеет или не хочет покорно следовать господствующим представлениям о высоком статусе, однако, скорее всего, не заслуживает и ярлыка неудачник. У этих людей мы можем почерпнуть немало утешительного и полезного — всего того, что напомнит нам: есть разные способы преуспеть в жизни.