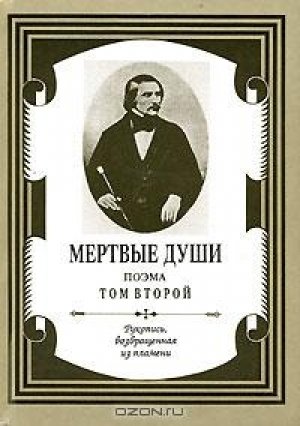
Николай Васильевич Гоголь
Юрий Арамович Авакян
Мёртвые души
Поэма
Том второй, написанный Николаем Васильевичем Гоголем, им же сожжённый, вновь воссозданный Юрием Арамовичем Авакяном и включающий полный текст глав, счастливо избежавших пламени.
К читателю
Дорогой друг!
Книга, которую ты держишь сейчас в руках — книга необычайной Судьбы. Ночью на вторник с 11 на 12 февраля 1852 года огонь уничтожил страницы рукописи второго тома "Мёртвых душ", обратив бумагу, на которой она была написана в пепел, а содержание рукописи в тайну, на протяжении вот уже более 140 лет занимающую не одно поколение читателей и исследователей творчества Николая Васильевича Гоголя.
В огне уцелели лишь первая глава рукописи, часть второй главы, глава третья и фрагменты четвёртой и заключительной глав, которых всего должно было насчитываться одиннадцать. Конечно же оставшиеся части гениального текста давали возможность строить предположения относительно того, что именно должно было происходить на страницах второго тома поэмы, равно, как и воспоминания современников, коим посчастливилось присутствовать при чтении Николаем Васильевичем отдельных глав, готовящегося им к печати тома, но тем не менее то была Утрата, невосполнимая и горькая. Утрата, равная трагедии, равная катастрофе, ибо мировая художественная культура лишилась в ту далёкую зимнюю ночь одного из своих выдающихся памятников.
Поэтому перед нами стояла необыкновенно сложная задача — воссоздать текст второго тома "Мёртвых душ", бережно сохраняя и стиль, и язык автора бессмертного произведения; максимально используя фрагменты оригинального текста, те, что сохранило для нас Провидение и опираясь, сколько возможно, на воспоминания друзей Николая Васильевича Гоголя.
Сегодня мы можем сказать, что книга воссоздана. Заново написаны семь её глав, те, которые в своё время не пощадил огонь, дописаны недостающие фрагменты второй, четвёртой и заключительной одиннадцатой главы, и Павел Иванович Чичиков вновь готов ко встрече с тобой, дорогой читатель. Надеемся, что встреча эта принесёт тебе радость, как принесла она радость нам, потому что книга эта — дань нашего безмерного восхищения творчеству великого Человека, преклонении перед его памятью и наша осуществлённая мечта.
Юрий Авакян
http://www.deadsouls2.ru
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдалённых закоулков государства? Что же делать, если уже такого свойства сочинитель, и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдалённых закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.
Зато какая глушь и какой закоулок!
Как бы исполинский вал какой—то бесконечной крепости, с наугольниками и бойницами, шли, извиваясь, на тысячу с лишком вёрст горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами, в виде отвесных стен, известковато—глинистого свойства, исчерченных проточинами и рытвинами, то миловидно круглившимися зелёными выпуклинами, покрытыми, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, тёмными гущами леса, каким—то чудом ещё уцелевшими от топора. Река то, верная своим берегам, давала вместе с ними колена и повороты, то отлучалась прочь в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берёз, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.
В одном месте крутой бок возвышений убирался гуще в зелёные кудри дерев. Искусственным насаждением благодаря неровности гористого оврага север и юг растительного царства собрались сюда вместе. Дуб, ель, лесная груша, клён, вишняк и терновник, чилига и рябина, опутанная хмелем, то помогая друг <другу> в росте, то заглушая друг друга, карабкались по всей горе, от низу до верху. Вверху же, у самого её темени, примешивались к их зелёным верхушкам красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, верхняя надстройка господского дома с резным балконом и большим полукруглым окном. И над всем этим собраньем дерев и крыш возносилась свыше всего своими пятью позлащёнными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всех её главах стояли золотые прорезные кресты, утверждённые золотыми прорезными же цепями, так что издали казалось — висело на воздухе ничем не поддержанное, сверкавшее горячими червонцами золото. И всё это в опрокинутом виде, верхушками, крышками, крестами вниз, миловидно отражалось в реке, где безобразно—дуплистые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви и листья, точно как рассматривали это чудное изображение, где только не мешала их склизкая бодяга с пловучей яркой зеленью жёлтых кувшинчиков.
Вид был очень хорош, но вид сверху вниз, с надстройки дома на отдаленья, был ещё лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумления у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: "Господи, как здесь просторно!" Без конца, без пределов открывались пространства. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зелёных поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески — и вновь леса, уже синевшие, как моря или туман, далеко разливавшийся; и вновь пески, ещё бледней, но всё желтевшие. На отдалённом небосклоне лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизною даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их, у подошв, местами мелькали как бы дымившиеся туманно—сизые пятна. Это были отдалённые деревни; но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Всё это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе, и после какого—нибудь двухчасового созерцания ничего другого не мог выговорить, как только: "Господи, как здесь просторно!"
Кто ж был жилец и владетель этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, где врассыпку дубы встречали приветливо подъезжавшего гостя, расставляя широко распростёртые ветви, как дружеские объятья, и провожая его к лицу того самого дома, которого верхушку видели мы сзади и который стоял теперь весь налицо, имея по одну сторону ряд изб, выказывавших коньки и резные гребни, а по другую — церковь, блиставшую золотом крестов и золотыми прорезными узорами висевших в воздухе цепей? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок?
Помещику Тремалаханского уезда, Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатитрёхлетнему счастливцу и притом ещё и неженатому человеку.
Кто же он, что же он, каких качеств, каких свойств человек? У соседей, читательницы, у соседей следует расспросить. Сосед, принадлежавший к фамилии ловких, уже ныне вовсе исчезающих, отставных штаб—офицеров брандеров, изъяснялся о нём выраженьем: "Естественнейший скотина!" Генерал, проживавший в десяти верстах, говорил: "Молодой человек неглупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня не без связей и в Петербурге, и даже при..." — генерал речи не оканчивал. Капитан—исправник давал такой оборот ответу: "[Да ведь чинишка на нём дрянь] — а вот я завтра же к нему за недоимкой!" Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Стало быть, мненье о нём было неблагоприятное.
Беспристрастно же сказать — он не был дурной человек, он просто коптитель неба. Так как уже не мало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему ж и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот на выдержку день из его жизни, совершенно похожий на все другие, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер и как его жизнь соответствовала окружавшим его красотам.
Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго сидел на своей кровати, протирая глаза. И так как глаза, на беду, были маленькие, то протиранье их производилось необыкновенно долго, и во всё это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил — барин всё ещё протирал глаза и сидел на кровати. Наконец, подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную затем, чтобы пить чай, кофий, какао и даже парное молоко, всего прихлёбывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. И два часа просиживал он за чаем. И этого мало: он брал ещё холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращённому на двор. У окна же происходила всякий день следующая сцена.
Прежде всего ревел Григорий, дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне почти в сих выражениях:
— Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая! Тебе бы, гнусной, молчать!
— А не хочешь ли вот этого? — выкрикивала ничтожность, или Перфильевна, показывая кукиш, — баба жёсткая в поступках, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всяких сластей, бывших у неё под замком.
— Ведь ты и с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная! — ревел Григорий. — Да и приказчик вор такой же, как и ты. Думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он всё слышит.
— Где барин?
— Да вот он сидит у окна: он всё видит.
И точно, барин сидел у окна и всё видел.
К довершению содома кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину, визжал борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горячего кипятка, которым обкатил его, выглянувши из кухни, повар. Словом, всё голосило и верещало невыносимо. Барин, всё видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничем не заниматься, высылал он сказать, чтобы шумели потише...
За два часа до обеда уходил он к себе в кабинет затем, чтобы заняться сурьёзно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно её великую будущность; словом — всё так и в том виде, как любит задавать себе современный человек. Впрочем, колоссальное предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом всё это отодвигалось на сторону, бралось наместо того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Затем следовала трубка с кофием, игра в шахматы с самим собой; что же делалось потом до самого ужина — право, и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось.
И этак проводил время, один—одинёшенек в целом <мире>, молодой тридцатидвухлетний человек, сидень сиднем, в халате и без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже растворять окна затем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина.
Из этого может читатель видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки, и которых теперь, право, не знаю, как назвать. Родятся ли уже такие характеры, или потом образуются, как порождение печальных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека? Вместо ответа на это лучше рассказать историю его воспитания и детства.
Казалось, всё клонилось к тому, чтобы вышло из него что—то путное. Двенадцатилетний мальчик, остроумный, полузадумчивого свойства, полуболезненный, попал он в учебное заведение, которого начальником на ту пору был человек необыкновенный. Идол юношей, диво воспитателей, несравненный Александр Петрович одарён был чутьём слышать природу человека. Как знал он свойства русского человека! Как знал он детей! Как умел двигать! Не было шалуна, который, сделавши шалость, не пришёл <бы> к нему сам и не повинился во всём. Этого мало, он получал строгий <выговор>, но уходил от него, не повесивши нос, но подняв его. И было что—то ободряющее, что—то говорившее: "Вперёд! Поднимайся скорее на ноги несмотря, что ты упал". Не было у него и речи к ним о хорошем поведении. Он обыкновенно говорил: "Я требую ума, а не чего—либо другого. Кто помышляет о том, чтобы быть умным, тому некогда шалить: шалость должна исчезнуть сама собою". И точно, шалости исчезали сами собою. Презрению товарищей подвергался тот, кто не стремился быть <лучше>. Обиднейшие прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки от самых малолетних и не смели их тронуть пальцем. "Это уж слишком! — говорили многие, — умники выйдут люди заносчивые". — "Нет, это не слишком, — говорил он, — неспособных я не держу долго; с них довольно одного курса, а для умных у меня другой курс". И точно, все способные выдерживали у него другой курс. Многих резвостей он не удерживал, видя в них начало развитья свойств душевных и говоря, что они ему нужны, как сыпи врачу, — затем, чтобы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека.
Как любили его все мальчики! Нет, никогда не бывает такой привязанности у детей к своим родителям. Нет, ни даже в безумные годы безумных увлечений не бывает так сильна неугасимая страсть, как сильна была любовь <к нему>. До гроба, до поздних дней благодарный воспитанник, подняв бокал в день рождения своего чудного воспитателя, уже давно бывшего в могиле, оставался, закрыв глаза, и лил слёзы по нём. Его малейшее ободренье уже бросало в дрожь, в радость и в трепет и толкало честолюбивое желание всех превзойти. Малоспособных он не держал долго; для них у него был коротенький курс. Но способные должны были у него выдерживать двойное ученье. И последний класс, который был у него для одних избранных, вовсе не походил на те, какие бывают в других заведеньях. Тут только он требовал от воспитанника всего того, что иные благоразумно, <требуют> от детей, — того высшего ума, который умеет не посмеяться, но вынести всякую насмешку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти из себя, не мстить ни в каком <случае> и пребывать в гордом покое невозмущённой души; и всё, что способно образовать из человека твёрдого мужа, тут было употреблено в действие, и он сам делал с ними беспрерывные пробы. О, как он знал науку жизни!
Учителей у него не было много: большую часть наук читал он сам. Без педантских терминов, напыщенных воззрений и взглядов умел он передать самую душу науки, так что и малолетнему было видно, на что она ему нужна. Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает юношу впереди, и весь горизонт его поприща умел он очертить <так>, что юноша, ещё находясь на лавке, мыслями и душой жил уже там, на службе. Ничего не скрывал: все огорченья и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны, ему предстоящие, собирал он пред ними во всей наготе, не скрывая ничего. Всё было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званьях и должностях. Оттого ли, что сильно уже развилось честолюбие, оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что—то говорящее юноше: вперёд! — это слово, знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой, — но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где больше препятствий, где нужно было показать большую силу души. Немногие выходили из этого курса, но зато это были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие и умнейшие их, не вытерпев, из—за мелочных личных неприятностей, бросили всё или же осовев, обленясь, обезумев и опустившись, очутились в руках взяточников и плутов. Но они не пошатнулись и, зная и жизнь и человека и умудрённые мудростью, возымели сильное влияние даже на дурных людей.
Пылкое сердце честолюбивого мальчишки долго билось при одной мысли о том, что он попадёт наконец в это отделение. Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тентетникова! Но нужно же, чтобы в то самое время, когда он переведён был в этот курс избранных, — чего так сильно желал, — необыкновенный наставник скоропостижно [умер]! О, какой был для него удар, какая страшная первая потеря! Всё переменилось в училище. На место Александра Петровича поступил какой—то Фёдор Иванович. Налёг он тот же час на какие—то внешние порядки, стал требовать от детей того, чего можно требовать только от взрослых. В свободной их развязности почудилось ему что—то необузданное. И точно как бы назло своему предшественнику объявил с первого дня, что для него ум и успехи ничего не значат, что он будет смотреть только на хорошее поведение. Странно: хорошего—то поведения и не добился Фёдор Иванович. Завелись шалости потаённые. Всё было в струнку днём и шло попарно, а по ночам развелись кутежи.
С науками тоже случилось что—то странное. Выписаны были новые преподаватели, с новыми взглядами и новыми углами и точками воззрений. Забросали слушателей множеством новых терминов и слов; показали они в своём изложении и логическую связь, и горячку собственного увлечения, но, увы! Не было только жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась в устах их мёртвая наука. Одним словом, всё пошло навыворот. Потерялось уважение к начальству и власти: стали насмехаться и над наставниками и над преподавателями. Директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами. Разврат завёлся уже вовсе не детский: завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать. В два года узнать нельзя было заведения.
Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии товарищей, которые обзавелись какой—то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство их над святыней из—за того только, что попался не весьма умный поп. Нет, душа его и сквозь сон слышала небесное своё происхождение. Его не могли увлечь, но он повесил нос. Честолюбие уже было возбуждено, а деятельности и поприща ему не было. Лучше б было и не возбуждать его. Он слушал горячившихся на кафедрах профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Каких предметов и каких курсов он не слушал: медицину, химию, философию, и даже право, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в три года успел только прочесть введение да развитие общин каких—то немецких городов, — и бог знает чего он не слушал! Но всё это оставалось в голове его какими—то безобразными клочками. Благодаря природному уму он слышал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски.
Но молодость счастлива тем, что у ней есть будущее. По мере того как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: "Ведь это ещё не жизнь; это только приготовленье к жизни; настоящая жизнь на службе. Там подвиги". И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя—посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понёсся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодёжь, — служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лёд, общественного обманчивого образованья. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, что нужно прежде начать с чистописанья.
С большим трудом и с помощью дядиных протекций наконец он определился в какой—то департамент. Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами и письменными лакированными столами, походивший на то, как <бы> заседали здесь первые вельможи государства, трактовавшие о судьбе всего государства, и увидел <он> легионы красивых пишущих господ, шумевших перьями и склонивших голову набок, и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую—то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания — переписка шла о трёх рублях, производившаяся полгода, — необыкновенно странное чувство проникнуло неопытного юношу, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний; сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников! К довершению сходства иные из них читали глупый пе<реводной> роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались самым делом, и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Так это всё ему показалось странно, так занятия прежние значительнее нынешних, приуготовление к службе лучше самой службы! Ему стало жалко по школе. И вдруг как живой предстал пред ним Александр Петрович, — и чуть—чуть он не заплакал. Комната закружилась, перемешались чиновники и столы, и чуть удержался он от мгновенного потемнения. "Нет, — подумал он в себе очнувшись, — примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким!" Скрепясь духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих.
Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый тридцатиградусный мороз; взвизгивает исчадье севера, ведьма—вьюга, заметая тротуары, слепя глаза, пудря меховые воротники, усы людей и морды мохнатых скотов, но приветливо и сквозь летающие перекрёстно охлопья светит вверху окошко где—нибудь и в четвёртом этаже: в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара, ведётся согревающий и сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил бог свою Россию, и так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как не водится и под полуденным небом.
Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем—то вторым. Она служила ему распределеньем времени, заставив его более дорожить остававшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. В числе друзей Андрея Ивановича, которых у него было довольно, попалось два человека, которые были то, что называется огорчённые люди. Это были те беспокойно странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, требуя к себе снисхождения и в то же время исполненные нетерпимости к другим, они подействовали на него сильно и пылкой речью, и образом благородного негодованья против общества. Разбудивши в нём нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Фёдор Фёдорович Леницын, начальник одного из отделений, помещавшихся в великолепных залах, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нём бездну недостатков. Ему показалось, что Леницын в разговорах с высшими весь превращался в какой—то приторный сахар и — в уксус, когда обращался к нему подчинённый; что будто, по примеру всех мелких людей, брал он на замечанье тех, которые не являлись к нему с поздравлением в праздники, мстил тем, которых имена не находились у швейцара на листе; и вследствие этого он почувствовал к нему отвращенье нервическое.
Какой—то злой дух толкал его сделать что—нибудь неприятное Фёдору Фёдоровичу. Он на то наискивался с каким—то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства — либо просить извинения, либо выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий:
— Ради самого Христа! Помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатый карьер из—за того только, что попался не такой, какой хочется, начальник! Помилуй! Что ты? Что ты? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбье, поезжай и объяснись с ним!
— Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник. — Мне не трудно попросить у него извиненья. Я виноват: он начальник, и так не следовало говорить с ним. Но дело вот в чём. У меня есть другая служба: триста душ крестьян, имение в расстройстве, управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человек не заплатят податей. Я — что вы думаете? — помещик [званье это также не бездельно]. Если я позабочусь о сохраненье, сбереженье и улучшенье участи вверенных мне людей и представлю государству триста исправнейших, трезвых, работящих подданных — чем моя служба будет хуже службы какого—нибудь начальника отделения Леницына?
Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумленья. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде:
— Но всё же... но как же таки?.. Как же запропастить себя в деревню? Какое же общество может быть между мужичьём? Здесь всё—таки на улице попадется навстречу генерал, князь. Пройдёшь и сам мимо какого—нибудь... там... ну, и газовое освещение, промышленная Европа; а ведь там, что не попадется — всё это или мужик, или баба. За что ж так, за что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?
Но убедительные представления дяди на его племянника не произвели действия. Деревня начинала представляться каким—то привольным приютом, воспоительницею дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Уже он откопал и новейшие книги по части сельского хозяйства. Словом — через недели две после этого разговора был он уже в окрестности тех мест, где пронеслось его детство, невдалеке от того прекрасного уголка, которым не мог налюбоваться никакой гость и посетитель. Новое чувство в нём встрепенулось. В его душе стали просыпаться прежние, давно не выходившие наружу впечатления. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. И вот, неизвестно отчего, вдруг забилось у него сердце. Когда же дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой трёхсотлетние дубы, трём человекам в обхват, вперемежку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос "чей лес?" ему сказали: "Тентетникова"; когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, в виду тянувшихся вдали возвышений, и двумя мостами перелетела в разных местах одну и ту же реку, оставляя её то вправо, то влево от себя и когда на вопрос "чьи луга и поёмные места?" отвечали ему: "Тентетникова"; когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности — с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в сокращённом отдалении, и когда, постепенно темнея, входила и вошла потом дорога под тень широких, развилистых дерев, разместившихся врассыпку по зелёному ковру до самой деревни, и замелькали резные избы мужиков и красные крыши каменных господских строений, большой дом и старинная церковь, и блеснули золотые верхи, когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куда приехало, — ощущенья, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись наконец в громогласных словах: "Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, а я закабалил себя в кропатели мёртвых бумаг. Воспитавшись, просветясь, сделав запас сведений, нужных для распространения добра между подвластными, для улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, который является в одно и то же время и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, вверить это место невеже управителю, а себе предпочесть заочное производство дел между людьми, которых я и в глаза не видал, которых я ни характеров, ни качеств не знаю, — предпочесть настоящему управлению это бумажное, фантастическое управление провинциями, отстоящими за тысячи вёрст, где не была никогда нога моя и где могу наделать только кучи несообразностей и глупостей!"
А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу. Кички, повязки, повойники, сороки, зипуны и картинно окладистые бороды красивого населения обступили его кругом. Когда раздались слова: "Кормилец наш! Вспомнил..." — и невольно заплакали старики и старухи, помнившие и его деда и прадеда, не мог он сам удержаться от слёз. И думал он про себя: "Столько любви! За что? За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими!" И дал он себе обет разделить с <ними> труды и занятья.
И стал он хозяйничать, распоряжаться. Уменьшил барщину, убавив дни работ на помещика и прибавив времени мужику. Дурака управителя выгнал. Сам стал входить во всё, показываться на полях, на гумне, в овинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов, так что ленивые начинали даже почёсываться. Но продолжалось это не долго. Мужик сметлив и понял скоро, что барин хоть и прыток и есть в нём тоже охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, этого ещё не смыслит, говорит грамотейно и невдолбёж. Вышло то, что барин и мужик как—то не тo, чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле всё выходило как—то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо — он сам присутствовал и приказал выдать даже по чапорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овёс, кустилось просо, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса ещё не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укротить, но получил такой ответ: "Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть, выгоде не радели! Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли, — по чапорухе водки приказали подать". Что было на это возражать? "Да отчего ж, теперь вышло скверно?" — допрашивал барин. "Кто его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и лето, вишь ты какое: совсем дождей не было". Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу, да и дождь шёл как—то странно, полосою: мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил.
Ещё трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело! Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, на половину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут—то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: "Барин, уйми беса—бабу! Точно чёрт какой — житья нет от ней!"
Хотел он было, скрепя своё сердце, приняться за строгость; но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок, — уж откуда она их набирала, бог её весть. "Ступай, ступай себе только с глаз моих! Бог с тобой!" — говорил бедный Тентетников и вослед за тем видел, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую—нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик.
Вздумал он было попробовать какую—то школу между ними завести, но из этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил; лучше было и не задумывать. Какая школа! И времени никому не было: мальчик с десяти лет уже был помощником во всех работах и там воспитывался.
В делах судейских и разбирательствах оказались ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые навели его профессора—философы. И та сторона врёт, и другая врёт, и чёрт их разберёт! И видел он, что нужней было тонкостей юридических и философских книг простое познанье человека; и видел он, что в нём чего—то недостаёт, а чего — бог весть. И случилось обстоятельство, так часто случающееся: ни мужик не узнал барина, ни барин мужика; и мужик стал дурной стороной, и барин дурной стороной; и рвенье помещика [охладело]. При работах он уже присутствовал без внимания. Шумели ли тихо косы в покосах, метали ль стога, клались ли клади, вблизи ль ладилось сельское дело — его глаза глядели подальше; вдали ль производилась работа — они отыскивали предметы поближе или смотрели в сторону, на какой—нибудь извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, разумеется — птица, а не человек. Они смотрели любопытно, как этот мартын, поймав у берега рыбу, держал её впоперёк в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, — и глядя в то же время пристально вдоль реки, где в отдалении белелся другой мартын, ещё не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Или же, зажмурив вовсе глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и земли, соединяется в один звукогласный хор, не переча друг другу. Во ржи бьёт перепел, в траве дёргает дергун, над <ним> урчат и чиликают перелетающие коноплянки, блеет поднявшийся на воздух барашек, трелит жаворонок, исчезая в свете, и звонами труб отдаётся турлыканье журавлей, строящих в треугольники свои вереницы в небесах высоко. Откликается вся в звуки превратившаяся окрестность. Творец! Как ещё прекрасен твой мир в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов. Но и это стало ему наскучать. Скоро он и вовсе перестал ходить в поля, засел в комнаты, отказался принимать даже с докладами приказчика.
Прежде из соседей завернёт к нему, бывало, отставной гусар—поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или же резкого направления недоучившийся студент, набравшийся мудрости из современных брошюр и газет. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как—то поверхностными, европейски—открытое обращение, с потрёпкой по колену, также и низкопоклонства и развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться со всеми и произвёл это даже довольно резко. Именно, когда наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всём представитель уже ныне отходящих полковников—брандеров и с тем вместе передовой начинавшегося нового образа мыслей, Варвар Николаич Вишнепокромов, приехал к нему затем, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии, — он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы "скотина!", другой послал ему с досады тоже что—то вроде свиньи. Тем и кончились отношения. С тех пор не заезжал к нему никто.
Он этому был рад и предался обдумыванью большого сочинения о России. Как обдумывалось это сочинение — читатель уже видел. Установился странный, беспорядочный порядок. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и делу всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце и скорбная, безмолвногрустная, тихая жалоба на бездействие своё прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время, и представал вдруг, как живой, Александр Петрович... Градом лились из глаз его слёзы [и рыданья продолжались почти весь день].
Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни? Что не успел образовать<ся> и окрепнуть начинавший в нём строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что, растопившись подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и что нет теперь никого во всём свете, кто бы был в силах воздвигнуть шатаемые вечными колебаниями силы и лишённую упругости, немощную волю, кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово: "вперёд", которого жаждет повсюду на всех ступенях стоящий, всех сословий и званий и промыслов, русской человек.
Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: "вперёд"? Кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатил бы ему благодарный русский человек! Но веки проходят за веками [— полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить это всемогущее слово].
Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что—то похожее на любовь. Но и тут дело кончилось ничем. В соседстве, в десяти вёрстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не весьма благосклонно о Тентетникове. Генерал — жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтенье, сам визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо дотоле невиданное, странное. Оно <было> что—то живое, как сама жизнь. Имя ей было Улинька. Воспиталась она как—то странно. Её учила англичанка—гувернантка, не знавшая ни слова по—русски. Матери лишилась она ещё в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать её. Как в ребёнке, возросшем на свободе, в ней было всё своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе её и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев её вспыхивал только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурном поступке с кем бы то ни было. Но никогда не гневалась и никогда не споривала она за себя самоё и не оправдывала себя. Гнев этот исчезнул бы в минуту, если бы она увидела в несчастии того самого, на кого гневалась. При первой просьбе о подаянии кого бы то ни было она готова была бросить ему весь свой кошелёк, со всем, что в нём ни <было>, не вдаваясь ни в какие рассуждения и расчёты. Было в ней что—то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, всё стремилось вослед за мыслью — выражение лица, выраженье разговора, движенье рук; самые складки платья как бы стремились в ту сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными словами. Ничего не было в ней утаённого. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы её заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Её очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно—свободна, что всё ей уступало бы невольно дорогу. При ней как—то смущался недобрый человек и немел; самый развязный и бойкий на слова не находил с нею слова и терялся, а застенчивый мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем, и с первых минут разговора ему уже казалось, что где—то и когда—то он знал её и как бы эти самые черты её ему где—то уже виделись, что случилось это во дни какого—то незапамятного младенчества, в каком—то родном доме, весёлым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того становился ему скучным разумный возраст человека.
Точно то же случилось с нею и с Тентетниковым. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась.
Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, но сойтись между собою они не могли. Разговоры их оканчивались спором и каким—то неприятным ощущением с обеих сторон, потому что генерал не любил противуречья и возраженья; а Тентетников, с своей стороны, тоже был человек щекотливый. Разумеется, что ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался, покуда не приехали гостить к генералу родственницы: графиня Болдырева и княжна Юзякина, отсталые фрейлины прежнего двора, но удержавшие и доныне кое—какие связи, вследствие чего генерал перед ними немножко подличал. С самого их приезда Тентетникову показалось, что он стал к нему холоднее, не замечал его или обращался, как с лицом бессловесным; говорил ему как—то пренебрежительно — "любезнейший, послушай, братец" и даже "ты". Это его наконец взорвало. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и всё внутри его кипело: "Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом "ты" вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая и меня говорить вам "ты". Но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению".
Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово "ты" было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку "ты" (о чине своём он не упомянул ни слова). Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали ещё сумрачней. Всё поворотило на жизнь, которую читатель видел в начале главы, — на лежанье и бездействие. В доме завелись гадость и беспорядок. Половая щётка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашние куры. Взявши перо, бессмысленно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки. Но иногда, всё позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими чертами, с быстрым пронзительным взглядом и приподнятой прядью волос, и в изумлении видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не написал бы никакой знам<енитый> художник. И ещё грустнее ему становилось, и, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он ещё более после того скучным и безответным.
Таково было состояние души Андрея Ивановича Тентетникова. [Вдруг, в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе некоторое движенье и некоторую суету.] Поварчонок и поломойка бежали отворять ворота. В воротах показались кони, точь—в—точь как лепят иль рисуют их на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине. Свыше их, на козлах, — кучер и лакей, в широком сертуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная лёгкая бричка. Господин необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека.
Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не докончивший учебного курса эстетик, да промотавшийся игрок затеяли какое—то филантропическое общество, под верховным распоряженьем старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека. Общество было устроено с обширною целью — доставить прочное счастие всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная; пожертвованья собирались с великодушных членов неимоверные. Куды это всё пошло — знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорчённых людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещенья и будущих одолжений человечеству, сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких—то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией... А потому не мудрено, что, и вышедши и разорвавши всякие сношения с ними, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко. Не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь.
Страх его однако же, прошёл вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положенье головы, несколько набок, и в коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями и любознательностью; что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже об обилии промыслов и разнообразии почв; что он увлёкся картинным местоположением его деревни; что, несмотря, однако же, на местоположенье, он не дерзнул бы обеспокоить его неуместным заездом своим, если б не случилось, по поводу весенних разлитий и дурных дорог, внезапной изломки в экипаже; что при всём том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично своё почтенье.
Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ногой, обутой в щегольской лайковый полусапожек, застёгнутый на перламутровые пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с лёгкостью резинного мячика.
Успокоившийся Андрей Иванович заключил, что это должен быть какой—нибудь любознательный учёный профессор, который ездит по России, может быть затем, чтобы собирать какие—нибудь растения или, может быть предметы ископаемые. Тот же час изъявил он ему всякую готовность споспешествовать во всём, предложил своих мастеров, колесников и кузнецов, просил расположиться как в собственном доме, усадил его в большие вольтеровские <кресла> и приготовился слушать его рассказ по части естественных наук.
Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вероломными ветрами; упомянул о том, что должен был переменить много должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов; и много ещё рассказал он такого, что показывало в нём скорее практического человека. В заключенье же речи высморкался он в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович ещё и не слыхивал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха—труба, которая когда хватит, то кажется, что крякнуло не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробуждённых покоях дремавшего дома, и немедленно вослед за ним воспоследовало благоуханье одеколона, невидимо распространённое ловким встряхнутьем носового батистового платка.
Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел; как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нём немножко поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистёрлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы даже не были в завидном состоянии. Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались те же. Даже как бы ещё приятнее стал он в поступках и оборотах, ещё ловчее подвёртывал под ножку ножку, когда садился в кресла, ещё более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выраженьях, более уменья держать себя и более такту во всём. Белей и чище снегов были на нём воротнички и манишка, и, несмотря на то что был он с дороги, ни пушинки не село к нему на фрак, — хоть приглашай сей же час его на именинный обед. Щёки и подбородок выбриты были так, что один слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью круглоты их.
В доме тот же час произошло преобразованье. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Всё начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро всё приняло такой вид; комната, определённая быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета; комната определённая быть кабинетом... но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола; один письменный — перед диваном, другой ломберный — между окнами перед зеркалом, третий угольный — в углу, между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидною мебелью, служивший теперь передней, в который дотоле с год не заходил никто. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны новые, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сертук и [два фрака]. Всё это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шёлковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги: одни не совсем новые, другие совсем новые, лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавесились шёлковым носовым платком, — так, как бы их там вовсе не было. На письменном столе тотчас же в большом порядке разместились шкатулка, банка с одеколоном, календарь и два какие—то романа, оба вторые тома. Чистое бельё поместилось в комоде, уже находившемся в спальне; бельё же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан, по опростанье его, был тоже подсунут под кровать. Сабля, ездившая по дорогам для внушения страха ворам, поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде невдалеке от кровати. Всё приняло вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни пёрышка, ни соринки. Самый воздух как—то облагородился: в нём утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В переднем зале покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки. Но Петрушка скоро перемещён был на кухню, как оно и следовало.
В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как—нибудь гость не связал его, не стеснил какими—нибудь измененьями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведённый; но опасенья были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо: именно, что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Выронил слов немного, но с весом. В поступках же своих показался он также ещё более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил; не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его; с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочкой дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие: вынимал, например из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив её между двух пальцев левой руки, оборачивал быстро пальцем правой, в подобье того, как земная сфера обращается около своей оси, или же так по ней барабанил пальцем, в присвистку. Словом — не мешал хозяину. "Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить, — говорил про себя Тентетников, — вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно—ровного характера, людей, с которыми можно бы прожить век и не поссориться, — я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей. Вот первый человек, которого я вижу." Так отзывался Тентетников о своём госте.
Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении.
Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубели пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтел одуванчик, лилово—розовый анемон наклонял нежную головку. Рои мошек и кучи насекомых показались на болотах; за ними вдогон бегал уж водяной паук; а за ним и всякая птица в сухие тростники собралась отовсюду. И всё собиралось поближе смо<треть> друг друга. Вдруг населилась земля, проснулись леса, луга. В деревне пошли хороводы. Гулянью был простор. Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пела как бы на свадьбе.
Чичиков ходил много. Прогулкам и гуляньям был раздол повсюду. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, в виду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались ещё большие озера от водополья, и островами на них темнели ещё безлистные леса; или же вступал в гущи, в ясные овраги, где столплялись густо дерева, отягчённые птичьими гнёздами, вместилищами громко каркающих воронов, перекрёстными летаньями помрачавших небо. По просохнувшей земле можно было отправляться к пристани, откуда с горохом, ячменем и пшеницей отчаливали первые суда, между тем <как> в то же время с оглушительным шумом неслась повергаться вода на колеса начинавшей работать мельницы. Ходил он наблюдать первые весенние работы, глядеть, как свежая орань чёрной полосою проходила по зелени, а засеватель, постукивая рукою о сито, висевшее у него на груди, горстью разбрасывал семена ровно, ни зёрнышка не передавши на ту или другую сторону.
Чичиков везде побывал. Перетолковал и переговорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником. Узнал всё, обо всём, и что и как, и каким образом хозяйство идёт, и по сколько хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью. Словом — всё. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идёт хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущенья, нераденье, воровство, немало и пьянства. И думал внутренно: "Какая, однако же, скотина Тентетников! Этакое имение и этак запустить! Можно бы иметь пятьдесят тысяч годового доходу!"
Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда—нибудь самому, — то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут, разумеется, сейчас представлялась ему даже и молодая, свежая, белолицая бабёнка, из купеческого или другого богатого сословия, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилью Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не что прошёл какой—нибудь тенью или призраком по земле, — чтобы не было стыдно и перед отечеством. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление: статский советник, например, чин почтенный и уважительный... Мало ли чего не приходит в ум во время прогулок человеку, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит воображенье и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется!
Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошёлся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза своею бывалостью в разных местах; Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал, но Григорий назвал ему такое место, какого, ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал тридцать тысяч с лишком вёрст, так что служитель Павла Ивановича совсем осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Дело, однако ж, кончилось между ними самой тесной дружбой. В конце деревни Лысый Пимен, дядя всех крестьян, держал кабак, которому имя было Акулька. В этом заведенье видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе — кабацкие завсегдатели.
У Селифана была другого рода приманка. На деревне, что ни вечер, пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые стройные девки, каких уже трудно теперь найти в больших деревнях, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: все белогрудые, белошейные, у всех носы репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной в ряду других парней, и, выходя, также стеной, навстречу им, громко выпевали, усмехаясь, горластые девки: "Бояре, покажите жениха!" — и тихо померкала вокруг окольность, и раздававшийся далеко за рекой возвращался грустным назад отголосок напева, — не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Во сне и наяву, утром и в сумерки, все мерещилось ему потом, что в обеих руках его белые руки и движется он в хороводе. [Махнув рукой, говорил он: "Проклятые девки!"]
Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и Заседатель, и самый Чубарый нашли пребыванье у Тентетникова совсем не скучным, овёс отличным, а расположенье конюшен необыкновенно удобным: у всякого стойло, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, — так что, если бы пришла кому—нибудь из них, даже самому дальнему, блажь вдруг заржать, можно было ему ответствовать тем же тот же час.
Словом, все обжились, как дома. Что же касается до той надобности, ради которой Павел Иванович объезжал пространную Россию, — то есть до мёртвых душ, то насчёт этого предмета он сделался очень осторожен и деликатен. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, [он бы и тут не вдруг его начал]. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие причины всего — зачем и почему? Нет, лучше поискать, нельзя ли с другого конца. Так думал он. Разговаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу—генералу, что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышня тоже к барину... но потом вдруг, — что—то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером всё рисовал какие—то головки, одна на другую похожие.
Один раз, после обеда, оборачивая, по обыкновению пальцем серебряную табакерку вокруг её оси, сказал он так:
— У вас всё есть, Андрей Иванович, одного только недостаёт.
— Чего? — спросил тот, выпуская кудреватый дым.
— Подруги жизни, — сказал Чичиков.
Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился.
Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сём, сказал вдруг:
— А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться.
Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна.
Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время уже после ужина и сказал так:
— А всё—таки, как ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: впадете в ипохондрию.
Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположенье духа в этот день у него [было как—то] особенно настроено к откровенности — он вздохнул, сказал, пустивши кверху трубочный дым:
— На всё нужно родиться счастливцем, Павел Иванович, — и рассказал всё, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва.
Когда услышал Чичиков от слова до слова всё дело и увидел, что из—за одного слова "ты" произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову, не зная, как решить об нём: дурак ли он круглый, или только придурковат, и наконец:
— Андрей Иванович! Помилуйте! — сказал он, взявши его за обе руки. — Какое ж оскорбление? Что ж тут оскорбительного в слове "ты"?
— В самом слове нет ничего оскорбительного, — сказал Тентетников, — но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбленье. "Ты" — это значит: "Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше; а приехала какая—нибудь княжна Юзякина — ты знай своё место, стой у порога". Вот что это значит! — Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами, в голосе его послышалось раздраженье оскорблённого чувства.
— Да хоть бы даже и в этом смысле, что ж тут такого? — сказал Чичиков.
— Как! Вы хотите, чтобы <я> продолжал бывать у него после такого поступка?
— Да какой же это поступок! Это даже не поступок, - сказал хладнокровно Чичиков.
— Как не поступок? — спросил в изумленье Тентетников.
— Это генеральская привычка, а не поступок: они всем говорят "ты". Да впрочем, почему ж этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?..
— Это другое дело, — сказал Тентетников. — Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне "ты" и принял бы даже почтительно.
"Он совсем дурак, — подумал про себя Чичиков, — оборвышу позволить, а генералу не позволить!.."
— Хорошо, — сказал он вслух, — положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним: он вам, и вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное, — это извините... Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюётся! Человек всегда плюётся: он так уж создан. Да вы не отыщете теперь во всём свете такого, который бы не плевался.
"Странный человек этот Чичиков!" — думал про себя в недоумении Тентетников, совершенно озадаченный такими словами.
"Какой, однако же, чудак этот Тентетников!" — думал между тем Чичиков.
— Андрей Иванович! Я буду с вами говорить, как брат с братом. Вы человек неопытный — позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству — и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанью людей и света.
— Подличать перед ним я не намерен, — сказал, оскорбившись, Тентетников, — да и вас не могу на это уполномочить.
— Подличать я не способен, — сказал, оскорбившись, Чичиков. — Провиниться в другом проступке, по человечеству, могу, но в подлости — никогда... Извините, Андрей Иванович, за моё доброе желанье, я не ожидал, чтобы слова <мои> принимали вы в таком обидном смысле.
Всё это было сказано с чувством достоинства.
— Я виноват, простите! — сказал торопливо тронутый Тентетников, схватив его за обе руки. — Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого! Но оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить.
— В таком случае я так поеду к генералу.
— Зачем? — спросил Тентетников, смотря в недоумении ему в глаза.
— Засвидетельствовать почтенье.
"Странный человек этот Чичиков!" — подумал Тентетников.
"Странный человек этот Тентетников!" — подумал Чичиков.
— Я завтра же, Андрей Иванович, около десяти часов утра к нему и поеду. По—моему, чем скорей засвидетельствовать почтенье человеку, тем лучше. Так как бричка моя ещё не пришла в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску.
— Помилуйте, что за просьба? Вы полный господин: и экипаж и всё в вашем расположении.
После такого разговора они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.
Чудная, однако же, вещь! На другой день, когда подали Чичиковулошадей и вскочил он в коляску с лёгкостью почти военного человека, одетый в новый фрак белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтенье генералу, Тентетников пришёл в такое волненье духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно—беспокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу; то хотел мыслить — безуспешное хотенье! — мысль не лезла к нему в голову; то старался ни о чём не мыслить, — безуспешное старанье! — отрывки чего—то, похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклёвывались к нему в голову. "Странное состоянье!" — сказал он и придвинулся к окну — глядеть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце которой ещё курилась не успевшая улечься пыль. Но, оставив Тентетникова, последуем за Чичиковым.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Добрые кони в полчаса с небольшим пронесли Чичикова чрез десятивёрстное пространство: сначала дубровою, потом хлебами, начинавшимися зеленеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, потом широкою аллею лип, едва начинавших развиваться, внесли его в самую середину деревни. Тут аллея лип своротила направо и, превратясь в улицу овальных тополей, огороженных снизу плетёными коробками, упёрлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво богатый резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь коринфских колонн. Повсюду несло масляной краской, всё обновлявшей и ничему не дававшей состареться. Двор чистотой подобен был паркету. С почтеньем соскочил Чичиков, приказал о себе доложить генералу и был введён к нему прямо в кабинет. Генерал поразил его величественной наружностью. Он был в атласном стёганом халате великолепного пурпура. Открытый взгляд, лицо мужественное, усы и большие бакенбарды с проседью, стрижка на затылке низкая, под гребёнку, шея сзади толстая, называемая в три этажа, или в три складки, с трещиной поперёк; словом — это был один из тех картинных генералов, которыми так богат был знаменитый двенадцатый год. Генерал Бетрищев, как и многие из нас, заключал в себе при куче достоинств и кучу недостатков. То и другое, как водится в русском человеке, было набросано в него в каком—то картинном беспорядке. В решительные минуты — великодушье, храбрость, безграничная щедрость, ум во всём, — и, в примесь к этому, капризы, честолюбие, самолюбие и те мелкие личности, без которых не обходится ни один русский, когда он сидит без дела. Он не любил всех, которые ушли вперёд его по службе, и выражался о них едко, в колких эпиграммах. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями и который, однако же, обогнал его и был уже генерал—губернатором двух губерний, и, как нарочно, тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, порочил всякое расположенье и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. В нём было все как—то странно, начиная с просвещения, которого он был поборник и ревнитель: любил блеснуть и любил также знать, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что—нибудь такое, чего он не знает. Словом, он любил немного похвастать умом. Воспитанный полуиностранным воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. И не мудрено, что с такой неровностью в характере и такими крупными яркими противуположностями он должен был неминуемо встретить множество неприятностей по службе, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всём какую—то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чём—либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате — он был всё тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нём всё было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то по крайней мере робость.
Чичиков почувствовал то и другое: и уваженье и робость. Наклоня почтительно голову набок и расставив руки наотлёт, как бы готовился приподнять ими поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом и сказал:
— Счёл долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счёл долгом представиться лично вашему превосходительству.
Генералу, как видно, не не понравился такой приступ.
Сделавши весьма благосклонное движенье головою, он сказал:
— Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?
— Поприще службы моей, — сказал Чичиков, садясь в кресла не посередине, но наискось и ухватившись рукою за ручку кресел, — началось в казённой палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же течение оной совершал по разным местам: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн, ваше превосходительство. Терпеньем можно сказать, повит, спелёнат и, будучи, так сказать, сам одно олицетворённое терпенье... А что было от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая, так сказать, кисть не сумеет передать, так что на склоне жизни своей ищу только уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства...
— У кого это?
— У Тентетникова, ваше превосходительство.
Генерал поморщился.
— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения...
— К чему?
— К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: "Если бы я только мог чем—нибудь... потому что точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество".
— Помилуйте, что ж он? Да ведь я не сержусь! — сказал смягчившийся генерал. — В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек.
— Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человек; может побеждать даром слова и владеет пером.
— Но пишет, я чай, пустяки, какие—нибудь стишки?
— Нет, ваше превосходительство, не пустяки... Он что—то дельное... Он пишет... историю, ваше превосходительство.
— Историю? О чём историю?
— Историю... — тут Чичиков остановился и, оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: — историю о генералах, ваше превосходительство.
— Как о генералах? О каких генералах?
— Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности. То есть, говоря собственно, об отечественных генералах.
Чичиков совершенно смутился и потерялся, чуть не плюнул сам и мысленно сказал в себе: "Господи, что за вздор такой несу!"
— Извините, я не очень понимаю... Что ж это выходит, историю какого нибудь времени или отдельные биографии? И притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом году?
— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году. — Проговоривши это, он подумал в себе: "Хоть убей, не понимаю".
— Так что ж он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.
— Робеет, ваше превосходительство.
— Какой вздор! Из какого—нибудь пустого слова, что между нами произошло... Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.
— Он к тому не допустит, он сам приедет, — сказал Чичиков, оправился и совершенно ободрился, и подумал в себе: "Экая оказия! Как генералы пришлись кстати! А ведь язык взболтнул сдуру".
В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою, и на отворившейся обратной половине её, ухватившись рукой за медную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы в тёмной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещённая сильно сзади лампами, — одна она бы так не поразила внезапностью своего явления, как фигурка эта, представшая как бы затем, чтобы осветить комнату. С нею вместе, казалось, влетел солнечный луч, как будто рассмеялся нахмурившийся кабинет генерала. Чичиков в первую минуту не мог дать себе отчёта, что такое именно перед ним стояло. Трудно было сказать, какой земли она была уроженка. Такого чистого, благородного очертанья лица нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках. Прямая и лёгкая, как стрелка, она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение. Она была вовсе не высокого роста. Происходило это <от> необыкновенно согласного соотношения между собою всех частей тела. Платье сидело на ней так, что, казалось, лучшие швеи совещались между собой, как бы получше убрать её. Но это было также обольщение. Оделась <она> как <бы> сама собой: в двух, трёх местах схватила игла кое—как неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг неё в таких сборах и складках, что если бы перенести их вместе с нею на картину, все барышни, одетые по моде, казались бы перед ней какими—то пеструшками, изделием лоскутного ряда. И если бы перенесть её со всеми этими складками её обольнувшего платья на мрамор, назвали бы его копиею гениальных.
— Рекомендую вам мою баловницу! — сказал генерал, обратясь к Чичикову. — Однако ж фамилии вашей, имени и отчества до сих пор не знаю.
— Должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями? — сказал скромно Чичиков, наклонивши голову набок.
— Всё же, однако ж, нужно знать...
— Павел Иванович, ваше превосходительство, — сказал Чичиков, поклонившись с ловкостью почти военного человека и отпрыгнувши назад с лёгкостью резинного мячика.
— Улинька! — сказал генерал, обратясь к дочери. — Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом: историей генералов двенадцатого года.
— Да кто же думал, что он глупый человек? — проговорила она быстро. — Разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, который и пустой, и низкий человек!
— Зачем же низкий? Он пустоват, это правда, — сказал генерал.
— Он подловат и гадковат, не только что пустоват. Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек.
— Да ведь это рассказывают только.
— Таких вещей рассказывать не будут напрасно. Я не понимаю, отец, как с добрейшей душой, какая у тебя, и таким редким сердцем, ты будешь принимать человека, который как небо от земли от тебя, о котором сам знаешь, что он дурен.
— Вот этак, вы видите, — сказал генерал, усмехаясь Чичикову, — вот этак мы всегда с ней спорим. — И, оборотясь к спорящей, продолжал: — Душа моя! Ведь мне ж не прогнать его?
— Зачем прогонять? Но зачем показывать ему такое внимание? Зачем и любить?
Здесь Чичиков почёл долгом ввернуть и от себя словцо.
— Все требуют к себе любви, сударыня, — сказал Чичиков. — Что ж делать? И скотинка любит, чтобы её погладили: сквозь хлев просунет для этого морду — на, погладь!
Генерал рассмеялся.
— Именно, просунет морду: погладь, погладь его! Ха, ха, ха! У него не только что рыло, весь, весь зажил в саже, а ведь тоже требует, как говорится, поощрения... Ха, ха, ха, ха! — И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты.
Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но из уваженья к генералу, пустил его на букву е: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его так же стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет.
— Обокрадет, обворует казну, да ещё и, каналья, наград просит! Нельзя, говорит, без поощрения, трудился.. Ха, ха, ха, ха!
Болезненное чувство выразилось на благородном, милом лице девушки.
— Ах, папа! Я не понимаю, как ты можешь смеяться! На меня эти нечестные поступки наводят уныние и ничего более. Когда я вижу, что в глазах совершается обман в виду всех и не наказываются эти люди всеобщим презреньем, я не знаю, что со мной делается, я на ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаю... — И чуть сама не заплакала.
— Только, пожалуйста, не гневайся на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чём не виноваты. Не правда ли? — сказал он, обратясь к Чичикову. — Поцелуй меня и уходи к себе. Я сейчас стану одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал он, посмотрев Чичикову в глаза, — надеюсь, обедаешь у меня?
— Если только ваше превосходительство...
— Без чинов, что тут? Я ведь ещё, слава богу, могу накормить. Щи есть.
Бросив ловко обе руки наотлёт, Чичиков признательно и почтительно наклонил голову книзу, так что на время скрылись из его взоров все предметы в комнате и остались видны ему только одни носки своих собственных полусапожек. Когда же, пробыв несколько времени в таком почтительном расположении, приподнял он голову снова кверху, он уже не увидел Улиньки. Она исчезнула. Наместо её предстал, в густых усах и бакенбардах, великан камердинер, с серебряной лоханкой и рукомойником в руках.
— Ты мне позволишь одеваться при тебе?
— Не только одеваться, но можете совершить при мне всё, что угодно вашему превосходительству.
Опустя с одной руки халат и засуча рукава рубашки на богатырских руках, генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны:
— Любят, любят, точно любят поощрение все, — сказал он, вытирая со всех сторон свою шею. — Погладь, погладь его! А ведь без поощрения так и красть не станет! Ха, ха, ха!
Чичиков был в духе неописанном. Вдруг налетело на него вдохновенье. "Генерал весельчак и добряк — попробовать?" — подумал он и, увидя, что камердинер с лоханкой вышел, вскрикнул:
— Ваше превосходительство! Так как вы уже так добры ко всем и внимательны, имею к вам крайнюю просьбу.
— Какую?
Чичиков осмотрелся вокруг.
— Есть, ваше превосходительство, дряхлый старичишка дядя. У него триста душ и две тысячи <десятин> и, кроме меня, наследников никого. Сам управлять именьем, по дряхлости, не может, а мне не передаёт тоже. И какой странный приводит резон: "Я, говорит, племянника не знаю; может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надёжный человек: пусть приобретёт прежде сам собой триста душ; тогда я ему отдам и свои триста душ".
— Да что ж он, выходит, совсем дурак? — спросил <генерал>.
— Дурак бы ещё пусть, это при нём и оставалось. Но положение то моё, ваше превосходительство! У старикашки завелась какая—то ключница, а у ключницы дети. Того и смотри перейдёт им.
— Выжил глупый старик из ума, и больше ничего, — сказал генерал. — Только я не вижу, чем тут я могу пособить? — говорил он, смотря с изумлением на Чичикова.
— Я придумал вот что. Если вы всех мёртвых душ вашей деревни, ваше превосходительство, продадите мне в таком виде, как бы они были живые, с совершеньем купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он наследство бы мне отдал.
Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Как был, так и повалился он в кресла. Голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге.
— Отец, что с тобой случилось? — говорила она в страхе, с недоумением смотря ему в глаза.
Но генерал долго не мог издать никакого звука.
— Ничего, друг мой, ничего. Ступай к себе; мы сейчас явимся обедать. Будь спокойна. Ха, ха, ха!
И, несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты.
Чичиков был в беспокойстве.
— Дядя—то, дядя! В каких дураках будет старик! Ха, ха, ха! Мертвецов вместо живых получит! Ха, ха!
"Опять пошёл! — думал про себя Чичиков. — Эк его, щекотливый какой".
— Ха, ха! — продолжал генерал. — Экой осёл! Ведь придёт же в ум требование: "Пусть прежде сам собой из ничего достанет триста душ, тогда дам ему триста душ!" Ведь он осёл!
— Осёл, ваше превосходительство.
— Ну, да и твоя—то штука попотчевать старика мёртвыми! Ха, ха, ха! Я бы бог знает чего дал, чтобы посмотреть, как ты ему поднесёшь на них купчую крепость. Ну, что он? Каков он и себя? Очень стар?
— Лет восемьдесят.
— Однако ж и движется, бодр? Ведь он должен же быть и крепок, потому что при нём ведь живёт и ключница?
— Какая крепость! Песок сыплется, ваше превосходительство!
— Экой дурак! Ведь он дурак?
— Дурак, ваше превосходительство.
— Однако ж выезжает? Бывает в обществе? Держится ещё на ногах?
— Держится, но с трудом.
— Экой дурак! Но крепок, однако ж? Есть ещё зубы?
— Два зуба всего, ваше превосходительство.
— Экой осёл! Ты, братец, не сердись... Хоть он тебе и дядя, а ведь он осёл.
— Осёл, ваше превосходительство. Хоть и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но что ж делать?
Врал Чичиков: ему вовсе не тяжело было сознаться, тем более что вряд ли у него был вовек какой дядя.
— Так, ваше превосходительство, отпустите мне...
— Чтобы отдать тебе мёртвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильём! Возьми себе всё кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старик—то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках будет дядя! Ха, ха, ха!..
И генеральский смех пошёл отдаваться вновь по генеральским покоям.
Насмеявшись вдоволь, генерал Бетрищев костяшкой указательного пальца оттёр скользнувшую в лучистую морщинку слезу, качнул несколько раз головой, фыркнул и сказал:
— Ну, братец, ну, уморил ты меня! Ну, хитёр! Ай да Павел Иванович!
А Чичиков подумал, что неплохо бы ещё какую историю вернуть, посмешить генерала подольше, ибо знал верно, что таким манером проще завоевать расположение и дружбу со стороны подобных генералу людей. Обтеревшись полотенцем насухо до красноты, генерал оделся в белую чистую рубашку и, надев на себя серый статский сертук, глянул на Павла Ивановича, ещё не отошедшими от смеха глазами.
— Послушай, брат, — произнёс генерал тоном, каким обычно говорят пребывающие в благостном расположении духа люди, — давай-ка пригласим к обеду Андрея Ивановича, а что, чего чиниться да церемонии разводить. Я тебе прямо скажу: люб он мне был, да и Улиньке моей, как думаю, по сердцу приходился, так что нечего нам тянуть да откладывать, сей же час пошлю за ним, благо ехать тут недолга.
— Прекрасно, ваше превосходительство: великодушно так и так по—русски, — произнёс Чичиков, склоняясь в полупоклоне и прижимая руки к груди. — Только у меня к вам просьба.
— Что такое? — вскинул брови генерал, — опять дядюшка, чай?
— Нет, ваше превосходительство, об одном прошу, не упоминать в присутствии ли Андрея Ивановича, в чьём ли ещё, об моем обстоятельстве. Ведь история хоть и глупая, но семейная, и очень не хочется в дураках—то ходить, да и до дяди могут слухи дойти...
— Будь покоен, это между нами, — сказал генерал и встрепенулся слать посыльного за Тентетниковым, но Павел Иванович предупредил его ласково дотрагиваясь до генеральского плеча.
— Нет, нет, — сказал он. — не надо никого слать. Я сам съезжу. И раз уж я взял на себя сию миссию примирения, то стало быть, и до конца довесть её моя задача. Так что уж позвольте мне быть вам полезным.
По лицу генерала было заметно, что его тронула самоотверженная услуга Павла Ивановича, направленная к делу примирения так беспричинно раззнакомившихся соседей. Он и сам подумал, что так оно, действительно, выйдет лучше, чем слать человека с письмом.
— Ну, одолжи, братец, коли так, я ведь, признаться, и просить бы об этом не смел, — сказал он, приобнимая Павла Ивановича за плечи и глядя ему в глаза своими, ставшими вдруг серьёзными, глазами.
— Мигом слетаю, ваше превосходительство, — оживился Чичиков, — часу не пройдёт, как привезу его. Ведь сам—то он как рвётся к вам, как рвётся, — произнёс он, многозначительно опуская глаза.
Генерал, видать, понял его намёк насчёт Улиньки, но ничего не сказал, а только лишь улыбнулся, зардевшись слегка, и подумал: "Какой, однако, обходительный господин этот Павел Иванович! И неглупый!"
И снова кони понесли Чичикова липовой аллеей, и дубравой вдоль хлебов — прочь из поместья генерала Бетрищева.
— Погоняй, погоняй, рожа, — кричал Чичиков Селифану, то и дело тыча ему в спину свой белый пухлый кулак, и Селифан в ответ вытягивал кнутом по спине Чубарого, отвешивая ему обычные уже комплименты. Кони бежали споро и, как всегда бывает, когда ворочаешься назад, обратная дорога показалась Павлу Ивановичу короче прежнего пути, и он совсем скоро увидел уж ворота усадьбы Андрея Ивановича Тентетникова.
Лихо соскочив со въехавшей во двор брички, Чичиков бросился к крыльцу, по пути заметив в одном из глядевших во двор окон бледное лицо растерянного Тентетникова.
— Андрей Иваныч! Андрей Иваныч! — вскричал Чичиков, вбегая в комнаты, — одевайтесь скорее. Всё уладилось. Его превосходительство, Александр Дмитриевич, просят снизойти, пожаловать к обеду... И Ульяна Александровна просят, — добавил он, заметив, как задрожал мундштук трубки, которую Тентетников сжимал в руке.
— Как же, я не готов... — начал было бормотать Андрей Иванович, но по лицу его поползла уже улыбка, и щёки пошли пятнами, выдавая его внутреннее, скрываемое им счастье.
— Готовы, решительно готовы, — не терпящим возражения тоном проговорил Чичиков и, повернувшись, хлопнул в ладоши и закричал: "Эй, Михайло, собирать барина в гости — живо!"
В доме поднялась небольшая, но кутерьма. Замелькали люди, захлопали дверцы шкапов, затопали каблуки по комнатам. А в середине этой кутерьмы вился Павел Иванович, отдавая распоряжения и приказы.
В какие—нибудь четверть часа байбак, которым смотрел Тентетников, преобразился в изящного молодого человека с меланхолией в бледном лице, облачённого в хорошо сшитый фрак синего аглицкого сукна, в облегающие его стройные ноги тёмно—серые панталоны, в ботинки лаковой кожи, а повязанный по новой моде галстук поддерживал белый безукоризненный воротничок его рубашки.
— Всё, поехали, поехали, — тряся в спешке ладонью, словно смахивая ею крошки со стола, торопил Чичиков. — Поехали, небось там заждались уж, — говорил он, направляясь к двери и прихватывая при этом Тентетникова под руку.
— Всё же как—то это внезапно, — бормотал тот, покорно следуя за своим водителем. — Не знаю, стоит ли, — говорил он глупо и счастливо при этом улыбаясь.
— Очень даже стоит, — сказал Чичиков, усаживая его рядом с собою в коляску и назидательно поднявши указательный палец. — Очень даже стоит, милостивый государь! Тем более что там вас и давно ждут, и искренне любят.
Чичиков говорил всё это тоном несколько начальственным, ибо был совершенно уверен, что сейчас ему простится и тон его, и те довольно бесцеремонные ухватки, которые показал он несколько ранее в доме Андрея Ивановича.
— Так, теперь послушайте меня, — произнёс он одновременно в доверительном и назидательном тоне, — я в беседе с Александром Дмитриевичем упомянул о том, что вами готовится большая работа, историческое, так сказать, полотно огромного размаху.
— Ох, зачем вы это, — начал было Тентетников, но Чичиков прервал его.
— Так надо, — сказал он, — доверьтесь старшему вас другу, которого судьба кидала, словно судно по безжалостному морю, и который точно уж знает, как обделываются такого рода дела. А чтобы было видно, что это так, то скажу вам, любезнейший мой Андрей Иванович, что его превосходительство просто обомлел от радости и просто рвётся к вам в помощь. Особенно по той части, где речь пойдет о генералах двенадцатого года... Я думаю, вы собираетесь писать и о генералах двенадцатого года? — слегка приостанавливаясь в разговоре, спросил Чичиков.
— Да, конечно, — кивнул головой Тентетников, которому сейчас мерещилось одно лишь лицо Ульяны Александровны и которому было всё равно об чём он собирается писать.
— Ну, вот и хорошо! — сказал Чичиков и, усаживаясь в коляске поудобнее, добавил: — поговорите с его превосходительством об сём предмете всенепременно, обещайте мне.
— Обещаю, — с отсутствующей улыбкою на устах подтвердил Тентетников, а Чичиков подумал: "Вот и хорошо, вот и эту дырку замазал, и не догадается генерал, что я соврал".
Когда подъехали они к колоннаде генеральского дома, Чичиков заметил, как по лбу у Андрея Ивановича выступил капельками пот и что он до побеления кисти сжимает тонкую перчатку, сдёрнутую им с руки.
— Полноте так волноваться, — участливо шепнул он Тентетникову, — всё будет хорошо. Вот, кстати, и его превосходительство, — кивнул он головой на сбегавшего навстречу гостям генерала. А это чего—то да значило. Сам генерал Бетрищев вышел встречать гостей. Идёт к коляске, широко улыбаясь и раскинув свои сильные руки для объятий. Чичиков, сошёл с коляски несколько ранее Тентетникова, подвел того всё ещё бледнеющего лицом к генералу и шутки ради отрекомендовал его, точно представлял друг другу двух незнакомцев.
— Вот, позвольте представить вам, ваше превосходительство, сосед ваш, Тентетников Андрей Иванович, доставлен мною в целости, как оно и было обещано.
Генерал глянул на Чичикова, давая понять, что оценил его шутку и благодарен ему за то, что хочет он несколько разбавить сей конфузный момент. Подойдя вплотную к Тентетникову, он обнял Андрея Ивановича и ткнувшись ему в щёку надушенными усами, проговорил, слегка прослезясь:
— Ну что же вы, милостивый государь, делаете, за что старика так казните, за глупое словцо, которое он вам по—отечески, не задумываясь, сказал? А вы нас с Улинькой из—за того своего приятного общества лишаете. Ах, Андрей Иванович, Андрей Иванович! Ну, всё? Мир? — спросил он, трижды его поцеловав.
Чичиков видел, как и у Тентетникова навернулись на глаза слёзы, и он, потупившись, сказал, несколько сбиваясь:
— Александр Дмитриевич... Ваше превосходительство. Прошу у вас прощения за своё дерзкое и глупое поведение, за то, что вёл себя недостойно взрослого мужчины, как мальчишка, и вас этим поведением, боюсь даже подумать, но оскорбил и обидел...
— Вздор, вздор! — воскликнул генерал, — всё это пустое, не стоит даже вспоминать.
И они, ещё раз расцеловавшись, вошли в дом.
"Умилительная картина, — подумал Чичиков, — просто как в романе", но вслух ничего не сказал, а лишь изобразил в лице своём сочувствие и понимание.
Генерал провёл их в гостиную.
— Садитесь, господа, — предложил он им, указывая на кожаные с гнутыми ореховыми ножками кресла.
Чичиков уселся в своей обычной деликатной манере: наискосок сиденья и с подворачиванием одной ноги за другую, Тентетников же, севший на самый краешек кресла, старался держать спину прямо, как палка, так, точно прикосновением к спинке кресла мог обидеть кого или же выказать неучтивость.
— Степан, — приказал генерал вошедшему великану—камердинеру. — Ступай кликни Ульяну Александровну. Скажи, батюшка велит спускаться к обеду.
И ни словом не упомянул об Тентетникове, из чего Чичиков заключил, что хочет он сделать перед дочерью сюрприз. Да и генерал подтвердил это тут же.
— Небось обрадуется, как вас увидит, — сказал он, обратясь к Андрею Ивановичу, — не знает, что вы приехали.
При сих словах Тентетников, сидевший в кресле точно с проглоченным аршином, подобрался ещё больше, и кадык его дёрнулся так, будто он и впрямь пытался глотнуть тот самый аршин. Чичикову показалось это смешно, но он, не подав виду в своём лице, продолжал сидеть с серьёзным выражением. Раздались лёгкие шаги на лестнице, затем прошуршали юбки, дверь отворилась, и опять как бы светом проняло комнату, когда вошла в неё Ульяна Александровна. Так бывает с каким—нибудь старым заржавелым механизмом, в котором, казалось бы, и все части целы, и работает он отменно, но вот вставит искусный механик новую совершенную деталь, и весь старый допотопный механизм наш, точно пронизанный этим совершенством, начинает жить совсем новой, причастной к осенившему его совершенству, жизнью. Так получилось и с гостиною, когда вошла в неё прелестная молодая женщина. Гостиная преобразилась тут же и волшебно, как преобразилось и настроение сидящих в гостиной мужчин.
"Хороша!" — подумал, вставая с кресла и кланяясь, Чичиков.
"Она!.." — подумал, вставая с кресла и чувствуя расслабленные под собою ноги, Тентетников.
Ульяна Александровна же, войдя в гостиную и увидевши привстающего с кресла, растерянно глядящего на неё Тентетникова, остановилась, точно как у преграды, и вдруг кровь бросилась ей в лицо, заливая его краскою смущения.
— Ну, что стоишь, Улинька? — посмеиваясь, спросил генерал, — не ожидала? А мы вот пообедать вместе собрались, — сказал он так, будто это было самое обычное каждодневное занятие — обедать вместе, как будто не было ни размоловки, ни произошедшего несколько ранее примирения.
Тентетников шагнул к Ульяне Александровне, и она, уже овладевши собою, протянула ему руку для поцелуя.
— Вот и хорошо, что вы к нам приехали, — сказала она только, но больше чем на словах было сказано глазами её.
В скором времени всех пригласили к столу, и Павел Иванович, усаживаясь в пододвигаемое ему лакеем кресло, заметил для себя, что обед, хоть и обилен, но довольно прост. На больших блюдах безо всяких затей лежали порции холодного поросёнка на закуску, грибы, солёные огурчики в судочках, пироги и пирожки с разной припекою, стояла водка в потном хрустальном графине и лафитники с цветными наливками.
Камердинер Степан, принеся из кухни суповник, от которого валил вкусный пар, поставил его на отдельный столик и, разливая обещанные генералом щи, стал обносить сидящих за столом тарелками, полными янтарного наваристого супу. Щи были хороши, на баранине, и Чичиков, с удовольствием прихлёбывая, со вниманием слушал его превосходительство. А генерал, обращаясь к Андрею Ивановичу, завёл издалека разговор о якобы пишущейся Тентетниковым истории генералов двенадцатого года. Начал он с нынешней молодёжи вообще, поругал её немного, посокрушался о прошедших временах, о тех людях, которых уже не воротишь назад, и потом словно бы невзначай спросил:
— А вы, любезный Андрей Иванович, как я слыхал от Павла Ивановича, серьёзным делом занялись?
Тентетников чуть было не поперхнулся и с укоризной глянул на Чичикова, а Чичиков мигнул ему обоими глазами, мол: "Не робей, всё как надо".
— Это хорошо! — сказал генерал, не дожидаясь ответа, и, откинувши на спинку стула свой широкий корпус, подтвердил: — Это очень даже хорошо! Могу вам, милостивый государь, много дельного порассказать из бывшего в двенадцатом годе, — продолжал он. — И из своих случаев, и из бывших с товарищами моими. Ведь война это время, когда в человеке всё самое главное из сокрытого в нём обнаруживается. Тем более такая война — за отечество.
— В точности так, ваше превосходительство, — поддакнул Чичиков и, делая круглые глаза, поглядел на Тентетникова, дескать: "Чего же ты молчишь, тетеря!"
Тентетников, чувствуя, что теперь точно уже надо бы вступить в разговор, кашлянул в кулак и сказал:
— Видать, ваше превосходительство, Павел Иванович не совсем верно вам сказывал. Это не столько история о генералах, сколько общего свойства работа, и я не столько пишу её, сколько покамест обдумываю.
— Ну, я надеюсь, в ней будет об двенадцатом годе? — насторожась, спросил генерал Бетрищев.
— Разумеется, — подтвердил Тентетников, — куды ж без него. Ведь это, как я полагаю, важнейшая часть истории отечества нашего в последнюю эпоху.
— Верно, — оживился генерал. — Оно может быть, и к лучшему, что работа, как вы изволили выразиться, общего плану. Для подобной темы панорама нужна, а про одних генералов — это, братец вы мой, выйдет немного узко. Хотя должен вам признаться, что именно генералы были наиважнейшей силой в приближении победы, — добавил он.
— Конечно же, ваше превосходительство, без разумного управления не можно с экипажем управляться, не то что кампанию выиграть, — поддакнул Чичиков, заметивши то, как у генерала потеплело и раскраснелось в лице от удовольствия слышать такое.
За разговором щи выхлебали, и к горячему были поданы жареные курицы и сальник из печёнки с гречневой кашею, обложенный здором. Сальник был очень хорош, и Павел Иванович, успокоившись насчёт Тентетникова и насчёт того, чтобы не обнаружилась его, Павла Ивановича, уловка, принялся за блюдо. Генерал же, добившись до любимой темы, говорил много и много хвалил простого русского солдата, соглашаясь с тем, что хотя генералы и были главною силою в войне двенадцатого года, но без русского мужика, бежавшего в атаку и рубившего неприятеля, воевать было бы некому. Александр Дмитриевич приводил тому много примеров, вспоминая тех солдат, которых знал лично.
— Знавал я одного гренадера по фамилии Коренной, вот герой так герой, — говорил его превосходительство. — Когда стиснули их со всех сторон французы и офицеры были переранены, он, увидевши это, закричал: "Ребята, не сдаваться!" И отстреливался и отбивался штыком, а потом уже, когда остальных перебили и когда остался он один, то на предложение сдаться, схвативши ружье за дуло, отбивался прикладом, точно дубиной. Так что за смелость и враги не хотели его погубить, ранили только лёгкой раной, взявши в плен, и дело это до самого Наполеона дошло, и тот, узнавши, велел выпустить. Вот о чём вам тоже непременно писать надо, — воодушевляясь, говорил он Тентетникову, — о геройствах простых солдат. И ведь не только в двенадцатом году, — говорил он, — вот, помню, в двадцать восьмом, в турецкую кампанию, при глазах моих, можно сказать, происходило. Чепышенко, рядовой, будучи ранен пулей вблизь груди, вытащил ножом окровавленную пулю, и, зарядивши в ружье, выпустил по неприятелю, сказавши: "Лети откуда пришла". Сам перевязал рану наскоро и не оставлял сражения до конца дела. Так—то вот, братец вы мой, Андрей Иванович, — сказал генерал Бетрищев, — простые русские мужики, а сколько геройства, храбрости, благородства в поступках, если хотите. Были бы среди моих людей такие, я бы не думая тут же каждому вольную подписал, — слегка повысив голос, говорил он.
Глянув на Тентетникова, Павел Иванович увидел, как у того заблистали глаза и зардел на щеках румянец.
— Вы, ваше превосходительство, — сказал он, дождавшись, пока Александр Дмитриевич закончит говорить, — вы с необыкновенной точностью угадали главную мою мысль. Мне кажется, что двенадцатый год — это год, когда сравнялись в доблести все сословия наши, когда русский народ ощутил себя сыном родной земли, сыном отечества, независимо от того, какая кровь текла в чьих жилах. Тогда мы, русские, были как одно, как кулак, который мозжил голову Бонапартовым полчищам, и сословия наши были равны, точно пальцы на этом сжатом кулаке, и у каждого было своё высокое достоинство без различия на крестьян ли, мещан ли или же дворян. И вы, ваше превосходительство, ещё раз правы, что народ этот достоин и благодарности и воли...
Чичиков исподтишка оглядел сидящих за столом и отметил то, как у генерала на усах дрожит скользнувшая по щеке слеза и он, вообще сказать, некоторым образом переменился в лице, и казалось, что сейчас, здесь за столом, не тот прежний генерал Бетрищев, а явился свету некий другой, внутренний его человек, тот человек, который живёт где—то в глубине души каждого из нас, но которого мы так хорошо научились прятать.
Что же касается выражения, отражавшегося в чертах Улиньки, глядевшей на Андрея Ивановича, то тут сказать можно было одно: Чичиков дорого бы отдал за то, чтобы и на него когда—нибудь поглядела бы так женщина подобная ей. Он почувствовал, как что—то кольнуло его в сердце, и, подумавши: "Ишь, как его понесло...", — опустив глаза углубился в свою тарелку.
Обед подходил уже к концу, когда за десертом Чичиков вспомнил давешнюю мысль о том, чтобы рассказать генералу историю, какая посмешнее, и тем больше завоевать симпатии к себе, хотя, признаться, он в этом уже и без того преуспел, и не только за счёт своей деликатности и округлости в манерах и речах, но и по той простой причине, что сумел всех сегодня уважить, примирить, и осчастливить. А то, что это так, было заметно при одном только взгляде на молодых людей; казалось, чувства их были настолько полны, что заглушили собой все остальные настроения. Улыбка не сходила ни с того, ни с другого чела, да и генерал, поглядывая на них через стол, тоже нет—нет, а улыбался.
За десертом разговор стал как—то утихать, и Чичиков, желая оживить беседу, обратился к его превосходительству с несколько плутоватой усмешкою.
— Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда—нибудь о том, что такое — "полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит"?
— Нет, не слыхал, — отозвался генерал.
— А, это преказусный анекдот, — сказал Чичиков всё с то же плутоватой улыбкой. — В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать...
— Не знаю.
— Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских, — тут Чичиков, прищуря глаза, выразил в лице своём, как подмазываются судейские. — Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как—то один раз у них на обеде говорит он: "Что ж господа, когда—нибудь и ко мне, в имение к князю". Говорят: "Приедем". Скоро после того случилось выехать суду на следствие по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.
— Не знаю.
— Самого—то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу — в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику—то они уж надоели. Чтобы как—нибудь от них отделаться, он и говорит: "Вы бы, господа, заехали к княжному управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждёт". — "А и в самом деле", — говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу... А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице своём субтильность). Сидят они двое за чаем, ни о чём не думая, вдруг отворяются двери — и ввалилось сонмище.
— Воображаю — хороши! — сказал генерал, смеясь.
— Управитель так и оторопел, говорит: "Что вам угодно?" — "А! говорят, так вот ты как!" И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии... "За делом! Сколько вина выкуривается по именью? Покажите книги!" Тот сюды—туды. "Эй, понятых!" Взяли, связали, да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.
— Вот на! — сказал генерал.
Улинька всплеснула руками.
— Жена — хлопотать! — продолжал Чичиков. — Ну, что может какая—нибудь неопытная молодая женщина! Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят ему: "Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты всё бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит".
Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.
— Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб её... — Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать...
— Друг мой, я их ничуть не оправдываю, — сказал генерал, — но что ж делать, если смешно? Как бишь: "полюби нас беленькими"?..
— Чёрненькими, ваше превосходительство, — подхватил Чичиков.
— Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха! Воображаю, хорош был небритый суд! — говорил генерал, продолжая смеяться.
— Да, ваше превосходительство, как бы то ни было... без просыпу... трёхдневное бдение — тот же пост: поизнурились, поизнурились! — говорил Чичиков, продолжая смеяться.
— Я не знаю, папа, — проговорила Улинька, отбросивши с гневом на стол свою салфетку, — мне совсем не смешно, одна лишь досада берёт. — И она взглянула на Андрея Ивановича, словно за поддержкой, а затем, точно проникнувши в его щекотливое положение, сказала, не дав ему вставить ни словца. — Не хотите ли прогуляться по парку, Андрей Иванович? Ты позволишь, папа?
— Разумеется, душа моя! — отозвался Александр Дмитриевич, — только не забудь, захвати шаль, а то ввечеру свежеет.
Ульяна Александровна встала из—за стола и, ответив на учтивый поклон привставшего со своего места Чичикова, вышла из столовой.
— Ну что ж вы, голубчик мой, — обратился генерал Тентетникову, — проводите Ульяну Александровну, а пока мы с Павлом Ивановичем побеседуем здесь по—стариковски.
Уже притворяя дверь, ведшую в столовую, Тентетников услышал мягкий воркующий голос Павла Ивановича, за которым последовал новый взрыв хохота. Видать, Чичиков снова рассказывал что—то, развеселившее генерала.
Молодые ушли гулять по парку, а в доме, где сгустились уже сумерки, зажгли свечи, и генерал с Павлом Ивановичем перешли в кабинет. Его превосходительство предложил было ему одну из своих трубок, но Чичиков, боявшийся сухотки в груди, вежливо отказался и, вытащивши из кармана свою серебряную табакерку, заправил в ноздрю аккуратную щепоть табаку, чихнул и проговорил: "А мы вот так—с. Так, говорят, здоровее".
Через короткое время завернул Павел Иванович разговор на своего, верно, никогда и не жившего дядюшку, на то, что неплохо бы заключить купчую прямо сейчас, на что генерал, прихохотнув, согласился. Он позвонил в колокольчик, велев доставить себе каких надо бумаг, и в какие—то полчаса Павел Иванович приумножил своё грядущее состояние, став обладателем ещё тридцати восьми беглых и мёртвых душ.
— Эх, кабы не нужда приобресть состояние, — проговорил он, складывая из лица своего сурьёзную и грустную гримасу, — кабы не это, стал бы я потакать прихотям выжившего из ума старика? Но куды деваться? От судьбы, как говорят, не уйти, вот и приходится считаться с дядюшкиными капризами, — вздохнул он, опуская плечи, хотя внутри у него всё плясало и пело от удачливой сделки.
— Да, состояние вещь необходимая, — кивнув головой, согласился генерал. — А знаешь ли ты, братец, какие бывают состояния. Это не то, что твой дядюшка с тремястами душ. Это, братец ты мой, такие деньги, что мысли об них не укладываются в голове. Вот, например, в нашем уезде есть такой откупщик, бывший простой мужик, — продолжал он. Чичиков сделал почтительное лицо, показывая, что внимательно слушает, хотя в уме своём уже складывал и умножал приобретённые им сегодня мёртвые души на рубли и копейки. — Муразов по фамилии, по прозвищу Афанасий Васильевич. Так вот у него состояния в десять миллионов, — сказал генерал, несколько растянувши слово "миллионов", видать, для большего эффекту. Но эффект и без того был достаточный. При названии этой суммы мозговая машинка Чичикова, считавшая и перемножавшая рубли и копейки, как бы мгновенно остановилась, точно от съехавшей с оси шестерёнки, сделанное им почтительное выражение сползло с лица его и остался только что разинутый рот да выпуклившиеся глаза.
— Да, братец ты мой, Павел Иванович, — десять миллионов, — повторил его превосходительство. — А ведь начинал с ничего, с копеек, с мелочной торговли.
— Как же так? — справляясь с собой, спросил Чичиков, — как же, скажите с копеек такие состояния?
— А вот так, — отвечал генерал, — смелый и очень почтенный человек. Видать, богу угодно было, чтобы на нём сошлось. К слову сказать, заезжает с визитами, бывает у меня, так что, глядишь, и познакомлю вас, а там и переймёшь от него что—либо полезное.
— Был бы вам очень признателен, ваше превосходительство, — сказал Чичиков, сопроводив слова приличным наклоном головы.
На дворе уже совсем стемнело, и генерал, глядя в окно, сказал:
— Загулялись что—то наши молодые люди, не простыла бы Улинька, всё же и впрямь свежо. — А потом, помолчавши, добавил: — Нет, положительно умный молодой человек. Такие здравые мысли высказывал сегодня за обедом и такой интерес к истории отечества, такие познания об двенадцатом годе. Что ни говорите, Павел Иванович, а есть и среди нового поколения достойные люди, поболее бы только таких для нашей матушки Руси, и можно было бы уходить на покой, не волнуясь о судьбе отечества...
— Да, да, — поддакнул Чичиков, — прекрасный молодой человек. И такой деятельный, имение в совершеннейшем порядке. И как настроен к вашему семейству, ваше превосходительство, как боготворит Ульяну Александровну, не сочтите, конечно, за дерзость, но разрыв с вами — это было единственное, как я сумел вывести, что омрачало его жизнь. Верите ли, целыми днями сидит за написанием истории генералов, а по полям—то рукописи портреты Ульяны Александровны пером рисует. Так что влюблён, ваше превосходительство, положительно влюблён, — сказал Чичиков, возводя кверху глаза.
— Ну—ну! Я не против. Только пусть сделает предложение по форме, — сказал генерал, слегка покраснев, — а ты, пожалуйста, без чинов, ведь я уже просил, а то всё "ваше превосходительство", да "ваше превосходительство". Для тебя я Александр Дмитриевич, и всё тут, — сказал он Чичикову, меняя тон.
— Как прикажете, ваше превосходительство, — склонивши голову, проговорил Чичиков.
— Ох, задам я тебе, братец, перцу, — шутливо грозя пальцем, усмехнулся генерал.
А за окном действительно свечерело. Тёплый ветер зашумел в тёмных кронах дерев, и они зашелестели молодыми весенними листами, точно заговорили, зашептали радостным хором от охватившего их счастливого знания новой жизни. Внизу, под деревами, шли по утоптанным дорожкам парка Тентетников с Ульяной Александровной. Светлое платье Улиньки высвечивалось в темноте, и по его порывистым движениям можно было судить о том, что промеж молодых людей идёт какой—то серьёзный разговор. Затем светлое виденье платья остановилось, и потому, как качнулась юбка, слегка скрутившись вкруг талии, стало ясно, что Ульяна Александровна повернулась лицом к своему собеседнику. Потом стало видно, как поднялись над светлой фигуркой две светлые же полосы и обвили светлыми же лентами чёрный силуэт, принадлежавший Тентетникову, а поперёк светлого платья Улиньки, вкруг талии, тоже вдруг обозначилась тёмная полоса от казавшегося в сумерках чёрным фрачного рукава Андрея Ивановича. И догадливый наблюдатель, как и догадливый читатель, непременно же поняли, что влюблённые друг в друга молодые люди обнялись. И думается, что догадливому наблюдателю, равно как и догадливому читателю, стало чрезвычайно любопытно то, о чём говорилось под тёмными сводами дерев. Но вспомните себя, милостивые государи и государыни, вспомните те минуты, когда единственное в целом свете и желанное для вас существо открывалось вам и вы узнавали наверное, что и вы желанны и любимы этим существом; вспомните те чувства, что вспыхивали в ваших душах, ту дрожь, что мурашками бежала по спине, тот стук сердца, готового вырваться из груди, дабы смешаться с его или её сердцем, слиться в одно большое и неразделимое естество; и вам тогда станет понятным и без наших слов, что чувствовали в этот весенний вечер и о чём говорили Улинька и Андрей Иванович. К тому же не совсем прилично слушать чужие речи об сём предмете. Довольно с нас и того, что мы подглядели за ними.
Генерал докуривал уже третью трубку, слушая Чичикова, его рассказы о бывших с ним случаях, о том, сколько пришлось претерпеть ему от врагов, покушавшихся, как любил говорить он, даже на самою жизнь его. Рассказы его были кудрявы и витиеваты, кругом в них обитали злодеи, через которых пробирался к правде наш герой то робким агнцем, а то орлом парящим над несправедливостями и карающим за них, потому, разумеется, и претерпевающим. Генерал слушал невнимательно. Глаза у него стали сонные, он угрелся в удобном кресле, и табачный дым лёгкими струйками стекал с уголков его полуоткрытого рта. В это самое время, когда генерала разморило окончательно и он разве что не поклёвывал носом, раздались в комнатах шаги, затем в двери кабинета вежливо стукнули, и вошёл Тентетников.
— А, молодой человек, — встрепенулся генерал, — ну, как прогулялись? Где Улинька, как она? — спросил он, оживляясь.
— Спасибо, — ответил Тентетников, останавливаясь у кресла. — Ульяна Александровна прошли к себе, — продолжал он, и по тому, как вцепился Андрей Иванович в спинку кресла своими тонкими пальцами, и по странному блеску его глаз Чичиков догадался, что Тентетников собирается сказать ещё одну речь. "Ну, сейчас будет", — подумал Чичиков.
А Тентетников и впрямь глубоко вздохнул, откашлялся и чужим надтреснутым голосом заговорил, обращаясь к генералу Бетрищеву.
— Ваше превосходительство, — начал он, несколько конфузясь и глядя в пол, — Александр Дмитриевич! Не знаю, смею ли я говорить об этом с вами сегодня, тотчас после нашего с вами примирения, после того, что вы нашли в себе силы духа снизойти до меня, как я полагаю теперь, нанёсшего вам обиду, но я не в силах больше молчать об этом, и пусть будет так, пусть будет сразу. Решите вы мою судьбу, которая теперь только в одних ваших руках, и сделаете меня или же счастливейшим из смертных, или же...
Тентетников сбился, видать, никак не шло ему на ум нужного сравнения.
Генерал Бетрищев глядел на него внимательно, без улыбки, и с лица его улетучились последние остатки сонливости.
— Одним словом, Александр Дмитриевич, я давно уж люблю вашу дочь и прошу у вас руки Ульяны Александровны, — проговорил Тентетников не то чтобы скороговоркой, но как—то разом, точно в воду бросился.
Генерал сидел так же, без улыбки; глядя на Тентетникова и мундштуком трубки указавши ему на кресло, за которое тот цеплялся, сказал:
— Садитесь, милостивый государь.
И Тентетников сел в своей давешней манере, на самом краешке сиденья.
— Не буду лгать вам, — произнёс генерал, наклоняясь, вперёд, — что ждал от вас подобного предложения, ибо только слепец не заметил бы вашего к Улиньке чувства, и ещё вчера, да что там вчера, ещё сегодня утром я и помыслить не мог бы об вас как о зяте... Вы уж простите, что я вам это при Павле Ивановиче всё говорю, но он не чужой здесь, — сказал генерал, а по лицу Чичикова блеснула довольная улыбка.
— Павел Иванович мне друг... — вставил с потерянным видом Тентетников.
— Ну, тем более, — продолжал генерал. — Но сегодня, может быть благодаря участию именно Павла Иванович, я во многом поменял мнение об вас. И хочу вам сказать: если Ульяна Александровна любит вас и не противится вашему предложению, то вот вам моё отеческое благословение.
— Поздравляю, поздравляю, Александр Дмитриевич! — схватился с кресла Чичиков, — поздравляю, Андрей Иванович! — Он оказался промеж двух господ и жал руки попеременно то одному, то другому, а затем, изловчившись, поймал одного за руку своею левою рукою, другого — правою, прижал их к своей пухлой груди и, улыбаясь чуть ли не сквозь слёзы, говорил: "Ах, как я рад, как я рад!" Одним словом, суетился так, точно он был чуть ли не первое лицо в этой сцене. А где—то далеко, внутри его сердца какой—то маленький и злобный Чиченок сидел и нашёптывал: "Ну что, и эта не твоя, и это не твоя". — "Да, жаль, такая девица", — сокрушаясь, подумал он.
Призвали Ульяну Александровну и она, страшно конфузясь, подтвердила отцу, что она просит отцова благословения. Генерал приказал принести образа и благословил их на образе. Тут и Улинька и Андрей Иванович поднялись с колен и подошли к Александру Дмитриевичу для целования. Улинька обняла отца уткнувшись в грудь, зарыдала, да и генерал, до сей поры хранивший суровость на челе, тоже прослезился и, погладив её по спине, сказал, обращаясь к Тентетникову:
— Всё, Андрей Иванович, твоя она теперь, береги её, ведь самое драгоценное, что только у меня есть, отдаю тебе, — и отвернувшись, достал платок с тем, чтобы протереть себе глаза. Тут подошёл к нему Павел Иванович и, подхватив под локоток отвёл в угол кабинета, что—то приговаривая со своею всегдашнею приятною улыбкою, давая молодым оборотиться друг на друга. Генерал на слова Павла Ивановича кивал головою, а затем высморкнул нос и, собравшись с чувствами, обратился к своему будущему зятю. — Ну, Андрей Иванович, насчёт свадьбы, чай, уже между собой посоветовались? — спросил он. — Я же как думаю, что нужно бы не раньше осени.
— А мы хотели к лету, — несколько разочарованно вставила Улинька.
— Нет, к лету неудобно, — сказал генерал. — К лету не успеется, а в лето нельзя, нехорошо, дел много, да и твоему же жениху не до свадьбы будет. Потом ведь и прикупить многое придётся, и перестроиться, небось, тоже надо будет. Родственников известить, собрать их здесь вместе.
— Насчёт родственников не извольте беспокоиться, — ввернул Чичиков, — готов здесь вам помощь оказать любую. Если надо, поеду аж до самого Архангельска.
А сам, конечно же, принял расчёт, что исполнение сего поручения и в его главном занятии придётся весьма кстати: новые места и новые люди — вот то, что нужно было Павлу Ивановичу.
— За Улинькой даю я двести душ крепостных и триста тысяч рублей, из них сто тысяч золотом, остальное ассигнациями, объявил его превосходительство зятю приданое, — к тому прилагается ещё деревня Михайловка и три тысячи десятин земли. Земли все поёмные да луга, так что не бесприданницею берёшь, братец, баловницу мою, — прихлопнувши в ладоши и улыбнувшись, закончил объявление приданого генерал.
— По чести сказать, Александр Дмитриевич, Ульяна Александровна люба мне и безо всякого приданого. Одного только счастья быть рядом с нею и того с меня достаточно, — с поклоном отвечал Тентетников.
А Чичиков как услыхал объявленное генералом приданое, так и заскучал, хотя наружно не показал этого никак. "Надо же, экой вороне и такое счастье, — думал Чичиков, поглядывая на Тентетникова. — Ворона, одно слово — ворона!"
Позднее, когда улеглись поздравления и поцелуи, когда все положенные в таких случаях слёзы были не только выплаканы, но и вытерты вынутыми из карманов и кармашков платками, его превосходительство генерал Бетрищев оговорил с Павлом Ивановичем небольшой список родственников, которых, как он считал, надо было известить о помолвке Ульяны Александровны с Андреем Ивановичем Тентетниковым.
— Вот завтра с утра пораньше и отправлюсь в объезд, — сказал Павел Иванович, принимая из рук Александра Дмитриевича списочек и аккуратно заправляя его в жилетный кармашек. — С утра пораньше и отправлюсь, — повторил он, прихлопнувши ладошкой по карману, точно давая понять, как хорошо и надёжно лежать списочку в его жилетном кармане.
Стало совсем уж поздно, и Чичиков с Тентетниковым собрались уезжать. Молодые простились у стеклянных ведущих на веранду дверей, Ульяна Александровна поцеловала на ночь папа и прошла к себе во второй этаж, а Павел Иванович и Тентетников в сопровождении рослого камердинера, несшего в руках подсвечник с ярко горящими свечами прошли к коляске и, погрузившись в неё, отправились восвояси.
Ульяна Александровна, прошед к себе, села у столика, по которому стояли многие дорогие её сердцу безделушки и среди которых в чёрной узорчатой рамке стоял портрет чудесной красавицы. Улинька глядела в это неживое, написанное дворовым художником лицо, в эти давно уж закрывшиеся глаза и чувствовала, как её собственные глаза заплывают слезами. Она чувствовала несказанную горечь от того, что не было с ней рядом, в такой важный для всей её будущности день, матери, что с раннего детства своего была она обделена материнской любовью. И ей хотелось верить, что сейчас из той неведомой дали, в которую уносятся души усопших, мать её видит и благословляет. Она молилась об этом, молилась о том, чтобы будущая её жизнь с мужем была бы счастливою, молилась о том, чтобы быть Андрею Ивановичу хорошею женою, и слёзы её лились непрестанно, горькие и сладкие в одно время слёзы.
А тем временем герой наш трясясь в коляске рядом с Тентетниковым и позёвывая в кулак, пытался что—то не совсем впопад отвечать на слова Андрея Ивановича, говорившего без умолку.
— Павел Иванович! Павел Иванович! — говорил тот, — вы себе даже представить не можете, как я сегодня счастлив. Ведь ещё только вчера всё казалось конченным, ничто не влекло к себе, а сегодня всё, всё перевернулось. Всё вышло неожиданно, счастливо, по—новому. И я твёрдо знаю, что новая жизнь меня ожидает, и я всё в этой новой жизни сделаю хорошего. Вот увидите, Павел Иванович! Я всего добьюсь. Всё переустрою. И всё это благодаря вам. Ведь вы явились в мою жизнь точно волшебник. Так всё в один день переменить мог только волшебник. И я вам по гроб жизни теперь обязан, Павел Иванович. Позвольте мне считать вас своим братом, вот вам моя в том рука, — приподнятым тоном произнёс Тентетников, сунувши Чичикову руку для пожатия.
— А? Что? — спросил клюющий носом Чичиков, а потом, сообразивши, что к чему, и пробормотавши: — Да, да, конечно, — пожал белеющую в темноте протянутую Андреем Ивановичем руку.
— Что, где мы? — спросил он у Тентетникова, оглядываясь по сторонам, — далеко ещё?
— Нет, ещё четверть часа — и приедем, — говорил Тентетников, а Чичиков, пихнув Селифана, сказал: - Что так тащишься, болван?! — на что Селифан отвечал:
— Так ведь темно, Павел Иванович, не ровен час ещё и коляску завалишь, сами ведь, небось, потом браниться будете.
— Знаете ли что, любезный, — обратился Чичиков к Андрею Ивановичу, — у меня до вас будет одна необычная просьба. В сущности, полная безделица, но для меня нужная, я вам потом, когда приедем, открою обстоятельства мои: и смех, и грех, как говорится, связанные с моим престарелым дядей, так вот, дорогой мой Андрей Иванович, обещайте не отказать, но держать всё это в тайне, так как это щекотливо для меня.
— О чём вы говорите, Павел Иванович, конечно же, выполню любую вашу просьбу, — радушно и не задумываясь отозвался Тентетников.
"Ну, вот и хорошо, — подумал Чичиков, — ещё одиннадцать душ, очень удачный день". И он, привалясь к краю коляски, намеревался было ещё чуть—чуть вздремнуть, но тут новые сказанные Тентетниковым слова отвлекли его от дремоты.
— А знаете ли, Павел Иванович, что когда я увидел вас впервые въезжающим на двор мой, очень испугался. Принял за чиновника, приехавшего по мою душу... — и Андрей Иванович, пребывая в счастливом настроении, выложил Чичикову всю историю касательно тайного общества, подчеркнув, однако, своё осуждение этого общества и скорый из него выход. Бедный Андрей Иванович! Если бы только он взглянул на Чичикова: ведь у того разве что не по—волчьи горели глаза.
На следующее утро Павел Иванович проснулся рано и в хорошем настроении. Намедни, по возвращении домой, рассказал он нервически счастливому Андрею Ивановичу историю о несуществующем дядюшке, якобы помешавшемся на племянниковых трёхстах крепостных душах, одним словом, рассказал то же, что и его превосходительству генералу Бетрищеву, подпустил к этой истории ещё кое—где туману, для пущей важности, и они с Тентетниковым в тот же вечер совершили купчую на бывшие у Андрея Ивановича мёртвые души.
— За вас буду в казну подати платить, цените это, — пошутил Чичиков, на что Андрей Иванович ничего не сказал, а лишь только улыбнулся.
Потягиваясь сегодня в постели, Чичиков чувствовал в каждом уголке своего отдохнувшего за ночь тела приятный покой и весёлую уверенность в себе.
Вставши и умывшись холодною водою, он прошёл в столовую, где быстро позавтракал и не мешкая, не дожидаясь выхода Андрея Ивановича, собрался отбыть с визитами к родственникам генерала Бетрищева. Велев Селифану заложить бричку, он прошёл на половину Тентетникова и на правах друга, столь много позаботившегося об несчастном Андрее Ивановиче, постучался к нему в спальню.
— Андрей Иванович, проститься пришёл, — вскричал он из—за притворенной двери, — с объездом отправляюсь, по поручению его превосходительства, вашего "батюшки", — пошутил он, сопровождая слова свои мягким смешком.
В спальной простучало, проскрипело, и в отворённые двери вышел заспанный Андрей Иванович.
— Ох, простите, Павел Иванович, за вид, — сказал он запахиваясь в халат, — не думал, что вы так рано поедете.
— Надо мой друг, надо — сказал Чичиков, извлекая из жилетного кармана список, коим снабдил его генерал, и приступая к расспрашиванию об именах, означенных в списке: где, кто живёт, да каково поместье, да сколько душ и прочее, что было так необходимо для его основной затеи.
Первым в списке было проставлено имя некоего полковника Кошкарёва.
— Вот с него и начну, — сказал Чичиков и, глянувши на Тентетникова, уловил его странную двусмысленную улыбку.
— Что—нибудь не так? — спросил Чичиков, а Тентетников снова как—то странно улыбнулся и сказал:
— Павел Иванович, вы когда к нему приедете, то ничему не удивляйтесь. Он ведь немного чудаковатый, если не сказать более, — Тентетников хотел ещё что—то добавить, но промолчал. — Да вы сами увидите, — сказал он. — Кстати, Павел Иванович, я вот ведь что хотел вам предложить, но только ради бога, дайте мне слово, что не откажете в просьбе, — прибавил Андрей Иванович, точно бы вспомнивши нечто важное, и с вопросом во взоре глянул на Чичикова.
— Обещаю, — отозвался тот, — и всегда к вашим услугам.
— Ну так вот, — обрадованно проговорил Тентетников, потому как дорога вам предстоит неблизкая, то я хотел, чтобы вы, Павел Иванович, приняли от меня в качестве чистосердечного дара новую мою коляску. Я думаю, что в ней вам будет куда как удобнее, нежели чем в бричке.
У Чичикова от такого предложения радостно ёкнуло сердце, он принялся было отнекиваться для виду, говоря, что ни за что и никогда не согласится принять подобный подарок, но Тентетников не отступал, коря его за то, что он нарушает данное им же только что слово, и, попререкавшись подобным манером минуты две—три, Павел Иванович согласился, якобы уступая настойчивости Андрея Ивановича, на самом же деле будучи вне себя от радости.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Если полковник Кошкарёв точно, сумасшедший, то это недурно, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда всё исчезло и только остался один небесный свод да два облака в стороне. — Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкарёву?
— Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как всё хлопотал около коляски, так мне некогда было; а Петрушка расспрашивал у кучера.
— Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно, Петрушка глуп; Петрушка, чай, и теперь пьян.
— Ведь тут не мудрость какая! — сказал Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса.
— Окроме того, что, спустясь с горы, взять лугом, ничего больше и нет.
— А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал? Хорош, очень хорош! Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу! — сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: "Какая, однако ж, разница между просвещённым гражданином и грубой лакейской физиономией!"
Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми рощами.
Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и наконец понёсся лугами мимо мельниц, с лёгким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам! Утешенье, а <не> коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою всё не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась берёза, там ель. У корней гущина; трава — синяя ирь и жёлтый лесной тюльпан. [Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось,] готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро — водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу, над озером, высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия: вместе с рыбою запутался как—то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку: "Телепень Денис, передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома Большой! Ступай туды, где Фома Меньшой. Черти! Говорю вам, оборвёте сети!" Арбуз, как видно, боялся не за себя: потонуть, по причине толщины, он не мог, и, как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его всё выносила наверх; и если бы село к нему на спину ещё двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая да пуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба и потому, сверх прочего, тащили его ещё накинутыми верёвками несколько человек, стоящих на берегу.
— Должен быть барин, полковник Кошкарёв, — сказал Селифан.
— Почему?
— Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.
Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он стал на ноги, и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.
— Обедали? — закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
— Нет, — сказал Чичиков, приподнимая картуз и продолжая раскланиваться с коляски.
— Ну, так благодарите же бога!
— А что? — спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.
— А вот что. [Брось, Фома Меньшой, сеть, да приподыми] осетра из лоханки! Телепень Козьма, ступай помоги!
Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого—то чудовища.
— Вона какой князь! Из реки зашёл! — кричал круглый барин. — Поезжайте во двор! Кучер, возьми дорогу пониже, через огород! Побеги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Он вас проводит, а я сейчас.
Длинноногий босой Фома Большой, как был, в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешены были бредни, сети и морды: все мужики были рыбаки; потом вынул из какого—то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь, близ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.
"Чудаковат этот Кошкарёв", — думал Чичиков про себя.
— А вот я и здесь! — раздался голос сбоку.
Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый: травяно—зелёный нанковый сертук, жёлтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Он хотел было что—то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том <месте>, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: "Фома Большой да Фома Меньшой, Козьма да Денис!" Когда же подъехал он крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин бы уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать — было непостижимо. Они поцеловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрест: барин был старого покроя.
— Я привёз вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.
— От какого превосходительства?
— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.
— Кто это Александр Дмитриевич?
— Генерал Бетрищев, — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
— Незнаком, — сказал с изумлением х<озяин>.
Чичиков пришёл ещё в большее изумление.
— Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкарёвым?
— Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Пётр Петрович Петух! Петух Пётр Петрович! — подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
— Как же? — оборотился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски. — Как же вы, дураки? Ведь вам сказано: к полковнику Кошкарёву... А ведь это Пётр Петрович Петух...
— Ребята сделали отлично! Ступай на кухню: там вам дадут по чапорухе водки, — сказал Пётр Петрович Петух. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!
— Я совещусь: такая нежданная ошибка... — говорил Чичиков.
— Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, — сказал <Петух> взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.
Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках — тонкие, точно ивовые хлысты; целым аршином выгнало их вверх [выше] отцовского роста.
— Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники... Николаша, ты побудь с гостем; а ты Алексаша, ступай за мною. — Сказав это, хозяин исчезнул.
Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек—дрянцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому <что> провинция не стоит того, чтобы в ней жить...
"Понимаю, — подумал Чичиков, — кончится дело кондитерскими да булеварами..."
— А что, — спросил он вслух, — в каком состоянии именье вашего батюшки?
— Заложено, — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, — заложено.
"Плохо, — подумал Чичиков. — Этак скоро не останется ни одного именья: нужно торопиться".
— Напрасно, однако же, — сказал он с видом соболезнованья, — поспешили заложить.
— Нет, ничего, — сказал Петух. — Говорят, выгодно. Все закладывают: как же отставать от других? Притом же всё жил здесь: дай—ка ещё попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещенья столичного.
"Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает всё, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное. Поглядишь — мужикам хорошо, и им недурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам — всё пойдет к черту. Жил бы себе, кулебяка, в деревне".
— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух.
— Что? — спросил Чичиков, смутившись.
— Вы думаете: "Дурак, дурак этот Петух: зазвал обедать, а обеда до сих пор нет". Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.
— Батюшка! Платон Михалыч едет! — сказал Алексаша, глядя в окно.
— Верхом на гнедой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну.
— Где, где? — прокричал Петух, подступив <к окну>.
— Кто это Платон <Михайлович>? — спросил Чичиков у Алексаши.
— Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек, — сказал сам <Петух>.
Между тем вошёл в комнату сам Платонов, красавец, стройного роста, светло—русый: [блестящие кудри и тёмные глаза]. Гремя медным ошейником, мордатый пёс, собака—страшилище именем Ярб, вошёл вслед за ним.
— Обедали? — спросил хозяин.
— Обедал.
— Что же вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?
Гость, усмехнувшись, сказал:
— Утешу вас тем, что ничего не ел: вовсе нет аппетита.
— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Какие карасищи, коропищи какие!
— Даже досадно вас слушать. Отчего вы всегда так веселы?
— Да отчего же скучать? Помилуйте! — сказал хозяин.
— Как отчего скучать? — оттого, что скучно.
— Мало едите, вот и всё. Попробуйте—ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку; прежде никто не скучал.
— Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?
— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснёшься — ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть — опять повар, нужно заказывать ужин. Когда же скучать?
Во всё время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным, картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком не опозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что—либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нём морщину, но с тем вместе и не оживили его. Оно оставалось как—то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую.
— Я также, если позволите заметить, — сказал он, — не могу понять, как при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь...
— Поверьте, — прервал красавец гость, — что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую—нибудь тревогу: ну, хоть бы кто рассердил меня, — и того нет. Скучно, да и только.
— Стало быть, недостаточность земли по имению, малое количество душ?
— Ничуть. У нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них больше тысячи человек крестьян.
— Странно, не понимаю. Но, может быть, неурожай, болезни? Много вымерло мужеска пола людей?
— Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.
— И при этом скучать! Не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами.
— А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?
Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, непрестанно принося что—то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названья эти были им даны так только для поощренья. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русский человек уж любит пряное слово. [Оно ему] нужно, как рюмка водки для сваренья в желудке. Что ж делать? Такая натура: ничего пресного не любит.
Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал тут же другой, приговаривая: "Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете". У кого два — подваливал ему третий, приговаривая: "Что ж за число два? Бог любит троицу". Съедал гость три — он ему: "Где ж бывает телега о трёх колёсах? Кто ж строит избу о трёх углах?" На четыре у него была тоже поговорка, на пять — опять. Чичиков съел чего—то чуть не двенадцать ломтей и думал: "Ну, теперь ничего не приберёт больше хозяин". Не тут—то было: не говоря ни слова положил ему на тарелку хребтовую часть телёнка, жареного на вертеле, с почками, да и какого телёнка!
— Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном!
— Не могу, — сказал Чичиков.
— Вы попробуйте да потом скажите: не могу!
— Не взойдёт, нет места.
— Да ведь и в церкви не было места, взошёл городничий — нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок тот же городничий.
Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.
"Ну, как этакому человеку ехать в Петербург или в Москву? С этаким хлебосольством он там в три года проживётся в пух!" То есть, он не знал того, что теперь это усовершенствовано: и без хлебосольства спустить не в три года, а в три месяца всё.
Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмку за рюмкой; вперёд видно <было, на> какую часть человеческих познаний обратят <они> внимание по приезде в столицу. С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин, как сел в своё, какое—то четырёхместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя: и барабан и флейта, какой—то отрывистый гул, точный собачий лай.
— Эк его насвистывает! — сказал Платонов.
Чичиков рассмеялся.
— Разумеется, если этак пообедаешь, как тут прийти скуке! Тут сон придёт. Не правда ли?
— Да. Но я, однако же, — вы меня извините, — не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.
— Какие же?
— Да мало ли для молодого человека? Танцевать, играть на каком—нибудь инструменте... а не то — жениться.
— На ком?
— Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?
— Да нет.
— Ну, поискать в других местах, поездить. — И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. — Да вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в глаза Платонову.
— Какое?
— Путешествие.
— Куда ж ехать?
— Да если вам свободно, так поедем со мной, — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: "А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счёт".
— А вы куда едете?
— Покамест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников... Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя: ибо видеть свет, коловращенье людей — кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука. — И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: "Право, было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счёт, даже и отравиться на его лошадях, а мои бы покормились у него в деревне".
"Почему ж не поездиться? — думал между тем Платонов. — Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?"
— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.
— С большим удовольствием. Хоть три.
— Ну так по рукам! Едем! — сказал, оживясь, Платонов.
Они хлопнули по рукам: "Едем!"
— Куда, куда? — вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. — Нет, сударики! И колёса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платон Михайлыч, угнали отсюда за пятнадцать вёрст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.
Что было делать с Петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые впоперёк реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все вёсла вверх, и катер сам собой, как лёгкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень—запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни, пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И Петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал: "Что хорошего в этой заунывной песне? От неё ещё большая тоска находит на душу".
Возвращались назад уже сумерками. Впотьмах ударяли вёсла по водам, уже не отражавшим неба. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни; на треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Всё уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашение к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, бреханье собак, где—то отдававшееся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и всё озарилось. Чудные картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша вместо того чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живей оказался Чичиков. "Эх, право! Заведу когда—нибудь деревеньку!" И стали ему представляться и бабёнка и Чичонки.
А за ужином опять объелись. Когда вошёл Павел Иванович в отведённую комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: "Барабан! — сказал, — никакой городничий не взойдёт!" Надобно <же быть> такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось всё, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мёртвого родился бы аппетит.
— Да кулебяку сделай на четыре угла, — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. — В один угол положи ты мне щёки осетра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь там этакого, какого—нибудь там того... Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого пусти её полегче. Да исподку—то, пропеки её так, чтобы всю её прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого — не то чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал. — Говоря это, Петух присмактывал и подшлёпывал губами.
"Чёрт побери! Не даст спать", — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:
— А в обкладку к осетру подпусти свёклу звёздочкой, да снеточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки да морковки, да бобков, там чего—нибудь этакого, знаешь, того—растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько.
Много ещё Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: "Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько!" Заснул Чичиков уже на каком—то индюке.
На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом Петуха.
Они сели в коляску. Мордатый пёс лениво пошёл за коляской: он тоже объелся.
— Это уже слишком, — сказал Чичиков, когда выехали он со двора.
— А не скучает, вот что досадно! — сказал Платонов.
"Было бы у меня, как у тебя, семьдесят тысяч в год доходу, — подумал Чичиков, — да я бы скуку и на глаза к себе <не допустил>. Вот откупщик Муразов, — легко сказать, — десять миллионов... Экой куш!"
— Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем.
— С большим удовольствием, — сказал Чичиков.
— Если вы охотник до хозяйства, — сказал Платонов, — то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в десять лет возвёл своё именье до <того>, что вместо тридцати теперь получает двести тысяч.
— Ах, да это, конечно, предпочтенный человек! Это преинтересно будет с этаким человеком познакомиться. Как же? Да ведь это сказать... А как по фамилии?
— Костанжогло.
— А имя и отчество, позвольте узнать?
— Константин Фёдорович.
— Константин Фёдорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека.
Платонов принял на себя руководить Селифаном, — что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза сторчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его верёвкой к козлам. "Экая скотина" — повторял только Чичиков.
— Вот, поглядите—ка, начинаются его земли, — сказал Платонов, — совсем другой вид.
И в самом деле, через всё поле сеяный лес — ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодник; за ними старый лесняк, и всё один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образ молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса.
— Это всё у него выросло каких—нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать <не вырастет>.
— Как же это он сделал?
— Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него три, четыре должности разом отправляет. Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком—то месте не столько—то влаги прибавить полям, на столько—то унавозить падающим листом, на столько—то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки... Его называют колдуном.
"В самом деле, это изумительный муж, — подумал Чичиков. — Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать".
Наконец показалась деревня. Как бы город какой, высыпалась она множеством изб на трёх возвышениях, увенчанных тремя церквами, переграждённая повсюду исполинскими скирдами и кладями. "Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин—туз". Избы все крепкие, улицы торные; стояла ли где телега — телега была крепкая и новёшенькая; мужик попадался с каким—то умным выражением лица; рогатый скот на отбор; даже крестьянская семья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поётся в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но, по—старинному, шёл проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы всё было видно барину, что ни делается вокруг его; и в довершение — поверх дома фонарь обозревал на пятнадцать вёрст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, казацкие чекмени синего домашнего сукна.
Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком; хороша, как божий день; походила как две капли на Платонова, с той разницей только, что не была вяла, как он, но разговорчива и весела.
— Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что ты приехал. А Константина нет дома; но он скоро будет.
— Где ж он?
— У него есть дело на деревне с какими—то покупщиками — говорила она, вводя гостей в комнату.
Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал двести тысяч думая по нём отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей своё отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты: ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, всё показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырёх стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом, у огня перед камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и претворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства: на столах и стульях были поставлены чистые липовые доски и на них лепестки каких—то цветков, приготовленные к сушке.
— Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? — сказал Платонов.
— Как дрянь! — сказала хозяйка. — Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый <год> всех мужиков. А это для настоек; а это для варенья. Вы всё смеётесь над вареньями да над соленьями; а потом, когда едите, сами же похваливаете.
Платонов подошёл к фортепиано и стал разбирать ноты.
— Господи! Что за старина! — сказал он. — Ну не стыдно ли тебе, сестра?
— Ну, уж извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня осьмилетняя дочь, которую я должна учить. Сдать её на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки, — нет, извини, брат, этого—то не сделаю.
— Какая ты, право, стала скучная, сестра! — сказал брат и подошёл к окну. — А! Вот он! Идёт! Идёт! — сказал Платонов.
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего <сукна?>. О наряде своём он не думал. На нём был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия, — шли, разговаривая и о чём—то с <ним> толкуя. Один — простой мужик, другой — какой—то заезжий кулак и пройдоха, в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.
— Вы вот что лучше сделайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы: вы после мне отработаете.
— Нет, Константин Фёдорович, что уж откупаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж эдакого умного человека нигде во всём свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережёшь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так те живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как всё спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей—богу! Всё заводят, чтобы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие такие... Что ж делать, Константин Фёдорович? Человек — не удержишься.
— Послушай, да ведь вот в чём дело. Ведь у меня всё—таки неволя. Это правда, что с первого разу всё получишь — и корову и лошадь; да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай — первое; мне ли, или себе, но уж я не дам никому залежаться. Я и сам работаю как вол, и мужики у меня; потому что испытал, брат: вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между <собой>.
— Да мы—с толковали уж об этом, Константин Фёдорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат: уж это недаром; и священники таки сердобольные. А ведь у нас и тех взяли, и хоронить некому.
— Всё—таки ступай и переговори.
— Слушаю—с.
— Так уж того—с, Константин Фёдорович, уж сделайте милость посбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке.
— Уж я сказал: торговаться я не охотник. Я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех: у вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудрёного? Ему приспичит, ну, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мне в ломбард не нужно уплачивать.
— Настоящее дело, Константин Фёдорович. Да ведь я того—с, оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять. — Кулак вынул из—за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука.
"Гм! — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок".
Костанжогло показался в дверях гостиной. Он ещё более поразил Чичикова смуглостью лица, жёсткостью чёрных волос, местами до времени поседевших, живым выраженьем глаз и каким—то желчным отпечатком пылкого южного происхожденья. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку нейдёт и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского.
Платонов представил Чичикова. Они поцеловались.
— Вот решился проездиться по разным губерниям, — сказал Платонов, — размыкать хандру. И вот Павел Иванович предложил ехать с ним.
— Прекрасно, — сказал Костанжогло. — В какие же места, — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь направить путь?
— Признаюсь, — сказал Чичиков, приветливо наклоня голову набок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку, — еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого, генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращенье людей... есть, так сказать, живая книга, та ж наука.
— Да, заглянуть в иные уголки не мешает.
— Превосходно изволили заметить: именно, истинно, действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай... К вам прибегаю, почтеннейший Константин Фёдорович, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьем истины. Жду, как манны, сладких слов ваших.
— Чему же, однако?... Чему научить? — сказал Костанжогло, смутившись. — Я и сам учился на медные деньги.
— Мудрости, почтеннейший, мудрости! Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства, мудрости извлекать доходы верные, приобресть имущество не мечтательное, а существенное, исполня тем долг гражданина, заслужа уваженье соотечественников.
— Знаете ли что, — сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении, — останьтесь денёк у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всём. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.
— Конечно, останьтесь, — сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила: — Брат, оставайся, куды тебе торопиться?
— Мне всё равно. Как Павел Иванович?
— Я тоже, я с большим удовольствием... Но вот обстоятельство: родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кошкарёв...
— Да ведь он сумасшедший.
— Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель и, так сказать, благотворитель...
— В таком случае, знаете что? — сказал <Костанжогло>, — поезжайте, к нему и десяти вёрст нет. У меня стоят готовые пролётки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю.
— Превосходная мысль! — вскрикнул Чичиков, взявши шляпу.
Пролётки были ему поданы и с полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и брёвен по всем улицам. Выстроены были какие—то дома, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: "Депо земледельческих орудий"; на другом: "Главная счётная экспедиция"; далее: "Комитет сельских дел". "Школа нормального просвещенья поселян". Словом, чёрт знает чего не было!
Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки с пером с зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек: стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния; с соболезнованием жаловался как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляет человеку просвещённая роскошь, искусство и художество; что баб он до сих <пор> не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в четырнадцатом году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано; что, однако же, несмотря на всё упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина, или Виргилиевы "Георгики", или "Химическое исследование почв".
"Да, как бы не так"! — подумал Чичиков. — А вот я до сих пор ещё "Графини Лавальер" не прочёл, всё нет времени".
Много ещё говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны — науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России.
Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал: "С этим, кажется, чиниться нечего", — и тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах, с совершеньем таких—то крепостей и всех обрядов.
— Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, нимало не смутясь, — это просьба, не так ли?
— Так точно.
— В таком случае изложите её письменно. Просьба пойдёт в контору принятия рапортов и донесений. [Контора], пометивши, препроводит её ко мне; от меня поступит она в комитет сельских дел; оттоле, по сделании выправок, к управляющему. Управляющий совокупно с секретарём...
— Помилуйте! — воскликнул Чичиков, — ведь этак затянется бог знает! Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело... Души ведь некоторым образом мёртвые.
— Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мёртвые.
— Но ведь как же — мёртвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мёртвые, но нужно, чтобы казалось как бы были живые.
— Хорошо. Вы так и напишите: "но нужно, или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы живые". Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример — Англия и сам даже Наполеон. Я вам отряжу комиссионера, который вас проводит по всем местам.
Он ударил в звонок. Явился какой—то человек.
— Секретарь! Позвать ко мне комиссионера! — Предстал комиссионер, какой—то не то мужик, не то чиновник. — Вот он вас проводит <по> нужнейшим местам.
Чичиков решился из любопытства пойти с кимиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел её Хрулёв был переведён во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский; но он тоже был куда—то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел — там переделка: разбудили какого—то пьяного, но не добрались от него никакого толку. "У нас бестолковщина, — сказал, наконец, Чичикову комиссионер. — Барина за нос водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения: отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения". Он, было видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но, пришедши, рассказал полковнику, что так и так у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов и вовсе нет.
Полковник воскипел благородным негодованьем, крепко пожавши руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками; как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на следствие; и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений?
"Ну кутерьма!" — подумал Чичиков и хотел уже уехать.
— Нет, я вас не отпущу. Теперь уже собственное моё честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех: окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди... Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше <прошу> посидеть у меня в библиотеке, — сказал полковник, отворяя боковую дверь. — Тут книги, бумага, перья, карандаши, всё. Пользуйтесь всем: вы — господин. Просвещение должно быть открыто всем.
Так говорил Кошкарёв, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там и чучела животных. Книги по всем частям: по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто <их> не читает. Видя, что всё это были книги не для приятного препровождения <времени>, он обратился к другому шкафу — из огня в полымя: все книги философии. Шесть огромных томищей предстало ему пред глаза, под названием: "Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности". Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице: проявленье, развитье, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и чёрт знает чего там не было. "Это не по мне", — сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую—то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было другую в том же роде, как появился полковник Кошкарёв, с сияющим видом и бумагою.
— Всё сделано, и сделано отлично! Человек, о котором я вам говорил решительный гений. За это я поставлю <его> выше всех и для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова и как в несколько минут он решил всё.
"Ну, слава те Господи!" — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:
— "Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести оное:
I—е. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна".
— Плут! — сказал, остановившись, Кошкарёв с самодовольствием. — Тут он немножко кольнул вас. Но сознайтесь, какое бойкое перо!
— Во II—х, никаких незаложенных, не только близких к смерти, но и всяких прочих, по именью не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутораста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым и вследствие того под запрещеньем, о чём объявлено в сорок втором номере "Московских ведомостей".
— Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков.
— Да ведь нужно было, чтобы <вы> всё это увидели сквозь форму бумажного производства. Этак не штука. Бессознательно может и дурак увидеть, но нужно сознательно.
В сердцах, схвативши шапку, Чичиков — бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь: он был сердит. Кучер стоял с пролётками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овёс лошадям вышла бы только на другой день. [Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарёв, несмотря на все был с ним необыкновенно] учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал её к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно всё задремать и пружины управления заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль — устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелиться украсть.
Чичиков приехал, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горели свечи.
— Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.
— О чём вы это так долго с ним толковали? — сказал Платонов.
— Этакого дурака я ещё отроду не видывал, — сказал <Чичиков>.
— Это ещё ничего, — сказал Костанжогло. — Кошкарёв — утешительное явление. Он нужен затем, что в нём отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников, — вот этих всех умников, которые не узнавши прежде своего, набираются дури в чужих. Вон каковы помещики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссию, и чёрт их знает чего не завели! Вот каковы эти умники! Было поправились после француза двенадцатого года, так вот теперь всё давай расстроивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой—нибудь Пётр Петрович Петух ещё хороший помещик.
— Да ведь и он заложил теперь в ломбард, — сказал Чичиков.
— Ну да, всё в ломбард, всё пойдет в ломбард. — Сказав это Костанжогло стал понемногу сердиться. — Вон шляпный, свечной заводы, — из Лондона мастеров выписали свечных, торгашами поделились. Помещик — этакое званье почтенное — в мануфактуристы, фабриканты! Прядильные машины... кисеи шлюхам городским, девкам.
— Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов.
— А кто их заводил? Сами завелись! Накопилось шерсти, сбыть некуда — я начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые — по дешёвой цене их тут же на рынках у меня и разбирают, — мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду промышленники, — ну куды её девать? Я начал из неё варить клей, на сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.
"Экой чёрт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза, — загребистая какая лапа".
— Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год, и всё по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этаких фабрик у меня, брат, наберётся много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Рассмотри только попристальнее своё хозяйство — всякая дрянь даст доход, так что отталкиваешь, говоришь: не нужно. Ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами.
— Это изумительно... Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков.
— Да помилуйте! Если бы только брать дело попросту, как оно есть; а то ведь всякий — механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию, вот в чём дело. Дурачьё! — Сказавши это, Костанжогло плюнул. — И ведь глупее всего станет после того, как возвратится из—за границы.
— Ах, Константин! Ты опять рассердился, — сказала с беспокойством жена. — Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно.
— Да ведь как не сердиться? Добро бы, это было чужое, а то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было! Просвещение придёт ему в ум — сделается Дон—Кишотом просвещенья: заведёт такие школы, что дураку в ум не войдёт! Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, — только что пьяница да чувствует своё достоинство. В человеколюбье пойдёт — сделается Дон—Кишотом человеколюбья: настроит на миллион рублей бестолковейших больниц да заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру: вот и человеколюбье!
Чичикову не до просвещенья было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь даёт доход: но никак не дал ему Костанжогло вставить слова. Желчные речи уже лились из уст его, так что уже он их не мог удержать.
— Думают, как просветить мужика! Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить. Что пишут теперь эти щелкопёры! Пустит какой—нибудь молокосос заумную книжку, и так вот все и бросятся на неё. Вот что стали говорить: "Крестьянин ведёт уж очень простую жизнь; нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянья..." Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней чёрт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, как пузырь, — так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно ещё здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить бога. Да хлебопашцы для меня всех почтеннее — что вы его трогаете? Дай бог, чтобы все были хлебопашцы.
— Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливей заниматься? — спросил Чичиков.
— Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю — не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики — того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыту употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед богом прав… Я двадцать лет живу с народом; я знаю, какие от этого следствия.
— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, <что> и всякая дрянь даёт доход.
— Гм! Политические экономы! — говорил Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. — Хороши политические экономы! Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осёл, а ещё взлезет на кафедру, наденет очки... Дурачьё! — И во гневе он плюнул.
— Всё это так и всё справедливо, только, пожалуйста, не сердись, — сказала жена, — как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя.
— Слушая вас, почтеннейший Константин Фёдорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни, щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительное <время> разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то каким образом, как поступить?
— Как поступить, чтобы разбогатеть? — подхватил Костанжогло. — А вот как...
— Пойдем ужинать, — сказала хозяйка; она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.
Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, коромыслом подставил ей руку и повёл парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка и, лишённая крышки, разливала приятное благоуханье супа, напитанного свежей зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и всё, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские <разговоры>, а ещё более, чтобы глядели ему в рот в то время, когда он <ест>.
Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого—то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так:
— Позвольте почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращённого разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...
— То есть как бы я поступил, будучи на вашем месте, — полувопросительно проговорил Костанжогло.
— Да, именно так, — поддакнул Чичиков и, поудобнее разместив руки на приятно переваривающем обед животе, приготовился со вниманием слушать.
— Первое и главное, что я сделал бы, это заглянул бы к себе в карман, посчитал, сколько и чего в нём содержится и сколько я смогу ассигновать на покупку именья, — сказавши это Костанжогло загнул один палец на жилистой руке. — Второе, приглядел бы себе подходящее по цене имение. Что это должно означать? Главное — это не дом, не постройки, а земли. От того, какие земли и подо что вами приобретаются, зависят ваши дальнейшие и дом, и постройки, и прочее, — проговорил он, загибая второй палец. — Третье, найдя подходящее имение, прикинул бы тут же, что под какие культуры отводить, где скот пасти, где лес сеять.
— А как бы это сделать с толком и по—умному? — вставил Чичиков, на что Костанжогло, небрежно махнув рукой, отвечал:
— Ничего в этом мудрёного нет. Во—первых, сейчас много печатается дельного по этим вопросам, а во—вторых, на что мужик на земле русской? К мужику бы присмотрелся. Четвёртое правило — как раз касательно мужика. В купленном имении сделал бы ревизию тому, как мужики живут, кто к какой работе более способен, каково у них хозяйство. И не дом себе обставлял бы мебелями, не лошадей бы заводил для выезда, а укрепил бы мужика. Да я, собственно, здесь, у себя, с подобного и начинал. И наконец, пятое, — сказал он, сжавши все пальцы в плотный кулак, — это сам вставал бы раньше своих крестьян и ложился бы позже них.
Во всё время, что Константин Фёдорович называл причины, по которым, как он считал, каждый человек мог непременно стать богатым, Чичиков слушал со вниманием в лице, и всё сказанное Константином Фёдоровичем казалось таким простым, так отвечало его собственным мыслям, что Чичикову тут показалось, будто он сам так всегда и думал, а Костанжогло эти их общие мысли просто уже осуществил, он же Чичиков ещё не успел, вот и вся между ними разница. Всё тут показалось ему лёгким, всё выстроилось в ряд, и надо было только приниматься действовать.
— К слову сказать, — обратился Костанжогло к Чичикову, — тут от меня в пятнадцати верстах продаётся отличное имение. Хозяин его — Хлобуев Семён Семёнович — совершенный вертопрах, разорил себя вконец, и имение, конечно, в упадке, но я вам, Павел Иванович, по чести скажу, имение отменное. Как раз то, что надо для вас как для начинающего помещика. Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я бы ему тут же отсчитал.
— Гм! — Чичиков задумался. — А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторою робостью, — не покупаете его?
— Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разорёнными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело, чёрт их возьми.
— Как вообще люди способны к злословию! — сказал Чичиков.
— А уж как в нашей губернии — не можете себе представить! Меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всём извиняют. "Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников то есть, а этак, пожалуй, можно прожить свиньёй, как Костанжогло".
— Желал бы я быть этакой свиньёй! — сказал Чичиков.
— И всё это ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведёт, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И всё оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило: я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, — милости просим. Не даю денег взаймы — это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, — я тебе не откажу и не возьму даже процентов.
"Это, однако же, нужно принять к сведению", — подумал Чичиков.
— И никогда не откажу, — продолжал Костанжогло. — Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят! Чёрт побери! Он затевает там какой—нибудь обед любовнице, или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, или с распутницей в маскарад, юбилей там какой—нибудь в память того, что он даром прожил, а ему давай деньги взаймы!..
Здесь Костанжогло плюнул и чуть—чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень тёмной ипохондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и впоперёк его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи.
— Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращённого разговора, — сказал Чичиков, выпивая ещё рюмку малиновки, которая действительно была отличная. — Если бы, положим, я приобрёл то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени...
— Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенья духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.
— Вот оно как, — сказал Чичиков.
— Да, — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, — надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска, — да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провёл в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки, дурачьё, ослиное поколенье! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты — всё полнота. Одно это разнообразье занятий, притом каких занятий! — занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идёт рядом с природой, с временами года и соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите—ка круговой год работ: как ещё прежде, чем наступит весна, всё уж настороже и ждёт её; подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Весь <год> обсматривается вперёд и всё рассчитывается вначале. А как взломает лёд, да пройдут реки, да просохнет всё и пойдет взрываться земля — по огородам и садам работает заступ, по полям соха и бороны: садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица! Грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют! Пропитанье миллионов сеют! Наступило лето... А тут покосы, покосы... И вот закипела вдруг жатва; за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овёс. Всё кипит; нельзя пропустить минуты; хоть двадцать глаз имей — всем им работа. А как отпразднуется всё да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, риг, скотных дворов и в то же время все бабьи <работы>, да подведёшь всему итог и увидишь, что сделано, — да ведь это... А зима! Молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары. Идёшь и на мельницу, идёшь и на фабрики, идёшь взглянуть и на рабочий двор, идёшь и к мужику, как он там на себя колышется. Да для меня, просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь ещё, что всё это с какой целью творится, как вокруг тебя множится да множится, принося плод да доход, — да и сказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что тут деньги, — деньги деньгами, — но потому, что всё это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего и от тебя, как от какого—нибудь мага, сыплется изобилье и добро на всё. Да где вы найдёте мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. — Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!..
Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и всё бы он слушал.
— Константин! Пора вставать, — сказала хозяйка приподнявшись со стула.
Все встали. Подставив руку коромыслом, повёл Чичиков обратно хозяйку. Но уже недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами.
— Что ни расказывай, а всё, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов.
"Гость не глупый человек, — думал хозяин, — степенен в словах и не щелкопёр". И, подумавши так, стал он ещё веселее, как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашёл человека, умеющего слушать умные советы.
Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озарённой свечками, насупротив балконной стеклянной двери в сад, и глядели к ним оттоле звёзды, блиставшие над вершинами заснувшего сада, — Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно: точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенье всего, он уже получил всё желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: "Довольно!" Такое обаятельное расположенье навёл ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека. И живо врежется раз и навсегда и навеки, проведённый таким образом вечер, и удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его, — стены, углы и всякую безделушку.
Так и Чичикову заметилось всё в тот вечер: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фыркаканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: "Полно, не мучь его", — и весёлые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним оттоле, облокотясь на вершины дерев, осыпанная звёздами, оглашенная соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолиственных чащей.
— Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Фёдорович, — произнёс Чичиков. — Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.
Костанжогло улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова.
— Нет, уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором, точно, можно сказать — умный человек, которого я и подмётки не стою.
— Кто уж бы это такой мог быть? — с изумленьем спросил Чичиков.
— Это наш откупщик Муразов.
— В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.
— Это человек, который не то что именьем помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.
— И, говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия: десять миллионов, говорят, нажил.
— Какое десять! Перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.
— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот.
— Всенепременно. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие—нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле—то, поприще слишком просторно. Тут же и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену ему ни назначит, такая и останется, некому перебить.
— Господи боже ты мой! — проговорил Чичиков, перекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза Костанжогло, — захватило дух в груди ему.
— Уму непостижимо! Каменеет мысль от страха! Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки: для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчёт одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?
— Самым безукоризненным путём и самыми справедливыми средствами.
— Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы...
— Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям: прямой дорогой так и ступай, всё бери, что ни лежит перед тобой. Другой не подымет: всякому не по силам, — нет соперников. Радиус велик, говорю: что ни захватит — вдвое или втрое противу <самого себя>. А тысячи что? Десятый, двадцатый процент.
— И что всего непостижимей — что дело ведь началось с копейки.
— Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжогло. — Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретёт, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины, — с копейки, а не с рубля, — снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придётся потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздём прибита, да как перейдёшь все мытарства — тогда тебя умудрит и вышколит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвёшься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середнины. Кто говорит мне: "Дайте мне сто тысяч — я сейчас разбогатею", — я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, невольно помыслив о мёртвых душах, — ибо действительно начинаю с ничего.
— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты всё болтаешь.
— И непременно разбогатеете, — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куды девать доходы.
Как зачарованный сидел Павел Иванович; в золотой области грёз и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разыгравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: "Реки, реки потекут золота".
— Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.
— Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось, — сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб затянул ещё громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: "Полно тебе храпеть!" — и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям.
Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином всё становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной! Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре! Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов да завести не [фантастическое поместье]. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло: расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь старого; всё высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведётся стройный порядок и бойким ходом двинутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит; и подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдёт вымалываться из всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно за ум он не уважал ещё ни одного человека. Костанжогло был первый. Он понял, что с этим человеком нечего подыматься на какие—нибудь штуки. Его занимал другой прожект — купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было; пятнадцать тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть; остальное — как—нибудь, или заложивши в ломбард, или так просто, заставивши ждать. Ведь и это можно: ступай возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
На другой день всё обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства — просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Он показал Чичикову всё своё хозяйство. Всё было просто и так умно! Всё было так устроено, что шло само собой. Ни минуты времени не терялось даром, ни малейшей неисправности не случалось у поселянина. Помещик, как бы всевидец какой, вдруг поднимал его на ноги. Не было ленивца нигде. Не могло не поразить даже и Чичикова, как много наделал этот человек, тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству, и как пропадает без плодов жизнь столичного жителя, шаркателя по паркетам и любезника гостиных, или прожектёра, в своём закутке диктующего предписания в отдалённом углу государства. Чичиков совершенно пришёл в восторг, и мысль сделаться помещиком утверждалась в нём всё более и более. Костанжогло, мало того, что показал ему всё, сам взялся проводить его к Хлобуеву, с тем, чтобы осмотреть вместе с ним имение. Чичиков был в духе. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича; пролётки хозяина следовали за ними порожняком. Ярд бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. Целые пятнадцать вёрст тянулись по обеим сторонам леса <?> и пахотные земли Костанжогло. Всё провожали леса в смешении с лугами. Ни одна травинка не была здесь даром, всё как в божьем мире, всё казалось садом. Но умолкли невольно, когда началась земля Хлобуева: <пошли> скотом объеденные кустарники наместо лесов, тощая, едва подымавшаяся, заглушённая куколем рожь. Наконец вот выглянули не обнесённые загородью ветхие избы и посреди их оставшийся вчерне каменный необитаемый дом. Крыши, видно, не на что было сделать. Так он и остался покрытый сверху соломой и почернел. Хозяин жил в другом доме, одноэтажном. Он выбежал к ним навстречу в старом сертуке, растрёпанный и <в> дырявых сапогах, заспанный и опустившийся, но было что—то доброе в лице.
Обрадовался им, как бог весть чему: точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.
— Константин Фёдорович! Платон Михайлович! Вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! А уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает — попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Фёдорович! Вижу — сам всему виной. Что делать? Свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите с дырами. Чем прикажете потчевать?
— Без церемоний. Мы к вам за делом. Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков, — сказал Костанжогло.
— Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.
Чичиков дал ему обе.
— Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания... Да что, господа, позвольте спросить: вы обедали?
— Обедали, обедали, — сказал Костанжогло, желая отделаться. — Не будем мешкать и пойдём теперь же.
— Пойдём. — Хлобуев взял в руки картуз.
Гости надели на головы картузы, и все пошли улицею деревни.
С обеих сторон глядели слепые лачуги, с крохотными заткнутыми онучей [окнами].
— Пойдём же осматривать беспорядки и беспутство моё, — говорил Хлобуев. — Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Фёдорович, курицы нет в доме — до того дожил!
Он вздохнул и, как бы чувствуя, что мало участия со стороны Константина Фёдоровича, подхватил под руку Платонова и пошёл с ним вперёд, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
— Трудно, Платон Михалыч, трудно! — говорил Хлобуев Платонову. — Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье. Ведь это для вас слова иностранного языка. Трын—трава бы это было всё, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей — сгрустнётся, поневоле сгрустнётся...
— Ну, да если вы продадите деревню — это вас поправит? — спросил Платонов.
— Какое поправит! — сказал Хлобуев, махнувши рукой. — Всё пойдет на уплату долгов, а для себя не останется и тысячи.
— Так что ж вы будете делать?
— А бог знает.
— Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?
— Что ж предпринять?
— Что ж, вы стало быть, возьмёте какую—нибудь должность?
— Ведь я губернский секретарь. Какое же мне могут дать место? Место мне могут дать ничтожное. Как мне взять жалованье — пятьсот? А ведь у меня жена, пятеро детей.
— Пойдите в управляющие.
— Да кто ж мне поверит имение: я промотал своё.
— Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что—нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого—либо в городе выхлопотать какую—нибудь должность.
— Нет, Платон Михайлович, — сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку. — Не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, ревматизм в плече. Куды мне? Что разорять казну? И без того завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из—за доставки мне жалованья увеличены были подати на бедное сословие.
"Вот плоды беспутного поведения, — подумал Платонов. — Это хуже моей спячки".
А между тем, как они так говорили между собой, Костанжогло идя с Чичиковым позади их, выходил из себя.
— Вот смотрите, сказал Костанжогло, указывая пальцем, — довёл мужика до какой бедности! Ведь ни телеги, ни лошади. Случится падёж — уж тут нечего глядеть на своё добро: тут всё своё продай да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь годами не поправишь. И мужик уже изленился, загулял, сделался пьяница. Да этим только, что один год дал ему пробыть без работы, ты уж его развратил навеки: уж привык к лохмотью и бродяжничеству. А земля—то какова? Разглядите землю! — говорил он, указывая на луга, которые показались скоро за избами. — Всё поёмные места! Да я заведу лён, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею, на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите — по косогору рожь поднялась; ведь это всё падаль. Он хлеба не сеял — я это знаю. А вон овраги... да здесь я заведу такие леса, что ворон не долетит до вершины. И этакое сокровище—землю бросить! Ну, уж если нечем было пахать, так заступом под огород вскопай <?>.. Огородом бы взял. Сам возьми в руку заступ, жену, детей, дворню заставь; безделица, умри, скотина <?>, на работе! Умрёшь, по крайней мере исполняя долг, а не то обожравшись, — свиньёй за обедом! — Сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело.
Когда подошли они ближе и стали над крутизной обросшей чилизником, и вдали блеснул извив реки и тёмный отрог, и в перспективе ближе показалась часть скрывавшегося в рощах дома генерала Бетрищева, а за ним лесом обросшая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью отдаления, по которой вдруг догадался Чичиков, что это должно быть Тентетникова, <он сказал>:
— Здесь, если завести леса, деревенский вид может превзойти красотою...
— А вы охотник до видов? — спросил Костанжогло, вдруг на него взглянувши строго. — Смотрите, погонитесь так за видами — останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придёт. Пример вам города: лучше и красивее до сих пор города, которые сами построились, где каждый строился по своим надобностям и вкусам. А те, которые выстроились по шнурку — казармы казармами... В сторону красоту, смотрите на потребности.
— Жалко то, что долго нужно дожидаться. Так бы хотелось увидеть всё в том виде, как хочется.
— Да что вы, двадцатипятилетний разве юноша? Вертун, петербургский чиновник? Чудно! <?> Терпенье. Шесть лет работайте сряду; садите, сейте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, трудно. Но зато потом, как расшевелите хорошенько землю, да станет она помогать вам сама, так это нето, что какой—нибудь мил<лион>, нет, батюшка, у вас сверх ваших каких—нибудь семидесяти рук будут работать семьсот невидимых. Все вдесятеро. У меня теперь ни пальцем не двигнут — всё делается само собою. Да, природа любит терпение; и это закон, данный ей самим богом, ублажавшим терпеливых.
— Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздвигается.
— Вона земля как вспахана! — вскрикнул Костанжогло с едким чувством прискорбия, показывая на косогор. — Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть — глядеть на этот беспорядок и запустенье. Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит божий дар. — И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчным расположением взволнованного духа; простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
— Помилуйте, Константин Фёдорович, — говорил удивлённый хозяин, — только что приехали — и назад!
— Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, — сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролётках.
Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.
— Не выдержал Константин Фёдорович, — сказал он, — невесело такому хозяину, каков он, глядеть на этакое беспутное управление. Поверьте, Павел Иванович, что даже хлеба не сеял в этом году. Как честный человек! Семян не было, не говоря уж о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлович, говорят отличный хозяин: о Константине Фёдоровиче — что уж говорить! Это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: "Ну зачем столько ума даётся в одну голову? Ну что бы он хоть каплю его в мою глупую". Тут, смотрите, господа, осторожнее через мост, чтобы не бултыхнуть в лужу. Доски весною приказывал поправить. Жаль больше всего мне мужичков бедных: им нужен пример; но с меня что за пример? Что прикажете делать? Возьмите их, Павел Иванович, в своё распоряжение. Как могу приучить их к порядку, когда сам беспорядочен? Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого толку. Вижу, что прежде нужно привести их в такое состояние, чтобы умели жить. Нужен строгий и справедливый человек, который пожил <бы> с ними долго и собственным примером неутомимой деятельности <действовал на них>. Русский человек, вижу по себе, не может без понукателя: так и задремлет, так и закиснет.
— Странно, — сказал Платонов, — отчего русский человек способен так задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем.
— От недостатка просвещения, — заметил Чичиков.
— Бог весть отчего. Ведь вот мы просветились, слушали в университете, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а ещё больше — выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утончённости, да больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Выучился только издерживаться на всякий комфорт. Оттого ли, что я бестолково учился? Нет, ведь так и другие товарищи. Два, три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может быть, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей—богу! А что я уж думаю: иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой—то пропащий человек. Хочешь всё сделать — и ничего не можешь. Всё думаешь — с завтрашнего дни начнёшь новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь на диету — ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочает; как сова сидишь, глядя на всех, — право! И этак всё.
— Да, — сказал Чичиков, усмехнувшись, — эта история бывает.
— Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто—нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живёт, собирает и копит деньгу, не верю я и тому. На старости и его чёрт попутает: спустит потом всё вдруг. И все так, право: и просвещённые и непросвещённые. Нет, чего—то другого недостаёт, а чего — и сам не знаю.
Так говоря, обошли они избы, потом проехали в коляске по лугам.
Места были бы хороши, если бы не были вырублены. Открылись виды; в стороне засинел бок возвыш<енностей>, тех самых где ещё недавно был Чичиков. Но ни деревни Тентетникова, ни генерала Бетрищева нельзя было видеть. Они были заслонены горами. Опустившись вниз к лугам, где был один только ивняк и низкий топольник — высокие деревья были срублены, — они навестили плохую водяную мельницу, видели реку, по которой бы можно было сплавить, если б только было что сплавлять. Изредка кое—где паслась тощая скотина. Обсмотревши, не вставая с коляски, они воротились снова <в> деревню, где встретили на улице мужика, который, почесав у себя рукою пониже [спины], так зевнул, что перепугал даже старостиных индеек. Зевота была видна на всех строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. "Заплата на заплате", — [думал Чичиков, увидевши, как] на одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. В хозяйстве исполнялась система Тришкина кафтана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей.
— Вот оно как у меня, — сказал Хлобуев. — Теперь посмотрим дом, — и повёл их в жилые покои дома.
Чичиков думал и там встретить лохмотье и предметы, возбуждающие зевоту, но, к изумлению, в жилых покоях было прибрано. Вошедши в комнаты дома, они были поражены как бы смешеньем нищеты с блестящими безделушками позднейшей роскоши. Какой—то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почёсыванья себе самому спины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом, по последней моде; четверо детей, также одетых хорошо, и при них даже гувернантка; они были все миловидны, но лучше бы оделись в пестрядевые юбки, простые рубашки и бегали себе по двору и не отличались ничем от крестьянских детей. К хозяйке скоро приехала гостья, какая—то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни.
— Так какая же будет ваша цена? — сказал Чичиков. — Спрашиваю, признаться, чтобы услышать крайнюю, последнюю цену, ибо поместье в худшем положенье, чем ожидал.
— В самом скверном, Павел Иванович, — сказал Хлобуев. — И это ещё не все. Я не скрою: из ста душ, числящихся по ревизии, только пятьдесят в живых; так у нас распорядилась холера. Прочие отлучились беспашпорно, так что почитайте их как бы умершими. Так что, если их вытребовать по судам, так всё имение останется по судам. Потому—то я и прошу всего только тридцать <пять> тысяч.
Чичиков стал, разумеется, торговаться.
— Помилуйте, как же тридцать пять? За этакое тридцать пять! Ну, возьмите двадцать пять тысяч.
Платонову сделалось совестно.
— Покупайте, Павел Иванович, — сказал он. — За именье можно всегда дать эту <цену>. Если вы не дадите за него тридцати <пяти> тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.
— Очень хорошо, согласен, — сказал Чичиков, испугавшись. — Хорошо, только с тем, чтобы половину денег через год.
— Нет, Павел Иванович! Это—то уж никак не могу. Половину мне дайте теперь же, а остальные через пятнадцать дней. Ведь мне эти же самые деньги выдаст ломбард. Было бы только чем пиявок кормить.
— Как же, право? Я уж не знаю, у меня всего—навсего десять тысяч, — сказал Чичиков; сказал и соврал: всего у него было двадцать, включая деньги, занятые у Костанжогло; но как—то жалко так много дать за одним разом.
— Нет, пожалуйста, Павел Иванович! Я говорю, что необходимо, мне нужны пятнадцать тысяч.
— Я вам займу пять тысяч, — подхватил Платонов.
— Разве эдак! — сказал Чичиков и подумал про себя: "A однако же, кстати, что он даёт взаймы".
Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было и вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра; то есть обещано; предполагалось же привезти три, другие — потом, денька через два или три, если можно, то и ещё несколько просрочить. Павел Иванович как—то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то всё—таки, казалось ему лучше выдать завтра, а не сегодня. То есть он поступил, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя: пусть его натрёт себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят от того дела его: "Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как—то некогда".
— Где же вы после этого будете жить? — спросил Платонов Хлобуева. — Есть у вас другая деревушка?
— Да в город нужно переезжать: там есть у меня домишка. Это нужно сделать для детей: им нужны будут учителя. Пожалуйста, здесь ещё можно достать учителя закону божию; музыке, танцеванью — ни за какие деньги в деревне нельзя достать.
"Куска хлеба нет, а детей учит танцеванью", — подумал Чичиков.
"Странно!" — подумал Платонов.
— Однако ж нужно нам чем—нибудь вспрыснуть сделку, — сказал Хлобуев. — Эй, Кирюшка! Принеси, брат, бутылку шампанского.
"Куска хлеба нет, а шампанское есть", — подумал Чичиков.
Платонов не знал, что и думать.
Шампанским <Хлобуев> обзавелся по необходимости. Он послал в город: что делать? — в лавочке не дают квасу в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с винами из Петербурга, всем давал в долг. Нечего делать, нужно было брать бутылку шампанского.
Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал мил и умён, сыпал остротами и анекдотами. В речах его обнаружилось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар: и почему, и как, и отчего разорились; так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки, — что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.
— Мне удивительно, — сказал Чичиков, — как вы, при таком уме, не найдете средств и оборотов?
— Средства—то есть, — сказал Хлобуев и тут <же> выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познанья людей и света, что оставалось пожимать только плечами да говорить: "Господи боже, какое необъятное расстояние между знаньем света и уменьем пользоваться этим знаньем!" Всё основывалось на потребности достать откуда—нибудь вдруг сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, всё бы устроилось как следует: и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: — Но что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы. Видно, уж бог не хочет.
"Ещё бы, — подумал Чичиков, — этакому дураку послал бог двести тысяч".
— Есть у меня, пожалуй, трёхмиллионная тётушка, — сказал Хлобуев, — старушка богомольная: на церкви и монастыри даёт, но помогать ближнему тугенька. Прежних времён тётушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре, моськи, приживалки и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет лет под шестьдесят, хоть она и зовет его: "Эй, малый!" Если гость как—нибудь себя не так поведёт, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут. Вот какая!
Платонов усмехнулся.
— А как её фамилия и где проживает? — спросил Чичиков.
— Живёт она у нас же в городе, Александра Ивановна Ханасарова.
— Отчего ж вы не обратитесь к ней? — сказал с участием Платонов. — Мне кажется, если бы она вошла в положенье вашего семейства, она бы не могла отказать.
— Ну нет, может. У тётушки натура крепковата. Эта старушка—кремень, Платон Михайлович! Да к тому ж есть и без меня угодники, которые около неё увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы: приплёлся ей в родню. Сделайте мне такое одолжение, — сказал он вдруг, обратясь <к Платонову>, — на будущей неделе я даю обед всем сановникам в городе…
Платонов растопырил глаза. Он ещё не знал, что на Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь совершенно необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, кругом в долгах, никаких средств, а задаёт обед; и все обедающие говорят, что это последний, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того десять лет — мудрец всё ещё держится на свете, ещё больше прежнего кругом в долгах и так же задаёт обед, на котором все обедающие думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму.
Дом <Хлобуева> в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен; завтра давали репетицию французские актёры. В иной день три крошки хлеба нельзя было отыскать; в другой — хлебосольный приём всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжёлые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился; но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нём с беспутною его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и — странное дело! — почти всегда приходила к нему откуда—нибудь неожиданная помощь: или кто—нибудь из старых друзей его вспоминал о нём и присылал ему деньги: или какая—нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нём историю, с стремительным великодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где—нибудь в пользу его дело, о котором он никогда слышал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою.
— Жалок он мне, право, жалок, — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.
— Блудный сын! — сказал Чичиков. — О таких людях и жалеть нечего.
И скоро они оба перестали о нём думать: Платонов — потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на всё в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатленья как—то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все его мысли были заняты не на шутку приобретённою покупкою. Он стал задумчив, и предположенья и мысли стали степенней и давали невольно значительное выраженье лицу. "Терпенье! Труд! Вещь нетрудная: с ними я познакомился, так сказать с пелён детских. Мне они не в новость. Но станет ли теперь, в эти годы, столько терпенья, сколько в молодости?" Как бы то ни было, как ни рассматривал он, на какую сторону ни оборачивал приобретённую покупку, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард, прежде выпродав по кускам лучшие земли. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогло, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег, взятых у него взаймы. Странная мысль! Не то чтобы Чичиков возымел <её>, но она вдруг сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница! Егоза! И кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Он почувствовал удовольствие, — удовольствие оттого, что стал теперь помещиком — помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди — люди не мечтательные, в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать себе самому и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой—то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде "мордашки" и "каплунчика". Но потом, вспомнивши, что он не один, притих вдруг, постарался кое—как замять неумеренный порыв восторгновенья; и когда Платонов, принявши кое—какие из звуков за обращённую к нему речь, спросил у него: "Чего?" — он отвечал: "Ничего".
Тут только, оглянувшись вокруг себя, он увидел, что они уже давно ехали прекрасною рощей; миловидная берёзовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые лесины берёз и осин, блестя, как снежный частокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи взапуски громко щёлкали из рощи. Лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать отчёта, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда ещё недавно были открытые поля. Между дерев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решётка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руках. Аглицкий пёс на высоких тонких ножках бежал перед ним.
— А вот и брат, — сказал Платонов. — Кучер, стой! — И вышел из коляски. Чичиков также.
Псы уже успели облобызаться. Тонконогий проворный Азор лизнул проворным языком своим Ярба в морду, потом лизнул Платонову руки, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо.
Братья обнялись.
— Помилуй, Платон, что это ты со мною делаешь? — сказал остановившийся брат, которого звали Василием.
— Как что? — равнодушно отвечал Платонов.
— Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху ни духу! Конюх от Петуха привёл твоего жеребца. "Поехал, говорит, с каким—то барином". Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни.
— Ну что ж делать? Позабыл, — сказал Платонов. — Мы заехали к Константину Фёдоровичу: он тебе кланяется, сестра — также. Павел Иванович, рекомендую вам: брат Василий. Брат Василий, это Павел Иванович Чичиков.
Оба приглашённые ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались.
"Кто бы такой был этот Чичиков? — думал брат Василий. Брат Платон на знакомства неразборчив". И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек по виду очень благонамеренный.
С своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия и увидел, что брат ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты. Видно было, что он меньше дремал.
— Я решился, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по святой Руси. Авось—либо это размычет хандру мою.
— Как же так вдруг решился?.. — сказал озадаченный брат Василий; и он чуть было не прибавил: "И ещё ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и чёрт знает что". Полный недоверия, он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное.
Они повернули направо в ворота. Двор был старинный; дом тоже старинный, каких теперь не строят, — с навесами, под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Под ними было множество деревянных скамеек. Цветущие сирени и черёмухи бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами к листьями. Господский дом был совершенно закрыт, только одни двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви. Сквозь прямые, как стрелы, лесины дерев сквозили кухни, кладовые и погреба. Всё было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось в душу какое—то безмятежное, приятное чувство. Так и отзывалось всё теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно и всё было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Они сели на скамьях под липами.
Парень лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принёс и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушёл в сад. У братьев Платоновых, так же как и у зятя Костанжогло, собственно слуг не было: они были все садовники, или, лучше сказать, слуги были, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий всё утверждал, что слуги не сословие: подать что—нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей; что будто русский человек потуда хорош и расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что как только заберётся в немецкий сертук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестаёт вовсе ходить, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком немецким и клопы, и блох несчётное множество. В этом может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато: кички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах — точные коймы турецкой шали.
— Это квасы, которыми издавна славится наш дом, — сказал брат Василий.
Чичиков налил стакан из первого графина — точный липец, который он некогда пивал в Польше; игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.
— Нектар! — сказал он. Выпил стакан от другого графина — ещё лучше.
— Напиток напитков! — сказал Чичиков. — Могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя, Константина Фёдоровича, пил первейшую наливку, а у вас — первейший квас.
— Да ведь и наливка тоже от нас; ведь это сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из—под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать? — спросил брат Василий.
— Еду я, — сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя: ибо, не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет в коловращенье людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.
Брат Василий задумался. "Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда", — подумал <он>. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону:
— Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя не что другое, как душевная спячка. Ты просто заснул, — и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу всё, что случается.
— Вольно ж принимать всё близко к сердцу, — сказал Платон. — Ты выискиваешь себе беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги.
— Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность? — сказал Василий. — Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь. Во—первых пустоши этой я ни за какие деньги <не отдам>. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну Красную горку, с ней связаны воспоминания деревни; а для меня обычай — святая вещь, и за него готов пожертвовать всем.
— Не знает, потому и захватил, — сказал Платон, — человек новый, только что приехал из Петербурга; ему нужно объяснить, растолковать.
— Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью.
— Тебе нужно было съездить самому, растолковать. Переговори с ним сам.
— Ну нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь, ты.
— Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести и обмануть.
— Да если угодно, так я поеду, — сказал Чичиков, — скажите дельцо.
Василий взглянул на него и подумал: "Экой охотник ездить!"
— Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек — сказал Чичиков, — и в чём дело.
— Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию. Человек он, по—моему, дрянь: из простых мелкопоместных дворян нашей губернии, выслужился в [Петербурге], женившись там на чьей—то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый: мода нам не указ, а Петербург не церковь.
— Конечно, — сказал Чичиков, — а дело в чём?
— Видите ли? Ему, точно, нужна [земля]. Да если бы он не так поступал, я бы с охотою отвёл в другом месте даром земли, не то что пустошь. А теперь... Занозистый человек подумает...
— По—моему, лучше переговорить: может быть, дело—то [обделать можно миролюбно]. Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев...
— Но мне совестно, что вам придётся говорить с таким человеком...
— Полноте, Василий Михайлович, — махнул ладошкой Чичиков, — ведь мне это пустого будет стоить. Я очень даже умею беседовать с такого рода господами. К тому же я в некотором смысле обязан вашему брату и почёл бы за удовольствие внести свою лепту в прояснение оного дела.
— Ну, не знаю даже, — мялся Василий, — всё же вы лицо в наших краях новое, приедете к нему с подобной комиссией, а он вас и знать не знает...
— Вот и хорошо, что лицо я, как вы изволили выразиться, новое. Ведь, как я понимаю, и он вроде бы новичок. Так что я думаю мы с ним сойдёмся, — улыбнулся Чичиков.
— И вправду, Василий, пусть Павел Иванович съездит. От тебя—то не убудет, а дело, глядишь, и уладится, — сказал Платон.
— И сомневаться нечего, что уладится, — сказал Чичиков, — Вы, Василий Михайлович, как я понимаю, готовы войти в его обстоятельства и, как сами только что сказать изволили, готовы уступить ему другой земли?..
— Да ради Христа! Пусть берёт, пользуется, вон сколько её, — ответил Василий, но пустошь не отдам, для меня обычай — святыня.
— Прекрасно! — сказал Чичиков, — не отдавайте пустошь. Но могли бы вы написать этакую краткую записочку, что, дескать, заместо пустоши, можете выделить господину Леницыну земли по его нуждам? Сами понимаете, мне облегчение в разговоре, да и дело быстрее обделается.
— Письма не напишу, — дёрнул головой Василий, итак сей господин заносит до чрезвычайности. И я тоже буду хорош: своё добро на своё же меняю.
— А вы напишите в том тоне, что, мол, "милостивый государь, испытываемая вами нужда в земле ещё не может служить причиною захвата чужих пустошей..." — и так далее; прибавьте, дескать, ежели бы обратились они по—соседски, то конечно же, одолжили бы их землей. Одним словом, напишите сурово и не роняя себя. А об остальном я позабочусь.
— Хорошо, в таком тоне напишу, — согласился Василий прошёл в дом писать письмо.
Через какие—нибудь полчаса Павел Иванович трясся в своей коляске по пути к усадьбе Фёдора Фёдоровича Леницына, того самого Фёдора Фёдоровича, с которым у Тентетникова вышла, как вы, дорогие читатели, помните, преказусная история. Фёдор Фёдорович, служивший в Петербурге по третьему классу, вдруг по каким—то обстоятельствам оставил свою, так удачно им исполняемую службу и уже его превосходительством вернулся сюда, в отчие края, покинутые им давно, целые двадцать пять лет тому назад, подававшим надежды юношей. Обстоятельства у людей бывают разные, и по—разному поступают люди в обстоятельства сии попадающие, и, конечно, можно было бы предположить, что Фёдора Фёдоровича так потянуло, позвало под родимый кров, что он, изломав свой карьер, бросил всё, решивши заделаться помещиком. Но знающие люди утверждали, что неспроста молодой ещё человек, в такие лета дослужившийся до действительного статского советника, так, вдруг, объявился в этих краях. Говорили, что метит он в губернаторы, и что вопрос этот вовсе уже решённый, и что ждут только срока, когда старик губернатор, Аполлон Христофорович, уйдет на покой, и что чуть ли не днями должно сие произойти.
Чичиков же, не ведающий обо всём этом, весьма довольный тем, как складывался день, ехал полями мимо земель, принадлежавших братьям Платоновым, которым он пообещал вернуться к ужину. Ехать было недалеко, каких—нибудь три версты, и, въехавши на выпуклый лоб сбегающего вниз откоса, увидел он внизу под собой большой расположившийся овалом пруд. Вкруг пруда росли тёмные вековые липы, густым лесом убегавшие к зеленеющим вдали горным возвышениям. От опрятного господского дома, по самую крышу обросшего деревами, вела к пруду белая каменная лестница, оканчивавшаяся у самой воды круглой площадкой, увенчанной балюстрадою. Пространство перед домом, как можно было думать, было вымощено тем же белым камнем, что служил для устройства лестницы, и вся эта картина, слагающаяся из красной крыши господского дома, зелени лип, белизны камня, мостящего двор, и синевы плещущегося в пруду неба, производила пленительное впечатление.
Ко въехавшей на мощёный двор коляске выбежал из дому лакей в ливрее и бакенбардах и, просеменив к Павлу Ивановичу с поклоном, вопрошал о том, как прикажут доложить.
— Доложи, братец, — Павел Иванович Чичиков, помещик и сосед твоего барина, — сказал Чичиков, не поминая своего чина. Чичиков понимал, что коллежский советник — малая птица против действительного статского советника. "Помещик" же звучало намного уважительнее.
Лакей провёл его в гостиную, и Павел Иванович с интересом стал оглядывать окружавшую его обстановку. Ему показалось забавным то, что все вещи в гостиной, как наверное, и во всём остальном доме, несли на себе отпечаток новизны, точно были куплены и привезены сюда разом, заместо бывших тут когда—то старых мебелей, подсвечников, сундуков и прочих обиходных предметов, кои населяют дома мелкопоместного российского дворянства. Помимо вещей обыденных и повсеместных, в зале имелось и кое—что поинтереснее. Например, большой блестящий лаком глобус, стоявший на резной деревянной трёхноге, висящая на стене чёрного металла астролябия, покрытая бронзовыми завитушками, и несколько вещиц подобного ряда, коим, как подумал Чичиков, место было скорее не в гостиной зале, а в кабинете хозяина дома, конечно, ежели хозяин этот был бы учёный человек. Лакей вскорости вернулся доложить, что его превосходительство тотчас выйдут, и хозяин впрямь не заставил ждать. Чичиков, разглядывавший глобус, услышал мягкие шаги кого—то входящего в залу и, обернувшись, увидел средних лет господина в ловко сидящем на его фигуре мундирном фраке, при звезде, и наружности наиприятнейшей. Человек этот глядел на Павла Ивановича живыми серыми глазами, и в лице его строилась полная достоинства улыбка. Телосложение имел он среднее, был не толст, но и не худ, со слегка намечающимся благородным брюшком, выдававшим в нём человека сидячего образа жизни и, предположительно, умственной работы. Лицо имел хорошее, русское, того славянского типа, который нынче встречается не часто и который повывелся в нашем болеющем всеми болезнями новой цивилизации поколении. Подойдя к Павлу Ивановичу, он протянул ему для пожатия руку и, не сменяя в лице улыбки, назвал себя. Чичиков же, стоявший с ловко изогнутым корпусом, принял его руку с таким уважительным и округлым жестом, что Леницыну, глядевшему в сей момент на одну лишь макушку склонённой к нему в поклоне аккуратно прибранной головы Павла Ивановича показалось, что видно ему и благоговейное выражение лица Чичикова, и это вызвало в нём приятное чувство.
Держа ласково, точно слабую птицу, руку Леницына в своих ладонях, Павел Иванович поднял на него глаза, только что не туманящиеся от слёз восторга, и проговорил своим самым медовым голосом:
— Не извольте гневаться на мой к вам неожиданный визит, но почёл за долг представиться вашему превосходительству по тому счастливому для меня обстоятельству, что с нынешнего утра я ваш сосед и к кому как не к вам первому был обязан нанести визит вежливости.
— Купили имение?! Поздравляю! — не меняя лица, сказал Леницын и жестом пригласил Чичикова садиться рядом на дышащее свежестью канапе. Чичиков уселся вполоборота, несколько откинув одну ногу и уперев в колено другой сцепленные пальцами ладони.
— Да—с, ваше превосходительство, решил осесть здесь, в этом чудном уголку, провесть, так сказать, остаток жизни, после всех тех превратностей, что подстроила мне судьба. Ведь жизнь моя, точно судно средь бурных волн, если позволительно будет подобное сравнение, — Чичиков вздохнул горько и с доверительной улыбкой прибавил: — Пришлось много претерпеть за правду, ваше превосходительство, так что враги мои имели не раз покуситься даже на жизнь саму, но теперь, благодаря Творцу, попав в ваши края, полон надежд и помыслов об лучшем уделе…
— Да, сударь, здесь у нас и покойно, и хорошо, — сказал Леницын. — А откуда изволили прибыть, позвольте поинтересоваться? — спросил он.
— О, это целый роман, — отвечал Чичиков и принялся рассказывать жизнь свою, живописуя её всякими красками, от которых Леницын то и дело менялся в лице, показывая сочувствие и внимание к рассказу. — В ваши края приехал навестить старинного приятеля своего, генерала Бетрищева, много благотворившего мне за мою жизнь, и которого, смею надеяться, вы изволите знать, — сказал Чичиков.
— Без сомнения, знаю, — подтвердил Леницын, достойнейший человек, боевой генерал, таких ныне с огнём не сыщешь...
— Да, замечательный человек, — подтвердил Чичиков, сейчас же еду не столько по своей нужде, сколько по генерала Бетрищева просьбе оповестить родственников на предмет помолвки дочери его Ульяны Александровны с господином Тентетниковым.
— Вы сказали, с Тентетниковым? — переспросил Леницын, и Чичиков заметил, как в лице его что—то дрогнуло. — Уж не с Андреем ли Ивановичем?
— С Андреем Ивановичем, — кивнул головой Чичиков, — а вы и с ним знакомы? — спросил он, как—то внутренне подбираясь.
— Очень даже знаком, — ответил Леницын, холоднея лицом, — служил под моим началом в Петербурге... Да! Не могу поздравить Александра Дмитриевича с подобным зятем. Крайне дурного тона молодой человек. У нас с ним, признаться, до того дошло, что принуждён был выключить его из департамента.
Услышав такое, Павел Иванович счёл за благо не вдаваться в подробности своих с Тентетниковым отношений и о своём участии во всей этой истории с помолвкой промолчал; сказал только так, между прочим, что имел будто всего одну беседу с Андреем Ивановичем и что он вызвал в Чичикове большие сомнения, и даже в отношении благонадёжности.
— Ну, да ладно, бог с ним, — с некоторым презрением произнёс Леницын, — давайте поговорим лучше о вас. Что за имение вы купили, где, как? Расскажите же, ведь это очень интересно.
— Купил имение от вас неподалёку по совету одного приятеля моего, даже, лучше сказать, друга. Константина Фёдоровича Костанжогло. Надеюсь, знаете такого, — и Павел Иванович вопросительно глянул на Леницына.
Леницын молча и для пущей важности прикрывая глаза, кивнул в подтверждение, а сам подумал: "Этот Павел Иванович видать, из приличных будет, если судить по тому, с кем знается".
— Так вот, Константин Фёдорович давно уже звал меня к себе, а тут всё так сошлось, что я и его превосходительству надобен стал. Вот Константин Фёдорович и сторговал для меня это имение и чуть ли не силком заставил купить, даже денег своих задатку внёс. Ну и с сего дни я ваш сосед, — заключил Чичиков.
— А у кого купили? — вновь поинтересовался Леницын.
— У некого Хлобуева Семёна Семёновича, — сказал Чичиков, — здесь от вас в верстах двадцати будет, — добавил он.
— Павел Иванович, чудеса какие—то, — усмехнулся Леницын. — Мы с господином Хлобуевым состоим хоть и в очень отдалённом, но родстве, но пусть он мне и родственник, я тем не менее не могу не признать того, что он пренеприятнейший субъект. Довести всё до такого состояния, и это имея семью на руках... — И он словно бы не находя слов, развёл в удивлении руками.
— Да, плачевное зрелище довелось мне узреть сегодня, — согласился Чичиков, — и всё бы ничего, поделом ему, ежели бы не дети.
— То—то и оно, — отозвался Леницын, — обзавёлся семьёю, так будь добр, трудись ей во благо, ночи не спи, но не делай семью несчастной, обеспечь ей достаток и достойное проживание, не доводи до крайностей...
— Вот—вот, — поддакнул Чичиков, а сам ввернул, так как в нём уже стали шевелиться кое—какие подозрения. — По какой же линии состоите вы в родстве с этим господином? — поинтересовался он.
— Через мою тётушку, Ханасарову Александру Ивановну. Живет она в городе, в нашем же уезде. Стара очень, но преинтереснейший, надо сказать вам, человек. Так вот и господин Хлобуев тоже ей каким—то родственником приходится. Видать, надеется на наследство, вот и живет спустя рукава. Но получи он наследство, он и его спустит, глазом не успеешь моргнуть, потому что таков уж он, этот господин.
"Так вот это кто, — подумал Чичиков, глядя на Леницына, — Это и есть тот самый, что метит в губернаторы. Не за этим ли он, действительно, тут объявился, не то, что ему проку здесь в деревне, после Петербурга—то... Надо будет свести с ним дружбу покороче", — дал он себе наказ.
— И большое наследство? — участливо глядя на Леницына, спросил Павел Иванович.
— Большое, — отозвался Леницын, — даже очень большое. Более трёх миллионов. Но самое прискорбное для меня это то, что я слыхал, будто в имеющемся уже завещании чуть ли не всё отходит к этому растяпе. Тётушка хоть его самого и не привечает, но очень настроена насчёт его дочерей. Прелестные, справедливости ради надо сказать, малютки.
— Да! Досадно, — делая задумчивое лицо, сказал Чичиков, — а что, никак нельзя горю помочь?
— Ну как тут поможешь? — вяло, пожав плечами, ответил Леницын.
— А ежели был бы такой человек с влиянием на вашу тётушку, который сумел бы эдак деликатно убедить её, раскрыть глаза на то, что имущество её будет пущено в распыл, что достанется оно недостойному, и всё, что наживалось не одной жизнью, всё это пойдет прахом? — то ли спросил, то ли присоветовал Чичиков.
— Нет такого человека, к сожалению, любезный мой Павел Иванович, — ответил Леницын, — да и, по чести сказать, это супротив правил, завещание написано, и старухе самой решать, как распорядиться состоянием.
— А вы сведите меня с вашей тётушкой, — сказал Чичиков, делая значительную гримасу, — там и поглядим.
— Ох, Павел Иванович, не вводите в соблазн, — сказал Леницын, — ведь это что—то вроде сговора получится, да и выглядеть будет как—то того... — поморщил он нос.
— Да ведь не всё выглядит таким, как оно в действительности есть, — ответил Чичиков, — вот, — сказал он, — кивая на лаково поблёскивающий глобус, — я и сейчас поверить не могу, что Земля подо мной круглая, а правда—то не в том, какой она мне кажется и какой выглядит.
— В этом я с вами не могу не согласиться, сказал Леницын — иной раз даже по службе видишь, что надо бы сделать по—другому, что из этого только польза проистечёт, но оглянешься на закон и видишь, что подпадаешь под какую—нибудь статью и совершаешь чуть ли не преступление.
— В точности так, — согласился Чичиков, — ведь как часто, ваше превосходительство, и мне приходили подобные мысли, и я вывел для себя, что ежели подобное деяние совершается не соблазну ради, а для пользы, то это не преступление. Ведь сколько есть на свете дел, которые и законные и не законные вместе. Тут главное в сердцевину суметь заглянуть, а ведь не всякий это сумеет. Потому если и совершаются такие дела, то должны они совершаться между людьми благонамеренными, чина хорошего, людьми об благе дела радеющими и далее носа видеть умеющими, — сказал он, вкрадчиво заглядывая Леницыну в глаза.
"Очень не глупый человек", — подумал Леницын, вслух же сказал, подхватывая мысль Павла Ивановича:
— Но надобно, чтобы подобные дела обдумывались бы втайне, так как не всякий увидит ту разницу, о которой вы говорили, любезный Павел Иванович, не увидевши разницы, почтёт лишь за дурной пример и сам на преступление сможет пойти, соблазнившись.
— Больше того, и наблюдая особенно, чтоб это было втайне, — сказал Чичиков, — ибо не столько самое преступленье, сколько соблазн вредоносен.
— А, это так, это так, — сказал Леницын, наклонив совершенно голову набок.
— Как приятно встретить единомыслие! — сказал Чичиков. — Есть и у меня дело, законное и незаконное вместе; с виду незаконное, в существе законное. Имея надобность в залогах, никого не хочу вводить в риск платежом по два рубли за живую душу. Ну, случится, лопну, — чего боже сохрани, — неприятно ведь будет владельцу, я и решился воспользоваться беглыми и мёртвыми, ещё не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело и снять с бедного владельца тягость уплаты за них податей. Мы только между собой сделаем формальным образом купчую, как на живые.
"Это однако же, что—то такое престранное", — подумал Леницын и отодвинулся со стулом немного назад.
— Да дело—то, однако же... такого рода... — начал <он>.
— А соблазну не будет, потому что втайне, — отвечал Чичиков, — и притом между благонамеренными людьми.
— Да всё—таки, однако же, дело как—то...
— А соблазну никакого, — отвечал весьма прямо и открыто Чичиков. — Дело такого рода, как сейчас рассуждали: между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом втайне. — И, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза.
Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как—то совершенно пришёл в недоуменье, тем более что каким—то странным образом он как—бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливости и не хотел бы сделать ничего несправедливого, даже и втайне. "Экая удивительная оказия! — думал он про себя. — Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми! Вот тебе и задача!"
Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по—петербургскому, большая охотница до людей comme il faut. За нею был вынесен на руках мамкой ребёнок—первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким подходом с прискочкой и наклоненьем головы набок Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за нею и ребёнка. Сначала тот было разревелся, но словами: "Агу, агу, душенька", и прищёлкиваньем пальцев, и красотой сердоликовой печатки от часов Чичикову удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподымать к самому потолку и возбудил этим в ребёнке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего—либо другого ребёнок вдруг повёл себя нехорошо.
— Ах, боже мой! — вскрикнула жена Леницына, — он вам испортил весь фрак!
Чичиков посмотрел: рукав новёшенького фрака был весь испорчен. "Пострел бы тебя взял, чертёнок!"— подумал он в сердцах.
Хозяин, хозяйка, мамка — все побежали за одеколоном — со всех сторон принялись его вытирать.
— Ничего, ничего, совершенно ничего! — говорил Чичиков стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, весёлое выражение. — Может ли что испортить ребёнок в это золотое время своего возраста! — повторял он; в то же время думал: "Да ведь как, бестия, волки б его съели, метко обделал, канальчонок проклятый!"
Это, по—видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова. Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Чтобы не подать дурного примера, решились решить дело секретно, ибо не столько самое дело, сколько соблазн вредоносен.
— Позвольте ж и мне, в вознагражденье за услугу, заплатить вам также услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли?
— Как вы знаете? — с удивлением спросил Леницын.
— Да так вот, — раскинув руки в стороны и слегка склонившись, ответил Чичиков, — в силу природной склонности своей послужить во благо ближнего. К слову сказать, у меня к вам письмо от старшего из братьев — Василия Михайловича — имеется, — прибавил он, протягивая Леницыну запечатанный конверт.
Леницын взломал печать и принялся читать вручённое ему Чичиковым послание. Лицо его по ходу чтения принимало надменное выражение.
— Однако я не нахожу того, чтобы письмо это могло послужить каким бы то образом к разрешению нашего спора, — сказал он, обратившись к Чичикову, — вот, извольте, прочтите. — И он протянул Павлу Ивановичу исписанный листок. Чичиков прочёл письмо со вниманием на лице и нашёл в нём лишь то, что сам присоветовал написать старшему из братьев.
— Видите, сколько невоздержанного тона в сём крохотном послании, — сказал Леницын, скрестя руки на груди и отворачиваясь к окну.
— Да полноте, Фёдор Фёдорович, не может ведь помещик, считающий себя обиженным, написать по—другому, тем более такой, как господин Платонов, выросший и воспитывавшийся в этой глуши. Уверяю вас, что он и понятия не имеет о том, что такое надлежащий тон. Более того, ведь он предлагает вам землю по вашему выбору. Ему только и нужна эта пустошь из—за крестьян, которые привыкли справлять на ней Красную горку, а если не это, то он, по всей вероятности, и внимания на эту пустошь не обратил, — сказал Чичиков.
— Не знаю, Павел Иванович, не знаю, вы, конечно, человек обходительный и дипломатический, но ведь дело даже и не в тоне. Пустошь—то по закону моя! — устало улыбнувшись и как бы показывая, что ему очень надоел сей предмет, проговорил Леницын.
— И замечательно, что ваша, это даже к лучшему, что ваша, вы—то на этом только выигрываете. Что толку в ней, в пустоши, отдайте её Платоновым, вас ведь это не подорвёт, отдайте, коли так уж ихним крестьянам приспичило на ней гулять, а взамен—то можете взять гораздо лучшей земли и побольше, чем сама пустошь. Не судиться же в самом деле из—за того, что можно полюбовно решить. Зачем вам жизнь свою на этом прожигать?
— А господину Платонову что за резон? — спросил Леницын. — Это было бы к месту, ежели б пустошь и вправду была его, но она—то моя. Вот, взгляните на план. — С этими словами он прошёл к бюро, и выдвинув верхний ящичек, извлёк из него квадрат плотной бумаги. С хрустким шорохом развернув выросшую чуть ли не в десятеро бумагу, Леницын разложил её по стоявшему вблизь канапе столику и стал доказывать Чичикову принадлежность ему пустоши.
Чичиков, вежливо следивший за указательным пальцем Леницына, бегающим по вычерченным на бумаге линиям, учтиво молчал, а потом, взглянув ему в глаза ясным взглядом, объявил, что как ни прискорбно ему об том говорить, но на плане не так ясно видно, чтобы пустошь была его, Леницына, и что вопрос, действительно, может быть спорный.
На что приостановившийся Леницын сказал несколько обиженно:
— Но ведь есть свидетели, — старики ещё живы и помнят.
— То—то и я говорю, что затянется, — со вздохом продолжал Чичиков. — Ни вам, ни Платоновым проку не будет никакого. Когда ещё кто из вас по решению суда во владение войдёт… Да если суд в вашу пользу решит, то опять вам выгоды никакой.
— Как так? — удивлённо глянул на него Леницын.
— А по причине, что к тому времени вы уже в должности будете, из—за которой, собственно, и воротились, — решил рискнуть Чичиков и по лицу Леницына понял, что не промахнулся. — И ничего, кроме сраму, простите за прямоту, вам это не принесёт. Скажите сами, где видано, чтобы губернатор судился с помещиком собственной губернии из—за спорного клока земли, все скажут, что вы его укатали, если земля вам достанется, и всяк за вашей спиной будет и это дело, и ваше имя трепать. Так что, ваше превосходительство, можете сами видеть, к чему подобное положение может привесть. С другой стороны, ежели по—моему поступить, то факт, что вы в известную должность вступаете как раз кстати.
— А именно? — спросил с интересом Леницын.
— Да очень просто, — ответил Чичиков. — Отдаст вам Василий Михайлович земли по вашему выбору. А вы тут — губернатор. Нешто будет он у вас силком назад требовать? Нет же! Войдёте, можно сказать, в бессрочное владение. Дело пошло на мировую, все довольны, вы не во вражде, а в дружбе с Платоновым, а я влияние на младшего брата имею и всё вам так устрою, что земля эта вам приписана будет. Они оба даже очень рады будут вам такую услугу оказать. Здесь и сомневаться нечего.
— Ну да! — не согласился Леницын, — это выходит, любезный Павел Иванович, что я, пусть даже из—за спорной земли, им как бы обязанным буду?!
— И вовсе нет, — возразил Чичиков, — вовсе нет. Они хозяева крепкие, как—никак, а десять тысяч десятин земли — не шутки. Они у вас одалживаться ничем не станут. А вам ведь нужна будет поддержка от сильных помещиков, нужны будут друзья среди местного дворянства, вот я вам и предлагаю прямо сегодня двоих таких друзей завести из этих братьев. И всего делов только — толково отписать ответ на привезённое мною письмо, — слегка разводя руками и улыбаясь, сказал Чичиков.
— В каких же выражениях изволите, чтобы я отписал? — спросил Леницын, ещё слегка гордясь, но в тоне его уже прочитывалось смирение с доводами Чичикова.
— Экая задача, — усмехнулся Павел Иванович. — Я, к примеру, отписал бы так. — И он, уставившись в потолок и приложа палец к нижней губе, стал говорить с задумчивым видом: — Милостивый государь! Несмотря на довольно резкий тон вашего письма, решил ответить вам в простой и дружественной манере. — Чичиков немного помолчал, точно продумывая, как бы оно лучше сказать далее, так, будто текст этого письма не был состряпан им уже заранее, разве что не по дороге в имение Леницына. — Тон же ваш, — продолжал Чичиков, — приписываю тому, что, считая себя обиженным мною и не вникнувши в обстоятельства, дали вы волю своему гневу. По сему поводу хочу заметить, что я никогда не питал намерений к нанесению обид кому бы оно ни было, а тем более близкому и уважаемому мною соседу. — Павел Иванович мельком глянул на Леницына и, перехватив его внимательный взгляд, задиктовал вновь. — Не стану скрывать, что имея действительную надобность в земле и почитая являющуюся предметом нашего с вами недоразумения пустошь своею, как оно отмечено на поземельном плане и как тому имеются свидетели, я, не сочтя свои действия могущими нанести вам какой—либо ущерб, присовокупил её к своим землям. Но теперь, войдя в вашу претензию, как изложил мне её ваш друг и посредник Павел Иванович Чичиков, готов уступить мою пустошь для отправления на ней вашими крестьянами святых для меня русских обычаев; со своей стороны рассчитываю получить в обмен необходимые мне земли, скрепив всё это дело как должно по закону. — Чичиков закончил диктовать, выделив во время диктанта голосом про "святые русские обычаи", так как полагал, что сие должно расположить Василия Михайловича. — Вот в таком духе, — сказал он, — ну и, конечно, подписать как—нибудь посердечнее, но не роняя себя, — присоветовал он так же, как в своё время советовал Василию Платонову.
— Ну что ж! — сказал Леницын, — не вижу причин к тому, чтобы не писать подобного письма. Давайте пройдём в кабинет, — предложил он Чичикову, вставая с канапе и вежливо пропуская его впереди себя, и Павел Иванович так же вежливо склоняя слегка голову, бочком последовал в кабинет господина Леницына. Кабинет, как и всё в доме, тоже производил впечатление новизны, всё сияло и блестело, все вещи были как бы умыты, отдавали свежестью и неплохим петербургским вкусом.
Леницын присел к столу и довольно скоро убористым безукоризненным почерком написал письмо, почти в точности по рассказанному Павлом Ивановичем образцу.
— Вот и славно, вот и хорошо, — улыбался Чичиков принимая из его рук готовое послание. — Сами изволите увидеть, как это дело решится, и в самый что ни на есть кратчайший срок. И вам не придётся ни о чём беспокоиться, тем более в такое для вас сурьёзное время... — сказал он, строя значительное выражение в лице.
Леницын, качнув головой, усмехнулся.
— Ну скажите, Павел Иванович, откуда вам только известно то, что, как я полагал, совсем никому не должно быть известным?
— Слухами земля полнится, слухами... — ответил Чичиков. — Ведь это подумать страшно, — сказал он, — какая ответственность на вас ложится, и в такие молодые ещё годы. Право, ваше превосходительство, вы, должно быть, геройский человек, неужто вам и вправду совсем не боязно? — спросил Чичиков с видом совершеннейшего простодушия на челе.
— Как вам сказать, — отвечал Леницын, делая суровые и одновременно задумчивые глаза, — главнейшее сейчас для меня дело будет образовать новое губернское правление.
— А что, старое, надо думать, нехорошо? — снова с видом простоты спросил Чичиков.
— Не то чтобы нехорошо, но люди—то не свои. А ведь какие дела на губернском правлении! Все что ни на есть — самые главные. Все случившиеся чрезвычайные происшествия, все на нас, — сказал Леницын, — пожары, самоуправства, скоропостижные смерти, убийства, неподчинения и неповиновения, а тут ещё и неурожаи, голод, засуха, саранча и прочее, и всё это на нас, на правление, — говорил он. — Не скрою, трудно было подыскать толковых советников, ну, да этот вопрос уже решённый, знающие подбираются люди, так что работа, смею надеяться, пойдёт. Но самое главное, что я для себя решил, это заняться как надо, как следует "Приказом общественного презрения"; построить новые больницы, рабочие дома, богадельни и прочие богоугодные заведения. Это то поприще, которое я для себя вижу и которым всенепременно займусь в первую голову, — несколько возбудясь, говорил Леницын.
А Чичиков подумал: "Ещё бы, ведь государь на это обращает первейшее внимание и за это награды даёт. Ясное дело, что ты расстараешься"— но вслух ничего не сказал.
Они ещё поговорили о каких—то общих, незначащих вещах, и Чичиков, раскланявшись с хозяином и вышедшей проводить гостя хозяйкой, поехал назад к братьям Платоновым, надеясь поспеть к ужину.
— Не забудьте познакомить меня со своей тётушкой, — сказал он при прощании Леницыну, сел в свою новую коляску и укатил. А Леницын, стоя на ступенях дома и глядя вслед ползущей вверх по косогору тройке, подумал: "А почему бы и нет? Вот ведь какой ловкий господин. Чем чёрт не шутит".
ГЛАВА ПЯТАЯ
Герой же наш, столь удачно сторговавший у Леницына ещё девять душ, находился между тем в глубокой задумчивости. И задумчивость его была такого свойства, что посещает человека в минуты, когда он вдруг, оторвавшись от своего тяжёлого и забирающего его целиком занятия, оглядывается вокруг и видит, что другие, может быть и худшие, чем он, живут легче, счастливее него, живут другим размером дел, и тогда цель, достижение которой казалось ему чуть ли не вершиною всей его жизни, открывается ему внезапно в своей мелкой и смешной сути. Именно такой стороной повернулись к Павлу Ивановичу его "мёртвые души" и те хлопоты о них, те хитрости и унижения, до которых он опускался, выманивая, выпрашивая, выговаривая их у живущих себе на святой Руси без особых хлопот помещиков, прояснились в воображении его во всей их мелкой унизительности. Злая обида, проливающаяся в сердце его, застила ему глаза, и он не видел сейчас ни открывавшихся зелёных и голубых далей, ни чудесных, разве что сошедших с картины, видов. Пред внутренним взором Павла Ивановича мелькали чьи—то лица, чьи—то голоса ввинчивались в ухо, чему—то смеялись, что—то нашёптывали, советовали, но оставляли в душе его лишь чувство тоски и пустоты. Ему захотелось, как когда—то, когда он был маленьким мальчиком, спрятаться с головою под перину или забиться куда—нибудь в похожее место, чтобы выплакались горькие слёзы и отлегло бы от сердца. Но желание это было невыполнимо, он не был уже то дитя, которое при каждом слове может бежать до маменьки и, пряча лицо у ней в подоле, воображать, что прячется ото всего мира и ото всего же мира может уберечь душу свою.
Поэтому Чичиков лишь поплотнее закутался в свой радужных цветов шерстяной платок, приподнял воротник шинели и, умостившись поглубже на мягком сиденье коляски, закрыл глаза. Он хотел было вздремнуть, отделаться от кружащих в нём мыслей, но мысли эти не покидали его, не давая отвлечься на другое. И Павел Иванович начал жалеть себя, пеняя на судьбу свою, которую помянул в сердцах не одним бранным словом, и "старая дура" был наиболее лестный из отпущенных им эпитетов, который мы и рискуем привести на этих страницах. Он думал о том, как много помогает ближним, заботится об их делах и об их благополучии; как он всегда готов на услугу, направленную к благу даже и не вполне знакомых ему людей, как позаботился он об Тентетникове и сейчас только об едва знакомых ему братьях Платоновых, и в мыслях его, конечно, была правда, хотя Павел Иванович и забывал о том, что в заботах его всегда, пусть и неявным образом, но присутствовала корысть. А с другой стороны, что в корысти дурного? И если разобрать любого из нас, дорогой читатель, разобрать до последней косточки наши поступки, так ли бескорыстны они выйдут? Наверное, что нет. Так что же дурного в корысти, коей движутся поступки нашего героя? Чем так он не потрафил судьбе, что гонит она его по городам и весям, не давая большой передышки, не оставляя ему ни большого запаса времени, ни больших денег? Есть на это ответ? Конечно же есть. Иначе какой смысл был бы нам описывать горестную и полную злых приключений жизнь Павла Ивановича Чичикова, которого оставили мы умостившимся на мягком сиденье его новой прекрасной коляски.
Сидя с прикрытыми глазами, Павел Иванович думал о том, что надобно бы поменять направление своих исканий. Он чувствовал, что необходимо сделать неясный пока, но большой и решительный шаг, и всё то богатство, которое он ищет, весь грядущий его достаток, который намывает он, словно старатель, по камушку, по песчинке, обрушится на него сплошным потоком, точно сухой горох из прохудившегося мешка.
"Вольно другим, — думал Чичиков, — коим досталось богатство само собой и кто и пальцем не пошевельнул для его достижения. Им и понять не можно, через какую душевную муку, через какое страдание проходит человек благородный, но лишённый достатка. Вот, к примеру, братья Платоновы: получили в наследство от своего батюшки десять тысяч десятин земли. На что им столько? Ведь даже не знают, что с ней делать. Брат Василий готов её чуть ли не даром раздавать. Из—за какой—то пустоши, на которой его крестьяне привыкли пьяными голосами песни орать, отдаст Леницыну земли по его же выбору... Или тот же Леницын; был мелкая сошка, да вот женился удачно и выслужиться успел, да и приданого, надо думать, ухватил хороший куш". И тут у Павла Ивановича возникло вдруг ощущение, от которого щекотно стало в животе. Он почувствовал свою такую близость до нужного ему решения, что даже на минуту приостановился в мыслях, опасаясь, как бы не проскочить мимо него ненароком. "Так, так, — подумал он, — а ведь и то и другое у меня может быть, и очень скоро. Надо только постараться к этому. Наследство — вот оно, — вспомнил он только что бывший разговор с Леницыным, — а приданое...", — и он даже улыбнулся, вспоминая лицо Улиньки, её порывистость в движениях и тот свет, который точно ей всюду сопутствовал. Настроение у Чичикова почти совершенно выровнялось, и живописные дали и другие красоты окружающего ландшафта вновь предстали пред глазами его. Он даже замурлыкал себе под нос какой—то мотивчик, забарабаня пальцами по борту коляски и в весьма сносном расположении духа въехал в берёзовую аллею, ведущую к господскому дому Платоновых, а когда коляска вкатила на широкий двор усадьбы, то Чичиков, не дожидаясь её полной остановки, прыгнул с подножки с ловкостью почти военного человека и с прискоком взлетел на крыльцо.
На предыдущих страницах, где мы принялись было описывать вид дома братьев Платоновых, осенённого тенью двух разлапистых растущих во дворе лип, нам, к сожалению, так и не удалось пройтись по комнатам этого, так понравившегося Павлу Ивановичу, старинного дома, ибо столь стремителен был отъезд нашего героя с выпрошенным им же поручением, что он и сам, как нам кажется, не успел толком тут оглядеться.
Пройдя через тёмные сени, Павел Иванович оказался в большой гостиной зале, погружённой в полумрак. Полумрак этот проистекал не из—за отсутствия окошек, как заметил для себя Чичиков, а по причине густой растительности, окружающей дом со всех сторон. По стенам залы, тускло отсвечивая золотом рам, висело несколько больших картин на религиозные сюжеты, и Чичиков, не особо понимающий в живописи, всё же сообразил, что нельзя было сказать, будто картины эти очень уж хороши. А вот мебеля понравились Павлу Ивановичу. Они были старыми, под стать дому, точёнными из красного дерева с накладным бронзовым орнаментом, и было видно, что за мебелями ухаживали, так как и диван, и кресла, и стоящие вдоль стен стулья бросались в глаза свежим, ещё не успевшим вытереться шёлком, коим они, надо думать, были недавно перетянуты.
Войдя в гостиную, Чичиков увидел новое лицо, с которым не сталкивался ранее. Это был пожилой уже мужчина, приятной полноты и приятного же широкого лица, которое, может быть, чуточку портила излишняя краснота, имевшая быть слегка погуще к носу, как надо полагать, от известной причины, ну и, наверное, сам нос чуть больше, чем следовало, вздёрнутый и глядящий картошкой. Волосы он имел с проседью, а что касается его аккуратно зачёсанных вперёд бачков, то они были и вовсе седые. Одет он был в военного покроя мундир, хотя и без эполетов, но и так по всему было видно, что господин сей подвизался на военной службе, чему свидетельствовали и голос его, и ухватки. Войдя, Чичиков, надо думать, прервал какой—то весёлый разговор, так как ещё в сенях он услышал оживлённые голоса и весёлый смех. Сидящие в зале с интересом глядели на вошедшего Павла Ивановича, и у всякого из глядевших, понятно, был свой интерес. Брат Василий встал для того, чтобы представить своих гостей друг другу.
— Чичиков Павел Иванович, коллежский советник, а ныне помещик вашей губернии, — любезно улыбаясь, отрекомендовался Павел Иванович.
— Очень приятно, очень, — проговорил господин в мундире, тоже представляясь. — Вишнепокромов Варвар Николаич, штаб — офицер, полковник — брандер и тоже помещик, — сказал он, для чего—то прихохотнув, и оба гостя ткнулись друг другу в щёки носами, показывая поцелуй. Когда все уселись по своим местам, брат Василий обратил на Чичикова глаза, выражая ими ожидание.
— Ну, что Леницын? — спросил он, явно находясь в нетерпении.
— Всё улажено, — отвечал Чичиков, — вот, извольте прочесть — сказал он, извлекши на свет письмо из внутреннего фрачного кармана.
Василий Михайлович, взявши письмо, углубился в чтение и по мере того, как он читал, на лице его всё более и более топорщились усы. А глаза, которые он поднял на Чичикова по прочтении вручённого ему послания, были полны негодования.
— И это, по — вашему, Павел Иванович, называется, "всё улажено"? — спросил он. — Да ведь это же форменное оскорбление.
— Позвольте, любезный Василий Михайлович, — сказал Чичиков, не меняя ровного тона, хотя ему, признаться, и не понравился приступ, с которым обратился к нему старший Платонов, — в чём же вы видите оскорбление? По мне, так письмо это написано в самой сердечной манере и с пониманием.
— Хорошо понимание, — сказал, возмущаясь, Василий Михайлович, — нашу пустошь называет своей и ещё одолжение, видите ли, делает — мою же землю мне возвращает, да ещё и при условиях... На, прочти, — сказал он, протягивая письмо брату Платону.
— Дорогой мой Василий Михайлович, — сказал Чичиков, продолжая улыбаться мягкою лучистою улыбкой, — позвольте мне заметить несколько обстоятельств этого дела, и после того, как я укажу вам на них, я уверен, вы согласитесь, что всё именно улажено и улажено ко всеобщему удовольствию.
Василий Михайлович хотел было что—то сказать, но Чичиков предупредил его движением руки и попросил:
— Только дайте мне высказаться и выслушайте меня. Я вас очень об этом бы просил.
— Хорошо, не гневайтесь, Павел Иванович, — покоряясь, проговорил брат Василий и приготовился слушать, хотя в лице своём всё ещё и строил негодование.
— Итак, — с видом учителя приступил Чичиков, — что мы сегодня имеем с вами, господа? Во—первых — поземельный план, из которого совсем не ясно, кому же эта пустошь принадлежит. Стало быть, мы имеем спорный участок земли, — со значением подняв указательный палец вверх, сказал он. — Второе – мы имеем полную перспективу долгого суда, который ещё не ясно, как это дело решит, но я совершенно уверен, что решит суд его не в вашу пользу, — обратился он к старшему из Платоновых.
— Почему же это? — не выдержав, подал голос Василий.
— Василий, ты можешь помолчать? — вступился за Чичикова брат Платон.
— Молчу, молчу, — махнул рукой Василий и отвернул лицо, давая понять, что он ни с одним из приведённых здесь Павлом Ивановичем пунктов не согласен.
— Далее, — продолжал Чичиков, с благодарностью глянув на Платона Михайловича, — мы имеем соседа, днями вступающего в должность губернатора той самой губернии, в которой вы, любезный Василий Михайлович, изволите проживать и который, соблюдя известную и приличную его положению форму, показавшуюся вам оскорбительной, предлагает вам дружбу, а иметь в друзьях губернатора — это, знаете ли, дорого стоит. И, наконец, мы имеем вами же сегодня высказанное обещание того, что вы господину Леницыну и так, безо всякого, земли бы пожаловали, по его выбору. Так что, я считаю всё это дело улаженным. Потому что пустошь остаётся вам, земля, вами же обещанная, — Чичиков подчеркнул эти слова голосом, — отойдёт к мелкопоместному господину Леницыну, как вы изволили недавно выразиться, и который без пяти минут губернатор, и самое главное, в лице его вы наместо врага, который уж наверное, если захочет, то сумеет вас притеснить, будете иметь друга. И у вас с ним вместо судебной тяжбы будет самое приятное общение. Так что, мне думается, надо вам пить с ним мировую, — закончил свои доводы Чичиков.
Известие о том, что Леницын собирается вступить в губернаторскую должность, произвело требуемое впечатление. Особенно хорош был Вишнепокромов, делавший во всё время, пока Павел Иванович говорил, гримасы, долженствовавшие означать полную им поддержку Василия Михайловича и совершенное с ним согласие. Теперь же, узнав от Чичикова принесённую им новость, он с воодушевлением стал говорить про то, что давно уже пора в губернаторы человека молодого и что старику губернатору Аполлону Христофоровичу пора и честь знать, что самое время его пришло полезать на печку — клопов давить, и что нечего в таких летах заниматься делами всей губернии. Пустившись в воспоминания, коих, как думается нам после вступления Леницына в должность наберётся по всей губернии преизряднейшее количество, Вишнепокромов с явный одобрением отозвался о молодых годах "Феденьки" и его способностях в эти годы.
— При моих глазах было, ведь мы с его покойным батюшкой приятельствовали, — сказал он.
На что Василий Михайлович, промолчав, глянул с едва заметной усмешкой на брата Платона, но по сонному выражению лица того понял, что он либо не помнит, как "приятельствовали" Вишнепокромов со старшим Леницыным, таская друг друга по судам, то ли брату его, Платону, было это неинтересно. А Варвар Николаевич, разливаясь соловьём, на все лады нахваливал будущего губернатора. Похлопывая по коленке сидящего рядом с ним Василия Михайловича, он очень советовал идти на мировую, и думать забыв обо всех ранее состроенных им гримасах. Хотя, признаться, господа, — ну какой с гримас спрос? Мало ли от чего могут они проистекать и от чего случаться: то, глядишь, соринка кому в глаз попала, а то и муха заползла в ноздрю.
Василий Михайлович, на которого известие о скором губернаторстве Леницына тоже возымело действие, всё же продолжал ещё разыгрывать возмущение и несогласие, но по всему уже было видно, что оные чувства выказываются им более наружно, чем на самом деле, и что ему хочется, чтобы его уговорили принять предложенный оборот дел. Так, во время кабацкой драки мужики рвутся друг на друга из рук удерживающих их сотоварищей и, ощетинив бороды и дико вращая глазами, думают лишь о том, чтобы их покрепче держали дружки. И окружающие Василия Михайловича, словно чувствуя его настроения, подыграли ему на славу. Павел Иванович сокрушённо качая головою, говорил тоном, в котором без труда прочитывались и деланное осуждение старшего Платонова, и озабоченность его несговорчивостью, и якобы испытываемое им восхищение от смелости Василия Михайловича, не соглашающегося на мировую с важною персоною, в которую вот—вот должен был обратиться Леницын.
— Ну, чтобы вам согласиться, батюшка Василий Михайлович, стоит таковой пустяк стольких треволнений? Экой вы несговорчивый, просто Атилла какой! — говорил Чичиков, обводя взглядом присутствующих и ища в них поддержки, которую особенно и не надо было просить. Варвар Николаевич Вишнепокромов тоже старался изо всех своих сил; похлопывания по коленке брата Василия давно уже переросли у него в похлопывание по спине, с одновременным доверительным заглядыванием в глаза упрямящегося собеседника, уже, справедливости ради сказать, начавшего улыбаться, но не переставшего ещё отнекиваться. Брат Платон, смотревший на эту сцену спокойными и чуть насмешливыми глазами, не выдержав, проговорил:
— Слушай, брат, перестань, я тебя прошу, комедь ломать. Ведь, действительно, землю взамен пустоши ты обещал, так что же сейчас отказываться? Скажи лучше спасибо Павлу Ивановичу за его участие и соглашайся. Кстати, ничего в этом письме я не вижу оскорбительного; очень достойное письмо, — проговорил он, кладя конверт на круглый низенький стол.
— Соглашайтесь, Василий Михайлович, соглашайтесь, — пел сладким голосом Чичиков чуть ли не со слезами на глазах.
— Соглашайся, душа моя, — бубнил Вишнепокромов и, бухнувшись вдруг на колени, широко раскинув руки и картинно выгнув спину, сказал, глядя снизу на Василия Михайловича, — не встану с колен, пока не согласишься!
Тут в гостиную залу вошёл давешний парень в рубашке из розовой ксандрейки, подносивший Чичикову квасы, и объявил, что ужинать подано. Брат Василий ещё поломался с минуту, а потом согласился, верно, чтобы не портить себе аппетита к ужину, и все в умилённом настроении прошли в столовую, ну, может быть, не умилялся один лишь Платон Михайлович, так как в лице его читалась всегдашняя скука.
Стол был покрыт белой, затканною голубыми птицами и розовыми цветами, скатертью. В самом центре его грудились графины с известными уже Павлу Ивановичу квасами, стояли винные бутылки с этикетками, писанными по—французски, и цветные графины с водкой. Напротив каждого места положены были серебряные приборы, начищенные и отблескивающие в ярких лучах, льющихся от свечей, стоявших в серебряных же подсвечниках. Слуги в расшитых рубахах стали обносить гостей блюдами, и у изрядно уже проголодавшегося Чичикова навернулась слюна от поплывших в воздухе ароматов. Выпивши рюмку холодной водки и закусивши её хрустнувшим на зубах рыжиком, Павел Иванович заправил за ворот крахмальную салфетку и занялся первым из поданных блюд.
Это были петровские щи, но какие щи! Чичиков вдохнул в себя парной, отдающий корешками и копчёностями сытный дух, поднимающийся ото щей, и в животе у него заурчало и подобралось так, точно желудок его был дикий зверь, ожидающий добычи. Павел Иванович посмотрел на янтарно—красную поверхность супа с плавающими на нём яркими пятаками жира вперемежку с мелко порубленной зеленью, добавил по своему вкусу сметанки и, надкусивши сочную ватрушку, зачерпнул из глубины стоящей перед ним тарелки полную ложку ломтиков ветчины, курицы, телятины и ещё многого, что прямо так и просилось в рот. Проглотивши две или три ложки, он оглядел стол, заранее прицеливаясь к закускам, и, глядя на молча хлебавших сотрапезников, подумал, что им тоже пока ещё было не до разговоров, так как рты их были заняты более нужным на сей момент делом. А прицеливаться было к чему, на столе из мясных закусок расположились языки и рулеты из дичи с какой-то мудрёной начинкою, стояла заливная рыба, свежая икра, возле которой горкой толпились предназначенные к ней и ещё горячие пшённые булки; отдельно, словно маленькие лодочки покоились на большом блюде расстегаи с мясом, с рыбой или грибами, на выбор, через прорех которых выглядывали то кружочки варёного яйца, то полосочка сёмги, то шляпки маринованных грибов, торчащие словно вбитые в прорех гвоздики.
За вторым блюдом, а это были отварные мозги, обложенные горячей гречневой кашей, посыпанные зеленью, украшенные ломтиками грибов и политые растопленным маслом, разговор возобновился и коснулся прежней темы, правда, тон и содержание его несколько изменились, и в конце концов перешли, собственно, на ту должность, в которую должен был вступить Леницын: на губернаторство вообще и на генерал—губернаторство в частности.
Варвар Николаевич показал себя знающим этот предмет довольно тонко, его рассуждения были интересны Чичикову и, надо думать, не только ему. Особенно заинтересовала Павла Ивановича та часть рассуждений Вишнепокромова, где касался он статей: откуда для губернатора могут проистекать взятки. Вот тут—то Варвар Николаевич проявил глубину знаний необычайную, и в голосе его, во всех его словах была разлита такая приятность, он так млел от собственных же разговоров, что можно было подумать, будто весь тот золотой поток, о котором толковал он, должен пролиться в его же карманы.
— Да, заматереет—то наш Фёдор Фёдорович, заматереет, — говорил Вишнепокромов, чуть ли не глотая слюну. — А как не заматереть, ведь само в руки пойдёт. Одни только откупщики от десяти до шестидесяти тысяч дают, и это самая нестыдная, неопасная взятка, её и честные берут, так как от неё никому угнетения нету, — говорил он, смакуя каждое слово, — а по судебному ведомству, от богатых помещиков и так далее — это тоже до пятидесяти тысяч в год, и тоже неопасно, потому что через секретарей, губернатор здесь не путается, на это чужие руки есть. Ещё от старообрядцев; это уж, как заведено, — тысяч на тридцать потянет. А как же, прячут беглых, православных с пути сбивают, хотят строить храмы да часовни, а ведь раскольникам это запрещено, вот старообрядцы, можно сказать, и пожива для всей полиции, губернского правления, Земского суда, прокурора, — загибая пальцы, перечислял Вишнепокромов. — А там ещё и за продажу мест через чиновников набежит. Так что, батюшка ты мой, тысяч двести в год только по этим статьям возьмёт, а об остальном я не говорю.
— Ну, Варвар Николаевич, совсем всё рассчитал, — усмехнувшись, сказал Василий, — все статьи свёл; прямо не человек, а казённая палата.
— Ну, а как же, не первый день, чай, на белом свете живу, всё знаю, всё вижу, — отшутился Вишнепокромов.
— Нет, Варвар Николаевич, а и вправду, откуда у вас эти, можно сказать, поражающие познания? — спросил Чичиков, с интересом глядя на него.
— Это, батенька, потому, что я никогда не прохожу мимо интересного человека. Пусть это даже мужик или баба какая, а я всегда выспрошу да выведаю, как да что, вот она правда из кусочков и лепится. А правда, батюшка вы мой, превеликая сила.
— И прибыльная, — ввернул, не сменяя сонного выражения брат Платон.
— Да, Платон Михайлович, если хотите, и прибыльная — подтвердил Вишнепокромов, ничуть не смутясь, хотя и понял, куда он клонит.
А Платон Михайлович намекал на тот почти всем известный факт, как Вишнепокромов извлекал доходы из своих "кусочков правды". Знали об этом многие, а многие же, особенно мелкий чиновный люд, испытали на себе эти его "кусочки". Выведывая и выспрашивая у всякого, с кем его сталкивали обстоятельства, и будучи к тому же весьма словоохотливым, Варвар Николаевич известным манером наводил своих собеседников на нужную ему тему, как опытный педагог наводит своих учеников на нужные ему решения трудного примера. Тема эта была именно та, в которой он, как мы с вами, дорогой читатель, видели, проявил столько осведомлённости, что сумел поразить даже Павла Ивановича Чичикова, человека далеко не простого, который и сам мог заткнуть за пояс многих и многих из тех, с кем сводила его судьба. Объезжая с постоянными визитами знакомых и незнакомых, а большей частью тех, у которых дела были переданы по инстанциям, не суть важно по каким, встречаясь с просителям всех мастей, навещая затеявших ту или иную тяжбу, он сполуслова, с полунамёка, к которому сам и подводил собеседника, понимал, кто кому и сколько дал. Поохав, посочувствовав, посетовавши на наше время, в которое без этого не проживёшь, он в ближайший из дней подстраивал так, что чиновник, о котором он выведал интересующие его вещи, встречался с ним, разумеется случайно, на улице ли, в присутствии, не важно где. Тогда Вишнепокромов без церемоний подходил к нему, заведя разговор и проникновенно глядя в глаза, начинал корить и усовещать бедного, хлопающего глазами господина в мундире, а чтобы тот не вырвался и не убежал, он крепко схватывал за пуговицу того же мундира и продолжал охаживать его словами. Дескать, такой ты да разэтакий, да как не стыдно, да как рука только твоя поднимается, в смысле протягивается, за мздою, и далее в подобном духе. Конечно, были и такие, что, оставив в его кулаке пуговицу с выхваченным клочком материи, давали от него стрекача. Но многие, и их было большинство, что—то бормотали ему в ответ, толклись с ноги на ногу и никуда не спешили. Может быть и оттого, что жаль им было пуговицы. А с другой стороны, кому мила огласка? Ну, вот вам, дорогой читатель, нужна огласка? Даже в таком пустяшном и общераспространённом деле, как посещение кумы в отсутствие кума. Да ни за что вы на неё не согласитесь. Хотя все знают, что все посещают, причём постоянно и повсеместно, и дело, казалось бы, совсем заурядное, сравнимое разве что с высмаркиванием носу, а вот огласка его нежелательна. Странное существо человек...
Ну да ладно, вернёмся к чиновникам, которых любезный наш Варвар Николаевич держал за пуговицу крепче, чем иные держат врагов своих за горло. Когда чиновник совсем скисал, кося глазами по стенам, когда бормотания его теряли уже всякую внятность, Варвар Николаевич хлопал его по плечу с целью приободрить и говорил ему приблизительно следующее:
— Да что вы, батенька, расстраиваетесь—то так? Я ведь не топить вас пришёл и вовсе не собираюсь идти по начальству. Я просто хотел с вами словом перекинуться по—свойски, потому как вижу, что вы хороший человек.
Чиновник тут, конечно же, немного приободрялся, начинал дышать ровнее, а Вишнепокромов говорил:
— Да я, собственно, и ухожу уже, и надеюсь, что мы с вами расстаёмся друзьями. Ну? Друзья? — спрашивал он трусящего чиновника, протягивая ему руку словно в знак примирения. Обалдевший от такого наскока чиновник, не понимая ещё всего происходящего, хватал его руку, пожимая своею трясущеюся рукой и говорил, что да, конечно же, друзья; только бы отделаться от Варвара Николаевича поскорее. Тогда Варвар Николаевич, переходя на доверительный тон, говорил, обращаясь к нему, как к новоявленному другу, уже на "ты":
— Послушай, как там—то, бишь, тебя, Иван Иванович? Послушай, Иван Иванович, я тут в одно место наведаться собрался, а кошелёк, вот незадача, дома забыл, ты не мог бы мне до завтра ссудить красненькую? — и смотрел в косящие глаза лучезарно улыбаясь. Красненькая перекочёвывала в карман Вишнепокромова, а чиновник, глотнувши воздуха, скакал от него что есть мочи, только фалды заячьими ушами развевались по ветру. Метода была надёжная, чиновники жаловаться на него не ходили, да и как им было жаловаться? Потеря для них была не особенно велика, тем более что Вишнепокромов в удачные для него дни возвращал долг то одному, то другому с тем, чтобы через какое—то время вновь одолжиться у старого друга, благо у того и новое дельце приспевало, так что Варвар Николаевич мог бы трудиться и трудиться не покладая рук, потому что у нашего российского чиновничества рыльце всегда в пушку, но он брал лишь столько, сколько ему было необходимо, шёл в трактир, и красненькая превращалась там в бутылки с шампанским или бордоским, а красный цвет ассигнации при помощи какой—то таинственной реакции, наверное, могущей быть понятною лишь с помощью самой передовой науки, сообщался лицу Варвара Николаевича, особенно, как помнит читатель, той его части, что была поближе к носу.
Когда же кто—нибудь, подобно Платону Михайловичу, пытался слегка кольнуть его, то он ничуть не смущался и, не отрицая ничего, говорил, что служит общественной пользе и что хотя взяток так не искоренишь, но всё же чиновники знают, что есть он — Вишнепокромов, и что на них есть его суд. Одним словом, негодяй был отъявленный.
Узнавши об этой его истории, Павел Иванович, думавший вначале сойтись с ним на предмет "мёртвых душ", сейчас расхотел делать это совершенно, понимая, что тут в случае чего одной красненькой не обойдёшься. Однако Варвар Николаевич очень его заинтересовал, и он чувствовал каким—то своим внутренним чувством, что из Вишнепокромова очень даже можно извлечь пользу. Тем временем разговор зашёл о его, Павла Ивановича, путешествиях, о том, что и Платон Михайлович тоже собирается с ним ехать, и что неплохо бы ему растрясти свою хандру по нашим дорогам. Узнавши о том, что через два днянамереваются наши путешественники отправиться в путь, Вишнепокромов стал звать их к себе в гости проездом, и, как ни отнекивался Чичиков, как ни приводил довода, что едет не по своей надобности, тот не уступал и, вцепившись в них с Платоном Михайловичем, точно в известную уже нам пуговицу, — заставил согласиться.
— Что же вы со мной делаете, любезный Варвар Николаевич? — вздохнул Чичиков, в то же время улыбкою показывая, как приятно ему быть побеждённым Варваром Николаевичем. — Ведь мне надобно по поручению его превосходительства генерала Бетрищева сделать визиты по его родственникам, оповестить об помолвке дочери его Ульяны Александровны с господином Тентетниковым Андреем Ивановичем.
— Что! — услышавши знакомое имя, вскричал Вишнепокромов, раздувая усы. — Тентетников! Это ведь эдакая скотина, а вы для него стараетесь?! — негодовал он.
— Позвольте, Варвар Николаевич, вы обижаете меня. Тентетников для меня — никто. Я, может, и сам желал, чтобы его превосходительству открыли на него глаза, но вот воля Александра Дмитриевича, давнего моего друга, так много мне благотворившего и, можно сказать, даже спасавшего, когда враги смели покуситься на самое жизнь мою; воля его для меня священна и поэтому, как бы кому ни не нравился господин Тентетников, но я пообещал его превосходительству помочь в объезде родственников, что и собираюсь выполнить, — и Чичиков замкнулся в лице.
— Павел Иванович, не обижайтесь вы, ради Христа, у меня и в мыслях против вас ничего нет, но этот Тентетников такая скотина! — опять возопил Вишнепокромов, и затем последовал его рассказ об известном уже читателю разрыве между этими двумя господами.
— Ну не скотина ли? — стукнув в сердцах по ручке кресла, в котором сидел, завершил свой рассказ Вишнепокромов, — разве так заведено между приличными господами? Ну, не хочешь знаться, так сделай это в уважительной манере, а не маячь нарочно подле окна... Так нет же, он, подлец, напоказ выставил собственную физиогномию, мол, на, смотри, вот он — я, дома, но знать тебя не хочу.
— Господи, неужто он и впрямь мог до такого дойти, ведь на него и не скажешь?! Видимости он довольно деликатной, да и так — тихий... — удивился Чичиков, с участием глядя на Варвара Николаевича.
А Варвар Николаевич дёрнул в гневе головой и сказал:
— Да, батенька вы мой, вот таков этот господин. И вот таким зятем награждает Господь его превосходительство Александра Дмитриевича. Да будь это прежние времена, я бы не преминул потребовать сатисфакции, я бы показал ему, что такое честь дворянина...
И Вишнепокромов, распаляясь, ещё какое—то время перечислял всё то, что он сделал бы со своим обидчиком, не будь бы таких строгостей со стороны государя в отношении дуэлей. Сейчас же жертвою его гнева падали расстегаи, которых он сжевал уже четыре, откусывая их большими кусками, в перерывах между грозных своих ламентаций и словно не замечая того.
Глаза его метали молнии, усы с налипшими крошками топорщились, лицо из красного сделалось пунцовым, почти сравнявшись в цвете с носом. И тут невнятная давешняя мысль, почти чувство, по которому Павел Иванович угадал полезность для себя в господине Вишнепокромове, стала проясняться, утвердилась в его душе и, обретя очертания, совершенно определилась. И возникла вновь где—то в животе приятная лёгкая щекотка, посетившая его уже сегодня в коляске, когда возвращался он в тоске и смятении чувств, нанеся визит господину Леницыну. Щекотка эта тёплою волною подкатила под сердце Павла Ивановича, и если бы он был натура художественная, то вполне можно было бы сказать, что на него снизошло вдохновение. Он увидел новый свой путь к дому генерала Бетрищева, к руке Ульяны Александровны, к тому немалому приданому, что генерал давал за ней, и путь этот лежал через сидящего здесь за столом и брызжущего капельками слюны Вишнепокромова. Чичиков уже видел, как использует он настроения Варвара Николаевича и обиду, понесённую им от Тентетникова, как всё это можно удачно сплести с известными Чичикову обстоятельствами об участии Тентетникова в тайном обществе и как через того жеВишнепокромова довести до нового губернатора, с которым Павел Иванович в самое ближайшее время намеревался сойтись, как только возможно короче. Всё пришлось, как нарочно, кстати: и излишняя болтливость Тентетникова, и знакомство с Леницыным, тоже имеющим к Тентетникову претензию, и гневно жующий расстегаи Вишнепокромов, которому при первом удобном же случае решил Чичиков открыть тайну Андрея Ивановича, так как писать доносы самому почитал недостойным.
— Полно вам, Варвар Николаевич, — скучая, отозвался на горячие реплики Вишнепокромова брат Платон, — уж рассказали бы что занимательное или весёлое, а то всё об одном и том же! Всякий раз, как приедете — про это поминаете! Да бог с ним, с этим Тентетниковым, — давно уж забыть пора!
— И вправду, Варвар Николаевич, расскажи чего весёлого, ведь вон у тебя сколько историй, — поддержал младшего брата Василий Михайлович.
— Что же вам, батюшка, рассказать, — отходя от гнева в лице, задумчиво произнёс Вишнепокромов, — ума не приложу даже. Ну, может быть, из дел, случавшихся по службе. Ведь у нас, правда ваша, многое бывало... — и он, усмехнувшись, уставился в потолок, припоминая. — Ну, вот хотя бы это, — сказал он, оживляясь и приступая к рассказу. — Выехали мы как—то с командой в имение к помещику Корнаухову Фаддею Лукичу, так как прискакал от него нарочный и объявил, что, дескать, горит барин, — пожар на хозяйственном дворе. Ну, мы, ясное дело, тут же повскакали все на дроги и на двух дрогах при двух же бочках покатили. Надо сказать, что я тогда ходил ещё в младших офицерах, а начальствовал над нами ныне покойный, Царство ему Небесное, Афанасий Матвеевич Кургузый. Был он в полковничьем чине, как и я ныне, человек был нрава сердитого, говорят, что случалось даже жену свою поколачивал, но с манерами господин, одевался всегда с шиком и, надо прямо сказать, человек неплохой. Так вот, едем мы, песни поём, вода в бочках плещет, небо синее, и вдалеке уже столб дыма виднеется, горит, стало быть, жарко; кучера стараются, стегают по лошадям, а в траве, знаете ли, господа, — кузнечики, в небе жаворонки, одним словом — божья благодать, а мы на пожар едем. Приехали, а на хозяйственном дворе, почитай, одни головешки остались, огонь на скотный двор перекинулся и уж там горит. Мы, конечно, туда, разматываем кишку, помпу ставим и давай поливать. Тут погаснет, там прорвёт, там погаснет, тут опять задымится. Одним словом, вылили две бочки воды, вымазались, перепачкались, как черти, один наш Афанасий Матвеевич точно с картинки, перчатки белые, пуговицы сияют, панталоны, что твои снега, каска на солнце горит; ходит вокруг, усы покручивает. Послали мы бочки к реке затаривать, так как воды ни капли, сидим, ждём, потому как огонь ещё кое—где полыхает, но уж правда, не так чтобы сильно. А скотный двор ровно что море. Видать, года два не чищен, и мы тут ещё всю эту жижу двумя бочками воды развели, так что корове, господа, чтобы не соврать, но по брюхо будет. И тут, как на беду, наш Афанасий Матвеевич подходит к стеночке, с виду вполне благополучной, и, ручки на груди скрестя, на манер Бонапарта, решает к ней прислониться. Прислоняется, и стеночка тут же рушится, а на бедного Афанасия Матвеевича сыплются откуда—то из—под карнизу и головешки, и уголья, и зола, и всё это, надо сказать, господа, в тлеющем состоянии. Он, конечно, сразу ничего не понимает, стоит выпятив глаза, весь облепленный угольями, а потом вдруг начинает прыгать, хлопать себя по бокам, по спине и выделывать такие антраша, на какие способен лишь человек с фунтом горящих углей за шиворотом. Мундир на нём тут же начинает тлеть и дымиться, а он бегает по двору и кричит: "Окатите водой, братцы, окатите водой!" А где её, эту воду, взять — вся вышла. И смешно, и страшно на него глядеть, потому что не ровен час сгорит. Тут он понимает, что воды нет, срывает с себя мундир и в одной рубашке бултыхается в разведённую нами на скотном дворе лужу и скрывается там с головой. Конечно, тут же всё гаснет, он выпрыгивает, протирает глаза, сурово глядит на нас, а сам весь зелёный, точно водяной. Мы, конечно же, крепимся, как можем, чтобы не расхохотаться, но держимся уже из последнего. А Афанасий Матвеевич, сидя в этой жиже почти горло, начинает что—то нашаривать вокруг себя, чего, мы сперва не понимаем, но потом он вытягивает это из лужи и, морща для острастки своё зелёное лицо, натягивает на голову облепленную навозом каску, а из каски, точно из ведра... ха, ха, ха, — рассмеялся, не докончив фразы, Варвар Николаевич.
И Чичиков с братьями, с интересом слушавшие его в продолжения всего рассказа и к концу начавшие уже улыбаться, словно предчувствуя его концовку, тоже рассмеялись, ибо это действительно было смешно, хоть и несколько грубо и, может быть, безжалостно — окунать с головой бедного Афанасия Матвеевича Кургузого в навозную лужу. Но этому виной конечно же, обстоятельства, не сгорать же заживо почтенному господину. И история эта снова и в который раз учит нас, что ход вещей и событий, зачастую и для многих, сильнее укоренившихся воззрений, стремлений и привычек. Надеюсь, господа, вы согласитесь, что у вас, как и у почтеннейшего, хотя и немного сурового Афанасия Матвеевича Кургузого, нет стремления и привычки нырять в навозную лужу и что ваши воззрения тоже далеки от этого, но опять же — не сгорать же, не сгорать человеку. Но оставим наши мудрствования, читатель, и вернёмся вновь к столу, вокруг которого сидят четверо хохочущих мужчин. Причём громче и заразительнее остальных хохотал сам рассказчик, может быть оттого, что живее прочих видел всю рассказанную им картину, а не по некоторой грубости, свойственной его натуре, как могли бы вы подумать. Старший Платонов тоже хохотал от души, хотя сдержаннее, нежели Варвар Николаевич, и хохот его, несколько смолкавший, вновь набирал силу, вероятно, когда он заново представлял себе сцену с нахлобучиванием на и без того перемазанную голову некогда победно сиявшей на солнце каски. Чичиков смеялся очень деликатно, склонив по обыкновению голову набок и делая наиприятнейшее лицо, словно бы говоря, что он ценит, очень ценит переданный Варваром Николаевичем комизм анекдота, но что поделаешь, врождённое чувство тактичности не позволяет ему смеяться громче, несмотря на то, что этого ему, конечно же, очень хочется. А Платон Михайлович не смеялся вовсе, лишь слегка и сонно улыбаясь, он помешивал серебряной ложечкой кофий у себя в чашке, глядя на Вишнепокромова из—под полуопущенных век. Так что мы несколько ошиблись, когда предложили тебе, читатель, вернуться к столу, вокруг которого сидело четверо (как нам казалось) хохочущих мужчин.
"Да, пресмешной, надо сказать, анекдот, — подумал Чичиков, — надо бы его запомнить и с Варваром Николаевичем поближе сойтись, и не затягивая времени. Очень приятный человек". Вишнепокромов действительно понравился Чичикову. Даже несмотря на ту некоторую робость, что испытал Павел Иванович, когда узнал он о практикуемой Вишнепокромовым в отношении чиновников методе, его привлекал этот господин, вероятно, как живописца добрая кисть или набор красок, посредством которых надеется создать он замечательную картину, или как тянется рука ваятеля за стилом, которым он уже готов вырубить из белеющей глыбы мрамора совершенную статую. Так и Павел Иванович, не давая себе отчёта, где—то в глубинах своей души, до которых, может быть, и не достигал свет его рассудка, испытывал симпатию к Вишнепокромову, как к будущему помощнику в замышляемом им деле.
Смех понемногу утих, и Василий Михайлович потянулся было к серебряному с затейливыми узорами кофейнику, предлагая гостям выкушать ещё по одной чашечке кофию, на что Павел Иванович отказался, сославшись на то, будто кофий крепит, а это не совсем полезно в отношении геморроидальном, а Вишнепокромов ухмыльнулся и, протянув свою чашечку Василию Михайловичу, сказал: "А мне, батюшка, налей, я от него лучше сплю".
И вправду, дело уже шло к ночи, за окном было и вовсе темно, так что неразличимы были даже стволы дерев, плотно облегающих дом. Василий Михайлович велел сменить свечи и принести стол для игры.
— Как вы на сей счёт, господа? — спросил он, обводя взглядом собравшихся.
— Что ж, я не прочь затеять банчишку, — отозвался Вишнепокромов.
— Как изволите сказать, — согласился Чичиков.
— Ну, тогда прошу рассаживаться, — сказал Василий Михайлович, и все перешли к зеленеющему сукном, точно яркая лужайка, столику.
Игра пошла не то чтобы, вялая, но без должного азарту, разве что Варвар Николаевич отдавался игре полною душою: ожесточённо дуплился, на каждый семпель загибал утку, прибавляя на раз и на два, да и карта, признаться, шла ему, то и дело с его угла раздавалось "пароле" да "пароле пе"; одним словом — был в возбуждении и удовольствии. Прочие же "ловили мух" и отвлекались на посторонние разговоры.
— Ну что же вы, господа?! Ну нельзя же так! — сердился Варвар Николаевич. — Уж коли сели, так извольте играть, а то даже неинтересно, право... Вот вы, Платон Михайлович, уже второй раз "зевнули", — сказал он, обратя внимание Платона на его промахи.
— Да с вами играть, Варвар Николаевич, что с бритвы мёд лизать, — лениво проговорил Платон и добавил: — Я, право, не знаю, как вы, господа, но мне надоело.
— Ну доиграйте хотя бы партию, — возмутился Вишнепокромов, — нельзя же вот так, посреди игры... Не демократ же вы какой—нибудь, право слово.
Партия была доиграна, но игра разладилась, и, к большому неудовольствию Варвара Николаевича, игроки, отсев от стола, перешли в диванную и взялись за трубки. Разговор, не прерывавшийся и во время игры, как—то сам собой зашёл об предстоящем Павлу Ивановичу путешествии. Из жилетного кармана извлечён был заветный списочек, и Павел Иванович, читая фамилии, в нём означенные, стал сызнова выспрашивать у своих собеседников о тех лицах, коим он был обречён нанести визит.
Нам с вами, уже знакомыми с главным направлением его вопросов, не стоит их тут вновь приводить, так как все они были сделаны касательно количества как живых, так и мёртвых душ у того или другого из помещиков, коих Чичикову предстояло вскорости посетить. Но вопросы эти ставились Павлом Ивановичем с известною осторожностью и маскировкою, достигавшеюся им через разговоры об эпидемиях и морах, постигающих регулярно среднерусские губернии. Собеседники же его, услыхав оглашенные им фамилии, оживились и многое сумели порассказать ему и дельного и смешного о лицах, служивших целью будущего его странствования. Имя полковника Кошкарёва вызвало у Василия Михайловича горький смех, а Вишнепокромов, тот весь—таки зашёлся от хохота, рассыпая вкруг себя трубочный пепел. Чичиков, присоединясь к общему веселию, объявил, что имел уже удовольствие побывать у Кошкарёва и тоже находит этого господина презабавным.
— Жаль его, — вступил в разговор Платон Михайлович, — он, бедняга, думает, что и впрямь одними лишь циркулярами да распоряжениями можно достичь до дела...
— Это как в том анекдоте, — выпуская облако табачного дыма, оживлённо проговорил Вишнепокромов. — Раз над артельщиками поставили мастера и спрашивают у некоего господина, через которого шло его назначение: "Хорош поведением, что ли?" — "Нет, нехорош!" — "Не пьёт, что ли?" — "Нет, пьяница". — "Умён?" — "Нет, не умён". — "Так, что же он?" — "Повелевать умеет," — и он расхохотался сам вперёд прочих.
— Это бы ещё хорошо, — вставил Василий Михайлович, — повелевать — это тоже наука. Он же превратил всё бог знает во что, носится по имению, точно курами оппетый. Вырядил своих лапотников в немецкие кафтаны... тьфу, — сплюнул он в сердцах, — и смех и грех только. Куды только родственники смотрят, ведь неровен час и угодит в жёлтый дом; а имение пойдет с молотка, я в этом уверен безо всякого сомнения. Вот вы, Павел Иванович, — обратился он к Чичикову, — замолвили бы перед его превосходительством слово, по старой дружбе, обратили бы его внимание, а не то ведь неизвестно кому всё достанется, жалко ведь.
На что Чичиков, сделавши сурьёзное лицо, долженствующее свидетельствовать об его озабоченности судьбою полоумного полковника Кошкарёва и его имения, подтвердил своё обязательное ходатайство перед его превосходительством генералом Бетрищевым по словам Василия Михайловича. Подобные же замечания и разбирательства сопутствовали и остальным означенным в списке фамилиям, коих помимо Кошкарёва набралось ещё четыре. Но мы не хотим забегать вперёд ни с самими именами, ни с подробностями, касающимися до них, дабы не портить читателю удовольствие от скорого с ними знакомства. Давайте, господа, не спеша, вместе с Павлом Ивановичем и его неизменными Селифаном и Петрушкой отправимся в путь и узрим сами, воочию те места и те лица, с которыми сведёт его предстоящая ему дорога. Но об этом немного после, так как наши герои уже прощаются друг с другом. И то дело, время уже позднее, и пора бы в постель на боковую. Тем паче, что выкуривший три трубки Варвар Николаевич, почувствовав усталость и некоторую сонливость, вероятно, случившуюся с ним посредством выпитого им кофия, собрался восвояси. На прощание он шумно облобызался с обоими Платоновыми, а Чичикова даже притянул к себе и, обняв, словно намереваясь задушить, влепил ему в бритую и пахнущую тем редким и любимым Павлом Ивановичем сортом мыла щёку такой "безе", что у Павла Ивановича ещё некоторое время горела кожа. И Чичиков как вспоминал об этом поцелуе, так досадливо морщился и сплёвывал.
— Обяжете, очень обяжете, господа, — погромыхивал, несмотря на сонливость, Вишнепокромов, — через два дня жду вас у себя в Чёрном, и чтобы без никаких, — сказал он, состроив строгие глаза.
— Приедем, — сказал Чичиков, и, вздохнувши посвободнее, когда коляска Варвар Николаевича скрылась за оградой, он вслед за братьями прошёл в дом.
Уже лёжа в постланной Петрушкой большой, под балдахином, кровати, Павел Иванович вернулся к своим расчётам об Вишнепокромове, обдумывая их то с одной, то с другой стороны, и уверился, что всё это может завязаться весьма хорошо. Судьба Тентетникова, которой вздумал он было известным образом распорядиться, мало занимала его. Наоборот, он даже ощутил прилив некоторой гордости, смешанной с удовольствием, от мысли, что можно по своему усмотрению располагать чужою судьбой. Поэтому Тентетников казался сейчас Чичикову маленьким, ничтожным и кругом обязанным ему человеком. "Ведь он совсем дурак, — вспомнил Чичиков свою давнюю об нём мысль, — совсем дурак..." И уже засыпая, на самом краю между сном и бодрствованием, успел подумать о том, чтобы подучить завтра Селифана объявить при братьях Платоновых, будто подаренная ему Тентетниковым коляска в ущербе, а кони в хвори или что—нибудь подобное, с тем, дабы ехать, воспользовавшись экипажем и лошадьми своих гостеприимных хозяев. И душа его, подстрекаемая сими приятными мыслями к расслаблению, опустилась в сон.
Но, несмотря на столь покойное отхождение ко сну, на столь благостное его начало, Павел Иванович проснулся поутру с чувством какого—то неопределённого беспокойства, навеянного, как нам думается, посетившим его под утро странным сновидением.
Всё мерещилась ему перед самым пробуждением непонятно откуда взявшаяся толстая баба, обтянутая синей запаской у пояса, будто бы бегущая вдогонку за его коляской. Баба тянула к нему полные руки, растопыривала короткие пальцы, точно намереваясь его схватить. Чичикову даже видны были её вздрагивающие при каждом шаге обтянутые синей материей груди, так явно она ему мерещилась. И отчего—то эта картина, которая могла бы вполне понравиться иному, тревожила Павла Ивановича, и нагонявшая его баба сеяла в душе его тоску. Чичиков подумал, что лучше бы ему проснуться, и открыл глаза. Баба тотчас же исчезла, и через какую—нибудь минуту Павел Иванович навряд ли мог рассказать о том, что, собственно, ему снилось, но вот ощущение беспокойства, посеянное в душе бесстыдным персонажем его сна, осталось.
Чичиков оглядел комнату, служившую ему опочивальней, и в свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь зелень тянувшихся к окну липовых ветвей, она показалась ему более привлекательной, нежели вчера в полутьме, которую тщилась разогнать одинокая свеча. Даже строгая громадная кровать под балдахином, при взгляде на которую у Павла Ивановича помимо его воли вспыхнули вечером в голове слова: "почил на смертном одре", непонятно к кому и чему относившиеся, даже эта кровать глядела сегодня веселее. Подползши к её краю, Павел Иванович присел, спустивши с неё ноги, и, едва дотягиваясь ими до ночных туфель, принялся звать своего лакея Петрушку. Петрушка появился в дверях заспанный, с куриным пёрышком в волосах, и, разлепив свои большие губы, спросил:
— Одевать, что ль?
— Одевать, что ль? — передразнивая, прикрикнул на него Чичиков. — Одевать, что ль? — снова передразнил он его на иной манер. — Погляди только на себя, образина, каким являешься? Хорошо, что сертук успел напялить, — крикнул на него Чичиков, — розги по тебе плачут...
Сложив худые с крупными пальцами руки впереди пупа, Петрушка мялся с ноги на ногу, с обиженным и в то же время независимым видом поглядывая в окно, как бы говоря этой гримасой, что, дескать, вот так всегда и ни за что ему нагорает, но он уже привык и смирился со своей участью. Смерив полным презрения взглядом его длинную фигуру, Чичиков сказал:
— Выправь бритву, да помягче, барина брить будешь.
И сойдя с кровати, прошёл к большому висевшему на стене зеркалу в резной золочёной раме. Осмотр собственной физиогномии не вполне удовлетворил его. Он потёр тыльной стороной ладони у себя по щеке, проверяя на жёсткость вылезшую за ночь щетину, поковырял прыщик, расцветший подле носа, но наибольшую тревогу Павел Иванович ощутил, разглядывая собственную шевелюру. В последнее время ему стало казаться, что волос у него на голове стал будто бы не так густ, как прежде, и поэтому он по утрам перебирал пальцами каждую из своих прядей, укладывая их друг к дружке, перед тем как причесать. И на этот раз, разложив их в привычном уже порядке, он слегка прошёлся по волосам гребёнкой и, не найдя особых проплешин, несколько успокоился. Тут вернулся Петрушка, принеся с собой горячих полотенец, и Чичиков, прижав их к щекам, стал делать компресс, так способствующий более лёгкому сбриванию щетины. Но ему, видать, было не суждено сегодня насладиться приятным теплом, идущим от сырых полотенец, ибо Петрушка, словно бы взялся его уморить.
— Я тебе поплюю, я тебе поплюю, мерзавец ты этакий, — взвился Павел Иванович, увидя в зеркало, как стоящий у него за спиной Петрушка, готовящийся к роли цирюльника, уже совершенно собрался плевать в чашку с мылом, желая навести пену для бритья на собственной слюне.
— Да что такого, барин, — вскинул костлявые плечи Петрушка, показывая удивление, — все ведь так делают, даже и сами брадобреи, — сказал он.
— Вот я тебе сделаю, гусь ты эдакий, — закричал на него Чичиков, — сей же час чтобы развёл на варёной воде. Сколько тебя учить, рожа! — и Павел Иванович в сердцах швырнул в него скомканные полотенца.
Петрушка выскочил из комнаты, и полотенца, шмякнув об дверь мягким белым комом, сползли на пол.
Наконец с грехом пополам приступили к бритью, и Чичиков долго ещё ворчал, зло поглядывая на Петрушку через зеркальное стекло. На что Петрушка, делающий вид, будто не видит этих взглядов и выказывая деланную заботу об барине, говорил:
— Извольте сидеть спокойно, не дёргайте бородой, неровен час порежетесь.
Закончив бритьё, Павел Иванович умылся, фыркая и брызгая вокруг себя фонтанчиками водяных капель, надушился одеколоном, не забыв прижечь смоченной в водке тряпочкой появившийся вблизи носа прыщ, и принялся за одевание. Петрушка, боясь снова чем—либо прогневить своего барина, старался как только мог, разглаживая несуществующие складочки на сертуке и оббирая никому, кроме него, невидимые пушинки. Но Павлу Ивановичу в это утро решительно невозможно было угодить. Старания суетящегося Петрушки были увенчаны ещё несколькими горячими комплиментами, и он, закончив прибирать своего хозяина, немедля ретировался из комнаты. А Павел Иванович, оглядев в зеркале собственное отражение, не то чтобы остался им недоволен, но просто не ощутил, как это бывало прежде, симпатии к себе, выражавшейся, как вероятно помнит читатель, похлопыванием по щекам, пощипыванием подбородка, возгласами вроде "мордашки" и прочим подобным. Сумрачное расположение его духа проистекало, надо думать, не от давно уж позабытого им сна и не от нерасторопности глупого слуги; коренилось оно в чём—то другом, и, как нам ни прискорбно уличить в том нашего героя, причиной ему служила необходимость поездки к Хлобуеву с тем, чтобы доплатить разницу в пять тысяч рублей к оговорённой ими вчера сумме. Правда пять тысяч эти были обещаны Чичикову, как вы помните, Платоном Михайловичем, но Чичиков сегодня уже немного сожалел о сделанном им вчера приобретении, объясняя свой поступок влиянием минуты и авторитетности Костанжогло. Сейчас ему представлялись все те долгие и могущие увенчаться неуспехом труды, которые он взваливал на себя, и давешние его рассуждения о том, что земли можно распродавать и по частям, что остаток их можно бы заложить в ломбард, уже не казались ему привлекательными. Вокруг его поспешного приобретения значился некий труд, присутствовала некая суета, и это казалось обременительным Павлу Ивановичу. Тем более, что перед ним забрезжили иные предметы и цели, коих можно было достигнуть не с таким напряжением всех своих душевных и телесных сил, а с помощью одной лишь ловкости и расчёта. Но тут грустные размышления Павла Ивановича были прерваны слугой братьев Платоновых, явившимся звать его к завтраку, и Чичиков, ещё раз оглядев себя в зеркале, прошёл в столовую. Братья уже сидели за столом, и Чичиков, поприветствовав обоих, уселся на подставленный ему слугой стул.
— Как спалось вам, Павел Иванович? — спросил брат Василий после взаимных поклонов, — не беспокоило ли что?
На что Чичиков отвечал, что спалось ему великолепно, что так почивают одни лишь младенцы и что таким изумительным и здоровым воздухом, как тот, что лился к нему в форточку, он давно уже не дышал. Всё это было сказано с самою обходительною миной и дополнено такой улыбкой, что никто допустить бы не посмел в Павле Ивановиче дурного настроения.
Обменявшись ещё несколькими ничего не значащими фразами с хозяевами, герой наш приступил к завтраку.
Завтрак состоял из сваренных всмятку яиц, блинов с икрою и холодной телятины. Помимо этого были ещё пирожки со сладкой начинкою, стояло в большом фаянсовом кувшине молоко, и дышал ароматным паром серебряный кофейник с кофием.
Павел Иванович начал свою утреннюю трапезу с яйца; оббив скорлупку на яичной макушке, он осторожно ложечкой сковырнул белую тугую шляпку белка и в обнаружившийся под ней ещё горячий, оранжевый желток положил кусочек маслица, добавил горчицы на кончике ножа, подождал, пока масло растает и, перемешав ложечкой содержимое сваренного всмятку яйца, съел.
— Очень рекомендую, — сказал он, обращаясь к братьям, — так сказать, яйца по—английски. В бытность мою на таможне перенял от одного задержанного контрабандиста. Весьма вкусно.
Братья послушали его совета и согласились, что и вправду вкусно. Несмотря на некоторую подавленность, о которой говорено было нами ранее, Павел Иванович ел не без аппетита, отдав свою дань и телятине, и блинам, которые он, основательно сдобрив икрою, складывал в треугольничек и целиком заправлял в рот, где они лопались, точно перезревший плод, из которого наместо сока текла восхитительно свежая икра. Да, губа не дура у нашего героя, и, описывая его прилежание, оказанное блинам, мы заметили, как у нас самих навернулась слюна, и мы были бы не прочь оказать должное уважение этому блюду, может быть, самому русскому изо всей тьмы известных русской кухне блюд. Скажите только, где в мире, у какого народа на столе видели вы этакие пышные, пропитанные топлёным маслом блины, жаркие и жёлтые, точно солнце, так и просящиеся в рот со сковородки? У немца с его колбасами, кишками да свиными ногами? У француза с его лягушками да улитками? Или у англичанина, жующего свою жилистую бычачину с жареной картошкой, и сквозь набитый рот бормочущего: "Ах, ах, ах — ростбиф, ростбиф". А где, скажите мне, милостивые государи и милостивые государыни, где, в какой стране полнятся реки от ходящих в них несчитанных табунов длиннорылых осетров, тучных от распирающей их бока икры, до которой так падки те же немцы да французы и которую везут за море бочками русские купцы, обращая её в звонкое золото? Где, ответьте мне, дорогие мои читатели? Не ответите, ибо такая страна одна в целом свете, и имя ей — Русь. Изобильная, добрая и ласковая матушка Русь. Одна она такая в целом свете.
Но, однако, мы увлеклись, господа, пора из поднебесья, куда были восхищены мы нашими рассуждениями, опуститься вниз и послушать разговоры, которые вёл Чичиков с братьями Платоновыми, уже успевшими покончить завтрак и перейти в кабинет Василия Михайловича. А разговор этот касался как раз того предмета, который так омрачал настроение Павла Ивановича, а именно поездки к Хлобуеву. Платон Михайлович считал, что с этим делом надо развязаться побыстрее, дабы не оттягивая приступить к сборам в предстоящую им дорогу. Поэтому он достал из своей шкатулки пять туго перевязанных пачек ассигнаций и, передавая Чичикову, спросил: "Желаете ли, Павел Иванович, чтобы и я отправился с вами?"
На что Чичиков отвечал, что ни к чему ему себя тревожить, что дело совсем пустяшное, на какие—нибудь две минуты, и что его гостеприимные хозяева не успеют и оглянуться, как он уже снова будет здесь. И с этими словами, поблагодарив Платона за предложение помощи и одолжение, Чичиков укатил. Путь его лежал по знакомым уже ему местам. Степная равнина, вдоль которой бойко бежала его коляска, круто выпуклилась, точно для того, чтобы лучше показаться ему своею полосато пестревшей гладкой покатостью. По зелёному полю резко пробивалась чёрная орань, только что взрытая плугом. За ней лентой яркого золота — нива сурепицы, полосы бледно—зелёного, вышедшего в трубку хлеба — и далее как снег белые кусты. И вдруг нежданно яр среди ровной дороги — обрыв во глубину и вниз, а там внизу, в глубине леса, за близкими зелёными — отдалённые синие, за ними лёгкая полоса песков серебряно—соломенного цвета, и потом ещё отдалённые леса, лёгкие, как дым, и самого воздуха легчайшие, и в воздухе этом, точно бы в нём висящая, махала крыльями над сияющей под солнцем стремниной тонкая и прозрачная, как акварель, ветряная мельница. На въезде в свою уже деревню Чичиков приметил корявую и какую—то пыльную иву, выросшую почему—то на краю большой и грязной лужи, покосившийся плетень, неизвестно что отгораживающий, на котором чистя перья сидели цветные куры, свинью нежащуюся в грязи у ивы. Сорока, сидевшая в ветвях дерева, слетела на брюхо млеющей в тёплой грязи скотине, но свинья не шевельнулась и лишь ленивым хрюканьем изъявляла неудовольствие от постороннего прикосновения.
Чичиков велел Селифану править к одноэтажному дому, в котором обитал Хлобуев со своими домочадцами и который был, вероятно, задуман архитектором как флигель при господском доме, том недостроенном и почерневшем от времени и непогоды, что глянул в прошлый приезд на Павла Ивановича неприветливыми пустыми окошками. Хлобуев, как и в первый его приезд, случившийся с Платоном Михайловичем и Костанжогло, выбежал навстречу, радушно улыбаясь. Лицо его было и доброе, и жалкое в одно время, и Павел Иванович, глядя на него, от чего—то почувствовал себя раздражённым, так, точно эта улыбка, за которой пытался Семён Семёнович скрыть всю растерянность свою и тревогу, просила о снисхождении к нему, а Чичиков никак не хотел снизойти до жалости к этому "блудному сыну", как он его прозвал.
— Павел Иванович, голубчик мой, — возгласил Хлобуев, суетясь у коляски и с надеждой заглядывая в глаза Чичикову. — Приехали, одолжили приездом. Как же, как же, понимаю — слово дворянина, как же... — хлопотал он, помогая Чичикову сойти, и Павел Иванович, обыкновенно соскакивающий с подножки своего экипажа с ловкостью, как мы об этом говорили уже не раз, почти военного человека, позволил тут Хлобуеву свести себя на землю, разве что не величественно закинувши голову и осанисто развернувши грудь и приподняв живот. — Пройдёмте в дом, Павел Иванович, — просительно заглядывая ему в глаза, говорил Хлобуев, нежно беря его за руку у локтя, на что Чичиков, не сменяя важности в лице и, более того, сдобряя её ещё и некоторой порцией суровости, сказал:
— Никак не могу, любезный Семён Семёнович. Временем, к сожалению, не располагаю никаким. Как вы, вероятно, знаете, мы с Платоном Михайловичем решили предпринять некий вояж, так что надо спешить со сборами. Поэтому давайте покончим тут и без церемоний.
— Что ж, воля ваша, Павел Иванович. Я понимаю, как же... — лепетал Хлобуев, и краска наползла ему па лицо. Он опустил глаза, стараясь не глядеть на Чичикова, руки его мелко дрожали, и, видимо, для того, чтобы скрыть эту дрожь в пальцах, он теребил какую—то былинку, ломая её на множество кусочков.
— Семён Семёнович, — приступил Чичиков к делу, — из оговорённых нами вчера пяти тысяч я привез вам сегодня три...
— Как же, Павел Иванович, — растерянно глянул на него Хлобуев, — мне никак не можно, чтобы только три, мне ведь по обязательствам платить надобно...
— Экий вы, верно, несговорчивый, Семён Семёнович, — поморщился Чичиков, — я уже и жалею, что ввязался в это приобретение. Ежели бы не Константин Фёдорович, я бы и не покупал вашего имения. Да его, простите, и имением назвать нельзя, — сказал он, продолжая брезгливо морщиться. — Ведь только войдя в ваше бедственное положение, согласился на вашу цену, а не то бы и половины не дал, вот вам крест, — крестясь, сказал Чичиков.
Хлобуев покраснел пуще прежнего и, не поднимая глаз на Чичикова, пробормотал:
— Мне никак не можно, чтобы только три тысячи, мне ведь платить надобно, — но голос его был тих и звучал неуверенно.
— Ну хорошо, — поднял брови Чичиков, как бы показывая, что он готов на какое—то решение, — коли вы так упрямы и не хотите входить ни в чьи обстоятельства, кроме своих, то нам с вами не поздно пойти и на попятную. Купчей мы ещё, слава богу, не совершали, и это упрощает нам всё. Несите деньги назад, и дело с концом, — сказал он, слегка пожимая плечами. Благо для Чичикова не было сегодня рядом с ним Платона Михайловича, который смог бы укротить его бесцеремонное поведение и защитить беспомощного и потерянно стоящего перед ним Хлобуева.
— Что ж вы это так, Павел Иванович, — сказал Хлобуев, — за что же это? Ведь, казалось бы, обо всём договорились вчера, обо всём условились. И пять—то тысяч у вас, наверное, при себе имеются. Ведь они—то Платоном Михайловичем обещаны были, а он не такой человек, чтобы заместо пяти тремя тысячами ссудить.
— Несите деньги, — сказал Чичиков, оставаясь равнодушным, хотя его и кольнула мысль о том, что Хлобуев видит всё как оно есть, видит бесчестность Чичикова, и что все те его разговоры об обстоятельствах, в которые Семён Семёнович якобы не хочет входить, гроша ломаного не стоят.
— Ну хорошо, — вздохнул Хлобуев, смирясь, — три так три, а остальные когда ж?
— Две через пару деньков, а вторую половину, как уговаривались, — ответил Чичиков, а сам подумал, что и со второй половиной тоже потянет, так как будет ещё в отъезде, а Хлобуев — невелика птица — подождёт. Передав Семёну Семёновичу три перетянутые бечёвкой пачки, Чичиков уселся в свою щегольскую коляску и, даже не попрощавшись как следует, поехал восвояси. По пути в имение Платоновых он велел Селифану объявить при братьях об якобы имеющейся в экипаже поломке или о хвори какой—либо из лошадей.
— Только от себя объяви, понял? Чтобы не было видно, будто по моему наущению.
— Будет сделано, — сказал Селифан с растяжкой, — не извольте беспокоиться, Павел Иванович. Об Чубаром объявлю, чтоб его волки съели. Экая подлая скотина, — и Селифан ещё долго сыпал на прядающего ушами нелюбимого им коня всяческие ругательства и угрозы.
А Павел Иванович, трясясь на эластических подушках своего экипажа, чувствовал нечто неприятное, что засело в груди, точно жаба под корягой. Неприятное это давило на сердце, рождая тёмные мысли, которые множились в его голове, как опара в квашне, замешанная на злости и стыде. Да, стыде, как это, может быть, и удивительно тебе, читатель, но стыд тот был совсем иного свойства. Чичиков стыдился не своего поступка перед Хлобуевым, а того, что поступок сей был виден Семёну Семёновичу во всей его выпуклой отчётливости. Вот этой своей оплошности и стыдился Чичиков перед самим собою, за это злился на себя, ругая при том Хлобуева последними словами.
В имении же братьев Платоновых, куда в скором времени прибыл вновь наш герой, шли самые что ни на есть отчаянные сборы в дорогу. Платон Михайлович, несмотря на известную уже всем всегдашнюю сонливость и заметное ко всему равнодушие, тем не менее весьма заинтересованно вникал в подробности своего гардероба, коему предполагалось отправиться с ним в путешествие. Высказав изрядную придирчивость в отношении галстуков и сорочек тонкого голландского сукна, он с не меньшим участием отнёсся и к сертукам, и к панталонам, чей черёд пришёл также улечься в его дорожный сундук, в который отправилась также и фрачная пара, и лаковые бальные туфли, и прочие мелочи, коими хочет отличиться в свете молодой ещё холостяк и из чего Чичиков вывел для себя две вещи. Первое — то, что Платон по—настоящему серьёзно надеялся на предстоящее им обоим путешествие, как на верное лекарство от съедающей его скуки, и второе — что не нужно будет разыгрывать комедию с Селифаном, потому как при таком количестве скарба, не считая ещё и провианта, которым занялись по приказанию брата Василия, и разговора быть не могло об том, чтобы разместиться в его, Павла Ивановича, коляске.
Платон Михайлович, слегка раскрасневшийся от хлопот и с выражением оживлённой улыбки в лице, чего от него, признаться, никто уже не ждал, обратился к Чичикову:
— Ну как, уладили с Хлобуевым? Всё в порядке? — спросил он.
— О да, всё в наиполнейшем порядке, Семён Семёнович согласился даже повременить со второй частью долга, — отозвался Чичиков, несколько приподнятым тоном, словно удостоверяя им, в каком отменном порядке находятся его отношения с Хлобуевым. — Куда столько припасов, Платон Михайлович? — спросил он, в свою очередь, у Платона, кивая в сторону приготовляющих поклажу слуг, — к тому же ещё и провизия... — пожал Павел Иванович плечами, но вежливой улыбкою стушёвывая могущую быть резкость вопроса.
— Да разве много? — вступился за Платона бывший тут же брат Василий. — По мне, так в самый раз, а провизия ясно на что. В дороге проголодаетесь, вот и поедите.
— Но я, признаться, думал, что мы не настолько издержим средств, чтобы не иметь возможности пообедать в трактире? — сказал Чичиков.
— Обедайте, ради бога, — отвечал брат Василий, — это очень даже хорошо. Как без горячего обеда, но к чему тратиться на прочую снедь, когда столько есть своего, а ведь дорога предстоит вам длинная, к тому же, Павел Иванович вы не знаете нашей губернии тут можно проехать сто вёрст — и ни трактира, ни лавки, ни села не встретишь, а ведь голод не тётка, его не уговоришь.
— Сдаюсь, сдаюсь, — рассыпчато рассмеялся Чичиков, — убедили, Василий Михайлович, конечно же, вы правы, и я, не зная местных обстоятельств, не должен давать вам советов, — и он в шутливом жесте приподнял руки, показывая, точно и впрямь сдаётся, а сам подумал: "Экий я дурак, и чего лезу, пусть их накладывают поболее, мне же лучше — деньги целее будут".
Тут, дождавшись окончания разговора между господами, подошёл слуга Платоновых и объявил, что Чичикова спрашивает кучер его Селифан, и Чичиков, извинившись перед братьями, вышел на крыльцо. Селифан, топтавшийся у крыльца, мял в руках шапку и, глядя на Чичикова, молчал.
— Ну, чего молчишь? — спросил Чичиков, усмехаясь, на что Селифан приложил ладонь ко рту и, заговорщицки оглядываясь, зашептал громким шёпотом:
— Так ведь приказано вами было, чтобы при господах.
— Ладно, так говори, — сказал Чичиков, морща нос.
— Так ведь, Павел Иванович, Чубарый—то тое, захворал — заговорил Селифан, стараясь придавать голосу как можно более правдивую интонацию.
— Да что ты? — вскинул Чичиков брови, забавляясь видом Селифана. — И чем же он у тебя захворал?
— Да у него тое... Захромал на левую заднюю. Мобыть, гниль копытная, а мобыть, ещё чего, — сказал Селифан и развёл руками, — очень вредный конь, Павел Иванович, его бы продать... — затянул он свою извечную песню.
— Ох, выпороть бы тебя, братец, — сказал Чичиков Селифану, на что тот искренне удивился и распахнув глаза, спросил:
— За что, Павел Иванович? — так как полагал, что замечательным образом выполнил наказ своего барина.
— Как за что, — сказал Чичиков, напуская на лицо серьёзность, — Чубарый—то у тебя захромал, — и, посмеиваясь, пошёл в дом, оставив недоуменно мигающего глазами Селифана.
— Что там у вас, Павел Иванович, — спросил у входящего в комнату Чичикова брат Василий, — ничего серьёзного?
— Не знаю, Василий Михайлович, кучер говорит, что одна из лошадей хромает, будто бы что—то с копытом, ну, да я думаю, к отъезду всё будет в порядке, так что не извольте беспокоиться, — отвечал Чичиков, показывая лёгкую озабоченность в своём тоне.
— Надо сказать на конюшне, чтобы поглядели, — сказал Василий Михайлович, — у меня старший конюх толк в своём деле знает, так что не сомневайтесь, — всё будет в порядке. С другой стороны, что бы вам, Павел Иванович, не передержать своих лошадей у нас? — продолжал брат Василий, — они тут и перекормятся, и уход за ними будет самый что ни на есть отменный, — приедете, получите их в наилучшем виде, а ехать можно и на наших лошадях, и то дело, смотрите, каков багаж, в любом разе в вашей коляске не уместится, — говорил Василий так, словно читал заповедные мысли Чичикова. Чичиков же для виду состроил некоторое сомнение в своём лице, попытался якобы возразить, но опять же нерешительно, давая понять, что он, конечно же, ничего не имеет против, только не хочет обременять этой заботой Платоновых. Но Василий Михайлович стоял на своём, крепко ухватившись за понравившуюся ему мысль, так что после недолгих пререканий было решено ехать на новой четырёхместной коляске братьев Платоновых с откидным кожаным верхом и кожаной полостью, в которой вольно могли бы себя чувствовать наши путешественники и где было достаточное место багажу.
Конец этого дня и весь следующий, предстоящий отъезду, прошли как—то хлопотливо и незаметно, никакие события, кроме сборов в дорогу не наполняли их. Платон Михайлович с нетерпением ждал отъезда, и его сонное выражение отступило, сменившись нетерпеливым и радостным ожиданием. В последний вечер они много говорили о предстоящей дороге, намечая маршруты, по которым будут объезжать родственников генерала Бетрищева; выкушав за этими разговорами самовар чаю и уже изрядно припозднившись, герои наши отправились почивать с тем, чтобы вставши поутру, двинуться в путь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Утром Павел Иванович проснулся, как принято говорить в таких случаях, с первыми лучами солнца и в немного возбуждённом настроении; проделав всегдашний свой утренний туалет и сбрызнувшись напоследок одеколоном, он прошёл в уже знакомую нам столовую. К удивлению своему, он застал там одного лишь брата Василия, да и того в каком—то странном, смешанном расположении духа. На вопрос Чичикова, где же Платон Михайлович, неужели же изволят ещё почивать, Василий махнул досадливо рукой и, не глядя на Чичикова, сказал:
— Даже не знаю, что вам и отвечать, Павел Иванович! Заперся в своей комнате — не выходит.
— Как же так, — удивился Чичиков, — а как же поездка, ведь уговаривались выехать об десятом часе, а теперь уж девять?
— Ума не приложу, Павел Иванович, говорит, что раздумал ехать, что не видит смыслу в том никакого и что лучше ему оставаться дома.
— Бог мой! Это даже довольно странно, — сказал Чичиков, обращаясь к Василию Михайловичу. — Согласитесь, что это довольно странно. — И на лице его выразилось недоумение вовсе неподдельное. На что Василий Михайлович лишь молча пожал плечами и развёл руками, как бы говоря этим жестом, что он и сам ничего понять не может.
— Может быть, Платон Михайлович на меня в претензии за что—нибудь? Или, может, кто расстроил его? Никто поутру не приезжал? — спросил Павел Иванович, у которого мелькнула мысль о Хлобуеве и о том, что он мог заявиться спозаранку и, нажаловавшись на Чичикова, повлиять на настроение Платона Михайловича и смешать его планы. Но брат Василий уверил Павла Ивановича, что никого с утра не было и что брат его как заперся с ночи у себя в спальной, так с тех пор и не выходил.
— Странно..., — ещё раз произнёс Чичиков, теперь уж и впрямь ничего не понимая.
— Мне, конечно, совестно вам это предлагать, — сказал ему брат Василий, — но, может быть, вы, Павел Иванович, попробовали бы сами с ним переговорить?
— Отчего же совестно, — отозвался Чичиков, — я и сам хотел вас просить об этом.
— Ну всё же через дверь: не пристало ни лицу вашему, ни чину, — сказал Василий Михайлович, слегка конфузясь.
— Экая безделица, — отозвался Чичиков, — да ежели обращать внимание на подобные пустяки, свет бы остановился. Нет, Василий Михайлович, решительно идёмте, ведь просто необходимо с вашим братом переговорить. И они, не притронувшись к стынущему завтраку, вышли из столовой. Двери, ведущие в спальный покой Платона Михайловича, действительно были заперты, и брат Василий, повернув дважды дверную ручку, возгласил:
— Платон, выйдешь ты или нет, наконец? Тут Павел Иванович хочет с тобой переговорить. Это неучтиво, в конце концов! — повысил он голос.
Из—за двери послышалась какая—то вялая возня, раздалось по полу шарканье ночных хлопанцев, и в приотворённую дверь высунулась взлохмаченная голова Платона Михайловича. На заспанном лице его поселилось вновь привычное ему сонное выражение, и двойное это впечатление от его физиогномии было столь сильно, что, вероятно, на всякого нагнало бы тоску.
— Что случилось с вами, любезнейший Платон Михайлович? — строя в лице крайнюю озабоченность и тревогу, проговорил Чичиков. — Уж не худо ли вам? В здравии ли вы, а то, может, послать за доктором? — вопрошал он, прижимая в тревоге ладони к своей груди.
На что Платон Михайлович пробормотал что—то неразборчивое и выдохнул из себя воздух на манер того, как выдыхает воздух лопнувший бычий пузырь — из тех, что крашенными продают детворе на ярмарках.
— Платоша, да что с тобой, очнись, — с беспокойством проговорил Василий Михайлович, встряхнувши брата за плечи, на что тот выдохнул ещё раз и заговорил разборчивее.
— Павел Иванович... покорнейше прошу... простить, но я не поеду... — проговорил он с остановками, запинаясь чуть ли не после каждого слова, точно задумываясь о том, стоит ли ему зевнуть или продолжать начатую речь. Чичиков, знавший его расположение к скуке, тем не менее ни разу ещё не видал его в таком состоянии. И, конечно же, он даже и подумать не мог, что дойдёт до подобного каприза со стороны Платона Михайловича после тех радостных и долгих сборов, которыми Платон занимался с удовольствием, можно сказать, почти что два дня.
— Да что, собственно, случилось, Платон Михайлович, что могло произойти такого за ночь, чтобы вы так переменились в своих решениях? — спросил Чичиков.
— И не знаю, Павел Иванович, — отозвался Платон, — просто не то что ехать, думать о поездке не могу. Такая, вы меня простите, пустая трата времени, и к чему? — медленно, точно жуя кашу, промямлил он. — Вы, конечно же, езжайте, вам ведь по делу, а я не хочу... — И он сокрушённо качнул нечёсаною головою.
— Голубчик вы мой, Платон Михайлович, — чуть ли не возопил Чичиков, — да как же так, после того как всё готово, всё собрано, маршруты начертаны... Да я не поеду без вас, я просто заблужусь! И потом, я уж настроен ехать с вами вдвоём, а тут такая оказия...
— Уж увольте, Павел Иванович, не могу, не могу, — говорил почти что со слезой Платон Михайлович, — не поеду. А вы не держите на меня сердца, поезжайте. Вам ведь надо... А на обратном пути снова к нам; а заблудиться не заблудитесь — кучера довезут...
Ещё какое—то время Чичиков со старшим Платоновым пытались его уломать: говорили, что ему обязательно понравится в дороге, что это только поначалу ему не хочется, а потом всё пройдет, напоминали ему об его обещании, данном Вишнепокромову, — обязательно быть у того, но ничто не помогало, ничто не рождало в нём отклика. Душа его оставалась безучастной к приводимым ими резонам, и он, не переставая отнекиваться, оставался равнодушным и сонным, так что казалось, словно весь он обложен ватой, сквозь которую не могут пробиться слова убеждения, произносимые и Чичиковым, и Василием Михайловичем. Наконец, видя бесполезность уговоров и то, что они не оказывали в Платоне никакого действия, вызывая разве что плохо скрываемую досаду, Чичиков отступился, хотя Василий Михайлович ещё некоторое время продолжал усовещать своего брата, но видя, что Павел Иванович стоит, примолкнув, с растерянным и красным лицом, замолчал и он, бросив в сердцах:
— Экой же ты, брат... — он стукнул кулаком об ладонь другой руки и, круто повернувшись на каблуках, пошёл прочь.
— Ну что ж, Платон Михайлович, давайте прощаться, — сказал Чичиков, нарушая возникшее молчание, — не поминайте лихом... Очень жаль, очень жаль... — немного помолчав, добавил он, огорчённо покачавши головой.
— Прощайте, Павел Иванович, — ответил ему младший Платонов, — не обессудьте, но так уж вышло... — и они, обнявшись, расцеловались на прощание, но объятия эти вышли несколько формальными и в них сквозило холодом.
Чичиков отправился вослед старшему из братьев, слыша, как, за спиной скрипнув, затворилась дверь и щёлкнул ключ в замке. Сойдя в столовую, он ещё какое—то время говорил с Василием Михайловичем, обсуждая случившееся с Платоном происшествие, но ни тот, ни другой так и не смогли взять в толк, отчего же могло оно произойти.
Несмотря на неприятный осадок, оставленный в нём описанной нами сценкой, Чичиков не отказался от завтрака, считая, что независимо оттого, как повёл себя его несостоявшийся товарищ по путешествию, ехать на пустой желудок глупо, и не мешкая принялся за порядком остывшие уже кушания. Брат Василий тоже пробовал было ковырять вилкой в своей тарелке, но еда, как надо думать, не шла ему в горло, и он приказал подать себе рюмку водки. Выказывая явственное беспокойство об брате и зная его склонность к меланхолии, он тем не менее решительно не понимал причин такого его поведения. Хотя мы, как нам кажется, вполне догадались о том, что же случилось с Платоном Михайловичем. Проснулся он, как и Чичиков, довольно рано и в несколько нервическом состоянии. Какая—то глухая досада ощутилась им где—то в глубине сердца, досада, причин которой он ещё не знал. Он подумал о предстоящей дороге, о тех бесчисленных вёрстах, которые предстоит ему проехать для того, чтобы посетить малознакомых и вовсе неинтересных ему людей, вести с ними пустые и ни к чему не ведущие разговоры, уставать от их общества, от неудобств, подстерегающих путника на наших российских дорогах, от самой дороги, в конце концов — для того лишь только, чтобы в конце пути стремиться, как к несказанной радости, к возвращению в родимый дом, бывший для него лучшим и наижеланнейшим местом на земле. "К чему это, если можно, и не уезжать из дому, оставаясь в этом дорогом с самого детства сердцу месте. К чему — если все впечатления, к которым стремишься, вместо новизны обдадут скукой и пошлостью. Нет, лучше уж никуда не уезжать", — думал Платон Михайлович, поглубже зарываясь в подушку. Он вспомнил о том, как суетился в последние дни, обо всех тех заботах, что проявил он о галстухах и воротничках, и ему стало не просто досадно, но горький стыд залил тогда его сердце, так что он даже вцепился зубами в край тёплого одеяла, коим укрывался. "Какая глупость, — думал он, — к чему всё это... Не хочу... Не хочу..." Затем пришла ему в голову мысль о том, что придётся объясняться с Павлом Ивановичем об отказе ехать с ним, что Чичиков вполне может принять это на свой счёт и обидеться. Но нежелание ехать было так сильно, что и это не остановило его. "Ну и пусть, — подумал он, — всё равно, всё к чёрту". И единственное его желание стало то, чтобы Павел Иванович поскорее уезжал. Сумятица в мыслях и в душе привели скоро к тому, что он погрузился в состояние, близкое ко сну наяву, и состояние это было приятно и принесло успокоение. Вот что, собственно, произошло с Платоном Михайловичем, и если бы мы хотели быть более краткими и описывать все душевные состояния наших героев одною фразой или одним—двумя словами, что нам кажется вовсе неинтересным, то мы попросту бы сказали, что Платон Михайлович — "перегорел".
Покончивши с завтраком, Павел Иванович собрался ехать; Василий Михайлович распорядился, чтобы из коляски убрали сундук с вещами брата Платона, и, расцеловавшись крест—накрест с хозяином, Чичиков покатил в удобной платоновской коляске, запряжённой сытыми гнедыми лошадьми, пообещав обернуться недельки в две—три. В кучерах у него был Селифан, и Петрушка сидел рядом с ним на козлах, гордо держа голову и, верно, почитая себя наилучшим украшением щегольской с красными спицами коляски. После того, как стало известно об отказе Платона Михайловича от поездки, Чичиков решил взять с собою своих людей, как более знающих его склонности и привычки. Новая коляска мягко огибала все случавшиеся неровности дороги, гибкие рессоры её покачивали Павла Ивановича точно на волнах мирного моря, баюкая бывшие в нём дурные мысли и впечатления от сегодняшнего утра. Он стал угреваться на уже почти вошедшем в силу солнышке, и мало—помалу настроение у него, так привыкшего в своей хлопотливой жизни к поскрипыванию колёс, мерному топоту бегущих лошадей, летящему над дорогой и дующему в лицо ветру, настроение его стало ровно, он умерил горевшую в нём пусть и небольшую досаду, и от бывшего осадка не осталось и следа, как не остаётся следа от грязной ноздреватой льдинки, тающей и плавящейся под лучами весеннего солнца.
Верста за верстою укладывались под колёса мягко катившегося экипажа и слагались в путь, всё дальше уводивший его от имения Платоновых. Незаметно отмахали они более двадцати вёрст по тому маршруту, что начертал Павел Иванович с помощью Платона, и понемногу стали появляться приметы близкого селения. А вскоре и само оно показалось вдали. Но селение это, видно, почитало себя городом, потому как у въезда в это "нечто" стоял будочник и на вопрос Павла Ивановича, как называется сей населённый пункт, отвечал сонно и с зевотой, что город сей называется Заморск. А так как никакого моря поблизости не располагалось, что доподлинно было известно Чичикову, то он совершенно определил для себя, что название это иного известного корню, что, конечно же, могло и не совпадать с мнением обитателей сего... ну, да ладно, скажем, городка. Проезд через городок тоже не дал для Павла Ивановича ничего нового, не принёс никаких открытий, потому что тот был, как и все подобные городишки, известного пошибу. Те же старые домишки, полусгнившие крыши, поросшие мхом, травой и даже кустарником, мелочные лавчонки, где продавался чай, дёготь, сахар, хомуты, и редкие прохожие на улицах, с интересом провожающие долгим взглядом незнакомую коляску с седоком, выделявшимся из того общего ряду, к которому были привычны местные обыватели. Единственное, что как—то развлекло Павла Ивановича во время проезда по городишку, была жёлтая собака, бросившаяся под колеса коляски и бежавшая с нею рядом какое—то время, лая на мелькающие спицы оскаленным ртом. Глаза у неё горели, и этой дуре собачьего племени, наверное казалось, что она выполняет очень важную и нужную работу, за которую надо бы её похвалить, потрепать по холке, а может, и угостить бычачьей костью с ошмётком мяса, но она получила от Селифана иное угощение. Он перетянул её кнутом, и собака, завизжав, поджала хвост и кинулась в сторону, при этом у неё на морде было такое обиженно—недоумевающее выражение, будто она и впрямь не могла взять в толк, как это за такую хорошую работу, за такое весёлое времяпрепровождение и вдруг — побои. Чичиков поглядел на неё и рассмеялся, ему отчего—то стало приятно, что собаке досталось кнута. Городишко остался позади, исчезнувши за бугром, исчезнувши из памяти нашего героя так, точно его и не существовало на земле вовсе. Что, впрочем, и неудивительно. Сколько их в нашем отечестве, таких городишков, что и существуют и вроде бы и не существуют вовсе, в которых живут жители, будто и не живущие вовсе, и это странное положение существующего несуществования до боли российское и, может быть, только России присущее, потому как только из такой обильной горсти, в которую собрала отчизна наша бессчётные земли, города, селения и жизни, только из такой горсти, сквозь неплотно сжатые пальцы могут просыпаться, точно медяки, все эти городишки и судьбы, обречённые на прозябание.
Дорога, шедшая под уклон, снова стала вползать на круглый холм, и коляска, взбежавшая на его пологую верхушку, чуть ли не упёрлась во вставшую перед глазами лесную стену. Солнечный свет лежал на деревьях, то выступающих у края леса округлыми своими кронами, то уходивших подальше от дороги и купающих листву в тени, отбрасываемой другими деревами. Дорога врезалась в лес, пролетев сквозь клёны и дубы, вышла на луг, где поднимались тростники, и вновь помчалась сквозь лес ещё высший. По левую её сторону темнели стволами дубы, одетые необычайно яркою пушистою листвой, по правую — беспредельным частоколом белели берёзы. А лес, становясь всё гуще, забирал всё выше и выше, одевая новый встающий на пути холм, который вполне прилично было бы величать и горою. Но добрые кони, не сбавляя мерного бегу, вознесли Павла Ивановича и на эту вершину, где лес вдруг заканчивался и открывался весь залитый солнцем луг, на который отсюда, из густой тени леса, больно было глядеть, так слепила глаза его блестящая на солнце, покрытая цветами и травою покатость, сползавшая вниз, в разлитую чуть ли не до горизонта долину, где островами стояли леса — то тёмные, ближайшие, то дальние прозрачные, точно дым; лежали поля, то вспаханные и чернеющие квадратным платом, то зелёные от поднявшихся уже хлебов, то золотые от цветущей сурепицы, отороченные червонной оторочкой пушистых цветков будяка. Снизу, из—под самого солнечного подножия холма, послышался звук охотничьего рога, сменившийся глухим и далёким лаем ставшей на след стаи. Самой охоты ещё не было видать, и Павел Иванович подумал: "Надо же, и кому взбрело в голову охотиться об такую пору?" — а коляска его тем временем стала съезжать на пологий луг.
— Никак, охота, Павел Иванович, — сообщил Селифан, обернувшись к барину.
— Да, непонятно, — отозвался Чичиков.
— Ну, может, и не охота, может, ловчий стаю правит, выжлят погодков подвалил, — просипел Петрушка.
Спустясь пониже, они въехали в широкую лощину, из которой, собственно, и доносились звуки охотничьего рога. И как ни странно — это и взаправду была охота. Чичиков увидел красные куртки борзятников, державших борзых на створках в ожидании, пока брошенные гончаки выгонят зверя из росшего в лощине леса, из чащи которого доносились треск кустарника и голоса гончаков, сквозь чей толстый басовый лай проскальзывали флейты заливистых пискунов. Чичиков велел Селифану приостановиться, дабы не помешать травле, да и самому не попасть в её гущу. Место на взгорке, где они стали, было хорошее, и с него просматривалась вся лощина с кипевшею в ней охотой. Павел Иванович разглядел расположившихся по нумерам у лазов, сидящих в сёдлах господ, рядом с которыми маялись в ожидании зверя красные куртки дворовых охотников, удерживавших на створках собак. Чичикову показалось, что стая скачет в его сторону, так как лай переместился и зазвучал с того краю леса, что был поближе к Павлу Ивановичу. Вдруг нежданно прошелестели камыши, обступающие край острова, и Чичиков увидел, как стелется, припадая к земле, и точно обтекает каждую неровность перелинявшая в жёлтую летнюю шубку лиса. Не видя Чичикова, восседавшего в своём экипаже, лиса пробралась через камыши и помчалась в сторону ближнего, стоявшего стеною леса. Прижав уши и вытянувшись в струнку, она забирала всё левее и левее, ища спасение в кустах, но, увы, её увидел не один только наш герой. Травля пошла сразу в несколько свор, и борзые, приняв лисицу навзряч, кинулись за нею вдогонку, настигая с каждым прыжком. Опережая прочих, скакала большая муругая собака, её искрасна—чёрное тело сжималось и распрямлялось, точно эластическая пружина, и каждый толчок этой пружины приближал её к намеченной жертве. Муругая приблизилась к лисице вплотную и скакала какое—то время, держа её на щипце, казалось, ещё мгновение, и бедняге придёт конец, но тут огоньком метнулась она в сторону, свихнулась, сколола свою преследовательницу со следа, и та покатилась кубарем через голову. А лиса, легко разъехавшись с муругой, отросла от неё и сбилась на зеленя, по которым уже скакали наперехват всадники, пытающиеся вновь назвать на след сколовшихся собак. Заложась навстречу лисе, вырвалась вперёд красная мазурка и, повиснув на уседающей в зеленях лисице, не давала ей хода. Тут набежало ещё три собаки, и, скучившись, они заловили наконец несчастного зверька. Подоспели стремянные и огокая отогнали борзых от распластанной в зеленях тушки. Подскакал, как видно, и один из господ и второчил поданную ему с поклоном лисицу в свои торока.
Протрубили в рога, ловчие стали скликать рассыпавшуюся стаю. Стремянные присворивали борзых, и видно было, что охота собиралась с целью переменить место. Коляска Павла Ивановича двинулась дальше по бегущей под уклон дороге. Сейчас она уже никому не могла помешать, и Павел Иванович намерен был подъехать как можно ближе к грудившейся у собачьей фуры группе всадников с тем, чтобы порасспросить об дороге, которая могла бы привести его в имение помещицы Самосвистовой, приходившейся какой—то родственницей, вероятно дальней, генералу Бетрищеву, и чьё имя, фамилия и звание были прописаны в том списочке, что хранил Чичиков вначале в жилетном кармашке, а теперь же в хорошо известном нам ларчике со штучными выкладками из карельской берёзы, видать, для того, чтобы как—нибудь ненароком списочек этот не потерять. Подъехав к фуре, в которую псари грузили собак, рассаживая их по клетям, Чичиков насчитал около двадцати охотников, одетых в господское платье, и снова подивился такому числу охотящихся в столь раннее и не вполне годное для охоты время года. Обратившись к охотникам, Павел Иванович поприветствовал их, выразив надежду, что охота была удачной. Отвечая на встречные приветствия, он раскланялся, представившись, и приступил к расспросам. Услышавши имя Самосвистовой, стоящие группой охотники оживились.
— Вам, можно сказать, повезло, милостивый государь, — сказал высокий пожилой охотник, сидящий на мышастой в яблоках кобыле. — Вон господин Самосвистов, сын Катерины Филипповны Самосвистовой, до которой вы едете, — и он указал кнутовищем на того самого всадника, что второчил в свои торока затравленную лису. Несколько человек окликнули удачливого господина, и он, подъехав к коляске Павла Ивановича, спешился. Павел Иванович также сошёл на землю и, представившись в коротких словах, рассказал о той нужде, по которой едет в имение его маменьки. Самосвистов был человек средних лет и хорошего сложения, о таких обычно говорят — молодецкого сложения. Был он широк в плечах, белокур и темноглаз, корпус его обтягивал охотничий сертук тёмно—коричного цвету, на стройных высоких ногах сидели блестящие в облипку сапоги, у пояса висел охотничий кинжал, и весь его облик, несмотря на улыбку, не сходившую с лица, как правило, поселял в его собеседниках мысль о том, что он человек опасный. И Павел Иванович так же, как и прочие до него, почувствовал некоторую неизъяснимую робость, что проснулась в нём при виде этого господина. Ему почему—то казалось, что Самосвистов может неожиданно отколоть какое—либо коленце, от которого не поздоровится. Например: ткнуть кулаком под ребро, или проделать что—либо в подобном роде, одним словом — ничего хорошего. Но Самосвистов покамест как будто не спешил с покушениями на персону Павла Ивановича. Напротив, услыхав об помолвке Ульяны Александровны, он выказал искреннее удовольствие, сказал, что рад за его превосходительство, с большой похвалой отозвался об Улиньке, о её характере, прибавив, что мудрёно было ей вырасти без матери такой прекрасною во всех отношениях девицей. Расспросил и о женихе и показал всем своим видом, что остался доволен рассказом Чичикова об Тентетникове, одним словом, повёл себя как вполне светский и хорошо воспитанный человек; наконец, пригласил Чичикова присоединяться к его охоте, сказавши, что гости его устали и они как раз собирались отправляться в имение. Чичиков, поблагодарив, уселся в коляску, а Самосвистов, лихо запрыгнувши на коня, тронул его с места, сказав: "На месте переговорим подробнее". И всё это опять безо всяких покушений, так что Павел Иванович почти совсем успокоился на его счёт и подумал о том, что было бы неплохо иметь такового в друзьях.
Кавалькада всадников тронулась, поднимая лёгкую пыль, повиснувшую над дорогой, и в коляску к Павлу Ивановичу напросился тот самый пожилой господин, что указал ему на Самосвистова. Павел Иванович, будучи человеком любезным, само собой, сказал, что был бы безмерно рад разделить с ним общество и скрасить унылое однообразие пути. Хотя надо признаться, что дорога была вовсе не уныла, окружающие её виды могли развлечь хоть кого, так что говорено всё это было Павлом Ивановичем ради красного словца и учтивости ради. Пожилого охотника, влезшего в коляску к Павлу Ивановичу по причине мнимой хромоты его серой в яблоках кобылы, звали Поликарпом Ивановичем Мухобоевым. Был он, как читатели, вероятно, помнят, высок и худ. Лицо имел унылое, и унылость его ещё больше усугублялась седыми усами, висевшими книзу от носу двумя серыми пушистыми сосульками. Услышавши его фамилию, Чичиков про себя подумал, что фамилия как раз самая что ни на есть охотницкая, и едва заметно, одними уголками губ улыбнулся собственной шутке. Они завели отвлечённый от сурьёзных предметов и ни к чему не могущий обязать разговор; один из тех разговоров, что, как правило, ведутся между людьми случайными, сведёнными силою обстоятельств на краткое время и не рассчитывающими, да и не стремящимися к продолжению нечаянного знакомства. Постепенно от облаков в небе, от состояния климата и погоды и видов на урожай перешли они на тему, способную хотя бы как—то быть интересной обоим, и коснулись охоты, свидетелем которой Чичикову довелось быть. Похвалив для начала слаженность, с которой управлялись с охотой ловчие, сказав несколько добрых слов и о собаках, Чичиков не смог скрыть своего удивления временем охоты, которым охотники обычно жертвуют ради красного зверя, давая ему нагулять приплод, чтобы к осени можно было бы поохотиться и на матёрого зверя, и на прибылого. Мухобоев согласился с Павлом Ивановичем, сказавши, что оно действительно так, и от ранней охоты одни грехи, что потом приходится, конечно, сетовать да каяться и что зверь нынче на логовищах да в норах.
— Но тут, изволите ли видеть — роман, да и только, — сказал он, несколько загадочно улыбаясь.
— Как так? — состроив в лице недоумение, спросил Чичиков, не в силах понять, как ранняя охота может быть связана с романом.
— О, это презанимательная история, милостивый государь, — отвечал Мухобоев, — её у нас тут, почитай, все знают и очень сочувствуют Модесту Николаевичу, — кивнул он головой в сторону гарцующего вдоль обочины Самосвистова. Чёрный глянцевый жеребец под ним косил налитым кровью глазом и топтал взошедшие вдоль дороги хлеба.
— И в чём история? — полюбопытствовал Чичиков, которому вдруг стало интересно — какой же роман связывает Самосвистова с охотой. Мухобоев принялся рассказывать, и Павел Иванович, слушая его, постепенно менялся в лице, и сам чувствовал, как оно глупеет, теряя любезную улыбку, которая, как можно было думать, навсегда приклеилась к его губам. Рассказ же Мухобоева состоял в следующем: жил якобы в десяти верстах от имения Самосвистова мелкопоместный дворянчик, некто Мохов. Деревенька у него была маленькая, душ — кот наплакал, но хозяйство велось по возможностям, и Мохов этот с шапкой по кругу не ходил, и достоинство и приличие соблюдал, потому как на это средств у него хватало. Но было у этого Мохова и нечто из общего ряду выходящее и необычайное для такой глуши, в которой проводил он свои старческие годы. Необычайное это — была его осьмнадцатилетняя дочь, которую Господь наградил такой статью и красотой, что окрестные помещики специально делали к нему визиты, как бы по—соседски, а на самом деле с умыслом — на дочь его посмотреть и полюбоваться. Разумеется, Модест Николаевич тоже попал под обаяние молодой красавицы и даже после месяца ежедневных посещений имения Мохова решился на предложение руки и сердца, рассчитывая даже некоторым образом польстить Мохову, так как жених он был завидный и богач, не в пример своему соседу. Но как так вышло и что промеж ними случилось, не ясно, но только Самосвистов получил отказ, причём отказ окончательный, и вернулся восвояси, как говорится, несолоно хлебавши. Помещики и чиновники из города, бывшие с ним накоротке, очень ему сочувствовали, ругали Мохова, не видящего счастья для своей дочери, хотя кое—кто и поговаривал, что Модест Николаевич, получивши отказ, пристукнул—таки бедного старика, чему, услыхавши эту подробность от Мухобоева, Чичиков тут же поверил.
— Вот с тех пор наш Модест Николаевич и живёт, почитай, всё время в городе, служит в Гражданской палате, — сказал Мухобоев, — ну, а когда наезжает до маменьки, не упускает случаю досадить своему обидчику, притесняя его по—всякому. Ведь охота—то сегодня шла на моховских землях, — добавил он, — правда, Мохов сам не охотник, у него и собак—то порядочных нет, но вот поле ржи ему повытаптывали, покуда за зайцами гонялись, — закончил Мухобоев описание случившегося с Самосвистовым романа.
"Да от этого господина и впрямь можно дождаться любой выходки", — подумал Чичиков, вспоминая своё впечатление, возникшее от Самосвистова.
— Весьма трогательная история. Однако жаль господина Самосвистова, очень располагающий к себе человек, — сказал он Мухобоеву.
— Вы правы, очень, очень располагающий, — поспешил заверить его Мухобоев, и Чичикову от чего—то показалось, что тот не раз и не два получал от Самосвистова под ребро. "Да, наверное, и не он один", — подумал Чичиков, но вслух ничего не сказал. Они поговорили ещё некоторое время, Мухобоев похвалил коляску, которую оглядывал горящими от некоего скрываемого чувства глазами: то ли жадность, то ли зависть, то ли любопытство были тем хворостом, от которого в глазах его вспыхивали нехорошие огоньки. Дорога тем временем свернула в тенистую аллею, обсаженную дубами, чьи ветви смыкались над входящими под сень вековых дерев путниками наподобие полога. Коляска въехала в тень, отбрасываемую дубовыми листами, и Павел Иванович вдохнул в себя некий особый дух, терпкий и тёплый, идущий от разогревшихся на солнце дерев, дух, свойственный только млеющей под солнечными лучами дуброве. В конце затенённой аллеи, на довольно большом расстоянии ярким пятном горела на свету поляна того зелёного цвету, какой бывает только на весенней, не успевшей ещё повыцвести траве, и сверкал белизною фасад красивого дома с колоннами. Дом и вправду производил приятное впечатление, и впечатление это не менялось по мере того, как коляска с нашим героем приближалась к нему, как это довольно часто бывает: увидишь нечто, что покажется сказочно красивым и удивительным, протянешь руку, чтобы получше и поближе рассмотреть, и отбросишь прочь, огорчась пошлой подделкой и обманом чувств. Но тут было не так; высокие колонны, поддерживающие ротонду, обегали с обеих сторон полукруглые каменные ступени, упирающиеся в посыпанную белым гравием дорожку, ведущую от аллеи, по бокам лестницы сидели высеченные из белого камня полногрудые сфинксы с женскими лицами и по—бабьи подвязанными платками, и всё это было отменной чистоты и состояния, и гравий на дорожке, словно бы специально вымытый к приезду гостей, и каменные стены дома, и высокие окошки обоих этажей, отбрасывающие своими стёклами солнечные зайчики на росшую вокруг дома траву. Охотники, несколько обогнавшие Павла Ивановича и его спутника, вероятно, были уже в доме, потому что ни людей, ни лошадей у крыльца видно не было, из чего Чичиков заключил, что слуги тут послушны и расторопны и успели уже прибрать лошадей. Одна лишь фура с собаками стояла у угла дома, точно кого—то поджидая. Коляска подъехала к полукруглой лестнице, и навстречу ей сбежал Модест Николаевич Самосвистов, приветствуя Чичикова в своём имении.
— Ну вот, Павел Иванович, — сказал он, распахивая для приветствия объятия, — милости прошу, и будьте здесь не гостем: будьте точно в родном доме.
Они облобызались с Павлом Ивановичем под растроганные взгляды Мухобоева, кажется, даже готовящегося к тому, чтобы пустить слезу.
— А что, матушка ваша здоровы—с, — спросил Чичиков, заводя светский разговор и надеясь сим заботливым вопросом об матушке расположить к себе Самосвистова елико возможно.
— Матушка почивают после чаю, — ответил Самосвистов, — к обеду выйдут. А вы, Павел Иванович, не хотели бы посмотреть моих собак, они у меня, почитай, все братовской породы, есть даже и из—под Наяна две, сучки щенные, — сказал он, и лицо его засветилось гордостью. Павел Иванович, знающий обо всём понемногу и ровно столько, чтобы уметь не сбиться в разговоре и подыграть, польстить своему собеседнику, разбирался отчасти и в собачьих статьях, но что это за братовская порода — и кто таков Наян, не знал вовсе. Всё же он сделал удивлённые глаза и, состроив в чертах лица своего восхищение, произнёс голосом человека, поражённого этим известием до самых глубин своей души:
— Не может быть, Модест Николаевич, покажите! Об одном прошу, дайте хоть глазком взглянуть!
Лицо Самосвистова засветилось ещё ярче.
— Прошу, — сказал он, улыбаясь довольною улыбкою и пропуская Чичикова вперёд, — а ты иди в дом, — бросил он Мухобоеву.
— Пошёл, — скомандовал он, подходя к фуре, и та, заскрипев и качнувшись с боку на бок, потащилась, огибая дом, к бывшему в глубине растущего за домом огромного сада псарному двору.
— Без меня по клетям не разводят, это уж у нас так заведено, — сказал Самосвистов, на что Чичиков одобрительно кивнул головою, правда, не зная, хорошо то или плохо.
Псарня, как и всё тут, поражала порядком на ней царящим, хотя и стоял здесь дух известно какой, но чистота была образцовая: и стены, и полы, и перильца клетей были выкрашены масляною краскою. Ловчие стали разводить по клетям гончих, сдавая их псарям, давая указания, каково той или другой собаке, у кого сбита лапа, у кого коготь, кому и какой мазью или припаркой лечить царапины и ушибы. Чичиков, мимо которого проводили двух пегих псов, сказал:
— Хороши, однако, эти два арлекина.
— Да, они у меня, почитай, стаю и правят, это Крушило и Помыкай. Гончаки у меня костромской линии, и я через двух этих кобелей линию веду, — отозвался Самосвистов, с интересом глянув на Чичикова и, видимо, принимая его за знатока. А Чичиков подумал: "Слава богу! Надо же, ткнул пальцем в небо и попал", — лицо же делая тем временем в точности такое, какое пристало иметь знатоку и ценителю собачьих статей. Гончих тем временем уже рассовали по клетям, и Самосвистов предложил Павлу Ивановичу полюбоваться борзыми — предметом его неутихающей гордости. Они прошли на половину к борзятникам, и Самосвистов растворил дверь, пропуская впереди себя Чичикова с улыбкою, которая вполне могла бы присутствовать на челе какого—либо восточного деспота, открывающего потайную дверцу, ведущую в пещеру, полную сребра, злата и драгоценных камней. Здесь было попросторнее, и потолки повыше, сквозь прорубленные на высоте человеческого росту окошечки лился солнечный свет, ложась на крашеные полы жёлтыми угловатыми фигурами. Несколько бывших в проходе борзых кинулись к вошедшим, так что у Павла Ивановича в первый момент захолонуло сердце. "Чёрт, куда притащил", — подумал он, в нерешительности приостанавливаясь. Но борзые вовсе и не думали рвать пухлое и нежное тело Павла Ивановича. Радостно повизгивая, они принялись выделывать резвые прыжки, норовя лизнуть вошедших в лицо. Павел Иванович натуженно посмеиваясь, пытался незаметно, дабы не дай бог не обидеть Модеста Николаевича, прикрыться рукою, Самосвистов же и не думал обороняться от липких собачьих языков, он с удовольствием подставил своим псам щёки, целуя в ответ их мокрые носы и узкие длинные морды.
— Ну что, Павел Иванович?! Каковы?! — спрашивал он вперемешку с раздариваемыми поцелуями. — Каковы шельмы?
— Великолепны—с! Эхе—хе—хе, — отвечал Чичиков, пытаясь из последних сил оградить себя от собачьей слюны, которой неугомонные любимцы Самосвистова готовы были покрыть его с головы до пят. — Роскошь просто, хе—хе—хе, право слово, — лепетал Чичиков, — роскошь...
Но Самосвистову вскорости и самому наскучили обильные ласки, проливаемые на него собачьими языками, и он сдал повизгивающих борзых псарям.
— Это и есть моя барская свора, — сказал он, — вся, можно сказать, из Наянова гнезда.
Чичиков снова показал в лице своём благоговейный восторг и, натужась и вспомнив, что знает он о борзых и борзятниках, спросил:
— А псарские своры той же линии?
На что Самосвистов несколько сбился и сказал:
— Нет... там есть подмесь филиповских кровей. Ну, да это не так интересно, смотреть не стоит.
— Позвольте, но ведь и филиповская линия хороша, — решил подольститься Чичиков и, судя по тому, как процвело чело Модеста Николаевича, понял, что достиг цели, хотя, как и в первый раз с арлекинами, брякнул первое, что пришло на ум, но, видать, везло сегодня Павлу Ивановичу.
— Вот этот пёс, — сказал Самосвистов, подзывая к себе огромного с выгнутой спиною и узким щипцом кобеля, — этот пёс даже меня удивляет. По всем статьям хорош, густопсовости отменной. Поглядите только, каков волос на чёрных мясах, а правило, правило как обволошено, — проговорил он, принимая в руки собачий хвост и оглаживая густую шелковистую шерсть на нём.
— Да! — отозвался Чичиков, умилительными глазами поглядывая на хвост, который Самосвистов продолжал вертеть в руках. — Я просто потрясён, Модест Николаевич, нет, как говорится, слов, чтобы выразить моё удивление и удовольствие...
— Правда, есть у него один небольшой недостаток, — переходя на доверительный тон, проговорил Самосвистов, — уж очень он громыхает правилом при беге.
— То есть? — не понял Чичиков.
— Ну, пускает ветры из—под хвоста. Громыхает... — пояснил Самосвистов.
— Ах! Да, да. Это, конечно же, не украшает, — понял Чичиков, об чем идёт речь. — А как он вообще на бегу? Хорош? Парат али не очень? — спросил он, припоминая ещё одну из охотницких присказок.
— До чрезвычайности, — отозвался Самосвистов, — на корпус, если не на два, обходит любую самую резвую собаку в уезде. — И, похлопав пса по спине, он отослал его. Они ещё какое—то время походили по псарне, переходя от одной собаки к другой. Самосвистов расписывал стати и доблести своих любимцев, а Чичиков в приятных выражениях высказывал своё одобрение увиденным и услышанным от Модеста Николаевича.
Осмотрев, наконец, псарный двор, новые знакомцы, очень довольные друг другом, побрели к дому. Самосвистов был доволен, что встретил человека понимающего, с которым приятно было поговорить, а Чичиков был доволен тем, что сумел, как ему казалось, расположить к себе Самосвистова. Что, в общем—то, соответствовало истине, потому как уже одно упоминание об его превосходительстве генерале Бетрищеве, о приятельских отношениях с ним были достаточной рекомендацией и служили тем пропуском, при помощи которого можно было попасть в друзья к Самосвистову, боготворившему дядюшку Александра Дмитриевича.
Казалось, что по какой—то злой шутке, которую вздумала сыграть судьба Модеста Николаевича, человека и вправду опасного к своим неприятелям, злого до жестокости, крутого и с теми, с кем доводилось ему приятельствовать, способного на мстительность, сходную с пакостничаньем, навроде той охоты, что довелось увидеть сегодня Чичикову, но в то же время действительно храброму и твёрдому в своих намерениях, словах и поступках, казалось, что служить ему нужно было по военному ведомству, где мог он стать бравым командиром гусарского или драгунского полка, участвовать в манёврах или сражениях, а не протирать панталоны в Гражданской палате, среди чиновничей братии, мерно щёлкающей перьями в тишине залов и присутственных мест, с вечно перепачканными чернильными кляксами руками и косящими от постоянного переписывания глазами. Но судьбе, видать, угодно было распорядиться таким вот непонятным образом, поселив душу, достойную полководца, в серый казённый чиновничий мундир; и стянутая, спелёнутая этим мундиром, стеснённая и обманутая своим нынешним существованием, душа его порою бесновалась и рвалась, точно посаженная на цепь собака, готовая искусать каждого из тех, кто неосторожно приближался к ней.
Пройдя в дом, Чичиков отметил про себя всё тот же опрятный порядок, что царил в каждом уголку имения. Подивился на узорчатые, натёртые до лакового блеску паркеты, по которым разве что не кубарь гонять, точно по льду, и принялся за более основательное знакомство с обществом, собравшимся под этим кровом. Господин Самосвистов на правах хозяина дома подводил его к каждому из бывших в гостиной, представляя Чичикова. И по самому характеру этого представления Чичиков заключил, что в обществе сём была своя внутренняя "табель о рангах", возглавляемая, конечно же, Самосвистовым. Уже знакомый нам Мухобоев был где—то в самом её низу, представляя собой нечто среднее между шутом и приживалом. Из наиболее же лестно отрекомендованных ему господ особо были выделены Модестом Николаевичем некие Кислоедов и Красноносов, служившие вместе с Самосвистовым. Кислоедов был тощий желчный субъект с лысиною жёлтой, точно бильярдный шар, слегка опушённый жёлтенькими же волосиками, с лица его не сходила усмешка, а почти что белые глаза, украшенные мешками, глядели с вызовом. Красноносов же в отличие от него был невысок, коренаст, волос имел чёрный, без седин и проплешин, глаза его были непонятно какого цвету, потому как занавешены были свисающими бровями. Наружности был он хмурой, но лицо его оживлялось довольно хорошею улыбкой, которая нельзя сказать что была бы приветлива, но несколько смягчала первое от него впечатление. Эти двое господ удостоились более пристального нашего внимания, нежели остальные, потому, что им предстоит ещё не раз появиться на страницах нашей поэмы, и роль их во всём, что произойдёт с Павлом Ивановичем, и во всём том, что предстоит проделать Чичикову на пути, который он себе начертал, будет весьма велика. Прочие из бывших тут господ были или же окрестные помещики, или же чиновники, приехавшие вместе с Самосвистовым в его имение из города, чтобы "пошалить", как они, смеясь, говорили сами. Были эти шалуны виду самого разношёрстного, из тех, что всегда встречаются в подобных мужских компаниях, прочие даже в форменных сертуках, будто бы и не покидавшие присутственного места. Но изо всех бывших там в тот день Павлу Ивановичу запомнился, конечно же, помимо тех двух господ, о которых уже было говорено, один лишь судейский по фамилии Маменька, наверное своею фамилией и ещё толщиною, которою вполне мог бы поспорить с Петром Петровичем Петухом, и видом, более подходящим надутому пухлому младенцу, которому для полноты сходства недоставало разве что соски. Чичиков был со всеми учтив и любезен, всем улыбался своею самою наиприятнейшею улыбкою, чуть склоняя при этом голову и сгибая в полупоклоне корпус. Правда, в этот раз он, говоря о себе, почему—то не упомянул о многочисленных гонениях и притеснениях, бывших со стороны врагов его, покушавшихся, как мы уже не раз с вами, читатель, слышали, на самое жизнь его. Почитая, вероятно, в присутствии Самосвистова небезопасным упирать на жалость, изображая из себя беззащитную жертву якобы имевшихся в его жизни несчастных обстоятельств. Напротив, Чичиков в этот раз как—то больше останавливался на том эпизоде из прошедшего времени, который относился к службе на таможне. Коснулся вскользь своих достоинств и заслуг и завершил его словами:
— Но сейчас, господа, более не служу; правда, не знаю, хорошо ли это.
— Чай, контрабандистов плохо ловили, а, Павел Иванович? — шутливо вопрошал чей—то голос, принадлежавший тем, что собрались вокруг него.
— Как вам сказать, господа, — ответствовал Чичиков, — ведь контрабандист тоже бывает разный. И среди них попадаются весьма интересные и достойные люди, которых очень даже можно уважать. И многих из наших так называемых "приличных господ" я, нисколько не сомневаясь, променял бы на них...
— Ай да Павел Иванович! — воскликнул Самосвистов, которому всегда было по сердцу то, что шло вразрез с существующими взглядами на установленный порядок вещей и на порядок сам по себе, всё то, от чего несло и разило крамолой и непокорностью, всё это очень нравилось Самосвистову. Поэтому ему пришлась по душе и последняя фраза, произнесённая Чичиковым, так что он, даже приобнимая его за плечи, оглядел столпившихся вокруг победной сияющей улыбкою, как бы говоря ею: "Вот это человек, не то что вы — цуньки". А Чичиков остался весьма доволен этой отметкой, выставленной ему Самосвистовым, потому что, собственно, для того только и пустился в несколько рискованные воспоминания. Но и разговоры, стоявшие в гостиной, и воспоминания были прерваны стуком растворяющихся дверей и звуком тяжёлых шагов, прозвучавших по паркетам. Всё смолкнуло, оборотившись на этот шум, и Чичиков, вместе с остальными глянув в сторону распахнувшихся дверей, тех, что вели в глубину дома, увидел увитый лентами, убранный шёлками и кружевом величественный живой монумент в ситцевом чепце, мерными, тяжёлыми шагами двигающийся сквозь гостиную. Это и была, как он догадался, Катерина Филипповна Самосвистова, тайная советница — матушка Модеста Николаевича. Лет Катерине Филипповне было около шести десятков, седые волосы буклями выбивались у неё из—под чепца, оттеняя смуглое, несколько горбоносое лицо и чёрные сурьёзно глядящие глаза. Росту она была большого, пожалуй, на полголовы выше многих из собравшихся в гостиной зале господ, не уступая, впрочем, и своему весьма рослому сыну. Корпус у ней был широк и плотен, поражал своею сокрытою под цветными материями мощью и живо напомнил Чичикову об генерале Бетрищеве. "Недаром в родстве", — подумал Павел Иванович.
— Ну что, господа, — сказала она довольно низким голосом, обращаясь к собравшимся, — набаловались? Наваляли дураков?
При этом нельзя было понять, то ли ругает она их, то ли говорит шутливо, ибо лицо её оставалось совершенно неподвижно, не выражая в своих чертах никакого из чувств. Стоящие в гостиной стали что—то мямлить в ответ на сделанные ею вопросы и мяться с ноги на ногу, точно гимназисты в кабинете у надзирателя, а Самосвистов, подхватив Чичикова под локоть, подвёл его к ней и отрекомендовал.
— Вот, матушка, позвольте представить вам, Павел Иванович Чичиков, коллежский советник, помещик нашей губернии и близкий приятель дядюшки, Александра Дмитриевича. Приехал до вас с приятным от него поручением...
Во всё то время, что сын её продолжал давать рекомендацию Павлу Ивановичу, лицо Самосвистовой не дрогнуло ни одною чертою, и лишь при упоминании имени генерала Бетрищева глаза её словно бы проснулись, в них пробудился интерес, и, приподняв брови, она изрекла:
— Вот как? Это хорошо. За обедом расскажете... — И, оборотясь к сыну, сказала:
— Распорядись, чтобы Павла Ивановича посадили рядом со мною.
Обойдя залу, как командир обходит своё войско, и обсмотрев каждого с ног до головы, точно ища огрехи в выправке и амуниции, она молча, не глядя ни на кого, пошла к тем ведущим в глубину дома дверям, из которых появилась несколькими минутами ранее, и, остановившись в дверном проёме, полуобернувшись произнесла не то приглашение, не то приказание:
— Ну, что ж! Давайте к столу, господа!
И господа, выстроившись затылок в затылок прошли в столовую, приноравливаясь к её мерному шагу и стараясь избегать лишнего шуму и разговоров.
Самосвистов с Чичиковым шли за нею в числе первых и, войдя в столовую, уселись один по правую, другой по левую от неё руку. За столом воцарилось молчание, нарушаемое лишь поскрипыванием стульев, лёгким позвякиванием приборов да мухами с видом хорошо знающих своё дело, озабоченно летающих над тарелками с закускою. При всеобщем молчании лакеи в ливреях стали обносить гостей первым блюдом. Это было "По—то—фе" с плавающей в нём длинной узкой лапшой. На отдельных больших блюдах к нему были поданы разварные овощи и дымящееся, только что вытащенное из котла мясо, хрен и маринованные огурчики. Катерина Филипповна, оглядев гостей пристальным и придирчивым взглядом, перекрестясь, произнесла приличную случаю молитву, проследя, чтобы сидящие за столом последовали её примеру, и лишь тогда принялась за еду. Присутствующие, послушно крестясь, возводили глаза к потолку, под которым резвилась стая всё тех же озабоченных закускою мух, и шептали что—то, еле заметно шевеля губами. Какие слова срывались с их уст, сказать трудно и одному богу известно, но нам почему—то думается, что наместо молитвы многие говорили про себя: "Разрази тебя гром, чёртова баба".
Чичиков, как и все возведя глаза, зашевелил губами, закрестился, умильно улыбаясь толкущимся над его головою мухам, и, умиротворённо вздохнув, заложив за отворот фрака салфетку, принялся за дымящийся "По—то—фе".
На протяжении всего первого блюда не было сказано ни слова. Молчаливые лакеи обнесли всех вином, и гости в ожидании жаркого занялись закусками. Выпив бокал красного вина, Самосвистова повернулась к Павлу Ивановичу всем своим корпусом, так что кресло под нею затрещало и заскрипело волосом и пружинами.
— Ну что, любезный, как там поживает наш Александр Дмитриевич, с чем приехали от него, с добрыми вестями али с худыми? — спросила она и добавила, довольно дружелюбно взглянув на Чичикова. — Рассказывайте.
И Чичиков, приостановясь в еде, стал говорить, вежливо опустивши глаза к столу, с известным уже нам наклоном головы, слегка теребя пальцами фигурную ручку серебряного ножа, лежавшего при его приборе. Временами, когда он рассказывал нечто, что должно было бы особенно понравиться Самосвистовой, Павел Иванович подымал на неё глаза, точно говоря взглядом "Ну, мы—то с вами понимаем, что это хорошо", и поджимал губы в любезной улыбке. Известие о помолвке Ульяны Александровны вызвало оживление в лице, да и во всей фигуре Самосвистовой. Наконец она улыбнулась и, ещё более повернувшись к Чичикову, сказала:
— А вот это хорошо. Давно пора, сколько же времени в девках—то ходить. Тем более что и не бесприданница, и сама не урод. Ну тонка, ну да ничего, кости есть — мясо нарастёт.
— В точности так—с, — подтвердил Чичиков, — давно уж пора.
— А жених, кто таков? — спросила тайная советница.
— Жених — Тентетников Андрей Иванович. Я думаю, ваше превосходительство, изволите знать, — отвечал Чичиков.
— Не знаю, — коротко сказала она, и Павел Иванович подивился схожести манер между нею и генералом Бетрищевым.
Как мог он обрисовал Тентетникова с наиболее выгодной для того стороны, упомянув и об истории, которую тот якобы пишет, о генералах двенадцатого году, и об одобрении этого его занятия со стороны будущего тестя, и о горячих чувствах, питаемых молодыми друг к другу.
— Ну вот что, любезный, — сказала Катерина Филипповна, выпивая ещё один бокал вина, налитого ей услужливым лакеем, — после обеда расскажешь мне все сызнова, а то я не всё упомнила, — и оборотив внимание на оставленных ею гостей, повысила голос и сказала: — Ну, что разгалделись, точно гуси?! Чай, здесь обед, а не ярмонка.
Лёгкий говор, возникший было за столом, тут же смолк, уступив место постукиванию ножей с вилками и позвякиванию посуды. Обед, длившийся ещё часа два, проходил всё в том же молчании, изредка прерываемом замечаниями или окриком Самосвистовой, тут же прерывающей любое поползновение со стороны гостей на то, что казалось ей шумом. И главное, что взял на заметку Павел Иванович, это серьёзные и настороженные выражения в лицах присутствовавших, без всякой попытки сопроводить снисходительной шуткою, как это часто бывает, чудачества старого человека.
Покончив обед непременным и так повсеместно на Руси вошедшим в моду кофием, гости дождались, пока её превосходительство тайная советница не встанет из—за стола, и лишь после того тоже повставали, собираясь перейти в гостиную. Самосвистова, поворотив к Чичикову свой тяжёлый корпус, сказала: "А ты, любезнейший, от меня не отходи," — и даже не глядя на него поплыла в гостиную залу первой. Чичиков, согнувшись в благоговейном почтении, последовал за ней какою—то странной, с выбрасыванием вперёд стопы иноходью, слегка подскакивая при каждом шаге и чувствуя, как у него от этой, невесть откуда взявшейся походки, трясутся щёки и прыгает кок на макушке. Остальные тоже потянулись за Самосвистовой длинною цепочкою, точно цыплята за надутою индейской курицей.
В гостиной зале все снова разбились по кучкам и кружкам, о чём—то вполголоса переговариваясь и исподтишка поглядывая на Самосвистову. А та, усадив рядом с собой Павла Ивановича, вновь стала выспрашивать об уже рассказанных им обстоятельствах. Посреди рассказа Павел Иванович вдруг почувствовал, как у него начинает зудеть и чесаться по телу, то в одном месте возникало поначалу лёгкое щекотание, сменявшееся в скорости зудом, то начинало пощекотывать в другом месте, иногда достаточно деликатном, для того чтобы при всех его почесать. И как ни крепился Павел Иванович, как ни старался, но нет—нет, а зудение превозмогало его силы, и он, стараясь сделать это менее заметным, то тут, то там легонько почёсывал себе тело пальцем. Через какое—то время он вдруг заметил, что и тайная советница тоже как—то чересчур жеманно для её почтенного возраста поводит плечами и краснеет смуглым лицом. В первые минуты Чичиков готов был даже приписать эти происходящие в ней перемены своему собственному обаянию, и даже немного испугался этого, подумавши: "Бог ты мой, да как с ней управиться: велика ведь очень..." Но потом, заметив её поспешные украдкой почёсывания, успокоился, поняв, что это неопасно. Прервав его вновь повторяемый рассказ на полуслове, Самосвистова спросила:
— Скажи, любезный Павел Иванович, а тебя мой Модест, часом, на псарню не водил?
На что Чичиков отвечал, что имел удовольствие посетить псарный двор и полюбоваться чудесной сворой Модеста Николаевича.
— Ах, негодный! — воскликнула она и призвала к себе сына, об чём—то рассуждающего в компании с Кислоедовым.
— Чего изволите, матушка? — подойдя к ней, почтительно вопрошал Самосвистов.
— Послушай, Модест, — начала сухо, поджимая губы, Катерина Филипповна, — сколько раз я тебе говорила, чтобы ты нового человека на псарню не водил? Неужто так трудно уразуметь простое? Неужели не понимаешь ты, что блохи с твоих собак на свежую кровь бросаются, а когда обопьются, то точно пьяные по всем скакать начинают? Вот Павел Иванович: он человек хороший и, надо думать, честный, ибо другого дядюшка Александр Дмитриевич с посылками не пошлёт, но он ведь сейчас блох по всему дому растащит.
Услыхав такое, Чичиков настолько расстроился, что даже и не расслышал, что там бормотал в оправдание удалой молодец Модест Николаевич, в присутствии своей матушки словно теряющий в своей удали. Мысль о том, что он весь усыпан блохами, сосущими из него соки, покрывающими его белую грудь, спину, живот и всё прочее, из чего, собственно, и слагалось его тело, отвратительно зудящими красными прыщами, и что его сейчас начнут сторониться, точно чумного, все те кто узнает об его приключении, настолько омрачила в общем—то неплохое настроение Павла Ивановича, что он поначалу даже не обратил особого внимания на тот пассаж в речи тайной советницы, где она, и словом не обмолвившись об его дружеской услуге его превосходительству генералу Бетрищеву, без особых церемоний определяла его к тому в посыльные; когда же до него дошёл смысл сказанного Самосвистовой — он расстроился ещё больше.
— Что же делать—то мне, Модест Николаевич! — спросил Чичиков, потерявшись.
Он и вправду не знал, как ему теперь поступить. Вскочить и поспешно бежать из гостиной, дабы блохи, сидящие на нём, не покусали прочих гостей, но сей поспешный уход вызвал бы интерес и вопросы со стороны бывших здесь в гостиной господ. Павел Иванович правильно рассудил, что это всё равно, что встать и во всеуслышание заявить: "Господа, не подходите ко мне ближе, чем на два аршина, по мне скачут блохи и могут перескочить на вас". С другой стороны, уйти нужно было обязательно, во—первых, для того, чтобы действительно постараться каким—нибудь манером избавиться от беспокойных насекомых, а во—вторых, Чичиков боялся, что если ему оставаться здесь далее, то сама тайная советница встанет и скажет: "Господа, на Павле Ивановиче блохи, не подходите к нему ближе, чем на два аршина". Так что положение и вправду казалось весьма щекотливым.
— Матушка, полно вам так волноваться, обкурим его можжевеловым дымом и всё. Не в первый—то раз, — совершенно спокойным тоном произнёс Самосвистов так, точно говорил не о Павле Ивановиче, а о постороннем предмете. И, обратившись к Чичикову, сказал. — Пройдите, Павел Иванович, со мной. — И, пропустив его перед собой, пошёл с ним вон из дому.
А Павлу Ивановичу вдруг сделалось так грустно, так тоскливо стало у него на душе — хоть плачь. И кусающиеся блохи, и бесцеремонные слова тайной советницы насчёт того, что был он якобы у генерала на посылках, и постоянная оглядка на Самосвистова, на тот страх и ту робость, что он внушал Чичикову, всё это сплелось в одно, слепилось в тяжёлый ком, который стал давить ему на сердце, не давая вздохнуть.
"Неправда, неправда, — думал Павел Иванович, — я сам напросился ехать с поручением от его превосходительства, неправда... — Он и впрямь готов был разрыдаться от обиды и злости на себя. — Кто же я таков, — думал он, — кто! Колешу по губерниям, строю планы, мню о себе бог знает что, а на самом деле возьмёт какая—нибудь старая дурная баба и мордою—то и об стол, мордою—то и об стол... Да так мне и надо", — мстительно подумал он, и ему захотелось тут же, не мешкая, уехать. Чичикову было теперь безразлично, как посмотрит на это Самосвистов. Злоба, поднявшаяся в нём на себя самого, потопила все другие чувства, бывшие в его сердце, и все его страхи, все его опасения насчёт Самосвистова захлебнулись и заглохли в глубине этой злобы.
— Модест Николаевич, любезнейший, — сказал Чичиков холодно, — не надобно обкуривать меня никаким дымом, да мне это, собственно, и не нужно, а лучше распорядитесь заложить мою коляску. Потому как мне уж самое время уехать.
Самосвалов остановился от неожиданности и, глянув на Чичикова, сказал:
— Полно вам, Павел Иванович. Верно, вы на матушку мою обиделись, так не стоит обращать и внимания. Что ж тут поделаешь, такова она, а вообще—то добрейшей души человек.
— Я не обижался на вашу матушку, Модест Николаевич, — отвечал Чичиков, не сменяя ледяного тону, — токмо хотел бы заметить, что мы с генералом Бетрищевым старинные приятели, можно сказать, обязанные друг дружке жизнями. И ежели я, поехав в ваши края по собственной нужде, предложил его превосходительству свои услуги, это ещё недостаточный повод, чтобы мешать меня с посыльным.
— Ах, вы об этом; а я—то думал, вы из—за блох... — сказал Самосвистов.
— У меня нет и никогда не было никаких блох, милостивый государь, — плохо скрывая раздражение, говорил Чичиков. — Извольте, пожалуйста, приказать заложить мой экипаж. Я приехал к вам с целью оповестить об помолвке, а не для того, чтобы терпеть издевательства. Александру Дмитриевичу будет интересно узнать, каким образом обходятся в этом доме с его преданными друзьями, — краснея, продолжал Чичиков.
Самосвистову совсем не нравилось то, как Павел Иванович говорил с ним, тем более что он не видел тому причины, ну подумаешь, сказала что—то матушка, так она ведь всем всякого говорит, и никто не обижается; или те же блохи... Одним словом, Самосвистов не видел, из—за чего мог так рассердиться Павел Иванович, и в другое время, может быть, и прибегнул со своей стороны к некоторым крутым мерам, с которыми, скажем прямо, знакомы были многие из его приятелей, но две вещи удерживали его. Это, как уже говорено было ранее, благоговейное почитание дядюшки Александра Дмитриевича, с коим Чичиков был, надо полагать, на короткой ноге, и поведение самого Павла Ивановича, столь разительно отличающееся от того, как вели себя с Самосвистовым прочие из его свиты. Он чувствовал, что Павел Иванович не боится его. Неизвестно, смог бы он за себя постоять или нет, но то, что на лице его написана была решимость, обида и твёрдость, порождённые, чего, конечно же, не знал Самосвистов, злобою и презрением к себе самому, удерживало Модеста Николаевича, почувствовавшего в душе своей некоторое уважение и симпатию к Павлу Ивановичу.
— Душа моя, Павел Иванович, — сказал он примирительно, — я понимаю, вы в обиде, но разрешите вас заверить, что в лице моём вы имеете самого искреннего друга, уже успевшего вас полюбить. Вот вам моя в том рука, — сказал он, протягивая Чичикову крепкую сухую ладонь, которую Чичиков пожал, немного отходя ото льда в лице. — И не уезжайте, Павел Иванович! Матушка через часа два отправятся почивать, и мы славно проведём время, — говорил он, заглядывая Чичикову в глаза.
— Мне и вправду надо ехать, — сказал Чичиков уже иным, более мягким тоном. — Я обещал соседу вашему господину Вишнепокромову быть у него сегодня ввечеру во что бы то ни стало. А слово своё я привык держать.
— К Варвару Николаевичу? — спросил Самосвистов. — Так это же очень хорошо. Поезжайте, и мы за вами следом поедем. Передайте ему, чтобы пуншу варил побольше да готовил столы к игре. Я намерен ему сегодня дать сражение, — с усмешкой говорил он.
И они простились, чтобы через некоторое время встретиться вновь в гостях у Варвара Николаевича.
До Чёрного, бывшего имением Вишнепокромова, было не то чтобы далеко, но и нельзя сказать, что находилось оно рядом. Солнце, давно уже перевалившее за дневную черту, шло всё ниже и ниже к горизонту. Уже стали на небесах появляться тучки да облачка, как бы напитанные розовым солнечным светом, а небо понизу, обрезанное чёрной зубчатой каймою лесов, было изжелта—красным, постепенно меняющимся к вышине и над самою головою, становящимся, густо синего цвету, сквозь который пока ещё несмело, но проклёвывались уже мигающими огоньками первые звёздочки. Месяц нежный и пока еле видимый, тоже уж проступал на синеве, так, что казалось точно кто—то огромный, кем был создан этот чудесный пейзаж, махнул легонько кисточкою, обмоченною в белила, и вывел его сияющую белизной закорючку.
Но Павел Иванович, мучившийся изжогою после не совсем удачного жаркого, что подавалось у Самосвистова ко второму блюду, не глядел по сторонам, мечтая побыстрее добраться до Варвара Николаевича и выпить стакан парного молока, дабы заглушить жжение в груди. Он велел Селифану погонять, а сам, привалясь к стенке коляски, закрыл глаза и принялся думать о разном, с тем, чтобы отвлечь себя от изжоги. Но и изжога, и перенесённая только что обида, и злость, правда, уже притихшая в нём, навели его вновь на те мысли, что, став зятем генерала Бетрищева, он не только получит в свои руки то богатство, к которому так стремится душа его, но приобретёт и весу, и уважения в обществе, и никто уже не посмеет говорить об нём, точно об постороннем предмете, предлагая обкуривать дымом, словно обитателя чумного барака. И желание спровадить мешающего ему Тентетникова, приноровив к этому делу Варвара Николаевича, загорелось в нём с новою силою.
Вскоре далеко за деревьями замелькали огоньки. Селифан наддал лошадям, и те, побежав резвее, через каких—нибудь пять минут въехали в Чёрное и, прокатив по широкой улице села, подъехали к господскому дому. Дом этот был об одном этаже с деревянными стенами и деревянным портиком, поддерживаемым деревянными же колоннами с лупящейся на них белой краскою, но дом Павлу Ивановичу понравился, как понравилось и село, через которое он только что проехал. И глядя на засветившиеся в сгущающихся сумерках окошки, слушая ленивое перебрехивание собак во дворах, он почувствовал, как нисходит на него непонятный покой, точно на человека, вернувшегося под родимый кров из дальнего и тяжёлого путешествия.
На стук подъезжающего экипажа вышел на крыльцо сам хозяин в распахнутом, наброшенном на плечи халате и с длинным черешневым чубуком в руке. Узнавши коляску Платоновых, он, улыбаясь, пошёл к ней, ступая по траве мягкими кавказскими сапогами, но, увидя одного только Павла Ивановича, сделал удивление в лице.
— А где же Платоша? — спросил он у Чичикова, заглядывая внутрь коляски, так, будто Платон мог прятаться в ней шутки ради либо по какой другой причине.
Чичиков рассказал об утреннем необъяснимом капризе Платона Михайловича, на что Вишнепокромов, немало удивясь, посокрушался, а потом, махнув рукою, сказал:
— Ну и ладно. Бог с ним. Не поехал — и не надо. Со странностями, надо сказать, молодой человек, хоть я и люблю его, — и, отдав распоряжение об лошадях и людях Павла Ивановича, повёл того в дом.
Дом этот был из разряда тех деревенских домов, которые покоряют своим уютом, заключающимся и в старых половицах, и деревянных стенах, обклеенных обоями, и в таинственных шорохах за печкою и в подвале, и каким—то своим, только таким домам присущим запахом, который успокаивает расстроенные нервы и в котором так сладко спится на постели, хрустящей пахнущим свежестью бельём. По стенам дома располагались ковры с развешанными по ним пистолетами, саблями и кинжалами в гравированных серебряных ножнах. Остающиеся свободными от ковров стены украшали взятые в рамочки изображения лошадей и собак, на подоконниках стояли горшки с цветущими геранями, висела над овальным орехового дерева столом люстра, убранная хрустальными сосульками, и горели свечи в стоящих на столе подсвечниках. Так что ежели бы не пистолеты да сабли, то можно было подумать, будто здесь живёт не отставной полковник—брандер, а маленькая кутающаяся в шаль старушка в чепце, чья жизнь, вся без остатка, посвящена варениям, соусам, солениям да маринадам, которые в аккуратных надписанных горшочках толпятся на полках где—нибудь в кладовой.
— Ну садись, батюшка Павел Иванович, — сказал Вишнепокромов, сам подвигая ему кресло, — чай, устал, голоден? — спросил он заботливо заглядывая ему в лицо.
— Нет, спасибо, — ответил ему Чичиков, рассказывая о своём посещении Самосвистова и об обеде у него, правда, ни словом не обмолвившись об имевшем там место казусном происшествии с блохами, которые, к слову сказать, точно исчезли дорогой: может быть, испугавшись быть увезёнными далеко от дому, они пососкакивали с Павла Ивановича и отправились восвояси, а может просто затаились для будущих безобразий.
— Но вот молочка бы я попил, — сказал Павел Иванович, сославшись на мучившую его изжогу.
— Ну разве можно у них есть, — усмехаясь, проговорил Варвар Николаевич, — ведь сама Самосвистова никакой другой кухни, акромя французской, не признает, у неё и повар — "хфранцуз" — Прохор. Вот он тебе и наготовил, — смеясь, заключил он.
Попив молока и немного поправившись, Павел Иванович сообщил Вишнепокромову, что к нему в гости собирается Самосвистов со всею своею оравою, что вовсе не смутило Варвара Николаевича, напротив, он выказал удовлетворение сим фактом и, прихлопнув в ладоши, проговорил:
— Вот и хорошо, уж сегодня я как пить дать обыграю этого шалопая, — конечно же, имея в виду Самосвистова. Он распорядился и насчёт вина, и насчёт закусок и лишь потом снова подсел к Чичикову. Павел Иванович, которого так и подмывало поскорее завести разговор об известном уже нам предмете, тем не менее тянул, не зная, как к нему подступиться, к тому же опасаясь, как бы на самой середине разговора не нагрянул бы Самосвистов со своею ватагою. Но вышло так, что Варвар Николаевич сам навёл его на этот разговор.
— Ну что, как там ваше поручение от его превосходительства? Самосвистова, надо думать, осталась довольна известием? — спросил он, надменно кривя губы в улыбке и сам же себе ответил: — Ну ещё бы, такая драгоценная особа досталась в женихи Ульяне Александровне — Тентетников!
На что Чичиков молча развёл руками — мол, что я—то могу поделать.
— Нет, сурьёзно, — продолжал Вишнепокромов, раздувая усы, — вот кому—кому, а ему никогда не прощу. Ещё придёт моё время, Павел Иванович, я ещё отыграюсь, — сказал он, сверкая глазами, и видно было, что он не на шутку гневается.
"Ну ладно, была не была, — подумал Чичиков, — надо попробовать", — а вслух произнёс:
— А вот если сурьёзно, дорогой мой Варвар Николаевич, то послушайте меня, и может статься, что мы друг дружке очень даже будем полезны.
И он принялся рассказывать Вишнепокромову душещипательную историю о тайной и роковой любви, якобы питаемой им к Улиньке, и о некоем чувстве, будто бы имевшем место с её стороны, и о горе, его постигшем, когда вдруг откуда—то нежданно—негаданно появился Тентетников, сумевший втереться в доверие к его превосходительству генералу Бетрищеву, посредством якобы пишущейся им истории о генералах двенадцатого году, обольстившем, ослепившем генерала посулами вывести его фигуру чуть ли не величиной с Бонапарта, и Бонапарту же противостоящею, растрогавшем и переманившем на свою сторону старика и вырвавшем таким вот бесчестным образом генералово благословение этому браку.
— Но позвольте же, батюшка, — недоуменно пожал плечами Вишнепокромов, — а что же Ульяна Александровна, она ведь могла и отказаться?
— О, вы не знаете этой женщины, — проговорил Чичиков, возводя очи к потолку в мечтательной улыбке, — вы не знаете этой женщины, Варвар Николаевич. Она ни в чём не может пойти супротив воли отца. Давеча в саду, плача у меня на груди, она вымаливала у меня прощение, а я... в чём я мог её обвинить? В том, что наглый змей заполз в сердце её батюшки, обольстил его дом и разрушил наше счастье? — При этих словах Павел Иванович пустил обильную слезу и, высморкавшись уже известным нам манером, точно оркестровая труба, продолжал.
Правда, оглушённый Вишнепокромов не разобрал первых трёх слов.
— ...Так что, любезный мой Варвар Николаевич, — Вишнепокромов услышал только "мой Варвар Николаевич", — как видите, у меня не меньше вашего, если не больше, оснований ненавидеть этого молодого человека, можно сказать, погубившего всю мою будущность, но что я могу поделать, в чём мне найти выход? — сказал Чичиков, горестно роняя голову на руки.
— Как это в чём, батенька вы мой, как это в чём, — горячился Вишнепокромов, — да его в куски надо изрубить, на дуэль надобно вызвать.
— Не могу, не имею права. Как меня поймёт в таком случае его превосходительство, ведь ни я, ни Ульяна Александровна не успели даже и намекнуть ему о нашем чувстве. Так полно было наше счастье, что мы об этом и не подумали вовремя. А нынче поздно, поздно. Они уже помолвлены, — тут Павел Иванович и вправду зарыдал, тряся плечами.
Вишнепокромов, пододвинувши свой стул к нему поближе, принялся гладить его по спине, приговаривая: "Полно, полно, голубчик, успокойся, хочешь стаканчик вина?" — на что Чичиков отрицательно замотал головой, высморкнувшись ещё раз, отчего Вишнепокромов поморщился.
— Вот подлец, — оказал он, глядя невидящим взглядом в стену и непонятно кому адресовывая это замечание, Тентетникову или же Павлу Ивановичу, оглушающему его своими упражнениями с носовым платком.
— Вы не знаете ещё, каков этот подлец, — проговорил Чичиков, поднимая на Вишнепокромова полные слёз глаза. — Вы не знаете, Варвар Николаевич, что этот негодяй совершил. — И он выложил Вишнепокромову всё, что знал об участии Тентетникова в тайном обществе. Покончив говорить, Чичиков глянул на Варвара Николаевича и поразился странному выражению в его лице, в котором мешались мёд со мстительной улыбкой.
— Так вот же он выход, — медленно процедил Вишнепокромов, — что же вы убиваетесь, батенька мой, доведите до начальства, и Ульяна Александровна снова ваша. Экой вы неразумный, — сказал он, щуря глаза.
— Кто поверит мне, ведь я здесь человек новый. И потом, если Улинька узнает, что я таковым способом... нет, так я её навсегда потеряю. Хотя, конечно же, если довести до Леницына, у которого к господину Тентетникову своя претензия... Тот, оказывается, оскорбил нашего будущего губернатора, будучи у него в подчинении. Фёдор Фёдорович мне самолично об этом сказывал, — проговорил Чичиков, строя задумчивую мину со следами не покинувшего ещё её страдания.
— Ну хотите — я! Коли вы, Павел Иванович, столь щепетильны, — предложил ему Вишнепокромов услугу, которой Чичиков так от него добивался. — Я даже почту это своим святым долгом, — распаляясь, говорил Вишнепокромов, — мало тебе, что ты, скотина, людям пакостишь, — говорил он, подразумевая Тентетникова, — так ты ещё и на отечество, тебя взрастившее, руку подымаешь. Ах, скотина! Какая же скотина! — вскричал он наконец.
Итак, сговор был совершён, оба наши злодея были совершенно им довольны. Вишнепокромов нашёл—таки повод поквитаться с Тентетниковым, отплатив за понесённое от того оскорбление, а Чичиков убирая несчастного и не ведающего о сгущающейся над ним беде Андрея Ивановича, мог, заручившись расположением Александра Дмитриевича, свататься к богатому приданому. И странно, что такой тёмный и зловещий умысел созрел в таких уютных стенах, в комнатках с цветущею на подоконниках геранью. Хотя ему более пристало родиться в сыром подземелье, в затхлой пещере, в склепе колдуна, варящего приворотное зелье. Но то зелье, которое принялся варить Чичиков, чтобы приворожить Улиньку, было во сто крат горше колдовского, ибо по—живому должно было разрезать молодые любящие сердца, погубить две молодые, тянущиеся друг к другу жизни. А злодеи, сидящие в уютных комнатках? Что им до того? Злодеи, живущие рядом с нами и дышащие тем же воздухом, им тоже улыбается божий мир, и они тоже видят и цветы и солнце. Так, может быть, всё дело в том, что злодеи искренне верят в то, что поступают хорошо? Видно, так. Но тогда, значит, они не верят в бога. И тяжела ноша их, тяжёл удел, всё обернётся к ним темнотой, и рухнет любое из возводимых ими зданий, да простят нам читатели невольное назидание, но странно, как в милых и уютных комнатках с цветущей на окнах геранью родятся такие замыслы.
Но мы отвлеклись, читатель, и за глупыми разговорами, и так хорошо известными тебе общими местами подобных рассуждений не заметили, как подкатили к дому Варвара Николаевича коляски и дрожки, полные народу, как ввалилась в комнату, где ещё совсем недавно сморкался и плакал наш герой, толпа его недавних знакомцев, предводительствуемая Самосвистовым. И как пошли обычные в таких случаях словечки да поцелуи. Самосвистов, обняв Павла Ивановича, расцеловался с ним и потом весь вечер уже не отходил от него, видимо, почитая себя ещё виноватым перед Чичиковым.
Столы для игры были готовы, пунш сварен, закуски расставлены, иными словами, всё было готово к весёлому времяпрепровождению, и гости, как в таких случаях говорится, не заставили себя ждать. Свежие колоды были разобраны, стаканы наполнены, и пошла игра о пяти столах, и Павел Иванович, хотя и не был завзятым игроком и нельзя сказать, что игру любил, но сегодня и играл, и пил, и закусывал с удовольствием, и на душе у него давно уже не было так хорошо, как сейчас. Он чувствовал, что попал к своим.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В той далёкой дали, где остаётся прошлое, за всеми извивами и поворотами дорог, отделяющими от него — канувшего в безвозвратность, за всеми горами и лесами, где лежит страна его обитания, в которой, хочется думать, живут и поныне те, чьи жизни шли когда—то рядом с моею жизнью, но потом кончились, оборвались внезапно, чтобы отстать от меня навеки, всё бредущего через время, точно путник, к какой—то и мне самому неведомой цели; в той дали, у самого её истока, когда детскими ещё глазами глядел я на красу развернувшегося предо мною, по божьему соизволению, мира — что—то случилось с моею душою: и грусть, и печаль, и тоска по чему—то небывшему поселились в детском ещё сердце, и, не ведая ещё своего удела, я всё ближе и ближе подходил к нему, поднимаясь по ступеням дней, пока не мелькнул вдруг перед внутренним взором моим чей—то образ, пока не глянули быстрые глаза и бричка, несомая тройкою лошадей, не пропылила мимо, озарённая лишь мне видимым солнцем, взошедшим в моём воображении. И он, глянувший быстро и цепко, позвал за собой. Жалкий, смешной, бесчестный и злой человечек захватил навсегда в полон душу мою, поселился в ней и зажил своею, не зависящей от меня жизнью. Покатил по обширной матушке Руси обделывать свои тёмные делишки, а я бегу за ним вдогон вот уже который год, бегу, еле поспевая за его холостяцкой бричкой, и, навостря перо, пишу летопись его дел. Боже, почему так, почему суждено мне судьбою быть летописцем дурного, отчего в душе моей призрел я подобного героя, а не среброкрылого ангела, плывущего под голубым куполом небес, и как понять мне, что это? Необходимый к выполнению и положенный тобою урок, или же наказание быть привязанным к этой суетливой судьбе? Судьбе маленького и пустого человека, которого, боюсь, что могу и полюбить. И коли положено мне тобою, Господи, идти с ним рядом, записывая всё с ним случающееся, несясь дорогами, лесами и полями, жалкими уездными городишками, сёлами и слободками, коли выпала мне такая доля, то смилуйся над ним, смилуйся над тем, кого называю я на страницах этой поэмы героем лишь в силу известной традиции и в ком от того, что привычно нам именовать этим высоким именем ровно столько стати, скольков горбуне. Но смилостивься, Господи, дай и ему обрести тот путь, по которому призвал ты идти всех нас, ибо видны мне уже дела его скорые, те, что зреют точно чирей в его бедной душе, и страшно мне за него. Не в силах я помешать ему, ведь его поступки и дела не исходят уж от меня. Уж живёт он сам по себе, уж точно плотью обросли его члены, уже роятся новые планы и замыслы, вовсе не зависящие от моего пера, а всего лишь мне поверяемые. И что могу я? Оборвать эту бегущую строку, убить его, здесь, на белом пространстве листа, сжечь рукопись? Но это будет мнимая смерть. Огонь слижет буквы с бумаги, испепелит её, но он — мой герой — останется, останется помимо моей воли и будет стучаться в сердце то одному, то другому из нас — рано, в детстве изведавших печаль и неизъяснимую тоску по другой, слышимой и видимой только нами, жизни. И тогда чья—то рука снова потянется к перу, глянут на него быстрые и цепкие глаза, и вновь побежит, покатит рессорная бричка, свивая за собою тугую пыль... Смилостивься над ним, Господи!
Проснулись на следующий день поздно, далеко за полдень, так как играли до самого утра, потому как спать легли уже аж в шестом часу. Выпили пуншу ведра два, переругались было за игрою, перессорились, пошумели, но затем помирились и расползлись по дому Варвара Николаевича ночевать: кто куда. Чичиков, устроившийся на диване в гостиной, потому что всем в спальнях не хватило места, да и было уже не до церемоний, проснулся от жаркого прикосновения солнечного луча, что, проникнув сквозь занавешенное окно, упёрся ему в щёку, видать, вознамерившись припечь её, точно сдобную булку. Приоткрыв припухшие от бессонной ночи и обильного возлияния глаза, Павел Иванович несколько раз мигнул ими, не вполне понимая то, где он находится и почему лежит на незастланном диване, обнявши незнакомую ковровую подушку и даже не потрудясь перед сном отстегнуть манишку, но потом воспоминания всплыли в нём и вместе с ними поднялась муть от изрядного количества выпитого им вчера вина, а голова отозвалась тяжестью и стуком в висках. Перевернувшись на спину и загородясь от слишком уж назойливого солнца, Чичиков стал вспоминать бывшее вчера за игрою. Ему почему—то казалось, что было что—то не так, он ощущал некое сосущее под ложечкою беспокойство, со всею определённостью говорящее ему о чём—то неприятном и опасном, что или уже случилось с ним, или ещё только могло произойти. Но мысли в тяжёлой голове ворочались неохотно, как медленные сонные рыбы они плавали, лениво плеща хвостами, и Павел Иванович явственно чувствовал это нечто, болезненно плещущее у него в черепе. Стараясь удерживать голову в одном положении, дабы плескания эти были бы не столь сильны, он вновь попробовал сосредоточиться на зудящем у него по кишкам беспокойстве, но тут в гостиную вошёл Вишнепокромов, краснея широким лицом и с трубкою в руке.
— Ну, как, батенька, спалось? — спросил он довольно бодрым голосом, на что Чичиков подумал с завистью: "Вот подлец", — и промычал, махнув слабою рукой:
— Голова, как свинцом...
— Экая беда, — с усмешкой проговорил Вишнепокромов, — сейчас вылечим вашу голову.
И, крикнув через двери, велел принести чарочку водки. Услыхав об таком, Павел Иванович попробовал было протестующе замотать головою, но в ней опять заплескало, и он затих, чувствуя, как к горлу подкатила волна дурноты. А Вишнепокромов, приняв от кого—то из слуг принесённое зелье, осторожно помог Чичикову приподняться, сочувственно поглядывая на его морщившееся от стукающей в голове боли лицо и приговаривая:
— Так, батенька, так, голубчик, а ты не нюхай, ты залпом, ты точно лекарство... — влил в него стопочку, обжёгшую ему глотку.
Чичиков почувствовал, как это жжение защекотало у него в груди, побежало к желудку и, словно бы юркнув в него, пропало. Но через минуту—другую вдруг стало проясняться в голове, медленные рыбы то ли уплыли куда—то, то ли улеглись на дно в ожидании нового своего часа, и Павел Иванович, присев на краю дивана, ощутил себя не то чтобы свежим, но достаточно бодрым для того, чтобы встать и заняться собственным туалетом.
— А остальные как же? — спросил он, втайне надеясь, что остальным пришлось не лучше, чем ему. Чичикову хотелось, чтобы и они также мучились бы дурнотою, а не он один, что казалось ему почему—то обидным.
— Да спят все ещё, — ответил Вишнепокромов, — вот только Модест Николаевич прошли к пруду окунуться, а эти спят ещё все.
Услышав это, Чичиков успокоился, ибо не ревновал к Самосвистову, видимо, признавая его первенство над собою.
— Ну вы, братцы мои, хороши, — сказал Варвар Николаевич, не то осуждая, не то восхищаясь некими "братцами", к которым, как понял Чичиков, принадлежал и он.
— А в чём, собственно, дело? — вопросительно глянул Павел Иванович на Вишнепокромова, и та неясная тревога, что всплыла в нём после пробуждения, поднялась вновь.
— Неужто, батенька мой, не помнишь ничего? — в свою очередь удивился Вишнепокромов. — Не помнишь, как рыдали с Самосвистовым друг у дружки на груди, о чём речи вели и о чём столковались? — точно бы не доверяя забывчивости Чичикова, говорил он.
— Убей меня бог! — заверил его Павел Иванович, — о чём это вы говорите, даже и ума не приложу. — и он, немного растерянно улыбаясь, посмотрел на Варвара Николаевича, в то же время пытаясь состроить правдивость в лице.
— И как на Священном писании клялся, не помнишь? — ещё пуще прежнего удивился Вишнепокромов, с недоверием поглядывая на Чичикова.
При упоминании о Священном писании у Чичикова упало сердце. "Боже мой, что ж это такого я натворил? — испуганно подумал он, — во что ж впутался?"
А впутался наш герой вот во что. Вчера, по рассказу Вишнепокромова, когда все порядком поразогрелись благодаря пуншу да и прочим бывшим на столе винам, разговор как—то сам собой свернул на "роман", случившийся с господином Самосвистовым. Тот, как и положено герою любовного романа, тем более столь грустного, если, конечно, не вспоминать о бедном отце предмета его страсти, которого наш Модест Николаевич саданул—таки по рёбрам; итак, он, как и пристало герою романа, строил в чертах лица своего страдание и даже, вероятно под влиянием винного пара, бывшего в нём, пустил неожиданную для многих слезу. Присутствующие здесь сотоварищи, конечно, тут же принялись утешать его, потрясая кулаками и выпуская грозные инвективы в адрес несчастного Мохова, а Варвар Николаевич, дабы несколько успокоить Самосвистова и отвлечь его от горестных мыслей, возьми да и скажи, что не он один, в конце концов, таков на свете и не одному ему выпала сия горькая чаша неразделённой любви, что, дескать, вот Павел Иванович страдал на этом поприще ещё и почище него, а ничего, нюни не распускает и держится молодцом, точно позабыв об тех рыданиях и трубных звуках, какими угощал его Чичиков. И слово за словом выползла на свет вытянутая подвыпившею компанией вся та сочинённая Чичиковым небылица, над которою он так искусно сморкался в присутствии Вишнепокромова.
Сейчас, когда Варвар Николаевич ещё продолжал рассказывать об вчерашнем дни, Чичиков, у которого уже совсем прояснело в голове, вдруг вспомнил всё, и то, как он, вероятно, не отойдя ещё от роли покинутого любовника, в которую вошёл, рассказывая Вишнепокромову всю эту нелепицу, принялся картинно страдать на глазах у собравшейся в доме публики, роняя поникшую голову и теребя пятернею волосы на голове, точно позабыв об появившихся у него в последнее время проплешинах, как, вероятно благодаря всё тому же тёплому пуншу, обратился вновь к своим рыданиям и так ему удающимся манипуляциям с носовым платком, реявшим при трубных выдохах Павла Ивановича, будто белый флаг, выброшенный побеждённым, и главное, что вспомнилось теперь Павлу Ивановичу, это что он тогда совершенно был уверен, будто бы всё, о чём говорил издающим сочувственные возгласы собутыльникам, и вправду было с ним и Улинька, обвивая своими руками его полную, перетянутую галстуком шею, вымаливала в слезах у него прощение перед тем, как расстаться навек.
— О... о... о... — рыдал Чичиков. — О... о... о!
— И ты, брат, согласился после такого ехать с подобным поручением?! — посерьёзнев лицом, спросил у Чичикова Самосвистов.
— О... о... о... о... о... о! Тьфру...у...у...! — рыдал и сморкался вместо ответа Павел Иванович.
— Как благородно, господа, браво, браво!.. — зашумело со всех сторон.
— Да, батенька, вот это душа! — проговорил кто—то, может быть, и Вишнепокромов.
— О... о... о! Тфру... у...у!!! — раздалось в ответ.
А Самосвистов, подойдя к Чичикову нетвёрдою походкой, приподнял того за грудки и влепил ему пьяный и восторженный поцелуй в мокрую от оросивших её слез щёку. Что тут поднялось! Кто кричал, что надобно Тентетникова вызвать на дуэль, кто — что надобно и так застрелить, как пса, безо всякой дуэли.
— На куски! На куски изрубить! — кричал Вишнепокромов, раздувая усы.
Кричали, что и Мохова надобно изрубить на куски, но это уж кричал не Варвар Николаевич. Потом стали кричать, что надо бы подпустить Мохову красного петуха, иные же, испугавшись такого оборота, стали кричать, что петуха подпускать не надо. Тут и произошла небольшая ссора, когда не могли решить, подпускать ли Мохову петуха или же не подпускать, и во время которой Чичиков с Самосвистовым стояли обнявшись и продолжая плакать, глядели благодарными глазами на столь глубоко переживающих их беду приятелей. Наконец решили замириться и порешили на том, что петуха, конечно же, подпускать не стоит, но и так спустить Мохову с рук подобное обращение с благородным господином, под коим, само собой, подразумевался Самосвистов, нельзя. Все эти шум и крики обильно сдабривались плещущейся в стаканах влагой, так что к концу, когда решили замириться, многие уже вместо слов произносили какие—то звуки, представляющие нечто среднее между "милостивый с—дарь" и кошачьим мяуканьем, а иные и просто уж лежали где придётся. Но Чичиков с Самосвистовым, подпирая друг друга плечом, стояли посреди комнаты и, ежеминутно чокаясь, говорили друг дружке:
— Я тебя, как брата... — и лобзались.
Варвар Николаевич, в отличие от своих гостей не теряющий присутствия духа и довольно крепко ещё держащийся на ногах, подливал своего ядовитого пуншу то одному, то другому из гостей — тем, что ещё не расползлись по углам, подобно своим товарищам, отдавшим должное Бахусу и сдающимися на милость другого бога — Морфея.
— Знаешь что, Модестушка, — сказал он, слегка заикаясь, но внятно и громко, — знаешь что? Был бы я в твоих летах, и приключилась бы со мною подобная комиссия, я бы девку в охапку — и был таков. Это куда лучше, чем петуха.
— Ура... а!..Ура!.. — крикнуло несколько нестройных голосов. И предложение Варвара Николаевича было поддержано всеми, кто ещё оставался стоять на ногах. Правда, когда дело дошло до того, кто именно займётся вместе с Самосвистовым умыканием моховской дочки, то многие из стоявших на ногах тут же под тем или иным предлогом исчезали из гостиной, а прочие и без предлога валились по углам, прикидываясь спящими, но Павел Иванович помнил, что у него не хватило то ли сил, то ли духа на то, чтобы отползти от Самосвистова в уголок, и он, поклявшись на Священном писании, в числе очень немногих, да, собственно, одних лишь Кислоедова и Красноносова, пообещал своё непременное участие.
"Что же это я натворил, — думал Чичиков, точно окаменев от страха, — всё погибло, всё пойдет прахом. О боже, боже, помоги мне как—нибудь из этого выпутаться".
Конечно, нельзя сказать, чтобы Павел Иванович был безгрешным человеком, да вы, мои преданные читатели, и без того знаете обо всех его многочисленных грехах и проступках. Но подобно всем грешникам, даже и самым великим, он всегда находил оправдание своему греху, всегда подворачивалось некое, к месту приходящееся рассуждение, по которому выходило что это и не грех вовсе, а так — небольшая шалость, на которую его подвигнули обстоятельства жизни, а не он сам по своему желанию совершил тот или иной поступок. Но сейчас Чичиков чувствовал, что зашло далеко, что это и не грех уже вовсе, а не что иное, как святотатство, и что ему либо придётся принимать участие в готовящейся кампании, либо надеяться на то, что и у Самосвистова, как и у него, помутилась память после вчерашнего кутежа и сегодня тот уже ничего не помнит. Увы, увы, надеждам его не суждено было сбыться. В комнату вошёл свежий, с мокрыми волосами Самосвистов, с плеча которого свисало большое полотенце, и, увидев Чичикова, улыбнулся и сказал:
— Ну так что, завтра вечером?
Чичиков поначалу хотел было разыграть недоумение, дескать и помнить ничего не помнит, но потом понял, что это ни к чему не приведёт, и молча кивнул головою. Подошедшие кстати Кислоедов с Красноносовым примкнули к нашим героям и, пользуясь тем, что остальные ещё спали, принялись обсуждать план предстоящего похищения. План, выдуманный ими, был прост, и по этому признаку Чичиков понял, что он очень даже исполним, и это не улучшило его настроения, так что ему даже померещилось, будто мрачная дверь острога уже заскрипела, готовясь захлопнуться за ним. Состоял же план в следующем: Чичиков с Красноносовым, кстати, обещавшим сговориться со знакомым попиком, служившим где—то в городском предместье и к которому они должны были завернуть дорогой, дабы обговорить вопрос, касаемый венчания, едут к Красноносову на его городскую квартиру и готовят там всё в ожидании прибытия Самосвистова с похищенной пленницей, благо квартира подходила для подобной цели. Она имела два отдельных входа, из соседей имелась поблизости лишь старушонка, да и та глухая, точно тетерев. К тому же Красноносов жил один, так что и домочадцы тоже не могли бы помешать. Вишнепокромов же должен был отправиться к Мохову якобы за каким—то делом с тем, чтобы выманить того из дому и увлечь куда—нибудь подальше в поле или за реку, так, чтобы и тот не мешал.
— Я его попрошу мне табунок показать, — ввернул Вишнепокромов, — у него там за рекою небольшой табунок пасётся, — пояснил он.
Все сочли, что табунок — это неплохо, и принялись сочинять далее. Хотя, собственно, уже более и сочинять было нечего. Самосвистов с Кислоедовым, нарядившись ряжеными с перемазанными сажей лицами, дабы не быть узнанными моховскими дворовыми людьми, приедут к тому в имение и, схватив несчастную женщину, повезут её в город, где на квартире их прибытия будут уже дожидаться Чичиков с Красноносовым, а затем уже в ночь отправятся в захолустную церквушку в пригороде, для того чтобы знакомый Красноносову поп совершил тайный обряд венчания. Для умыкания решено было воспользоваться коляскою Павла Ивановича, что тому очень не понравилось, но он, ничего не сказавши, смолчал.
Тут стали сползаться прочие из гостей Варвара Николаевича, и наши заговорщики прервали свой план, тем более что и так, почитай, всё уже было решено; и все перешли в столовую завтракать. День этот проведён был Чичиковым в Чёрном, у Варвара Николаевича. Павел Иванович всё это время был в каком—то смутном настроении, а поутру следующего воскресного дня вместе с Красноносовым отправился он в тот самый расположившийся на берегу большой реки губернский город Тьфуславль, в котором, к слову сказать, должен был Павел Иванович навестить некоего бывшего в генеральском списочке господина Подушкина, доводившегося генералу Бетрищеву родственником.
Перед самым отъездом Чичиков уединился с Варваром Николаевичем в комнате для конфиденциального разговору, которого мы, к сожалению, не слышали по причине его конфиденциальности, но по тому, как из—за закрытых дверей прогромыхал голос Вишнепокромова, произнёсший: "Это такая скотина!" — мы с тобою, читатель, можем догадаться, об ком там у двоих приятелей шла речь.
Уже будучи в дороге и трясясь на неудобных, принадлежащих Красноносову дрожках, Чичиков подумал, что, может быть, оно и к лучшему так складывается и что нечего ему сейчас тужить да горевать, что и это можно будет обернуть к своей выгоде: помочь нынче Самосвистову, обязать его себе, а уж после выманить у него за это мёртвых душ, которых, как знал Павел Иванович, набралось бы у него с матушкою немало.
Губернский город Тьфуславль, к которому держали путь наши двое заговорщиков, располагался в самом центре губернии на делившей её почти поровну большой реке, и Павел Иванович всё глубже погружался в эти просторы прелестного российского захолустья, столь мало ценимого нами, вздыхающими по снеговым шапкам Швейцарских гор, либо по лазури итальянского неба, либо, наконец, по Франции, раскинувшей на своих холмах замки, окружённые виноградными садами; по своим же пейзажам, не менее пленительным, скользим мы равнодушным оком, как по чему—то привычному и наскучившему до невозможности: ну подумаешь, роща, ну дубрава, ну река, ну бугор — подумаешь. А вокруг Павла Ивановича, трясущегося на красноносовских дрожках, и вправду то вставали леса, то подымались и опадали крутые возвышенности, то рощи выбегали к дороге толпою осин и берёз, то мосты, переброшенные через ручьи и малые речушки, рокотали накатом брёвен под стянутыми железными ободьями колёсами дрожек, и речки внизу под мостами неспешно текли мимо корявых, разве что не из воды растущих ив, мимо лугов, плавно сползающих к их тёмным и влажным волнам, под которыми мерно извивались, отдаваясь струившейся воде, длинные зелёные водоросли, точно волосы прячущихся вдоль берегов русалок. Всё дальше уезжал Павел Иванович и от имения Платоновых, и от генерала Бетрищева, да и от своего купленного недавно у Хлобуева имения. На душе у Чичикова было беспокойно, и беспокойство это слагалось и из мыслей о том предприятии, в которое он нынче вынужден был пуститься, и из странного чувства, похожего на одиночество, проистекающего из простого факта, что Павел Иванович и вправду был теперь совершенно один, если не считать плохо знакомого ему Красноносова: ни коляски, ни своих коней, ни Селифана с Петрушкой, к которым он так успел привыкнуть за долгие свои вёрсты, не было рядом с ним, ни даже коляски братьев Платоновых, хотя бы как—то, но связывающей его с прежней, так хорошо начинавшей было складываться жизнью, не было. Благо что ещё заветная шкатулка с выкладками из карельской берёзы была здесь, и Павел Иванович придерживал её рукой, точно чувствовал некую родную идущую от неё теплоту.
Часа через три стало видно, что приближаются они к городу. Понемногу становилось душно, и воздух начал сгущаться от пыльных облаков, воздымаемых скрипучими колёсами телег, тяжело нагруженных мешками со всяческою нужною городскому обывателю вещью. Телеги эти, влекомые волами или лошадьми, ползли сквозь оседающую и на поклаже, и на шапках, и на бородах возниц, и на спинах впряжённой скотины пыль к единой зовущей их цели — главному городскому привозу, из которого затем привезённые ими товары должны были малыми ручейками растечься по лавкам, трактирам, кабакам и складам, обратившись в отслюнявленные покупщиками ассигнации.
Близость бывшего на великой реке города Чичиков понял ещё и потому, что над головами у них стаями залетали мерно помахивающие крыльями чайки. Чайки эти кружили над полями, усаживались на землю, явно выискивая что—то в траве. И Павел Иванович немало подивился сему, потому как привык видеть за подобными занятиями обычных для него грачей да ворон. А вскоре и река появилась из—за поворота, и он подивился ещё больше её столь широко разливающимся водам, и хотя он и знал, что река эта велика, но и думать не мог, что она может быть велика настолько. Увидевши перед собою такую пропасть воды, он затосковал, почувствовав свою мелкость и затерянность в этом мире, свои небольшие силы, слабость своего полного тела, мимолётность всего своего существования перед этой вечной и великой рекой, медленно и уверенно катящей свои воды в одном, Господом данном ей направлении, и не перестающей из века в век удивлять и поражать случайного путника, вдруг попавшего на её берега. Глядя на ползущую мимо него реку, Чичиков мигал и щурил глазами от ослепительных блесков, что, точно миллионы рассыпанных золотых монет, плясали на её поверхности. Он видел тысячи чаек, парящих в воздухе или же белым горохом усыпающих песчаные отмели, слышал их резкие вскрики, разлетающиеся над рекой, глядел на множество судов и судёнышек: и бороздящих смеющуюся солнечными блесками поверхность, и мирно стоящих у берегов и пристаней. Среди них были и лодки с рыбаками, и баркасы, полные сетей, и баржи, гружённые солью или лесом, и те самые плоскодонные барки, с которыми Павел Иванович так уж любил сравнивать себя и свою судьбу. На самом въезде в город Павла Ивановича удивил огромный рыбный привоз, какового он никогда в жизни не видывал. Торговки, жены самих рыбаков, с засученными по локоть рукавами, шарили руками по стоящим вокруг каждой из них бочкам, вытаскивая из плещущей в них живой рыбою воды то сома, то карпа, то карася; кто воздымал вверх острое рыло осётра, целиком занимающего собою корыто либо лохань, кто, ухватив под жабры двух бьющих хвостами стерлядок, потрясал ими в воздухе, надеясь таким вот манером приманить возможного покупщика. Везде стоял гвалт и гомон, прилавки, скользкие от влаги и чешуи, шевелились огромными зелёно—бурыми пучившими глаза раками, которых варили в кипящих тут же котлах и ещё дымящихся и красных, как пожар, выкладывали на подносы. Повсюду на шестах висела и болталась от ветра копчёная да вяленая рыба, и бродил самый разношёрстный люд: и кухарки из богатых домов, и повара из трактиров, и солидные оптовые закупщики, и просто городские обыватели.
А вскоре и сам город на оврагах предстал пред глаза; овраги блистали, как бы из—под низу освещаемые скрывающимся за деревьями солнцем, сами же дерева, сквозь которые светило солнце, были цвета тёмного, темнее громовой тучи, и слегка шевелились на ветру. Дрожки по приказу Красноносова свернули в крайнюю, жавшуюся к городу слободку, и тарахтя, сопровождаемые лаем собак, брешущих из—за высоких заборов, подкатили к небольшой неказистой церквушке, откуда раздавалось пение, по которому сделалось ясно, что служба ещё не закончилась. Чичиков с Красноносовым, перекрестясь, прошли в церковь и встали позади немногочисленных прихожан. Красноносов, указав глазами в сторону низенького и тщедушного, с козьею бородкою попа, сказал с многозначительной краткостью:
— Вот этот...
Глянув на попа, Чичиков почему—то ни на мгновение не усомнился в том, что с ним удастся договориться. Служба шла к концу и была бы вполне заурядной и ничем не примечательной службою, что проходят в тысячах маленьких церквей, подобной той, в которой находились нынче Чичиков с Красноносовым, если бы не одна мелкая, но весьма заметная черта, на которую сразу же обратил внимание Павел Иванович. Уже знакомый нам иерей, тряся жиденькою бородкою и возглашая приличные к месту слова канона, возвышая голос и сверкая глазами, точно собираясь разить врага, упирался сим грозным взглядом в диакона, который также, когда приходил его черёд, не оставался в долгу и, кидая на иерея весьма красноречивые взгляды, надсаживался так, что у Чичикова аж звенело в ухе. Со стороны казалось, что они не служат, а злобно переругиваются между собою, и ещё немного — и один вполне покусится на другого посредством кадила. К концу они так кричали, брызжа слюною и топчась кругами у амвона, что в ушах у Чичикова звенело уже не переставая, да, надо думать, не у одного Чичикова. Но, к счастью, служба завершилась без кровопролития, и, дождавшись, пока и без того немногочисленная толпа поредеет, Красноносов выкликал батюшку, и тот, уже разоблачившись, вышел к нему, улыбаясь смиренною улыбкой. Они о чём—то пошептались в уголку, о чём Чичиков не слышал, но по не сходящей с лица батюшки всё той же смиренной улыбке, по каким—то умиротворённо—довольным киваниям головою, которые производил тот, Чичиков догадался, что дело сладилось.
— Ну и как, согласился? — спросил он у подошедшего Красноносова, на что тот отвечал в своей обыкновенной короткой манере:
— Всё улажено. Едемте на квартиру.
Приехавши к Красноносову, они, признаться, не могли взять в толк, какие особые приготовления нужно было бы произвесть к сегодняшнему вечеру, и, не придумавши ничего лучшего, отдали распоряжение прислуге вычистить комнаты, вынести пустые стоявшие по углам бутылки и смахнуть паутину с углов. Увидев, что особого участия с его стороны не требуется, Павел Иванович, одолжив дрожки у Красноносова, поехал с визитом к господину Подушкину, дабы сообщить тому об помолвке Ульяны Александровны с Андреем Ивановичем Тентетниковым и скоротать таким образом остаток дня.
Взъехав на бугор, за которым располагался дом Красноносова, Павел Иванович увидел перед собою широкий вид разбросавшегося по оврагам и возвышенностям города, по самые крыши домов утопающего в зелени. Открывшийся перед ним зелёный город состоял как бы из двух половин. Одна выдвигалась вперёд длинною цепью домов и колоколен, другая, обегавшая большой овраг позади, освещалась ярким солнцем.
Господин Подушкин, как выяснилось вскоре, жил в той дальней, освещённой солнцем, части города, расположившейся по другую сторону большого оврага, через который, петляя по его склонам, ползла пыльная дорога. Надо сказать, что в Тьфуславле не все дороги были пыльными да земляными, имелись и мостовые, вернее сказать, имелась и мостовая длиною в целые полверсты, отходившая от главной, кстати, так же мощёной булыжниками площади, на которой стояла городская управа, здание губернского правления и некоторые прочие казённые заведения известной архитектуры. Остальные же здания в городе, которые приличнее было бы именовать домами, были по большей части деревянные, одноэтажные, крытые тёсом либо крашенным в зелёный цвет железом. Но чтобы у читателей наших не сложилось бы о славном городе Тьфуславле превратного представления, мы должны признаться, что были в нём и каменные домы, кои по большей части принадлежали либо высшим тьфуславским чиновникам, либо попросту людям богатым.
Проезжая по городу, Чичиков отметил для себя, что в лавках, глядящих на улицу, доставало товару, что, помимо известных уже окаменевших пряников да бубликов, хомутов да сапог, видно было и платье разного фасону и шляпы; что в лавке под вывескою "Галантерея всевозможнейшая" красовались за стеклом перчатки тонкой кожи, кружева, трости с резными набалдашниками, мундштуки и прочая "галантерея всевозможнейшая", что в мясной лавке было мясо, а в рыбной рыба плескала в бочках и висели на крючьях белужьи да осетровые туши, без сомнения, попавшие сюда с виденного Чичиковым привоза, что конфекты и пирожные в кондитерских не были засижены мухами, как то попадалось ему за последнее время в лавчонках убогих уездных городишек и в придорожных трактирах. Одним словом, Тьфуславль был обычный российский губернский город: богатый, сытый и вполне довольный собою.
Улица, на которой жил Подушкин, находилась на самом краю оврага, откуда хорошо видна была сверкающая под солнцем река. С одной стороны стояли дома, а с другой уже был овраг, в котором по дну тоже мелькали прячущиеся в зелени крыши домов. Подкатив к крыльцу нужного дома, Чичиков взошёл по ступеням и, дёрнувши трижды снурок, принялся ждать. В доме за дверью, отзываясь, три раза прозвонил колокольчик и затем, по прошествии небольшого времени, послышались неспешные и мягкие шаги. Дверь приоткрылась, и, жмурясь на яркое солнце, возникло и воззрилось на Чичикова большое, круглое, поражающее своею пухлою белизною, лицо, хотя оно было и без бороды и без усов, принадлежало оно, без всякого сомнения, мужчине, так как увенчано было высоким лбом, образованным заметною уже лысиною. Осведомившись, здесь ли проживает господин Подушкин, и получив утвердительный ответ, Павел Иванович представился сам.
— А по какому поводу изволили пожаловать? — спросил круглолицый господин. И лишь после того, как Чичиков назвал причину, по которой смел обеспокоить господина Подушкина, тот, а это был именно он, впустил Павла Ивановича в дом.
В передней, собственно как и во всём доме, в чём скоро убедился Чичиков, было довольно темно и очень уж пахло кошками, да и немудрено: в гостиной с окнами, занавешенными тяжёлыми портьерами, через которые тщился проникнуть в комнату дневной свет, побежали навстречу вошедшим сразу несколько котов и, мяуча и мурлыкая, стали тереться о толстые ноги Подушкина и ловко обтянутые панталонами икры Павла Ивановича. Памятуя об своём недавнем приключении с собаками Самосвистова и происшедших вследствие этого неприятностях, Чичиков, мило улыбаясь, тем не менее довольно твёрдо отодвинул от себя ногою трущихся о него котов и уселся в предложенное Подушкиным кресло. Но кресло, как и всё в этом доме, тоже пахло котами и к тому же было густо усыпано их волосом, уже намертво въевшимся в обивку, так что Павел Иванович уселся на самый его краешек не одной деликатности ради. Подушкин, усевшись напротив него, позвонил в колокольчик и приказал явившемуся на зов старику лакею подать гостю чаю, на что Чичиков стал энергически отказываться, ибо ему почему—то вдруг стало казаться, что вместе с чаем в рот ему набьется кошачий волос, так что уже при одной мысли об этом у него спазмою свело горло. Но чай между тем был подан, вместе с конфектами, которые, как ни прискорбно нам в этом признаться, были—таки облеплены кошачьими волосами. Павел Иванович взял принесённый ему чай и, помешивая его, стал делать вид, что хлебает его с ложечки, хотя и у чая был всё тот же кошачий дух. Но решившись не обращать на это внимания, Чичиков завёл светский и приличный случаю разговор, и коли уж пришлось ему попасть в такое место, постарался выведать сколько возможно и об интересующем его предмете.
Рассказав достаточно подробно об поручении, с каким прибыл он от его превосходительства генерала Бетрищева, Павел Иванович подождал, пока стихнут обычные в таких случаях возгласы деланного удивления и радости, будто так уж и впрямь неожиданно и удивительно, что молодая красивая девица, да ещё и с хорошим приданым, выходит замуж, и лишь затем перешёл на личность самого господина Подушкина. Как и почему живёт в городе? Зачем не в имении? "Ах, имение разорено! Какая жалость! А что, крестьяне заложены? А которые не заложены? Только мёртвые не заложены? А как по ревизским сказкам? Проходят точно живые? Да что вы говорите, и много? Ах, много! Ах, пятьдесят с лишком душ! Прекрасно! А не хотите ли и их заложить! Очень даже можно заложить! Вы их заложите не в казну. В казну это действительно вроде мошенничества получается. Вы их мне заложите, а лучше продайте. А что, собственно, понимать? Продайте по двадцати копеек за душу и дело с концом. Вам они без надобности, а мне надо. Зачем мне надо? А вот просто надо и всё. Вам ведь без разницы, что они есть, что нет, а я вам десять рублей дам. Ах, какая хорошая кошечка! Ну—ка, киса, киса, киса! Ну, иди сюда, душечка. Иди сюда, пушочек, дай—ка я тебе шейку почешу. Ах, у кого это такие лапочки... А вы велите чернил принести да гербовой бумаги. Мы сейчас же всё и совершим. Ну, вот и хорошо. Вы сами напишете или же мне писать? Ну и ладно, ну и ладно..."
В какие—то десять минут купчая крепость была заключена, Чичиков передал Подушкину красненькую ассигнацию, и тот, хрустнув ею, заложил в боковой карман, вероятно, так и не понимая, что и для чего он сейчас проделал. Чичиков хотел было откланяться, условившись заранее о дне и часе, когда можно было бы совершить купчую в Гражданской палате, но тут в комнату, шаркая, вошёл старый лакей и голосом, которым говорят только очень старые лакеи, сообщил, что пришла прачка и принесла выстиранное бельё. На что Подушкин, извинившись перед Павлом Ивановичем, вышел в переднюю, и Чичиков через притворённую дверь слышал их разговор.
— Ну что, Матрёна, принесла? — спрашивал голос, принадлежавший Подушкину, на что молодой женский голос отвечал:
— Ох, принесла, батюшка барин. Только насилу отстирала. Уж оченно оно у вас загажено.
— Что ты несёшь?! Подумай, что ты несёшь?! — напустился на неё Подушкин. — И тише ты, там у меня гости, — сказал он, вероятно, кивнув в сторону гостиной, в которой сидел Чичиков.
— Ну, не знаю, — отвечал женский голос, — только уж оченно загаженное. Надоть бы, барин, по копейке бы за штуку накинуть, а то ну оченно загаженное.
— Что значит загаженное? — возмутясь и переходя на громкий и хорошо слышный Чичикову шёпот, говорил Подушкин, — что значит загаженное, я тебя спрашиваю!
— А то и значить! — отвечала прачка. — Оно у вас всё как есть в говнах!..
— Замолчи, я тебе говорю! — взвился Подушкин, — да как ты смеешь в присутствии благородного человека такое произносить, — кипятился он.
— Ну вы же, барин, сами спросили, чего это значит — загаженное. Ну, я и говорю — в говнах! А как же по—другому сказать? Говны они и есть говны, — рассуждала прачка.
— Так это же не моё, — разве что не взмолился Подушкин.
— Чего не моё — не поняла прачка, — бельё, что ли, барин, не твоё?
— Нет, вот это, что ты говоришь, — со злостью шептал он, не в силах произнести говорённого прачкою слова, — это не моё, это мои коты, когда Фалафей бельё в корзину собирает, они туда... ходят.
— Ну я и говорю, что всё загаженное, и всё в говнах, а вы, барин, ругаетесь, а мне ведь стирать, мне всё равно, ваше или кошачье. Так что накиньте ещё по копейке за штуку, или я больше не возьмусь.
— Да ты в своём уме — по копейке за штуку, — с новой силой стал возмущаться Подушкин, — по копейке за штуку! Легче новое купить за такую цену.
— Ну и новое загадят и тоже будет в говнах, — не унималась прачка, — так что или набавляйте, или я больше не возьмусь стирать, да и другим скажу. Кому охота такое отскребать.
— Отскребать, — передразнил Подушкин, — ещё посмотрим, чего ты там отскребла. Чисто ли выстирано?! — Затем наступило недолгое молчание, видимо, Подушкин проверял бельё.
— Постой, постой, — вдруг снова взвился его голос, — а где ещё штука? Штуки не хватает. Не...е...ет, милая моя, так дело не пойдёт. Ты мне здесь этим самым зубы не заговаривай. Куда девала штуку? Сознавайся, мерзавка! — напустился он на прачку, но та, как видно, была не из робкого десятка.
— Каку таку штуку, — заголосила она, — каку таку штуку, я вашей штуки отродясь не видела, ишь чего выдумали! За говна платить не хотят, так придумали — штуку!
— Я тебе дам платить не хотят, — чуть ли не кричал уже Подушкин, — я тебя к мировому, дрянь ты эдакая. Говори, куда мою самую лучшую штуку подевала! — не унимался он.
— Поищи—ка, барин, свою штуку у себя в белье, — крикнула в ответ прачка, и Чичиков точно увидел, как она стоит, уперев руки в бока, — мне твоя штука вовек не нужна. У мово мужика своя штука имеется, уж получше твоей, — совсем разошлась она. Но Подушкин, не поняв, об чём идёт речь, тоже переходя уже на крик, продолжал:
— Я тебя в последний раз спрашиваю, где моя штука, — вопил он, и Чичиков даже поверить не мог, что такой круглолицый, пухлый барин может так разойтись. — Я тебе восемь штук отдавал, где ещё одна? — кричал Подушкин.
— Тьфу! — сплюнула в сердцах бойкая на язык прачка, — надо же, мамка каким тебя уродила. У всех по одной, а у тебя восемь! — сказала она и добавила, видимо, собираясь уходить: — ну ничего, зарастёшь говнами по самую плешь, сам прибежишь, а бельё твоё никто брать в стирку не будет, это уж я тебе обещаю! Тоже мне — о восьми штук, как змей о восьми головах. Тьфу! — ещё раз сплюнула она, и затем послышался стук закрывающейся двери.
Воспользовавшись отсутствием Подушкина в комнате и происходившей за дверьми перебранкою, Чичиков слил пахнущий кошачьими ароматами чай в цветок, росший у господина Подушкина в большой кадке, стоящей между креслами, и тоже весь облепленный пушинками кошачьей шерсти. Не знаем, насколько полезно это было цветку, но то, что для здоровья Павла Ивановича это было не без пользы, можем судить с большою точностью. Побыв ещё какое—то время в передней, может быть для того, чтобы сдать бельё на руки старику Фалафею, или же для того, чтобы немного остынуть от бывшей только что бесстыдной сцены, Подушкин вновь появился в гостиной, пытаясь состроить приезжему улыбку, но глаза его, точно отделившись ото всего остального лица, жили своею жизнью, в них отражалась своя посторонняя и от улыбки, адресуемой гостю, и от самого гостя мысль, посвящённая, как догадался Чичиков, всё той же штуке, которую Подушкин несколькими минутами ранее так горячо обсуждал с прачкою. На бледных щеках его видны были красные пятны, бывшие также и на лбу, и Чичиков, глядя на него, подумал, что сей момент, наверное, самый что ни на есть подходящий для того, чтобы завершить визит. Встав навстречу входившему в комнату Подушкину, Павел Иванович поблагодарил того за прекрасный чай и, в нескольких словах договорившись об встрече в Гражданской палате, покинул родственника генерала Бетрищева, которому нанёс обещанный его превосходительству визит.
До вечера было ещё далеко, и Чичиков решил послоняться по городу. Отпустив дрожки, он пошёл молодцеватою, бойкою походкой, оглядывая лавки с выставленным в них товаром, прошёлся по ремесленным рядам, заглядывая в шорные, сапожные, лудильные и прочие мастерские, прогулялся и по мостовой, пройдя полверсты в одну сторону, а затем полверсты в другую, обошёл по кругу площадь, полюбовавшись на здание Губернского правления, городской управы, с почтением прошёлся мимо Канцелярии генерал—губернатора, чуть задравши голову и заложив руки за спину и не глядя на него, миновал питейный дом, сиявший орлами, и с любопытством остановился перед зданием театра, глядя украдкою на афишу, по которой было написано: "Драма в трёх действиях "Пленённые канарейки", сочинение господина Мордасова, с пением и танцами. Гл. партии: г—н Прудовский, несравненная мадам Жози Перепёлкина. Начало в 19—м часу вечера. Пускаются все желающие, кроме детей и гимназистов". Украдкою же Павел Иванович поглядывал на красочно разрисованную афишу, по той причине, что на ней изображена была, как думается, сама несравненная Жози Перепёлкина в весьма смелом одеянии, конечно, если несколько тесёмок, лент и бантов можно назвать одеянием. Хотя кто знает, может быть, именно этими тесёмками и пленяли, по мысли господина Мордасова, несчастных канареек, одну из которых, вне всякого сомнения, видел Павел Иванович изображённой здесь на афише. Но на сей раз он не осмелился сорвать так приглянувшийся ему листок для того, чтобы получше разглядеть его дома, и поэтому, делая вид, что прочищает ухо, он ещё несколько минут, страдальчески морщась от якобы беспокойства, производимого в ухе неведомою причиной, простоял напротив афиши, глядя на неё отсутствующими глазами, точно на что—то случайно встреченное и совершенно его не занимающее.
"Надо будет наведаться — поглядеть", — подумал Чичиков и, легонько вздохнув, зашагал прочь. В числе зданий города, привлёкших его внимание, был и "жёлтый дом", стоящий несколько поодаль от главной площади, мимо которого Павел Иванович походил туда и обратно, потратив на это около четверти часа, как видимо, в надежде застать что—нибудь интересное, но, не считая двух криков, донёсшихся из—за зарешеченных окон, от которых проснулась сидящая на подоконнике кошка, недовольно мяукнувшая и снова погрузившаяся в дремоту, ничего интересного не случилось, и Павел Иванович разочарованно побрёл дальше. Почувствовав изрядный голод, он решил отобедать в трактире, потому как на Красноносова надежды у него особой не было, да и идти туда Чичикову не особенно и хотелось. Зайдя в трактир, Чичиков заказал себе всенепременных щей, пулярку, зажаренную под луком и кислым соусом, холодных рулетов из требухи, поросёнка с кашей и бутылку какого—то красного вина, которое называлось "Божоле", но было, конечно же, не "Божоле". Отобедав и затративши на это часа два, Павел Иванович вышел на улицу, где стали сгущаться уже сумерки, и пошёл оврагом к Красноносову поджидать там Самосвистова с похищенной им девицею.
На квартире у Красноносова стало прибрано и пусто, так как он отослал всю прислугу и оставался один в четырёх комнатах. Чичиков побродил было по комнатам, поглядел на висящие по стенам картинки, изображавшие всё больше сцены батальные, посмотрел в окошки, точно высматривая кого—то в опустившейся уже на город темноте, но, так и не найдя себе занятия, уселся в кресло. Разговора с Красноносовым у него не клеилось по причине того, что Красноносова вообще нельзя было назвать человеком словоохотливым. Он обычно больше смотрел на собеседника, мигая из—под своих свисающих бровей, отвечал односложно, и казалось, что самому ему говорить то ли лень, то ли нечего.
И покамест они вот так позёвывали в креслах да время от времени поглядывали на темноту за окошками, где—то далеко от этого места творилось то самое бесчинство, которого мы и описывать не будем, так противно оно нашему перу, и только лишь для связанности повествования скажем в двух словах об имевшем место гадком происшествии: о том, как уведён был Вишнепокромовым за реку доверчивый старичок Мохов, как ворвались в дом и побежали по комнатам перемазанные сажею, одетые чучелами двое не узнанных никем разбойников, отпихивая и отталкивая мамок и нянек, пытавшихся остановить их ход, как, накинув на голову забившейся от страха в дальнюю коморку девице покрывало, потащили её, плачущую и отбивающуюся слабою девичьей рукой, и, погрузившись в щегольскую с красными спицами коляску, понеслись, гикая и охаживая кнутом всех попадающихся на пути, со двора. И всё; исчезли, исчезли, только пыль висела над дорогой... Только пыль да красные спицы коляски — всё, что запомнили и смогли рассказать вернувшемуся отцу его побитые дворовые люди и немногочисленные приживалы, и он, скрепив готовое разорваться от горя сердце, бросился в погоню, сам не зная, в какую сторону ему направлять бег своих лошадей. И Мохову, кому впору сейчас было бы лечь на сырую землю и помереть, не на кого было надеяться, кроме как на себя самого, ибо никто не мог защитить слабого и бедного старика, а умереть он не имел права. О, что за земля?! Что за души заключены в телах населяющих тебя людей? Откуда они? Где вызревают, на каких невиданных гроздьях каких неведомых дерев, по стволам которых вместо сока поднимаются ненависть и подлость, какое же чёрное солнце должно согревать эти зреющие плоды, в которых червь живет ещё до их рождения? Какой же щедрый сеятель посеял их широким взмахом руки над русскими полями, к чему в среду доброго и богобоязненного народа, в котором если не всегда хватало света, всегда в избытке было теплоты, к чему ему такой подвой? Какое же дерево, какой жизни хочет вырастить некто на Русской земле?
Наконец, уже в двенадцатом часу, в дверь к Красноносову тихонечко постучали, и тот, отворив, не обмолвившись с прибывшими ни словом, пропустил их вглубь квартиры. Самосвистов с Кислоедовым были сейчас в своём всегдашнем виде, больше не марала сажа их довольные и немного усталые лица и не топорщились драные овчинные тулупы у них по плечам. Самосвистов нёс на плече что—то тяжёлое, что трудно было рассмотреть, ибо было оно завёрнуто в длинное голубое покрывало, и лишь случайно, когда край покрывала встрепенулся на ходу, Павел Иванович сумел увидеть кончик дамской туфельки, мелькнувшей на мгновение.
— Куда? — спросил Самосвистов и прошёл со своею драгоценною ношей в указанную Красноносовым дверь.
— Она снова без чувств, — сказал Кислоедов, — как придёт в себя, да как увидит, где она и что с ней, так опять в обморок и валится, — с усмешкой добавил он.
Чичикову тут вдруг стало горько на душе, и он пожалел молодую женщину, бывшую сейчас в объятиях Самосвистова, пожалел об её взлелеянной отцом и, как говорили, редкостной красоте и о том, что всему этому достался подобный удел: удел быть опороченной, похищенной, свезённой из отцовского дому. Он не то чтобы порицал Самосвистова, нет, напротив, он в сей момент даже немного завидовал ему, и горечь его была того свойства, что посещает нас, когда видим мы хищнически разбитую драгоценную статую, либо порезанное ножом великое произведение живописи, либо что ещё в подобном же роде.
Прошёл час, и наконец Самосвистов появился в гостиной, сияя довольным лицом, по которому явственно проступали полоски царапин, оставленных ногтями бывшей в соседней комнате женщины.
— Ну что, пора ехать, — спросил он, обращаясь к приятелям, сидящим вокруг стола и от нечего делать перекидывающимся в карты.
— Да не мешало бы, — кратко отвечал Красноносов, — нас ждут.
— Ну, хорошо, — сказал Самосвистов, — пойду сейчас соберу её. — И он вновь скрылся за дверьми, из—за которых послышался негромкий женский плач.
— А что Варвар Николаевич! Не приедет? — спросил Чичиков, обращаясь к Кислоедову.
— Нет, он дома пересидит. А то, не приведи Господь, кинутся к нему, а его нет... Он не хочет, чтобы можно было заподозрить его в причастности, — ответил Чичикову Кислоедов.
Тут в гостиную снова вышел Самосвистов, ведя под руку кутающуюся с головою в шаль женщину, которая, видимо, хотя бы таким образом желала оградиться от нескромных взглядов присутствующих мужчин, и Чичиков, не видя её лица, все же отметил достоинства и вправду редкостного её стана, который даже сейчас светился каким—то неуловимым изяществом и грацией.
В кромешной темноте погрузились они в коляску и, наглухо застегнув полог, поехали к той слободской церквушке, где дожидал их тщедушный, с козьей бородою попик, так благостно улыбавшийся сегодня Красноносову. Во время венчания не обошлось без небольших происшествий, которых вполне можно было ожидать и которые, наверное, всегда встречаются в подобных случаях. Невеста и на самом деле была на редкость хороша, она ещё раз лишилась чувств, стоя у алтаря, но попик, не останавливаясь, провёл весь обряд до конца и, получив, сколько было оговорено заранее, отпустил молодых с миром.
Вернувшись на квартиру к Красноносову, Самосвистов отправил свою молодую жену почивать, а сам ещё какое—то время оставался с друзьями, решившими распечатать пару—другую шампанского в ознаменование столь удачного завершения проведённой ими кампании. Через некоторое время Чичиков отозвал Самосвистова в сторону под тем предлогом, что хочет переговорить с ним об совершении купчих крепостей, как с чиновником Гражданской палаты. Он и вправду показал Модесту Николаевичу все составленные им за последнее время купчие и доверенные письма к ним, необходимые для совершения самих купчих, на что Модест Николаевич сказал, что это всё безделица, что Павел Иванович мог бы и безо всяких к нему подойти, он и так для него это дело бы обделал. И они договорились, что завтра съездят на часок в Гражданскую палату, где и совершат все нужные над представленными Чичиковым бумагами процедуры. С тем и отправились спать.
На следующее утро между друзьями было решено, что Самосвистов со своею молодою женою пробудут на квартире у Красноносова ещё недельки две—три — до тех пор, пока молодая не пообвыкнется со своим новым положением и пока не уляжется волнение, наверняка вызванное произведённым нашими героями похищением. Порешив на этом, они оставили хозяина квартиры сторожить молодую госпожу Самосвистову, а сами отправились по домам. Приехав в Гражданскую палату, Чичиков с Модестом Николаевичем и вправду в каких—то полчаса обделали все дела по надлежащей форме, и тут Павел Иванович неожиданно для Самосвистова приступил к разговору, так хорошо тебе уже знакомому, читатель, а Самосвистова, несмотря на его твёрдый характер и дух, немало удивившему и, можно сказать даже, поставившему его в тупик. Порасспросив для порядку об ревизских сказках и о числившихся по ним мёртвых душах, Павел Ивановича не мешкая перешёл прямо к делу.
— А продайте мне их, Модест Николаевич, — без обиняков заявил Чичиков, глядя на то, как вытягивается у Самосвистова лицо.
— На что вам, Павел Иванович? — не удержался от вопроса Самосвистов. — Скажите, Христа ради.
— Я же не спрашивал вас, на что вам моя помощь, когда у вас в ней имелась нужда, — сказал Чичиков, — я ведь просто взял да и помог. Так что же вы у меня спрашиваете? Стало быть, мне нужно, коли я вас прошу. — И он глянул на Самосвистова спокойным и открытым взглядом.
— Ну, раз надо, то, стало быть, надо, — отвечал Самосвистов, немного смутясь, и ещё более сотни душ перекочевало в шкатулку Павла Ивановича.
Промаявшись в славном городе Тьфуславле ещё три дня и дождавшись наконец прибывших из имения Самосвистова Петрушку с Селифаном, Павел Иванович велел заложить коляску братьев Платоновых и трогаться в путь, не ведая того, что по жалобе, поданной стариком Моховым, так по сию пору ничего не ведающим о судьбе пропавшей дочери, щегольскую коляску с красными спицами ищут по всем дорогам губернии. Но Павел Иванович, как было говорено уже не раз, точно в рубашке родился: Селифан по своему всегдашнему обыкновению уже перед самым выездом нашёл без малого десяток дел, которые надобно было переделать, и провозился до вечера, так что выехали они уже ввечеру, при спустившихся сумерках, и, покровительствуемые темнотою, отправились в путь. Уже далеко за полночь, сбившись на какой—то просёлок, они выбрались за границы губернии и незамеченные никем продолжали свой путь.
Утро Павел Иванович встретил в дороге. Он потянулся, вкусно зевая и покачиваясь в такт мерным раскачиваниям коляски, протёр глаза. Здесь, за наглухо застёгнутым, пахнущим кожею, пологом было тепло и уютно, и, пребывая точно в большой и мягкой скорлупе, Чичиков почувствовал успокоенность и защищённость ото всех неприятностей и невзгод, что остались там, по ту сторону этой скорлупы, привольно летящей над дорогами, мимо лугов, полей и лесов. Новое утро наступало из—за горизонта, и коляска, точно убегая от прежней жизни с тревожными событиями последних дней, несла Павла Ивановича в новую жизнь; по крайней мере так ему казалось. И ещё ему казалось, что он вырвался на свободу, избегнул какой—то неясной, но гнетущей опасности, угрожавшей его покою и благополучию, оставив всё это позади канувшим во тьму ушедшей ночи. Откинув полог, он вдохнул свежего утреннего ветерка, глянул на позолочённые утренними косыми лучами солнца дерева, на их мелко трепещущие листочки, на ласточек, со свистом мечущихся по воздуху в погоне за проснувшимися уже мошками, и неожиданно такою теплотою плеснуло ему в сердце, что Павел Иванович даже рассмеялся мелким дробным смешком, как может смеяться ребёнок подаренной новёхонькой цацке или же кто—либо, долго и безнадёжно болевший и выздоровевший вдруг, по божьей милости. Селифан, трясущийся на козлах, повернулся на прозвучавший за спиною смех и улыбаясь, словно складывая лицо в морщины, сказал:
— Доброго утречка вам, Павел Иванович, — приподнимая при этом старый линялый картуз.
— И тебе того же, братец, — отвечал Чичиков, поглядывая на клюющего носом Петрушку, сидевшего на козлах рядом с кучером.
— Неплохо бы и того, передохнуть маленько, — продолжал Селифан, — а то кони совсем притомились; почитай, что всю ночь без роздыха...
— Хорошо. Как увидишь трактир или постоялый двор — сворачивай, — согласился Чичиков, снова откидываясь на кожаные подушки.
Вскоре и вправду показался у поворота на взгорье постоялый двор и, покрикивая на лошадей и щёлкая кнутом, Селифан заворотил коляску к нему. Въехав в ворота, Селифан приостановил экипаж, дав Павлу Ивановичу сойти, а затем, отъехавши в сторону, принялся распрягать лошадей.
Пройдя в общую залу, Чичиков потребовал подать ему чаю и на вопрос полового, не подать ли к чаю какой еды, ответил, что еды не надо, еда есть своя, на что половой несколько обиженно поджал губы, а Чичиков, не обратя на него внимания, велел Петрушке достать провизии из обильных платоновских припасов и принялся завтракать. У противоположной стены на длинном и затёртом до блеску диване сидел в тени, отбрасываемой ширмою, седой старичок в монашеском одеянии, рядом с ним находился молоденький служка с еле заметно пробивающимися юными усиками и бородою. Но и служка, и старичок сидели настолько тихо, так неподвижны были их прячущиеся в тени фигуры, что Чичиков поначалу и не приметил их вовсе. А приметивши, смутился, так как уписывал большой и сочный кусок ветчины с хреном, несмотря на бывший нынче постный день. И хотя старичок и не глядел вовсе на Павла Ивановича, и казалось, что взор его обращён куда—то внутрь самого себя, тем не менее Чичиков почувствовал смущение, будто пойманный за проказою сорванец. На старичке не было ничего из того, что говорило бы об его высоком сане и положении в церкви: только лишь простое чёрное платье да старинной работы серебряный крест на груди, но что—то волною исходило из того угла, где он сидел, заставляя робеть Павла Ивановича, который и в церковь—то наведывался от случая к случаю. И, кто знает, может быть, виною тому было то, что заметил он старичка со служкою вдруг, и показалось ему, будто они внезапно и бесшумно появились в тени у стены, точно два призрака. Но только Павел Иванович, давясь, проглотил вполовину прожёванный кусок и, сконфуженно, искоса поглядывая на старца, запил его стаканом чая. Поскорее покончив с завтраком, он решил не мешкая оставить залу, потому что проснулось в нём смущающее его чувство вины, и хотя он и говорил себе: "Экая провинность — поел скоромного...", но горькое чувство вины не оставляло. Испытывая неловкость, он пошёл прочь из залы, но неловкость была и в движениях его, и в лице, и в походке, и, уже подойдя к двери, он почему—то, сам не ведая почему, повернул назад и, подойдя к старичку, потупив глаза, произнёс, краснея:
— Благословите меня, батюшка.
И то ли из—за прекрасного утра, вставшего ему навстречу, то ли из—за приключений, бывших с ним в последние дни и оставивших мутный след в его душе, но Павел Иванович поклонился вдруг в ноги старичку, чувствуя, как предательски наворачиваются слёзы на глаза. Верно, увидел он неожиданно для себя те пропасти, что отделили его от той простой и прекрасной жизни, которою можно жить и которою жил этот старый святой человек, как чиста и незамутнена может быть она — жизнь человеческая, и сколько в ней может быть покоя и света, за которыми не надо носиться по городам и весям и которые всегда тут, рядом с тобою, надобно только поворотиться к ним лицом, а не бежать, гоняясь за миражами. Чичиков почувствовал, как на голову ему опустилась сухонькая рука, и от этого прикосновения пошли у Павла Ивановича по спине волною мурашки, он поднял красные от слёз глаза на старичка и увидел, что тот улыбается ему.
— Благословите, батюшка, — снова попросил он дрожавшим голосом.
— Не горюй, деточка, — тихо сказал старичок, — не горюй. Ступай тем путём, каким тебе предначертано. Иди и помни: нет ничего в мире, что творилось бы не по божьему соизволению, и чем сильнее болит твоё сердце, тем лучше, так ты научишься любить людей и тебя научатся любить, деточка. А сейчас иди и не бери грехов на душу.
С этими словами старичок перекрестил Павла Ивановича, и тот, испытывая и стыд от той сцены, причиною которой сам и послужил, и неизъяснимую лёгкость, поселившуюся где—то в груди, прошёл на двор и, велев Селифану запрягать через час, вышел за ворота постоялого двора, чтобы пройтись и продышаться. "Надо же, как нервишки—то поистрепались, — думал Чичиков, бредя вокруг забора, огораживающего постоялый двор. — Вот вам, батюшка Павел Иванович, кутежи по ночам! Вот вам карты да умыканье чужих невест!" — он почувствовал злость, поднявшуюся в нём и на Самосвистова, которого втайне всё же продолжал ещё побаиваться, и на Вишнепокромова, с которым вступил в сговор. В сердцах он поддал камешек, лежащий на идущей вдоль забора тропе, и тот словно в испуге запрыгал, прячась в утреннюю сырую траву. Ему уже было стыдно за только что бывший поступок, он представлял, как это должно было выглядеть со стороны и, не понимая охватившего его порыва чувств, понемногу начинал сердиться на себя, настроение его испортилось, а через час, когда кони несли его прочь от постоялого двора, он сердился уже и на благословившего его старца. "И тебя наконец полюбят, деточка", — мысленно передразнил его Павел Иванович и, ощутив толкнувшуюся в сердце злую досаду, сплюнул в придорожную пыль.
Всё дальше несли его кони, всё реже вставали леса вдоль дороги: поначалу они сменились перелесками, затем пошли отдельные рощицы, островками подымающиеся на широкой земной глади, но вскоре пропали и они, и коляска с красными спицами въехала в весеннюю степь, полную звенящих в траве насекомых и порхающих над ними бабочек, разлитого вокруг горячего травяного духа и пения невидимых в голубизне распахнувшихся над степью небес, крылатых певцов. Куда хватало глазу — была степь и вид этого разметавшегося от краю до краю, волнующегося травами, точно морскими волнами, пространства поселяли в душе опасливое и в то же время весёлое, бесшабашное настроение. И Чичиков понемногу, но отошёл от недавней бывшей в его сердце досады, потому как перед ним без границ простиралась земля, в которой можно было укрыться без следа и от насмешек, и от опасности, и от обид, и то утреннее, возникшее в нём чувство воли проснулось вновь в его душе, и он с удовольствием, подставляя лицо лёгкому, пахнущему травами, ветру и слушая дробный топот впряжённых в коляску коней, достал из платоновского сундука различной снеди, решив подкрепиться в пути, даже и по той причине, что ему не удалось утром как следует позавтракать. Поев копчёного окорока с мягкими ещё шанежками, крутых варёных яиц и запив знаменитым платоновским, холодным с ночи, квасом, Чичиков повалился на бывшие у него за спиною кожаные подушки и, удовлетворённо рыгнув, отдался пищеварению.
Версты через три встретилась ему на пути деревенька о десяти дворах с покосившимся забором, с облезшими стенами крытых саманными крышами домиков, что глядели на путников подслеповатыми оконцами. Увидевши красивую коляску, все бывшие во дворах мужики повысыпали на улицу, чтобы поглазеть на редкий в этих краях дорогой экипаж, и при виде Павла Ивановича, важно восседающего на мягких сиденьях, стали кланяться ему в пояс. Чичиков велел Селифану остановиться, чтобы порасспросить о том, правильно ли они едут и не сбились ли с пути.
— Ну, что, любезные, — обратился он к столпившимся возле коляски мужикам, — кто знает, как мне проехать к помещику Гниловёрстову Фаддею Лукичу?
На что сразу несколько голосов забубнило, и сразу несколько рук замахало в направлении, где, надо думать, и проживал нужный Чичикову Фаддей Лукич. Сделавши из того вывод, что едут они правильно, Чичиков спросил:
— А далеко ли ещё ехать?
И опять тот же нестройный хор отвечал вразброд, что ехать недалече — версты две—три будет.
— А эта деревенька, чай, тоже ему принадлежит? — полюбопытствовал Чичиков.
— Ему, ему, — подтвердили мужики, и кто—то побойчее свою очередь, спросил:
— А ты, барин, как едешь — в гости али по делу?
— По делу, любезные, — отвечал Чичиков и уже было готовился отдавать Селифану приказание трогать, как последовал новый вопрос.
— А не из чиновников ли будешь, — спрашивал всё тот же бойкий мужичок.
— Из чиновников, — отвечал Чичиков, — а вам в этом что? — а сам эдак незаметно поправил бывшую тут же при нём и уже знакомую читателю большую саблю, которую возил он с собою больше для собственного успокоения, чем для дела. И то ли вид этой самой сабли, то ли известие, что он чиновник, едущий по делу к их барину, произвёл странное изменение в толпе окружавших коляску мужиков. Они враз заголосили жалобно и просительно, отвешивая поклоны в пояс и истово крестясь.
— Барин, голубчик ты наш, помоги, заступничек, спасу нет от злодея, — голосили они, — заступись, помоги, родимый, всех баб, почитай, к себе перетаскал, всех девок перепортил, — повторяли они на разные лады.
"Надо же", — подумал Чичиков, и в нём проснулся к господину Гниловёрстову жаркий интерес.
— Хорошо, посмотрю, что можно будет сделать, — сказал Чичиков и велел Селифану трогать. Коляска поехала вдоль улицы, сопровождаемая жалобными просьбами мужиков, и, подняв за собою облако пыли, покатила дальше в направлении, указанном рассчитывающими на справедливый суд мужиками.
Совсем скоро и вправду показались в отдалении жмущиеся друг к другу постройки. Ещё плохо различимые, они стояли кучно, и одна крыша, возвышающаяся над остальными, как догадался Павел Иванович, должно быть, принадлежала господскому дому. Подъехав поближе, Чичиков разглядел и сам дом, поразивший его какою—то, будто нарочно придуманною, некрасивостью. Его несоразмерная несуразность была такова, что вызывала у проезжающего мимо путника уныние и мысли о том как, верно, скучно живётся в этом доме его обитателям. Стены его были сложены из неоштукатуренного кирпича, частью пережжённого и горелого, и от того выглядели пятнистыми, местами горелый кирпич уже выкрошился и чёрные пятны на стенах дополняемы были щербинами и оспинами. Окна были маленькие, квадратные и настолько запылённые, что, казалось, их ни разу не протёрли с тех пор, как стекольщики вмазали в них стекла. В довершение картины вставали в глазах хилые деревца, коим предназначено было служить садом; деревца эти, несмотря на весну, были покрыты тусклою пыльною листвою, они не отбрасывали тени и, конечно же, не служили защитою от ветров, что носятся над степью. Но, несмотря на неказистость всей местности и самого дома, несмотря на явное запустение, бывшее вокруг, Чичиков почувствовал, что его охватывает некий азарт и предчувствие могущей быть здесь немалой поживы. Как у охотника, крадущегося по следу зверя, возникает в душе подобная уверенность в скорой добыче по одним только ему видным и понятным приметам, так и у Павла Ивановича глаз уже почти без ошибки различал то место, где имелась для него возможность продолжить с удачею своё предприятие.
Хотя коляска, подъехавшая к крыльцу дома, и произвела изрядный шум, тот, что обычно и производят подъезжающие экипажи, никто не вышел из дому встретить гостя: ни хозяина, ни слуг не было видно, и Чичиков, подумавши о том, что не перемерли, часом, здесь все, постоял у крыльца с минуту и видя, что никто нейдёт, сошёл с коляски и, не церемонясь, прошёл в сени. В доме было тускло и серо, некрашеные полы из обструганных досок были нечисты, по ним то тут, то там лежали лоскутки от бумажек, тесёмки, валялись оборванные пуговицы, прочая мелочь и просто сбившаяся комками пыль. По стульям, стоявшим как придётся, разбросано было платье, преимущественно женское, на столе оставались неприбранными стаканы с недопитым чаем, а в одном из стаканов даже плавала утонувшая муха.
— Эй, хозяева! Есть кто—нибудь?! — позвал Павел Иванович, но никто не отозвался на его призыв, тогда он, осмелев, прошёл через комнату и, приоткрыв дверь, пошёл тёмным коридором.
На дальнем его конце послышался протяжный скрип дверных петель, и Чичиков, не веря своим глазам, увидел, как, пересекая тёмный коридор, прошла из одной двери в другую совершенно голая баба. Баба то ли не заметила Павла Ивановича, то ли ей было всё равно, но только она, не пытаясь хорониться от его взгляда, прошла ленивою медленною походкою из одной комнаты в другую, а Павел Иванович замер на месте, не зная, как ему быть далее. Пускаться ли на рискованные поиски хозяина, либо возвратиться в неприбранную комнату, дожидаясь там, пока он сам как—нибудь не объявит о себе. Чичиков избрал второе, так как боялся стать свидетелем ещё какой—нибудь подобной сцены, и, хотя любопытство и разбирало его, он всё же вернулся в первую из комнат и, сбросив с одного из стульев бывшие на нём тряпки, уселся на него и принялся ждать. Прождавши ни много ни мало, а добрых полчаса, Павел Иванович начал проявлять нетерпение. Он выстукивал ногою по полу, щёлкал извлечённою из кармана серебряною с чернью табакеркой, а затем, заправив в нос изрядную понюшку, разразился чиханием того свойства и звука, которые уже не раз были описаны нами и вряд ли стоит вновь повторять ранее сказанное. И то ли благодаря этим редкостным по силе звукам, то ли по другой причине, но через несколько минут раздались в коридоре за дверью чьи—то шаги, и Чичиков встал со стула в ожидании того, кто должен был войти в комнату, с тем, чтобы отрекомендоваться. Его очень занимала фигура хозяина сего странного имения, особенно после явления, случившегося в коридоре и после тех жалоб, что выслушал он по дороге сюда. Павел Иванович ожидал увидеть кого угодно, даже входящего в комнату живого сатира с рожками и лошадиным хвостом, но человечек, вышедший из коридора, никак не соответствовал его ожиданиям. Он был лет пятидесяти, мал ростом и худ. Над узенькими плечиками поднималась на тоненькой шее небольшая круглая и плешивая голова, похожая на перевёрнутый вниз горлышком кувшин. Длинный нос свисал сливою, упираясь в хлипкие усы, закрывающие узенькую щёлку рта, в котором, как успел заметить Чичиков, имелись обширные прорехи меж зубов. Человечек этот в недоумении глядел на Павла Ивановича мутными зелёными навыкате глазами, белки которых были покрыты красною сеточкою. Брови он имел тонкие, удивлёнными дужками они наползали на лоб, который, если бы не плешь во всю голову, был бы довольно мал, о чём можно было судить по узенькой полосочке морщин и тому лаково поблёскивающему мысочку, у которого когда—то начинались волосы и который, если приглядеться, всегда заметен у плешивых. Увидевши Павла Ивановича, человечек вздрогнул от неожиданности, так что даже дёрнулись его несколько обвислые плоские щёки, придающие его и без того постному лицу совершенно унылое выражение.
— Кто вы? — спросил он голосом, в котором слышались нотки неподдельной настороженности и испуга. — Как вы здесь, милостивый государь? — остановившись точно вкопанный, проговорил человечек.
— Простите, а с кем имею честь? — склоняя вежливо корпус и строя любезную заинтересованность в чертах своего лица, в свою очередь спросил Чичиков.
И человечек, по—видимому решив, что любезный гость не опасен, назвался. Оказалось, что это и есть господин Гниловёрстов, тот самый, о котором слёзно просили Чичикова встреченные им по пути мужики, и к которому привёл его списочек, писанный, казалось бы так недавно, генералом Бетрищевым.
Павел Иванович поприветствовал, в свою очередь хозяина, назвав причину, которой был обязан он приятнейшему знакомству, и Гниловёрстов, услышавши имя Александра Дмитриевича, закивал радостно своею маленькою кувшинною головою, пригласив Павла Ивановича садиться, а Павел Иванович, подумавши про себя: "Что ж ты, братец, коли так пуглив, двери—то держишь нараспашку?" — сел на тот самый стул, с которого давеча скидывал чьё—то платье.
Гниловёрстов, извинившись перед Чичиковым за царящий в комнате беспорядок, и сославшись на то, что народ совсем от рук отбился, стал кричать через комнату, кликая неких Дуняшку с Парашкою, то и дело прибавляя к их прозвищам "подлых". Через минуту—другую подлые девки появились в комнате, и Чичиков почувствовал, как у него краскою заплывает лицо, ибо девки были статные да рослые и обе были, как мог судить Павел Иванович, в одних исподних рубахах, наброшенных на голое тело, так как не ожидали встретить никого постороннего. При каждом их движении обильные их округлости выпирали из—под тонкого холста, а бьющиеся друг об дружку большие белые груди и вовсе были видны в проймах рукавов и вырезах горловин. Ничуть не смутясь их видом, Гниловёрстов велел им прибраться самим и прибрать в комнатах, сославшись на присутствие Павла Ивановича.
— У нас гости, — сказал он почему—то во множественном числе.
Девки ушли, но через минуту воротились вновь, видно, считая что уже прибрались достаточно, так как на обеих были поверх рубах надеты нижние юбки да лифы, оставляющие голыми их полные руки и шеи. Прибирая в комнате, они украдкою бросали взгляды на Павла Ивановича, и взгляды эти, признаться, волновали нашего героя.
— Так, значит, говорите, за Тентетникова Андрея Ивановича нашу Ульяну Александровну выдают? — говорил Гниловёрстов, пытаясь поддержать разговор. — Знаю, знаю сего господина. Весьма престранный молодой человек. Хотя, надо признаться, не без образования, а в общем Ульяне Александровне можно было бы и иную партию приискать... Такая женщина! — продолжал он, поднимая глаза к потолку, и Чичикову показалось, будто бы набежала в прорехи между его зубами обильная слюна, но надо думать, что это ему лишь показалось. Согласившись с Гниловёрстовым, что Ульяна Александровна и впрямь женщина выдающихся достоинств, Чичиков перевёл разговор на другое, полюбопытствовав, где же люди и почему так пусто во дворе и в доме, на что Гниловёрстов ему отвечал, что у него многие в бегах, даже из дворовых, что хозяйство ведётся плохо и что единственная его радость это хор, который у него есть.
— Я ведь большой любитель хорового пения, — доверительно и как бы между прочим сознался он.
— А хор мужской или женский? — полюбопытствовал Чичиков, и тоже как бы между прочим.
— Женский, конечно же! — чуть ли не обиделся Гниловёрстов, — что проку—то в мужиках!
— Ну да, ну да, — согласился Чичиков, — что в них за прок.
И перед глазами у него вдруг, непонятно почему, встала виденная им в Тьфуславле афишка, висевшая подле театра, а в голове побежали строчкою слова "пленённые канарейки". Слова эти бежали точно бы сами по себе, а Павел Иванович снова подумал, что напрасно не сходил на представление. И тут он понял, чем расположить к себе Гниловёрстова, ибо "пленённые канарейки" оказались весьма кстати. Он тут же принялся расписывать и свою любовь к пению, а к женскому в первую голову, говорить об театре, который будто бы посещал ежевечерне, намекнул, весьма, впрочем, прозрачно, на якобы бывший у него роман с одною из актрис, чьего имени он, конечно же, не мог раскрыть, ибо оно известно было даже и в Петербурге, а как благородный человек он, понятно, не мог позволить огласки. Рассказывая всё это, Чичиков глянул на Гниловёрстова и, увидевши в его лице выражение, какое может иметь человек, только что отправивший себе в рот большую ложку чего—то необычайно вкусного и сладкого, чего он давно желал отведать, понял, что идёт по верному пути. Тут же присочинив пару сюжетов якобы виденных им пьес, он снабдил их некоторыми подробностями, от которых у Гниловёрстова стало в лице ещё слаще.
— А какой там хор, — разве что не сам разливался соловьём Павел Иванович, — какие хористки, а танцовщицы, танцовщицы какие, — говорил он, с томною негою возводя глаза. — Будете в Тьфуславле, Фаддей Лукич, обязательно вас со всеми перезнакомлю и уверяю — вам там очень понравится, да и вы всем понравитесь, ибо как может не понравиться столь тонкий ценитель, — сказал он многозначительно.
— Обязательно, обязательно приеду, — пообещал Гниловёрстов, делая задумчивое лицо, и Чичиков побоялся, что он и вправду приедет. А тот, помолчав немного, сказал вдруг, меняя тон на серьёзный:
— Кстати, Павел Иванович, не хотели бы послушать моего хора?
На что Чичиков развёл руками, точно осчастливленный столь щедрым предложением, и отвечал, что не смел и мечтать о подобном. Извинившись, Гниловёрстов оставил Павла Ивановича одного и, выйдя из комнаты, отправился давать указания. Минут через пять он явился вновь, заговорщицки улыбаясь и потирая худые белые руки, оплетённые синими жилами, пообещал: "Сейчас! Ещё пару минуточек!" И вправду, вскоре в комнату стали входить наряженные в расшитые узорами костюмы девки и бабы, общим числом около двадцати, и, выстроившись, принялись поглядывать на Гниловёрстова, видно, ожидая от него условленного знаку. А тот, усевшись рядом с Чичиковым, с радостным и торжественным лицом оглянулся на Павла Ивановича и затем, обратясь к хору, сказал:
— Ну, сахарные мои, давайте чего—нибудь позабористее, — и махнул рукой.
Подчиняясь этому его взмаху, заголосила вдруг одна толстая с мощным загривком баба, как Павел Иванович понял — солистка, и, дробно стуча ногами по полу, так что некрашеные доски его начали содрогаться, пустилась, расставив руки, в некое подобие пляски, по правде сказать, более походившее на топтание в одном месте. Она выкрикивала слова песни, кружась медленно вкруг себя, и остальные девки начали подкрикивать ей:
У меня, младой, свекровушка лихая,
Кривошлыка неприветливая.
Потом они все вместе дружно прокричали ещё несколько куплетов об гадкой свекрови, не дающей молодухе "гуляти, с младыми хлопцами играти", что, на взгляд Павла Ивановича, со стороны свекрови было вполне разумно. Песня закончилась и стало совершенно понятно, каков этот хор, но Чичиков тем не менее выразил своё восхищение, сказав, что не мог и рассчитывать на подобное удовольствие, а воодушевлённый его похвалами Гниловёрстов снова махнул рукою, давая разрешение на следующую песню, которая, надо думать, была шутливого характеру.
Что мужик то мой, горький пьяница
Он вина не пьет, с воды пьян живет.
С воды пьян живет, с квасу бесится —
Надо мной, младой, всё ломается,
— закричал хор, начиная притоптывать во все сорок своих ног, так что пыль в плохо прибранной комнате поднялась и поплыла густыми клубами в солнечных лучах, что проникали в дом сквозь маленькие квадратные оконцы. Павел Иванович, строя умилённые глаза, коими он глядел на топочущих баб, старался вбирать в себя как можно меньше воздуху, вдыхая его через нос маленькими глотками, дабы не надышаться пыли, а Гниловёрстов, не усидя на месте, подхватился и принялся приплясывать вместе со всеми, вихляя своим тщедушным телом, и маленькая круглая голова его моталась при этом из стороны в сторону, а изо рта показался розовый кончик высунувшегося от удовольствия языка. Наплясавшись, он плюхнулся на стоявший рядом с Чичиковым стул, и тот, несмотря на его маленький вес, всё же закачался и жалобно проскрипел.
— Хорошо! — сказал Гниловёрстов с растяжкой и каким—то ухарским тоном.
— Великолепно, — согласился с ним Чичиков.
Хор исполнил ещё несколько песен, Гниловёрстов снова прыгал меж наряженных баб, тряся плешивою своею головой и, видимо, напрыгавшись и немного притомившись, отпустил своих "певуний". Чичиков, глядя на его довольное, раскрасневшееся лицо, на капельки пота, проступившие на лысине, ещё раз высказал своё восхищение от увиденного и услышанного им, а затем, напустив заботливое выражение на лицо, сказал:
— Но ведь это, Фаддей Лукич, удовольствие недешёвое, тем более, как вы сами изволили говорить, при расстроенном имении; вам, должно быть, нелегко содержать такой хор.
На что Гниловёрстов отвечал, что да, оно, конечно же, так, но искусство для него превыше всего, и потом бабы эти и девки у него не только поют, они ещё и прислуживают и работают по хозяйству, но, конечно же, Павел Иванович прав — приходится нелегко.
— Тем более что у вас столько беглых, — сказал Чичиков сочувственно, — к тому же и мёртвые, наверное, есть.
— И не говорите, батюшка, — жалобно залепетал вдруг Гниловёрстов, — и не говорите. В прошедшем—то годе сколько перемерло, да и по этому году уже есть...
— А по ревизским сказкам, чай, все числятся как живые, — то ли утверждая, то ли вопрошая, проговорил Чичиков.
На что Гниловёрстов лишь обречённо махнул рукою и, поникнувши головою, изобразил всем своим видом ответ: дескать, да, так и числятся.
— Позвольте, любезный Фаддей Лукич, так что ж это выходит, ведь вам приходится и за беглых и за мёртвых подати в казну платить. Эдак и впрямь разориться можно, — как бы горячась и соболезнуя Гниловёрстову, проговорил Чичиков.
— Что ж тут поделаешь, — пожал плечами Гниловёрстов, — теперь уж придётся следующего года ждать. В этом—то уж проворонил с подачею ревизской сказки, — и он снова махнул рукою.
— Постойте, постойте, — в задумчивости поднося палец к губе, проговорил Павел Иванович, так, точно обдумывал некую только что явившуюся к нему в голову мысль. — Постойте... Знаете ли что, — продолжал он, — я думаю, можно вам помочь.
Гниловёрстов, сидевший с поникшею головою и изображавший собою уныние, тут поднял на Чичикова глаза и глянул с интересом.
— Да! Я знаю, как вам помочь, и к тому же, заметьте, хочу вам помочь, потому как вижу в вас родственную своей душу! Вижу знатока и ценителя! Вижу, каково приходится этому знатоку на его поприще, — говорил с жаром Павел Иванович. — Я хотел было предложить вам некую сумму, дабы вспомоществовать вам на вашем прекрасном пути, но не могу себе этого позволить, не хочу оскорбить вас подачкою.
Гниловёрстов собрался было уже произнести, что никакого оскорбления в этом не видит и что, пожалуйста, пусть Павел Иванович даёт эту самую сумму, он примет её и с удовольствием, и с благодарностью, но Чичиков жестом руки предупредил уже готовые было сорваться с его уст слова.
— Поэтому я придумал нечто иное, более достойное нас с вами, — сказал он. — Я, любезнейший мой Фаддей Лукич, освобожу вас от уплаты податей по ревизским сказкам, и это будет моё посильное участие в вашем благородном деле.
— Как это? Вы берётесь заплатить за меня? — спросил Гниловёрстов, не совсем ещё понимая дела.
— Да, берусь, — разве что не торжественно произнёс Чичиков. — А для того, чтобы всё это выглядело бы законно, готов переписать всех беглых ваших мужиков и все имеющиеся у вас мёртвые души на себя. Несите списки, — я готов хоть сейчас заключить на них купчую.
— Что ж, это значит, что вы мне за них и денег заплатите? — недоверчиво спросил Гниловёрстов.
— Могу и заплатить, — решительно мотнув головою и показывая этим жестом, что готов ради столь родственной души, которую он отыскал в Гниловёрстове, и на такие жертвы, сказал Чичиков. — По пяти копеек за душу. Кстати, сколько их там у вас?
Услышав о пяти копейках, Гниловёрстов хотел было торговаться, но потом, вспомнив обещание Чичикова поводить его по театрам и о том, что души все же мёртвые, и о податях, которые ему не придётся платить, согласился. Принесли списки, по коим набралось беглых и мёртвых душ более восьмидесяти, и Павел Иванович, вручив Гниловёрстову четыре рубля с двадцатью копейками и получив от него все необходимые бумаги, принялся собираться.
— Погодите, Павел Иванович, как же так, куда же вы собрались? Отобедайте хоть у меня, а уж потом и поезжайте, — стал уламывать его Гниловёрстов, на что Павел Иванович принялся говорить о множестве дел, которые должен успеть ещё переделать сегодня, но Гниловёрстов не отпускал, в качестве приманки выставив свой хор, обещая, что тот снова споёт им после обеда. Чичиков же был неумолим, делать ему здесь больше было нечего, он взял с Гниловёрстова всё, чего хотел, и потому, несмотря на нестихающие просьбы и уговоры хозяина, Павел Иванович раскланялся и укатил.
Выехавши за границы гниловёрстовского имения, Чичиков почувствовал лёгкость на сердце, в нём проснулось то весеннее настроение, какое бывает у школяра, отделавшегося от неприятного урока, свалившего его с плеч долой и имеющего теперь возможность насладиться открывающейся ему свободой. Он вновь с удовольствием подставлял лицо степному ветру, сдувающему с него остатки чего—то липкого, что, казалось, облепило всего Павла Ивановича, пока был он в доме у Гниловёрстова. Путь его лежал сейчас к последнему из означенных в списочке родственников генерала Бетрищева, жившему на самом краю губернии в крохотном уездном городке, до которого Павлу Ивановичу предстояло ещё мерять и мерять вёрсты. Солнце уже перевалило полуденную черту, и Чичиков велел Селифану поторапливаться, дабы добраться к месту до захода солнца.
Протрясясь ещё около двадцати с лишком вёрст по ухабам и рытвинам, из которых, казалось, и состояла вся здешняя дорога, путники наши въехали, наконец, в показавшийся Чичикову с первого взгляда весьма казистым и ладным городишко, обстроенный одними лишь деревянными домами, среди которых возвышалась каменным островом громада храма, сиявшего на солнце золочёным кружевом крестов, вкруг которых чёрными тучами кружили галки, то приседающие на купола, то вновь с гвалтом поднимающиеся на крыло, точно для того, чтобы разогнать царящую в городке скуку; и то дело, было на что поглядеть. Других каменных построек в городке не было, видно, городские обыватели по сию пору свято соблюдали указ великого Петра. Несмотря на лежащие вокруг степи, городок этот утопал в зелени, все улицы в нём обросли густыми деревами, благодаря, как говорили люди знающие, обильным водам, залегающим под городком. Воды эти будто бы обладали целебною силою и будто бы хотели даже открыть в городке курорт на манер европейских, но, как всегда, у нас многого хотят, но малого достигают, так что целебную воду пили одни лишь дерева, служившие пристанищем многочисленным галкам, так самоотверженно развлекающим местных жителей, да козы, коровы и прочий скот по криницам.
Выспросив дорогу, наш герой в сопровождении верных Селифана и Петрушки подъехал к гостинице и, въехавши на гостиничный двор, оставил Селифана управляться с лошадьми, а сам в сопровождении поспешающего за ним, нагруженного пожитками Петрушки, прошёл в дом, с тем, чтобы снять комнату для ночлега. Гостиница эта представляла собою стоящий покоем большой бревенчатый дом о двух этажах, обитый крашеными серою краской досками и крытый железною крышею. Одним словом, обычная гостиница уездного городка, которые во множестве разбросаны по всей Руси.
Комната, доставшаяся Чичикову, тоже была одной из той немалой тысячи комнат, похожих одна на другую, точно две капли воды. Стены в ней были обклеены кремовыми, кое—где лопнувшими обоями в мелкий цветочек, перемежаемый полосами и змейками, у стены стояла тёмная деревянная кровать с одной подушкою, стол — придвинутый поближе к окну, висело над комодом зеркало в раме из мелких зеркалец, выложенных мозаикой, белый, шитый красными нитками, утиральник, не вполне чистый, если как следует приглядеться, свисавший со вбитого в стену гвоздя.
Велев Петрушке распорядиться вещами, Павел Иванович сел к столу и, поставив перед собою шкатулку, стал неспешно извлекать из неё бумаги, что—то выписывая на отдельный листок, что—то откладывая в сторону. Чем больше записей появлялось на листке, тем довольней становилась улыбка у Павла Ивановича. "Получается, — думал он, — получается. Ещё немного, и наберётся заветная тысяча душ. Нет, не буду этого оставлять, не буду! Всё остальное тоже, своим чередом. И оттого не оставлю. И как оставить, когда столько трудов положено, столько дорог изъезжено..." Не раздеваясь, он повалился на кровать, захрустевшую под ним соломенным тюфяком, и, не выпуская листка с подсчётами, отдался размышлениям. Точнее сказать, это были не вполне размышления. Мысли, бывшие у него в голове в сей момент, были того рода, какие бывают, когда говоришь себе: "Я делаю то—то и то—то, а затем..." — и начинаешь придумывать то, что будет затем. Так что это были одновременно как бы и мечты, но не мечты сами по себе, а привязанные накрепко к тому предмету, которому Павел Иванович отдавался в последние годы. В мечтах его вновь, в который уже раз, появилась красивая бабёнка, но теперь она очень уж смахивала на Улиньку, потом забегали, заскакали маленькие, как чертенята, Чичонки и возник вдруг недостроенный хлобуевский дом, в купленном недавно Павлом Ивановичем имении, дом этот точно по волшебству стал изменяться, изгибая линии своих карнизов, обрастая лепными узорами, покрываясь белым, сияющим на солнце, железом, вокруг него сами собой разбились клумбы с дивными цветами, и кто—то бегал между клумб, кого уже Чичиков не мог разобрать, бегавший мельтешил перед глазами, и тут Павел Иванович увидел, что это мельтешит вовсе не кто—то бегающий, а красные спицы коляски рябят и мелькают в глазах. В коляске сидела молодая красивая женщина. Она протягивала к нему руки и молила спасти. Он хотел было помочь ей, но потом вспомнил, что это моховская дочка, и решил махнуть на то рукой. Тут, словно бы в награду за такое его решение, появился откуда—то сбоку, точно вполз, хор во главе с Гниловёрстовым, но хор этот почему—то ничего не пел, а смотрел на Чичикова голодными волчьими глазами, какими могут смотреть на поживу восставшие из могил мертвецы. Молчаливый хор притоптывал ногами и поднимал вокруг такую пыль, что Павел Иванович не мог уже и дышать; уже казалось ему, что вот сейчас он умрёт, задохнувшись от натолкавшейся в горло пыли, и вдруг, точно предсмертное видение, возникло лицо святого старца, и старец, глядя пристально на Павла Ивановича, проговорил: "Так и будет, пока не проснёшься". А затем принялся трясти его за плечо ласковою рукой, приговаривая: "Проснитесь, Павел Иванович, проснитесь..."
Чичиков открыл глаза и, увидев, что лежит, уткнувшись лицом в подушку, понял, что от этого так трудно и было ему дышать. Он почувствовал, что его и впрямь кто—то трясёт за плечо, и услыхал голос Петрушки, произносивший над ним:
— Проснитесь, Павел Иванович, проснитесь, а то с ужином опоздаете.
Чичиков, пружинисто привскочив, сел на кровати и увидел, что по сию пору сжимает в пальцах листок с расчётами. Он снова улыбнулся, фыркнул и, прогоняя последние остатки сна, затряс головой, а затем, сложив бумаги и заперев шкатулку, отправился ужинать.
Ужин он покончил в десятом часу, за окном к этому времени стало совсем темно, и Павел Иванович решил повременить с визитом до завтра, дабы не плутать в потёмках по незнакомому городку в поисках родственника его превосходительства генерала Бетрищева. Делать ему было нечего, и поэтому он снова отправился спать, но, улёгшись, всё ворочался в постели, вспоминая давешний вечерний сон и привидившегося ему старца, говорившего Павлу Ивановичу что—то, чего он сейчас уже не припоминал. Павел Иванович долго не мог уснуть и поэтому на следующее утро проснулся поздно, когда солнце стояло уж высоко. Настроение у него было вялое, он позавтракал без аппетиту и, выйдя из гостиницы, отправился наносить визит.
Поколесивши по улицам и улочкам городка в поисках нужного ему дома, Павел Иванович отметил про себя, что улицы в городе были ухоженные и посыпанные крупным песком, что вдоль домов шли аккуратные деревянные тротуары, кое—где даже отгороженные от проезжей части перильцами, дабы неосторожный пешеход не угодил бы под колёса проезжающего экипажа, что, как и в Тьфуславле, центральная площадь и здесь была вымощена отёсанным в бруски булыжником, и что дома вдоль улицы стояли хоть и деревянные, но были и в два этажа, и что, окромя собак да кошек, у которых, кстати сказать, был очень довольный и сытый вид, иной скотины на улице не попадалось вовсе, как это часто бывает в прочих уездных городах: то увидишь свинью, млеющую в придорожной луже, то корову, украшающую улицу своими зелёными лепёшками; и из чего Павел Иванович вывел, что городской голова, должно быть, строг и следит за порядком, и даже будочник, у которого выспрашивал он дорогу, вдруг стал требовать с него подорожную, и он насилу отбился от того, говоря, что едет не на почтовых, а на своих лошадях.
Деревянный дом, к которому они подъехали, стоял на одной из узеньких зелёных улочек, что, змеясь, отходили от центра городка и, переливаясь одна в другую, вели к самым городским окраинам. Дом этот, обросший со всех сторон вишнями, был стар, так что кое—где стены его успели даже позеленеть от времени, а местами и подгнить, крошась мелкою жёлтою трухою. Выйдя из коляски и подойдя к забору, отгораживающему дом, Павел Иванович увидел, как вдруг полетела из чердачного окошка белая стая голубей, раздался звонкий свист, словно бы подстегнувший стаю, так что белые птицы рывком метнулись в сторону, а затем на пологий скат крыши выбрался маленького роста старичок с развевающимися на воздухе седыми волосами и, отчаянно замахав шестом с привязанною на конце тряпкою, принялся гонять голубей, заставляя их всё выше и выше уходить в голубой небесный простор.
Привстав на цыпочках, может быть, для того, чтобы дальше было слышно, Чичиков окликнул размахивающего шестом старика.
— Прошу прощения, любезнейший, — прокричал Чичиков по направлению к старичку, — где я мог бы видеть господина Громыхай—Правило Николая Андреевича, статского советника?
Чин этот был выше, чем у Чичикова, и потому он не забыл присовокупить его. Старичок, вероятно, догадавшийся, что издаваемые приятной наружности господином крики относятся до него, покончив махать шестом и приложив на манер тугоухого лодочкою ладонь к уху, спросил:
— О чём вы, милостивый государь? Простите, но тут не совсем слышно.
И Чичиков, снова привстав на цыпочки и опёршись об забор, прокричал свой адресованный старичку вопрос во второй раз.
— Я перед вами, милостивый государь, — ответил старичок, приветливо улыбаясь Павлу Ивановичу, — а по какому, собственно, поводу я вам понадобился? — спросил он, и видно было, что ему не хочется слезать с крыши, на которую он только что взобрался.
— Ваше высокородие, — обратился к нему Павел Иванович сообразно его чину, — я к вам с поручением от его превосходительства генерала Бетрищева, вашего племянника, — снова прокричал он, а сам подумал: "Вот старый чёрт, хоть бы спустился бы, что ли". Но произошло совсем противуположное: услыхав имя генерала Бетрищева, старичок просиял улыбкою и сказал:
— Ах, от Сашуры! Ну, так что ж вы там стоите, милостивый государь, полезайте сюда, полезайте. А то я ведь птицу не могу без присмотра оставить, враз сманят разбойники.
"Вот так комиссия", — подумал Павел Иванович, в чьи намерения вовсе уж никак не входило лазание по крышам, но тем не менее, сделав несколько надменное лицо, он прошёл в дом, показавшийся ему совсем уж простым для отставного статского советника, и по приставной лестнице полез на крышу. "Интересно, чем же это он в должности занимался?" — думал Чичиков, поднимаясь с перекладинки на перекладинку и неодобрительно оглядывая остающуюся внизу скромную обстановку, столь обычную для домов, в которых живут старые холостые мужчины, не придающие большого значения удобствам, и которым кровать нужна лишь для того, чтобы спать на ней, значит, подойдёт и простая железная, без амуров, витых колонок и резных украшений, а стол нужен для того, чтобы есть или писать, сидя за ним, а значит сгодится и самый что ни на есть простой, лишь бы был о четырёх ногах. Но Павел Иванович считал подобное отношение к жизни и вещам грубым и неделикатным и потому никак не мог одобрить увиденное им.
На чердаке, куда взобрался Павел Иванович, не сменяющий надменности в лице, было сумрачно и пахло птичьим помётом, хотя здесь и было довольно чисто, и по выметенному дощатому полу лежало мелкое голубиное перо. Чердак был заставлен рядами ящиков, сколоченных на манер этажерок, в которых помещались гнезда голубей, а в иных сидели и сами голуби, как Павел Иванович догадался — наседки. Пройдя по направлению к светлому полукружию слухового окна, он, слегка покряхтывая, вылез—таки на крышу и, чувствуя под ногою тонкое погромыхивающее железо, осторожно, чтобы не полететь вниз, подошёл к приветливому старичку, с улыбкою глядящему на Павла Ивановича, у которого, помимо воли, надменность в лице сменилась на вполне искренний испуг.
— Ну здравствуйте, милостивый государь, — проговорил старичок, протягивая ему маленькую тёплую руку. — С кем имею честь беседовать? — спросил он, заглядывая в глаза Павлу Ивановичу своими чёрными и, как показалось Чичикову, необыкновенно живыми для его возраста глазами. Павел Иванович пожал предложенную ему руку и назвался, не позабыв ни чина, ни звания, в котором оставил службу, ни того обстоятельства, что нынче он являлся уже помещиком соседней губернии.
— Вот и хорошо. Вот и хорошо, — кивая головой и слушая вполуха, говорил старичок, украдкою помешивая шестом в воздухе. — Вы уж меня, любезнейший Павел Иванович, простите, что принимаю вас на крыше, но мне птицу оставить никак нельзя, — говорил он жалобно доверительным тоном. — Уж очень много охотников до моих голубей. Ведь они у меня, почитай, лучшие во всём городе, если не в уезде, — продолжал он, шевеля шестом. — Вон там, — кивнул он головою в сторону, — от меня через три дома тоже голубятня, так он, подлец, уже столбянку выстроил, ждёт, точно коршун, поживы. Уже двоих гонных от меня сманил и турмана, бесовское отродье, — говорил он, горячясь, — управы на них нету...
Чичикову, который с голубями встречался только за столом, в виде жаркого или суфле, непонятна была ни его горячность, ни тревога, но он не подал виду, а лишь молча, точно соглашаясь с Николаем Андреевичем, кивнул головой.
— Ну всё, любезный Павел Иванович, ещё чуток и всё, — сказал Николай Андреевич, — а то всё взаперти держу, ровно в тюрьме, пусть разлетаются, крылья разомнут. — Он ещё пару минут посвистал, помахал шестом, а затем, решивши, что хватит его питомцам носиться под синими небесами, извлёк вдруг из—за пазухи, совершенно неожиданно для Павла Ивановича, голубку и, зажав её в горсти, стал водить рукою, словно описывая восьмёрки.
— Это пара моего вожака, — сказал он, — сейчас и он, и вся стая тут будут.
И вправду, в считанные мгновения послышался вокруг свист и хлопанье многих крыл, и птицы, точно сыпавшиеся с неба, садились и на скат крыши, и на её конёк, иные усаживались на плечи своего хозяина, а один большой с чёрными отметинами голубь даже попытался умоститься на его голове, но Николай Андреевич пустил голубку внутрь чердака, и голуби вслед за нею потянулись к окошку, исчезая в сумраке, царящем под крышей.
Громыхай—Правило пролез в окно вслед за своими питомцами, помогая Павлу Ивановичу проделать то же. И Павлу Ивановичу пришлось ещё раз слегка покряхтеть, по той причине, что ему, признаться, немного мешал живот. Он надеялся, что вот хотя бы сейчас они спустятся наконец вниз, но не тут—то было. Громыхай—Правило ещё битых полчаса возился подле своих птиц, задавая им корму и воды и расписывая Чичикову их достоинства и стати. Мы не станем докучать читателю пересказом всего услышанного и увиденного Павлом Ивановичем здесь на чердаке, тем более что это ему было мало интересно, и все эти чистые, синехвостые, редкохвостые, все эти скобунчики, взлизастые да чагравые смешались у него в голове и запомнился лишь один голубь, названный Николаем Андреевичем вишнепокромой — за кайму бурого цвета, идущую по крыльям, ну, а запомнился — известно по какой причине: тем, что живо напомнил Чичикову об закадычном друге Варваре Николаевиче. Но наконец Николай Андреевич завершил перед Павлом Ивановичем представление своих питомцев, показав напоследок голубёнка, который, по его словам, составит целую эпоху в российской голубиной охоте, но Чичиков не сумел разделить его восхищения, ибо такого уродливого существа никогда в жизни не видывал и даже не подозревал, что голубята столь некрасивы. И лишь после этого закончилось терзание Павла Ивановича грохочущим под его ногою железом, опасною высотою, кислым, въедающимся в платье запахом голубиного помета. И, сойдя с приставной лестницы и ступив на твёрдый, из крашеных досок, пол, он вздохнул с облегчением. Но в душе у него тем не менее поселилось дразнящее, неизвестно откуда взявшееся чувство — что его взяли вдруг да и одурачили. Он сердился на себя за то, что точно мальчишка полез на крышу, послушавши выжившего из ума старикашку, да ещё и с такой фамилией "Громыхай—Правило", подумал Чичиков, с усмешкой вспоминая свою прогулку по самосвистовской псарне и того пса с несколько подпорченной репутацией, который на бегу, по выражению Модеста Николаевича, "громыхал правилом".
"Надо будет спросить у него, как бы между прочим, откуда у него такая фамилия", — подумал Чичиков, представляя, как смутит этим старика, и чувствуя от того густое злорадство. А Николай Андреевич между тем провел Чичикова в комнаты, уже известного читателю, крайне скромного виду и, указав на простенькие старые кресла, предложил садиться.
— Скоро должна вернуться сестра, — сказал он, по обыкновению приветливо улыбаясь, — вот она нас и напоит чаем, а вы, Павел Иванович, покамест расскажите мне о себе, расскажите, с чем пожаловали в наш город?.. — и он ласково дотронулся до его коленки.
Чичиков, слегка прочистив горло, и раз—другой дохнув через носовые ноздри, так как всё мерещился ему ещё преследующий его запах птичьего помета, принялся за рассказ. Хотя Николай Андреевич и не вызывал в Чичикове особой симпатии, он тем не менее постарался придать своему лицу наилюбезнейшее выражение и, усевшись в стареньком, скрипнувшем под ним креслице наискосок, с подворачиванием одной ноги под другую, стал говорить о том, каково ему приходилось в жизни и сколько пришлось претерпеть, сравнил себя с уже так хорошо знакомой нам баркою, а затем перешёл, собственно, на генерала Бетрищева, столь много ему, как он говорил, благотворившего и даже спасавшего от смерти, когда враги смели покушаться даже на самое жизнь его. При этих словах Чичикова Николай Андреевич несколько откинулся в своём кресле, и в чертах лица его появились и удивление, и искренняя обеспокоенность за судьбу Павла Ивановича; вероятно, он подумал о том, что же может случиться, если враги вновь попытаются покуситься на жизнь Чичикова, а его отважного племянника не окажется рядом. Он попросил было Павла Ивановича остановиться на этих случаях поподробней, но Чичиков был не в ударе и поэтому не особенно был расположен сочинять. Посему он отделался от этой просьбы Николая Андреевича, сославшись на то, что ему, дескать, и трудно, и больно вспоминать о бывших с ним подобных происшествиях.
Пока Павел Иванович рассказывал всю эту свою присказку, слова которой уже словно сами собой срывались с его языка, безо всякого с его стороны усилия мысли, в комнату неслышною походкою вошла маленькая старушка, почти точная копия Николая Андреевича, и Чичиков догадался, что это и есть его сестра, которая и должна была напоить их обещанным чаем. Вскочив с кресла, он подошёл к ручке Капитолины Андреевны, как звали госпожу Громыхай—Правило, и был в свою очередь представлен ей Николаем Андреевичем. Узнавши от Чичикова новость, с которою он до них приехал, старушка очень обрадовалась, затем немного всплакнула и об Улиньке, и об её покойнице матери, а потом отправилась помогать накрывать на стол, так как в доме была всего одна прислуга, старушка ещё древнейшая, нежели её господа. Павел Иванович же, воспользовавшись её отсутствием, завёл разговор о том, каково родство, в коем состоят Николай Андреевич с генералом Бетрищевым, а затем свернул с этой темы на фамилию господина Громыхай—Правило, говоря, что фамилия двойная и, видать, очень уж аристократическая, а сам, негодный, ожидал конфуза со стороны бедного старичка, но ожиданиям его не суждено было сбыться, так как вместо конфуза Николай Андреевич чрезвычайно оживился и пустился в столь длинные и горячие изыскания в своей родословной, которая, как выходило, вела своё начало напрямую от Рюриковичей, что, впрочем, нынче не редкость не только среди потомственного, но даже и среди личного нашего дворянства, что Чичиков успел пожалеть об неосторожности задать ему подобный вопрос, потому как приветливый старичок уж очень настойчиво доказывал Павлу Ивановичу свои древние и славные корни, то и дело повторяя:
— Нет, я вижу, вы не верите!
На что Чичиков говорил, что не видит причины не верить, и старичок, ненадолго успокаиваясь, начинал говорить вновь для того, чтобы через минуту опять обвинить Павла Ивановича в недоверии, так что Чичикову поминутно приходилось клясться и уверять Громыхай—Правило в том, что он не только верит всему, но, более того, слушает с огромным интересом, что вновь воодушевляло старичка, и он говорил, говорил и говорил без умолку. Уже и чай был выпит, и варенье к чаю съедено, а он всё рассказывал о каком—то воеводе, которого за громкоголосость прозвали — "Громыхаем", и о некоем князе, который, само собой, за что—то героическое получил прозвище "Правило", а у Чичикова всё стоял перед глазами остроносый, с выгнутою спиною и подмоченною собачьей репутацией пёс из самосвистовской псарни. День уже совершенно склонился к вечеру. Солнце, почти совсем скрывшееся из глаз, бросало свои прощальные лучи, длинными жёлтыми полосами пробивавшиеся сквозь чёрную по вечеру листву дерев, и свет его яркими пятнами ложился на стены домов и заборы. Облака, ползущие у горизонта, уже отсвечивали всеми цветами от лилового до розового, а само небо имело несколько зеленоватый с голубизною оттенок. Досада и разочарование, которые возникли у Чичикова после того, как он спустился с чердака, опять проснулись в нём. Он вновь почувствовал себя одураченным, так как сумел выведать у господина Громыхай—Правило всё, из чего, собственно, и слагался его интерес к этому маленькому приветливому человечку. Чичиков выяснил, что небольшое бывшее у них с сестрою имение давным—давно было уже заложено ими, и что они, не имеющие прямых наследников, проживали эти, нельзя сказать чтоб очень большие, деньги, которых тем не менее вполне должно было хватить обоим старикам до конца жизни.
— Ну, а если останется что, то тому наследники сыщутся, — говорил Громыхай—Правило, беззаботно улыбаясь.
"Ах, старый чёрт! — во второй раз ругнул его про себя Павел Иванович. — И ведь неплохую, кажись, должность занимал, неужто на взятках разжиться не сумел? — думал он, украдкою в который раз оглядывая скудное убранство комнаты. — И мне проку никакого: всё давным—давно заложено. Ах, старый чёрт, старый чёрт!" Посидев ещё какое—то время, которого требовало приличие, Павел Иванович встал и принялся откланиваться.
— Павел Иванович, вы ведь издалека, вам бы отдохнуть не мешало, оставайтесь, места хватит, — говорил Громыхай—Правило, и сестра его, улыбаясь такою же, как у брата, приветливою улыбкой, тоже просила Чичикова остаться, но Павел Иванович, поблагодарив, отказался, как всегда в таких случаях, сославшись на бог знает какие якобы бывшие у него дела. Уже поздно ввечеру, сидя в гостиничном номере, который он снял, Чичиков ещё раз вспомнил Николая Андреевича и снова помянул его "чёртом", а в душе его вновь поднялась досада и чувство, будто маленький и счастливо улыбающийся, приветливый старикашка посмеялся над ним и обманул.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Посмотрим же теперь, что происходило во всё то время, что Павел Иванович был в отъезде, навещая родственников генерала Бетрищева и обделывая по мере возможностей свои делишки. А события в эти без малого четыре недели его отсутствия случились немалые. И главные из них были два — похищение дочери помещика Мохова, произведённое неизвестными злоумышленниками, кстати сказать, по сию пору не найденными, и второе, что тоже всколыхнуло всю губернию — вступление в должность нового губернатора — Фёдора Фёдоровича Леницына, что для многих не явилось такою уж неожиданностью, и по случаю чего был дан бал в дворянском собрании и большой праздничный обед, во время которого новый губернатор с губернаторшей сумели польстить и понравиться бывшим на обеде, и о них у присутствовавших за праздничным столом сложилось очень выгодное мнение. Дамы сочли, что новый губернатор и строен, и умён, и хорош собой, о чём, собственно, мы уже имели возможность сказать в предыдущих главах, и о нём в кружке дам говорилось не иначе, как о "душке"; что касается губернаторши, то и она заслужила их благосклонность, и несмотря на то, что её нельзя было назвать ни красивою, ни даже чересчур привлекательною, а, может быть, именно и поэтому наши дамы решили между собой, что и она весьма недурна. "Есть в ней что—то истинно петербургское", — говорили дамы, тем самым возводя молодую губернаторшу в некий особый, высший разряд. И господам, бывшим в дворянском собрании, новый губернатор также пришёлся по душе: и тем, что был очень мил и уважителен с губернским предводителем, в чём они усмотрели уважение с его стороны ко всем дворянам губернии, и тем, что сумел в немногих словах дать почувствовать и сидящим вокруг стола помещикам, и чиновничеству, и бывшим на обеде лицам из купеческого сословия, что правильно видит дело, за которое придётся ему взяться, и потому промеж господ говорили про нового губернатора, что он "дельный человек"; что касается до его супруги, то об ней присутствующие в дворянском собрании мужчины ничего определённого не говорили. И правильно, в конце концов это дело мужа думать, какова у него жена.
Генерал—губернатор, бывший на бале, сказал приличествующую случаю речь, где упомянул об молодой крови, кою необходимо влить в немного одряхлевшие жилы губернии. Он поздравил Леницына с вступлением в должность, станцевал с губернаторшей первый вальс, но к обеду не остался, уехав к себе, чем способствовал укреплению и без того уже прилепившейся к нему репутации высокомерного и гордого до спесивости человека. Репутацией этой князь во многом обязан был прежнему, ушедшему на покой губернатору, Аполлону Христофоровичу, о котором мы уже упоминали мельком на этих страницах и который не любил князя, видя в генерал—губернаторе лишь помеху в своей разносторонней деятельности; упомянув об разносторонней деятельности Аполлона Христофоровича, мы, дорогой и догадливый читатель, имели в виду именно то, что в сей момент пришло тебе на ум, но в то же самое время мы не можем не признать, что, к примеру, те самые полверсты мощёной дороги, столь украшающие славный город Тьфуславль и по которым с таким удовольствием недавно прогуливался наш герой, появились благодаря стараниям Аполлона Христофоровича. Правда, по бумагам почему—то значилось, что построена была верста "брусчатой мостовой дороги", и это, конечно, могло бы вызвать некоторое недоумение и кривотолки, но лишь у людей, не знающих грамоту и необразованных арифметически, ибо каждый, кто подобно Павлу Ивановичу имел удовольствие прогуляться по мостовой в обе стороны, проходил именно версту, в чём очень просто было убедиться. А так как князь не желал вникать в подробности арифметических головоломок, с таким успехом разрешаемых Аполлоном Христофоровичем, то, само собой, об нём и сложилось мнение, говорящее не в его пользу, как о человеке заносчивом и гордом. Но нынче генерал—губернатор, столь рано покинувший дворянское собрание, проделал это не по своей, ставшей уже притчей во языцех, заносчивости, всё дело было в его озабоченности делами, творившимися в губернии, к которым, кроме обычных уже историй со взятками и мелкими потасовками, изредка происходившими между лавочниками или же между работным людом, прибавилось ещё из ряду вон выходящее событие, которым было похищение дочери мелкопоместного дворянина Мохова, помещика одной из двух вверенных генерал—губернатору губерний. В скором времени предстоял князю отчёт по министерству, а докладывать об этом деле в том виде, в каком оно пребывало сегодня, он не видел никакой возможности. Та единственная бывшая улика, щегольская коляска с красными колёсами, которую уже, почитай, три недели стерегли по всем крупным дорогам губернии, точно в воду канула. Да и поиски её не привели ни к чему. Похожая на описанную коляска якобы имелась у богатых помещиков братьев Платоновых, и поначалу следствию показалось, что оно вышло на верный след, потому как оба брата были люди неженатые, но потом выяснилось, что коляска ими была одолжена задолго до имевшего место похищения некоему господину Чичикову Павлу Ивановичу, который, по уверению братьев, был вовсе не тот человек, способный похищать девиц, к тому же ехал он якобы по поручению его превосходительства генерала Бетрищева до его родственников. Упоминание об генерале Бетрищеве несколько досадило князю, ибо он знал, что бывший его однокорытник недолюбливает его, считая штабной крысой и может быть немного завидуя его сегодняшнему положению. Со своей стороны, генерал—губернатор тоже немного завидовал Александру Дмитриевичу, ибо тот был по—настоящему прокурен порохом в двенадцатом годе и, стало быть, — герой, что вызывало к нему немалое уважение со стороны местного дворянства. Но как бы там ни было, он попросил полицмейстера и прокурора дать ему сведения на "этого Чичикова", и сведения, полученные им через несколько дней, немало озадачили князя. По ним выходило, что Чичиков этот весьма почтенный человек, скупивший в губернии душ на немалую сумму и поместье стоимостью в тридцать тысяч в придачу, так что по бумагам получалась сумма общим числом более ста тысяч рублей, но, с другой стороны, на стол генерал—губернатору легли сведения и об иных сторонах жизни того же Чичикова, и вся история с испанскими баранами, наряженными в тулупчики, тоже была тут, в поданных ему бумагах. "Экая птица залетела в губернию!" — подумал генерал—губернатор и велел Чичикова Павла Ивановича, как он появится, задержать и препроводить к нему для допроса.
Павел Иванович же, не чуя поджидающей его беды и выполнив поручение, данное ему Александром Дмитриевичем, решил не спешить и, возвращаясь назад, останавливался в тех местах, где заставала его либо ночь, либо потребность в отдыхе, на день, на два, а то и на все три дня. Везде он предпринимал известного рода шаги к продолжению своего дела, но, к прискорбию для него, шаги эти по большей части были неблагоприятны, так что за всё это время, в две недели, сумел он приобрести у дряхлой, полоумной старушонки помещицы всего лишь девять мёртвых душ, да и то по той простой причине, что, услыхав о такой просьбе, исходящей от приятного с виду, попросившегося на постой гостя, старушонка сочла, видать, его за чёрта, пришедшего забрать её грешную душу, и стала выть и бухаться Павлу Ивановичу в ноги, взвизгивая по—поросячьи, когда Чичиков пытался было поднять её с колен. Ей, бедняге, наверное, казалось, что он вцепляется ей в плечи, с целью чтобы тащить в преисподнюю. К счастью для Чичикова, бывшие в доме приживалки ничуть не удивились подобным её поведением, потому, как надо думать, привыкли к её чудачествам.
"Ну ладно, чёрт так чёрт", — подумал Чичиков и сказал, что в обмен на её душу хочет получить от неё купчую на мёртвые души и доверенное письмо к ним. На чём и сладили. Но Павлу Ивановичу, несмотря на спускающийся из—под небесного купола вечер, пришлось уезжать на поиски какой—нибудь гостиницы или постоялого двора, где он и заночевал, дабы с полоумной помещицей не случилось бы, того и гляди, сердечного припадка. Так что в Тьфуславльскую губернию, которую Чичиков уже начинал почитать своею и из которой выехал под покровом мутной весенней ночи, Павел Иванович воротился уже ярким летним утром и, решив позавтракать, велел Селифану остановиться где—нибудь у придорожного трактира.
Трактир не заставил себя долго ждать и вскоре возник у дороги, в сопровождении нескольких тополей, вытянувших вкруг него серебристые свои свечи. Отдавши распоряжение рябому лицом трактирному слуге относительно завтрака, Чичиков уселся за стол и принялся ждать заказанных блюд, вовсе не обратя внимания на странные взгляды, какие бросал на него толстый буфетчик из—за буфетной стойки. А тот подозвал зачем—то полового и, поглядывая на Павла Ивановича, рассеянно глядящего в окно по причине бывшего у него благодушного настроения, стал что—то жарко говорить слуге на ухо, и половой, сделавши круглые глаза от услышанного, кивнул несколько раз головою и куда—то вышел из залы, явно поспешая и снимая фартук на ходу. Павел Иванович же, увидевши, что завтрака не несут дольше, чем обычно, стал сердиться, благодушное расположение его духа почти что совсем улетучилось, и, захлопав ладонью по скатерти, он стал кликать трактирного слугу. Но на зов его заместо полового явился вышедший из—за стойки буфетчик и, улыбаясь приятнейшею из улыбок, объявил, извинившись, что завтрак ему тотчас будет подан, и предложил за счёт заведения, дабы умилостивить обижающегося посетителя, рюмку хереса. "Из самого Кадикса", — сказал толстый буфетчик, поднося Павлу Ивановичу вина. Павел Иванович выпил, похвалил херес и, сказавши, что это, конечно, хорошо и в отношении пищеварения, поинтересовался, однако, когда же будет завтрак, на что буфетчик, уверив его, будто завтрак вот—вот подадут, тоже сам вышел из залы. Павел Иванович прождал ещё минут пять и собрался было уже уходить, но тут, точно по команде, занавеска, ведущая на хозяйскую половину, откинулась, и к нему с подносом заспешил слуга, правда, не тот давешний рябой, а сытый и гладкий малый. И Чичиков наконец—то смог приступить к завтраку. Но и тут стало делаться непонятное: закуски подавались одна за другой с большим перерывом времени, опорожнённые тарелки не спешили убираться со стола. Стакан вина, как показалось Павлу Ивановичу, нарочно был разлит по скатерти, и пришлось сменять и саму скатерть, и приборы на столе. Одним словом когда дошло до чаю, то от благодушного настроения Павла Ивановича не осталось и следа, и он дал себе слово, что если придётся когда ещё проезжать мимо этого трактира, то он в него уж ни ногой. Ну, а чаю ему не удалось попить вовсе. Только Павел Иванович надкусил пирожное и собрался было поднесть ко рту стакан в серебряном подстаканнике, как вошли в залу трое жандармов, бряцая шпорами на высоких сапогах, с прыгающими в такт шагам лошадиным хвостам на шляпах и с длинными, чуть ли не до земли, прямыми широкими палашами, висевшими на боку у каждого. Водительствуемы они были всё тем же толстым буфетчиком, забегавшим несколько боком перед жандармами и тыкавшим коротким указательным пальцем в сторону Чичикова.
— Они—с, как есть они—с, — говорил буфетчик, заискивая перед жандармами и вертя в руках квадратик бумаги с оттиснутыми на нём буквами. — И колёсы у коляски красные, и сам в точности, как здесь пропечатано, — продолжал он, встряхнув бумажкою.
К немалому удивлению Чичикова, жандармы прошли к его столу, и, видать, старший из них, козырнув двумя пальцами, спросил у Павла Ивановича его паспортную книжку, и Павел Иванович, так и застывший с надкусанным пирожным и поднесённым ко рту чаем, вдруг заволновался, так что пирожное выпало у него из пальцев, а чай заплескался в руке.
— А в чём, собственно, дело, господа? — спросил он неуверенным голосом, переводя взгляд с одного жандарма на другого, на что те ничего не ответили, а бывший у них за старшего вновь в вежливой форме повторил свою просьбу касательно паспортной книжки, и Павел Иванович, не обтерев крема, оставленного на пальцах выпавшим пирожным, полез во внутренний карман сертука за своим бессрочным паспортом.
— Ну, что ж, милостивый государь, вы—то нам и нужны, — сказал старший жандарм, пряча чичиковский паспорт к себе за полу мундира, — потрудитесь, пожалуйста, следовать за нами, — и он жестом показал в сторону двери, ведущей на улицу, как бы говоря, куда Павлу Ивановичу надобно следовать, а два других жандарма, обнажив свои палаши, стали с боков, позади стула, на котором сидел вконец потерявшийся Павел Иванович.
— За что, господа, скажите хотя бы, Христа ради, что я такого сделал, что вы меня вот эдак... — проговорил Чичиков трясущимися губами, не решаясь даже и произнесть слова "арестовываете", потому как, с одной стороны, считал, что арестовывать его не за что, а с другой, боялся накликать беду.
На что старший жандарм отвечал ему, правда, уже не козырнув, как в первый раз, и Павел Иванович счёл это дурным знаком, что ничего сказать не может, а только велено господина Чичикова Павла Ивановича задержать и доставить лично к генерал—губернатору, на что губернским жандармским управлением получено свыше предписание, и дрожавшего всем телом Чичикова, под довольные взгляды выстроившихся точно на параде половых во главе с толстым буфетчиком, препроводили на улицу. Чичиков было шагнул к своей коляске, предполагая ехать на ней, но две твёрдые руки взяли его под локотки с обеих сторон и повели к чёрной и мрачной карете, что стояла поодаль. Чёрная карета была запряжена чёрными же лошадьми, и оттого виду неё был страшен и от неё за версту разило опасностью.
У Чичикова при виде этой кареты упало сердце, ноги под ним обмякли, и он, обернувшись через плечо, чуть ли не плача, возгласил, обращаясь к своим людям:
— Петрушка, Селифан, поезжайте за мною! Видите, что с вашим ба... — но ему не дали договорить. Два жандарма впихнули его внутрь кареты, третий уселся на козлы, рядом с кучером, и Чичикова повезли. Внутри кареты тоже было черно, в ней была устроена как бы клетка, в которую безмолвствующие жандармы втолкнули бедного Павла Ивановича, заперев его на большой амбарный замок.
Совершенно убитый свалившимся на него происшествием, Павел Иванович тем не менее попытался выведать у жандармов свою вину, но те не обращали на него никакого внимания и, покуривая трубки, переговаривались между собой так, словно Чичикова и не было здесь вовсе. Тогда Павел Иванович, несмотря на путавшиеся в голове от волнения мысли, попробовал было сообразить, в чём, собственно, могло заключаться его преступление, за которое уже, можно сказать, посадили его под стражу, точно какого татя, но ничего кроме мёртвых душ не приходило ему на ум. Что касается сделанного Самосвистовым похищения моховской дочки, то оно мало тревожило Чичикова, может быть, оттого, что похищение делалось без него, он в это время отсиживался на квартире у Красноносова, а что красные колёса коляски могут быть уликою в этом деле, он, признаться, не подумал, и главное, отчего Чичиков был так спокоен на счёт похищения, состояло в том, что Самосвистов с девицею были давно уже обвенчаны и, по расчётам Чичикова, должны были уже открыться старику Мохову.
Но ещё целых два дня пришлось промаяться Павлу Ивановичу неведением относительно вменявшейся ему вины, ибо и путь до Тьфуславля был не близкий, и в кабинет к генерал—губернатору попал он не сразу по приезде, а лишь на следующее утро, успев—таки переночевать в остроге, где бедному Чичикову не удалось даже поспать, потому что он так и не рискнул прилечь на грязную, засаленную постель, боясь набраться насекомых. Всю ночь просидел он у стола на шатком табурете, изредка поклёвывая носом, а больше жалея себя, поскуливая в кулак да размазывая слёзы по лицу. Глядя в пыльное зарешеченное окно острога, он вспоминал и другое, с самого его раннего детства запечатлённое в сердце, мутное оконце, которое постоянно стояло перед глазами у маленького Павлуши, послушно выписывающего нескончаемую пропись: "Не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце", за которой часто следовало дранье за уши со стороны слабого и болезненного его отца, может быть, таким вот образом вымещавшем на безответном ребёнке недовольство жизнью и своею безысходной бедностью.
Утром загромыхали запоры дверей каморы, и надзиратели, сдав нечёсаного и небритого Павла Ивановича жандармам, готовым препроводить того к генерал—губернатору, захлопнули за ним ворота острога, но бедный Павел Иванович не знал, надолго ли они захлопываются за ним. В сопровождении двух жандармов был он доставлен к генерал—губернаторскому дому, в правом крыле которого располагалась канцелярия генерал—губернатора. В приёмной, где мелькали расторопные молодые люди с сурьёзными лицами, он был обсмотрен и опрошен одним из них, вписавшим его фамилию, прозвище и звание в большую прошнурованную книгу в кожаном переплёте с тиснённым на ней золотым двуглавым орлом, и затем препровождён в большую залу, где вдоль стен сидели посетители, дожидаясь своего череда на приём у князя. Секретарь князя, тоже молодой и сурьёзный разве что не до сумрачности господин, узнавши у вошедшего с Чичиковым жандарма, кого тот привёл, вдруг оживился в лице и, произнеся: "Ах, так это вы и есть, милейший!" — прошёл в кабинет к князю, и Чичиков, у которого зуб на зуб не попадал, и тряслись все поджилки, услышал, как из—за притворенной двери донёсся гневный голос:
— Ведите мерзавца сей же час!
Услыхав такое об себе из уст сановной особы, Павел Иванович побелел лицом, и чувство его было близко к чувству человека, над головой которого уже занесён топор палача.
Секретарь, вновь появившийся в зале, извинился перед дожидавшими своей очереди просителями, сказав: "Прошу прощения, милостивые государи, но велено привесть вот этого господина", — и он без церемоний указал пальцем на Чичикова, которому было уже не до того, указывают на него пальцем или нет, настолько был он напуган предстоящей аудиенцией.
— Что ж, входите, князь ждёт вас, — сказал секретарь ледяным тоном, и Чичиков почувствовал, как его вдруг всего проняло потом, как потекло по лбу, взмокло в подмышках и на спине, и он, нетвёрдо ступая и почти не дыша, чувствуя резь в животе, прошёл в высокие дубовые двери.
Кабинет князя был невелик, он весь был заставлен шкафами, полными нумерованных книг и портфелей с бумагами. На стене, глядя в лицо входящему, висел портрет государя императора во весь рост, а внизу под портретом, за резным письменным столом с разложенными по зелёному сукну книгами, пакетами донесений и прочими бумагами, восседал черноволосый с проседью человек в придворном мундире и при звезде. Лет он был пятидесяти пяти, был худ, с резко выступающим крючковатым носом на костистом лице, чёрные глаза его, горящие точно угли, буравили несчастного Чичикова, запнувшегося и замешкавшегося у порога, и он медленно и жёстко проговорил:
— Извольте подойти к столу, милостивый государь.
Глядя на его крючковатый, как у ястреба, нос, на топорщащиеся под ним закрученные кверху усы, Чичиков затрепетал так, будто и впрямь попался в когти хищной птице, готовой в клочья растерзать его бедную трясущуюся в страхе плоть. Еле двигая ногами, точно сомнамбула, он прошёл к столу, всё так же обливаясь потом, не в силах отвести взгляда от прожигающих его чёрных глаз.
— Я здесь... Всё... Уже идё... Тут... Вот... Ваше сиятельство... — лепетал Чичиков, делая какие—то непонятные движения руками, точно показывая на что—то, бывшее в стороне и помешавшее ему сразу же подойти к столу.
— Итак — Чичиков Павел Иванов—сын? — начал князь, заглядывая в какие—то лежащие перед ним бумаги.
— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал Чичиков, хотевший было присовокупить "не извольте беспокоиться", но вовремя поймавший себя за язык. "Надо успокоиться", — сказал он себе, так как понял, что сейчас пойдут вопросы, а отвечать на них надобно не впопыхах, дабы не наговорить лишнего.
— Какова цель вашего посещения нашей губернии? — снова спросил князь, поднимая на Чичикова глаза, и Чичиков дрожащим голосом, но всё же пытаясь совладать с собой, отвечал, что цель его самая что ни на есть мирная — осесть в этих краях насовсем, заделавшись помещиком, для чего им, собственно, и приобретено имение у дворянина Хлобуева Семёна Семёновича. Он нарочно упомянул лишь об имении, ни словом не обмолвившись насчёт приобретённых им крепостных душах, про которые очень легко было выяснить, что они мёртвые.
— Так что же вы, сударь, приехавши сюда с "самой мирной целью", занимаетесь тем, что по вашей милости из домов девицы пропадают, что вы сиротите родителей и сеете горе?!, — прихлопнув в сердцах рукою по столу, вскричал князь, и Чичиков, не ожидая этого его крика, вздрогнул и вдруг сильнее прежнего съёжился и, заламывая руки, заплакал, запричитал в ответ.
— Это не я, ваше сиятельство, это они, а я в это время на квартире... А это они... Я не виноват, ваше сиятельство. Запутали, заставили, окаянные... Принудили, ваше сиятельство... На квартире!.. — плакал он.
Глядя на него, генерал—губернатор чувствовал брезгливость, как человек, который увидел пред собою гадкого извивающегося червя либо пиявку, лопнувшую от крови ея жертвы, но в то же время он чувствовал и успокоенность от мысли, что моховская дочка наконец сыскалась и можно со спокойною душою садиться за отчёт по министерству. Признаться, он и не рассчитывал на то, что Чичиков так сразу выложит всё, потому как, читая бывшие у него на столе бумаги, касающиеся подвигов нашего героя на радзивилловской таможне, сложил об нём несколько иное представление. Вновь обратясь к горько плакавшему Павлу Ивановичу, генерал—губернатор заговорил уже другим, сдержанным и деловым тоном.
— Я вас, сударь, обещаю вам, упеку в каторгу, и вы у меня пойдёте по этапу в самую Сибирь. А об том, кто вас заставил и принудил, расскажете суду. А сейчас будете давать показания обо всём этом деле и назовете сообщников.
Произнёсши это, князь позвонил в колокольчик и, глядя на вошедшего секретаря, сказал коротко и не обращая внимания на содрогающегося в рыданиях Павла Ивановича:
— Препроводить в полицейское управление.
А Чичиков, услыхав про суд и поняв, что сейчас его поведут в тот самый острог, в котором он уже провёл одну ночь, бросился в ноги князю и принялся плакать пуще прежнего.
— За что, ваше сиятельство, за что, ведь это же Самосвистов с Кислоедовым! За что же меня? Не погубите, ваше сиятельство, Христом Богом молю. Ведь там всё было по закону, и в церкви в тот же вечер обвенчались, потому искушения в этом никакого нету. А что до остального — я не знаю, ваше сиятельство. Я на квартире был, а потом пребывал в отъезде, ваше сиятельство. За что же так—то меня казнить, за что губить жизнь мою, ведь я всё же дворянин, а не пёс, ваше сиятельство, — не переставая плакал Чичиков.
— А это, милейший, это! — повысив голос, сказал князь, потрясая бумагами, рассказывающими об проделках Павла Ивановича с испанскими баранами. — Как это согласуется с вашим дворянством, как эти ваши, с позволения сказать, поступки согласуются с ним? И не я должен помнить об вашем дворянстве, которым вы теперь прикрываетесь, а вы — не забывать об нём, когда пускаетесь в свои предприятия и забавы! — продолжал князь.
— О чём вы, ваше сиятельство? — вздрагивая и проливая слезы, спросил Чичиков, глядя на мелькающие в воздухе страницы, которыми потрясал князь.
— Об ваших баранах, милейший. О баранах, которых вы нарядили в тулупчики и гоняли туда и обратно через границу, — ответил князь, швыряя бумаги на стол. — Удивительно, как это вас тогда ещё не заслали в Сибирь? Ну, да ничего, следствие разберётся.
— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — с новой силой закричал и заплакал Чичиков. — Так я ведь по тому делу уже ответил, ведь всё подчистую в казну вернул до последней копейки. Не для себя старался, а ради семьи, ваше сиятельство, ради детей малых на такое пошёл, не губите, ваше сиятельство, не оставляйте детей сиротами при живом отце, — несмотря на испуг, врал Чичиков.
— Хорошо, где содержится моховская дочка? — спросил князь, не сменяя суровости в лице и продолжая буравить Чичикова глазами.
— Госпожа Самосви... сви... свистова на ква... квартире у Крас... но... но... носова, вместе с супругом от ба...ба... батюшкиного гнева хо... хоронятся, — всхлипывал Чичиков, не забыв, однако, подчеркнуть, что моховская дочка вовсе как бы и не моховская дочка, а законная супруга Модесту Николаевичу Самосвистову, и коли хоронятся они вдвоём на чужой квартире, стало быть, и умыкание проводилось по сговору и никакого похищения не было, и, надо признаться, эта его уловка возымела действие. Генерал—губернатор, несмотря на свой вспыльчивый и горячий нрав, был, тем не менее, человек справедливый. Он вовсе никого не хотел губить и, никому не желая зла, часто даже закрывал глаза на иные дела чиновников, резонно замечая себе, что если карать их за каждую копейку, полученную с просителей, то вскоре город, а то и губерния останутся вовсе без чиновничества, и тогда замрёт делопроизводство, которое князь почитал основной пружиной, движущей государство. Поэтому слова, сказанные Чичиковым, несколько поубавили его гнев, и он, подумавши, что и вправду за баранов сей рыдающий пред ним господин уже расплатился, а по поводу моховской дочки всё тоже не так просто, как кажется, и если она действительно сочеталась законным браком с господином Самосвистовым, то тут и предъявить, как говорится, нечего. Но для острастки вслух произнёс, обращаясь к секретарю:
— Проверить всё насчёт моховской дочки и доложить сегодня же, а над этим господином учинить следствие. — Секретарь послушно склонил голову, а Чичиков, услышавши про следствие, заплакал вновь, размазывая слёзы по щекам. — Прекратите ломать комедию, сударь, — строго прикрикнул на него генерал—губернатор. — Как пакостить да злокозничать, так у вас духу хватало, а нынче, когда пришло время отчёт держать, вы и раскисли. Стыдно, любезнейший, и не по—мужски, — и он зыркнул на него глазами.
— Не сажай...ай...те в острог, ваше сиятельство! Что угодно, но только в острог не сажай...ай...те...е...е! — подвывая, выводил Чичиков, снова валясь в ноги к князю, и тот испытал, как в нём опять поднимается брезгливое возмущение против этого человека.
— Возьмите с него расписку об невыезде за пределы губернии, — приказал он, обращаясь к секретарю, а затем, переведя свой взгляд на Чичикова, сказал: — Я слыхал, вы близки с генералом Бетрищевым, вот у него и сидите до конца следствия по вашему делу, а в городе чтобы и духа вашего не было. Задержите его, пока не проверите насчёт моховской дочки; пошлите сей же час кого—нибудь на квартиру к Красноносову, и пусть проверят правильность его слов, — сказал князь, вновь обернувшись к секретарю, и прибавил, точно бы говоря сам с собой: — И здесь без этих господ не обошлось, — вероятно, имея в виду Самосвистова и его ближайшую компанию.
Через два часа Чичикова отпустили, — на его счастие, как выяснилось, молодая госпожа Самосвистова оказалась счастлива в браке, и здесь вышло совсем по той поговорке, где говорится, что "стерпится — слюбится". Поэтому Самосвистов самолично приехал в канцелярию к генерал—губернатору, где все его очень хорошо знали и встретили приветливо. Увидев сидящего в приёмной зарёванного Чичикова, он бросился к нему и, обнявши, расцеловал, и Чичиков тоже бросился к Самосвистову на грудь, ибо это был, пожалуй, единственный во всём этом большом доме человек, который относился к Павлу Ивановичу с сочувствием и симпатией. Самосвистов проведён был к генерал—губернатору так же, как и Чичиков, вне очереди, но в отличие от Павла Ивановича пробыл в кабинете у князя недолго, и, разумеется, из—за дверей кабинета не раздавалось никакого рыдания. Минут через пять он вышел, всё так же улыбаясь, и, молодцеватою походкою подойдя к Чичикову, сказал: "Всё, Павел Иванович, едемте", — и, взявши его под руку, провёл на улицу, где Чичикова уже ждала платоновская коляска с верными его Селифаном и Петрушкою. Переговорив накоротке, они решили, что Павлу Ивановичу сейчас и вправду лучше ехать к Александру Дмитриевичу, тем более что сам генерал—губернатор определил ему там место временного пребывания.
— А мы здесь что—нибудь для вас придумаем, — сказал Самосвистов Чичикову. — Я теперь ваш должник на всю жизнь, Павел Иванович. Вы просто не представляете, как я счастлив и благодаря вашему участию. Так что не беспокойтесь зря. Всё уладится, это я вам твёрдо обещаю.
После таких его горячих заверений Чичиков почти совсем успокоился и, распростившись с Модестом Николаевичем, в сопровождении жандарма отправился в имение его превосходительства генерала Бетрищева, чей дом на время должен был стать для Павла Ивановича местом заточения. Дорогою невесёлые думы посещали Павла Ивановича, он в который уж раз роптал на судьбу свою, проделывающую с ним всякие чудеса. "Вот и теперь, с этим дурацким похищением, с этою дурацкою свадьбою вышло то же. Самосвистову, который, можно сказать, всё это проделал, ничего, и Кислоедову, и Красноносову — ничего, и даже Варвар Николаевич, который первым высказал эту идею и подначил всю подвыпившую компанию, тоже вроде бы ни при чём. Одному мне — кнут, мне — розги и Сибирь. За что, за что же мне такое счастье?" — думал Чичиков, сморкаясь после недавнего обильного слёзоизвержения. Он понимал, что дела его скоро могут стать совсем плохи и князь, если захочет, сможет добиться нового расследования, казалось бы, давно уже похороненного и забытого дела, и тогда он, так ловко увернувшийся в прошлый раз из—под уголовного суда, не избегнет наказания. Заверения, данные ему Самосвистовым и поначалу немного успокоившие его теперь казались Павлу Ивановичу пустыми. Он думал, что Самосвистов говорил это просто ради того, чтобы приободрить его, и поэтому чем дальше уезжал Павел Иванович от города, тем беспокойнее становилось у него на душе. Чичиков думал, что именно сейчас ему, как никогда, надо быть в Тьфуславле, что сам он многое бы успел по своему делу, а так, будучи отделён от имеющих до него касательство событий и доверившись третьим лицам, он заранее был обречён на неудачу. Но скакавший рядом с коляской жандарм при ружье и со знакомым уже Чичикову палашом, бьющим жандарма по ляжке, исключал всякую для Павла Ивановича возможность к возвращению в город. Ведь даже на робкую попытку Чичикова попроситься заехать ненадолго в имение к Платоновым, мимо которого они проезжали, с тем чтобы вернуть братьям коляску, наделавшую в судьбе Павла Ивановича столько бед, жандарм бросил коротко и сухо: "Не положено", — и, даже не глянув на Павла Ивановича, продолжал свою скачку вровень с проклятою коляскою.
Так что ехали они, можно сказать, не останавливаясь, и уже ввечеру коляска Павла Ивановича въехала в липовую аллею, превратившуюся вскоре в улицу овальных тополей, ведущих к генеральскому дому, и, увидя сквозь чугунные завитки ворот приветливо глянувший на него знакомый фронтон о восьми коринфских колоннах, наш герой приободрился, и робкая, пока ещё неясная надежда поселилась в его душе.
Павел Иванович поспел как раз к ужину. Его превосходительство в обществе Тентетникова и Ульяны Александровны сидели уже за столом, как тут возникла пред их глазами печальная сцена: Чичиков в сопровождении жандарма, при виде генерала ставшего "смирно", как истукан с выпяченными, точно у рака, глазами. Сидевшие за столом встрепенулись было и с радостью, первым порывом поднявшись со стульев, бросились навстречу Павлу Ивановичу; и впереди всех, конечно же, поспешал генерал, но радость их тут же сменилась недоумением при виде усатого и обвешанного вооружением пугала с лошадиным хвостом на голове. Увидивши же лицо Павла Ивановича, бледное и расстроенное вконец, со слезами, стоящими у глаз, они и вовсе потерялись, не зная, что и подумать.
— Павел Иванович, любезнейший, да что это с вами? — заботливо приобнимая его за плечи и лобызая, проговорил Александр Дмитриевич, а Павел Иванович, обнявшись и с Тентетниковым, подошёл к ручке Ульяны Александровны и дрогнувшим голосом проговорил:
— Под арестом, ваше превосходительство! Точно какой злодей. До конца следствия должен безвыездно находиться у вас, под вашу ответственность, — при этом тон его выдавал недоумение, которое он якобы и сам испытывал по поводу всего происходящего.
— Постой, братец ты мой, как это под арестом, да за что, я тебя спрашиваю? — опешил генерал, и лицо его стало покрываться пятнами. — Что ж это, братец, — с каких это пор стали вы благородных людей без разбору хватать? — напустился он на лупающего глазами и старающегося не дышать жандарма. — Вы что же там себе думаете, что на вас управы, что ли, нету? Да я вас всех там в бараний рог скручу! — кричал генерал, потрясая кулаком, на что перепуганный таким наскоком жандарм только лепетал: "Не могу знать" да "не могу знать" — полузадушенным голосом и протягивая его превосходительству пакет с письмом, подписанным самим генерал—губернатором. Александр Дмитриевич вскрыл пакет, хрустнув сургучной печатью, и, читая письмо, несколько раз дёрнул головою, саркастически при этом усмехаясь.
— Ну хорошо, братец, можешь идти, — сказал он жандарму несколько уже иным тоном. И тот, откозыряв, повернулся на каблуках и марш, марш вышел из дому.
— Чушь какая—то получается, — сказал генерал, касаясь пальцами лба, как бы подчёркивая этим жестом, что никак не может взять в толк того, что написано в письме. — Ладно, давайте—ка все к столу, господа, а то "на голодный желудок ложиться, может жид присниться", а ты, Павел Иванович, садись подле меня и рассказывай, что это за расследование, которое "он" назначил? — его превосходительство с таким нескрываемым презрением произнёс "он", что присутствующим стало ясно, об ком идёт речь.
— Ох, Александр Дмитриевич, Александр Дмитриевич, я и выразить не могу, в каком я замешательстве, — начал Чичиков, разводя руками. И Тентетников, и Улинька глядели на Павла Ивановича с искренним состраданием, на обоих молодых лицах читались без труда и боль, и волнение по поводу приключившейся с Павлом Ивановичем беды. А Чичиков, видя направленные к нему дружеские взоры, растрогался, расчувствовался, и слёзы, всё стоявшие у него в глазах, потекли тут двумя обильными ручьями по небритым щекам. Он рассказал всю историю с похищением моховской дочки, немного её, изменив, и теперь выходило, что Самосвистов заранее сговорился обо всём с девицею, пошедшею супротив воли сумасброда отца, а он, Павел Иванович, попал на зуб князю оттого лишь, что молодые, кстати обвенчанные, хоронились месяц от старика Мохова, боясь его преследований.
— Вот я и вышел виноват, — говорил Павел Иванович, сморкаясь, — ведь коляска моя была, по коляске и опознали. И всё потому, что я бескорыстно помог двум любящим сердцам объединиться, не в силах видеть страдания Модеста Николаевича. Так что ж, может быть, меня и за Ульяну Александровну с Андреем Ивановичем тоже надо к суду? Ведь я и к этому руку приложил!.. — вновь пускаясь в три ручья, говорил Чичиков, которого сейчас не смущало даже присутствие Улиньки в столовой.
— Каков подлец! — в сердцах проговорил Александр Дмитриевич. — Я всегда говорил, что он подлец, — не унимался он, имея в виду, конечно же, генерал—губернатора. — Ну хорошо, только я не вижу, что тут можно расследовать, когда всё и так ясно, да и молодые обвенчаны, в чём тут преступление? Ну, старику отцу не нравится наш Модест, кстати, хорош бездельник, — сказал генерал, помянув племянника, — ну и что от того, что старику шлея... ну если он капризничает, — сбился генерал, поглядев на Улиньку, — так что ж из—за этого, хватать людей, предавать суду? Нет, милостивые государи! Не выйдет! Я тебя, Павел Иванович, в обиду не дам, и не расстраивайся ты так — всё будет хорошо.
И тут Чичиков решился слегка приоткрыть причину, по которой генерал—губернатор хотел вести расследование. Он подумал, что так оно будет лучше, если известие о подоплёке всего дела расскажет он сам, а не то генерал Бетрищев, вздумавши вступиться за Павла Ивановича, наткнётся вдруг на этих злосчастных испанских баранов, и тогда неизвестно, чем это ещё всё обернётся. Дождавшись окончания ужина, он подошёл к генералу Бетрищеву и, понизив голос, заговорил.
— Ваше превосходительство, хотел бы с вами словом перемолвиться, тет—а—тет, если вы, конечно же, не возражаете.
— Конечно же, не возражаю. И, знаешь что, братец, прекрати ты меня "вашим превосходительством" звать, я ведь уже говорил, что для тебя я Александр Дмитриевич, — и, изобразивши деланную суровость, генерал пошёл с Чичиковым в кабинет.
В знакомом уже тебе, читатель, кабинете он усадил Павла Ивановича в кресло и, набив себе трубку, уселся сам.
— Ну, давай, рассказывай, что там ещё у тебя, — сказал он, добродушно улыбаясь и с причмокиванием раскуривая длинную трубку.
Павел Иванович, сделавши в лице задумчивость, кашлянул несколько раз и, возведя глаза к потолку, будто ища там слов, с которых надо бы начать своё признание генералу, заговорил.
— Даже не знаю, с чего и начать, — сказал он, горько махнувши рукою. — Там, в столовой, в присутствии наших молодых, мне было немного неловко, вот поэтому я и решился потревожить вас, ваше... Александр Дмитриевич. Дело же состоит в том, что, как я себе представляю, пока они стерегли эту чёртову коляску, то послали запрос касательно меня, а я должен признаться вам, что уже был раз под следствием, но было это, Александр Дмитриевич, уверяю вас, Господом Богом клянусь, по молодости лет. Обнесли меня, запутал чёрт—начальник, статский советник, и подставил потом под следствие, но невиновность моя уже из того видна, что я—то был прощён, даже до суда не дошло, а он сам угодил под уголовный суд, и где он сейчас, что с ним, я даже не ведаю, да, признаться, и ведать не хочу. Вот это самое бывшее когда—то дело, которое уже быльём поросло, и об котором и думать давно все позабыли, и хочет "он", — Павел Иванович в подражание генералу тоже выделил голосом "он", имея в виду князя, — и хочет "он" снова разворошить и меня, невиновного, что уже и было доказано расследованием, сослать в Сибирь, в каторгу, неизвестно почему, может быть, даже и по той причине, чтобы досадить вам, зная нашу с вами дружбу. А что, очень даже может быть, мне стоило только раз его увидеть, как я тут же понял, что этот человек способен пойти на всё что угодно...
Тут генерал, внимательно слушающий Чичикова, прервал его рассуждения о злокозненности князя и сказал просто, но довольно серьёзно:
— Ты, братец, хотя бы расскажи, в чём дело—то заключалось и что ты там натворил—то по молодости лет?
На что Чичиков, смутясь, начал рассказывать всю эту историю с баранами, конечно же, всячески выгораживая и обеляя себя, отведя себе самую неприметную роль во всём этом приключении: чуть ли не тулупчики застёгивал на брюхе у баранов, вот, мол, и вся его вина. Во время всего его рассказа, довольно живого и красочного, генерал сидел точно в рот воды набравши, и по мере того как Павел Иванович говорил, глаза его делались всё удивлёнее и удивлённее, пока не превратились в два совершенных пятака, а лицо при этом всё больше наливалось краскою. И при последних словах Павла Ивановича он вдруг разразился таким хохотом, что всё слышанное Чичиковым ранее не могло идти ни в какое сравнение с этими звуками, ну разве только лишь сморкание самого Павла Ивановича могло составить им соперничество.
— Ах—ха—ха—ха! — разрывался генерал. — Ах—ха—ха—ха, скажи, ха—ха—ха, скажи, братец, ты — ха—ха—ха—ха — нарочно, что ли, такое придумываешь? Ха—ха—ха—ха! Нарочно, что ли, ха—ха—ха, уморить меня, ха—ха—ха, хочешь? — и он, не в силах остановиться, хватаясь за живот, корчился в кресле в полном изнеможении, содрогаясь от накатывающего на него хохота.
Приободрённый таким отношением генерала, Павел Иванович и сам принялся слегка подхихикивать ему, но выходило это всё довольно кисло, да и мина у него тоже была кислая.
— Вольно вам смеяться над моею бедою, — сказал Павел Иванович с жалобною улыбкою, — а ведь этот ястреб меня враз сожрёт и не подавится. Что я супротив него — букашка!
— Как, как ты сказал, — встрепенулся генерал, — ястреб? И точно ястреб! — сызнова разразился хохотом генерал. — И точно ястреб! Нос! Нос—то, как у яст... Ха—ха—ха—ха! — и, похохотав ещё вволю, он вдруг уселся в кресле прямо и с торжественностью продекламировал только что пришедшую ему в голову эпиграмму, которых адресовал своему бывшему сослуживцу уже немало. Блестя слезящимися от смеху глазами, он произнёс:
Вид у птицы ястребиный,
Только жаль, что мозг куриный!
И снова засмеялся собственной шутке. Чичиков вторил ему, и настроение его понемногу улучшалось, он подумал, что, может быть, не всё так уж печально, коли у его превосходительства приключившаяся с ним история вызывает не обеспокоенность, а смех.
— Ну что, каково? — спросил Александр Дмитриевич у Чичикова и вновь прочёл вслух эпиграмму, точно смакуя её, и, решив, что она хороша, сказал: — Надо будет записать, а то позабуду, — а затем, обратившись к Чичикову, добавил: — Ну, ты не кисни, братец, завтра я сам с тобой съезжу к Муразову Афанасию Васильевичу, и он всё уладит. Наш "ястреб" очень слушает его.
— А как же ехать? — заволновался Чичиков, — мне ведь предписано никуда от вас не отлучаться, что, ежели застанут?
— Полно, братец, полно тебе волноваться. Едешь со мною, и пусть хоть кто—нибудь встанет на пути у генерала Бетрищева, тогда ты увидишь, что такое русский генерал, — проговорил он задиристо, а потом добавил уже другим, примирительным тоном: — И вправду, братец, что ты трусишь, перестань, ей—богу. Надо же, как он тебя запугал!
На этом и порешили и разошлись по комнатам спать, и надо признаться, что Павел Иванович спал крепко и совсем без сновидений, потому как события последних дней изнурили его совершенно, и он как коснулся головою подушки, так точно и провалился в тёмную и пустую глубину.
Наутро великан камердинер генерала Бетрищева, вежливо постучавшись в дверь спальной, где почивал Чичиков, передал через Петрушку, что его превосходительство хотел бы напомнить Павлу Ивановичу об их решении ехать в город к Муразову и потому попросил бы Чичикова поторопиться, и Павел Иванович, растроганный заботою генерала, не заставил себя ждать. Он насколько возможно споро оделся и, приведя себя в надлежащий порядок, прошёл в столовую, где за столом его уже ждал Александр Дмитриевич, который, увидя Чичикова и ответив на его приветствие, сказал:
— Давай—ка поторапливаться, братец Павел Иванович! Уж коли решили действовать, то действовать надобно без промедления. Да и то, путь до города неблизкий, и Муразова хорошо бы застать дома, пока не ушёл, чтобы потолковать с ним с глазу на глаз, без свидетелей.
На что Чичиков ответил, что полностью вверяет себя Александру Дмитриевичу, и как он скажет, так Павел Иванович и будет поступать. Поэтому они наскоро, не дожидаясь Улиньки, позавтракали и не мешкая отправились в Тьфуславль в запряжённой четвёркою лошадей большой генеральской карете. Знакомая уже Павлу Ивановичу дорога показалась ему бесконечною, верно, оттого, что он немало трусил и желал, чтобы это его злоключение разрешилось бы как можно скорее, а тут приходилось ждать, пока сытые и добрые генеральские кони довезут тяжёлую карету до города.
В пути он, сделавши вид, будто хочет услышать совет от его превосходительства и будто сам не далее как вчера вечером в разговоре с генералом не прибегнул к подобной хитрости, спросил у Александра Дмитриевича, как тот считает, не надо бы ему, Павлу Ивановичу, открыть старику Муразову всю историю с испанскими баранами, а не то пойдёт он к князю заступаться, а тот возьми да и выложи ему, что вот он ваш Чичиков каков, а вы за него просить пришли, на что генерал Бетрищев, сделавши задумчивое лицо и поглядев на бегущие за окном кареты облака, помолчал с минуту и сказал, что это очень дельная мысль и что именно так и надобно поступить, упредив неприятеля и откровенностью, да и покаянием переманив Муразова на свою сторону.
Дорогою Чичиков рассказал Александру Дмитриевичу об его родственниках, с коими имел он, как выразился Павел Иванович, удовольствие познакомиться, особо остановившись на госпоже Самосвистовой, и в самых восторженных выражениях описав своё впечатление от тайной советницы и о том чудесном приёме, который якобы был ему оказан, ни словом, разумеется, не обмолвившись о происшествии с блохами, на что его превосходительство сказал:
— Да я вижу, что ты там ко двору пришёлся, коли с этим ветрогоном Модестом дружбу завёл. В нём ведь чёрт сидит.
На что Павел Иванович хотел было возразить, сказавши, что это не так, а с другой стороны, в ком чёрт не сидит, но затем, сообразив, что лучше не перечить сейчас генералу даже в мелочах, промолчал.
Наконец, мучение нескончаемою дорогою закончилось, и наши герои прибыли в славный город Тьфуславль. Чичиков, ожидавший, что они направятся к городскому центру, к одному из украшающих городские улицы каменных домов, был немало удивлён, когда, въехав на заросшую липами улицу, сплошь состоящую из домов деревянной застройки, остановились они у ничем не примечательного дома под железною крышей и, никем не встреченные, поднялись на крыльцо. Пройдя в дом, удививший Чичикова ещё более скромною, чем у Громыхай—Правила обстановкою, встретили они какую—то старуху, убирающуюся в сенях. На вопрос генерала, дома ли Афанасий Васильевич, она прошамкала, что хозяин у себя в комнате. Не переставая удивляться увиденному и находясь в большом сомнении относительно того, что приехали они к известному миллионщику Муразову, Павел Иванович тем не менее послушно прошёл вслед за его превосходительством, который, подойдя к низенькой двери, постучал в неё костяшкою согнутого указательного пальца. На стук дверь отворилась, и Чичиков увидел перед собою одетого в долгополую, собранную у талии в складки, сибирку старика. Старик этот ничем не отличим был от многих тысяч подобных ему людей купеческого звания, и, встретя его на улице, Чичиков ни за что бы не подумал, что это и есть тот самый Афанасий Васильевич Муразов, о котором все говорили не иначе, как с глубочайшим почтением и завистью к его огромному состоянию.
Муразов носил, как и пристало купцу, седую окладистую бороду, седые же волосы, расчёсанные на прямой пробор; и пожалуй, из большинства представителей своего сословия его выделяло спокойное достоинство, разлитое во всех чертах лица, и необыкновенно умные проницательные глаза. Увидевши генерала, он чрезвычайно обрадовался, и они с его превосходительством обнялись и расцеловались, но не простой учтивости ради, по всему было видно, что двое этих пожилых людей питают друг к другу искреннюю симпатию. Генерал представил Афанасию Васильевичу Чичикова, и затем прибывшие были приглашены в комнату хозяина, которая уже не то что удивила нашего героя простотою обстановки, но можно сказать — поразила его тем, что её приличнее было бы величать и не комнатою, а комнаткою, и что в ней, по разумению Чичикова, вполне мог бы обитать какой—нибудь затёртый коллежский регистратор, подвизающийся на поприще входящей и исходящей корреспонденции, а никак не откупщик, держащий в своих руках винный и хлебный откупа по двум губерниям. В комнатке этой даже не было кресел, и поэтому генерал Бетрищев с Чичиковым уселись на предложенные хозяином простые деревянные стулья, стоящие вкруг такого же простого стола.
— Давненько, давненько мы с вами не видались, Афанасий Васильевич, — произнёс его превосходительство, улыбаясь, на что Муразов посетовал на многие дела, забирающие его полностью и совсем не оставляющие времени на визиты.
— Я ведь вас знаю, Александр Дмитриевич, — сказал Муразов, — ведь к вам стоит только в руки попасть, и уж в несколько дней не выберешься. Вот покончу с делами, слово даю, приеду на целых два дня.
— Обяжете, Афанасий Васильевич, а то, мы с Улинькою об вас соскучились. Кстати, — оживился генерал, — ведь она у меня сосватанная невеста, так что, Афанасий Васильевич, какие бы вам дела ни предстояли, а будете у неё на свадьбе посажёным отцом.
Услыхав об этой новости, Муразов выказал неподдельную радость, сказавши, что ежели так, то все дела пойдут побоку, а на свадьбе Ульяны Александровны он обязательно будет. Узнавши о том, кто жених, Афанасий Васильевич с большою похвалою отозвался о Тентетникове, сказав, что, по его мнению, это один из немногих молодых людей, кто хотел бы идти прямыми дорогами. Оттого, видно, и бросивший службу и уединившийся у себя в имении. При этих его словах Чичиков усмехнулся про себя, но не подал виду, а напротив, выразил в чертах своего лица сочувствие словам Муразова.
— Между прочим, — сказал генерал, — ведь благодаря Павлу Ивановичу всё и сладилось. — И он вкратце обрисовал участие Чичикова во всём этом деле, а Чичиков, скромно потупив глаза улыбался, изображая смущение. — Знаете, Афанасий Васильевич, — сказал шутливо его превосходительство, — ведь Павел Иванович у нас почитай что заправский сват, вот и племянника моего Модеста Николаевича обженил. Чай, слыхали историю об моховской дочке?
Старик Муразов, подтвердив, что слышал об этом происшествии, об котором, надо признаться, не знал бы во всей губернии какой—либо совсем уж редкий человек, тем не менее выказал интерес и недоумение, каким образом Павел Иванович имел касательство до всей этой истории. И тут Чичиков, уже не напоказ смущаясь и краснея, поведал Афанасию Васильевичу всю ту череду событий и бывших с ним приключений, которые и привели его к сегодняшнему плачевному положению и угрозе нового разбирательства по, казалось бы, давно уже похороненному делу.
Афанасий Васильевич выслушал рассказ Чичикова со вниманием и при упоминании об истории с одетыми в тулупчики баранами не выказал никакой весёлости, которою вновь засветилось лицо генерала. Напротив, он оставался серьёзен и по окончании рассказа заявил, что слышал об этом деле от верных людей и что якобы те же верные люди ему говорили, будто изобретателем и вдохновителем всей этой затеи было отнюдь не польское жидовство, промышляющее возле радзивилловской таможни, и не дурак статский советник, попавший под суд, а некий молодой и очень изворотливый господин, бывший у того в помощниках и сумевший, именно по своей изворотливости и недюжинному уму, избегнуть суда и выйти почти что сухим из воды. Афанасий Васильевич положительно знал об этом деле всё. Он даже упомянул и о ядрёной, точно репа, девице, из—за которой, по словам верных, рассказавших ему эту историю людей, и произошёл крах всего предприятия, и об том, что у молодого и увёртливого господина списано было в казну более пятисот тысяч рублей.
— Не вы ли, Павел Иванович? — испытующим взглядом посмотрел он на Чичикова. На что наш герой покраснел необыкновенно, кровь бросилась ему в голову, он почувствовал, как напряглись у него жилы на шее и в уголках глаз против воли Павла Ивановича выступили слёзы, так, будто кто нарочно выдавил их изнутри, как выдавливается из—под пальца сок какой—нибудь ягоды. В желудке же Павел Иванович ощутил саднящую пустоту, у него захолодело внутри и показалось, что пол комнаты зашатался, всё поплыло перед глазами, завертелось, и Чичиков, чувствуя, как это верчение охватывает и его, уцепился было за край стола обеими руками, но, не сумев удержаться, повалился куда—то вбок, в непонятную и внезапную темноту.
Очнулся Павел Иванович, лёжа на жёстком, обтянутом потёртою кожею диване. Ворот рубахи его был расстёгнут, на голове лежал смоченный холодною водою платок, и, приоткрыв глаза, Чичиков увидел чью—то руку, что совала ему под нос флакон с резко пахнущею нюхательною солью. В первую минуту Павел Иванович даже не понял того, что с ним и отчего лежит он на чужом диване, но тут склонились над ним двое стариков, в которых признал он генерала Бетрищева и Афанасия Васильевича Муразова, и Чичиков сразу припомнил всё бывшее с ним за некоторое время до того, как провалился он в темноту. Тяжёлыми, точно налитыми свинцом руками он прикрыл лицо, и не в силах произнесть ни слова, оставался в таком положении, чувствуя, как голова его бухает и гудит изнутри, точно колокол. Тут в низенькую дверь постучали, и в комнатку вошёл некто, как понял Павел Иванович, — доктор, за которым, вероятно, послали, пока он находился в беспамятстве. Доктор этот был моложав, сухопар, при аккуратной бородке и усиках, в руках его был небольшой саквояж коричневой кожи, в котором, надо думать, и таскал он все необходимые ему порошки и инструменты. Подойдя к Чичикову, он пощупал ему пульс, оттянув веко, заглянул за него и, спросив относительно головы, болит или нет, заявил, что надобно отворять вену и чем раньше, тем лучше. Павел Иванович, испугавшись предстоящей боли, попробовал было протестовать, но и генерал и Муразов, стоявшие подле дивана с растерянными и напуганными лицами, стали уговаривать его, говоря, что с докторами не спорят, докторам виднее, потому как всё это делается для его блага. Тем временем давешняя убиравшая в сенях старуха принесла горячей воды в тазу, и чашку для выпущенной крови, а доктор, намыливши Павлу Ивановичу руку до самого локтя, обмыл её разве что не кипящею водою и, перетянув руку жгутом, принялся за операцию, а бедный Павел Иванович отвернул лицо к стене, дабы не видеть производимой над ним экзекуции, и почувствовал, как после небольшой, похожей на щипок, боли что—то тёплое побежало у него по руке и закапало, стуча об донышко подставленной чашки. Выпустив сколько положено крови, доктор уселся к столу прописывать порошки больному и, написав что—то на листке бумаги, стал втолковывать генералу Бетрищеву, что, когда и по скольку должен Павел Иванович из прописанных им лекарств принимать для того, чтобы поправиться. На вопрос его превосходительства, можно ли забрать его сегодня из города назад в имение и не вредна ли будет ему дорога, доктор ответил, что забрать Павла Ивановича можно, но пусть он ещё полежит с часок.
Сказавши всё, что нужно, и запихнув в карман поданную генералом ассигнацию, доктор удалился. Проводивши его, генерал Бетрищев подошёл к дивану и, глядя на Павла Ивановича виновато—растерянными глазами, спросил:
— Ну, как ты, братец? Получше али нет?
На что Чичиков, чувствуя после кровопускания необыкновенную лёгкость и в голове и во всём теле, ответил, что ничего, что сейчас встанет, и пошевельнулся было, собираясь и впрямь вставать, но генерал перепугался и, придерживая его руками, заставил улечься на прежнее место.
Выходивший из комнатки Афанасий Васильевич воротился, объявив Чичикову, что сейчас напоят его куриным бульоном, который уже был поставлен на плиту беззубою старухою, и что за порошками, прописанными доктором, уже послано, на что Павел Иванович попытался то ли что—то возразить, то ли поблагодарить, но Муразов, жестом остановив невнятную речь Павла Ивановича, сказал:
— Вы уж меня простите, голубчик, за то высказанное подозрение. Я и думать не смел, что оно на вас так подействует, так что вы уж не держите сердца на старика... И по тому делу, кстати: кто бы ни был тот молодой господин, я не имею права осуждать его, ибо он уже поплатился сполна за своё преступление, и я уверен, что нынче он искренне раскаивается, да к тому же я и понять его могу: молодой, деятельный, умный, а жизнь не складывается, что—то в ней не так, и прямою дорогою не дойдёшь до богатства, вот и свернул на кривую. К сожалению, голубчик вы мой, Павел Иванович, в нашем отечестве мало их — прямых дорог, всё больше кривые. И мне, старику, приходится ими пользоваться, к сожалению, таков порядок вещей, коли уж принялся делами заниматься, то от этого не уйдёшь, — говорил Муразов, — но у меня правило — чужого не брать, а своё отдавать. Ведь иначе дела не сдвинешь, а дело—то огромное, и от него польза не мне одному, вот и приходится платить за то одно, чтобы только делу бы помех не строили... К чему это я всё говорю: вот ежели бы тот молодой господин, сумевший изобресть подобную хитрость, ежели бы он силы ума своего направил бы на истинно полезное, не для него одного только дело, сколько выгоды мог бы он принесть, сколько добра сделать. Что скажете, Павел Иванович? — спросил он у Чичикова, так, будто бы из простого любопытства стремясь узнать его мнение. Но Павел Иванович и в этот раз не ответил ничего, он снова закрыл лицо руками и тихонько, почти без звука, заплакал. Муразов, постоявши с минуту у дивана, на котором лежал попискивающий в притиснутые к лицу ладони Чичиков, успокаивающе потрепал его легонько по плечу и сказал:
— Полно вам, голубчик, убиваться. Не стоит вся эта история того. Вы пока полежите, а я до генерал—губернатора съезжу, поговорю с ним об вас. Обещаю вам это дело уладить, так что даже и не сомневайтесь.
И с этими словами Муразов вышел из комнаты, оставив Чичикова с его превосходительством вдвоём дожидаться. Во время его отсутствия Павел Иванович, можно сказать, совсем приободрился; слова, сказанные Афанасием Васильевичем, успокоили его, к тому же он похлебал горячего куриного бульону, сваренного прислуживающей в доме старухой, и укрепился не только душою, но и телом. В разговоре с его превосходительством они не касались этой темы, но Чичиков, решивши всё поставить по своим местам, сказал Александру Дмитриевичу, что он и есть тот самый молодой господин, об котором упоминал Муразов, на что генерал ответил, что эта история давняя и он видит искреннее раскаяние Павла Ивановича, видит истинную душу его, творящую добро для ближних, и что тому за примерами далеко ходить не надо, достаточно оборотиться на Улиньку и Андрея Ивановича, чтобы понять, кто таков Павел Иванович и каково у него сердце. При этих словах его превосходительства Чичиков даже прослезился, и генерал, растрогавшись, прослезился тоже. Часа через два воротился Муразов, и по его спокойному улыбающемуся лицу Чичиков с его превосходительством поняли что гроза, кажись, миновала. Афанасий Васильевич коротко описал им бывший у него с князем разговор и то, как генерал—губернатор поначалу и слышать не хотел про Чичикова, но потом, когда Муразов рассказал об том бедственном положении, в котором находился в это время Павел Иванович, князь немного смягчился, согласившись с Афанасием Васильевичем, что Чичиков и так уже изрядно пострадал и что за один проступок дважды не казнят.
— Правда, очень сердился на вас, Павел Иванович, за то, что молили его малыми детками, которых, как он выяснил, у вас и в помине нет. Но я ему на это сказал, что притеснённый в угол человек хватается за любую возможность, как утопающий за соломинку, так что на это сердиться не стоит, а надо отнестись с пониманием, — сказал Муразов, — одним словом, нового разбирательства над вами учинено не будет, но в городе он вам оставаться запретил. Сказал, что хотя бы как—то, но надобно вас наказать, и чтобы до окончания конной ярмонки вас в городе не было, ну да два с половиною месяца, я думаю, быстро пролетят...
— Как это, по какому это закону? — возмутясь, вступил в разговор его превосходительство. — А ежели человеку надобно в город по делам, это что же выходит, попрание в правах... — кипятился он, ухватившись за ещё одну возможность нелестно высказаться об прежнем своём сотоварище. — Нет, прошу прощения, господа, но это попросту самодур, — не унимался он.
Павел Иванович был смущён и немного напуган этим заявлением генерала, точно боялся, что князь мог бы как—нибудь услышать эти слова и изменить своё решение — не назначать над ним расследования, но Муразов несколько охладил обличительный пыл Александра Дмитриевича, сказавши, что по делам Павлу Ивановичу, само собой, никто не запретит появляться в Тьфуславле, а речь нынче идёт о том, что ему не позволено только лишь селиться в городе. Генерал несколько поутих, но всё равно ещё несколько раз помянул князя "самодуром".
Павел Иванович принялся было рассыпаться в самой что ни на есть горячей благодарности, но Муразов остановил его, сказавши, что это лишнее и что лучше бы Павел Иванович рассказал ему, чем он предполагает заняться в их губернии, и Чичиков ответил, что хотел бы заделаться помещиком, что первый шаг к этому им уже предпринят и что по совету господина Костанжогло приобрёл он недорогое имение у Хлобуева Семёна Семёновича, и хотя имение и расстроенное, но он приложит все свои силы и всё своё старание к тому, чтобы наладить его. Услыхавши имена названных им господ, Афанасий Васильевич с большой похвалою отозвался об Костанжогло, сказавши, что за такими, как он, людьми будущее, а про Хлобуева, качнувши головою, сказал:
— Жаль его, ведь чистая душа.
При этих его словах Чичикову стало немного не по себе, он вспомнил об том, что так по сию пору и не рассчитался с Хлобуевым, и решил завтра же ехать к нему с тем, чтобы отдать деньги. На этом они и распрощались с Афанасием Васильевичем и, усевшись в генеральскую карету, отправились к тому в имение.
В дороге Павлу Ивановичу сделалось совсем хорошо и весело на сердце, что, надо думать, было отчасти и результатом кровопускания. Чичиков уже представлял, как это случившееся с ним происшествие можно будет точно ненароком ввернуть в разговор — эдак многозначительно: мол, вот, доведён был врагами до такого плачевного положения, что и до кровопускания дошло, а иначе была угроза самоей жизни. Чувствуя приятную расслабленность во всём теле, он, полулёжа на подушках кареты, с удовольствием глядел в окно на бегущие мимо пейзажи, на голубой небесный свод, в котором грудились сияющие на солнце яркою белизною облака, напоминавшие Павлу Ивановичу о взбитых сливках. Он почувствовал, что проголодался, ибо чашки бульона, выхлебанного им после кровопускания, было явно недостаточно ему, любившему основательно и вкусно поесть. Но генерал Бетрищев, как нарочно, заместо того чтобы ехать прямо в имение, вздумал вдруг поворотить к монастырю, стоявшему по ту сторону реки, в чьих прозрачных водах отражались и синева неба, и белые зубчатые стены монастыря, и его башни, укрытые шатровыми тёсаными крышами.
— Надо бы проведать нашего старичка архимандрита, а то ведь когда ещё выберусь, — сказал его превосходительство, глядя на Чичикова, и карета пророкотала по брёвнам перекинутого через реку моста и въехала в монастырские ворота на посыпанные красным толчёным кирпичом монастырские дорожки. Тут за стенами монастыря стояла некая особенная тишина, нарушаемая лишь пением птиц да шелестом многочисленных дерев, вздымающих повсюду свои кудрявые верхушки, меж которыми горели на солнце золотоглавые купола монастырской церкви, вдоль дорожек раскинуты были клумбы, в изобилии поросшие самыми различными цветами, над которыми, вздрагивая крылышками, носились бабочки, ничем не нарушающие стоящей здесь тишины, которую приличнее было бы назвать покоем. И даже карета, только что столь громогласно грохотавшая по брёвнам моста, точно бы устыдилась издаваемого ею шума и пошла тише, едва слышно поскрипывая и шурша колёсами по толчёному кирпичу дорожек, так что даже внутри кареты было слышно, как лошади со свистом обмахивали себя хвостами, прогоняя липнущих до них слепней и мух, что звенели в тёплом летнем воздухе, вплетая своё звонкое жужжанье в покойные узоры тишины.
Его превосходительство велел остановиться у входа в монастырскую церковь и, пройдя под её своды в сопровождении Чичикова, поставил свечи перед иконами Спасителя, Божией матери и Николая угодника, чья икона почиталась здесь чудотворною, а затем, переговорив с бывшим в церкви дьяконом, заказал заупокойный молебен по столь давно отошедшей в иной лучший мир супруге. Павел Иванович тоже поставил свечечку и, глядя в глаза Спасителю, стал шептать слова молитвы. Прочитав "Отче наш", он стал благодарить бога за то, что гроза, вот—вот готовая было разразиться над его бедною головою, пронеслась мимо и он отделался одним лишь припадком, о котором осталось воспоминание в виде небольшой красной точки возле локтя. Но, шепча эти слова благодарности, он ощутил в груди некое чувство, схожее с тоскою, тоска эта точно засела где—то подле сердца, и у Чичикова вдруг что—то стало холодеть и теснить под ложечкой. Он снова глянул в глаза Спасителя, смотрящие на него с покоящейся под стеклом доски, и ему показалось, что глаза эти глядят на него с поразительным и обидным для Чичикова равнодушием, а тут ещё и свечка вдруг затрещала, брызнула расплавленным воском и погасла, выпустив напоследок синий дымок, тонкой струйкою поплывший куда—то вверх под высокие своды церкви, и Павел Иванович совсем расстроился, более того он даже испугался такого простого и весьма обычного случая, мало ли отчего проистекающего: то ли фитилёк свечечки был с узелком, то ли в воск попала водица; но Чичиков стал вдруг мелко и часто креститься и оглядываясь с опаскою, пошёл за генералом Бетрищевым, уже обо всем успевшим переговорить с дьяконом и собиравшимся идти вон из церкви.
Не садясь в карету, они прошли монастырским садом к домику, в котором жил архимандрит, в коем и помещались его службы, и стоявшему несколько поодаль от остальных вытянутых вдоль монастырских стен зданий. Домик этот, сложенный из белого камня, был высотою в один этаж с узкими оконцами, вкруг которых располагался точёный в белом камне узор, как бы оплетающий оконные проёмы. Такой же узор украшал и полукруглый дверной проём, в котором помещалась полукруглая же дубовая дверь с бронзовыми, лоснящимися от прикосновения многих рук рукоятками. Генерал Бетрищев позвонил в висящий у двери колокольчик, и через минуту толстые дверные створки распахнулись, и Александр Дмитриевич испросил у улыбающегося служки разрешения повидать архимандрита. Служка впустил их вовнутрь, а сам отправился с докладом. В приёмном покое, куда они попали с жаркого двора, было прохладно, по стенам висело несколько убранных в золото и серебро икон, освещаемых лампадками, и вкусно и покойно пахло ладаном и горящим свечным воском. По прошествии небольшого времени давешний служка появился вновь и объявил, что владыка ждёт наших героев, и, провожаемые служкою, они прошли коротким коридором в покои архимандрита. Войдя в покои, Чичиков ожидал было увидеть обилие золотых окладов, блещущих по стенам и укрывающих драгоценные иконы, ковровые дорожки на полу, серебряные светильники по стенам, но помимо его ожидания ничего этого в большой комнате, куда провёл их служка, не было. А был здесь длинный стол, покрытый синим сукном, на котором лежали во множестве древние книги и рукописи, и где на остающемся от них пятачке стола помещалась чернильница, рядом с которою стоял серебряный стакан с несколькими белого цвету очинёнными перьями, лежали стопка чистой и стопка исписанной бумаги. У противоположной стены стояла Голгофа с горящею при ней лампадою и висело несколько простых икон с изображением Божьей матери, святых угодников и Святой Троицы. Несколько поодаль от стола помещался деревянный трон, перед которым полукругом стояло пять или шесть стульев и больше ничего, если не считать свисающей с потолка люстры того пошиба, что можно встретить во многих купеческих или мещанских домах.
Служка просил их подождать, а сам скрылся за маленькою боковою дверцею, окованной узкими медными полосками. Павел Иванович с его превосходительством прождали ещё с минуты три, а затем боковая окованная дверца растворилась, и в комнату вошёл маленький старичок в простой чёрной рясе, тот самый, кому кланялся как—то на постоялом дворе в ноги Павел Иванович и перед кем лил слёзы. Увидевши его, Чичиков поначалу оробел, а затем подумал, что это как раз и очень хорошо, дай только бог, чтобы старичок припомнил его, и это тоже можно будет оборотить себе на пользу, завоевав больше симпатий со стороны генерала Бетрищева, чьё хорошее к Павлу Ивановичу отношение могло и немного пошатнуться ввиду последних имевших быть событий. И старичок, на счастье Павла Ивановича, вспомнил его. Когда подошли они с генералом к руке святого отца, тот перекрестил их и, ответив, как приличествовало сану, на приветствия, глянул на Чичикова и спросил:
— Ну, что, деточка, помогло тебе моё благословение?
И Чичиков, перехватив удивлённый взгляд его превосходительства, склонивши голову, точно для покаяния, отвечал, что только благодаря ему и имеет он сейчас возможность лицезреть его святейшество, а не то быть ему уже в могиле, и что был он не далее, как сегодня утром, в смертельной опасности, чему свидетелем был и его превосходительство генерал Бетрищев.
Не переставая удивляться тому, откуда могло проистекать знакомство Чичикова с архимандритом, генерал подтвердил слова Павла Ивановича, сказавши, что имевший место случай произошёл в присутствии и Афанасия Васильевича Муразова, который также очень перепугался за Павла Ивановича, и что, может быть, только благодаря доктору и не случилось с Павлом Ивановичем неприятностей.
Старичок пригласил их жестом садиться на стоящие полукругом стулья и сам уселся на старом отполированном временем троне.
— Неприятно, конечно, — сказал архимандрит, переводя взгляд с его превосходительства на Чичикова, — но я, кажется, говорил тебе, деточка, что ничто не случается против воли Отца нашего небесного. И все болезни от Него, и исцеление также от Него. — а потом, немного помолчав и снова обратясь к Чичикову, спросил: — А ты боишься смерти, деточка?
На что Павел Иванович пожал плечами и несколько растерялся с ответом.
— Кто же её не боится, батюшка? — сказал вместо Чичикова генерал. — Я вон сколько раз в глаза, можно сказать, ей глядел, а и то... — что именно "то", генерал не договорил, но и без того было понятно, что он имеет в виду.
— Это от неверия вашего проистекает, — сказал старичок архимандрит, — значит, не можете поверить вы, что душа ваша божественной природы, а верите телу, которое уже и при рождении было наполовину мертво своею дебелостью, и эта дебелость плоти мертвит и саму душу вашу, застит ей взор, не даёт узреть бога воочию. Но как мертвецы по общему свойству мертвецов не чувствуют своей омертвелости, так и мы не чувствуем того, что мы уже убиты. Убиты в момент грехопадения, до которого, подобно ангелам небесным, были бессмертны, а затем вступили в один разряд с животными и с тех пор рождаемся, уже убитые вечною смертию. И в мёртвые тела наши заключены мёртвые души наши, которым открыт один лишь путь, коим могут они вырваться из храмины тела своего, служащего для души темницею и гробом. Это путь покаяния, очищения себя покаянием и тогда, может быть, кончится для человека отчуждение его от бога, — говорил старичок тихим голосом.
Слушая архимандрита, Чичиков поймал себя на том, что всё сказанное им очень просто, и ему сейчас казалось, будто эти мысли не раз и не два уже приходили и ему в голову и даже, более того, будто он и сам так мыслил себе сей предмет постоянно, а архимандрит только лишь повторил уже не раз передуманное Павлом Ивановичем, поэтому—то он и был полностью согласен сейчас со старичком, и даже более того: видя в архимандрите единомышленника, почувствовал вдруг гордость за себя, подумавши при этом, что надо же, и он, без этих монастырских стен, без постоянных молитв и ночных бдений, тоже не лыком шит, и ему доступны великие и простые мысли, и, благодарение богу, наделён он великою силою ума и великою душою, и так поверил в то, что сам себе тут напридумывал об своей избранности, так умилился этой своей глупой грёзе, что даже прослезился от какого—то вспыхнувшего в груди ликующего чувства.
Пока Павел Иванович предавался восторгам по поводу своей исключительной угодности богу, его превосходительство генерал Бетрищев завёл с архимандритом иной, имеющий более мирской характер разговор, и разговор этот, конечно же, касался самого главного нынче для его превосходительства предмета — замужества его любимицы Улиньки, долженствующего быть осенью. Услышавши об предстоящей свадьбе, старичок архимандрит улыбнулся, посетовав на то, как быстро летит время, что, казалось бы, совсем недавно ещё крестил Улиньку, а она уже невеста.
— Да, со стариками всегда так, — сказал он, — кажется, что только вчера было, а оглянешься — жизнь прошла.
Он поддержал желание его превосходительства — чтобы венчание было в монастырской церкви, сказавши лишь, чтобы, когда определится со сроком свадьбы, дали бы знать загодя.
— Жив буду к осени, сам обвенчаю, — сказал он с улыбкою и благословив своих посетителей, перекрестил их, отпустив со словами:
— Идите, дети мои, и радуйтесь, что несёте в сердце своём бесценнейший дар православия. Идите и будьте достойны истинной веры, заповеданной нам святыми отцами церкви нашей.
И Чичиков с его превосходительством, приложившись на прощание к сухонькой руке архимандрита, пошли на улицу и Павел Иванович, испытывая уже изрядные муки голода, был рад тому, что они, наконец, уселись и карету и отправились в имение генерала Бетрищева, тем более что время было самое что ни на есть обеденное.
И снова дорога, и опять катит по ней мой герой, подставляя довольное лицо солнцу, жмуря глаза от его ярких льющихся сверху лучей. Кто ты таков и откуда ты, Павел Иванович? Ведь не может того быть, чтобы я выдумал тебя всего без остатка от начала до конца, не может быть, чтобы не существовало тебя вовсе, коли вижу я твоё жмурящееся под солнцем лицо, слышу скрипы плохо смазанной оси в генеральской карете. Откуда ты приходишь ко мне, стучишься в сердце моё, заставляя руку вновь и вновь тянуться к перу, выводя бегущие строчки, за которыми порою не поспевает и мысль моя. И я, точно писарь, которому диктует в ухо некто сидящий у него за спиною, заношу вспыхивающие в моей голове слова на чистые листы бумаги, по которым разбросана чужая и неведомая мне жизнь, так туго переплетённая с моею, что я уже и не мыслю для себя иного существования. Кто ты? Может быть, обречённый на бессмертие мелкий и каверзный бес, от невыносимой скуки своего бесконечного существования забавляющийся со мною тем, что строишь рожи и показываешь картинки; перетряхивая перед моим взором кукольные лица, позвякивая, точно медяками, мёртвыми душами, коими набиты твои тёмные и пыльные карманы. Почему ты выбрал именно меня и для чего тебе надобно это? Что хочешь ты рассказать мне, к чему вся эта игра, которую почитаю я за игру воображения. И те, вышедшие из—под моего пера персонажи — чем вдохновлено их появление, божественным ли откровением, коим, как принято думать, создаются поэмы, или же наваждением мелкого беса, шныряющего вокруг меня? Что хочешь ты показать — что люди дурны? Но это и без того известно, да и дурны они твоими неустанными об них заботами, но они бывают также и хороши, и это вопреки твоим над ними проделкам, и ты, скачущий на своих козьих копытах от дома к дому, подглядывающий в окна вороватым своим зрачком, знаешь об том лучше, нежели я. Но хочется, хочется тебе напакостить людям. Того потянешь за нос, и он у него вытянется и превратится в некое подобие стручка, этому подставишь ножку, и он вдруг, казалось бы ни с того ни с сего, засеменит, засеменит на мостовой да и стукнется головою о камни, испустивши дух, а иного — и того хуже — обженишь на ведьме, от которой ему житья нет, и он, натерпевшись от неё всякого, становится злее самого черта, то бишь тебя, окаянного.
Тщетно стремлюсь я разгадать твою загадку, Павел Иванович, и многое приходит мне на ум. Иногда кажется мне, что появление твоё отнюдь не подстроенные бесом козни, а просто ты и сам — попавшийся к нему в лапы дух, запертый им где—то по ту сторону света и тьмы, по ту сторону добра и зла, — скребёшься точно мышь, пытаясь пробраться сквозь эту поставленную им перед тобою преграду, что отделила грешную душу твою от божьего мира, и ты, чуя непрожитую тобою жизнь, стучишься, рвёшься сюда в надежде, что всё ещё можно изменить, что разверзнется вдруг завеса, и распахнутся над тобою небеса, полные ночных блещущих звёзд или сияющие голубизною при свете солнца. И тогда не понадобится тебе уж моё перо, с помощью которого проживаешь ты сейчас свою небывшую ещё жизнь и которое для тебя, точно ключ, открывающий двери этой небывшей жизни. Когда думаю я так о тебе, то несказанная грусть проникает мне в душу, и готов тогда я забыть обо всех твоих проделках, готов ночи напролёт не отрываться от бумаги для того, чтобы хотя бы так дать тебе возможность прозреть, глотнуть свежего, летящего над степью ветра или, как сейчас, жмуриться под лучами тёплого летнего солнца. И я начинаю верить, что я и есть единственная богом данная тебе возможность стать живым в мире живых людей, научиться любить и быть любимым; и тогда глаза мои заплывают чем—то тёплым, слеза катится по щеке и рука снова тянется к перу.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Прошло три дня после описанных нами ранее событий, в течение которых Павел Иванович, приходя в себя от пережитых им страхов, не покидал во всё это время поместья любезного хозяина своего — генерала Бетрищева. Он сделался как бы несколько задумчивее, нежели прежде, молчаливее; и окружающие его старались быть с Павлом Ивановичем предупредительными, не досаждая излишними разговорами, а в тех беседах, что всё же случались, за столом ли во время обеда, в гостиной ли, в кабинете у Александра Дмитриевича, ни словом не упоминали об имевшем место неприятном приключении. И Ульяна Александровна, и Тентетников, навещавший невесту свою ежедневно, и сам генерал Бетрищев были с Чичиковым приветливы и милы и старались каждый по—своему развеять его тоску. Улинька послала ему несколько новых, только вошедших в моду переводных романов, которые, к стыду нашему, надо признаться, Павел Иванович даже не удосужился просмотреть, и они так и остались лежать неразрезанными на стоящем подле его кровати столике.
Тентетников, ездивший в город по надобности, верно связанной с предстоящей женитьбою, привёз Павлу Ивановичу в подарок пару шёлковых галстуков какого—то невиданного ещё фасону, с рубчиками посередине, так что когда Павел Иванович повязал их, из рубчиков этих сложился очень привлекательного вида бант, придавший свежести его несколько унылому в последние дни лицу.
И генерал Бетрищев также старался развлечь Чичикова сколько возможно. Он пригласил Павла Ивановича побродить с ружьишком по окрестностям, пострелять рябчиков в синеющем по ту сторону засеянного гречихой поля бору, и Павел Иванович, хотя и не был завзятым охотником, согласился, ибо не хотел обидеть отказом своего высокого покровителя.
И вот ранним утром, когда в окошко гляделось серое ещё, ожидающее восхода небо, Павел Иванович, водительствуемый его превосходительством, поплёлся за ним по вьющейся через гречишное поле тропке. Спотыкаясь на очередной кочке и получая от ружейного приклада очередной шлепок, Павел Иванович то и дело поминал чёрта, и, когда Александр Дмитриевич поставил его на нумер возле большой, покрытой туманом поляны, Чичиков вздохнул с облегчением и, привалясь плечом к корявому стволу берёзы, начал поклёвывать носом, изредка вскидывая голову, когда из противоположного отрога леса, куда отправился генерал Бетрищев, раздавался глухой выстрел. Но дремать, привалясь к берёзе, было неудобно, у Павла Ивановича начали болеть ноги, а о том, чтобы усесться в мокрую от утренней росы траву, нечего было и думать, поэтому он скуки ради начал дуть в тонко попискивающий манок, но то ли место было никудышное, то ли дул он как—то не так, но только птицы он не подманил ни одной, а лишь разбудил старую злую ворону, которая, увидевши Павла Ивановича, принялась летать с дерева на дерево, и глядя на него с высоты, возмущённо каркать, точно ругала Чичикова последними словами на своём вороньем языке за то, что он и сам не спит, и другим спать не даёт. Павел Иванович постоял ещё с полчаса под отведённой ему генералом Бетрищевым берёзой, дунул ещё пару раз для очистки совести в манок и, пальнув с досады в надрывно каркающую ворону, побрёл к тому лесному клину, из которого доносились выстрелы, производимые его превосходительством, а ворона, нервически каркая, полетела прочь от опасного места, то и дело оглядываясь через крыло и как бы говоря всем своим видом: "Надо же, вот привёл Господь встретиться с бесноватым".
Когда, треща валежником, он продрался сквозь кусты к стоящему у просеки Александру Дмитриевичу, тот как раз прятал в свой ягдташ очередного рябчика, и лицо его, раскрасневшееся от удачной охоты, светилось радостным, так хорошо знакомым каждому охотнику азартным чувством.
— Ну что, братец ты мой, каково? — спросил он у Павла Ивановича, показывая на свой туго набитый, перемазанный птичьей кровью с налипшими на нём пёстрыми пёрышками, ягдташ. — Только что шестнадцатого "снял", а ты, я вижу, совсем пустой? — сочувственно заключил он, глядя на Павла Ивановича, на что Чичиков лишь сокрушённо покачал головою и, пробормотав что—то насчёт своего везения, запросился домой.
— Ну, что ж, братец, иди, тут ведь недалече, а я ещё постреляю, — сказал Александр Дмитриевич и принялся высвистывать очередную свою жертву.
Чичиков простился с ним и, бредя полем к виднеющемуся вдалеке господскому дому, слышал ещё несколько выстрелов, зная наверняка, что они так же метки, как и предшествовавшие им. Времени до обеда оставалось ещё много и Чичиков решился наконец наведаться в купленное им у Хлобуева имение с тем, чтобы передать Семёну Семёновичу остававшиеся ещё невыплаченными деньги. Нельзя сказать, что Павел Иванович совестился того, что сильно затянул с оплатой бедному Хлобуеву или что его заботила судьба его семейства — нет! Просто Чичиков принял в расчёт, что Хлобуев мог пойти жаловаться на неуплату, и хотя купчая пока что не была совершена, но Павлу Ивановичу вовсе не хотелось, чтобы имя его вновь упоминалось в связи со всякими скандальными подробностями. Поэтому, велев Селифану заложить платоновскую коляску, он отправился для встречи с Семён Семёновичем, захвативши свою шкатулку со штучными выкладками из карельской берёзы, в которой, как уже известно читателю, держал он всяческие нужные ему предметы и деньги.
Дорогою он старался придумать, что бы такое сказать Хлобуеву, который уж наверняка был на него в претензии и, по всей видимости, не преминул бы эту претензию высказать, но ничего путного на ум не шло, и он, махнув на то рукою, решил, как и в прошлый раз, особо с ним не церемониться. До имения добрался он скоро, скорее, чем ожидал, и, увидевши его в таком же, если не худшем беспорядке и запустении, ощутил уныние в сердце и досаду на то, что, поддавшись уговорам, согласился его приобресть. Сейчас у него не было той, появившейся под влиянием встречи с Костанжогло, решимости браться за переустройство этого пусть и хорошего, но требующего больших трудов, а главное большого времени, куска земли. Его вовсе не влекла уже участь помещика—землеустроителя, помещика—хозяина на манер того же Костанжогло; Чичиков не чувствовал в себе для подобной жизни ни сил, ни охоты; единственное, чего он желал — это заделаться барином. Осесть в крепко построенном и хорошо обставленном имении с налаженным хозяйством, которое двигалось бы вперёд как бы само собою, принося ежегодный доход и достаток, но для этого нужны были деньги, и немалые, Павел Иванович знал, что какими—то тридцатью тысячами, как тут, не обойдёшься, и глядя на царящее вокруг него запустение, думал о том, что хорошо бы поворотить всё это связанное с покупкою дело вспять, но каким образом устроить это половчее, не мог взять в толк, потому как понимал, что Хлобуев не сумеет вернуть ему полученного ранее задатка.
Подъехав к так хорошо уже известному читателю недостроенному господскому дому, Чичиков, к удивлению своему, обнаружил, что не только его ведущие в пустую обшарпанную темноту двери заколочены досками, но и тот маленький флигель, в котором принимал их когда—то Хлобуев, угощая шампанским, тоже забит досками крест—накрест, и потому как проросли сквозь щели в каменных его ступенях цветы и травы, догадался, что Хлобуевы съехали отсюда довольно давно, вероятно, перебравшись в тот самый домик в городе, о котором говорил ему с Платоновым Семён Семёнович.
Увидевши двери заколоченными, Чичиков велел Селифану поворотить к деревне. Въехав на её улицу, он выспросил у первого попавшегося ему навстречу мужика в драном, надетом на голое тело, зипуне об его барине и удостоверился в правильности своей догадки. "Что ж, может, оно и к лучшему, — подумал Чичиков, — в город мне можно являться лишь по крайней надобности, так что уж, господин Хлобуев, не обессудьте, как встречусь с вами, так и расплачусь..." И решив наведаться к братьям Платоновым, дабы засвидетельствовать своё почтение и вернуть им коляску, причинившую ему столько хлопот, он поудобнее устроился на её кожаных подушках, приготовляясь к предстоящему неблизкому пути.
Только когда стоявшее ещё довольно высоко в небе солнце перевалило за полдень, добрался он до имения братьев Платоновых. Подкатив к крыльцу, Павел Иванович спрыгнул с коляски с ловкостью почти военного человека и заспешил в дом, строя в чертах лица своего радостное выражение.
В уже знакомой читателю погружённой в полумрак прохладной передней не было ни души.
— Эй, хозяева! Есть кто—нибудь?! — возвысив голос, в котором сквозили нотки весёлой игривости, воззвал Павел Иванович, ожидая, какой сейчас наверняка поднимется переполох, как удивятся его внезапному после столь долгого отсутствия появлению хозяева, как забегают слуги, хлопая дверями и стуча сапогами по полу. Но, к его удивлению, на зов его явился один лишь то ли лакей, то ли садовник, как оно и было заведено у Платоновых, в расшитой цветным узором рубахе. На вопрос, где хозяева, он отвечал, что хозяева наверху в комнатах, и отправился по просьбе Павла Ивановича доложить.
Минут через пять он появился вновь, скрипя ступенями старой, ведущей во второй этаж лестницы, и, сказавши, что Платон Михайлович просил извинить, что принять не смогут, а Василий Михайлович сейчас сойдут в гостиную, — удалился. Это немного встревожило и удивило нашего героя, рассчитывавшего, что братья, прослышавши об его появлении, побегут ему навстречу чуть ли не вперегонки, но тут же поспешил себя успокоить тем рассуждением, что, может быть, брату Платону нездоровится и он лежит в постели; принялся ждать и прождал, надо сказать, не минуту и не две, а целых пятнадцать минут, что отсчитали мерно размахивающие маятником большие, стоящие в углу часы. Наконец, послышались на лестнице шаги, и в гостиной появился Василий Михайлович, как—то странно отводящий глаза и улыбающийся смущённою улыбкою.
— Здравствуйте, Павел Иванович, здравствуйте! Ну, наконец—то вы и до нас добрались, — проговорил он несколько деланным тоном и ткнулся в щёку Павла Ивановича надушенными усами, якобы произведя приветственный поцелуй.
Предложив Павлу Ивановичу садиться, он сам уселся в кресле напротив него и принялся расспрашивать об его поездке, задавая все те известные вопросы, которые задаются в подобного рода случаях. И хотя голос его звучал теперь довольно участливо, но он всячески старался не глядеть на Павла Ивановича, так, будто в лице у того была некая черта, глядя на которую можно было бы нанесть ему обиду.
— А что Платон Михайлович, больны—с? — спросил Чичиков, чувствуя известное напряжение, но стараясь тем не менее не сменять любезности в тоне, каким задавался вопрос.
— Да как вам сказать, Павел Иванович: хандра одолела, Ну, да вы же знаете, — отвечал Василий Михайлович, всё так же пряча глаза.
— Ой ли? — спросил Чичиков, пытливо заглядывая ему в лицо. — Что же случилось, Василий Михайлович? Может быть, вы с братом в претензии на меня за что—то? Так вы скажите, не томите; я—то ведь чувствую — что—то не так.
Брат Василий принялся было отнекиваться, уверяя Чичикова в том, что ему, верно, показалось, что ничего такого нет, но по тому, как шарил он взглядом своим по стенам, по жалобному какому—то тону и выражению, состроившемуся в чертах лица его, видно было, что не хочет он отвечать Чичикову, всё так же испытующе глядевшему на него.
— Позвольте, Василий Михайлович, может быть, это из—за коляски и той истории, что приключилась со мной в связи с женитьбою господина Самосвистова, но смею вас заверить, что история эта самого невинного свойства, а то, что досужие умы да злые языки раздули её до невозможности, тут уж я, как говорится, ни при чём. Разве в том моя вина, что я помог двум любящим сердцам соединиться, так что же с того? Я многим помогаю. Я и вам помог, как помнится, в отношении господина Леницына. Надеюсь, у вас с ним дело улажено? — спросил Чичиков, сменяя любезность в лице своём на некоторую сухость и глядя на Василия Михайловича сурьёзными глазами.
— Да какое там улажено, — махнул рукою Василий Михайлович, — дело уж по инстанциям пошло, уж из окружного в судебную палату передано и, признаться, конца краю не видать. Ну да ничего, есть же правда—матушка на белом свете... — произнёс чуть ли не торжественно брат Василий, глядя при том поверх головы Павла Ивановича, точно надеясь узреть правду—матушку где—то за спиною у нашего героя.
"Ну и дурак ты, братец" — подумал Чичиков, глянув на него быстрым взглядом, вслух же он произнёс:
— Жаль, очень жаль, Василий Михайлович, что не послушались вы меня тогда. Да и что стоило вам замириться с Фёдором Фёдоровичем? Теперь же можете распрощаться со своей пустошью навек, и хотя она вам, по чести сказать, не нужна вовсе, разве что пьяницы ваши там горланить не смогут, но с другой стороны, приятного мало тяжбу проиграть...
— Ну, я так не думаю... — начал было Василий Михайлович, но Чичиков не дал ему договорить.
— А тут и думать—то нечего. И сейчас уже видно, что дело ваше проигранное, а всё потому, что не послушали вы меня.
Павлу Ивановичу отчего—то было даже приятно говорить брату Василию подобные, бередившие его душу слова, он даже почувствовал некое жестокое удовольствие от того, как вытянулось лицо у старшего Платонова, от того, как он часто и растерянно заморгал глазами. Верно, обида от странного приёма, что оказали ему братья Платоновы, дала себя знать, и Павел Иванович был, как ни прискорбно нам это заметить, даже рад тем неприятностям, что принесла злосчастная пустошь его недавним добрым знакомым.
— А как ваше имение? — спросил у Чичикова Василий Михайлович, стремясь увести разговор с болезненной для себя темы. — Признаться, в ваше отсутствие, Павел Иванович, наведывался сюда господин Хлобуев, справлялся об вас, плакал, говорит, что денег вы ему не платите, а ведь он, Павел Иванович, не то что разорён, а разве что по миру не пошёл.
При этих словах краска залила лицо Василия Михайловича, видно было, каково ему уличать Чичикова в злокозненности и увиливании от долгов.
— Милостивый государь, Василий Михайлович, я сегодня как раз нарочно по этому делу наведывался в своё имение, дабы расплатиться с Семёном Семёновичем сполна, но на беду, нашёл флигель заколоченным, вот я и приехал до вас, чтобы как—то в этом разобраться, ведь и Платон Михайлович к моему приобретению, так сказать, руку свою приложили — я и завернул к вам.
— Вот и хорошо сделали, а то, правду сказать, мы уж и не знали, что и думать, ведь и зять мой и Платон деньгами вас ссудили, да и резону вам не было никакого, чтобы не платить, — при этих своих словах брат Василий вновь покраснел и отвёл глаза.
— Помилуйте, Василий Михайлович, ну какой тут может быть резон, дело всё в том, что когда я навещал в последний раз господина Хлобуева, то застал его, с позволения сказать, таким "тёпленьким", что просто побоялся оставить ему всю сумму разом, — соврал Чичиков, — ведь склонности его, увы, довольно известны: или прогуляет, или же в карты проиграет. Вот я и подумал, не лучше ли обождать, а там уж пришлось отправляться в дорогу. Теперь же, как воротился, первым долгом почёл необходимым это дело уладить.
— Вот и славно, вот и славно, — оживился Василий Михайлович, — а то ведь, я должен вам сказать, Платон очень уж расстроился. Говорит: "Я никак не ожидал, что Павел Иванович с человеком, в таких стеснённых обстоятельствах пребывающим, таковым образом поступить мог". Если уж быть до конца правдивым, то по сию пору на вас сердце держит...
"Ах, вот оно как, — подумал Чичиков, — вот, значит, какова его хворь", — но на словах ничем не показал своей догадки, а лишь сказал:
— Ну, вот, Василий Михайлович, теперь вы можете его на сей счёт успокоить и рассказать ему, что никакого злого умыслу у меня не было, а единственное, о чём я пёкся, так это о сохранении переданных в моё распоряжение сумм. Ну а сейчас, как только повстречаюсь с Семёном Семёновичем, тут же с ним и расплачусь.
— Собственно говоря, Павел Иванович, для этого вам вовсе не обязательно с ним встречаться. Деньги вы можете оставить у нас, тем более, что Платон, видя крайнюю нужду Семёна Семёновича, за вас с ним расплатился, другими словами, вы теперь должны Платону, а не господину Хлобуеву.
Услышавши такое, Чичиков почувствовал, как его прошиб холодный пот. Всех денег у него оставалось нынче чуть больше двенадцати тысяч, включая и те две тысячи из пяти, которыми ссудил его в своё время Платон Михайлович, ну а если брат Платон сполна расплатился с Хлобуевым, то выходило, что Чичикову нужно было отдавать сейчас семнадцать тысяч целковых, тем более что он сам не далее как пять минут назад заявил, что ездил в имение рассчитаться с господином Хлобуевым, стало быть деньги у него были с собою и он готов к расчёту. "Пропала моя головушка — подумал Павел Иванович, пытаясь сообразить, как бы ему выпутаться из этой истории. — А ведь ещё десять тысяч Костанжогло, слава богу, что без процентов", — подумал он и чуть было не застонал.
Видать, это внутреннее, бывшее в его душе переживание, отразилось как—то в лице Чичикова, потому что Василий Михайлович настороженно глянул на него и спросил:
— Что с вами, Павел Иванович, вы вдруг стали так бледны?
На что Чичиков отвечал, что всё, вероятно, оттого, что плохо нынче ночью спал, и попросил подать ему стакан воды.
— Да к тому же, признаться, Василий Михайлович, одна морока с этим имением. Ведь я вовсе и не собирался его приобретать, и если бы не ваш братец да зять, я никогда бы не решился вкладывать деньги в столь запущенное хозяйство. Только поддавшись на их уговоры, я решился на такое, с позволения сказать, безумие.
И тут мысль ясная и простая вдруг вспыхнула в его голове и высветила всё, как высвечивает молния самую последнюю чёрточку, самую мелкую соринку в казавшейся до этого непроглядной темноте.
— А знаете что, Василий Михайлович, — сказал Чичиков, чувствуя, как в нём утвердилось это простое решение, которое могло бы показаться иному и бесчестным, и низким, и недостойным дворянина, но нашему герою было сейчас не до подобных соображений, его очень мало заботило, что скажут или подумают о нём те же братья Платоновы или же Костанжогло. Этим своим решением он разом освобождался от всего: и от ненужного ему имения, и от долга Костанжогло, да и от дружбы и знакомства с самими братьями Платоновыми, которых он точно уж вычеркнул из своей жизни.
— Знаете что, Василий Михайлович, мне ведь это имение и вправду ни к чему, да и купчая ещё не совершена, так что вот вам две тысячи из тех пяти, что ссудил мне ваш братец, — сказал он, выкладывая на стол две толстые пачки, — и имение это ваше, ну а по поводу тех десяти тысяч, что получил я от Константина Фёдоровича, то они мною ещё в первый день были господину Хлобуеву выплачены, так что, я думаю, вы со своим зятем как—нибудь по—родственному да разочтётесь, а мы с вами в расчёте.
— Постойте, постойте, Павел Иванович, — опешил брат Василий, — как это? Я что—то не возьму в толк?..
— А что тут в толк брать? — отвечал Чичиков, будто дивясь несообразительности брата Василия, — я же говорю — имение я хотел приобресть, следуя уговорам и наставлениям Платона Михайловича и Константина Фёдоровича, теперь же ясно вижу, что оно мне совершенно ни к чему, деньги за него плачены вами, стало быть, и имение ваше. Совершите с Хлобуевым купчую — и дело с концом.
— Но оно и нам ни к чему, — попытался было вставить Василий Михайлович, но Чичиков не дал ему договорить.
— Но я не пойму вашей претензии, — сказал он, вставая из кресла и показывая всем видом, что собирается откланяться, — по мне, так всё самым замечательным образом устроилось, и главное, отчего Платон Михайлович на меня осерчал, господин Хлобуев не ущемлён, а мирно пропивает выплаченные ему за имение деньги. — И, не давши времени брату Василию вставить хотя бы слово, он спросил: — А коляску мою мог бы я забрать, чай, она у вас в каретном сарае застоялась?
Уже в пути, пыля по разогретой солнцем дороге, он почувствовал необыкновенную лёгкость в своём сердце. Ему хотелось и петь, и смеяться, и топать ногами от радости, точно человеку, сумевшему избежать большой опасности или освободившемуся от тяжкого приговора. Он откинулся на подушки подаренной ему Тентетниковым коляски, и подставляя лицо льющемуся на него солнцу, закричал что было мочи так, что Селифан вздрогнул на козлах и от неожиданности перетянул кнутом Чубарого.
— А... а... а... а!.. — кричал Павел Иванович. — А... а... а!.. Дурачьё... ё...ё...ё!!! Ах—ха—ха—а...а...а!!!
Кони его, прядая ушами, косили назад глазом, в придорожных кустах с перепугу замолкали птицы, и лишь стрекозы в траве стрекотали без перерыву.
Ай да Павел Иванович! Браво! Браво, право слово! Так просто, одним махом разрешить все эти непростые вопросы, такое под силу не всякому, согласись со мною, читатель. Сумел бы ты, к примеру, подобным же манером расправиться со своими, мешающими тебе, обстоятельствами? Ну же, ну же — отвечай. Но боже, что же слышу я. Вот то тут, то там срываются с губ, ползущих в кривой усмешке, утвердительные ответы. Я не вижу лиц в темноте; лишь слышу шелестящие шёпотом слова. Слова эти пузырятся звуками, сливаются вместе и точно полноводная река несутся на меня, грозя затопить сознание моё и душу чёрным ощущением безысходности и бессмысленности труда моего. Темнота, темнота кругом. Лишь отблескивающие влажно и сумрачно глаза мечущихся повсюду людей оживляют её, но что видят они, на что устремлён взгляд этих глаз, какой мир отражается в их глубинах, какая мысль брезжит в них светом? Что важно для них, для этих скользящих мимо меня тенями людей? Что говорят они себе, когда видят простые и, казалось бы, понятные вещи? Говорят ли — вот небо, вот солнце, а это свет, а это бог, а тут радость и боль, и стыд, и грех?
Павел Иванович вернулся в имение генерала Бетрищева в прекрасном расположении духа, не покидавшем его до самого отхода ко сну; и ни дробинка, пропущенная поваром, готовившим подстреленных его превосходительством рябчиков, о которую Павел Иванович чуть было не сломал себе во время обеда зуб, ни проигранные им генералу в карты десять рублей, ни лопнувшая, на почти ещё совсем новых сапогах, подмётка, — ничто не омрачало приподнятого его настроения, и, уже лёжа в постели на прохладных чистых простынях, он всё ещё улыбался чему—то, шептал что—то, глядя в сереющий в ночи потолок, чего, нам так и не удалось разобрать. Потом мысли его стали путаться, он угрелся под одеялом и стал погружаться в приятную дремоту. "Завтра съезжу в город, навещу Фёдора Фёдоровича Леницына. Надо поздравить... и вообще...", — подумал он, засыпая, и улыбнулся этой, тоже показавшейся ему приятной, мысли, а уже через минуту он спал, всхрапывая тем своим особенным храпом, благодаря которому, как утверждал Петрушка, из помещений, в которых ему доводилось останавливаться на постой, исчезали тараканы.
На следующее утро Павел Иванович, не обременяя себя основательным завтраком, а перекусив налегке в обществе одного лишь Александра Дмитриевича, велел заложить лошадей и отправился в город, дабы нанесть визит его превосходительству губернатору, о котором, как уже говорилось ранее, в губернии сложилось весьма выгодное мнение.
Дорога до города была неблизкая, и наш герой во время всего пути любовался прекрасными видами, описанием которых мы, боимся уже успели наскучить нашим любезным читателям. Скажем только, что погода стояла великолепная, небо было на редкость чисто и сияло голубизною, травы и полевые цветы, растущие вдоль дороги, источали столь душистые ароматы, что могли бы поспорить с самыми известными европейскими одеколонами, кони бежали бойко, коляска ласково покачивала нашего Павла Ивановича, и он нежился в ней, точно младенец в люльке.
На самом подъезде к городу у Павла Ивановича вышла нежданная, но очень его порадовавшая своею приятностью встреча. Ещё издалека заприметил он облачко пыли на дороге, определив, что, верно, это какой—нибудь экипаж, едущий прочь из города, и по тому, как быстро он приближался, Чичиков догадался, что это должна быть ладная рессорная господская коляска, а не какой—то там крестьянский возок, что плетётся, влекомый парою мерно пережёвывающих свою жвачку, безразличных до всего, кроме хозяйского кнута, волов.
И вправду это была коляска, и сам хозяин сидит на козлах заместо кучера ловко правя резвыми лошадьми.
— Варвар Николаевич! — вскричал Чичиков, узнавши в лихом ездоке своего приятеля.
— Павел Иванович! — отозвался не менее громогласным возгласом господин Вишнепокромов, чуть было не проскочивший мимо чичиковского экипажа и столь резко осадивший своих лошадей, что дышло его ещё сохраняющей бег коляски задралось вверх.
— Стой, стой, сова! — закричал Чичиков, стуча по спине Селифана, и, спрыгнув с подножки, заспешил навстречу к уже бегущему к нему с распростёртыми объятиями Варвару Николаевичу.
— Душа моя, душа моя, — говорил, обнимая его и целуя в пухлую щёку, Вишнепокромов, — как я рад, как я рад, вот уж не ожидал...
— А как я рад, как я рад, — вторил ему Павел Иванович, глядя на Варвара Николаевича увлажнившимися глазами.
— Что же ты ко мне—то не заедешь? — спросил с укоризною Варвар Николаевич, — ведь я тебя люблю, как родного, а ты носу не кажешь.
— Да я всего—то четыре дни как воротился, — отвечал Чичиков, — к тому же вы не можете не знать, какая со мною комиссия приключилась.
— Наслышаны, наслышаны, братец ты мой. Модест Николаевич сказывали, — подтвердил Вишнепокромов. — А нынче куды собрался, далеко ли? — спросил он.
— Вот хочу нанести визит его превосходительству господину Леницыну Фёдору Фёдоровичу, — отвечал Чичиков, засветив глаза свои любезными огоньками при одном лишь упоминании имени нового губернатора. — Во—первых, поздравить со вступлением в должность, мы ведь с ним старые уже знакомые, а потом, дело у меня до него, — сказал Павел Иванович.
— Ну, мы тоже с ним старые знакомые, я ещё с батюшкой его приятельствовал, да ты, почитай, знаешь, — сказал Варвар Николаевич, вспомнив, как он расписывал дружбу свою со старшим Леницыным — а насчёт дела, вот что... Давай—ка отойдем, братец, нам с тобою как раз надо двумя словами перемолвиться, — и, взяв Павла Ивановича за локоток, он отвёл его в сторонку.
— Помнишь ли ты наш разговор об этом, с позволения сказать, господине? — спросил он со значением, заглядывая Чичикову в глаза.
— Это об ком? — не сразу догадался Чичиков.
— Ну, об этой скотине, об Тентетникове! — рассердившись его забывчивости, возвысил голос Варвар Николаевич.
— Ах, ну как же, как же! Очень даже помню, — оживился Чичиков.
— Так вот, я уже сообщил куда следует, — чуть ли не шёпотом произнёс Вишнепокромов, делая таинственные глаза.
— Но, я надеюсь, без имён и чинов? — забеспокоился Чичиков.
— Не волнуйся, Павел Иванович, всё сделано а—но—ним—но! — произнёс Варвар Николаевич, приятственно улыбаясь, — бумага пошла на имя полицмейстера, прокурора и губернатора, ну а те, сам понимаешь, обязаны генерал—губернатору донесть, так что жди через недельку—другую следователей из самого Петербурга.
— Это хорошо, Варвар Николаевич, но только действительно ли анонимно, а то как по забывчивости приписали, что вот, дескать, со слов такого—то писан мною сей донос? — снова спросил Чичиков, так как не хотел быть в это дело втянутым.
— Да что ты, ей—богу! Разве я не понимаю, ведь не злодей же я какой, чтобы тебе, братец мой, ножку подставлять, — обиделся Варвар Николаевич. — На сей счёт можешь и не думать, всё пойдет как по—писаному, не сомневайся.
Они ещё потолковали о всяких незначащих вещах минут пять, а может быть, и немногим более, так как никто из них на часы не глядел, а затем, давши слово Варвару Николаевичу заехать к нему с визитом в самом скором времени, Чичиков распростился с ним и отправился дальше, намереваясь встретиться с губернатором, дабы с его помощью подобраться поближе к старухе Ханасаровой.
Городской губернаторский дом встретил Павла Ивановича запахом свежей штукатурки, которою мастеровые, сидящие на лесах, мазали и латали дыры и прорехи на его фасаде. Дом к тому же обнесён был зелёным забором на тот случай, дабы проходящие мимо него городские обыватели не попали ненароком в беду, ведь того и гляди свалится с верхотуры ведро извёстки, облепляя прилежно всю фигуру прохожего, с самой макушки и до кончиков сапог, или же, того хуже сорвётся кирпич из—под карниза, а тогда уж, милостивые государи и государыни, не отделаетесь одним лишь протиранием глаз да отряхиванием кафтана; да—с, с этим шутки плохи. Но, как мы уже сказали, жизнь городских обывателей сейчас была вне опасности благодаря высокому зелёному забору, за которым лежали сваленные в кучу новые зубчатые литого камня узоры, карнизы, наличники, львиные морды с оскаленными зубами, амурчики, весело взмахивающие крылышками; всё это в скором времени должно было быть налеплено на стены, дабы подчеркнуть высокий столичный вкус молодой губернаторши.
И внутри дома всё тоже было новое, чистое, всё пахло свежею краскою, а в большой гостиной зале, куда провёл Чичикова ливрейный лакей, отправившийся доложить об госте, под самым потолком разгуливал по огромным деревянным козлам художник, расписывая плафон с какой—то плохо понятной аллегорией.
Фёдор Фёдорович Леницын, с которым расстались мы уже порядочное время назад, не заставил Павла Ивановича ждать. Сияя радужною улыбкою, вошёл он в залу и пожимая Чичикову руку, в дружеском приветствии произнёс:
— Рад, очень рад вас снова увидеть, Павел Иванович. Это сколько же вы отсутствовали?
— Ох, и не говорите, ваше превосходительство! Отсутствовал, каюсь, отсутствовал. Всё, признаться, дела, да и помимо дел была пренеприятнейшая комиссия. Хотя что я вам об этом говорю, вы, надо думать, и так всё про то знаете.
— Да, слухами, как говорится, земля полнится, но я вам скажу откровенно, что и тогда, когда разосланы были с вестовыми ваши приметы по всей губернии, я не мог поверить, что бы вы, Павел Иванович, могли похитить девицу. Я знал, что это какая—то ошибка. Да и жена моя не верила в это и всё вспоминала, как играли вы с нашим Володечкой, и как он вам фрак испортил и всё говорила "не может быть, чтобы такой человек мог такое совершить", а она у меня в людях разбирается...
— И тем не менее пришлось посидеть в остроге, — отвечал Чичиков, разводя руками, — пострадал ни за что ни про что. Господину Самосвистову пряник, а мне кнут. Совсем как в той поговорке...
— Ну, это наш князь, конечно, погорячился, — сказал Леницын, имея в виду генерал—губернатора, — но и вы должны понять — такое дело: девица пропала, следов нету, подозревали даже самое худшее — смертоубийство; вот он, видимо, и переволновался, а вам, бедный Павел Иванович, досталось. Ну, да ничего, за одного битого двух небитых дают.
— А позвольте спросить, как ваш сынок, такая душечка, чай, подрос за это время, — спросил Чичиков, переводя разговор на более приятный и близкий до губернатора предмет.
— Подрос, подрос, стервец, — отвечал Леницын с улыбкою, — уже на ножках стоит, того и гляди, пойдёт... В следующий раз обязательно вам его покажем, а сейчас он у нас наелся и спит.
При этих словах Павел Иванович состроил в лице такое выражение, что стало видно, с каким нетерпением и восторгом будет он ждать этого обещанного ему губернатором "следующего раза".
Потом разговор как—то словно бы сам собою перешёл на спорную пустошь, на тяжбу, что затеяна была между Леницыным и братьями Платоновыми.
— Причём заметьте, любезный Павел Иванович, я этой тяжбы не затевал, — вставил Леницын, — видать, господа Платоновы хотят выказать сим своим поведением неуважение ко мне, мелкопоместному, как они не раз уже изволили выразиться, выскочке, ну, а коли уж мне брошен вызов, то я от него уклоняться не собираюсь.
— Боже, как я в них ошибался, — сказал Павел Иванович, страдальчески поднимая к потолку глаза, — а ведь, видит бог, чистосердечно хотел помочь, не допустить до суда. О, милостивый государь, если бы вы только знали, как они поступили со мною, воспользовавшись моим отсутствием и тем, что я не до конца внёс ещё деньги за имение небезызвестного вам господина Хлобуева, перекупили его у меня. Столкнулись с Хлобуевым, дали ему денег и всё — уплыло моё имение... — сказал Чичиков, повесив голову.
— Да что же это такое! — возмутился губернатор, — что позволяют себе эти господа? Они, что ж, думают, что управы на них нет?! Пишите жалобу на моё имя, а уж я с ними разберусь, — сказал Фёдор Фёдорович, решительно глядя на Чичикова.
— Не имеет смысла, — отвечал Чичиков потерянным голосом, так, точно и вправду был несказанно опечален потерею имения, — купчая не была составлена. Ведь я половину денег отдал Хлобуеву так, под честное слово. Он их, видать, прогулял, а гулять—то ведь хочется, вот тут Платоновы и подвернулись... Кстати, а что насчёт завещания? — спросил Чичиков будто невзначай, будто только сейчас пришёл на ум этот вопрос, — не одумалась ли ваша тётушка? Ведь и вправду, не приведи Господь, оставит всё этому вертопраху, что делать—то тогда будете?
— Даже и не знаю, что вам отвечать, Павел Иванович, но только говорят, будто завещание уже написано и по нему всё, за исключением какой—то мелочи, отходит к Хлобуеву, — сказал Фёдор Фёдорович и отвел глаза к окну.
— А всё по одной только причине, — проговорил Чичиков со значением, — потому что нет рядом с вашей тётушкою человека, могущего ей открыть глаза на её ошибку, растолковать, эдак ненароком, что есть и другие наследники, куда более достойные, чем этот "блудный сын", люди, которыми могли бы гордиться первейшие семейства в нашем отечестве!
— Полноте, полноте, Павел Иванович, не стоит горячиться, "всё в руце божией", и что сделано, то сделано, — проговорил губернатор примирительно, но по всему было видно, что ему приятны слова, сказанные Чичиковым.
— Знаете что, ваше превосходительство, я вас вновь об этом прошу, но ради своего семейства, ради Володечки, познакомьте меня с вашей тётушкою, ведь вам это ни во что не станет, а там поглядим, чья возьмёт, — продолжал говорить Павел Иванович, разыгрывая горячность.
— Ну хорошо, — согласился Леницын, — как раз сегодня вечером я приглашён тётушкою на ужин, так что если уж вам так того хочется, то жду вас здесь у себя около седьмого часу, вместе и поедем.
На этом они и расстались, Чичиков откланялся, просив передать приветы супруге Фёдора Фёдоровича, и, не чуя под собою от радости ног, пошёл на улицу.
Ах, какой восхитительный день был за окном. Ах, какое привольное небо, и тёплый ласковый ветерок, что перебирал блестящие на солнце, точно лаковые, листочки берёз. Тонкие серпики ласточек чертили на голубом небосводе прозрачные круги и повороты, с весёлым писком гоняясь за всевозможными, невидимыми отсюда с земли мошками и мухами, которых, впрочем, достаточно много было и здесь внизу. Вероятно, мухи точно так же, как и Павел Иванович, были в восторге от погожего денька, потому как многие из них грелись на солнце, рассевшись по стенам домов или дощатым заборам, иные же — и их было большинство — с упоением жужжа носились из лавки в лавку, из окна в окно, норовя влететь на кухню, где для них всегда найдется пожива, или же в какое другое, известного свойства место, которое с их точки зрения, наверное, уже было раем.
А Павел Иванович и вправду пребывал в преотличнейшем настроении, он понимал, что находится в такой близи от огромных денег, которые вполне могли бы стать его деньгами, что остаётся только руку протянуть, чтобы положить их к себе в карман. И приданое, и наследство были уже совсем рядом, так что оставалось пройти совсем уже немного и главное было не оступиться. Всё сейчас зависело только от самого Чичикова, от того, что он сделает, как скажет, как посмотрит; иными словами, наступал решающий час. Насчёт Тентетникова он не беспокоился и, к слову сказать, ничуть не жалел его. "Ну, подумаешь — сошлют в Сибирь, — думал Павел Иванович, — ничего страшного, и в Сибири люди живут".
Странное дело, но Чичиков совершенно не сомневался в том, что Улинька, и приданое достанутся ему. Он очень рассчитывал на хорошее к себе расположение его превосходительства, а с другой стороны, ободрял себя тем рассуждением, что других женихов—то нет, почитая себя достойной для Ульяны Александровны партией. Он словно бы совсем запамятовал о том, бывшем недавно с ним происшествии, и обо всей этой истории с испанскими баранами, вылезшей наружу, и точно не понимал, что генерал Бетрищев вряд ли захочет иметь зятем бывшего под следствием человека.
Но таково свойство иных натур, и даже многих и многих натур, закрывающих свои глаза на собственные же проделки и проступки, почитающих их разве что не детскою шалостью и думающих, что таковыми их будут почитать и другие. Сколько же их развелось, подобных господ, что, совершая очередную пакость, говорят себе: "Ну да ладно, ничего в этом нет, да к тому же я ведь хороший человек, и душа у меня светлая и чистая", и с чистою душою устремляющихся до следующей пакости.
Но в этот раз герой наш отправился в трактир, благо дело шло к обеду, где он довольно плотно перекусил, а затем, отобедавши наведался в Гражданскую палату, но господина Самосвистова не застал по той причине, что, как ему было сказано, Модест Николаевич уехали в имение к матушке и воротятся не ранее, как через неделю.
До седьмого часу было ещё довольно времени, и Чичиков стал думать, чем бы занять себя во все те часы, что оставались до встречи с Леницыным. Слоняться по городу на виду у всех он опасался, так как, не приведи Господь, а могло дойти до генерал—губернатора, что вот, дескать, господин Чичиков, манкируя его распоряжением, разгуливает по улицам губернского города безо всякой надобности. А что? Таковы наши губернские города, в которых всегда достает "доброхотов", только и ждущих случая, чтобы шепнуть словцо—другое в нужное ухо. Но почему мы взяли да вдруг и обидели губернские города, ведь таковы и наши уездные городишки, да что там греха таить — в наших обеих столицах также немало проживает тех, кто чувствует нестерпимый зуд в языке; просто вот так взяли бы да и поскребли ногтями...
Но вернемся к Павлу Ивановичу, что в нерешительности стоит на углу у Гражданской палаты, не зная, куда бы ему направить свои стопы. Сидеть в душном трактире четыре часа кряду Павлу Ивановичу вовсе не хотелось, да и не усидишь, ведь нужна смена не только блюд, но и прочих впечатлений, а что в трактире: жующие лица, звяканье посуды да крики половых, выкликающих очередной заказ. Это кому угодно может надоесть, а тем более такому господину, как Чичиков, чей живой и бойкий ум всегда требовал перемены мест и обстоятельств, могущих развеять его. И может быть, поэтому Павел Иванович не заметил сам, как добрёл до здания театра, у которого в прошлый раз его остановила красочная афиша, изображавшая, как мы помним, весьма аппетитного вида девицу. Афиша и нынче была на старом месте, правда, это была уже другая афиша, и уже новая девица, не менее пышная, чем прежняя, улыбалась с неё Чичикову. Но пьеса, как было видно из афиши, хоть и называлась иначе — "Слёзы любви", тем не менее принадлежала перу всё того же господина Мордасова, со всё той же "несравненной Жози Перепёлкиной" в главной роли. Увидевши, что сегодня даётся дневное представление, которое к слову сказать началось, Павел Иванович направился к окошку кассы и, купивши входной билет, заспешил в театр, правильно рассудив, что для того, дабы убить время и не попасться кому не следует на глаза, лучшего места, чем тёмный и полупустой зал театра, не найти. Отыскав в темноте своё место, он уселся поудобнее, вздохнул с облегчением, как вздыхает человек решивший некий довольно беспокойного свойства вопрос, и принялся глазеть на сцену, по которой, топорща наклеенные усы, расхаживал некто в цветных шароварах и в тюрбане, как вскоре стало понятно, изображающий некоего восточного султана. К нему так и обращались: "Великий господин султан". По ходу пьесы "великий господин султан" беспрестанно пытался уличить в неверности свою любимую наложницу, вывезенную им из Абиссинии, которую, как можно было догадаться, изображала "несравненная Жози Перепёлкина" — белокурая и белолицая, видно, поленившаяся загримироваться к дневному спектаклю, и тем не менее, надо сознаться, взволновавшая нашего героя, но не своею игрою, а большою, мерно колыхавшеюся при каждом её движении, грудью. Павел Иванович вдруг ощутил давно не возникавшее в нём влечение к женщине, которое было затёрто, запрятано куда—то в самые отдалённые уголки его души и о котором он, можно сказать, позабыл за всеми этими мёртвыми душами, за всеми разъездами да приключавшимися с ним происшествиями, а тут то ли тишина и покой зала, удобные плюшевые кресла, бумажные пальмы на сцене, то ли сама героиня, то и дело воздымающая полные обнажённые руки возглашающая непрестанно: "О, я несчастная, горе мне!" — что тоже действовало на Чичикова, с умилением глядящего на её крутые бедра, явственно проступающие через шёлковую ткань шаровар, более походящих на панталоны, но, так или иначе, что—то дрогнуло у него не то под сердцем, не то в желудке и он, сам удивляясь себе, решил, что мадам Перепёлкина очень уж хороша, и даже от полноты чувств подумал, что таким, как она, вполне уместно выступать на столичной сцене. Но, впрочем, это рассуждение целиком на совести нашего героя.
В перерыве спектакля он вышел из театра и, купив в цветочной лавке большой букет цветов, послал его в уборную госпожи Перепёлкиной, приложив к нему ещё и карточку, на которой вывел своим аккуратным каллиграфическим почерком: "От восхищённого Вашею игрою и Вами! Чичиков Павел Иванович — помещик". Что, конечно же, было неправдой и в отношении игры, и в отношений помещика.
Дождавшись окончания пьесы, в финале которой "великий господин султан" сначала прощал госпожу Перепёлкину, а затем неожиданно для зрителей всё же прирезал её большим картонным ножом, Павел Иванович похлопал, но не так чтобы очень уж бурно, а в своей всегдашней деликатной манере, слегка склонивши голову набок, и, решив в самое ближайшее время снова наведаться в театр, отправился в дом к губернатору, благо было уж шесть часов вечера.
Леницын встретил Чичикова, как всегда радушно, извинившись за то, что губернаторша не может выйти, потому как занята туалетом.
— Сегодня новое платье привезли, — сказал он, на что Чичиков, состроив понимающее и несколько снисходительное выражение, отвечал, слегка разведя руками:
— Ах, дамы, дамы! Для них это важно...
Губернатор, видать, для того, чтобы занять гостя, велел позвать мамку с Володичкой, и та вскоре явилась с пухлым младенцем на руках. Мальчик и вправду подрос, и Леницын с гордостью стал показывать Павлу Ивановичу, как тот хорошо уже стоит на ножках, обхватив ручонками палец своего отца, а Чичиков, помня, чем закончилась прошлая его возня подле Володички, стоял, умилённо моргая глазами и приложивши руки к груди, и повторял: — Боже ты мой, как хорош, как хорош... А вырос—то, вырос—то как! — но приблизиться с тем, чтобы подхватить мальчонку на руки, как было то в прошлый его визит, не решался.
— Я вам прямо скажу, ваше превосходительство, не в обиду супруге вашей, но пошёл в отца. Одно лицо с вами, — проговорил Чичиков, несмело протягивая руку и гладя ребёнка по покрытой золотистым пушком головке, на что тот поднял глазёнки на Павла Ивановича и ухватился второю ручонкою за его палец.
— Ах ты, душечка! — сказал Павел Иванович, чуть ли не прослезившись, а сам подумал: "Не приведи Господь, запросится канальчонок на руки".
Но тут в залу вышла молодая губернаторша. Павел Иванович, аккуратно высвободив палец из ручонки малыша, с прискоком подошёл к ней и, приложившись к протянутой ему губернаторшей руке, подумал: "Бедняжка, и новое платье не красит", что было правдою, ибо новое, серого шёлку, платье, отделанное голубыми лентами, с жабо белого газу, не шло ей, и несмотря на убранные по последней моде волосы, на букетик фиалок, приколотый к лифу, она всё же была похожа на маленькую серую мышку, теребящую в своих лапках концы голубой, затканной мелкими розами, шали. Произнеся все известные и приличествующие случаю слова, Павел Иванович тут же перевёл разговор на Володичку, сказавши, что не ожидал встретить его настолько выросшим и что можно лишь диву даваться, как ребёнок смышлён, и Павел Иванович якобы никогда не видал, чтобы ребёнок в таком младенческом возрасте был так развит.
— Нет, право слово, если бы не знал, сколько ему, я бы тут же подумал, что ему не иначе как третий год, — соврал Чичиков, но по тому, как расцвели улыбками лица обоих супругов, понял, что достигнул цели.
Однако пора было отправляться к тётушке, и наш герой в сопровождении губернаторской четы устремился навстречу столь долгожданному знакомству, чувствуя, как у него замирает сердце от волнения, потому как вот он приближался, может быть, главный миг его жизни, и сейчас, через каких—нибудь десять минут, ему нужно будет не рассуждать, а действовать, и все его поступки должны быть правильными, ошибок в них быть не должно, так как своенравная старуха Ханасарова, обносившая, как он слышал, не понравившихся ей гостей тем или иным блюдом во время обеда, вполне могла и ему безо всяких церемоний указать на дверь.
Леницын пригласил Павла Ивановича в свою коляску, и Чичиков, велев Селифану следовать за экипажем его превосходительства, уселся напротив обоих супругов, после чего эта маленькая процессия, заключаемая двумя конными жандармами, может быть, даже и теми, что везли совсем недавно Павла Ивановича в острог, двинулась в путь.
Дорогою Чичиков, желая выведать у его превосходительства, дошли ли до него сведения об Тентетникове, завёл разговор о своём благодетеле генерале Бетрищеве, эдак незаметно перейдя на предстоящее замужество Ульяны Александровны, и по тому, как быстро и со значением глянули друг на друга супруги Леницыны, он заключил, что, во—первых, донос дошёл по назначению, а во—вторых, что его превосходительство губернатор делился со своею дражайшею половиною делами даже такого щекотливого свойства. Да и Леницын подтвердил его соображение на сей счёт, сказав:
— Дорогой Павел Иванович, я, к сожалению, не могу вам пока всего рассказать, но сдаётся мне, что свадьбы этой не будет. Но только, прошу вас, это исключительно между нами.
— А что, неужто поссорились? — спросил Чичиков, глядя на губернатора невинным взглядом. — Я, признаться, не заметил меж ними охлаждения. Хотя кто знает...
— Нет, не в этом дело, — отвечал Леницын, — тут совсем другое, но, повторяю, не смею пока сказать вам более того, что сказал.
— Просто дело в том, — вступила в разговор губернаторша, — что Господь рано или поздно карает наших недругов. Вы, верно, Павел Иванович, и не знаете, как в своё время этот молодой человек обошёлся с Фёдором Фёдоровичем, кстати сказать, к нему благоволившим, но я ещё тогда сказала: "Феденька, такие поступки просто так не проходят, за все придётся отвечать..." — вот и настал час.
— Полно тебе, Машенька, полно, при чём тут эта старая история, — примирительно произнёс Леницын, — тут дело такое завелось, что и подумать страшно.
— Бог ты мой, Фёдор Фёдорович! Да что ж это за дело такое, скажите на милость, не томите, ради Христа! — вскричал Павел Иванович, изображая волнение, — клянусь вам, что дальше меня не пойдёт. Можете в этом не сомневаться.
— Нет, нет, не могу, не обессудьте, одно лишь скажу, что дело это политическое и касается до верности трону и отечеству. Так что видите, Павел Иванович, я и так уж вам многое сказал, — произнёс Леницын, показывая этим, что дальше говорить не имеет права.
— О Господи! — чуть не простонал Чичиков, — а я—то, я—то стараюсь, родственников объезжаю... Ах, бедный, бедный Александр Дмитриевич, представляю, ему—то каково будет. Кстати, — обратился он до Леницына, отрываясь от своих стонов, — его превосходительство генерал Бетрищев ещё ничего не знает?
— Нет, конечно, да и вы, смотрите, ему покамест ничего не говорите. А вдруг не подтвердится. Ославим и невесту, и старика.
— Обещаю вам, ваше превосходительство, буду нем, как рыба, можете даже не беспокоиться.
Проведя дорогу за таким приятным для Павла Ивановича разговором, герои наши подъехали к дому губернаторовой тётушки. Дом был каменный, на высоком фундаменте, о двух этажах; и при одном взгляде на него ни у кого не оставалось и тени сомнения в том, что живёт тут какой—нибудь богатый кремешок, что копейки не выпустит из своей руки, и те, кто впервые переступали его порог, удивлялись, что таким кремешком может быть ветхая старушка, которую возит в особом кресле с колёсами, может быть, чуть менее ветхий лакей. Несмотря на то, что за окном было ещё довольно светло, в комнатах, тем не менее, горели свечи, а в большой зале было протоплено, как понял Павел Иванович по сухому тёплому воздуху, пахнувшему в лицо еле уловимым запахом сгоревших поленьев, — видать, ветхое тело старухи зябло даже летом. И, вправду, когда вошли они в залу, навстречу им вывезли в скрипящем колёсами кресле кутающуюся в шерстяной платок хозяйку, ту самую старуху Ханасарову, что, как знал Чичиков, стоила три миллиона. К белым седым буклям её пришпилен был белый же кружевной чепец, а из—под мохнатых бровей глядели на вошедших насмешливые прозрачные глаза, точно чужие на этом худом морщинистом лице.
— Ну что, пожаловали? — спросила Александра Ивановна не то насмешливо, не то грозно и подставила губернатору сухую щёку для поцелуя. — А это кто с тобой? — спросила она, показав на Чичикова костлявым пальцем, — чай, впервой вижу молодца?
— Разрешите вам отрекомендовать, тётушка, Павел Иванович Чичиков, мой, можно сказать, приятель. Очень наслышан про вас и всё просил его вам представить, — сказал Леницын, подводя Чичикова к креслу Александры Ивановны.
— Это зачем же я тебе понадобилась, мил человек, — спросила она у Чичикова, — я ведь не девица, а старуха старая?
На что Чичиков, склонивши почтительно корпус в полупоклоне и слегка отведя руки назад, отвечал, что, являясь ближайшим другом генералу Бетрищеву, много слышал хорошего об её особе и, более того, при последней встрече с архимандритом, коего посещали они вместе с генералом Бетрищевым, его святейшество сказывали о тех больших пожертвованиях, что делаются Александрой Ивановной на церковь, вот почему он и счёл за долг, за священную обязанность засвидетельствовать ей своё почтение. К чему приплёл Чичиков архимандрита, неизвестно, тем более что никакого разговору о старухе Ханасаровой у них не было; как—то само собою с языка слетело, но, видать, возымело действие, потому что, поглядев на него пристально из—под мохнатых бровей, старуха помолчала немного, а затем произнесла, словно бы смягчась.
— Ну да ладно, оставайся к ужину.
— Вы понравились тётушке, — шепнул Леницын Чичикову, когда они проходили вглубь гостиной, из которой побежали им навстречу, потявкивая и подбрасывая на бегу кургузые задики, маленькие тупорылые собачонки, жирные, точно поросята. Подбежав ко вновь вошедшим, они с сурьёзным видом стали обнюхивать им сапоги, фыркая от забивающейся им в носы пыли. Павел Иванович подхватил одного из пёсиков — того, что был поближе — на руки и немного громче, чем обычно, верно, чтобы слышала Александра Ивановна, проговорил:
— Ах, какой ты миленький, ах, какая у нас мордашка, ах ты, деточка, — прижимая его якобы в порыве тёплых чувств к своей пухлой щеке.
Пёсик, которому, видать, пришлась по душе ласка, лизнул Чичикова в щёку, в нос и всё норовил лизнуть Павла Ивановича в губы, но тот очень умело, не показывая виду, что ему неприятны столь обильные слюною собачьи поцелуи, всякий раз уворачивался, подставляя под липкий розовый язычок то щёку, то ухо.
Старуха Ханасарова с одобрением смотрела из своего кресла за этой сценою, и потому, как у неё засветились улыбкою глаза, Чичиков понял, что он на верном пути.
— Александра Ивановна, матушка, что это? Откуда такая прелесть? — спросил он, смелея и обращаясь к суровой хозяйке с видом изумления и восторга в сияющем лице.
— Это мой любимец — Жак, — отвечала старуха, улыбаясь Павлу Ивановичу. — А это Аннет, — указала она на трущуюся у его ног другую собачонку, которую Чичиков тут же подхватил на руки, и теперь обе его щеки быстро покрывались собачьею слюною. "Что, давно блох не набирался" — спросил он сам у себя, но отмахнулся от этой пришедшей в голову некстати мысли, подумавши в ответ: "Да пусть хоть с ног до головы облепят — был бы толк". А толк, надо сказать, уже был, ибо все, кто только ни находился в зале, включая сюда и гостей и приживалок, и лакеев, да и самого губернатора с губернаторшею, с умилением глядели на стоящего посередине гостиной залы счастливого улыбающегося Павла Ивановича с двумя исходящими слюною собачками па руках. Так что ежели бы слюны было поболее, то он вполне сошёл бы за украшение для фонтана, одно из тех, что имеются во многих парках многих наших городов.
Одним словом, Павел Иванович пришёлся тут ко двору, он почувствовал это и по обращённым на него взглядам, и по тому, как Александра Ивановна, поманив его своею покрытой старческими веснушками рукою, усадила подле себя и, пока гости ожидали ужина, стала выспрашивать у него, кто он таков и откуда. На что наш герой отвечал уже так хорошо знакомой нам присказкою, помянув и барку, мечущуюся по воле волн, и врагов, покушавшихся на самое жизнь его, не забыв помянуть и о том, что был недругами своими доведён до столь плачевного состояния, что, можно сказать, одною ногою стоял уже в могиле и ежели бы не отворили ему вовремя вену, то не пришлось бы ему нынче беседовать с любезною хозяйкою.
Известие об отворённой вене очень заинтересовало Александру Ивановну; услышавши это, она даже встрепенулась, так что дрогнули кружева на чепце, и стала выспрашивать Чичикова о подробностях кровопускания: что да как делается докторами, больно али нет. И Чичиков подчёркнуто деловым тоном, но не сменяя любезности в лице, давал обстоятельные ответы.
— И мне, батюшка, неплохо бы вену отворить, — сказала она, выслушав Чичикова, — а то кровь в ногах совсем застоялась. Вот они и не ходят. И в ушах поутру всё шум, пока кофию не выкушаю.
На что Чичиков отвечал, что знает якобы одну бабу, которая заговорами очень хорошо помогает от зубной боли и от шума в голове, и если Александра Ивановна решится, то он с охотою готов эту бабу сюда привесть.
— Приведи, батюшка, приведи, а то измучилась я совсем: всё шумит да шумит, пока кофию не выкушаю.
— Ну, коли вы дозволяете, то стало быть, завтра я её к вам и приведу. Вы, Александра Ивановна, скажите только, когда вам удобно, — ответил Чичиков, а сам подумал: нужно будет с какой—нибудь бабою завтра сторговаться, чтобы исполнила бы комедию. "Ну, да за целковый, думаю, желающие найдутся".
— А прямо с утра и приводи, — сказала Ханасарова, — с утра—то ведь шумит, вот ты её с утра и приводи.
Тут старый лакей объявил, что кушать подано, и хозяйка пригласила всех в столовую.
— Вы позволите, матушка Александра Ивановна, проводить вас к столу! — спросил Чичиков, отстраняя стоящего за креслом лакея и берясь за особую рукоять, торчащую из спинки кресла.
— Да уж сделай милость, любезный, — отвечала Ханасарова, с улыбкою глянув на Павла Ивановича. — Кстати, можешь сесть от меня по левую руку, — добавила она, — по правую сядет Фёдор Фёдорович, а ты уж по левую; ну давай вези, — добавила она, и Чичиков, толкая впереди себя поскрипывающее колёсами кресло, покатил его в ярко освещённую столовую.
Утром Павел Иванович проснулся рано. Накануне вечером, уже после ужина у Ханасаровой, где сумел он произвести на всех прекрасное впечатление, Павел Иванович был приглашён губернаторскою четою провесть ночь у них, потому как путь до имения генерала Бетрищева — обиталища нашего героя, был неблизкий, а поутру он обещал, и это было уговорено с Александрой Ивановной, явиться к ней с якобы имеющейся у него знахаркою, той, что зашёптываниями лечила от всяческих хворей, в том числе и от шума в голове.
Поэтому, проснувшись ни свет ни заря, Павел Иванович велел кликнуть своего кучера Селифана. Об чём—то перетолковав с ним за закрытыми дверьми, он приказал заложить ему лошадей и, не позавтракавши, выехал из губернаторского дому, даже не повидав хозяев, а только передав через лакея, что воротится пополудни.
Солнце ещё не вставало, а лишь посылало первые несмелые свои лучи из—за горизонта, и те, нашаривая редкие мелкие облачка на небосводе, красили их в розовые цвета зари. Въехав в небольшую слободку, коляска Павла Ивановича подкатила к неказистому, потемневшему от времени деревянному дому, и Селифан, спрыгнувши с козел, прошёл в ворота, встреченный, точно старый знакомый, большим рыжим псом, что, увидевши Селифана, завилял хвостом и дружески толкнулся ему мордою в бок. Через минуту—другую Селифан воротился в сопровождении худой, небольшого росту бабы, кутающейся в платок и зыркающей на Чичикова быстрыми, хотя ещё и немного заспанными глазами.
— Она и есть, Павел Иванович, — сказал Селифан, кивая на бабу.
— Вот и хорошо, — отозвался Павел Иванович, — одевайся, милая, поедешь с нами; в дороге и поговорим. — А сам подумал: "Надо же, какую образину себе нашёл, ну да и сам хорош — рожа", — имея в виду, конечно же, Селифана.
Усадивши наскоро одевшуюся бабу в коляску и наглухо застегнувши полог, дабы уберечься от любопытных взглядов, Чичиков велел Селифану ехать до доктора, а сам принялся втолковывать бабе, к слову сказать, оказавшейся довольно смышлёной, то, что предстояло ей сегодня изображать.
— Сделаешь, как надо, — получишь рубль, — сказал Чичиков, показав ей для верности серебряную кругляшку.
— Сделаю, барин, как не сделать, — отвечала баба, зыркнув глазами на рубль и, видимо, уже соображая то, как будет разыгрывать перед старухою Ханасаровой комедь.
— Ну, вот и ладно, а там посмотрим — может, не раз и не два ты мне понадобишься, — сказал Чичиков, — платить буду хорошо...
Он не успел договорить, потому что коляска остановилась у докторского дому и Селифан, поворотившись на козлах, объявил:
— Приехали, Павел Иванович!
Оставивши свою попутчицу, уже ставшую его сообщницею, он заспешил к доктору. Поднявшись на второй этаж большого каменного дома, Чичиков стал трезвонить в висящий над дверью колокольчик и трезвонил до тех нор, пока сам доктор, встрёпанный после сна и в косо застёгнутой рубахе, не отворил ему дверей квартиры. Не дав ему опомниться, Чичиков, постанывая и морщась, точно от испытываемой им боли, ввалился в переднюю и, обмякнувши в кресле, повесив плетьми руки, стал умолять доктора дать ему поскорее порошков от нестерпимого шума и боли в голове.
— Раньше хотя бы кофий помогал, — стеная и страдальчески поднимая на доктора глаза, говорил Павел Иванович, — а нынче такой шум, такой шум...
На что доктор понимающе кивнул головой и принялся осматривать нашего героя, изучая пульс, оттягивая ему веко, выслушивая деревянною трубочкою грудь и спину.
— Понятно, понятно, — приговаривал он, заставив Павла Ивановича показать язык и заглянувши ему в глотку. — Но что у вас больше: шумит или болит? — спросил он, заканчивая осмотр.
И Чичиков, подумавши, что не стоит изображать особенно уж сильную боль, а не то получишь ещё не тот порошок, отвечал, что боль уже почти прошла, но шум в голове настолько силён, что даже слова доктора слышны не совсем ясно.
— Ну что ж, милостивый государь, — произнёс доктор, делая умное лицо, — это всё от дурной крови. Её, по всему видать, у вас чересчур много, так что не мешало бы её выпустить.
Услыхавши такое, Чичиков струхнул. Во—первых, больно, во—вторых, не получить столь нужных ему порошков; в—третьих, опоздает к Ханасаровой. Поэтому он стал энергически отказываться, ссылаясь на что, совсем недавно над ним уже проводилась подобная операция, как видно, не давшая нужных результатов.
— Мне бы порошков, — просил он у доктора, — порошков, но так, чтобы наисильнейших. А если не помогут, то тогда уж извольте — отворяйте вену.
— Хорошо, — подумавши, согласился доктор, — есть у меня одно средство, но предупреждаю вас, очень сильное, так что с ним надобно обращаться осторожно, а то можно и навредить.
Встав из—за стола, он отправился в другую комнату и вскоре появился с картонною коробочкою в руках.
— Вот оно, — сказал доктор, — я вам сейчас пропишу, как его принимать, а вы наведайтесь ко мне, милейший, через недельку. Там и решим, что с вами дальше делать.
Написавши записочку, он передал её Чичикову вместе с коробочкою, велев принять один порошок сей же час, чему Чичиков, не посмев возразить, подчинился.
— Два часа ничего не есть, — распорядился доктор, и Павел Иванович послушно кивнул, чувствуя, как голова его делается лёгкою и его начинает клонить ко сну.
— Спасибо, доктор, — сказал он, силясь превозмочь подступающую зевоту, — сколько я должен вам за порошки?
— Пять рублей, — не сморгнувши глазом, сказал доктор, а Чичиков почувствовал, как с него разом слетает подкравшийся было сон, но ничего не сказал на это и, послушно вытащив из бумажника ассигнацию, положил её на сукно докторского стола.
Уже трясясь в коляске по направлению к дому старухи Ханасаровой и поклёвывая носом, он помянул доктора несколько раз подлецом и сквозь наплывающую на него дремоту пробормотал сидящей рядом с ним женщине:
— Не забудь попросить у них там стакан воды. Воду будешь зашёптывать, — и снова заклевал носом.
Но долго продремать ему не пришлось, — в какие—нибудь десять минут коляска пробежала весь требуемый путь, и Чичиков, силясь согнать сонливость, прошёл в дом к Ханасаровой.
Александра Ивановна, как доложили ему, ещё почивала, на это он отвечал, что подождёт в гостиной, и, пройдя в залу, расположился на диване, намереваясь немного подремать, велев проводить привезённую им женщину на кухню, где она должна была дожидаться часу, когда её призовут.
Видать, порошки, выданные ему доктором, и впрямь были сильны, ибо, едва коснувшись головою диванной подушки, он точно провалился в тёмную зыбкую пустоту и забытье, из которого его вывели настойчивые постукивания по плечу и чей—то голос, призывающий пробудиться. Павел Иванович вскочил, протирая глаза и чувствуя неизъяснимую лёгкость в голове и во всём теле. Собачонки, что, воспользовавшись его дремотою, пригрелись у его бока, поспрыгивали с дивана, недовольно потявкивая и поднимая к нему свои приплюснутые мордашки.
— Александра Ивановна ждут—с, — доложил старый лакей, тот, что нежно, но настойчиво тормошил Чичикова за плечо.
— Веди, веди, — заспешил Чичиков, оправляя фрак и оглядывая себя — не измялся ли где костюм, пока дремал он на диване в гостиной.
Лакей провёл его в комнату Александры Ивановны, что уже, прибравшись, ждала Чичикова в своём колёсном кресле.
— Здравствуйте, матушка Александра Ивановна, — проговорил Чичиков, сияя лицом и склоняясь над старушкою, чтобы приложиться к её высохшей ручке, — каково вам нынче с утра? Не шумит ли в голове? А то ведь я бабу—то привёл, на кухне дожидается...
— Шумит, батюшка, — ответила старуха, приветливо глядя на Павла Ивановича, — шумит и даже в ушах стукает: ровно часы.
— Тогда, может быть, испробовать бабу. Ну, конечно, если вы к тому расположены, — спросил Чичиков, участливо поглядывая на Ханасарову.
— Что ж, веди свою ворожею, — сказала Александра Ивановна и принялась было звать лакея, дабы послать его за дожидавшейся бабою, но Павел Иванович остановил Ханасарову, вызвавшись лично отправиться за нею, потому как ему надобно было самому подложить в стакан с водою нужных порошков.
Вытребовав у встреченного им старого лакея стакан воды, он велел привесть к нему сидевшую на кухне бабу, и пока лакей ходил за нею, развёл один из данных ему доктором порошков в воде, размешав его пальцем, так как ничего другого подходящего под рукою не случилось.
Отдав стакан с водою своей сообщнице, Павел Иванович повел её в комнату к Ханасаровой, шепнув дорогою:
— Как войдёшь, так тут же начинай чего—то шептать, кружиться, лопочи что—нибудь. Только не давай к себе приставать с расспросами. Поняла?
— Поняла, барин, — кивнула головою в ответ баба, осторожно неся стакан в вытянутой руке и боясь расплескать его на господские полы.
— Кстати, кличут тебя—то как? — снова прошептал Чичиков.
— Акулькою, барин, — так же шёпотом отвечала баба, не сводя взгляда со стакана.
— Вот и хорошо, — сказал Чичиков и, растворяя пред нею двери комнаты, в которой дожидалась "ворожею" Александра Ивановна, слегка подтолкнул Акульку в спину и сказал:
— Ну, пошла — с богом!
А в комнате за то время, что Павел Иванович отсутствовал прибыло народу. Поглядеть на ворожею собрались многочисленные приживалки, населяющие дом Александры Ивановны, среди которых Чичиков углядел и двух взрослых, одетых в чёрное, девиц, бывших воспитанницами Ханасаровой и приходившихся ей какими—то дальними родственницами. Ещё вчера за ужином увидевши их, Чичиков подумал, что вот кого надобно бы бояться Леницыну, а не какого—то там Хлобуева, потому что подобным девицам, как правило, и достаётся большая часть наследства воспитателя, почитающего за святую обязанность обеспечить приданым своих воспитанников, но потом эта мысль оставила его, потерялась за общим ходом бывшего за столом разговора; теперь же она вернулась вновь, и Чичиков, глянув на их пусть и постные, но свежие личики, ощутил некое беспокойство, но тут же поспешил успокоить себя, сказавши: "Да мне—то какая разница, что Хлобуев, что эти девицы, главное, чтоб дело выгорело".
А баба тем временем уже кружила по комнате, что—то шепча, топоча ногами и поплёвывая в углы. Она ходила по комнате каким—то странным прискоком, и Павел Иванович всё боялся, как бы она не споткнулась и не разлила бы воды с разведённым в ней порошком, но, к счастью для Чичикова, потоптавшись эдак минут с пять, баба, сопровождаемая напряжёнными взглядами зрителей, подошла к Александре Ивановне и, с поклоном протянув ей стакан, пропела протяжным тонким голосом:
Вот тебе, матушка—царица,
Свежа да жива водица,
Для здоровия сгодится,
Будешь снова молодица.
Ханасарова, глядя на неё сурьёзными глазами, протянула руку и медленно, не отрывая стакана ото рта, выпила воды. Все взгляды вокруг были устремлены на Александру Ивановну, а та, поставив стакан на поднос, поданный лакеем, сказала, точно прислушиваясь к чему—то, что происходило у неё в голове.
— И вправду, кажись, шумит меньше.
— Так и должно быть, матушка, — вставил Чичиков, незаметно оттирая Акульку к двери. — Минут через пять вас в сон поклонит, а затем всё как рукою снимет. Можете уж мне поверить, на себе испробовано, — добавил он, что, как знает читатель, было правдою.
И, действительно, минут через пять, как и обещано было Павлом Ивановичем, старуха Ханасарова, похрапывая, спала в своём кресле, успев, однако, перед тем, как погрузиться в сон, объявить, что в голове у неё легко и ничего не шумит, чем вызвала у своих приживалок радостное и возбуждённое изумление, а одна из воспитанниц сказала другой:
— Лизанька, я всегда утверждала, что народная медицина — чудо! Вот нам ещё один поучительный урок тому, как многому мы можем научиться у простого народа...
Она ещё что—то говорила в подобном духе своей сестре и поддакивающим ей приживалкам, но Чичиков не стал дожидаться окончания этой пламенной речи и поспешил увести Акульку до того, как опомнившиеся от изумления приживалки в купе с домочадцами бросятся к ней с расспросами, а та, не дай бог, ляпнет что—нибудь невпопад и расстроит таким образом тайну успеха народной медицины.
Условившись о том, что завтра об десятом часе утра она будет ждать его у дома старухи Ханасаровой вновь, Павел Иванович ссудил её обещанным серебряным рублём и отпустил восвояси.
Всю последовавшую за описанною нами сценою неделю Павел Иванович водил по утрам в дом к Ханасаровой свою знахарку Акульку и та, приплясывая да припевая, поила старуху "заговорённой" водою, после чего Александра Ивановна снова отправлялась почивать, а затем, проспав часов до двенадцати, появлялась в гостиной, уверяя всех присутствующих, что чувствует себя преотлично и что беспокоивший её ранее шум в голове исчезнул якобы совсем, чем вызывала всякий раз изумление у всех бывших в доме, и те, суеверно крестясь, возносили хвалу и благодарение Господу. Надо ли говорить, что Чичиков стал в доме у Александры Ивановны не просто, что называется, своим человеком, — имя его не сходило с уст и самой хозяйки, и многочисленного её окружения. То и дело слышалось: "Павел Иванович сказал", "Павел Иванович велел", "Павел Иванович просил"; все взоры, все помыслы, казалось, были обращены на нашего героя, и он превратился во что—то вроде пружины, что двигает зубчатые колёсики музыкальной шкатулки, заставляя её тренькать, наигрывая одну и ту же мелодию: "Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович". Заботы его распространяемы были уже не на одно только здоровье хозяйки дома, но и на её воспитанниц, с коими вёл он долгие душеспасительные беседы, и старушонок—приживалок, коим он презентовал кому шёлковый платочек, кому серебряный крестик или другую какую безделицу, и даже мопсиков, получивших от него новые ошейники, не обошёл он своим вниманием. Одним словом, всё жившее в доме почитало его своим благодетелем и при одном лишь звуке его голоса лица и глаза всех его обитателей начинали светиться радостными улыбками.
А старухе Ханасаровой и вправду делалось лучше, видать, порошки, прописанные доктором мнимобольному Чичикову, и впрямь были хороши, произведя требуемое действие. По этой причине Павел Иванович наведался на квартиру к доктору ещё раз, благо тот и сам велел ему заглянуть через неделю; и после недолгой беседы и осмотра, выложив снова затребованные доктором пять рублей, получил ещё одну коробочку с так нужными для зашёптывания хвори порошками.
Но ненадобно думать, что Чичиков все своё время отдавал лишь заботам об Александре Ивановне. Он, хотя и проводил у неё большую часть дня, тем не менее успевал наведаться и по другим своим делам, ибо дел приспело немало, и самое главное и важное для Чичикова было то, что шепнул ему Фёдор Фёдорович Леницын, разумеется под строжайшим секретом: из Петербурга прибыла целая следственная комиссия, которая тайно, дабы не спугнуть преступника до времени, собирает улики на Тентетникова, и будто бы улик этих набралось уже преизрядно. Надо сказать, что губернатор, видя тот успех, который Чичиков заимел у тётушки его Александры Ивановны, стал гораздо более к Павлу Ивановичу расположен, и даже предложил ему временно, пока дела держат Павла Ивановича в городе, оставаться у него, но Чичиков счёл для себя нескромным обременять своею персоною губернаторский дом и, отговорившись какой—то причиною, поселился в гостинице. Та изначальная робость — быть схваченным за нарушение генерал—губернаторского распоряжения не селиться в городе — у Павла Ивановича уже прошла, и он довольно открыто появлялся на людях и в компании Варвара Николаевича, и в компании Самосвистова, на которого женатая жизнь не возымела никакого действия и у которого вечерами на его городской квартире собиралась ватага приятелей, из которых, почитай, все были не дураки выпить и покутить. И Кислоедов с Красноносовым были тут, и тот толстяк судейский по фамилии Маменька, что поразил Павла Ивановича в имении Самосвистова своими размерами, коими он вполне мог бы поспорить с Петром Петровичем Петухом, тоже почти неотлучно находился при Модесте Николаевиче. Он ещё появится раз—другой на страницах нашей поэмы, и роль его хотя и мала — мелькнуть то там, то тут, всколыхнув жирным телом, но в то же время она и значительна и важна в затеваемом Павлом Ивановичем предприятии.
Но вернемся к нашему герою, к тем многим приспевшим его делам, которым он отдавал своё время. Во—первых, и это было самое главное, он выправил и совершил все купчие крепости, заключённые им ранее, для чего ему пришлось несколько раз наведываться в Гражданскую палату к приятелю своему Самосвистову и всякий раз поражаться той величавости манер, которую Модест Николаевич обращал на посетителей, разумеется, до Павла Ивановича это не касалось, но всякий раз, глядя, как он разговаривал с очередным просителем, Чичиков ловил себя на том, что в голове у него точно сами собою складывались слова "чиновная особа", да ещё и присовокуплялся к ним восклицательный знак — "!". Второе, но не столь важное, дело заключалось в продаже брички, ставшей ему ненужною после того, как Тентетников одарил его своею коляскою. Дело это, всё время откладывавшееся по многим известным читателю причинам, наконец совершилось — Павел Иванович избавился от своего экипажа, и нам, по совести говоря, немного жаль этого. Потому как мы привыкли видеть его восседающим в бричке, что бежит, мерно покачивая боками, вдоль городов и городишек, мимо полей и лесов, меряя версту за верстою, растворяясь в дальней дали, за которою, может быть, и ждут нашего героя счастье, надежда и покой.
И третье — наиболее приятное изо всех обделываемых Павлом Ивановичем дел, занимающее его не менее, чем предприятия с наследством и приданым, — было его ежевечернее посещение театра, куда наведывался он и со всею гурьбою своих приятелей, и один — сам по себе. Он пересмотрел все даваемые труппою представления и был уже вхож и за кулисы, и даже в уборную "несравненной Жози Перепёлкиной", за которою он, надо прямо сказать, волочился. Не знаем, добился ли он у "несравненной" певицы и танцовщицы успеха, но, судя по тому, как поздно возвращался он домой после спектаклей, и по той улыбке, что временами блуждала, точно без причины, по его задумчивому челу, мы думаем, что Чичикова можно было бы поздравить с победою; ну да полно об этом деликатном предмете.
Вот за подобными делами и заботами проводил Чичиков свои дни, и дни эти бежали, складываясь один к одному, точно карты в колоде, и название этой колоде было "Жизнь Чичикова Павла Ивановича", а что из неё выпадет: шестёрка, либо туз, ведомо было лишь тому, кто своею незримою рукою тасовал эту колоду.
Но покамест всё складывалось именно так, как того хотелось Чичикову, и ему начинало уже казаться, что он в силах управлять не одною лишь своею судьбою, но и судьбами других людей, в силах распорядиться их жизнями по собственной прихоти, подвести до нужного ему, Павлу Ивановичу, решения и обстоятельства, с тем, чтобы извлечь для себя и пользу и выгоду.
Как бы там ни было, но в главных своих двух начинаниях он действительно был настолько близок к достижению цели, что ему порою и самому не верилось в то, что всё так славно, как оно и было задумано, складывается. Александра Ивановна Ханасарова уже и дня не могла прожить без Павла Ивановича, и он действительно стал в доме её главным лицом и по его приказанию делались там все дела: от того, что надо приготовить сегодня к обеду, и до необходимых переговоров с покупщиками, должниками, стряпчими и прочими просителями. Чичиков настолько быстро и тонко вошёл в суть всех отправляемых старухою Ханасаровой дел, настолько ловко сумел ухватить их суть, как не сумел бы и иной управляющий, что очень скоро все действительно почуяли в нём нужду, и без его слова, совета ли, распоряжения не производилось в доме у Александры Ивановны ни шагу.
И второе — то, что замышлялось и обделывалось втайне, тоже было близко уже к своей развязке. Уж Тентетников взят был под стражу, уж следствие сделалось гласным и всё шло к тому, что осудят бедного нашего Андрея Ивановича и сошлют в Сибирь, и уж его превосходительство генерал Бетрищев, махнувши рукою на самолюбие, ездил к князю с тем, чтобы заступиться за Тентетникова. Но его сиятельство принял генерала весьма холодно и нелюбезно. Видать, отзывы Александра Дмитриевича о князе, его эпиграммы, пусть и довольно невинные, дошли до слуха генерал—губернатора и показались тому обидными. Так или иначе, миссия его превосходительства провалилась. Он вышел из кабинета его сиятельства обмякший, с потухшим взором на красном и потном лице. Такого для себя позора и унижения генерал Бетрищев не испытывал за всю свою прежнюю жизнь. В голове его билась отрывком одна лишь мысль: "Бедная Улинька, бедный Андрей Иваныч!", а в ушах всё звучал резким окриком голос князя: "Вы, милостивый государь, думайте, о чём просите! Тут за одно лишь помышление о подобном преступлении — смертельная казнь. Так что скажите ещё спасибо, если присудят на поселение!.."
Генерал хотел было повидать Андрея Ивановича, но ему и в этом отказали — дескать, до окончания следствия не позволено. Передано было ему лишь послание от Тентетникова, написанное на двух листках, один из которых предназначался самому Александру Дмитриевичу, а второй — Улиньке. В письме на имя генерала Бетрищева Андрей Иванович предостерегал его превосходительство насчёт Чичикова, обвиняя того во всех свалившихся на него горестях. Он писал об этом в следующих словах: "Уважаемый Александр Дмитриевич! Обстоятельства, повергшие меня в столь бедственное положение, действительно когда—то имели место, но были, смею Вас уверить, совершенно иного свойства и характера, нежели те, что пытаются им ныне приписать. Я никогда не замышлял ничего преступного ни против отечества, меня вскормившего, ни против Государя Императора, ни против существующего строя. То тайное общество, в причастности к которому меня обвиняют, не имело никаких политических целей, а было чем—то вроде детской забавы нескольких несерьёзных и не всегда трезвых молодых людей, из чьего круга я довольно быстро выбыл и с тех пор не только не встречал ни одного из них, но даю Вам слово чести, не поддерживал никаких сношений. Вы второй человек в целом мире, которому открываю я эту свою юношескую тайну. До Вас об этом деле знал один лишь человек, тот наш с вами друг, кому приписывали мы с Ульяной Александровной осенившее нас счастье, тот человек, который соединил, казалось бы, навсегда разошедшиеся наши судьбы. Имя его Вам хорошо знакомо, и он по сей день вхож в дом Ваш, поэтому я не буду его здесь называть, но, поверьте, никто, кроме него, не мог дать знать властям о моей юношеской провинности. Поэтому заклинаю Вас, дорогой мой Александр Дмитриевич, берегитесь его сами и берегите от него Ульяну Александровну. Ибо хотя мне и неведомы его цели, но одно я знаю твёрдо: цели эти нечисты. И ещё одно: простите меня за те неудобства, что я Вам причинил, но повторяю ещё раз: совесть моя чиста, мне не в чем себя упрекнуть, и я ни в чём не виновен. С искренним к Вам почтением Тентетников Андрей Иванович".
Вот такое письмо адресовано было Тентетниковым его превосходительству, в котором он напрямую обвинял Чичикова в подстроенных им кознях. Мы не станем приводить здесь текста второго письма, предназначенного Ульяне Александровне, полагая, что читатели поймут, чем мы руководствуемся, и не будут на нас в претензии.
Дней через десять после посещения его превосходительством канцелярии генерал—губернатора Павел Иванович решил нанести визит своему благодетелю генералу Бетрищеву, дабы, держа нос по ветру, не упустить нужного для сватовства часу. Он не допускал и мысли, что Александр Дмитриевич мог быть неравнодушен к судьбе жениха своей дочери и даже пытаться как—то повлиять на решимость князя довести это дело до конца. Чичиков думал, и, признаться, не без оснований, что Тентетникову просто будет отказано от дому, о нём забудут, как только за ним захлопнется дверь острога, и с весёлым выражением в чертах лица станут дожидаться другого жениха, которым и будет он: коллежский советник Чичиков Павел Иванович—сын. Поэтому он был очень удивлён тем приёмом, что был оказан ему генералом Бетрищевым. Да, собственно, приёмом это можно было назвать лишь с весьма большою натяжкою. Посудите сами: не успел ещё наш герой ступить на порог генеральского дома, как навстречу ему попался великан—камердинер его превосходительства, волокший ко двери все пожитки Павла Ивановича. На изумлённый вопрос Чичикова, куда это он собирается отнесть его багаж, камердинер отвечал:
— Приказано отнесть к вам в коляску, как только вы, барин, объявитесь...
И, пройдя мимо ничего ещё не понимающего Чичикова, камердинер поволок весь его скарб дальше. Но ему недолго пришлось изумляться происходящему, потому как в прихожей появился генерал: грознее тучи, страшнее самого ада был его вид. Встрёпанная шевелюра, налитые кровью глаза, расстёгнутая рубаха, из—под которой выглядывала могучая, поросшая седыми волосами, грудь.
— Ах ты, мерзавец! — пророкотал генерал, хватая Чичикова за грудки.
— Не понимаю, ваше превос... — начал было Чичиков, но генерал так дёрнул его вверх, что Чичиков почуял, как уходит у него из—под ног пол, и сила, которой он не ожидал в генерале, поднимает его вверх.
— Ах ты, мерзавец! — хрипел генерал, тряся висящего в воздухе Чичикова так, что у того даже забренчала мелкая монета во фрачном кармане, а сам фрак затрещал в подмышках.
Чичиков пытался было что—то пробормотать в своё оправдание, но ему не хватало воздуху, ибо так крепки были объятия Александра Дмитриевича, и потому Чичиков сумел лишь просипеть что—то сквозь стиснутое, сжатое в генеральской горсти, горло. А генерал Бетрищев, так и не отпуская Чичикова, словно боясь того, что он осквернит своими стопами пол, пронёс нашего героя через всю прихожую и, пройдя во двор, бросил его, точно куль с мукою, в стоящую тут же у ступеней каменной лестницы коляску, что жалобно взвизгнула всеми своими рессорами под тяжестью обрушившегося в неё веса.
— Я не понимаю, ваше превосходительство, — начал было Чичиков, но генерал не дал ему договорить.
— Вон отсюда! — заревел он. — Вон отсюда, доносчик, гадина! Вон, а не то велю собак спустить.
Он подступил к коляске настолько близко, что Чичиков, испугавшись, как бы ему снова не угодить в генеральские объятия, крикнул, хлопнув Селифана ладонью по спине.
— Погоняй! — и повалился на дно своего экипажа, ибо кони так резво рванули с места, что Чичиков не успел даже уцепиться за борт коляски, а та, качнувшись из стороны в сторону, пророкотала по камням, мостившим двор усадьбы генерала Бетрищева, и понеслась прочь, покидая эту усадьбу навсегда.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Порою, когда, обмакнувши перо в чернила, водишь им по бумаге безо всякой цели, выписывая строку за строкою в пустой надежде, что вот оно — сейчас снизойдёт вдохновение и снова побегут, посыпятся из—под пера дробные и округлые слова, точно жемчуга, нанизанные на золотую нить мысли, то в подобную минуту многие вопросы встают предо мною, и не всегда бываю я в силах найти ответы на них. Иные так и остаются неразрешёнными, прочие же исчезают сами собою, словно и не было их вовсе, словно не вспыхивали они в моей голове и не тревожили душу мою. Но есть такие, что остаются со мною навсегда и своею загадочностью точно заноза бередят мой мозг, всё возвращаясь и возвращаясь ко мне, вновь рисуют пред моим внутренним взором горящий, изогнутый загогулиной вопросительный знак.
Тогда кажется мне, что это происходит неспроста и кто—то пытливый шлёт их раз за разом, надеясь получить, наконец, от меня ответ.
И это тоже один из тревожащих меня своим неотступным постоянством вопросов. Как и по какой причине выпала мне эта доля — писать в назидание окружающим? Ведь я никогда не хотел быть назидательным, почитая назидательность вовсе несовместимою с истинным искусством. И если быть до конца искренним, а я смею надеяться, дорогой мой читатель, что ты меня именно таковым и почитаешь; итак, если быть до конца искренним, то я вовсе не верю в то, что кто—либо, прочтя мои писания, скажет: "Да, это я! Прости меня, Господи!" И устыдится, и "исправит стопы своя". О, это было бы очень и очень просто. И тогда я писал бы, писал бы и писал назидательные тексты один за другим и чувствовал бы себя самым счастливым существом на земле... Хотя кто знает, ведь вполне может быть, что многие из тех, что пишут назидательные тексты, и чувствуют себя самыми большими счастливцами. Вот, возьмите для примера какой—либо кусочек какого—либо текста из каких—либо "Уложений о положениях", ну, хотя бы такой: "Деяние, подпадающее под описанное в параграфе десятом главы второй, должно, также, быть отражено и в параграфе семнадцатом главы четвёртой, оба из которых (пар. 10, гл. 2 и пар. 17, гл. 4) совокупно соответствуют параграфу двенадцатому главы девятой и влекут за собою..." — и так далее, и так далее.
Ведь согласитесь со мною, читатели, что подобное мог написать только очень счастливый человек. И куда мне до него, уверенною рукою нанизывающего параграф на параграф, точно куски шпига на иглу, куда до него мне, нервно грызущему кончик пера в ожидании вдохновения. Увы, увы, ведь не в силах заставить я даже своего героя исправиться сей же час, отказаться от злых подстраиваемых им козней, раскаяться и расшибить себе лоб в коленопреклонённой молитве.
Да, конечно же, я могу написать фразу: "Проснувшись поутру, Павел Иванович почуял неодолимое желание отправиться в церковь, где, проведя несколько часов кряду пред образом Спасителя, вышел на улицу совсем другим человеком". А затем приписать — "конец поэмы".
Ну что, сделать это прямо сейчас, не отрывая пера от бумаги? И вы поверите, господа, что это действительно так, что этою фразою всё исчерпано, всё прощено и окончено; все слёзы высохли и раны заросли? Может быть, так оно и бывает в мире, построенном в воображении того счастливца, что искусно нанизывает параграф на параграф, но не здесь, не с нами и не сейчас. О чём остаётся лишь горько сожалеть. А посему герою нашему предстоят ещё многие дела, ещё целых две главы до завершения этой второй части поэмы, а он уже рвётся далее и уже брезжит где—то в недалёком, хотелось бы думать, будущем и третий том, который и должен завершить жизнеописание Чичикова Павла Ивановича. Каков он будет, чем завершится, мы не можем сказать в точности. Знаем только, что предстоит посетить ему обе наши столицы, пережить многие приключения, повстречать многих из старых своих знакомцев, с коими имели счастье познакомиться и мы, а затем... Ну, да ладно, что будет затем, вы, любезные мои читатели, узнаете позднее. Одно лишь скажу — многими путями предстоит пройти ещё нашему герою, потому как вся жизнь его — это один нескончаемый путь, по которому катит он в компании верных своих Селифана с Петрушкою, бежит вдогон за брезжущей где—то в неведомой дали удачей, меряет версту за верстою, надеясь настичь счастье на пустых, продутых ветрами, просторах России.
Прошло поболее месяца после происшествия, имевшего место в поместье генерала Бетрищева. Нельзя сказать, что герой наш очень уж был оскорблён тем случаем, скорее, он был даже доволен, что ему удалось убраться подобру—поздорову и что гнев генерала хотя и достигнул до него, но не поразил насмерть, и он отделался, помимо испуга, всего лишь ещё и небольшим синяком в той известной области тела, которую имел несчастье ушибить, падая в коляску после произведённого его превосходительством броска. Но синяк сей давно уже прошёл, и Павел Иванович, не чувствуя ни нравственных, ни телесных мучений, время от времени всё же ощущал в сердце своём досаду от того, что рухнула так внезапно вся эта затея с приданым и что оно, может быть, достанется неизвестно кому. "Ну да ладно! Ну да и чёрт с ним!" — говорил он себе всякий раз, как только досада эта просыпалась в нём, и тотчас же старался обратиться мыслями к чему—либо иному, приятному, благо поводов для подобных приятных мыслей тоже было предостаточно: и театр с несравненной Жози, и почитание его всеми в доме у Александры Ивановны Ханасаровой, у которой он теперь, после разрыва с генералом Бетрищевым, поселился, и сближение его с губернатором, да и просто вечера, проведённые за картами в компании верных ему друзей, таких, как Варвар Николаевич Вишнепокромов или Модест Николаевич Самосвистов, тоже согревали его сердце, прогоняя из него досаду; и, улыбаясь этим греющим его мыслям, Чичиков приободрялся и приходил в хорошее настроение.
Хотя осень уже и подступила вплотную, поливая всё вокруг холодными своими дождями, сбивая на землю жёлтую листву с дерев и кустов, Павел Иванович просыпался ежеутренне среди птичьего свисту и щебета, коим заполняли дом старухины канарейки. Мопсики положительно решили, что он и есть самый главный в доме человек, и не отходили от него ни на шаг, а серый толстенький Жак, дожидаясь, пока Чичиков уснёт, забирался ежевечерне к нему в кровать и спал вместе с Павлом Ивановичем, свернувшись у того в ногах точно кот.
Как ни странно, но разрыв с генералом Бетрищевым пошёл на пользу репутации Павла Ивановича. По городу поползли слухи, что Чичиков помог властям обнаружить важного государственного преступника, покушавшегося на трон и корону. Говорили даже, что Чичиков якобы самолично связал по рукам и ногам злодея в тот миг, когда сей злодей готовился произвесть выстрел из мушкета по восседавшей в карете царственной особе, и что будто бы при этом Павел Иванович был даже ранен, но, слава богу, рана оказалась не опасной и Чичикова вчера уже видели в Английском клубе в обществе губернатора, который, судя по всему, набивается Чичикову в друзья, что и понятно. Одним словом, мололи всякий вздор, какой постоянно перемалывают обыватели наших городов и городишек со скуки и по глупости. Чичиков не возражал против таких разговоров, и, если кто—либо пытался, эдак намёками, навести его на сей предмет, он лишь значительно и молча улыбался, показывая, что тема эта запретна и он не имеет права об ней распространяться.
Тем временем следственная комиссия, производившая дознание по делу Тентетникова, заинтересовалась и другими имевшими место обстоятельствами. Кому—то там в Петербурге показалось подозрительным, что в одно и то же время в одной и той же губернии происходят столь серьёзные преступления, связанные и с похищением девиц, и с тайными обществами, к тому же, как назло, решили бунтовать старообрядцы. Вот и было велено следственной комиссии, уже завершившей следствие по делу Тентетникова, произвесть ревизию известных бумаг да счетов по некоторым губернским департаментам. Но тут—то и вышла заковыка. Точно по волшебству стали исчезать из департаментов нужные комиссии бумаги, да что там исчезать, — стали выгорать целые кабинеты вместе со всем своим содержимым, ну и, разумеется, горели в первую очередь шкафы с бумагами и портфелями, ибо и дитя знает, что бумага горит лучше и легче остального. Одним словом, чувствовалась во всех этих поджогах и пропажах чья—то дьявольская воля. Кто—то, кто привык вершить свои дела в темноте и тайне, очень не хотел, чтобы выплыли они на божий свет, и кто это был, оставалось загадкою, только то тут, то там слышалось лёгким трепетным ветерком пролетающее словцо — "юрисконсульт". То над одной группкой чиновников, собравшихся посудачить, вспархивало оно, то над другою. Слово летало над городом, точно летучая мышь, неслышно подрагивающая крыльями, и поселяло в чиновничьих глазах страх. Они то и дело нервически вздрагивали, оглядывались через плечо, словно преследуемые кем—то, а в углах больших кабинетов, под потолком в присутственных местах, билось, будто муха в паутине, еле слышным шёпотом произносимое словцо: "юрисконсульт, юрисконсульт, юрисконсульт".
Но Павла Ивановича мало заботили эти происшествия; в Тьфуславле начиналась конская ярмарка, после которой он мог позволить себе поселиться в городе, не рискуя навлечь на себя гнев генерал—губернатора, сейчас же его пребывание здесь проистекало якобы от обилия дел, которые будто приходилось нашему герою обделывать, и они, дескать, и являлись причиною, по которой он принуждён был оставаться в городе, пользуясь гостеприимством Александры Ивановны Ханасаровой. Во всяком случае, таковым вот образом намеревался Чичиков оправдываться перед его сиятельством, если, не приведи Господь, пришлось бы отвечать, но пока всё шло гладко, всё сходило ему с рук, да и, по правде сказать, князю нынче было не до Чичикова, у него были заботы и поважней.
Помимо обычных уже дел со взятками, вскрылась большая недостача и злоупотребление по Казённой палате, к чему, судя по всему, был причастен и один из бывших советников Присутствия, и таким образом тень была брошена на все Губернское правление, исключая, конечно же, Фёдора Фёдоровича Леницына, потому как в губернаторах ходил он недолго и просто—напросто не успел бы к этому делу примкнуть, даже если бы и очень хотел того. Но так или иначе, картина стала вырисовываться страшная, и не у одного закружилась бы голова от тех огромных сумм, что замелькали в отчётах да протоколах комиссии, но тут вся работа её, поначалу бойкая да спорая, вдруг точно бы застыла, точно бы стали топтаться на месте бывалые столичные следователи, а причиною тому явилась целая туча откуда ни возьмись посыпавшихся доносов. Причём один донос садился на другой, а тот подгоняем был третьим, четвёртый же давал новые, казалось бы, факты, отвергавшие прежние доносы, и так далее и так далее, и всё крутилось, точно карусель, и следователи, сами того не замечая, бежали словно по кругу, будто слепцы, ведомые чьей—то искусною и хитрою рукою. И снова мерцало и подрагивало в воздухе канцелярий и присутственных мест шёпотом произносимое словцо "юрисконсульт, юрисконсульт, юрисконсульт".
Павла Ивановича же, как мы уже говорили, мало заботила вся та возня, что разгоралась по департаментам. Он слышал об ней от губернатора, с которым сошёлся, можно сказать, совсем накоротке и который многое доверял Чичикову из "конфиденциального". Фёдор Фёдорович был обеспокоен творящимися событиями, но Чичиков уверял его, что с ним ничего страшного не будет, что ответа держать ему не за что по причине его недавнего вступления в должность.
— Вот погубернаторствуете с годок—другой, тогда и волнуйтесь, голубчик, а нынче какой с вас спрос? — говорил он обычно на всё слышанное им от Леницына, стараясь не вдаваться в подробности плетущейся по департаментам интриги. Его больше занимала разгоревшаяся уж конская ярмарка, на которую наведывался он ежедневно, дабы поторговаться просто так, для удовольствия, да прицениться к товару — на будущее. А ярмарка в этом году была богатая. Свезено скота было преизрядно из многих губерний. И овцы, и свиньи, и коровы с быками, и лошади, конечно же, стояли тут и там, по обгороженным плетнями закутам, между которыми помещались клети с гусями, курами, утками. Шум и гам, слагающийся из блеяния, ржания и мычания, был неимоверный, и надо всем этим взлетали в прохладном уже осеннем воздухе голоса продавцов, выкликавших себе покупщиков и расхваливающих свой товар.
Чичиков подумывал было о том, что, может быть, и взаправду, вняв жалобам Селифана, продать Чубарого, а заместо него купить другого коня, но Варвар Николаевич, бывавший с ним на ярмарке чуть ли не ежедневно, отговорил его, резонно заметив, что за ту же цену лучшего коня не купишь, а коли Павлу Ивановичу так уж приспичило выбрасывать деньги, то тогда уж лучше сменить всю тройку.
— Чтобы лошади были на подбор, чтобы выезд был, а не так, как сейчас у тебя, — сказал ему Варвар Николаевич, с чем Чичиков, сокрушённо вздохнув, согласился, но решил с приобретением выезда повременить до лучших времён, которые, как он рассчитывал, вскорости должны были наступить.
В тот день, когда промеж друзьями состоялся этот небольшой разговор, произошёл с Павлом Ивановичем случай не то чтобы совсем уж из ряду вон выходящий, но всё же сумевший омрачить ему настроение на весь остаток дня. Походив по рядам и изрядно проголодавшись, Чичиков с Вишнепокромовым решили было отправиться в трактир пообедать, и Павел Иванович, нагулявший на прохладном воздухе аппетит, уже предвкушал, как зачерпнет он ложкою обжигающего наваристого супу, пропустив предварительно стопочку холодной, ледяной водки, как вопьётся зубами в свежий, ещё скворчащий жиром кусок мяса или дичи, закусив его тёплым пушистым пирожком с какой—либо замысловатой припёкою, но вдруг, неожиданно приятные эти его размышления были прерваны тем, что кто—то бесцеремонно схватил Павла Ивановича за рукав, и Павел Иванович, обернувшись с любезною было улыбкою, почувствовал, как улыбка эта сама собою сползает с его лица, ибо пред ним стоял не кто иной, как Хлобуев Семён Семёнович собственною персоною, и вид у него был самый что ни на есть неприглядный. Одет он был всё в тот же затасканный и потёртый сертук, сапоги на ногах были стоптаны вконец, в довершение же картины от Хлобуева сильно пахло вином, а взгляд, нетвёрдый и блуждающий, выдавал, что обладатель сего взгляда находится в изрядном подпитии.
— А... а... а!.. Чичиков Павел Иванович?! — пропел Хлобуев тем гнусавым и дребезжащим тенорком, что порой вырабатывается у людей, чаще чем следовало бы прикладывающихся к бутылке.
— Чичиков Павел Иванович! — продолжал Хлобуев с явно глумливым почтением в тоне, коим обращался к нашему герою. — Тот самый Чичиков Павел Иванович — спаситель отечества, благодаря которому честнейшего человека ссылают в Сибирь! Тот самый Чичиков, который, купив имение, исчезает, не уплативши долга, и выставляет меня на позор, подводит под суд за то, что я не могу расплатиться по векселям. Тот самый Чичиков... — пытался было продолжить свою обличающую речь Хлобуев, но Чичиков вырвал у него из пальцев рукав своего фрака и, помрачневши лицом, напустился на него сам.
— Да как высмеете, милостивый государь! — возвышая голос, произнёс он. — Да вы не в себе, коли позволяете подобное отношение. Сей же час надо кликнуть городового! Варвар Николаевич, голубчик, ну—ка сбегай за городовым, а я его пока подержу, — продолжал он, обращаясь к Вишнепокромову уже другим тоном и уж сам вцепляясь в рукав замусоленного хлобуевского сертука.
— Да, сбегайте, сбегайте за городовым, — отвечал на это Семён Семёнович, которому сейчас и море было по колено, — сбегайте, любезный Варвар Николаевич, пусть прибудет городовой, пусть прибудет сам полицмейстер и выяснит, наконец, да и прояснит для нас, кто же таков сей господин, что, пустивши меня по миру, меня же полицией и стращает, — говорил Хлобуев, заметно покачиваясь на нетвёрдо стоящих ногах.
— Это вы сами себя по миру пустили, милостивый государь. Слышите — вы сами, с вашими картами, обедами да шампанским. И нечего вам пенять на других, тем более что деньги за имение были вам полностью выплачены братьями Платоновыми, так что вините во всём себя, — прошипел Чичиков, с силою отбрасывая от себя руку Хлобуева, в которую до того вцеплялся, так, что бедный Семён Семёнович чуть было не повалился на землю.
— Право, Семён Семёнович, что ты, ей—богу, — примирительно проговорил Варвар Николаевич, — ну, выпил лишнего, ну, пойди отдохни, проспись; ничего в этом нет — со многими бывает, но только не приставай к людям...
— Вот именно, пойдите проспитесь, любезный, — сказал Чичиков и, круто повернувшись на каблуках, пошёл прочь, сопровождаемый верным другом своим — Варваром Николаевичем, который, то и дело поворачиваясь через плечо, делал жесты и гримасы, призванные устыдить Семёна Семёновича, что стоял, закрывши лицо ладонями, дабы никто не видел хлынувших у него из глаз слёз.
Одним словом, настроение после этой встречи у Павла Ивановича испортилось, от давешнего его аппетита не осталось и следа, за обедом он был рассеян, еле касался до блюд, которые убирались со стола почти что нетронутыми, и всё думал о чём—то и катал хлебные шарики из мякиша. Призывы Варвара Николаевича забыть о встрече с Хлобуевым не достигали цели.
— Плюнь ты на это, душа моя, плюнь! Давай—ка лучше выпьем, — говорил Вишнепокромов и, пытаясь растормошить Чичикова, подливал ему в бокал вина, но Чичиков рассеянно отпивал глоток за глотком и, отставляя всякий раз бокал в сторону, так и не составил в тот вечер компании Варвару Николаевичу. Поэтому друзья расстались ранее, чем обычно, и разъехались восвояси, а Вишнепокромов, известный своим умением управляться с лошадьми, чем обычно вызывал зависть у Чичикова, настолько расстроился испорченным обедом, что по дороге домой въехал в придорожную канаву, чуть было не изломав экипажа.
Что же могло так расстроить Павла Ивановича? Может быть, и впрямь судьба разорившегося Хлобуева, или же те речи, что вёл он, уличая Павла Ивановича в бесчестности, а может быть, судьба осуждённого по его навету Тентетникова, судьба Улиньки, которую он уже видел своею, встревожили и расстроили его, или же боязнь быть уличённым в причастности к делу осуждения Андрея Ивановича, боязнь прослыть доносчиком, замарав тем своё имя, омрачили настроение Чичикова на весь тот вечер? Кто знает, что творилось в душе его? Даже я не знаю того, господа, даже и я не знаю.
А Андрей Иванович Тентетников и вправду был приговорён судом к каторжным работам на пять лет, со ссылкою в Сибирь с дальнейшим там поселением. Он попран был во всех своих правах, лишён дворянского звания, а имение и крепостные его отходили к казне. Через несколько дней после происшедшей между Павлом Ивановичем и Семёном Семёновичем сцены он отправлялся по этапу к месту своего заточения, в Тобольскую каторгу. Имя Чичикова всё чаще и чаще повторялось в городе в связи с его ссылкою, но затем особа Павла Ивановича как—то сама собою отодвинута была на задний план другим событием, сопряжённым с делом Тентетникова, так как всех поразило известие о том, что Ульяна Александровна решила связать свою судьбу с бедным арестантом и отправиться за ним в Сибирь. Дамы города Тьфуславля, отказываясь верить этому известию, зябко пожимали плечами и, представляя себе и Сибирь, и каторгу, на которую добровольно согласилась молодая красивая женщина, поглубже да плотнее закутывались в шали, порицая её, называли "безумною", а те, что погрубее да попроще, именовали даже "дурою"; но в душе многие, ах, как многие, завидовали её решимости и восхищались ею. Что же до мужчин губернии, то они все, безо всякого исключения, превозносили подвиг Улиньки, и в каждой мужской голове, будь то лысой, завитой или расчёсанной на прямой пробор, возникала одна и та же мысль: "А моя так смогла бы?" И они всё чаще и всё задумчивее поглядывали на свои половины, всё глубже и грустнее вздыхали каким—то своим потаённым мыслям.
И ещё одно обстоятельство было связано с этой историей, придавшей ей ещё больше романтичности в глазах обитателей губернии. Дело в том, что его сиятельство запретил проводить обряд венчания в тюремной церкви и, несмотря на прошение, поданное осуждённым, несмотря на заступничество Афанасия Васильевича Муразова, не отошёл от своего решения.
— Нет, нет, и не просите, Афанасий Васильевич! — рассердился князь, когда Муразов пришёл просить за Тентетникова, — он преступник и должен чувствовать боль и тягостность наказания. Вот отправится по этапу, выйдет за пределы губернии, там пусть и венчается где—нибудь. А здесь у меня будет сидеть до самого последнего дня, до самой последней минуты! Вздумали балаган устроить — венчание перед каторгой. Это, знаете ли, дорогой мой Афанасий Васильевич, что? Это насмешка над правосудием. Дескать, а нам всё равно, а нам наплевать и на порядок, и на суд, и на государство, и на священную особу государя императора...
— Да полно вам, ваше сиятельство, — вступился было Муразов, — вы ведь даже не знаете сего молодого человека, которого осудили. Я, например, совершенно точно, и не с одних лишь его слов знаю, кем он был в это дело втянут, кем запутан, да только он просил меня об этом не говорить. Ведь он прекрасной души человек. Да и невеста его прекрасная девушка... — пытался было продолжить он, но князь не дал Муразову закончить речи.
— Весьма в этом сомневаюсь, Афанасий Васильевич. Судя по её взбалмошному решению, она недалеко ушла от отца своего, в смысле характеру, поэтому, зная, каков её отец, я не могу составить об ней какого—либо положительного мнения. Ну, что ж, — произнёс князь, вставая с кресла и давая этим Муразову понять, что разговор он считает законченным, — каждый пожинает плоды свои. На всё воля божья! — сказал он, прощаясь с Афанасием Васильевичем, так и не сумевшим помочь двум влюблённым душам соединиться.
***
День, когда Андрей Иванович должен был отправиться по этапу, выдался по—осеннему холодным и дождливым. Листва, облетевшая с дерев, мешалась с грязью, в которую превращались все проезжие дороги, дорожки и тропинки. Небо было серое, плотно забранное извергающими из себя потоки дождя облаками, и, глядя на это небо, думалось о том, что как было бы грустно жить в этом мире, не будь в нём солнца; и слава богу, что за ненастьем рано или поздно наступает ясная погода, всегда и обязательно наступает, всегда и обязательно солнечные лучи разрывают облачный покров, и мир, который за мгновение до того выглядел неприветливым и сумрачным, преображается точно по волшебству и в нём вновь становится и светло, и уютно.
Тентетников, одетый в арестантскую одежду и закованный в кандалы, стоял посреди бывшего своего двора рядом с возком, на котором громоздился скудный скарб его — тот, что позволено ему было взять с собою в дорогу. Дождь, лившийся с небес, вымочил уже его бритую голову, плечи, прикрытые старым мешком, и струйками стекал за воротник, торя себе холодную дорожку по спине промеж его лопаток.
Вокруг барина собрались дворовые люди, пришли крестьяне из села; и старики, и молодые, и мужики, и бабы — все были здесь, все хотели проститься с барином, с которым расставались навеки. Андрей Иванович некоторое время стоял молча и глядя себе под ноги, точно бы собирался с мыслями, точно бы не зная тех слов, какие обычно говорят на прощание, но потом неожиданно улыбнулся и сказал:
— Ну что ж, дорогие мои, вот и расстаёмся с вами. Я знаю, что был вам плохим хозяином, но не потому что не хотел быть хозяином хорошим, нет. Просто я не мог быть хозяином вам — таким же людям, как и я. Пусть некоторые из вас бывали хитры, лукавы, ленивы, но вы на то и люди; люди часто бывают таковыми, но они бывают и честны, и бесстрашны, и благородны, потому что они люди, — он снова немного помолчал, словно бы прислушиваясь к чему—то, а затем сказал уже немного другим, глуховатым голосом: — Я всех вас люблю и буду любить всегда и... не поминайте лихом своего барина.
Возок тронулся с места, заскрипели его бока, замахали спицами колеса, и, точно повинуясь этим всё убыстряющимся и убыстряющимся взмахам, вознёсся над толпою сперва один крик, за ним другой, заголосили бабы, заплакали мужики и все потянулись вослед за уезжающим в непроглядную даль Андреем Ивановичем, всё пытались уцепиться хотя бы за полу его арестантского платья, поцеловать руку, коснуться колышущихся боков возка.
— Я сбегу, я сбегу, барин, я доберусь к тебе в Сибирь, — кричал дюжий мужик в армяке, растирая по лицу то ли дождевые капли, то ли слёзы.
— И я, барин, и я сбегу, — закричал ему вдогонку второй.
— И я, и я, — стало раздаваться со всех сторон, — всей деревней к тебе придём, — наперебой кричали мужики, — всей деревней. Ты нас только дождись там в Сибири, барин, только дождись...
Всё. Уехал возок. Истаял во тьме сырого осеннего пространства, точно и не было его. Долгие дни, долгие недели и месяцы будет ползти он по раскисшим дорогам от села к селу, от города к городу, от заставы к заставе. И где—то там на промозглом, обдутом ветрами, промокшем тракте обвенчаются в придорожной церкви Тентетников с Улинькою, уехавшей вместе с ним, где—то там, за сотни вёрст от родных краёв, от отчего дома нагонит их холодным вечером известие о кончине его превосходительства Александра Дмитриевича Бетрищева, которого не взяла на войне ни пуля ни штык, но достигнула подлость людская, и чьё сердце не выдержав разлуки с любимой дочерью, перестало биться. Но всё это будет где—то там, за чертою, за гранью того, что зовётся обычною человеческою жизнью, на пути во что—то новое, неведомое и устрашающее, имя чему — Сибирь, имя чему — каторга...
Мы ещё встретимся и с Тентетниковым, и с Ульяной Александровной, но не теперь, не сейчас, а позже, в третьей части нашей поэмы, пока же оставим их с богом, дадим им возможность счастливо, насколько это возможно в их положении, добраться до нового места жительства, отведённого им провидением, обосноваться на нём и успокоиться.
Так что, любезные мои читатели, не будем мешать двум молодым, любящим друг друга сердцам. Бог им в помощь! Оборотим вновь наши взгляды на оставленный нами ненадолго Тьфуславль и на те события, что развернулись в нём чуть ли не тут же после отъезда Андрея Ивановича с Улинькой, а события эти были весьма и весьма интересны и запутаны, и из них в дальнейшем произошло множество других событий, одно другого занимательнее и поучительнее. И все они в той или иной мере были связаны с нашим героем, и даже более того, можно сказать, что они были им направляемы, и роль его в том, что предстоит нам сейчас описать, столь огромна, что нам и самим трудно поверить в то, как это Павел Иванович сумел всё таким образом устроить и произвесть.
А дело было в том, что с наступлением дождей и холодной погоды старухе Ханасаровой сделалось вдруг совсем худо. Шум в ушах и тяжесть в голове уж совсем что не оставляли её, и даже старания Акульки имели небольшой успех, несмотря на то, что Чичиков, постоянно присутствующий при "ворожбе", подсыпал в стакан с водою уже не один, а целых три порошка, действия их хватало не надолго, на каких—нибудь часа два—три, а затем шум в голове у старухи возникал сызнова, и сызнова же призываема была Акулька, которая теперь уж дневала и ночевала в доме у Александры Ивановны, дабы быть всегда под рукою, так что бедной Александре Ивановне приходилось за день выпивать до двенадцати порошков кряду, поставляемых ей тайно нашим неугомонным Павлом Ивановичем. Вероятно, вследствие этого злоупотребления порошками, о котором и предупреждал в своё время Чичикова доктор, у Александры Ивановны наступило общее расслабление. Она не могла уже держать голову, и та постоянно валилась то на одно плечо, то на другое. Глаза, недавно ещё живые и колючие, сделались у ней какими—то мутными, неясными, и даже казалось подчас, что она никого не видит и не слышит. Речь у Александры Ивановны стала вялая, и порою невозможно было разобрать, что силится она произнесть, и лишь с помощью её воспитанниц да Чичикова, которые каким—то чудом понимали в эти минуты старуху, удавалось установить связанность промеж её слов. Известие о болезни Александры Ивановны облетело весь достославный город Тьфуславль с быстротою молнии, с которою и вправду могут соперничать в скорости одни лишь слухи да сплетни. И откуда ни возьмись стали появляться у порога ханасаровского дому многие незнакомые люди, называвшиеся и метившие в родичи к богатой тётушке, о которых слыхом никто никогда не слыхивал. Все они, повыползав из каких—то потайных своих уголков, стучались в двери и, напустив тревогу на лица, пытались проникнуть в дом, справиться об драгоценном тётушкином здоровье. Но Павел Иванович, распоряжавшийся нынче в доме, не велел никого впускать, за исключением одного лишь губернатора и его супруги. Так что незадачливым визитёрам оставалось лишь любоваться строгим лицом старика лакея, стоявшего на страже у порога, да видом занавешенных окон, за которыми происходило что—то необыкновенно интересное для них, необыкновенно для них нужное, но к чему они не были допускаемы.
А Павел Иванович, пользуясь своею ролью чуть ли не первого лица в доме у Александры Ивановны, продолжал исподволь поиски завещания, написанного старухою, которые вёл уже не первую неделю, прикрывая их заботами о хозяйственных делах обширного имения Ханасаровой, кои предполагали копание в бумагах, бывших во множестве и в ящиках столов, и в шкафах, заполнявших и нутро огромного, дедовских ещё времён бюро, и стопками лежавших на конторке в кабинете. Непрестанные эти поиски не давали пока результатов, но Чичиков, не отчаиваясь, раз за разом перебирал кипы бумаг, размышляя, где бы он мог быть схоронен — этот заветный документ, от которого зависела будущность столь многих людей и его, Павла Ивановича, будущность тоже.
Всё чаще стала наведываться ему мысль о том, что завещания могло и не быть вовсе, что старуха, по причине своего крутого норову, могла и не написать его, мало заботясь о том, что будет со всеми этими кружащими вкруг её дому людьми после её смерти. И всё чаще говорил он себе, что так оно в действительности и есть.
На взволнованные запросы, производимые Фёдором Фёдоровичем Леницыным, он отвечал, что всё будет в порядке, что у него имел якобы место разговор об Фёдоре Фёдоровиче со старухою и та будто пообещала отписать всё своё наследство в пользу губернатора. На вопрос, видел ли он завещание и сделано ли оно, Павел Иванович ответил, что завещание будет сделано днями, что он за это отвечает, и это так же оговорено с Александрою Ивановною, которой, кстати сказать, день ото дня становилось всё хуже. Доктора, навещавшие больную, лишь разводили руками, говоря, что поделать уж тут ничего нельзя, потому как возраст всему виною, а с этой причиною медицина не научилась пока справляться. Все они прописывали старухе укрепляющее питье, какие—то порошки, о которых сами говорили, что от них будет мало проку, и никто из них, разумеется, не знал о роли присутствующей в доме "знахарки" Акульки, которая уж третьи сутки неотлучно находилась при умирающей старухе, оставаясь ночевать в её спальне, на чем, к слову сказать, настаивали и сами воспитанницы Александры Ивановны, да и прочие её домочадцы.
Улучивши время, когда никого, кроме Акульки, не было в комнате, Павел Иванович отвел её подальше от постели умирающей к окну и зашептал:
— Слышишь, любезная, если она вдруг помрёт, то ты никому ничего не говори, никого в комнату не впускай, а наоборот скажи, что ей стало лучше и она, дескать, спит. А как только это случится, тут же зови меня, поняла? — спросил он, взглянув на неё строгим взглядом.
— Поняла, — шепнула в ответ Акулька.
— Коли сделаешь, как я велю, получишь тысячу целковых! Поняла?! — снова спросил Чичиков у Акульки, а та вместо ответа принялась было целовать на радостях руку у Павла Ивановича и шептать что—то невразумительное, в чём мешались между собою слова "заступничек", "кормилец", "отец родной" и прочие звуки, не совсем, однако, понятные.
— Довольно, довольно, матушка, — проговорил Павел Иванович отдёргивая руку, которую принялась было слюнявить Акулька. — Скажи им, — кивнул он головою на дверь, — что сегодня надобно бы соборовать, а я съезжу тут по одному дельцу и вскорости вернусь.
Перед тем, как выйти из комнаты, он подошёл к постели, на которой лежала Александра Ивановна и, отдёрнув полог, поглядел на неё. Лицо у старухи осунулось и точно бы обвисло, сквозь тонкую кожу явственно проступали кости лицевого черепа, а нос заострился, точно у птицы, и зажелтел какою—то костяною желтизною.
"Всё, — подумал Чичиков, — не иначе, как сегодня", — и, бросив на прощание Акульке:
— Не забудь, чтобы соборовали бы, да непременно! — вышел из комнаты.
Велев лакею, караулившему у двери, никого до его распоряжения не впускать, даже и его превосходительство губернатора, Чичиков уселся в поданную ему Селифаном коляску и отправился для начала в Гражданскую палату к "чиновной особе", как стал про себя он величать Самосвистова, а затем, переговорив с ним о чём—то, чего никто не слыхал, Павел Иванович в сопровождении Модеста Николаевича поехал в окружной суд, где встретился с уже известным нам господином по фамилии Маменька, который мелькнул на страницах нашей поэмы раз—другой и чьей необъятною фигурою мы с тобою, читатель, уже могли полюбоваться. Разговор, состоявшийся у Павла Ивановича с Маменькой, коснулся здоровья Александры Ивановны Ханасаровой и её дел. Павел Иванович посетовал на то, что завещание, как якобы сообщила ему Александра Ивановна, не было ещё составлено, и он, будто бы по её просьбе и будучи её доверенным лицом, хотел бы это дело сей же час обсудить.
Павла Ивановича очень интересовала сама процедура составления завещания и всё то, что необходимо для придания ему законного вида, на что Маменька, сцепивши руки на своём круглом животе и для солидности надув щёки, которые и так готовы были лопнуть от жиру, произнёс:
— Ну, как я понимаю, завещание будет не нотариальным, а исходя из самочувствия больной — домашним? — полувопросил он.
— Да, да, домашним, — поддакнул Чичиков, приготовляясь слушать со вниманием.
— В таком случае нужны будут трое свидетелей, переписчик... — стал перечислять Маменька, глядя в потолок и загибая толстые пальцы. — Кстати, — обратился он к Чичикову, точно припомнив нечто важное, — больная в состоянии подписать завещание самолично?
— Боюсь, что нет, — сокрушённо вздохнув, отвечал Павел Иванович, — она уж и говорит—то с трудом, так что подскажите, как тут поступить?
— Да это дело нехитрое. Значит, потребуется рукоприкладчик, то есть тот человек, который, будучи облечён доверием завещателя, подпишет документ заместо него. Есть у вас такой? — спросил Маменька у Павла Ивановича, на что тот, нисколько не смутясь, отвечал:
— Бог ты мой! Да я сам и подпишу! Кто нынче более близок к Александре Ивановне, нежели я? Ведь мне все эти последние месяцы приходилось вести дела по её имению, так что за рукоприкладчиком дело не станет. А вы вот ответьте мне на такой вопрос: можно ли совместить обязанности рукоприкладчика с переписчиком? Дело в том, что старуха очень уж плоха, и не хотелось бы наталкивать к ней в спальню толпу народа, — спросил он, всё так же со вниманием глядя на Маменьку.
— Почему же нет! — отвечал Маменька, — главное, чтобы почерк был хорошим да известная форма соблюдена, а так это вовсе не возбраняется.
— Тогда у меня к вам ещё одна просьба: не могли бы вы дать мне для примеру какое—нибудь завещание, дабы мог я ознакомиться с сей формою и не наделать ошибок, — попросил Чичиков. На что Маменька, кряхтя, полез в нижние ящики стола, пошуршал там бумагами и, вытянув какой—то листок, протянул его Павлу Ивановичу, спросив:
— Надеюсь, копии с вас хватит?
— О да, конечно. Более чем достаточно, — отвечал Чичиков, бережно пряча бумажку в карман фрака. — Верну вам тут же, как только ознакомлюсь, — добавил он. — И ещё одно, господа, — произнёс Павел Иванович, обращаясь уже и к Маменьке, и к находившемуся тут же в комнате Модесту Николаевичу. — Могла бы Александра Ивановна рассчитывать на вашу помощь? Иными словами, можно было бы послать за вами, как только почувствует она себя в состоянии продиктовать завещание?
— Какие разговоры, Павел Иванович, — всегда к вашим услугам, — Маменька радушно развёл руками, — в любое время дня и ночи.
— Это хорошо, — сказал Чичиков, — потому как, кто знает, может быть, действительно придётся приехать ночью, так что не обессудьте, господа, коли подниму вас с постелей.
Оговорив ещё кой—какие мелочи и порешив, что в качестве свидетелей приглашены будут всё те же верные друзья Модеста Николаевича — Кислоедов и Красноносов, Павел Иванович распрощался с Маменькой и, завезя по дороге Модеста Николаевича назад, в Гражданскую палату, отправился в дом к умирающей старухе Ханасаровой, с тем, чтобы произвесть и там необходимые приготовления.
В дверях дома встретила его одна из заплаканных воспитанниц Александры Ивановны. Увидя её, Чичиков почувствовал, как обрывается у него сердце, как мутится в голове и бьётся, бьётся вместе с пульсом одно лишь слово: "опоздал, опоздал, опоздал".
— Что такое, что случилось? — спросил он, волнуясь, и волнение его в этот раз было вовсе неподдельное. — Неужто умерла?
— Нет, — отвечала воспитанница, — только что соборовали, но очень, очень плоха. — И она разразилась рыданиями.
"Ну, слава богу", — чуть было не сорвалось у Чичикова, но он вовремя успел поймать себя за язык, а вслух проговорил:
— Пойду проведаю, как там она, может быть, ещё полегчает, — на что воспитанница ответила новою порцией рыданий и побежала в свою комнату.
В спальне Александры Ивановны, куда прошёл Чичиков, пахло оплавленным свечным воском и было довольно темно по причине зашторенных окон, так что Павел Иванович не сразу углядел и Акульку, чёрной тенью прилипшую в углу к стене.
— Ну, что она? — спросил Чичиков у Акульки, кивнув в сторону кровати.
— Помирають, — односложно отвечала Акулька, не выходя из угла, в котором сидела.
— Ты вот что, — сказал ей Чичиков, — объявишь сейчас, что собираешься ворожить и не велишь никого, разумеется, кроме меня, в комнату впускать, а дальше я скажу, что тебе делать.
Так и поступили. Акулька заперлась в комнате у Александры Ивановны на целых четыре с половиною часа, никого в неё не впуская. Павел Иванович, временами появляясь в коридоре, сообщал собравшимся в ожидании чуда воспитанницам, лакеям и приживалкам, что Александре Ивановне становится лучше, хотя на самом деле ей делалось всё хуже и хуже. В двенадцатом часу ночи дыхание старухи стало прерывистым, оно всхлипами клокотало у ней в горле, и всхлипы эти становились всё более и более редкими, пока не стихли вовсе.
— Всё барин, кончилась, — сказала Акулька, нащупавши её уже коченеющие ноги, — чего дальше прикажете делать?
— Молчать и ничего никому покамест не говорить, — отвечал ей Чичиков, — так что посиди пока в уголке, а я скоро ворочусь.
Выйдя с этими словами из спальни, он состроил в чертах своего лица блаженную и умиротворённую улыбку.
— Всё хорошо, успокоилась и уснула. Просила, чтобы до утра никто не беспокоил, — проговорил он, с умилением глядя во встревоженные лица тех, кто ожидал его в коридоре. — Так что и вы успокойтесь, идите и отдыхайте, — сказал он воспитанницам, — бог милостив, и будем надеяться на её скорое выздоровление. А наша Акулька и вправду творит чудеса, так что пусть побудет подле Александры Ивановны.
Известие, принесённое Чичиковым, немного успокоило присутствующих. Вознося хвалу Господу и Акульке, они разбрелись по своим комнатам, и скоро весь утомлённый тревожным ожиданием дом погрузился в сон.
Уединившись в бывшем кабинете старухи, Павел Иванович вытащил из кармана переданную ему Маменькой копию и, поминутно заглядывая в неё, стал что—то быстро писать на чистом листе гербовой бумаги, извлечённой им из шкатулки со штучными выкладками из карельской берёзы, что принесена была им с собою в кабинет. Затем, покончив с этой работою, он тихонечко, стараясь не шуметь, прошёл в спальню к покойнице и, разбудив спящую в кресле Акульку, сказал:
— Хватит спать, давай помогай!
— А что делать—то, барин? — спросила та, протирая глаза.
— Раздевай покойницу, — ответил Чичиков, сам усаживаясь в кресло и глядя на то, что собирается делать Акулька. — Да не всю, не всю, — рассердился он непонятливости глупой бабы. — Только чепец да рубашку.
— Ну, сняла, — сказала Акулька, — теперь что делать?
— Теперь аккуратненько, не роняя её, опускаешь покойницу на пол и запихиваешь под кровать. Поняла? — сказал он, насмешливо поглядывая на растерянно лупящую глазами бабу.
— Ох, страсть какая, — сказала Акулька, крестясь, — свят, свят, свят! — забормотала она, обращаясь к образам.
— Полно, полно тебе, — вновь рассердился Чичиков, — делай, что тебе говорят, сегодня же получишь тысячу рублей, — и он, для верности вытащив из кармана пачку ассигнаций, прохрустел ими перед глазами застывшей Акульки.
— Ага, — кивнула она головой и непонятно отчего сглотнувши слюну, вновь принялась за оставленное было дело. В каких—нибудь две минуты она совершила всё, что приказал ей Павел Иванович, подоткнув напоследок тяжёлые, свисавшие со старухиной кровати, простыни и покрывала так, что труп покойницы совершенно был укрыт от посторонних глаз, будто его в кабинете и не было вовсе.
— Ну, вот и хорошо, вот и молодцом, — похвалил Чичиков расторопную Акульку, — а теперь, милая, подожди меня минутку—другую, я скоро вернусь, да смотри, сама никуда не отлучайся и никого в комнату не впускай.
Оставив Акульку одну в комнате, Павел Иванович крадучись, дабы ненароком не разбудить кого, пробрался в людскую и растормошив Селифана, велел ему, не мешкая, отправляться за Самосвистовым с компанией.
— Да смотри, воротишься назад, проведёшь их в спальню к старухе так, чтобы и не видал никто, а не то пеняй, братец, на себя! Понял али нет? — спросил он у своего кучера, и в лице его было столько серьёзной угрозы, что Селифан понял — в случае чего ему действительно несдобровать.
Отправив таким образом Селифана за свидетелями и судейским, Павел Иванович возвратился в комнату для того, чтобы произвесть последние приготовления в задуманном им предприятии. Акулька всё так же находилась в спальне покойницы, и Павел Иванович, увидевши это, вздохнул с облегчением, ибо боялся, как бы она не сбежала, ведь без неё вся затея грозила провалиться, чего никак не мог допустить Чичиков, чьи самые, казалось бы, верные начинания уже не раз заканчивались крахом, так что позволить, чтобы и это закончилось ничем, Павел Иванович не мог.
— Ну вот, сейчас ты нацепишь на себя старухины вещи, полезешь в постель и будешь изображать из себя Александру Ивановну. Только живую, поняла? Только живую! С минуты на минуту прибудут мои приятели, так ты должна будешь пред ними изобразить, будто диктуешь мне завещание, поняла? — сердито подступился он к Акульке, не оставляя своим решительным видом ей возможности к отступлению.
И то ли этот его вид, то ли хруст пачки ассигнаций, верно, ещё стоявший у ней в ушах, подействовали на Акульку, но она, послушно нацепив на голову чепец старухи и набросив поверх своего одеяния ночную рубаху, что незадолго до того сняла с покойницы, полезла в постель под одеяло.
Со стороны не было заметно подлога, благо в комнате стоял полумрак, едва разгоняемый тремя горевшими на подсвечнике свечами, да и полог кровати, наполовину задёрнутый, давал возможность убедиться в том, что в постели и вправду кто—то лежит, какая—то, если судить по чепцу, женская фигура, но не более того; лица лежащей вовсе нельзя было разглядеть.
— А что мне говорить—то, барин! — встревоженным шёпотом спросила Акулька, поудобнее умащиваясь на перине.
— Ничего не говори. Я буду склоняться к тебе поближе, а ты шепчи чего на ум придёт да постанывай потихонечку, когда же прочтут тебе то, что якобы надиктовала, и спросят, верно ли с твоих слов записано, то скажешь, что верно, но только постарайся произнесть это старухиным голосом, либо просипи как—нибудь эдак, чтобы никто твоего голосу не узнал. Поняла аль нет? — спросил он её злым колючим шёпотом.
— Поняла, поняла, — шёпотом же отвечала ему Акулька, подвигая себе одеяло чуть ли не до носу.
— Да, и ещё — коли спросят, согласна, чтобы рукоприкладчиком был Павел Иванович Чичиков, то отвечай, что согласна, только тоже не своим, а старухиным голосом. Ну всё, лежи, не двигайся. Кажись, идут, — сказал Чичиков, прислушиваясь к негромким шагам, прозвучавшим в коридоре. — Да, точно идут! Ну, с богом, — прошептал он и, напустивши на лицо приличиствующее случаю выражение, пошёл ко двери, в которую тут же кто—то осторожно постучал.
За дверью, как и ожидалось, стояло четверо его приятелей, водительствуемых Селифаном.
— Входите, господа, входите, — проговорил Чичиков и, сокрушённо покачавши головою, прибавил: — Очень, очень плоха.
Прибывшие прошли в спальню и, ставши на почтительном расстоянии от кровати, на которой, как они думали, лежала умирающая старуха Ханасарова, принялись переминаться с ноги на ногу.
— Господа, — обратился к ним Чичиков, — я, конечно, не знаю, может быть, это супротив правил, но вы разъясните мне, коли что не так. Господа, я ещё днем записал со слов Александры Ивановны её пожелания насчёт завещания по тому образцу, что вы мне соблаговолили передать, — обратился Павел Иванович к Маменьке, — так что если всё записано по надлежащей форме, может быть, мы не будем утомлять нашу больную, а просто зачитаем ей текст завещания, и ежели она сочтёт всё записанное сообразным и согласующимся с её желаниями, скрепим документ, как то оно и подобает, нашими подписями. Ну, конечно, коли это не противуречит принятому порядку, — добавил он, вопросительно взглянувши на Маменьку.
— Дозволяется, — коротко бросил в ответ Маменька, одобрительно кивнув круглою, точно арбуз, головою.
— Ну тогда, стало быть, приступим, господа, ведь каждая минута может быть на счету...
Сказавши это, Чичиков чуть ли не на цыпочках подошёл к кровати, на которой покоилась мнимая старуха, и нежным полушёпотом вопрошал:
— Александра Ивановна, Александра Ивановна, готовы ли вы, матушка? А то ведь тут уже все собрались.
Из—под одеяла послышались какие—то шорохи, постанывания, вздохи, а затем голос, и вправду напоминающий старухин голос, произнёс:
— Готова.
— Вот и хорошо, — сказал Чичиков, адресуя эти слова то ли присутствующим, то ли самому себе. — Ещё одно, Александра Ивановна, согласны ли вы, чтобы вашим рукоприкладчиком был я — Чичиков Павел Иванович? — вопрошал он мнимую старуху вновь и вновь получивши от неё утвердительный ответ, передал Маменьке составленный им ранее, в тиши кабинета, документ, дабы тот проверил соответствие его общепринятой форме. Маменька одобрил составленное Чичиковым завещание и, сказавши, что всё, как и должно быть, и придраться вроде бы не к чему, вернул его Павлу Ивановичу.
— Хорошо, кто зачитает его, господа? — спросил Чичиков у присутствующих и все порешили, что пусть его читает сам Павел Иванович. Сам писал, сам пускай и читает, тем более что был уже третий час ночи и всем присутствующим хотелось как можно скорее покончить с этою нудною процедурою.
Павел Иванович принялся читать, останавливаясь после каждого прочитанного им пункта, и спрашивал у мнимой старухи, правильно ли записано с её слов, на что каждый раз получал утвердительный ответ. Покончив читать, он ещё раз попросил подтвердить потеющую под одеялом Акульку то, что завещание со старухиных слов записано верно, и присутствующие поспешили поставить на документе свои подписи. Документ был запечатан в конверт, скреплён печатью Александры Ивановны, которую Чичиков заблаговременно принёс из кабинета, и компания друзей Павла Ивановича так же неслышно прошла коридором, спустилась по лестнице и, не обеспокоив никого излишним шумом, вышла в холодную осеннюю ночь.
Воротясь в комнату, Чичиков нашёл Акульку уже разоблачившуюся от старухиных одежд. Сообразительная его сообщница даже вытащила из—под кровати труп покойной и, уложив его на прежнее место в постель, повязывала мёртвой старухе её ночной чепец, ещё совсем недавно украшавший голову самой Акульки.
— Ну всё, милая, держи, — сказал Чичиков, протягивая ей пачку ассигнаций, — честно заработала, да смотри не проболтайся кому, а то за это одна дорога — в Сибирь, так что смотри у меня...
— Что вы, барин, что я, дура какая, — сияя от счастья и запихивая переданную ей Чичиковым пачку куда—то глубоко под одежды, проговорила Акулька. — Нужна я ещё, али можно идтить? — спросила она, на что Чичиков, задумавшись на мгновение, отвечал, что больше ей в доме оставаться ни к чему и она может отправляться восвояси.
Выпроводивши Акульку, он и сам отправился спать, решивши, что перед завтрашним днём неплохо бы и соснуть хотя бы часок—другой, но, улёгшись в свою постель, Павел Иванович долго ворочался и всё никак не мог уснуть, всё кружились в его голове цифры, означающие нынешние его капиталы, и всё не мог поверить он в то, что достигнул наконец—то до желанной цели. А Павел Иванович в эту ночь стал воистину богат, ибо отписал себе от якобы старухиных щедрот ни, много ни мало, а целых четыреста тысяч.
Заснул он лишь перед самым рассветом, но проспать долго ему не удалось, потому как в доме поднялась беготня, крики и рыдания, что весьма, впрочем, обыкновенно в подобных случаях. А Чичиков, наспех одевшись, тоже поспешил в коридор, растерянно вопрошая о причине переполоха, так, точно не знал о том, что хозяйка дома давно уж как мертва.
Войдя в спальную комнату Александры Ивановны, он увидел обеих рыдающих на креслах воспитанниц и остальных приживалок, усердно льющих слёзы. Подойдя ко смертному одру Александры Ивановны, он тоже зарыдал, разве что не в голос, называя покойницу и ангелом, и голубушкой, и матушкой, и заступницей, и многими добрыми и ласковыми прозвищами, так, точно не её он с Акулькою запихивал мёртвую прошедшей ночью под стоящую тут же в комнате кровать.
Наплакавшись вдоволь и, видимо, решив, что уже довольно, Павел Иванович достал из кармана платок, и спальню покойницы огласили так хорошо уже известные читателям трубные звуки, всегда столь удававшиеся нашему герою, когда ему приходило желание высморкаться. Но бедняжки воспитанницы вместе с сонмом приживалок, в отличие от вас, дорогие мои читатели, не были готовы к тому громогласному звуку, что прозвучал в комнате, поэтому плач и рыдания были прерваны ими на полувздохе, как прерывает одним лишь мановением руки опытный капельмейстер звучание своего оркестра, когда, как правило, водворяется мёртвая тишина, в которой вот—вот должны раздаться аплодисменты обомлевших от охватившего их чувства преклонения пред дивным искусством зрителей. Вот такая же мёртвая тишина последовала после отпущенной Павлом Ивановичем рулады; всё смолкло, и даже муха, бившаяся в окне, скользнув по стеклу, шлёпнулась на подоконник точно без чувств. Но затем, поняв, что произошло, присутствующие зарыдали вновь, и, казалось бы, с большей энергией и усилием, точно стыдясь собственной слабости, из—за которой пришлось прервать им столь важное занятие — оплакивание покойной. Павел Иванович, как совладавший с постигшим их всех горем раньше остальных, проговорил, переведя дыхание и глядя на воспитанниц:
— Надо бы послать за завещанием.
На что воспитанницы отвечали, что лучше это сделать после похорон, и вновь пустились в слёзы.
"Что ж, после похорон так после похорон", — подумал про себя Чичиков и на правах негласного управителя дома отправился отдавать все необходимые указания.
Александру Ивановну похоронили на третий день после кончины. Похороны были пышные, на них присутствовали все самые крупные чиновники города во главе с губернатором, что и понятно — ведь он хоронил свою тётушку. Где—то в толпе идущих за гробом Павел Иванович увидел затёртую фигуру Хлобуева, который тоже заметил Чичикова, но не смел поднять на него глаз, видать, стыдясь своей недавней выходки на ярмарке. Увидев его понуро обвисшие плечи и опущенную долу голову, Чичиков подумал: "Так—то оно, братец, лучше, каждый сверчок знай свой шесток..."
После похорон все самые близкие и самые нужные люди поехали в дом к покойнице помянуть новопреставленную. Вкруг дома собралась большая толпа нищих, и им тоже по распоряжению воспитанниц было выставлено угощение.
Во время поминального ужина решено было завтра же представить завещание в окружной суд, дабы затем огласить его в соответствии с установленным порядком. Чичиков принёс запечатанный сургучными печатями конверт и, строя скорбную мину, объявил, что вот оно, писано со слов покойницы его собственною рукою, на что воспитанницы встревоженно переглянулись.
— Когда же это было, Павел Иванович? — спросила старшая из них, — мы что—то этого не припомним.
На что Чичиков, пустивши обильную слезу, отвечал, что диктовала ему завещание "голубушка Александра Ивановна" в ночь перед самой кончиной; когда почувствовала себя, видать, совсем уж худо, то велела послать за судейскими, что, собственно, завтра и будет оглашено.
— Всё по форме, всё, как надо, — говорил Чичиков, захлёбываясь слезами, — никого матушка не забыла, всех, всех оделила, даже и меня, червя недостойного, помянула! — и, скривив рот в гримасе, он пустился в дальнейшие рыдания.
По окончании поминок губернатор точно бы невзначай отвёл Павла Ивановича в сторонку и, вопрошающе заглянув ему в глаза, сказал:
— Хоть словечком намекните, Павел Иванович, а то ведь ночи спать не буду, уж снизойдите по—приятельски.
— Не волнуйтесь, ваше превосходительство, и спите совершенно спокойно, ибо я ваш друг и не совру, ежели скажу, что львиная доля ваша, — отвечал ему Чичиков, ободряюще погладив его по локтю.
Губернатор пытался было скрыть довольную улыбку, но глаза его всё равно вспыхнули, точно фонарики праздничной иллюминации, и он, чтобы не привлекать к себе внимания, отвернулся, принявшись глядеть в окно. Но не привлечь внимания в тот вечер было не то что трудно, а попросту невозможно, потому как всякий, кто надеялся получить хотя бы малую толику от огромного наследства старухи Ханасаровой, жадным взглядом следил за каждым шагом Павла Ивановича, ибо он был посвящён в так волнующую всех тайну завещания Александры Ивановны. Поэтому ото многих не укрылись вспыхнувшие в губернаторских глазах ликующие огоньки. На протяжении всего остального вечера то один, то другой из присутствующих пытался овладеть эдак, точно бы ненароком, персоною нашего героя и выведать хотя бы словцо, хотя бы намёк, который мог бы успокоить вопрошающего, но Павел Иванович оставался неумолим и не поддавался ни на какие просьбы и уговоры. Пожалуй, изо всех присутствующих в доме одни лишь воспитанницы Александры Ивановны да две—три совсем уж древние старушонки—приживалки не приставали к Чичикову с расспросами о наследстве, да и пустое это было занятие — он всё равно им ничего бы не сказал.
На следующий день, после обеда, завещание было оглашено в окружном суде в присутствии подписавших его свидетелей и было судом признано правильным. По нему Фёдор Фёдорович Леницын получал в наследство на два миллиона рублей угодьями, крепостными душами и часть ассигнациями. Двести тысяч рублей Чичиков решил оставить воспитанницам Александры Ивановны, сто тысяч отписаны им были на монастырь, не забыл он и Семёна Семёновича Хлобуева и точно насмешки ради отписал ему пятьдесят душ крестьян и тридцать тысяч денег ассигнациями; ровно столько стоило проданное им имение. Себе же Павел Иванович, как и было сказано выше, завещал четыреста тысяч рублей, половина из которых приходилась ассигнациями, а половина серебром и городской дом старухи Ханасаровой. Остальные же деньги, что—то около шестидесяти или семидесяти тысяч, были расписаны им среди многочисленных приживалок Александры Ивановны, которые, по чести сказать, и не ожидали подобных щедрот от своей благодетельницы. Мы погрешили бы против правды, если бы сказали, что все, за исключением губернатора, которому и впрямь досталась львиная доля наследства тётушки, да самого Чичикова, были довольны завещанием. И воспитанницы Александры Ивановны, и Хлобуев пытались было протестовать, но Павел Иванович, разведя руки в стороны, вопрошал их о том, какие могут быть протесты, ежели завещание окружным судом признано верным, ежели оно составлено по форме и подписано не кем попало, а известными чиновниками города Тьфуславля, да к тому же ещё и одним из членов окружного суда.
— Что ж это, милостивые государи и государыни, вы обвиняете меня в мошенничестве? — спросил он, глядя невинными глазами на протестующих.
— Должно быть другое завещание, — продолжали горячиться девицы—воспитанницы, — мы знаем, что тётушка писала завещание пять лет назад, а это бог знает что, — с негодованием кивнули они в сторону оглашенного документа, что лежал ещё на столе у Маменьки, который, собственно, и оглашал его текст.
— Ну так представьте это ваше завещание, что писано якобы пять лет назад. Но только учтите, что оно уже уничтожено этим нынешним завещанием, — сказал Чичиков, — а потом, неужто вы не понимаете, что наносите оскорбление окружному суду, тем более что господин судья лично присутствовал при совершении завещания и конечно же не мог бы поставить своей подписи под какой попало бумагой.
Однако девицы—воспитанницы не унимались, к ним примкнула довольно большая партия тех, что тоже искренне считали себя состоящими в родстве с покойной Александрой Ивановной и рассчитывали получить свою долю от трёхмиллионного наследства.
— Ну хорошо, — согласился Чичиков, — я не намерен более с вами препираться, я устал. Потому как все заботы и хлопоты и по хозяйству, и в отношении похорон были взвалены на мои плечи, я надеюсь, что вы помните это. Посему я откланиваюсь, господа, у меня есть ещё дела, — и, не дав своим противникам что—либо возразить, Чичиков удалился. У него и вправду было ещё одно дельце, которое он давно задумывал и всё только ждал удобного часу для того, чтобы его провернуть. Оно имело касательство до многочисленных сундуков и шкатулок Александры Ивановны, стоявших в её комнате, в которые он и собирался нынче заглянуть, благо дома, кроме нескольких старых лакеев, не оставалось никого и девицы—воспитанницы не смогли бы ему помешать, да и, как он надеялся, опередить в этом его давно уж задуманном путешествии по заветным ларчикам.
Усевшись в коляску, он приказал Селифану погонять и в самом хорошем расположении духа прибыл в дом старухи Ханасаровой, который уже искренне почитал своим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Всё на свете обделывает свои дела. "Что кому требит, тот то и теребит", — говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое—что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем—нибудь попользуется: тот казённым лесом, тот экономическими суммами, тот крадёт у детей своих ради какой—нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянья, и плясанья с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит — изволь удержать себя! Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выезжать вон из города, но дороги испортились. В городе между тем готова была начаться другая ярмарка — собственно дворянская. Прежняя была больше конная, скотом, сырыми произведениями да разными крестьянскими, скупаемыми прасолами и кулаками. Теперь же всё, что куплено было на Нижегородской ярмарке краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, истребители добытых кровью и трудами денег, — эта египетская саранча, по выражению Костанжогло, которая мало того что всё сожрёт, да ещё и яиц после себя оставит, зарывши их в землю.
В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом—купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ним уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную), — в то же время когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся лёгким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошёл его превосходительство Фёдор Фёдорович Леницын.
— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещица! — при этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.
Но его превосходительство, не отвечая на вопрос сказал с озабоченным видом:
— Мне нужно с вами поговорить об деле.
В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.
— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина именья отдаётся на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам и ничего больше никому.
Чичиков оторопел.
— Ну что завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.
— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.
— Это само собою разумеется: последнее уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? Кто были свидетели?
— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.
"Худо, — подумал Чичиков, — Хаванов, говорят, честен; Бурмилов — старый ханжа, читает по праздникам апостола в церквях".
— Но вздор, вздор, — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. — Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.
Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой—нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.
— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.
Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что—то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.
Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противоположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, её сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.
Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимую последующую благодарность за добрый совет и участие.
Юрисконсульт отвечал на это изображеньем неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что, журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.
Нечего делать: нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.
— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая—нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников... Я с своей стороны употреблю моё участие.
"Понимаю", — подумал Чичиков и сказал:
— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка, или нет, — точно как будто и не сам писал это завещание.
— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал юрисконсульт весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чём не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие моё непоколебимо.
Лицо юрисконсульта—философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков, много переволновавшийся в последние часы, тоже почувствовал успокоение.
— Конечно, это первая вещь, — сказал <он>. — Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклёпы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.
— Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ—юрист. Старайтесь только, чтобы производство дела было всё основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идёт к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными и так, посторонними статьями.
— То есть, чтобы...
— Спутать, спутать, — и ничего больше, — отвечал философ, — ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали <бы> сюда и других, сделать сложным — и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает! — повторял он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики.
— Да, хорошо, если подберёшь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу, — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.
— Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте: от частого упражнения и голова сделается находчивою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше, и жалованья им больше... Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно откупиться... Вот уж и хлеб... Поверьте мне, что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, так всё перепутать, что никто ничего не поймёт. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в своё — и губернатора, и вице—губернатора, и полицмейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать. — Здесь юрист—философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслажденьем, с каким учитель объясняет ученику ещё заманчивейшее место из русской грамматики.
"Нет, это человек, точно, мудрец", — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа.
Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежною ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад (к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застёгнутой кожей) и расположился, точь—в—точь как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов — ловко подвернувши одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из—под шёлковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направленье к гостиному двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков, не без достоинства, приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы; другие были хоть приезжие, но, очарованные лоским видом умеющего держать себя господина, приветствовали его, как знакомые. Ярмарка в городе Тьфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая, началась — с красными товарами для господ просвещенья высшего. Купцы, приехавшие на колёсах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях.
— Пожалуте—с, пожалуте—с! — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь, с открытою головою, немецкий сертук московского шитья, с шляпой в руке на отлёте, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выраженье тонкости просвещенья в лице.
Чичиков вошёл в лавку.
— Покажите—ка мне, любезнейший, суконца.
Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупателю.
Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнажённой головою и шляпой на отлёте, ещё раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упёршись в стол, сказал так:
— Какого рода сукон—с? Английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?
— Отечественной фабрикации, — сказал Чичиков, — но только именно лучшего сорта, который называется аглицким.
— Каких цветов пожелаете иметь? — вопросил купец, всё так <же> приятно колеблясь на двух упёршихся в стол руках.
— Цветов тёмных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков.
— Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого <нет> в обеих столицах, — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил её ловко на стол, разворотил с другого конца и поднёс к свету. — Каков отлив—с! Самого модного, последнего вкуса!
Сукно блистало, как шёлковое. Купец чутьём пронюхал, что пред ним стоит знаток сукон, и не захотел начинать с десятирублёвого.
— Порядочное, — сказал Чичиков, слегка погладивши. — Но знаете ли, почтеннейший? Покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того, больше искрасно, чтобы искры были.
— Понимаю—с: вы желаете такого цвета, какой нонче в Пе<тербурге в моду> входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства.
— Давайте.
О цене ни слова.
Штука упала сверху. Купец её развернул ещё с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шёлковую материю, поднёс её Чичикову так, что <тот> имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только:
— Вот—с сукно—с! Цвету наваринского дыму с пламенем.
О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватил тут же Чичикову на фрак <и> и на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвёл обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончанье которого поклонился Чичикову с наиобольстительнейшею приятностью. Сукно тут же было свёрнуто и ловко заворочено в бумагу; свёрток завертелся под лёгкой бечёвкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, <что> поясницу его приятно окружает чья—то весьма деликатная рука, и уши его услышали:
— Что вы здесь покупаете, почтеннейший?
— А, приятнейше неожиданная встреча! — сказал Чичиков.
— Приятное столкновенье, — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов. — Готовился было пройти лавку без вниманья, вдруг вижу знакомое лицо — как отказаться от приятного удовольствия! Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам! Я никак не мог было отыскать... Я готов тридцать рублей, сорок рублей... возьми пятьдесят даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли?
— Совершенно так! — сказал Чичиков. — Зачем же трудиться, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь?
— Покажите мне сукна средних цен, — раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он оборотился: это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протёрт.
— Ах, Павел Иванович! Позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз — всё вас нет и нет.
— Почтеннейший, я так был занят, что, ей—ей, нет времени. — Он поглядел по сторонам, как бы от объясненья улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. — Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков. — Вот приятное столкновенье.
И вслед за ним повторил Вишнепокромов:
— Афанасий Васильевич!
<Хлобуев> повторил:
— Афанасий Васильевич!
И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и, весь подавшись вперёд, произнёс:
— Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтенье!
На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллионщикам собачье отродье людей.
Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобуеву:
— Извините меня: я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решился вас побеспокоить. Если вам будет после свободно и по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.
Хлобуев сказал:
— Очень хорошо, Афанасий Васильевич.
— Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич, — сказал Чичиков.
— Не правда ли, Афанасий Васильевич, — подхватил Вишнепокромов, — ведь это необыкновенно.
— Да—с, благодаря бога недурно. Но нужно бы дождичка для посева.
— Очень, очень бы нужно, — сказал Вишнепокромов, — даже и для охоты хорошо.
— Да, дождичка бы очень не мешало, — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион.
И старик, раскланявшись снова со всеми, вышел.
— У меня просто голова кружится, — сказал Чичиков, — как подумаешь, что у этого человека десять миллионов. Это просто даже невероятно.
— Противузаконная, однако ж, вещь, — сказал Вишнепокромов, — капиталы не должны быть в одних <руках>. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги, — ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая даёт хлеб мастерам, ремесленникам.
— Это я не могу понять, — сказал Чичиков. — Десять миллионов — и живёт как простой мужик! Ведь это с десятью мильонами чёрт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья.
— Да—с, — прибавил купец, — у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника — нет—с, не выдам: я за генерала, иначе я её не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка...
— Да что говорить! Помилуйте, — сказал Вишнепокромов, — с десятью миллионами чего не сделать? Дайте мне десять миллионов, — вы посмотрите, что я сделаю!
"Нет, — подумал Чичиков, — ты—то не много сделаешь толку с десятью миллионами. А вот если б мне десять миллионов, я бы, точно, кое—что сделал".
"Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, десять миллионов! — подумал Хлобуев. — Э, теперь бы я не так: опытом узнаёшь цену всякой копейки". И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренне: "Точно ли бы теперь умней распорядился?" И, махнувши рукой прибавил: "Кой чёрт! Я думаю, так же бы растратил, как и прежде", — и вышел из лавки, сгорая жела<нием> знать, что объявит ему Муразов.
— Вас жду, Семён Семёнович! — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. — Пожалуйста ко мне в комнатку.
И он повёл Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалованья.
— Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тётушки всё—таки вам досталось кое—что?
— Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пя<тьдесят> душ крестьян и тридцать тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, — и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанью самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества! Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...
— Позвольте, Семён Семёнович: прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить собственно о вас. Скажите мне: сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?
— Мои обстоятельства трудные, — сказал Хлобуев. — Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно по крайней мере сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.
— Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?
— Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитаньем детей, потому что мне самому не служить: я уж никуды не гожусь.
— А почему ж вы никуды не годитесь?
— Да куды ж мне, сами посудите! Мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне сорок, у меня уж и поясница болит, я обленился; а должности мне поважнее не дадут; я ведь не на хорошем счету. Я, признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картёжник, и всё что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносовым да Самосвистовым.
— Но всё, извините—с, я не могу понять, как же быть без дороги; как идти не по дороге; как ехать, когда нет земли под ногами; как плыть, когда челн не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Семён Семёнович, те господа ведь, про которых вы говорите, всё же они на какой—нибудь дороге, всё же они трудятся. Ну, положим, как—нибудь своротили, как случается со всяким грешным; да есть надежда, что опять набредут. Кто идёт — нельзя, чтоб не пришёл; есть надежда, что и набредёт. Но как тому попасть на какую—нибудь дорогу, кто остаётся праздно? Ведь дорога не придёт ко мне.
— Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость <вашу>, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность; не вижу я, что могу сделать какую—нибудь пользу кому—нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, покамест был помоложе, так мне казалось, что всё дело в деньгах, что если бы мне в руки сотни тысяч, я бы осчастливил множество: помог бы бедным художникам, завёл бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и, знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые всё это делают бестолково. А теперь вижу, что это суета, и в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.
— Послушайте, Семён Семёнович! Но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаёте и идёте, — идёте в четыре часа утра, когда никто не подымается.
— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим сколько—нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурён, но молитвы всё—таки что—нибудь значат у бога. Скажу вам, что я молюсь, — даже и без веры, но всё—таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого всё зависит, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьём того, <кто> запрягает.
— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь чтобы спасти свою душу, и это даёт вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что если <бы> вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить.
— Афанасий Васильевич! Вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я всё—таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды, и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не моё дело рассуждать, что взыщется <с тех>, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что богу повинуюсь.
— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж, другое все способности и дары, которые разные у всякого. Ведь это орудия моленья нашего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.
Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.
— Так вы полагаете, что если бы, например, у <вас> было двести тысяч, так вы могли <бы> упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчётливее?
— То есть по крайней мере я займусь тем, что можно будет сделать, — займусь воспитаньем детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.
— А сказать ли вам на это, Семён Семёнович, что чрез два года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?
Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:
— Однако ж нет, после этаких опытов...
— Да что ж опыты, — сказал Муразов. — Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой. К вам придёт приятель попросить взаймы — вы ему дадите; увидите бедного человека — вы захотите помочь; приятный гость придёт к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчёт и позабываете. И позвольте вам наконец сказать по искренности, что детей—то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитывать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитывать. Я даже думаю — извините меня, Семён Семёнович, — не во вред ли детям будет даже и быть с вами!
Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.
— Знаете ли, Семён Семёнович? Отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идёт к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уж на всё нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?
— И очень уважаю, даже несмотря на то, что он ходит в сибирке.
— Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкротился — что ж делать? — пошёл в приказчики. Не весело—то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось—то, что руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: "Нет, Афанасий Васильевич, служу я теперь уж не себе, и <не> для себя, а потому, что бог так <судил>. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что бога хочу слушаться, а не людей, так как бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы". Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.
— Афанасий Васильевич! Вашу власть и я готов над собою <признать>, ваш слуга и что хотите: отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.
— Не я—с, Семён Семёнович, наложу—с <на> вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег не стаёт, нужен сбор. Наденьте простую сибирку... Ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с богом.
Семён Семёнович был изумлён этой совершенно новой должностью. Ему, всё—таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.
— Призадумались? — сказал Муразов. — Вы здесь две службы сослужите: одну службу богу, а другую — мне.
— Какую же вам?
— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я ещё не был, так вы узнаете—с на месте всё: как там живут мужики, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянье всё. Скажу вам, что мужиков люблю оттого, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники, так и всякие—с бродяги смущают их, против властей их восстановляют, против властей и порядков, а если человек притеснён, так он легко восстаёт. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который, точно, терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки: уж тут толку не будет — только ворам пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава, да и расскажете мне потом всё это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что бог велит переносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком противу кого бы то ни было ненависть, употребите всё усилие.
— Афанасий Васильевич! Дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже <умел> прощать другим.
— Да я и не говорю, чтобы всё это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело—то в том, что вы всё—таки приедете с познаньями тех мест, и будете иметь понятия, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик—то с ним не будет откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и к мещанину и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю—с вам это по той причине, что генерал—губернатор особенно теперь нуждается в таких людях; и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.
— Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил, — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободренье, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда. — Вижу, что вас бог наградил разуменьем, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.
— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов, — что ж Чичиков и какого роду <дело>?
— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела... Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где всё имение принадлежит воспитанницам.
— Что вы говорите? Да ложное—то завещание кто смастерил?
— В том—то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завещание уже после смерти: нарядили какую—то бабу наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из—за неё дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!
— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов.
— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник, но не надеюсь на успех.
— А вам и не надо, — сказал Муразов, — ваше от вас не уйдёт.
"А по мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и всё". Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов всё ещё повторял в себе: "Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!"
А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так всё налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мёртвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его ещё при таможне. Выкопали всё, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда всё это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырёх стен никто не знал. Покамест всё это было ещё судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания: "Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделываем всё". Записка эта успокоила совершенно его. "Этот человек, точно, гений", — сказал Чичиков.
В довершение хорошего, портной в это время принёс <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им ещё большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нём тут щёткой, прибавив: "Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину!" Фрак, казалось, был сшит ещё лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого ещё лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: "Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют". Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: "Иностранец из Лондона и Парижа". Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого—нибудь "Карлсеру" или "Копенгара".
Чичиков великодушно расплатился с портным, и, оставшись один, стал рассматривать себя недосуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и con amore. Оказалось, что всё как—то было ещё лучше, чем прежде: щёчки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шёлк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — ещё лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по—французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечёт французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же лёгкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлёпнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: "К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше..."
Как вдруг в передней — вроде некоторого бряканья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско.
"Приказано сей же час явиться к генерал—губернатору!" Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и чёрт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: "Приказано сей же час!" Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькнуло и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал—губернатору, и жандарм с ним.
В передней не дали даже и опомниться ему. "Ступайте! Вас князь уже ждёт", — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошёл, думая только: "Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!" Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьётся даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.
"Губитель, губитель! — сказал Чичиков. — Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!"
— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда—либо запятнал себя человек.
Губы князя дрожали от гнева.
— Каким же, ваше сиятельство, бесчеловечнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.
— Женщина, — произнёс князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.
Чичиков стал бледен, как полотно.
— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.
— Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведён в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешенья участи своей. И это милостиво ещё, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты...
Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.
— Ваше сиятельство, — вскрикнул Чичиков, — умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!
— Врёшь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!
— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков совершенно упавшим голосом. — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства... Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушенье... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!
Слёзы вдруг хлынули из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причёсанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.
— Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим.
— Ваше сиятельство! — кричал <Чичиков> и обхватил обеими руками сапог князя.
Чувство содроганья пробежало по всем жилам<князя>.
— Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятья Чичикова.
— Ваше сиятельство! Не сойду с места, покуда не получу милости! — говорил <Чичиков>, не выпуская сапог и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.
— Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращенья, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округлённый подбородок, но не выпустил сапога и ещё с большей силой держал ногу в своих объятьях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно—страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою чёрную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...
В самых дверях на лестницу навстречу — Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумлённому старику.
— Батюшка, Павел Иванович, что с вами?
— Спасите! Ведут в острог, на смерть...
Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.
Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашеный стол, два скверных стула, с железною решёткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шёл дым и не давало тепла, — вот обиталище, где помещён был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать вниманье соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мёртвые <души> — всё было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадёжной, обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищённое. Ещё день такой, день такой грусти, и не было <бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья—то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: взошёл старик Муразов.
Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.
— Спаситель мой! — сказал Чичиков, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!
Он залился слезами.
Старик глядел на него скорбно—болезненным взором и говорил только:
— Ах, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?
— Я подлец... Виноват... Я преступил... Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать всё от меня: вещи, шкатулка... там деньги, там всё имущество, там все моё имущество, Афанасий Васильевич, — имущество, которое кровным потом приобрёл...
И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.
— Павел Иванович, всё равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.
— Сам погубил себя, сам знаю — не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто—нибудь? Разве я сделал кого несчастливым? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что—нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил... что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмёшь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданьями! Пусть их кто—нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой...
Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем виснувшую разорванную полу фрака, и швырнул её прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить ничем неугасимую боль сердца.
— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил <Муразов>, скорбно смотря на него и качая <головой>. — Я всё думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто—нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки!.. Да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки!..
— Афанасий Васильевич! — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. — О, если бы удалось мне освободиться, возвратить моё имущество! Клянусь вам, повёл бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!
— Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, — он ни за что не отступит.
— Благодетель! Вы всё можете сделать. Не закон меня страшит, — я перед законом найду средства, — но то, что непов<инно> я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что моё имущество, бумаги, шкатулка... спасите! — Он обнял ноги старика, облил их слезами.
— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая <головою>. — Как вас ослепило это имущество! Из—за него вы и бедной души своей не слышите!
— Подумаю и о душе, но спасите!
— Павел Иванович! — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти, — вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, — я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше, чем у вас, — я бы не заплакал. Ей—ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям; или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нём нет успокоенья. Вы видите: всё в нём враг, искуситель или предатель.
Чичиков задумался. Что—то странное, какие—то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нём что—то пробудиться, что—то подавленное из детства суровым, мёртвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое—то мутно занесённое зимней вьюгой окно.
— Спасите только, Афанасий Васильевич! — вскричал он. — Поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам моё слово!
— Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, — сказал Муразов, держа его руку.
— Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, — сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: — Но урок тяжёл; тяжёл, тяжёл урок, Афанасий Васильевич!
— Хорошо, что тяжёл. Благодарите за это бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться.
Сказавши это, старик вышел.
Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрак и волос: он успокоился.
— Нет, полно! — сказал он наконец, — другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как—нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от... А купчие?.. — он подумал: "Что ж? Зачем оставить это дело, стольким трудом приобретённое?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретенье это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего". И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Костанжогло, и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятье поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.
— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец. — Право, от безделья! Всё близко, всё под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займёшься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов... Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; и я имею качества и бережливости, и расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой—то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.
И трудолюбивая жизнь, удалённая от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжёлый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нём сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда—нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку, — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! С товарищами он был хорош, никого не продавал, и, давши слово, держал: но высшее над собою начальство он считал чем—то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением...
— Знаем всё об вашем положении, всё услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего! Не робейте: всё будет поправлено. Всё станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.
— Будто? — вскрикнул Чичиков. — И я буду совершенно оправдан?
— Кругом! Ещё и вознагражденье получите за убытки.
— И за труд?..
— Тридцать тысяч. Тут уже всё вместе — и нашим, и генерал—губернаторским, и секретарю.
— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи... шкатулка... всё это теперь запечатано, под присмотром...
— Через час получите всё. По рукам, что ли?
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно...
— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.
"Гм! — подумал Чичиков, — понимаю: юрисконсульт!"
Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, всё ещё не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбранил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить ещё лишних солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем—нибудь компрометировать Чичикова; связал всё это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и всё тёплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое—какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, яснее... О, жизнь!
А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошёл самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошёл таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.
— Давно ты здесь стоишь?
— С утра, ваше благородие!
— Долго до смены?
— Три часа, ваше благородие!
— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.
— Слушаю, ваше благородие!
И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах — сам чёрт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал её двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьём, как следует, к часовым:
— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену.
Обменялся с часовым и стал сам с ружьём.
Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды—то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвёл чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть ещё секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привёл в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Всё пошло в работу и в дело: и кто незаконнорождённый сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и всё так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мёртвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал—губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный человек, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошёл с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как—то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто—то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мёртвым не дает покоя, скупая какие—то мёртвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан—исправников. Какие—то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, — и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан—исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришёл откупщик.
— Пусть войдёт, — сказал князь.
Старик вошёл...
— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.
— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.
— Подлог завещания, и ещё какой!.. Публичное наказание плетьми за этакое дело!
— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие ещё не сделано.
— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я её хочу расспросить нарочно при вас. — Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.
Муразов замолчал.
— Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! — сказал князь с жаром.
— Ведь губернатор — наследник; он имеет право на притязания; а что другие—то со всех сторон прицепились, так это—с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла—с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться — человеческое дело...
— Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! — сказал князь с чувством негодованья. — Ни одного чиновника у меня хорошего: все — мерзавцы!
— Ваше сиятельство! Да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинства и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.
— Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?
— Ваше сиятельство, — сказал Муразов, — кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведенья? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намереньем. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.
— Как! — воскликнул в изумлении князь, совершенно поражённый таким нежданным оборотом речи.
Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что—то, и наконец, сказал:
— Да вот хоть бы по делу Тентетникова.
— Афанасий Васильевич! Преступленье против коренных государственных законов, равное измене земле своей!..
— Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщён и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Тентетникова и какого—нибудь Вороного—Дрянного; а ведь преступленья их не равны.
— Ради бога... — сказал князь с заметным волненьем, — вы что—нибудь знаете об этом? Скажите. Я именно недавно послал ещё прямо в Петербург об смягчении его участи.
— Нет, ваше сиятельство, я не насчёт того говорю, чтобы я знал что—нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думал только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня—с, когда я ещё был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших... Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь всё хладнокровно, а накричишь с первого раза, — запугаешь только его, да и признанья настоящего не добьёшься: а как с участием его расспросишь, как брат брата, — сам всё выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.
Князь задумался. В это время вошёл молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и ещё свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством con amore. Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим; он занимался только потому, что был убеждён, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям, и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его всё в немногих словах, отчётливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая—<нибудь> труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. За то и был он особенно ценим и обласкан князем, да и товарищи, служившие здесь же при канцелярии, ничуть не завидовали ему, что вполне могло бы иметь место, будь это другой, не столь самоотверженный и искушённый в своём деле человек, напротив, они любили его, отдавая должное его талантам и признавая его первенство перед собою, пророчили ему большое будущее.
Князь, прогнав задумчивость с чела, обратился на вошедшего молодого чиновника.
— Что там у вас, милейший? Есть какие—либо новости в отношении того дела? — проговорил он, кивая на портфель, который молодой чиновник держал под мышкой, и особо выделяя голосом слово "того".
— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал вошедший, — обстоятельства понемногу становятся ясными, и всё сходится к одному человеку, сидящему, точно паук в центре паутины, и подёргивающему за верёвочки, на которых бьются его жертвы.
— Юрисконсульт? — полувопрошая, полуутверждая, произнёс князь.
— Юрисконсульт— подтвердил молодой чиновник.
— Из чего это видно? — вопрошал князь.
— О, ваше сиятельство, к тому уж у меня скопилось предостаточно улик и прямых и косвенных. Вот поглядите сами, — проговорил молодой чиновник, подходя к столу, за которым сидел генерал—губернатор, и подавая ему бумагу, исписанную убористым почерком, — здесь я составил список, в коем отразил поступление новых доносов по этому делу, и время их поступления. Все они, как мы с вами, ваше сиятельство, и полагали, поступают именно в тот самый момент, когда следствие готово вплотную подойти к рассмотрению дел, имеющих касательство до нашего с вами "подопечного". Доносы эти построены все таким образом, что уводят следствие от прямого пути, заставляя думать, будто всё, что было проделано следственною комиссией до поступления нового доноса, является заблуждением и лишено всякого смысла. Таким образом, следствие, точно слепая лошадь, всё время бежит по кругу, вовсе не замечая того. Но помимо этих косвенных улик, есть ещё и улики прямые. Вот они, — продолжал говорить молодой чиновник, извлекая из портфеля целую пачку бумаг и раскладывая их на столе перед князем, — все доносы, дошедшие до следственной комиссии, написаны в основном тремя почерками, что и заставило следственную комиссию предположить наличие трёх источников, из которых они проистекают, но мне удалось установить, что бумаги эти писаны одною и той же рукой и что почерка были поддельными, это явствует из характерного написания отдельных букв, совпадающих с почерком известного вам, ваше сиятельство, лица. Помимо того, несмотря на официальный язык, коим писаны дошедшие до нас доносы, всем им присущи определённые особенности в построении самого текста, и, что самое интересное, по своему стилю они полностью совпадают с теми официальными бумагами, которые небезызвестный вам, ваше сиятельство, господин составляет по долгу службы. Всё это даёт нам основание предположить, что он и есть та скрытая тайная сила, которая движет всею этою машиною поборов и взяток, раскинувшейся по губернии и собирающей поистине гигантские суммы, львиная доля которых попадает в его карманы, — закончил свой доклад молодой чиновник.
— Хорошо. Я доволен вами, — теплея лицом, проговорил князь, — ступайте и отдохните немного; нельзя себя так изматывать. Чтобы три дня я вас в канцелярии не видел. Да, и ещё одно! На следующей неделе просмотрите, пожалуйста, вновь дело этого молодого человека — Тентетникова. Найдите там достойные причины для того, чтобы ходатайствовать перед Высочайшею особою о смягчении ему наказания. Ну вот, пожалуй, и всё, ступайте отдыхать, — сказал князь, на что молодой чиновник поклонился и, повернувшись на каблуках, вышел из кабинета.
— Золото, а не человек, — сказал его сиятельство, обращаясь к Муразову, присутствовавшему при докладе. — Поверите ли, Афанасий Васильевич, были бы у меня дети, не желал бы себе лучшего сына. Но вы теперь видите, что творится в губернии, вы понимаете, почему я бываю и резок, и строг с подчинёнными. Вы поглядите только, что они затеяли. Это же разбой, форменный разбой. И кто? Всё наше высшее чиновничество. Ну как, скажите вы мне, поступить с мерзавцами? Гладить их по головкам, глаза закрывать на их проделки, делать вид, что ничего не вижу? — горячился князь. — А тут ещё и ваш Чичиков с поддельным завещанием, будто мало мне и без него забот. Одни раскольники чего стоят. Вновь вздумали бунтовать, и что мне опять же прикажете делать, солдат посылать? Так кровь ведь прольётся... Или вот, неурожаи по всей губернии. По деревням, слышал я, уж голод наступает, уж отруби едят, не сегодня — завтра умирать начнут, так что и ума не приложу, за какое дело браться в первую голову, какой пожар первым гасить. И казна почти пуста, нечем за хлеб платить. Но тут не до экономии, Афанасий Васильевич, тут надобно людей от голодной смерти спасать, так что давайте отправляйтесь в другие губернии за хлебом, а мы на это денег добудем, — сказал князь, глядя на Муразова.
— О чём тут говорить, ваше сиятельство, — отвечал Афанасий Васильевич, — всенепременно помогу я хлебом в местах, где голод... я эту часть получше знаю чиновников: рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они—то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговорятся. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег—то от вас я не возьму, потому что, ей—богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь ещё послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.
— Вас может только наградить один бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что, — вы сами можете чувствовать, — всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчёт той просьбы. Скажите сами: имею ли я право оставить это дело без внимания и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев.
— Ваше сиятельство, ей—богу, этак нельзя называть, тем более что из <них> есть многие весьма достойные. Затруднительны положенья человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что, кажется, кругом виноват человек; а как войдёшь — даже и не он.
— Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого ещё больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать...
— Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать своё мнение; соберите их всех, дайте им знать, что вам всё известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета: что <бы> из них каждый сделал на вашем положении?
— Да вы думаете, им будут доступны движенья благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.
— Не думаю—с, ваше сиятельство. У [русского] человека, даже и у того, кто похуже других, всё—таки чувство справедливо. Разве жид какой—нибудь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили перед <мной>. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе, — так пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а перед самим богом принесли свою исповедь.
— Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет.
— А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.
— Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его—то уже я бы никогда не простил.
Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашёл Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесён в фаянсовых судках из какой—то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников—казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока—юрисконсульта.
— Послушайте—с, Павел Иванович, — сказал он, — я привёз вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои — да и с богом, не откладывая ни минуту, потому что дело ещё хуже. Я знаю—с, вас тут один человек настраивает; так объявляю вам по секрету, что такое ещё дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположенье хорошем, — лучшем, нежели в каком теперь. Советую вам—с не в шутку. Ей—<ей> дело не в этом имуществе, из—за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте—с, Павел Иванович, что покамест, брося всё то, из—за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всём народе, так и порознь во всяком... Это—с ясно. Что не говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы <шло> как следует. Подумайте не о мёртвых душах, а <о> своей живой душе, да и с богом на другую дорогу! Я тож выезжаю завтрашний день. Поторопитесь! Не то без меня беда будет.
Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажным. "Муразов прав, — сказал он, — пора на другую дорогу!" Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой — чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобожденью барина.
— Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись <к ним> милостиво, — нужно укладываться да ехать.
— Покатим, Павел Иванович, — сказал Селифан. — Дорога, должно быть, установилась: снегу выпало довольно. Пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.
— Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полозки, — сказал Чичиков, а сам пошёл в город, но ни <к> кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, — тем более, что о нём множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашёл потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукна наваринского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную <цену> мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение — иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако же, фрак примерил. Он был хорош, точь—точь как прежний. Но, увы! Он заметил, что в голове уже белело что—то гладкое, и примолвил грустно: "И зачем было предаваться так сильно сокрушенью? А рвать волос не следовало бы и подавно". Расплатившись с портным, он выехал наконец из города в каком—то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая—то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое ещё не начиналось, потому что не пришёл от архитектора определительный план и работники остались в недоуменье.
Часом прежде его отправился старик Муразов, в рогоженной кибитке, вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь, по случаю отъезда в Петербург, желает видеть всех чиновников до едина.
В большом зале генерал—губернаторского дома собралось всё чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, — всё ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был твёрд, так же как и шаг... Всё чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив лёгким поклоном, князь начал:
— Уезжая в Петербург, я почёл приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом всё, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным..., хотя он и очень искусно скрыл своё участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное <время>, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу всё это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с <бумагами> и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно тёмное дело, — я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.
Князь остановился, как <бы> ожидая ответа. Всё стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.
— Известно мне также ещё одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдёт не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.
Кто—то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.
— Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишенье чинов и имущества, прочим — отрешенье от мест. Само собою разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, — несмотря на всё это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что будут меня обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут ещё спасены от более тяжких мук, что ожидают их в иной жизни, ежели покаются и понесут наказание нынче, в жизни земной. Потому мне не оставлено выбора. Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.
Содроганье невольно пробежало по всем лицам.
Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.
— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Всё будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать своё отечество, когда всякий гражданин несёт всё и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у которых ещё есть в груди русское сердце и понятно сколько—нибудь слово "благородство". Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны, мог бы также сделать <им упрёк>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Всё—таки скорей подчинённому следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчинённого. Это законней по крайней мере и легче, потому что у подчинённых один начальник, а у начальника сотни подчинённых. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое—нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва <различаем правду ото лжи, а добро ото зла. Но вспомнить, что не для зла приходит в этот мир человек, не для зла рождены вы русскими людьми, не зло заповедано нам отцами нашими, любившими и лелеявшими эту землю. Так что же мы, их дети, делаем с землёю своею, за что отдаём её на поругание бесчестием. Разве есть у нас другая земля, есть другая родина, кроме Руси, которую обираем мы в угоду своим низким прихотям и страстишкам. Поверьте мне, что мы и есть погибель России, из нас, точно из гнилого семени, прорастут на земле нашей плевелы, которые вырваны будут с корнем тем сеятелем, что ждёт доброго урожая. Нас проклянут наши потомки, и Господь отвернётся от нас, живущих и творящих дела свои во зле. Поэтому призываю вас ещё раз опомниться, оглянуться на стези ваши и решить, куда вы собираетесь прийти, бредя этими стезями: к гибели и позору, либо к чистоте и справедливости, и помнить, что стези ваши слагаются вместе, и как ручейки сливаются в одну полноводную реку, так и они слагаются в один большой путь, которым и идёт Россия, и только от вас, запомните, только от каждого из вас зависит этот её путь, ибо вы будете виною грядущей её гибели. Я не знаю, какие ещё слова мне употребить для вашего убеждения. Я сказал всё, что мог, и жду от вас ваших слов, — закончил свою речь князь и оглянул стоящих вокруг него чиновников.
Тяжёлое молчание повисло в зале. Ни один взор не был устремлён на князя. Все глядели в пол, и все лица пылали огнём стыда, но никто не решался первым преступить порога молчания. Да, собственно, чего ожидал генерал—губернатор? Того, что прожившие в большинстве своём половину жизни мужчины расплачутся, точно дети, и со слезами на глазах потянут к нему руки в раскаянии и поползут на коленях, вымаливая прощение? Но этого—то ведь никак и не могло произойти. Если бы князь попробовал собрать их не всех вместе, а пригласить каждого по отдельности и каждому в отдельности сказать все те слова, что обрушил он только что на головы этих несчастных, убогих людей, привыкших к подличанию, наветам и мздоимству, может быть, тогда слова его и возымели бы действие; и пусть не все, пусть даже и не многие, но покаялись бы перед ним в совершённых ими грехах и, может быть, даже и исправили бы пути своя, но так, прилюдно, никто не осмеливался поднять глаза на князя, никто не в силах был заговорить.
Да, собственно, его сиятельство и сам почувствовал это. Он ещё немного помолчал, а затем сказал уже несколько иным тоном, в котором сквозили и скука и усталость:
— Хорошо, я понимаю, что не дождусь от вас ответа, потому и не буду настаивать, но повторяю: по возвращении моём из Петербурга дам я вам месяц для того, чтобы не словами своими, а делами убедили вы меня в искуплении той вины, того позора, до которого сами же себя довели. Теперь же ступайте и запомните, что я тут вам сказал.
Раздалось шарканье по паркету многих ног, лёгкое покашливание и сопение — всё то, что сопровождает движение молчаливой толпы людей. Князь, стоящий спиною к выходящим из залы, услышал, как легонько стукнули, закрываясь за ними, створки высоких дверей, а затем наступила тишина, более полная, нежели та, в которой лишь несколько мгновений назад стояло и потело со страху несколько десятков людей. Одни лишь пристенные часы в углу кабинета нарушали её своим пощёлкиванием. Вслушиваясь в ровный ход часов, его сиятельство подумал: "Вот оно — уходит время, уходит жизнь, уносясь с каждым мгновением, и всё так просто в этом мире, и на все, казалось бы, бесчисленные вопросы, что ставит она перед нами, есть всего лишь несколько простых ответов, а главные из них — это "вера", "справедливость" и "любовь", а мы не видим этой простоты, простота кажется нам слишком скучной, порою даже ложной, и мы ищем на всё ответов сложных, почитая их истинными. И запутываемся, запутываемся в их сложности, точно в паутине. Запутываемся и идём ко дну".
На следующее утро его сиятельство отбыл в Петербург. Дорогою карета его обогнала коляску, в которой катил Павел Иванович — прочь из города, прочь из губернии. Увидевши несущуюся во след ему карету, сопровождаемую ротою гусар, наш герой не на шутку струхнул, решивши поначалу, что, может быть, это погоня за ним, что вот сейчас схватят его, скрутят лихие, скорые на расправу гусары, бросят во внутрь грозного экипажа и вновь упрячут в острог, забреют в каторгу, и не увидит он более белого света, сгинет где—нибудь в Сибири, не оставивши после себя ни доброго имени, ни доброго семени. Но карета, мягко журча окованными полозьями, пронеслась мимо него, обдав порывом холодного ветра, перемешанного с брызгами жидкого снега и грязи, летевших из—под её полозьев и из—под копыт резвых гусарских коней. Грязь налипла на платье Павла Ивановича, окропила его лицо, попала в глаза, но, не чуя того, опустился он со вздохом облегчения на кожаные подушки коляски и, слыша тонкий звон в ушах и гулкие удары сердца где—то во глубине груди, стал мелко и часто креститься, подымая глаза к серому, забранному унылого вида облаками небу.
Облака эти, гонимые ветром, точно набиваясь к нему в попутчики, медленно ползли в вышине, над головою Павла Ивановича, сея колючий мокрый снег ему в забрызганное грязью лицо, пластая холодные хлопья по мокрым спинам лошадей, над которыми поднимались тонкие струйки белёсого пара и пятная укрытые рогожею фигуры Петрушки и Селифана, рядком сидящих на козлах. В отдалении, сквозь серую колышащуюся завесу снега, светил красноватым отблеском, глаз чёрного придорожного трактира, словно маня нашего героя, словно говоря ему этим своим краснеющим в сумерках окном, что только он и есть единственное на всём белом свете пристанище для плетущегося по нескончаемым российским дорогам Павла Ивановича, всё стремящегося вдогон за удачею, всё надеющегося настигнуть её то на продуваемых холодными ветрами трактах, то в пределах унылых и сонных городов, то за околицами гниющих и умирающих деревень.
Только он — этот трактир, случайный и безликий, будто две капли воды похожий на тысячи таких же случайных трактиров, — есть и дом и кров для Чичикова, что ляжет здесь на случайную кровать, укроется случайным одеялом, увидит случайные сны, не чуя того, как вся его жизнь тоже давно уже сделалась случайною, вобрала в себя эту зыбкую неопределённость случайных вещей, предметов и лиц, встречающихся во время долгого и безмерного его пути длиною в жизнь, длиною в горестную жизнь нашего героя. А он, не ведая об этой случайной, но, увы, случившейся с ним беде, всё продолжает и продолжает свой путь, всё меряет версту за верстою, оставляя за своею спиною дни, недели, месяцы и годы. Сколько же времени будет длиться нескончаемая эта погоня, сколько лететь ещё тройке коней над русскою землею, дробя копытами пыльные просёлки, высекая искру из каменных мостовых, разбрызгивая грязь размокших осенних большаков. Где остановит она свой бег, и остановит ли когда—нибудь?
А, может быть, это сама русская земля, что дрожит под копытами несущихся сквозь остающуюся позади непогоду и время коней, тронулась с места и отправилась в путь, потекла, змеясь и изгибаясь бесчисленными извивами немеренных своих дорог? Какая сила, какая преграда остановит тогда плавное, но неумолимое это движение? И что укроется, что избежит сжигающего её стремления в этой погоне за счастьем, которое должно случиться точно чудо, должно взорваться над русскою землею, будто внезапное, но долгожданное, вышедшее из—за грозных туч солнце? Что будет с теми, кто осмелится стать на пути у этой, всё перемалывающей, словно немыслимый жернов, громады, что зовётся — Русь? Жалки будут их потуги, печален удел. Она перевалит через них, сомнёт, укроет, словно лавиною, и потечёт, понесётся дальше: через годы, через века, через времена.>
http://www.deadsouls2.ru