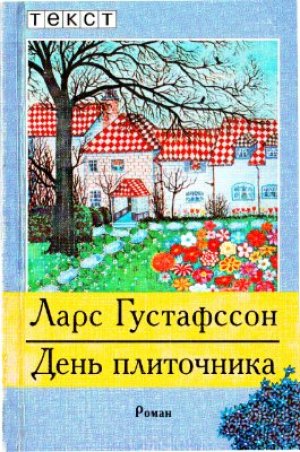
СОБРАНИЕ ТРУДОВ
Торстен Бергман — так звали мужчину, седого, сухопарого. Плиточника по профессии. Родился он в 1917-м. А значит, в то ненастное ноябрьское утро 1982 года, о котором у нас пойдет речь (кстати, место действия — Упсала), ему было уже шестьдесят пять. Спал он на двуспальной кровати, некогда супружеской, а ныне одинокой, с давно не стиранными простынями. На полу там и сям разбросаны старые газеты и пустые бутылки, в дальнем углу — черный коврик, ветхий, вытертый, обычно на нем спала собака.
День начался именно так, как ему и полагалось: трава уже опалена первым морозцем, собака которые сутки в бегах, вся жизнь словно в тумане, и в первую очередь его собственная. Сад захламлен, пейзаж перекошен. Дом старый, деревянный, когда-то зеленый, теперь серый и облупленный. Усталые сучья могучих старых яблонь грозно нависают над ветхой верандой. Этот сад — замусоренный, сумбурный памятник полному собранию трудов его жизни. А кое-кто, наверное, сказал бы: собранию неудач.
Рассвет, серый пока, полный чистой ледяной капели от ночного дождя, испещренный пятнами неописуемо серых и мутных грез, медлил у окна, не спешил проникнуть в комнату сквозь плотную желтую штору.
Сад возле дома (по правде говоря, его теперь и садом-то грех назвать) уже лет пятнадцать как обнесен забором из гофрированного железа, вместо старого деревянного штакетника. И когда часов в пять-шесть утра разносчик газет, направляясь к соседскому почтовому ящику, ненароком задевал Бергманов забор велосипедным рулем, железо откликалось гулким протяжным звоном, словно цимбалы; Торстен ненавидел этот звук, который каждое утро напоминал о необходимости вставать, жить дальше. Как бы он ни хотел остаться в грезах, средь зыбких серых призраков!
Он бы вообще охотно предпочел бытию небытие. Если б кто его спросил.
В этой самой упсальской комнате и зазвонил телефон, резко, пронзительно, в половине седьмого утра, в ноябрьский четверг 1982 года. Вот так начался четверг, у которого по-настоящему не было конца. Но об этом никто еще знать не знал.
Торстен не имел ни малейшего желания смотреть в окно. И без того прекрасно знал, что там снаружи.
Забор гофрированного железа, этакий высоченный палисад, обладал большим преимуществом: не в пример трухлявым деревянным оградам, какими эти домишки для рабочих были снабжены в незапамятные времена начала века, он не гнил. Крепко держался. Здешние дома выстроили когда-то для работников керамической фабрики «Экебю». Фабрика давно канула в небытие. А забор стоял себе и стоял. Оборонял от ворья и мальчишек, а главное, под его прикрытием можно было собирать все, что душе угодно. Вовсе не обязательно разбивать цветочные клумбы, теперь, когда и жены-то уж на свете нет.
Старый верстак, не меньше трех разных тачек, деревянная моторная лодка, которая не бывала в Экольнском заливе, почитай, с пятидесятых годов, когда его жена Бритта приказала долго жить. Лодка прямо-таки закаменела, стала неотъемлемой частью сада.
С тех самых пор она была накрыта брезентом и фактически давно уже являла собой всего-навсего пристанище для крыс, а значит, и излюбленное местечко сборищ для множества толстых и отменно ловких окрестных кошек. Что еще? Целая куча труб, когда-то на что-то выменянных и предназначенных для ремонта канализации, с которым он явно и безнадежно опоздал. Укрытые листами оргалита кирпичи, фанера, давным-давно крошившаяся под пальцами, а в дальнем углу — газонокосилка, купленная и впервые протарахтевшая по зеленой весенней траве в 1947 году, когда родился сын.
Голос в трубке что-то говорил, но поначалу он вообще ничего не понимал. По телефону он вообще понимал все хуже, и особенно скверно обстояло по утрам. Нередко в таких ситуациях, когда он толком не соображал, кто говорит и чего желает, ему отчаянно хотелось шваркнуть трубку на рычаг. Телефонные голоса обыкновенно чересчур уж многое полагали самоочевидным. Лишь когда он наконец расслышал в этом голосе финский акцент, слова зазвучали понятно.
Звонивший ничего особенного собою не представлял. И ничего особенного не желал. Голос принадлежал сантехнику, электрику, мастеру на все руки, по имени Пентти. Торстен знал его довольно-таки хорошо. И не упомнишь, на скольких стройках, бывало, вместе работали. Последний раз — на аэродроме в Арланде, когда тамошняя компания, производящая харчи для пассажиров, меняла у себя на кухне полы.
Паскудная была работенка, но доходная. После он целых три недели почти что не просыхал. А в Лутхаген1, в винный магазин, на такси ездил, чтобы не толкаться со всяким старьем в автобусе. Вот уж несколько лет, как он испытывал к автобусам растущее отвращение; необходимость влезать в эту людскую толчею вызывала у него ощущение удушья. И тогда он становился вспыльчив и агрессивен.
Кухня в той крупной авиакомпании отличалась поистине гигантскими размерами и кишмя кишела малорослыми, бойкими, шумливыми и совершенно непостижимыми иностранцами (впрочем, пес их знает, кто они такие), которые без устали, с одной и той же механической энергией — точь-в-точь куклы, заведенные ключом в спине, — сновали, продолжая жарить-парить, у огромных ресторанных плит в одной ее половине, меж тем как в другой вспарывали старое резиновое покрытие, и в воздухе стояли тучи пыли и клейстерной трухи. Торстену и Петтерсону из Готтсунды2 предстояло положить здесь метлахскую плитку, и получили они эту работу нелегально. С тех пор как по причине болезни желудка сумел досрочно выйти на пенсию, Торстен вообще работал только нелегально. А Петтерсон из Готтсунды поклялся, что нипочем больше не возьмется за легальную работу, после того как в 1973 году сволочной чиновник из налогового ведомства повесил на него недоимку в пятьдесят тысяч крон, и слово свое держал твердо. Правда, в тот раз он, к сожалению, через несколько дней куда-то слинял, оставив Торстена в одиночестве. Слишком озлобился сердцем. Что само по себе неудивительно.
Под резиновым покрытием обнаружилась преющая полуорганическая масса, что-то вроде компоста из остатков еды, подливок и черт знает чего еще — отбросы неудачной стряпни для авиапассажиров, накопившиеся с пятидесятых годов и образовавшие неописуемо мерзкую липкую кашу. Пришлось выгребать ее лопатой и вывозить на тачке. Цветом она была светло-желтая, как собачья моча, а воняла так, что и слов не подберешь. И прогорклой подливкой, и лисьим питомником, и писсуаром, и тухлой простоквашей.
Никогда в жизни он не сталкивался с такой тошнотворной мерзостью. Поневоле то и дело выскакивал на улицу и блевал, как лисица, в сугробы возле кухонного ангара. А эти арабы — или как их там, черт подери! — эти чернявые шибздики знай себе что-то жарили на мерзких громадных противнях и варили в громадных кастрюлях этой адской кухни, меж тем как вокруг курилась пыль и воняло дерьмом. В конце концов он все же вывез большую часть, нанес на пол раствор и положил финскую плитку. Тогда вонища стала поменьше.
А чего стоило уследить, чтобы эти поганцы не шастали по только-только уложенному полу. Им хоть кол на голове теши — не понимают человеческого языка, и все тут. Может, плитки никогда не видали? Она ведь трескалась, и в швах разъезжалась, и вообще вела себя капризно. Иной раз у него самого мелькала мысль, что и плитка, и цемент, и затирка в последние годы как-то незаметно стали хуже качеством.
Бог весть почему, теперь все труднее заставить плитку держаться на стенах. Может, стены виноваты, а может, сама плитка — гадать без толку. Но работа есть работа, хоть эта, хоть любая другая. Обычное дело, ничего особенного. Работа вообще небольшое удовольствие. Если б не платить налогов и прочей муры, тогда бы в ней хоть какой-то смысл был. А так вовсе смысла нету.
Но что ни говори, Пентти — ну, этот, сантехник, который толком не говорит по-шведски, — мужик хороший, услужливый и порядочный. Когда Торстен, обливаясь холодным потом, схватился за сердце, Пентти оставил свои водопроводные трубы, завязал рот и нос мокрым платком, взял совковую лопату и помог ему выскребать дерьмо. А молодые парни, что возили к ожидающим чартерным самолетам тележки со жратвой, просто обхохотались, глядя на них.
На сей раз этакого веселья не предвидится, сказал Пентти по телефону. Нужно положить плитку в двухэтажном доме, где идет капитальный ремонт. В ванной, в туалете и прочих помещениях.
По всей видимости, кто-то затеял ремонт в большом старинном особняке. Не иначе как две просторные квартиры с солидными ванными комнатами и прачечной, если верить Пентти. На верхнем этаже еще остался давний жилец. Но он съедет, а еще там, похоже, какая-то петрушка с жилищным управлением. Поэтому не очень ясно, когда и как все будет завершено. А вдобавок ко всем неприятностям возникли проблемы с плиточниками.
Они просто взяли и ушли, не сделав и половины работы в нижнем этаже, а ведь там ванная, умывальная, баня, подвальная прачечная. Небось нашли работенку получше. А может, с заказчиком поругались или меж собой повздорили. Кто их знает. Столько всякого сброда развелось — нынче придут, завтра поминай как звали. Никто, поди, понятия не имеет, плиточники ли они по профессии, эти пропавшие предшественники.
Вполне может быть, что, получив деньги на цемент, фиксатив, шпатлевку и прочий материал, они запили, да так крепко, что ни кусачки, ни молоток, ни шпатель удержать не могли. Или может быть, все дело в том, что заказчик страшный жмот и зануда и договориться с ним невозможно.
Пентти о нем мало что знал. Но по крайней мере, одно ясно: он не из тех, кто берет у государства кредит на тридцать тысяч, затем бросает теплообменник ржаветь под дождем во дворе, а сам на полученные денежки едет отдыхать на Мальорку. Пентти в свое время и такое видал, причем с близкого расстояния, у своего соседа в Гранеберге.
Сам Пентти был из тех мужиков, которых еще и теперь, в 1982-м, иной раз встретишь весенним вечером на обочинах окрестных дорог: режут свежую травку для своих кроликов, а потом, погрузив тугой мешок на багажник велосипеда, едут себе домой. Жадным его не назовешь, но своего не упустит, что верно, то верно. И на таких, кто транжирит государственные кредиты на разъезды по Мальоркам, Пентти действительно смотрел косо.
Здесь этаких, стало быть, нету. Зато Пентти, как он говорит, готов поручиться, что и таких, которые требуют расписок, а перечни своих расходов посылают властям и налоговым чиновникам, тоже нету. Это уж как бы само собой. Но вот кто владелец и кто к концу ноября въедет на первый этаж, сказать затруднительно. Пускай Торстен сам выясняет, ежели охота. И того, кто будет с ним расплачиваться, опять же придется искать самому. Пентти вообще считал, что слишком вникать в подробности жизни совершенно ни к чему. Главное — владеть ситуацией в целом.
Сам Пентти туда не собирается. Нынче нет. Он, так сказать, просто палочка-выручалочка, посредник и дежурный на случай серьезных неурядиц — все сразу, в одном лице. Ведь примерно тогда же, когда возникли сложности со вторым плиточником, началась какая-то мышиная возня с сантехником. Пришлось Пентти подменять его несколько дней, главным образом потому, что первый сантехник (официально он работал при губернском совете) получил там нагоняй, из-за того что частенько засыпал в рабочее время. Видно, вкалывал в этом треклятом особняке до поздней ночи.
Тяжело дыша и обливаясь потом (по сутулой волосатой спине, где уже местами белели седые пучки, пот тек в три ручья), Торстен огрызком карандаша силился худо-бедно записать адрес и дорогу на клочке, оторванном от обложки телефонной книги, — а то ведь торопыга финн, чего доброго, повесит трубку. Застарелая головная боль уже стучала в висках, и голая лампочка на ночном столике так и норовила пробуравить мозги — абажур упал под кровать, а нагибаться за ним себе дороже, окончательно невмоготу станет. Особенно после вчерашнего: накануне вечером, пялясь на все более туманный экран телевизора, он целую бутылку водяры усидел. И вот опять башка трещит. Хотя головная боль с тем же успехом могла начаться и без водки.
В последние годы боль стала едва ли не привычной, накатывала внезапно, вонзалась раскаленной иглой, то когда он наклонялся что-нибудь взять, то когда открывал утром глаза. И странное дело, нередко исчезала так же быстро, как и возникала.
Одно, во всяком случае, ясно: плиточник у них там был, но с ним что-то стряслось и теперь позарез нужен новый, ведь плитку класть некому. А плитка эта, в сырых оргалитовых ящиках, перевязанная мягкой проволокой, лежит небось во дворе, прямо в осенней грязи. Интересно, с чего бы такая спешка? Неужто вправду не терпится въехать в особнячок? Не-ет, должно быть, просто не получат нового кредита, пока стройнадзор своими глазами не убедится, что последняя ссуда использована по назначению.
Стало быть, Торстен Бергман размышлял, прикидывал так и этак. Небольшая порядочная работенка, не слишком долгосрочная, была бы очень кстати. Вон сколько счетов на холодильнике. Даже налог на телевизор и страховка за машину не уплачены.
Ну а ежели там вовсе плохи дела и материала не хватает, так плитка у него есть. Плитки хоть завались — память о всяких-разных работах, как говорится, полное собрание трудов. Метлахская плитка всевозможной толщины — в саду, ей зимние холода почитай что нипочем; кафельная — в подвале.
Он теперь неохотно туда спускался, и, когда этот беспардонно ранний звонок пробуравил его больную голову да еще и принялся соблазнять: дескать, возьмись за это дело, может, последний раз доведется класть плитку, — именно мысль о походе в подвал больше всего и мешала ему дать согласие.
С тех пор как минувшей зимой канализационные трубы в подвале, будь они неладны, промерзли и полопались, там все время стояла вода, а чего хорошего — лезть в эту ледяную воду руками, пытаясь выудить нужную вещь. И раньше-то было не очень просто что-нибудь оттуда извлечь. Плитку, к примеру.
Он не бывал там с того дня, как прорвало канализацию, это точно. Предпочитал держать дверь на замке. И единственное, что вспомнилось сейчас более-менее отчетливо, был деревянный ящичек с десятком особенных плиток-мыльниц. Теперь ставить их в ванных комнатах запрещено, — дескать, люди пожилые могут покалечиться, поскользнувшись в ванне. Только и думают что о всяких дурацких несчастных случаях, которые нынче подстерегают народ. Жаль, конечно, ведь эти самые плитки так не похожи на все прочие, какие он может предложить. Но никто и никогда на них не позарился. Он порой воображал себе, что будет, если разместить их на одной стене, чуть ли не рядышком, на равных расстояниях. С виду получится вроде как зубчатый спинной гребень страшного морского чудища или дракона. Хотя от него вряд ли ждут подобных шалостей.
Финская плитка рекордных шестидесятых годов, чуть тяжеловатая, красивая, одноцветная. В самом начале шестидесятых ему на дом доставили целый грузовик этой плитки, и, что характерно, с годами она от собственной тяжести глубоко увязла в сыром земляном полу подвала. Так что в случае чего придется выкапывать лопатой. Ну да сейчас это не имеет значения.
В подвале и впрямь уйма плитки — только спустись вниз и открой дверь, коли хватит духу выдержать вонищу. Хоть он и подзабыл уже, где что искать. Самая старая плитка, фирмы «Упсала-Экебю», лежит там еще с тридцатых годов. Украдкой доставленная домой, по две, по три штуки за раз на багажнике велосипеда, в коробке для завтрака. На редкость красивая плитка, правда-правда. Свою плитку он всегда очень любил.
Самая старая выглядит нынче так изысканно, что лучшие итальянские фабрики во Флоренции, Лукке и Виченце начали ее копировать и за большие деньги вывозить за границу. Зачем нужно втридорога платить за красивую импортную плитку, а давние прославленные местные фабрики использовать как трудотерапевтические мастерские для отбившейся от рук молодежи и как лечебницы для окрестных алкашей — этого он толком понять не мог.
После весьма сложных переговоров с властями (по поводу желудка) он несколько лет назад вышел по болезни на пенсию и раз в месяц получал свой перевод в почтовой конторе на Раккарбаккен. В благословенные сороковые он бегал туда, по грошам выплачивая ипотеку. В ту пору жилось счастливее, обычно говорил он, намного счастливее, чем до или после. А может, в детстве жилось еще намного счастливее?
Хотя дом его находился всего километрах в полутора от фабрики, которая так долго кормила его, жену и мальчишек, он много лет не бывал среди тамошних полузаброшенных построек. На душе становилось грустно и муторно уже на подходах, стоило увидеть молоденькие березки и татарник меж рельсами, по которым некогда катили вагоны-скипы, до краев полные тяжелой упландской глины. Здесь вообще все смутно напоминало о тех временах, когда в его жизни еще были люди.
Он облокотился на подоконник, глядя в едва брезжущий рассвет. Со старых трухлявых яблонь в саду капала талая вода, до ужаса медленно, с вкрадчивой осторожностью, словно затем, чтобы он хорошенько расслышал, — как холодные мурашки, бегущие от позвонка к позвонку.
Все это — мир, и ничто в этом мире, по правде сказать, ему не принадлежит. Так начался у Торстена Бергмана этот четверг.
ДОМ
На улице, пожалуй, не так холодно, как он ожидал, но воздух сырой и колючий. Когда он высунулся из прихожей наружу, головная боль уже помаленьку отпускала. Иногда она отпускала до странности быстро, будто найдя кого-то другого, поинтереснее. Неужто вернется сызнова после нынешнего похода?
Осенние листья, которые он так и не удосужился сгрести в кучу, лежали в саду плотным толстым ковром, распространяя горький, ядреный запах тлена и смерти. Теперь надо постараться раскочегарить старенький «вольво» — эту машину ему с год назад отказал племянник, и она утопала в опаде, словно сама была частью здешнего тлена. Хочешь не хочешь, пришлось раскидать целую гору листьев, только тогда скрипучая дверца открылась.
Изнутри, будто гнилостное дыхание самой машины, выплеснулся едкий запах преющей ветхой обивки, загустевшей прогорклой смазки и строительного раствора.
Крюк у «вольво» на месте, прицеп тоже, но вряд ли он сумеет наладить на прицепе указатели поворота и стоп-сигналы, чтоб действовали как положено.
Торстен Бергман пользовался машиной только для перевозки инструмента и материалов. В иных случаях он предпочитал велосипед, так ему было гораздо свободнее.
Старое одеяло на капоте в такое вот утро, пожалуй, скорее во вред, чем на пользу. Хотя в сырости под этим пологом кое-кто чувствует себя очень даже вольготно — сороконожки и тараканы, всевозможные жуки и невесть какие ползучие твари, которым потемки и сырость как раз и идут впрок. Он бесцеремонно швырнул одеяло на гору садового компоста, неловко протер рукавом запотевшее ветровое стекло и сел за руль, нырнув в промозглый автомобильный дух. Черт его знает, заведется или нет. Уж и забыл, когда последний раз ездил.
Движок завелся в два счета, чем несказанно удивил Торстена; что ни говори, тачка хоть и старая, а вполне приличная, грех жаловаться. Из выхлопной трубы повалил чудной белый дым — клапаны барахлят! — и быстро заполонил чуть не весь сад, но мотор работал как часы, а это главное.
Выехать с прицепом через ворота — тоже задача не из легких. Глинистая дорожка, въезд на задний двор, и без того узкая, а теперь, осенью, вдобавок дьявольски скользкая, так что вывести прицеп со двора и не зацепить железный забор больше вопрос удачи, нежели сноровки. Ну а коли зацепишь забор, все до одного соседушки услышат, будь они неладны, грому будет на всю площадь Кунгсйердес-план. И пойдут пересуды: Торстен, мол, так пьет, что и на трезвую голову совладать с машиной не может. А выехать из ворот год от году труднее, что да, то да. Не столько потому, что он пьет, хотя, конечно, и этого нельзя отрицать, сколько потому, что видит все хуже и хуже. Воспаленные, красные глаза, смотрящие сквозь линзы старых очков с никелированными дужками, крепко обвивающими большие замерзшие уши, вечно слезятся и саднят. Что с ними такое, он знать не знал.
Может, все дело в очках, которые он теперь вовсе не протирал? После смерти жены платок в кармане случался редко. А старой газетой до хорошего не протрешь.
Что ж, утро нынче доброе, по крайней мере, чертова таратайка не подвела, сразу пошла как надо. Стоит на улице, во всей своей ржавой красе, ждет, занимает место и делает здешний поворот опасным. Из-за прицепа, и вообще. Лишь выехав со двора, Торстен призадумался. Может, все-таки захватить какой-нибудь инструмент? Плитку-то доставать из сырого подвала, пожалуй, нет смысла. Если она впрямь понадобится, семь потов сойдет, пока погрузишь.
Впрочем, сейчас думать об этом не стоит; неизвестно ведь, сколько ее нужно и для чего. Лучше бы получить пару сотенных аванса, чтобы уладить мелкие делишки, и чин чином приступить к работе.
Но инструмент? Кой-какой наверняка лежит в машине, с прошлого раза. И не упомнишь, сколько времени минуло с тех пор. Точно помнилось лишь одно: в последние дни недоставало молотка. В конце концов он приспособился забивать гвозди плоской стороной разводного ключа, хоть это и не очень удобно. А в подвале, будь он неладен, наверняка много чего найдется. Конечно, несуразица — терять половину инструмента на каждой работе, за какую ни возьмешься. Но дрызгаться в стоячей воде подвала вовсе тошно, на самом деле.
Он натужно рылся в памяти, год от года все более нетвердой. В машине, в багажнике, определенно есть старый, ржавый столярный молоток. Вполне сгодится, чтобы, по крайней мере, сбить плохо уложенную или изношенную плитку. Ну а после, когда наступит черед настоящей работы, явно понадобятся цемент, фиксатив и затирка для швов, так что будьте любезны раскошелиться — без четырех-пяти сотенных начального капитала не обойтись. Тогда, ежели поднатужиться, можно в обед заскочить и на Лутхагсэспланаден, в винный магазин, ведь это аккурат по дороге на склад стройматериалов, что в районе Булендерна. При мысли об этом грядущий день тотчас просветлел, преисполнился некой возвышенной свободы.
Конечно, есть и риск: вдруг они решили, что он не приедет, и вызвонили кого-нибудь еще? Поэтому пора двигать, и не мешкая. Даже бутерброда не прихватил. Ну да это дело поправимое. В кухне ему на глаза попался только рихтовочный шнурок, крепкий, надежный, он быстренько смотал его и сунул в карман. Туда же, в карман куртки, отправил пару сухих носков, а ведь, черт подери, был, кажись, еще и апельсин, хоть и подсохший с одного боку от долгого лежания на кухонной лавке.
Ехать до Лутхагена, слава Богу, недалеко. И места вполне знакомые. Торстенов отец когда-то владел тут у реки садовым участком. А сам он мальчишкой удил окуней, чуть повыше старого водного стадиона, который давным-давно снесли, а взамен соорудили что-то другое. Он, правда, не присматривался, что именно.
Уличное движение Торстен недолюбливал, особенно полицейские машины и прочую чертовщину на колесах, которая нынче так и кишит на дорогах. Вот и сделал лишний крюк, объезжая Свартбексгатан, где частенько торчат полицейские машины; ну их, еще привяжутся к нему и к тачке его, засыплют наглыми, хамскими вопросами про стоп-сигналы, про отметку о техосмотре или еще какую хренотень, эти сволочи найдут к чему придраться. Когда он добрался до места, было по-прежнему темно, но дом, несомненно, тот самый — номер на фронтоне видать издалека, цифры крупные, четкие.
Дом, оказывается, больше, чем он думал. Большой, оштукатуренный, деревянный, из тех, где в былые времена размещались четыре маленькие квартирки, а теперь, после капремонта, будет, наверно, только две. Этот старинный район на восточном берегу реки, похоже, становится престижным. Место для дома выбрано удачно, кругом живая изгородь из елочек, аккуратная и старомодная, а сама постройка так и светится новенькой желтой штукатуркой. Окна тоже сплошь новые — рамы из какого-то блестящего легкого металла, на стеклах фирменные наклейки поставщика.
Во двор он въехал без труда. Но сад, где все газоны вконец разъезжены, превращены в топкое месиво, ведь автомобилей там перебывала чертова уйма, — сад выглядел далеко не так аккуратно.
Могучие старые яблони изрядно пострадали от грузовиков, которые маневрировали как попало, да и от цветочных клумб мало что осталось. Окантовочные камни и те местами оказались вдавлены в землю, ровненько, заподлицо с глиной, точно гвозди.
Ох и скользко! Он с трудом вывел «вольво» на разъезженную траву.
Двое мальчишек на мопедах, выписывая среди деревьев бессмысленные вензеля, неожиданно возникли прямо перед капотом. Торстен чуть не наехал на второго из них, который слегка зазевался. Неприятное ощущение. Белые перепуганные глаза мальчишки блеснули в полумраке — белые, словно у мертвой рыбы. Торстен выругался, а мальчишки исчезли так же быстро, как и появились.
Натура у Торстена Бергмана была впечатлительная; он везде усматривал приметы и предзнаменования.
С превеликим трудом выбравшись из машины, он отметил, что прицеп на месте, и решительно зашагал к дому.
Входная дверь — новенькая, красивая, лакированного дуба, наверняка обошлась недешево. Открылась она легко, и Торстен Бергман очутился в свежевыкрашенном холле, где от стен и потолка приятно пахло чистотой. Изящная лестница, тоже дубовая, уходила в темноту второго этажа.
Оттуда, сверху, вроде бы доносились голоса. Впрочем, может быть, голоса долетали с улицы. Дом производил двойственное впечатление — с одной стороны, выглядел ультрасовременным, хотя, как говорится, не вполне завершенным, с другой же стороны, оставался темным старинным лабиринтом.
Внизу царила полная тишина.
Что ни говори, он ее получил. Работу. Скоро наверняка кто-нибудь придет и объяснит ему, что надо делать. И денежки будут, и работенка настоящая на денек-другой. А может, и порядочные люди найдутся, с которыми можно потолковать за кофе.
Он уже весьма воспрянул духом.
OPUS INCERTUM3
Торстен Бергман вошел туда, где, возможно, и находилось его рабочее место. Да-а, задумано все со вкусом и с размахом. Кухня большущая — множество рабочих столов и моек по стенам, комплексный блок посередине, стеклянные шкафы и электрические причиндалы. Открывалась она по левую руку.
Справа столовая и гостиная — гипсовые панели, аккуратно смонтированные и покрытые стекловолокном, козлы обойщиков посреди комнаты, на новеньком полу, не зря ведь он застлан газетами. Дальше там, вероятно, еще несколько помещений, но в потемках разглядеть трудно. На стуле — термос и недопитая чашка кофе. Похоже, давно стоят. Кофе, во всяком случае, холодный. И не просто холодный — плесенью отдает. Торстен отпил было глоток и тотчас выплюнул.
Чем дальше, тем гуще потемки. И передвигаться затруднительнее. Наверно, какое-то из окон заложено? То и дело натыкаясь на дверные ручки, услужливо отворявшиеся в непроглядно-темные комнаты, Торстен совершенно потерял ориентацию, но потом припомнил, что некоторые окна и впрямь закрыты картоном. Не иначе как потому, что наружные стены красили из краскопульта — в изысканный цвет под старину, причем недавно.
А вот это гулкое, просторное помещение, пахнущее плиточным раствором (еще не вполне просохшим, если нюх его не обманывает), — Господи, уж не ванная ли?
Хотя, может, у них тут умывальная? Или что-нибудь другое? Во всяком случае, определенно какое-то из «санитарных» помещений. Очень уж темно, толком не разглядишь. Ага, деревянная дверь — по идее, ведет в сауну. А здесь-то что — неужели ванна? Огромная, будто плавательный бассейн! Не остерегись он в последнюю минуту и шагни назад — аккурат бы туда и рухнул. С непредсказуемыми последствиями. Бог весть, сколько бы пролежал на дне этой ванны, или как ее там, с переломом шейки бедра.
Мог бы и помереть от голода и жажды. Никто ведь не знает, что он здесь. Разве только Пентти, может, удивился бы на минутку, куда он пропал и почему так и не пришел на стройку, где Пентти подыскал ему работу. А давешние мальчишки на мопедах давным-давно забыли о нем, им плевать, кто он и куда подевался.
Коли наверху и впрямь, как утверждал Пентти, есть жильцы, они, конечно, потихоньку учуют трупный запах. Само собой, ежели раньше не явятся ремонтники. Но на это надежды маловато.
Почти инстинктивно он начал ощупывать стену. Ну и темень! Не поймешь, что тут за плитка, вроде незнакомая какая-то. И работа на ощупь не ахти. Швы неровные, да и сами плитки местами, кажись, перекошены. Торстен опять провел рукой по стене, размышляя о том, что же это за люди тут работали. Электровыключатели кое-где попадаются, но тока в сети нет. Сколько ни щелкай, все без толку.
Многое, думал Торстен, стало бы проще, если б на худой конец удалось найти батарейный фонарик. Ведь не больно-то и разберешься пока, на кого, собственно, предстоит работать и что именно надо делать. И где взять материалы и инструмент, тоже неизвестно. А вот с фонариком можно бы хоть в первом приближении оценить ситуацию.
Не без труда Торстен сумел вернуться назад, в более гостеприимные помещения, куда проникал свет осеннего дня. На улице лило как из ведра. Здесь, в столовой и в гостиной, тоже темновато, раза два он споткнулся о брошенные ведра, потом запутался ногой в ворохе ветоши и едва не повалил на себя стремянку.
Неожиданно он опять очутился у входа, перед все той же редкостно красивой дверью. Где они только разыскали это чудо! По нынешним временам такая дверка не одну тысячу крон стоит. Интересно все-таки, почему тут не пожалели труда и денег, отделывая первый этаж, а второй оставили как есть? Снизу Торстен видел, что стены на лестнице лишь до половины окрашены в благородный золотисто-желтый цвет, а дальше идет старая штукатурка, грязно-синяя, в глубоких царапинах и щербинах, оставленных безалаберными грузчиками, а может, и жильцами.
Изящные перила и те обрывались внезапно. Странный дом, недоделанный, что ли, — такое складывалось впечатление.
Кто-то, никак, решил довести ремонт до конца?
С верхнего этажа, кажется, долетают какие-то неясные, приглушенные звуки. То ли телевизор работает, то ли вправду люди разговаривают — трудно сказать. На миг Торстену почудился детский голос, потом вроде бы душещипательная музыка и опять что-то неразборчивое, невнятное. Может, это все-таки уличные шумы?
Очутившись у лестницы, он не устоял перед соблазном шмыгнуть наверх и поглядеть на тамошние двери. Та и другая выкрашены грязно-коричневой краской. И на одной есть табличка.
Вернее, даже не табличка, а небольшой картонный прямоугольник, небрежно пришпиленный кнопкой.
«Софи К.» — вот все, что написано на картонке. Ну и народ, подумал Торстен, фамилию свою написать боятся. От страха перед полицией? Или может, они иммигранты, вроде как беженцы, причем без вида на жительство? А глядишь, тут и вовсе логово террористов, на этом неотремонтированном этаже. Он тщетно пытался вспомнить, не говорил ли Пентти про второй этаж чего-то особенного, но память, увы, не отзывалась.
Есть ли надежда, что у этих людей найдется такая вещь, как фонарь? Держат ли обычные люди у себя дома фонари? Н-да, трудно сказать. Удивительно, вдруг подумалось ему, а ведь обычных людей среди его знакомых вовсе не много. После смерти жены он как-то перестал с ними общаться.
Торстен нажал на дверной звонок. По идее, работает. Но внутри тишина.
— Алло! Здравствуйте! — громко сказал Торстен закрытой двери. — Я пришел класть плитку в нижнем этаже. Но там непорядок с освещением. Может, у кого фонарик найдется?
Ответа нет. Уж не ребенок ли там, за дверью? Тишина затянулась, действовала на нервы.
В голову полезли неприятные мысли. Вдруг его приняли за нехорошего дядьку, который, пользуясь отсутствием родителей, норовит знакомиться с маленькими девочками? Или может, за дверью психопат — глазом моргнуть не успеешь, как он выскочит из квартиры и долбанет по башке какой-нибудь железякой?
За дверью по-прежнему царило безмолвие. Кто бы эта Софи К. ни была, она определенно не слишком общительна.
Медленно и задумчиво спускаясь вниз, Торстен невольно прислушивался — а ну как дверь все ж таки с любопытством отворят и вновь захлопнут. Но никаких таких звуков не уловил.
В растрепанных чувствах — не то в отчаянии, не то в рассеянности — он вышел во двор. Все та же грязь, разъезженная колесами, но дождь немного поутих. Его машина с прицепом стоит, где стояла. Ни хозяина, ни другого какого начальника и тут не видать. Медлительный товарняк на пути в Евле, а может, в тихий и безопасный Норланд громыхал по рельсам на той стороне улицы. На секунду его захлестнуло желание очутиться в этом поезде. Воздух терпко пах сыростью, гниющими листьями, ленивой желтой рекой, что протекала неподалеку, и ему показалось, будто он чует терпкий запах самого времени, текущего сквозь мир. Или наоборот, это мир течет сквозь время?
Занятый этими раздумьями, Торстен Бергман мочился на облетевший куст возле стены и внезапно увидал прямо перед собою электрический распределительный шкаф, укрепленный на уровне человеческого роста. Дверца приоткрыта. Может, кто-то попросту выключил рубильник, и все дела? Но как в таком случае обходится Софи К. на верхнем этаже? Неужто сидит в потемках? Все ж таки интересно, кто она? Может, молодая мамаша, красивая, с целым выводком детей? Рыжеволосая, пышногрудая, трое малышей цепляются за юбку.
Вдруг удастся с нею познакомиться, а?
Весь в мечтах, он близоруко осмотрел внутренность шкафа. Черт подери, не удивительно, что в доме вообще нет света! Ни одного из четырех шестнадцатиамперных предохранителей на месте нет — исчезли! Только куча проводов и еще какие-то штуковины, пес их знает, зачем они нужны. Торстен, конечно, имел дело с такими шкафами на прежних работах, но насчет жучков и тому подобного был не силен. Впрочем, кто, черт возьми, мешает ему купить несколько предохранителей и ввернуть в гнезда? Десятка-другая в кармане найдется. Он решительно зашагал к своему «вольво». Мотор остыть не успел и завелся без задержки. Прицеп он отцеплять не стал — целее будет.
Дождь опять усилился. Торстен поехал аж в район Свартбеккен и с риском для жизни, с двух заходов припарковался на боковой улице, под градом насмешек и брани со стороны экипажа мусороуборочной машины, которая после застряла тут минут на пятнадцать, не меньше, пока он разыскивал в магазине эти треклятые предохранители. Мусорщикам, ясное дело, тоже досталось, но отругивался он вяло, был нынче не в форме. Все казалось слишком уж странным. По крайней мере, хоть предохранители есть, надежно спрятаны во внутреннем кармане.
Пол-одиннадцатого уже, обед не за горами. Удивительная штука — время, то оно бежит слишком быстро, то еле ползет.
Пока вкручивал предохранители, один за другим, — шапка и куртка успели промокнуть насквозь, — Торстен думал, что либо свет заработает, либо он пошлет все к чертовой матери.
Но все получилось! Свет зажегся! Первое, что он заметил, был свет в окнах второго этажа, у этой чудачки Софи К. И внизу все тоже разом стало ясно и понятно; ведь тут и там загорелись лампочки. Помещения начали складываться в определенный связный план. И конечно, все как бы слегка уменьшилось; он сообразил, что ходил по кругу, по одним и тем же комнатам. Освещение не ахти какое, несколько голых лампочек тут и там, но вполне достаточно, чтобы разобраться.
Ванная комната, большая, причем разбитая, так сказать, на особые отделения. Задумано вправду с размахом. И со вкусом. Ванна посредине, утоплена в полу. Чертовски стильно. Слева — сауна, тоже неслабая, и маленькая раздевальня. А справа, должно быть, прачечная, здесь-то и надо облицевать стены плиткой, как полагается. Пол, кажись, выложен хорошо, добротная метлахская плитка фирмы «Пертилля».
Торстен провел рукой по стенам, и то, что он теперь увидел, изрядно его поразило. Такое впечатление, что здесь, в этой ванной, поочередно трудились совершенно разные люди — и профессионалы, и жуткие халтурщики, причем ни те, ни другие абсолютно не обращали внимания на качество работы предшественников. Единственное, что их объединяло, — это материал, которого у всех было в достатке.
Возле двери полный порядок. Хороший раствор, красивые ровные швы, обрезки вдоль дверной рамы подогнаны очень аккуратно. Добротная финская плитка, солидная, можно сказать. Даже на хорошенький синий бордюрчик поверху не поскупились.
Но вот что странно: чем дальше от двери, тем менее узнаваемой и похожей на себя самое делалась эта стена, которую Торстен разглядывал теперь при свете лампочки, испещренной брызгами краски. Во-первых, швы — кривые, неровные. Словно тот, кто клал плитку, куда-то подевал рихтовочный шнур да еще и заспешил, внезапно обнаружив, что затирка на исходе. Ведь дальше плиточник стал пользоваться черной затиркой, а не светлой, как раньше. Хотя светлая и была единственно подходящей. Впечатление прямо-таки удручающее, поскольку изменение произошло не вдруг, а постепенно, точно к светлой затирке, которая была на исходе, добавляли все больше темной. Ну и люди! Напортачили и вообразили, что так сойдет?!
А еще дальше, на торцевой стене, облицованной лишь до половины, работали вовсе спустя рукава. Плитка битая, то из двух, то из трех кое-как подогнанных верешков. А кое-где вообще пустые места, замазанные раствором. Жуткое зрелище. Этакую халтуру даже коммунальное жилуправление нипочем бы не приняло.
Торстен поежился. Страх-то какой: начали путем, а после, Бог весть почему, все превратилось в нелепую, сомнительную халтуру.
Настроение вконец упало. Мало того что предшественник явно потерял вкус к работе и бросил ее на полдороге (медленно, но верно спился с кругу — такое, понятно, отнюдь не исключено), странно и другое: он (или они?) словно бы не отдавал себе отчета, до какой степени никудышной стала со временем его собственная работа. Внезапно Торстену подумалось, что нередко так выглядит и иная жизнь. А может быть, на самом деле так выглядят все жизни, если поднести к ним фонарик и присмотреться повнимательнее? Есть ли хоть одна жизнь, о которой можно сказать, чго с течением времени она становилась лучше? Ведь дурные привычки множатся, человек все легче идет на уступки, ведет себя все более противоречиво. Короче говоря, получается, что жизнь эта, по сути, всегда медленное сползание от некоего маленького порядка к все большему хаосу.
Все-таки интересно, сколько тут было работников — один или несколько? Но если несколько, они бы, пожалуй, передрались, верно? Или может, сначала работал один, потом другой, третий, поскольку хозяева менялись или конфликтовали со своими плиточниками.
Торстен поспешил отбросить эти мысли. Здесь нужно кое-что сделать. В общем, даже ясно как. Просто сбить халтуру и начать сначала, с того места, где все пошло наперекосяк. (Установить, где именно все пошло наперекосяк, понятно, уже другой вопрос.) Плитки тут сколько угодно, вон она в углу, аккуратные пачки, перевязанные проволокой, — бери не хочу. Он прикинул на глаз: пожалуй, хватит пока что. Во всяком случае, на сегодня и на завтра. С затиркой и фиксативом тоже разберемся в свое время, главное, чтоб заказчик объявился.
Что заказчик до сих пор не показался и не объяснил, чего хочет, — это, конечно, большой минус. И другого никого не прислал, бригадира там или еще кого. Придется самому помозговать, напрячь извилины.
Ведь почти никогда не знаешь толком, чего от тебя ждут.
Впрочем, Торстен по опыту знал, что такие люди обыкновенно не особо торопятся. Как-то раз он целую неделю проработал, а заказчика в глаза не видал. Хотя тогда они ремонтировали контору на Ваксалагатан и задача была попроще. Может, заказчик или тот, кому известно, как и что надо делать, заглядывал сюда, пока он ездил за пробками?
Но с другой стороны, и так все ясно. Сперва нужно молотком сбить несколько квадратных метров посредственной, скверной и вовсе чудовищной халтуры.
Потом, само собой, счистить зубилом со стены остатки раствора.
Хуже нет — браться за не доделанную кем-то работу, думал Торстен, не то что с самого начала делать все собственными руками. Но, черт побери, именно так всегда и выходит, когда работаешь налево, втихую, в полумраке теневого бизнеса, думал он, смакуя колоритность формулировки.
Другие напортачили, наломали дров да так и бросили, а он переделывай. Не справились и подались на следующую стройку, а он переделывай.
Или вот как здешние предшественники (кто бы они, черт побери, ни были!), которых вышвырнули отсюда до срока, не дожидаясь, пока у них спьяну откажут руки-ноги и задвоится в глазах.
Молоток лежал на своем месте, в железном ящике с инструментами. Разыскать хорошее зубило будет не так просто, впрочем, сойдет и крепкая старая отвертка, а такая здесь есть.
Ну, пора браться за дело. Никудышная облицовка вдребезги разлеталась под ударами, осколки так и сыплются в лицо, но ему это не впервой. К счастью, в нагрудном кармане кожаной куртки нашлись старые очки. Кругом тучами стояла свежая (вернее-то, несвежая) пыль, но он и к такому привык. Приятно смотреть, как это безобразие мало-помалу бесследно исчезает, обнажая чистую шершавую стену, на которой видны лишь выбоины от энергичных ударов.
Все же приятно смотреть, что дело делается.
РАЗДУМЬЯ О СОФИ К.
Вот собью еще этак метр, сказал себе Торстен с неожиданной решимостью, и загляну наверх, к этой Софи К., кто бы она ни была, попробую объяснить, что я не опасен. Наоборот, я человек добрый, дружелюбный, с которым ей будет приятно познакомиться.
Оба мы с удовольствием сядем за стол у нее на кухне, и она угостит меня чашечкой кофе и бутербродами. (Один будет с сыром, другой — с печеночным паштетом и огурцом.)
Софи — красивая женщина лет тридцати, возможно, слегка полноватая, в синем рабочем халате. А уж что у нее там под халатом, нечего и гадать.
Или нет. Софи — молодая художница; он заметит за дверью кухни мольберт и эту, как ее, ну, штуковину с красками. На стенах будут развешаны ее картины (очень непонятные, но в ярких, радостных тонах), в том числе и над небрежно застланной кроватью.
Софи расскажет, что поселилась здесь совершенно случайно (дело в том, что не так давно она пережила мучительный развод), ей разрешили временно воспользоваться этой квартирой, пока ремонт не доберется до второго этажа. Она немножко знакома с хозяином. Да, конечно, с ним все в порядке. Он тут и хозяин, и прораб в одном лице. Обтяпывает помаленьку разные делишки, ремонтирует и перепродает, зашибая на этом немалые денежки. (То есть немалые, если удается как-нибудь уйти от налогов, вы же понимаете.) Но в целом у него все хорошо. Обычно он на своем «БМВ» заезжает сюда по пятницам, во второй половине дня, посмотреть, все ли в порядке. Она, конечно, не может отрицать, что бывала с ним в ресторанах, разок-другой. Однако же Торстену незачем спешить с выводами, быстро добавила она и решительно положила ногу на ногу, чтобы Торстен не заглядывал под юбку. (Ну как бутерброд? Вкусный? Может, еще один?)
Безусловно, с самим прорабом все в норме. Ужас в том, что очень трудно найти хороших работников. В последнее время вообще никто не задерживался — придут и уйдут. Новые плиточники начинали с того места, где кончали предшественники, а работали один хуже другого. Эти люди явно понятия не имели, что делают, — получат деньги на материал и все спустят на водку. Не успеют половину дневной работы выполнить, как уже пьяные вдрызг.
В самом деле, замечательно наконец-то увидеть разумного человека, который умеет работать по-настоящему. Она так говорит, потому что думает о бедняге Хассе из Тиерпа, о прорабе. Ведь ей-то самой на руку, если работа движется медленно. Она толком не представляет себе, куда денется, когда ремонт дойдет до второго этажа.
Торстен в свою очередь начнет расписывать свой домик на Кунгсйердесплан (размеры его и прочие достоинства он несколько преувеличит). Хороший дом, ничего не скажешь. Хотя тоже бы не мешало кое-что подремонтировать. Только вот у работяги-плиточника редко бывает время, чтоб заняться собственными делами. Руки не доходят. Ну и накапливается всякое-разное, что непременно должно быть сделано. Да и будет сделано, вскорости. Просто в последнее время вздохнуть и то было недосуг. Н-да. Жуткое дело. Куча всевозможных неприятностей.
У вдовца вообще маловато времени остается. А может, и наоборот.
Софи К., поразительно красивая рыжеволосая женщина в черном бархатном платье, отворила дверь Торстену Бергману.
Смерила его внимательным взглядом. И Торстен вдруг осознал, сколько же на нем кафельной пыли, небось вся спецовка белая. Покосился на мешковатые штаны — да-а, страшно смотреть. Софи К. была очень бледна. Глаза большие, синие, чуть испуганные, возле рта решительные складки.
— Что вам нужно? Похоже, вы новенький. Зачем они вас прислали? Вы не такой, как давешний.
— Что за давешний?
— Ну, тот, кого эти мерзавцы ремонтники подсылают сюда, чтобы он громыхал, мешал мне работать, словом, выживал меня отсюда.
— Какие мерзавцы ремонтники?
— Как какие? Стокгольмские.
— Я их не знаю.
— То есть как? Вы должны их знать. Ведь работаете на них. Меня не проведешь. Это они вас послали, да?
— Честно говоря, я сам не знаю, на кого работаю. Приятель позвонил, дескать, тут на одной стройке неувязка вышла, надо помочь. А что за странности с этим домом-то?
— Вы хотите сказать, что не знаете, в чем тут дело? Да они все как один наркотиками торгуют. А деньги отмывают через такую вот недвижимость. Подремонтируют немножко и перепродают, в недоделанном виде.
— Я правда не знал, впервые слышу.
(Подозрительность во взгляде — знак того, что она не в себе? Может, он имеет дело с ненормальной? Впрочем, ненормальная ли, нет ли, она по-своему чертовски привлекательна. Ненормальные женщины вообще особенно привлекательны. Как раз потому, что практически способны на все, что угодно. И эта женщина способна сделать что угодно. Швырнуть ему в лицо бутылку или впустить в квартиру, а потом повалить на небрежно застланный диван и вонзить в спину острые коготки. Бог весть, к чему она сумеет его принудить.)
Софи К. смерила его взглядом, кажется еще более внимательным, потом очень медленно и решительно сказала:
— Пожалуй, я вам верю. Вы не знаете, с кем связались. И вот почему. Вы даже не представляете себе, что они с вами сделают, если ненароком проведают, что вы общаетесь со мной. Допустим, застанут нас в постели, прораб застанет нас в койке, средь бела дня, — кстати, вы, по-моему, очень бы не прочь, а?
— Да я… не знаю, — так бы ответил Торстен, слегка запинаясь.
— Я искренне полагаю, что нам бы не жить, — сказала Софи К. — Ни вам, ни мне. Они опасны, поймите. Очень опасны. И могут явиться в любую минуту. Понимаете? В любую минуту. Завернут во двор на своем громадном «БМВ», и всё. Прораб и его дружки приезжают по-тихому. По лестнице ходят бесшумно. Привычка у них, видать, такая.
— Да плевал я на этот сброд. — Торстен решительно шагнул в комнату. — Силенок у меня пока что достаточно — и на тебя, детка, хватит, и на этих проходимцев.
При мысли об этом он замолотил по стене с удвоенной силой, сердце забилось учащенно.
Тот, кто шел открывать, передвигался очень медленно, шаркающей походкой. Когда дверь медленно отворилась, Торстен ничуть не удивился, увидев на пороге маленькую седую женщину, прямо-таки скрюченную от старости. И зрение у нее, похоже, совсем ослабло.
— Что вам угодно? — спросила она, будто нисколько не удивилась его стуку.
— Вы и есть Софи К.? — полюбопытствовал Торстен.
— Конечно, вы же сами видите.
— Почему вы не напишете на двери свою фамилию?
— Видите ли, это долгая история. Если я начну рассказывать, вы нынче много не наработаете. Может, зайдете все-таки? Я аккурат кофе поставила. Привычка у меня такая — в это время пить кофе.
Приятный запах кофе на огне, старой квартирки с геранями на окнах и мирно спящей кошкой в уголке дивана. Вышитое изречение на кухонной стене. И сама хозяйка, вроде бы ничуть не удивленная.
— Вы хотели позаимствовать фонарик? Но ведь сами понимаете, у меня таких вещей нет. У мужа много было всяких причиндалов, но, когда он пустился в бега, я почти все раздала. Именно раздала. Могла бы, конечно, и продать, а вот взяла и раздала. Даром. — Старые, но очень живые глаза пристально смотрели на него. — Н-да, а вы, стало быть, Торстен Бергман.
— Откуда вы знаете?
— А что тут такого? Я же помню вас еще по Хальсте, маленьким мальчонкой. Вы жили тогда у дяди, у жестянщика. Я очень хорошо вас помню. Поглядите внимательней, может, и вы меня вспомните.
Торстен вглядится в лицо старушки — глубокие морщины под глазами, нос усеян старческой гречкой, узкие сухие губы.
И мало-помалу его осенит:
— Неужели тетя Софи? Тетя Софи Карлссон с телефонной станции?
— Ну конечно. Замечательно, что ты меня вспомнил. Помнишь, как фотографировал меня и Лису на телефонной станции? В ту пору ты ловко обращался с фотоаппаратом. И очень любил фотографировать, помнишь?
Разумеется, Торстен помнил. Даже лучше, чем многое другое, так ему казалось. Дом жестянщика под большими вязами, задний двор, где играли собаки, Бастер и Пан, да и он возился с ними в траве свободными вечерами, пока мать мыла в банке полы. Странные звуки в мастерской, куда строгий дядюшка запрещал ему соваться. И как он летом (тогда аккурат проходили Олимпийские игры) вместе с дядиными учениками прыгал в длину на гравийной площадке возле мастерской, чуть ли не часами, и ведь ни один не уставал и лапки кверху не поднимал. Еще они в ту пору любили бегать наперегонки и бороться.
В остальном шестнадцатилетний Торстен был парнишка серьезный. Посещал по средам курсы английского, а в каморке на чердаке у жестянщика устроил темную комнату, где занимался фотографией. Пока времена были благоприятные и работяги частенько захаживали купить то и это в лавочку Странда, расположенную по фасаду жестянщикова дома, у него хватало средств, чтобы помаленьку проявлять пластинки и печатать на бумаге фотографии. Он и заказы небольшие принимал. От маминых друзей из Миссионерского дома.
Тетя Софи обо всем об этом знала. Надо же, до сих пор жива! И цветы на окнах, точь-в-точь как раньше, и аромат кофе, и кошка. Сидя там за чашкой кофе и бутербродом с сыром, он тихонько протянет руку и угостит кошку кусочком бутерброда. Прямо как в детстве. Да-а, давненько же он распрощался с тем миром, где был серьезным парнишкой, который по утрам развозил газеты, во второй половине дня работал в лавке у Странда и мечтал стать фотографом, вроде Нильссона из Сёдрафорса.
Черт, опять окаянный желудок заболел. И боль эта тоже привычна с детства. Хотя с годами стало хуже, что и говорить.
Вообще отношения с собственным желудком у Торстена Бергмана всегда складывались не лучшим образом.
Он по сей день помнил, как мучился от боли в двенадцать—пятнадцать лет, по дороге в школу. А еще хуже стало в шестнадцать, когда он холодными зимними утрами разгребал сугробы перед лавкой (где работал после обеда), откапывал на стоянке свой велосипед и ехал на вокзал за утренними газетами, которые предстояло развезти подписчикам.
Не всегда это было приятно. Тем более зимой, когда за газетами приходилось выезжать в пять утра. В ту пору он, Торстен, развозил газеты на старом тяжелом дамском велосипеде своей матери. Мальчишки-газетчики, насквозь продрогшие, кучкой стояли на перроне, дожидаясь утреннего поезда из Вестероса. О теплом зале ожидания нечего и мечтать. В такую рань он был на замке.
Порой у него возникало ощущение, будто он всю жизнь дожидался, чтобы его впустили в теплую комнату. А она никогда не желала толком ему открыться.
Есть интересные дела, но есть и скучные.
К примеру, лавочка, где хозяйничали барышни Муландер, с которыми шутки плохи. Каждое утро нужно было разгребать снег у входа, чтобы, как они твердили, «народ не переломал себе ноги». Та еще работенка после свирепых февральских метелей. Зима 1933 года (ему тогда уже сравнялось шестнадцать) выдалась особенно скверная. С шести утра чисти снег, а вечером коли дрова во дворе у жестянщика, пока не придет время отправляться на боковую.
Лавка бывала либо почти полна — в те дни, когда на фабрике выдавали получку и женщины спешили пополнить свои запасы американской свиной тушенкой, жирной селедкой и мешками с мукой, — либо целыми днями почти пуста. Тогда сестры Муландер угрюмо сидели в маленькой подсобке, в конторе, как они ее называли, и тихонько препирались друг с дружкой.
Само собой, в перерывах они могли и внезапную проверку устроить, и объявить, что, мол, грязь кругом, надо прибрать (Торстен, ты почему не стер пыль с прилавков?), и потребовать учета, но все же и на интересные дела времени хватало. На радио и фотографию. Насчет приема радиопередач можно было почитать в журнале «Наука и жизнь», взяв его в библиотеке. А слушать лучше всего через изящный приемничек, дома у пастора Форса. Сказочное ощущение — слышать музыку и голоса из-за моря! Даже страшновато, словно где-то там некий мир духов. Хотя вполне объяснимо, если сесть и почитать в журнале. Про радиоволны, и модуляции, и удивительное свойство коротких волн отражаться от верхних слоев атмосферы и в самых неожиданных местах возвращаться к земле. Или вот еще интересный фокус: поднесешь иглу к кристаллу, и электроток течет только в одном направлении. (Если все вправду так, как пишут в «Науке и жизни».) В определенных условиях удавалось поймать даже немецкую и английскую речь. А уж датский Калуннборг ловился довольно часто.
Радио как бы служило противовесом духовной деятельности, которой увлеченно занималась мама, — она была членом Национального евангелического благотворительного общества, участвовала в молитвенных собраниях, в посылочных аукционах для миссии. Торстен и сам поддерживал контакт с иным миром, но, так сказать, более современным, научным способом. (Хотя зимним вечером, когда, невзирая на ионосферный фединг, удается минут десять слышать Братиславу, невольно возникает вопрос, кто именно из них занят более сверхъестественными вещами.) Вокруг маминых сверхъестественностей и ее загадочного Иисуса, по крайней мере, всегда веяло легким ароматом кофе. Его же горняя жизнь одиноко витала сама по себе в незримом зимнем воздухе.
Другое дело фотоаппарат. Он раздвигал зримое пространство. Мама к тому и другому относилась отрицательно. Не одобряла ни фотоаппараты, ни детекторные приемники. Ведь все это чепуха, выброс заработанных тяжким трудом денег. (Ах, в ту пору он был убежденным трезвенником, главным образом оттого, что не имел опыта по этой части. Если бы мама увидела его сейчас, то сетовала бы по совсем другой причине. Но она умерла еще в сороковых годах.) Правда, по сути, дело было не в деньгах, ей просто не нравилась нежелательная духовная конкуренция.
Первая фотокамера была самодельная, с отверстием вместо объектива, вторая — цейсовская, с затвором. Сюжеты для съемки отсутствовали или же, наоборот, имелись в избытке; голая, по-зимнему пустая улица в сугробах, облетевшие клены на Кнектбаккен (с клочьями порванного змея), красивое новое здание почтово-телеграфной конторы. Самое интересное и важное вовсе не съемки. Проявлять — вот что замечательно.
На чердаке, при свете красной лампы, когда из подвешенной лейки тихонько бежала звенящая струйка, а в ванночке с проявителем начинали проступать первые тени, его охватывало блаженное чувство — счастье, наверное. Переход от белизны и легких теней к изображению совершался неторопливо и постепенно, как рост растений. Удивительно, что мир способен быть таким. Почему-то все это напоминало ему самого себя, хоть он не мог выразить это словами.
Где-то теперь эти пожелтевшие старые фотографии, отпечатанные на дешевой бумаге? Может, и правда на дне какого-нибудь ящика у него на чердаке? За долгие годы туда много чего отправили и никогда больше не доставали.
Представление о черноте, медленно проступающей в проявителе, как-то связано с детством, с теми днями, когда медленно выздоравливаешь от простуды. Первое непривычное ощущение, что температуры уже нет, и мир в такие дни — чуть тусклый и неопределенный.
В детстве Торстен без конца болел. Началось все с испанки, которую он подхватил в два года. По неведомой причине он не умер, но с тех пор постоянно хворал, лет до четырнадцати, когда его тело — неожиданно и для него самого, и для одноклассников, которые по-прежнему считали его хлюпиком, — стало крепнуть, сделалось жилистым и выносливым. Но как же так? Зачем тогда, собственно, были нужны все эти долгие дни, когда ты, лежа в жару, глазел на коричневые обои, когда часы ползли один за другим, вместе с тенями за окном, все эти тонзиллиты и бронхиты, странные высыпания и прыщи? И без того учился маловато, а из-за бесконечных хворей в голове вообще полный ералаш остался, и уверенности в себе от них тоже не прибавилось, ведь на школьном дворе по причине слабости и вялости любой младшеклассник запросто мог его поколотить. Но с другой стороны, эти дни подарили ему тайную жизнь, где он был единственным хозяином.
Разве бы он выдержал без своих других, тайных жизней?
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Сильный шум очередного дождевого шквала захлопнул двери фантазии, вернул его в пустоту. И он разом прекратил работу, занес было молоток для удара — и опустил руку.
Ну вот, еще и желудок опять заболел, будь он неладен.
Согнувшись от боли, прямо по хрустящим осколкам плитки, которых набралось уже порядком, он прошагал к лестнице и прислушался. Не иначе как ветер хлопнул дверью? А может, яростно сорвал с какого-то окна защитную бумагу?
Что же до карточки на двери, так она небось висит тут с незапамятных времен. Кто знает, куда девалась эта Софи К.? Возможно, много лет назад.
Он подошел к входной двери, открыл ее. Тишина. Только ветер шумит в ветвях, да урчит мимоезжий автомобиль.
Может, подняться еще разок на второй этаж, поискать Софи К.? Ведь он теперь вроде как немножко знает ее.
Желудок болит совершенно нестерпимо. Может, стоит все-таки пойти перекусить? Строго говоря, через часок-другой он с этим делом покончит. Сбивать будет нечего. И если никто из начальников не придет, сидеть ему сложа руки, коль скоро он не придумает, как разжиться специальным цементом и затиркой. И мастерком. А где, кстати, рихтовочный шнур? Брал ведь, кажись, с собой — или только подумал?
Строго говоря, он понятия не имел, кто сейчас находится там наверху. Что же за народ такой — сидят себе молчком и не откликаются на зов! Может, забрались туда незаконно и вообще не имеют к этому дому никакого касательства? Просто мальчишки, которые дожидаются, чтобы он ушел и можно было стибрить что-нибудь на первом этаже? Ведь охраны тут нет — бери что хочешь. А может, еще того хуже — наркоманы и бандиты? Ему вдруг стало не по себе. Весь последний час он работал так энергично, что здорово разогрелся, а теперь внезапно почувствовал, что на самом деле в доме весьма и весьма прохладно.
Ни с того ни с сего закружилась голова. На ватных ногах Торстен вернулся в ванную, ополоснул над раковиной лицо. Малость полегчало. Впервые он заметил, что краны здесь чертовски дорогие, роскошные немецкие краны фирмы «Поггенполь». Как минимум по три сотни крон за штуку. А то и поболе.
Вместе с тем, который в биде, не меньше чем на двенадцать сотенных, а проку от них никакого, в смысле пока что. Чтоб сделать свою работу, Торстену требуются деньги на материал. Чего проще-то — снять парочку кранов, съездить в Булендерна, на склад стройматериалов, и обратить их в наличные. Этак и простоя не будет, да и для прораба никаких особых сложностей — выкупит свои краны и поставит на место.
В премудростях сантехники Торстен вполне кумекал, а разводной ключ лежал в багажнике «вольво», это он помнил точно.
Гайки новые, отвернулись в два счета. С первым краном он, правда, обмишулился, забыл загодя перекрыть воду и изрядно нагваздал на полу, пока совладал с ситуацией. Двух кранов вполне хватит, чтобы запастись необходимым материалом. Ну а после хозяин их выкупит. Раз он где-то пропадает и о работниках своих не заботится, пусть скажет спасибо, что работник попался находчивый, сам себя выручил.
Торстен поехал в промзону, в Булендерна. Сердце чуть побаливало, но так бывало всегда, стоило напрячься в поисках решения.
Грязные переулки, фабричные территории, высоченные заборы, в большинстве с колючей проволокой поверху. А за заборами мелькали какие-то штабеля, ржавые станки, новенькие блестящие трактора, помосты, заваленные металлоломом. Тяжелые маршрутные грузовики чавкали по глине. Вот так живут люди и другой жизни не знают.
Дома здесь по-настоящему вовсе и не дома, а конструкции, разнокалиберные панели, закрепленные в металлических стояках-каркасах. Эти современные склады и мастерские в большинстве не имели окон, и людей там было на удивление мало. Только грузовики, склады и техника. Вон в глубине фабричного участка ползет под дождем автопогрузчик с пильчатым захватом, какой-то мужик копается в ящике с обрезками старых труб, будто выискивает что-то особенное. А в остальном — ни души не видно. Лишь возле станции техосмотра автомобилей выстроилась длинная очередь не очень-то новых и не очень-то роскошных машин. С виду вроде как богадельня для старых легковушек, которые некогда, в начале шестидесятых, были новенькими и блестящими.
Такое впечатление, сказал себе Торстен, что новые машины теперь вообще техосмотр не проходят. Он слегка поежился в своем холодном «вольво», ведь сам-то Бог весть на сколько месяцев просрочил техосмотр. Наверно, ему уже и ездить запрещено. Коричневые официальные конверты стопкой лежат на холодильнике; туда он отправлял все, что намеревался прочесть позднее.
Километр за километром — сплошные промышленные территории. Все постройки одинаковой высоты, кроме электростанции, громада которой возвышалась посредине; улицы как две капли воды похожи друг на друга. Когда Торстен был молод, здесь кругом тянулись поля. В ту пору они с женой ездили сюда на велосипедах — выпить кофейку, полюбоваться птицами на берегу Эвре-Фёрет. У нас тогда и впрямь были совсем другие развлечения, не как у теперешнего народа, сказал он себе. Да и есть ли у теперешних вообще какие-то развлечения? Он вдруг сообразил, что не знает толком, чем теперь занимаются другие люди. И что самое ужасное — его это ничуть не интересовало.
Н-да, вот она, стало быть, экономика, промышленность, сказал себе Торстен. Все аккуратно, как полагается, поделено на участки, застроено согласно строительному уставу, не выше двух этажей. Наверняка с туалетами для инвалидов и с вполне просторными умывальными, где бедолагам рабочим можно посидеть, перекурить маленько, коли совсем уж тоска заест от однообразия. Хорошо хоть, собственную жизнь по-другому устроил. У здешних работников все в порядке и с налогами, и с социальными отчислениями, и с пенсиями, и с инструментом. Не то что в теневом секторе, где трудятся иные. Там теперь неведомо даже, на кого вкалываешь и где взять материал на ближайшее время. Никакого, черт побери, сравнения между этими и нами, нелегальщиками. Мы — преступники. Ведь нелегальный — означает преступный? Надо же, обыкновенная незамысловатая работа помаленьку становится преступлением! В ту пору, когда считалось, что трудиться почетно, ни у кого, поди, и в мыслях такого не было. Он быстро взглянул на краны. Ишь лежат себе на соседнем сиденье, хромированные, красивые. Наверняка за них дадут хорошие деньги.
У строительного склада, как обычно, толпился народ. Торстен поздоровался кое с кем из столяров, знакомых по прежним временам. Некоторые в ответ тоже поздоровались, спросили, где он пропадает. А некоторые, видать, так торопились, что недосуг им было его замечать. Бухгалтер поворчал немного, поскольку номер счета Торстен назвать не мог, но все-таки дал себя уговорить. Здешняя клиентура во многом складывалась из отделочников, а они горазды на выдумку. Впрочем, краны были в отличном состоянии, так что серьезных затруднений не возникло. Специальный цемент с присадкой, затирка да кой-какой инструмент — все мигом уладили; мало того, еще и деньги остались, которые Торстен тщательно спрятал в задний карман. В конверте, аккуратно записав дебет и кредит. А дождик-то, будь он неладен, вроде кончается.
Слава Богу, на рабочем месте хотя бы плитка есть, и то хорошо.
В последние годы плитка ужас как вздорожала, раньше такие цены никому и во сне не снились. Словом, надо уметь выкручиваться, ежели хочешь делать дело, сказал он себе.
Ровно в двенадцать Торстен вошел в ЭССОвскую закусочную для шоферов-дальнобойщиков у выезда на Стокгольмское шоссе. Очередь была длинная, но продвигалась быстро. Девушки-финки за стойкой проворно и сноровисто орудовали поварешками, накладывая в тарелки голодных дальнобойщиков и иных посетителей жареное мясо с картошкой и луком, смоландские свиные колбаски и прочее. В своем роде прекрасно отлаженный конвейер, подумал Торстен и долго выбирал, что взять — жареное мясо или свиные колбаски.
В итоге все-таки взял колбаски и не удержался, прихватил в конце стойки парочку пышных венских булочек, аппетитных, румяных. И на мгновение почувствовал себя счастливым потребителем.
Сейчас, вновь среди людей, он здорово воспрянул. Выйти из такого вот пустого, уединенного дома — почти все равно что выйти из тюрьмы, сказал он себе.
Подавальщицы за стойкой небось сочли его малость нерасторопным и занудливым, ведь выбирал он очень долго. Но держались эти худенькие, плоскогрудые девчонки, во всяком случае, вежливо, хотя вконец забегались и упрели. Торстен до сих пор был весь в пыли, и народ в очереди благоразумно сторонился его. Как же он не подумал о пыли-то, не отряхнулся у входа? Большинство посетителей одеты в опрятные комбинезоны с названиями фирм на спине. А кое-кто в костюмах, с портфелем.
— Как добраться до Эрбюхуса?4 — спросил один из таких.
Торстен начал подробный рассказ, вспомнил даже несколько интересных малых дорог, где в пятидесятые годы, бывало, ловил раков, и аккурат живописал красоты Лёвста-Брука5 и тамошний замечательный орган, когда слушатель резко перебил его:
— Вы о чем толкуете?! Глупости все это!— Он в упор посмотрел на Торстена. — До вечеpa я должен успеть еще в пять магазинов. Тут шустрить надо, чтоб дым из ушей!
Торстену так понравилось это выражение: шустрить, да не просто, а чтоб дым из ушей, — что он распрощался с собеседником чрезвычайно почтительно. Может, он и не вполне улавливал смысл, но все же серьезно прикидывал, не взять ли это словцо на вооружение. «Тут шустрить надо, чтоб дым из ушей!» — звучит по-деловому, энергично и вообще вселяет бодрость.
Боль в желудке постепенно слабела, по мере того как продолжался этот великолепный обед. Наверно, мне просто нужно было поесть, сказал он себе. Не мешало бы вообще подумать насчет регулярного питания. Когда же за булочками и кофе боль мало-помалу вернулась, то была уже куда терпимее. Всего лишь смутный отзвук и напоминание о прежней силе. Глаза Торстена, чуть покрасневшие и воспаленные от кафельной пыли, внимательно изучали красно-синий узор клеенки на столе, ведь больше смотреть было не на что. Низкие тяжелые тучи над просторами промзоны как будто понемногу редели. Может, к вечеру и солнышко проглянет, хоть ненадолго, а?
— Батюшки! Никак Торстен? Где ж ты столько пылищи-то собрал?
Торстен поднял голову. Долговязая тощая фигура в джинсах и в футболке с надписью «Лесопилка Ерлоса» склонилась над столом. Руки красные, узловатые, будто долго-долго мерзли на ледяном ветру. Волосы редкие, седые, лоб высокий, узкий, на носу — очки с толстенными линзами.
— Вот так встреча! Щепка! — Торстен расплылся в улыбке. — Ты что тут делаешь, черт подери? Живешь-то вроде бы в Моргонгове?
— В Моргонгове работы нет. Полная безнадега, видишь ли. Много воды утекло с тех пор, как я там жил. Погоди, я сейчас принесу свой кофе.
Торстен наблюдал, как Щепка, по-птичьи наклонясь вперед, бойко лавирует между столиками, идет за чашкой, которую, видимо, где-то оставил. Стиг Класон, двоюродный брат, Торстен знал его с детства. Они вместе прыгали в длину, вместе развозили в Хальстахаммаре газеты — по скрипучему свежему снегу, студеными зимними утрами, в сороковые годы. Газеты в ту пору продавались в два счета.
Позднее Щепка то появлялся, то исчезал. Можно бы так сказать. На самом деле он был столяр-плотник, если о человеке вообще можно сказать, кто он на самом деле. Но это была лишь одна из многих его сторон. Он человек многосторонний, вдруг подумалось Торстену. Еще бывают люди с множеством доньев, но это совсем другое дело. У Щепки одно-единственное дно, а сторон много. В пятидесятые годы он занимался мотоспортом. Гонял на мотоцикле по льду, покрышки у него были интересные такие, с острыми шипами, а на виражах колено прижималось ко льду. Торстен никак не мог вспомнить, как называется этот спорт. Правда, чемпионом Швеции Щепка не стал.
Впоследствии он, говорят, одно время подвизался как проповедник, и Торстена это не удивляло. Щепка — человек многосторонний. И философией всегда интересовался. Вдобавок и пел тогда хорошо. Но с годами родичи постарше перемерли, и вести о Щепке стали редкими и скудными. Доходили слухи, что он работал в Гётеборге на верфях и загребал деньжищи лопатой. А после, когда верфи закрылись, перекочевал куда-то в Уддеваллу, строил нефтяные платформы. Потом нефтяной бум кончился, и Щепка, согласно последним Торстеновым сведениям, плотничал в Моргонгове. Жену и детей он, похоже, удержать не умел. Молва доносила, что женат он был по меньшей мере дважды. Но с тех пор как умерла отцова сестра, тетя Сельма из Салы, новости о Щепке и других родичах стали вовсе разрозненными и беспорядочными.
Аккурат когда окно заслонил громадный маршрутный грузовик — между прочим, ТИРовский драндулет, из Польши; по слухам, Советы используют их, чтоб вынюхивать насчет шведских военных объектов (ох и в странное же время мы живем!), — Щепка вернулся. Н-да, близорукость у него с годами явно усилилась.
— Ну, как твои делишки?
— Не ахти. На пенсию вышел, по болезни. Желудок никуда не годится.
— И все эти годы ты жил в Упсале?
— Да, так получилось. Когда жена померла.
— А пылища на штанах откуда?
— Плитку оббивал. Есть тут один четырехквартирный домишко неподалеку от Семинариегатан, его сейчас перестраивают. Квартир будет всего две. Шик с отлетом. Ну, где ремонт уже закончен. Только с плиткой здорово напортачили. Вот я и перекладываю, в ванной и в кухне. Прежние-то мастера такого наваляли, что не приведи Господь. Сколько же нынче халтурщиков развелось! Не стены, а сущий кошмар. Чудные теперь времена, право слово. Но маленько поработать всегда приятно. Место, правда, очень уж уединенное. Неизвестно почему. Я там спозаранку вкалываю, а до сих пор ни одной живой души не видал. Никто даже не потрудился сказать, что им надо. И денег на материал не дали. Ну да выход всегда найдется. Ты-то чем занимаешься? На лесопилке работаешь?
— Нет. Просто футболка такая. У меня все в ажуре. А нынче я не у дел совершенно случайно. Пригнал машину на техосмотр, а ее завернули. Тормоза малость староваты. Пришлось поставить тачку на ремонт. Однако ж нет худа без добра.
— Да, что верно, то верно. Кстати, могу подбросить тебя до города. У меня-то самого на сегодня еще непочатый край работы. Шустрить надо, чтоб дым из ушей, понимаешь?!
Вообще-то Торстену о многом хотелось расспросить. Ведь он не видел Щепку с тех давних пор, когда они летними вечерами в Берге купались в бассейне шлюза, назло паромщикам. Им было лет по шестнадцать, когда Торстенова мама рассорилась с Класонами и переехала к сестре в Упсалу. Так был потерян рай. Да-да, рай — пыльные проселки с земляникой по обочинам кюветов, жаркие дни, когда на севере, над лесом, собирались грозы и было так приятно сигануть в ледяную воду шлюзов. В бассейны, окруженные высокими гулкими стенами из большущих каменных блоков. А вода — черная-черная, опустишь в нее багор, и нижний его конец исчезает из виду.
Огромная потеря, разве можно сравнить все это с Упсалой, со здешними глинистыми полями и унылой равниной, где даже озер нет, только мрачная Круносен да эта дурацкая речонка, Фирисон, со студеными зимами и свирепыми метелями на до странности пустых улицах, где ветер пробирал тебя до костей. Но такова уж судьба всех потерь — с годами Торстен перестал об этом думать.
Жизнь шла своим чередом и распоряжалась по-своему. Назад не вернешься, не переделаешь, не починишь. Хреновая штука.
ВСЕ Ж ТАКИ НЕ ОДИН
Вообще говоря, там было малость жутковато.
А теперь он все ж таки не один.
Вот, сидит в машине вместе с другим седым и тощим стариком, который фактически присутствовал в его жизни с самого начала. Есть с кем поговорить. Сюрприз, да и только, правда, не поймешь — радостный или печальный. Конечно, лучше бы Щепке увидеть его не сейчас, а пораньше. Он бы ему показал!
Вроде и неохота говорить про то, что их связывает. Но придется.
Он ведь тоже видал этого Стига в лучшие времена; Щепка тихонько фыркнул, протирая тыльной стороной руки запотевшее стекло. Вечная беда с этой машиной — стекла то и дело запотевают, а сделать ничего невозможно, потому что окна толком не открываются.
— Чего смеешься?
— Про стройку твою думаю. Ты, стало быть, явился туда и перво-наперво раздолбал то немногое, что сделали до тебя. Потом снял парочку кранов. Словно так и надо. Если кто завернет туда с проверкой, пока ты торчишь здесь, видок будет хуже некуда. Решат, что хулиганы какие-то пустили все в разнос.
— Нельзя же оставлять халтуру, черт побери.
— Понятное дело, нельзя. Но представь себе, что кто-нибудь заглянет туда в твое отсутствие и увидит весь этот разор.
— Так ведь у меня все в ажуре. На бумаге записано. Черным по белому. Гляди! — И он не спеша достал из нагрудного кармана листок бумаги.
Кредит
Два крана модели «Поггенполь»
(заложены в Упсале, склад
стройматериалов) 1230—
Дебет
Цемент для плитки, «Вяяртиляс»,
четыре банки по 35.90 143.60
Три тубы серой затирки по 24.90 99.60
Различный инструмент 470—
----
Вернуть хозяевам 516.80
Давеча Торстен четко записал все это на обложке винного прейскуранта, оторвал эту страничку и спрятал в бумажник. Никто не посмеет упрекнуть его в халатном отношении к финансам.
— Сам прикинь, ежели у них есть голова на плечах, они поймут, что я поступил так ради их же блага. А вернуть краны на место труда не составит. Главное-то — сделать работу, верно?
— Ну, допустим.
— Ты почему смеешься?
— Как это на тебя похоже. Ты всегда был такой.
— Правда?
— Еще бы. Мальчишкой тоже вечно из кожи лез. Что бы ни делал — клетки для кроликов или снеговые лопаты, один или с кем-нибудь, — ты непременно все ломал и делал по-новому.
— Подумать только, а я и не помню.
— Честное слово, так оно и было.
Сразу за круговой Стокгольмской развязкой они надолго застряли у светофора. В ворота лесопилок и ремонтных мастерских, сооружений в высшей степени простых и целесообразных, въезжали и выезжали тяжелые грузовики. Нет-нет да и катили мимо, борясь с дождем, мокрые мопедисты.
— Нагородили тут черт-те чего.
— Все ж таки чудной ты был мальчишка. Вроде как дядька твой, жестянщик. Тоже мужик с причудами. Сколько о нем баек всяких рассказывали.
— Подумать только, а я и не помню, — повторил Торстен, не вполне искренне.
Светофор переключился на зеленый, и Торстен — он держал старый изношенный движок на высоких оборотах, чтобы не заглох под дождем, — выжал сцепление и, несмотря на скользкую дорогу, умудрился тронуться с места.
Странно, ей-Богу, они могли бы так много сказать друг другу, но были почему-то не слишком словоохотливы.
— Самое забавное ты наверняка помнишь, ну, как он чинил кровлю на церковной колокольне в Берге.
— Нет, не помню. Может, расскажешь?
Едва не задев Торстеново переднее крыло, мимо проскочило такси, и Торстен выбранил наглость теперешних автомобилистов. Он чувствовал, что «вольво» и правда вконец заезжен, хуже обычного слушается руля. Какое счастье, что не пришлось везти плитку! Машин на дороге до черта, видимость паршивая, поэтому все шло довольно-таки медленно и занудно. Ну и хорошо, решил Торстен. Можно вволю поболтать с этим человеком, последним звеном, которое связывает его с собственным детством. Главное — придумать, как бы вытянуть из него что-нибудь дельное.
— Колокольня у бергской церкви необычная. Крутая, высокая. Метров тридцать будет. А с виду еще выше, потому что стоит церковь на ледниковой морене. Году этак в двадцать четвертом пришла пора поменять на колокольне медную кровлю. Церковный совет жутко жмотничал, и в конце концов заказ получил Класон, который запросил меньше всех. Класон тоже был порядочный жмот, в одиночку работал. Поставил леса, спустил вниз старые кровельные листы, поднял наверх новые. С риском для жизни, понятно, однако ж и упрямства в нем было не меньше, чем жадности. И он, понятно, со всем управился. Тугоухий, упрямый, занятый своим, висел он на верхотуре в люльке, вколачивал заклепки при солнце и под дождем, потел, и бранился, и громыхал на всю округу. Не одну неделю, понятно, вкалывал, счет на месяцы шел. Но ему плевать было на время. Главное — дело сделать. Паства приходила и уходила, ну а в жаркие весенние дни кое-кто иной раз маленько сочувствовал бедолаге Класону, который висел там на верхотуре и орудовал молотом — бутылка воды за поясом, по лбу градом пот катится, а он даже утереться не может, ведь этак и молот им на голову уронить недолго.
— Н-да-а, — шумно вздохнул Торстен. — От судьбы не уйдешь.
— Ты так думаешь? А я не согласен. Я думаю, все идет изнутри. Я думаю, люди сами определяют, какими им быть. Так или иначе, однажды погожим утром Класон висит себе наверху, а внизу прогуливается духовный пастырь собственной персоной. Поднимает голову и видит высоко наверху кровельщика — ни дать ни взять большущая муха на блестящей медной крыше, орудует молотом и бранится, по обыкновению. Возможно, пастор ощутил легкий укол совести. Ведь, строго говоря, он присутствовал на всех заседаниях церковного совета, где обсуждались разнообразные способы решить кровельную проблему. И отвергались, по причине непомерной дороговизны.
Ну вот, значит, пастор стоит, смотрит вверх, на крест с шаром, на золотого петушка бергской церкви, и пробует докричаться до этого человека, подвешенного в люльке и громыхающего молотом. «Класон!» — кричит пастор внушительным голосом. Но кровельщик будто и не слышит. Пастор кричит снова, и в конце концов Класон начинает догадываться, что черная краснолицая фигурка с белым воротничком чего-то он него хочет.
И Класон, понятно, злой как черт оттого, что надо бросать работу и спускаться вниз, а процедура это медленная и утомительная, если ты один, без помощников, — Класон наконец оказывается прямо перед пастором. «Добрый день, Класон!» — «Добрый день, пастор!» Оба стоят и глядят, вернее, пялятся друг на друга в надежде, что хоть один из них все-таки что-то скажет.
Пастор, по роду занятий, так сказать, более речистый, очухался первым и говорит: «Класон, не страшно вам одному там на верхотуре?»
А Класон на это: «Как вы сказали?» (Ему тогда всего-то лет двадцать пять было, но слух уже изрядно ослаб, от вечного грохота. Помнишь ведь, когда вы с мамой твоей поселились у него, он уже напрочь оглох, а началось все наверняка еще в те давние годы.) Так вот, Класон, стало быть, глядит пастору прямо в глаза, утирает потный лоб и говорит: «Как вы сказали?»
«Не страшно вам одному там на верхотуре?»
Класон все таращится на него, долго, пристально, а поразмыслив, сплевывает табачную жвачку, которую мусолил за работой, и говорит: «Я вам, пастор, так скажу: страшно мне вовсе никогда не бывает, даже заберись я туда, где слыхать, как ангелы пердят!»
— Ишь ты. Интересно, — сказал Торстен и рванул с места на зеленый свет, почему-то со злостью.
— Слушай, — невозмутимо продолжал Щепка, — есть идея. Давай завернем в лутхагенский винный магазин, возьмем бутылочку, прихватим колбасы и хлебца на закусон, а после махнем в этот твой домишко и вместе все доделаем. Все равно дома не усижу, невмоготу целый вечер перед теликом торчать.
— А деньжата найдутся?
— Наскребу, — сказал Щепка, — не боись.
Пока парковались — а это было непросто, так как улицу практически заблокировал мужик на костылях, их ровесник, который вылезал из такси (со всех сторон оглушительно гудели клаксоны, а какая-то карга громко разорялась насчет инвалидов: мол, небось задарма на такси по винным магазинам раскатывают), — Торстен, надо сказать довольно робко и осторожно, расспрашивал Щепку:
— Слышь, а ты правда был проповедником?
— Само собой! Хоть и не очень-то долго, а потому это как бы не в счет. Видишь ли, моя матушка без конца шастала в Лютеранский миссионерский союз. Вот я и пошел на тамошние курсы. Наверно, была такая мысль — стать миссионером. Но толком ничего не получилось. Хотя проповедником я был, черт подери. И вообще, кем только я не был! К примеру, разъезжал по стране, лекции читал о вегетарианстве. А заодно продавал диетические каши и книжки о сыроедении. Вряд ли найдется хоть один город или поселок, где я не читал в сороковые годы лекций о вегетарианстве. Мне, видишь ли, всегда с легкостью удавалось убедить кого угодно и в чем угодно. А вот убедить себя было потруднее. Кстати, одно время я и в эсперантистах состоял. Эсперанто и сыроедение — прямо-таки мой тогдашний идеал. От сырой пищи люди поздоровеют, а если все заговорят на эсперанто, больше не будет войн, так я думал. Но это было давно. И, как говорится, уже не имеет для меня никакого значения.
Они протиснулись в магазин, где потихоньку выстраивались послеобеденные очереди. И Торстену показалось, будто мир вокруг изрядно просветлел.
— Так вот, повторяю, — сказал Торстен. — Дела у меня в полном ажуре. Да-да.
Очередь впереди буднично вилась длинной змеей. Слава Богу, нет таких, кто вечно выдрючивается.
— Слышал уже.
— В полном ажуре. Точно говорю. Но все ж таки не случайно, что навести порядок в делах иной раз трудновато. А вот чего я не припомню, так это чтоб у меня, как говорится, был порядок в жизненных обстоятельствах. Вечно то в одном недостача, то в другом. Когда на фабрике «Экебю» работал, все было вполне путем. Денег в пятидесятые годы хватало. Я тогда и дом купил, и машину. Пятидесятые — время по-своему хорошее. Народ слушал радио, а по воскресеньям катался на автомобилях по всей округе. Но еще раньше я потерял сына. Хороший был мальчик, послушный, большие надежды подавал. Так нет же, возьми и свяжись с этими, что на мотоциклах гоняли. Ну и…
— Ужас, — сказал Стиг.
— Да, правда ужас. Жена после этого сама не своя стала. Будто потеряла себя. Ходила и делала все, как раньше. Но думала вроде бы совсем о другом, душой была не здесь. Понимаешь, о чем я?
— Иной раз люди впрямь теряют себя. Я видел такое.
— Со временем стало совсем невмоготу. Словно говоришь с золотой рыбкой в аквариуме.
— А знаешь, золотых рыбок нельзя держать в одном аквариуме с другими рыбками.
— Нет, впервые слышу.
— Они жабрами аммиак выделяют. Другим рыбкам это во вред.
— Надо же, а я и не знал.
— Но это чистая правда.
— Давай возьмем три бутылки, чтоб с запасом.
— А денег-то хватит?
— Само собой. Я же сказал, со счетами у меня полный ажур.
СИЗИФУ ЖИЛОСЬ ВЕСЕЛЕЙ
— Ну и бардак, — сказал Стиг.
И в чем-то он был прав.
В доме по-прежнему ни души. Наверху — трудно сказать, где именно, — постукивало от ветра окно. Странно вообще-то, потому что Торстен не припоминал, чтобы раньше слышал этот звук. Правда, и ветер усилился, когда день начал разгуливаться. Сейчас, так сказать в присутствии гостя, ванная впрямь являла собой жуткое зрелище — весь пол завален кучами битой плитки. Вдобавок без кранов стало пустовато. Он и сам не мог взять в толк, почему, придя сюда, вообразил, что работы здесь всего ничего.
— Давай, что ли, мусор вынесем, — сказал Стиг. — Ведь шагу ступить нельзя, того гляди, ноги переломаешь. Тачка и лопата найдутся?
— Не-а, — отозвался Торстен. — Я уже думал насчет уборки, но ничего не нашел.
— Сперва маленько наведем порядок, а там и водочки не грех испить. Ты, пожалуй, бери ведерко и займись раствором, а я с мусором разберусь.
Стиг исчез; Торстен даже не успел спросить, как он, черт побери, намерен с этим разобраться. Что ж, коли так, надо впрямь пойти на кухню, набрать в ведерко воды. Невольно он заметил, что ужас как наследил повсюду. Ну и ладно, какая разница. Так и так придется сперва навести порядок, а уж потом класть плитку. Однажды ему довелось работать в доме вроде вот этого, и тамошняя хозяйка каждый раз заставляла его снимать у порога башмаки. Вспоминать и то неприятно. Было это где-то в Бергсбрунне, он тогда чуть не рехнулся, ведь приходилось поминутно ходить за материалом. То снимай башмаки, то сызнова надевай! Под конец он готов был удавить чертову бабу. Но ведь не удавишь по правде-то.
Так, теперь, кажись, все, что нужно, есть. Цемент, затирка. Найти бы еще чем размешать — и порядок. Натаскать плитки и снять упаковочную проволоку тоже занятие муторное; а он еще на складе здорово выдохся. Лучше подождать Стига. Господи, это ж надо — проповедником был! Да еще и лекции про вегетарианство читал! Вправду ли он человек вполне надежный или из тех прощелыг, что норовят наврать с три короба, — вот в чем вопрос.
Пустив из кухонного крана тонкую, ровную струйку, Торстен подставил под нее ведро и принялся яростно мешать раствор рукояткой метлы, причем даже не потрудился отцепить эту самую метлу. Консистенция должна быть однородная. Это у него по-прежнему в пальцах, и секунду-другую он наслаждался собственной сноровкой. Потом закрутил кран и тотчас услыхал где-то рядом странные звуки, которые невольно заставили его вздрогнуть. Вспомнилась запертая дверь и странная бумажка с надписью «Софи К.». Хотя она тут наверняка ни при чем?
Может, начальник здешний явился наконец, надумал взяться за дело, а то ведь забросил тут все? Хотя навряд ли. Ну да что толку гадать — пора пойти и выяснить, что там такое. В этом треклятом доме все возможно.
Но, войдя в ванную, он видит всего-навсего Стига, который бодро орудует крепкой лопатой, грузит плиточные осколки и пыль в солидную старомодную тачку. Вторая лопата стоит прислоненная к тачке.
— Ну-ка, берись за работу! Водку и колбасу я в холодильник определил. Вот вывезем мусор и хлебнем винца с хлебцем. А ты молодец, гляжу, раствор заготовил.
— Черт подери, где ж ты раздобыл тачку и лопаты?
— Чего проще. К соседу зашел. Хороший мужик, пенсионер. Зовут его Таге Петтерсон, бывший конторщик, в Газовой компании работал. Нынче, понятно, силенок уже маловато. И инструментом своим он нечасто пользуется. Но содержит все в лучшем виде, ничего не скажешь. В сарае полный ажур. А вот садик свой он, по всему видать, маленько подзапустил. Правда, жена у него в больнице лежит. И давно.
— Вот как.
— Вообще-то он очень удивился, когда услышал, что мы тут работаем. Говорит, с весны никого в этом доме не видал. Вроде неувязка какая-то с разрешением на перестройку. Петтерсон божится, что владелец в Стокгольме живет. Только он небось смылся от банкротства. Недвижимостью спекулировал, знаешь ли. Теперь, поди, сидит себе на Мальорке, на Багамах или еще где. А сам Петтерсон обрадовался, как увидел, что тут снова работать начали. Ремонт-то собирались еще летом закончить. Отделать стильный домишко на одну семью. Когда он сюда приехал, тут жили четыре семьи с кучей ребятишек. А после дом вроде некоторое время пустовал.
— Н-да, веселенькая история.
— Куда уж веселей. Что хорошего-то, когда дело стоит? Матушка моя правильно говорила: где нет движения, там рукой подать до развала.
— Одни мы с тобой тут только и копошимся.
— Ладно, бери-ка вторую лопату и давай ликвидировать бардак, а после тяпнем по маленькой и закусим колбаской.
Торстен отчаянно закашлялся — ох и пылища, столбом стоит. Тачка тяжеленная, чуть пуп не надорвал, пока через порог перетащил. Черт, куда бы их свалить, обломки-то? Он приметил подходящее местечко возле большого упаковочного ящика (наверно, от холодильника и морозилки) и вывалил мусор прямо в грязь. Кашель никак не унимался. А вот погодка определенно прояснилась, уже приятно. Вместо мрачного ноября опять словно бы начало октября; воздух чистый, прозрачный, как бывает в Упсале только в иные осенние дни. На деревьях кое-где еще трепещут уцелевшие листочки — ни дать ни взять золотые монетки. Обломки они вывозили по очереди, всего вышло шесть доверху нагруженных тачек. Удивительно, сколько мусора получается, как собьешь плитку со стен. Стигу-то ничего. А он, Торстен, приустал. Но хлебнул водочки и взбодрился. Водка быстро проникла во все закоулки организма, и сердце забилось ровнее.
Пили они из крышек Торстенова термоса. Не больно чистых, но под водку в самый раз.
— Колбаски? — спросил Торстен.
— Ага, — кивнул Стиг. — Если б не этот окаянный Бромстен, и я бы, глядишь, сидел сейчас на Мальорке или на Багамах.
— А кто это — Бромстен?
— Конечно, откуда тебе знать, кто такой Бромстен. Ну и хорошо. А вот мне он здорово насолил.
— Похоже на то.
— В свое время я держал транспортную контору, целых три грузовика, — сказал Стиг. — Работа канальская, но и веселая. И деньги я зашибал неплохие. Даже чуть не обзавелся женой, которую ожидало большое наследство — два крупных гравийных карьера в Осене, в Сурахаммаре. Такие карьеры уже тогда, в конце пятидесятых, стоили миллионы. Сам понимаешь, какие были цены на гравий и песок при тогдашнем размахе строительства, ведь куда ни посмотри — кругом что-то строят. Помню, Бромстен как-то подвел меня к самому краю большого карьера (песок так под ногами и зашуршал, вниз посыпался) и говорит: «Этот карьер стоит миллионы». Да, так и сказал, слово в слово.
— Кто ж он такой, Бромстен этот?
— Сволочь, поганый мужик. Я для него гравий возил. Из этих окаянных карьеров. К тому же мне очень нравилась его дочка. Красивая была девушка, правда-правда.
— Так он не дал тебе жениться на своей дочке?
— Нет. Тут все не очень-то просто. Неужто ты думаешь, что я бы позволил Бромстену командовать мной в таком деле? А что это за странный звук?
— Я ничего не слыхал.
— Кажись, кто-то по лестнице поднялся.
— Я ходил наверх, стучал. Нету там никого.
— А что там такое?
— Запертая дверь. Ведет в старую квартиру, где ремонта не делали. А на двери бумажка.
— И что на ней написано?
— Софи К.
— Ты уверен, что там никто не живет?
— Ты ведь сам сказал, что, по словам Петтерсона, он здесь с июня никого не видал. Если не веришь, ступай постучи. А я пока плиткой займусь. Интересно, который час?
— Четверть четвертого.
— Вот черт. Почти целый день прошел, а я ни одной плитки не положил. И хоть бы какой сукин кот явился и объяснил что да как. Ступай посмотри. А я, пожалуй, все ж таки начну.
Стиг исчез наверху. Торстен натянул шнур, чтобы класть первый ряд, и взялся за работу. Освещение могло бы и получше быть, но приятно, что ни говори, наконец-то — хоть и на исходе дня — приступить к тому, ради чего, собственно, сюда и приехал. У жизни и впрямь есть изнаночные стороны.
Торстен чувствовал себя как довольная муха, ползущая вверх по стене. По стене, которая была изнанкой. Изнанкой, у которой, понятно, имелась и другая сторона, лицевая.
ВЫДУМКИ ВСЕ ЭТО
Стиг отсутствовал довольно долго. Наверняка скрупулезно обследовал весь второй этаж. Ну и хорошо, подумал Торстен. Можно пока спокойненько поработать. Вдруг он вообще не вернется? Кто его знает, чудной он все же какой-то, Стиг этот. Утаивает что-то. А карьеры! Ценой в миллионы! Никогда он ими не владел! Во, наплел! Выдумки все это. Он ведь и мальчишкой горазд был сочинять, верно?
Но вспомнить Торстен, черт подери, ничего не мог. Мало того, из памяти стерлись вообще все детские эпизоды с участием Стига.
Может, летние вылазки на велике к Сэтра-Брунн? Но Стиг вроде бы с ними не ездил, а? А когда гоняли вдоль канала, переругиваясь со смотрителями шлюзов? Торстен многих ребят помнил, а вот Стига нет. И все же он ничуть не сомневался, что вправду были какие-то интересные истории, в которых участвовал и Стиг. Наверняка были.
Удивительно все-таки, до чего странными и чужими кажутся друзья детства, когда встречаешь их вновь спустя много лет. А они еще и панибратствуют, хотя ничем в общем-то такого права не заслужили.
Торстен клал плитку наверху стены, стало быть, без подставки под ноги не обойтись. Иначе бордюр не сделать. Ростом, увы, не вышел, частенько и насмешки терпел из-за этого. Он принялся шарить по шкафам и чуланам (благо в квартире их много) в надежде найти стремянку или хоть ящик, чтоб было на чем стоять.
В сердцах он сновал от дверцы к дверце, открывал, закрывал. Только всего и нашел что брошенные бутылки на полу в одном из чуланов. Две пустые косушки, оставленные кем-то из прежних работяг. И в тот миг, когда он, что называется, налетел на трехногую табуретку, которая все это время стояла в большой гостиной, прямо перед глазами, ему вдруг вспомнилась Ирен.
Об Ирен он вспоминал нечасто, потому что хотел сберечь память о ней в первозданном виде. А память эта была тесно связана с его невеликим ростом. К примеру, зимним вечером — наверно, в начале тридцатых — они с Ирен стоят и ждут, когда откроются двери кинотеатра. Стоят, держась за руки. Чтобы держаться за руки, они обычно снимали шерстяные варежки. Но до чего же неприятное чувство — стоять в толпе, где едва ли не все выше тебя. И вот наконец отворялись врата рая. Обертки от тянучек на полу, в зале пахнет пылью и сыростью от драповых пальто, вымокших под снегом. Райское блаженство заключалось не столько в том, что показывали на белом экране, а были это сентиментальные ленты с Кларком Гейблом, Авой Гарднер и иже с ними, сколько в том, чем можно было заняться впотьмах с Ирен. И пустяком такое не назовешь. Ведь ему дозволялось проникать в мягкие, теплые и даже теплые и влажные местечки. Посреди «Багдадского вора» с Дугласом Фэрбенксом он гордо убедился, что всего-навсего пальцами сумел вызвать у этой горячей девчонки оргазм, да какой — едва на стуле усидела.
Чтобы дотронуться до Ирен — до всех ее мягких, интимных местечек, — поневоле пойдешь в кино. На улице один только снег, высоченные сугробы, а дома у Торстена об этом даже думать нечего. Он по-прежнему жил при маме, спал в комнате; мама ночевала в кухне, на диване. А на чердаке он устроил фотолабораторию. Так что девчонку не приведешь, без вопросов.
Время сновидений, время грез. Неразрывно связанное с вечным снегопадом, шерстяными варежками, вытертым зимним пальто Ирен, снежинками у нее в волосах.
Она жила на верхнем этаже довольно большого дома, у двух старых дам. Они доводились ей тетками по матери и были чрезвычайно благовоспитанны. Дочери пробста6 с кем попало не общаются. Торстен видел их раз-другой в Хальстахаммаре, но в общем никогда с ними не разговаривал, если не считать того собрания церковного союза, с посылочным аукционом, где он познакомился с Ирен. Такие собрания в Хальстахаммаре как бы ненадолго соединяли благовоспитанную публику и тех, кто попроще. Перед Иисусом все были вроде как равны.
Обычно Торстен и Ирен встречались на почтительном расстоянии от дома, на углу Кнектбаккен. Вдобавок каждый раз приходилось загодя изобретать для Ирен благовидный предлог, чтобы она могла вечером выйти из дома. Хотя ей уже исполнилось девятнадцать, заводить с тетками разговор насчет кино и тому подобного было бесполезно. Ведь они чуть не вышвырнули племянницу за дверь, когда подружка коротко ее подстригла.
Следующей осенью Ирен ушла из его жизни почти так же внезапно, как и вошла в нее. Отправилась в Упсалу изучать кулинарию и иные домоводческие премудрости. Они обещали писать друг другу, но из этого ничего толком не получилось.
Однако и по прошествии многих лет он порой видел ее во сне. Непременно зимой, в снегопад. Она была словно бы входом в иной, теплый мир, где он, по правде говоря, так и не посмел остаться. Этот мир был не для него.
Чудно, сказал себе Торстен, почему-то именно сегодня меня одолевают такие диковинные мысли. Частью здорово неприятные, а частью очень даже хорошие.
Вспоминается то, о чем я много лет не думал.
Такое впечатление, что этот чудной дом воздействует на мысли. Пожалуй, надо немного погодя сходить на кухню, глотнуть водочки. А плитка-то как ложится — любо-дорого смотреть! Ровные, аккуратные ряды, красивая финская плитка. Погодите, то ли еще будет, когда я затру швы. Затирка что надо, светло-серая, которая так подходит к синему. Нет, до чего же здорово, когда удается создать в жизни какой-никакой порядок. Хоть и знаешь, что однажды придет другой человек, собьет все это и сделает по-новому. Незабываемый миг — когда у тебя на глазах возникает порядок, чуть ли не сам собой.
— Да, чертовски странно там наверху, скажу я тебе.
Стиг вырос за спиной так неожиданно, что Торстен вздрогнул от испуга. Уму непостижимо, как он умудрился вернуться совершенно беззвучно. Похоже, Торстен ничего не видал (да и не слыхал), кроме собственной плитки.
— Между прочим, здорово получается. Красиво. В синем-то цвете.
— А чего там странного, наверху? Заперто ведь.
— Ха, заперто! Перочинным ножиком ковырнул, и все дела. Пошли посмотришь.
Торстен нехотя слез с табуретки. Он так увлекся работой, что совсем не хотел ее прерывать. Надо надеяться, Стиг никакой особой гадости не выкопал, иначе уже спокойно не поработаешь. Вдруг там наверху покойник? Может, Софи К. померла? Или убита? А убийца, того гляди, вернется и обнаружит, что Торстен со Щепкой узнали его секрет. Сердце у Торстена забилось резко и натужно. Честно говоря, сердце весь день тянуло плоховато, а оттого, что последний час он пахал как каторжный да еще и водки тяпнул перед этим, лучше не стало.
Но и показывать Стигу свои страхи тоже неохота.
— Ладно, пошли. Но отвлекаться мне вообще-то недосуг. Дело к вечеру, а работы непочатый край.
Стиг не соврал, он и правда сумел перочинным ножиком вскрыть квартиру Софи К.; замок был старинный, из простеньких, но вполне надежных. Торстен, когда был мальчишкой, сам не один замок таким манером вскрыл. Главное — засунуть лезвие поглубже в скважину, и тогда, если посильнее нажать, язычок отойдет в сторону.
Дверь предательски заскрипела, и Торстен всерьез порадовался, что внизу у лестницы нет чужих ушей, — вот жизнь пошла, оглянуться не успеешь, а совесть уже нечиста.
Впрочем, никаких сенсаций не обнаружилось. За дверью была комната, узкая и почти пустая. Старомодные коричневые обои еще усиливали безрадостное впечатление. На окне старые коричневые шторы. У одной стены — конторка с подъемной дверцей-жалюзи, а рядом вращающийся стул. Кто бы ни обитал здесь в последнее время, он (или она) использовал помещение скорее под контору, а не под жилье. Торстену стало не по себе. Впервые за весь день он не смог отделаться от ощущения, что занимается чем-то недозволенным. И втравил его в это Щепка. Лучше бы вернуться к стене, к затирке, к смутным грезам о давней зиме. Здесь торчать совершенно без толку.
— Ну, что ж тут такого странного? — раздраженно спросил он. — Зачем ты меня сюда притащил? По-твоему, я старых контор не видал?
— Да ты вон куда глянь! — Щепка отворил дверь, которой Торстен даже и не заметил.
— Эка невидаль — старая кухня.
Действительно кухня, точнее, закуток, выгороженный из комнаты. Шкафы, по моде тридцатых, выкрашены унылой горохово-желтой краской, линолеум на полу облезлый. И посуду в этой мойке мыли в незапамятные времена. Чем-то напоминает старую мамину кухню дома, в Хальстахаммаре. Ишь, даже стол кухонный сохранился. Стиг молча показал на большой неуклюжий предмет, темнеющий в сумраке под столом.
— Это сейф.
Торстен недоверчиво подошел ближе. И впрямь сейф, старый, не очень-то большой. Металлическая табличка сообщала, что изготовлен он гётеборгской фирмой «Братья Эквалль», а уж когда — можно только догадываться. Жутко пыльный, но с виду целехонький, причем дверца заперта, и на ней есть этакий штурвальчик — чтобы открыть, надо несколько раз повернуть его по определенной схеме. Ничего удивительного, что он заперт. Сейфы никто нараспашку не оставляет.
— Сам вижу, не слепой, — сказал Торстен.
— Неужто не смекаешь? Там ведь может быть что угодно!
— Вряд ли там маринованная салака. Мы бы ее по запаху учуяли.
— Да ну тебя! Вдруг в сейфе деньги, а? В нынешние времена чего только не случается. Вон их сколько развелось — наркоторговцев и всяких разных проходимцев.
— А чего странного в сейфе-то в этом? Тут ведь, по всему видать, контора была. Вывезти ящик непросто, вот и оставили.
— А ну как он краденый?
— С какой же это стати красть такую бандуру и ставить тут наверху, даже не попытавшись открыть?
— Так давай откроем, а?
— Совсем с ума сошел. Кражу, стало быть, замыслил.
Щепка слегка призадумался.
— А вдруг им приспичит вернуться, чтоб открыть его?
— В таком разе нам не позавидуешь.
— Надо все ж таки вытащить его из-под стола да качнуть маленько — послушать, есть что внутри или нет.
Устоять перед таким соблазном Торстен не смог. Сейф этот, будь он неладен, они из-под стола вытащили — на линолеуме остались глубокие царапины, — а вот качнуть его оказалось не так-то просто.
У Торстена холодный пот на лбу выступил, пока ему удалось чуток наклонить сейф. Внутри точно что-то есть, съехало по днищу, правда, больше похоже на одиночный металлический предмет, чем на заманчивые пачки денег, на которые зарился Щепка.
— Ключ, должно быть, — сказал Стиг.
— По-твоему, они совсем дураки — взяли и заперли там ключ?! Вдобавок ключ тут без надобности, замок-то с комбинацией.
— А вот и нет. Глянь, внизу самая настоящая замочная скважина!
— Ну и что? Все равно не открыть, если комбинации не знаешь. — Торстен утер потный лоб. — Слышь, по-моему, медвежатники из нас с тобой аховые. Может, лучше затолкать эту бандуру на старое место, а то еще явится кто-нибудь и устроит нам веселую жизнь.
Щепка вроде как смирился, хотя, когда Торстен осторожно закрывал дверь, напоследок с тоской оглянулся на странный сейф. Солнце опять скрылось в тучах, или, может, уже свечерело?
— Слышь, по-моему, надо тяпнуть еще по маленькой, а после я лично займусь стенами, чтоб часиков в девять убраться отсюда. Вообще-то ума не приложу, как тут разобраться с делами, ведь никто так и не пришел, спросить не у кого.
— Так можно послать счет по почте.
— Куда?
— Ну, куда — обычно, черт подери, не проблема.
— Позвоню Пентти, финну. Он, поди, знает.
— Вот нашелся бы в этом сейфе, к примеру, миллион, и звонить бы не пришлось.
— Да, что верно, то верно. Само собой. Но ведь в жизни так не бывает, знаешь ли. Еще колбаски? А что бы ты сделал, если б нашел миллион?
Щепка вроде как заколебался.
— Открыл бы собственное дело? Сызнова? И накликал на свою голову недоимки по налогам, и власти, и профсоюзы, и бумажки всякие, и прочую хренотень?
— Стар я уже для этого, — вздохнул Щепка.
— Или бы в Испанию отчалил? Сидел бы там, потягивал кислое слабенькое винишко да глазел на пляж, купаться-то все равно не станешь, потому что ничего интересного в этом нет. Твоя правда, для нас малость поздновато.
Щепка совсем приуныл.
— Ты просто мечтаешь об этом миллионе, лишь бы не видеть, что ничего уже особо не переменится. Ежели ты уверен, что скоро все станет куда интересней и счастливей, чем теперь, то придется тебе бояться старости и смерти. Бросишь гоняться за своим миллионом — и помереть будет легче.
Похоже, Щепку это ничуть не убедило.
— Можно бы хоть новую машину купить вместо старой колымаги, — мрачно сказал он. — Она ведь даже техосмотр нынче не прошла!
— Да-а, вечно что-нибудь не слава Богу.
Ну вот, наконец можно взяться за ведерко с раствором. Хорошо хоть, не успел вовсе застыть.
МНЕ ОТ БРОМСТЕНА НЕ ИЗБАВИТЬСЯ
Дело шло теперь не так споро. Неизвестно, по какой причине. Может, оттого, что приходилось поминутно слезать на пол, брать очередную плитку, наносить на нее раствор и опять взбираться на табурет. Будь здесь леса, он бы сразу по нескольку штук брал. Хотя Щепка-то на что? Пускай пособит. Навелика премудрость — раствор на плитку шлепать, в меру, конечно.
— Щепка, иди сюда, пособишь.
— О'кей.
— Видишь, сколько надо раствора?
— О'кей.
— Чего заладил-то «о„кей» да «о“кей»?
— В Америке привык.
— А-а.
— Найди я в старом сейфе миллион, снова купил бы транспортную контору. Что может быть лучше!
— Думаешь, нынче на покупку хватит миллиона?
— Если б не Бромстен, моя контора нынче бы не один миллион стоила.
— А чем он тебе помешал?
Щепка словно и не слышал вопроса. Раствор на плитку он наносил так, будто намазывал бутерброд, и Торстена это нервировало. Но он решил смолчать.
— Пристрелить надо было эту сволочь! Пристрелить, и все дела!
— Да что ж он такого натворил, а?
— Сразу после войны, хотя нет, наверно, уже в начале пятидесятых, я начал шоферить на грузовике, для одного мужика из Лише, который держал транспортную контору. Водить машину я в армии выучился. Мужик этот, который из Лише, его, кстати, звали Иварссон, возил грузы для строительных компаний, а строили тогда много, в начале-то пятидесятых, еще мы подрабатывали на рамнесской пивоварне, летом, когда ихний шофер не справлялся. Но большей частью возили песок и гравий на стройки. В ту пору уйму всего строили, особенно в окрестностях Вестероса, иной раз круглые сутки за баранкой сидишь. Не больно-то легкая работенка. Дороги тогда были не чета нынешним.
А Бромстен, видишь ли, был редкая сволочь.
И очень мне насолил.
Фамилия у него говорящая — Бромстен, Тормозной, так сказать.
Все, что хочешь, затормозит.
Он умел этак по-особенному смотреть на человека, будто все, что тот ни предложи, просто курам на смех, а если замечал, что тебе что-то дорого, к примеру малютка Элин, дочка его, хорошенькая застенчивая девушка, которая обычно на кухне отсиживалась, потому что Бромстен на кухню заходить не любил, — так вот тогда он вовсе зверел.
Сочинял длинные заковыристые отговорки, лишь бы помешать тебе увидеться с нею. То она, дескать, корью захворала, то в Лише уехала за теткой ухаживать. А ведь я прекрасно видел, как она в белом платьице в синий горошек ходит среди кустов малины, совсем близко, и временами наверняка слышит, что он мне впаривает. И уверяю тебя, его это ничуть не смущало. Наоборот, поганец удовольствие получал. Он из тех был, кто обожает помыкать другими.
— Надо было характер проявить.
— Конечно. Но весь ужас в том, что характер я проявить не мог. Пристрелить хотел эту сволочь, а характер проявить не мог. Никогда я не умел проявить характер, вот что хуже всего. Стою как дурак да кулаки сжимаю в карманах. И воображаю себе собственную суровость, беспощадность, неумолимость, а делать ничего не делаю.
Она просила, чтоб я увез ее оттуда. И я частенько об этом подумывал, да так и не собрался.
Позднее, когда этот черт Бромстен смекнул, что ничего со мной не поделает, да и с нею тоже, предложил он мне войти в дело компаньоном. На грузовых перевозках тогда большие деньги заколачивали, я ведь говорил уже, в строительстве был настоящий бум. Ну так вот, Бромстен купил еще один грузовик, и мы взялись за работу. А как дело наладилось, этот мерзавец вышвырнул меня за дверь и отнял всё. Жену, контору и прочее.
— Но как же так?
— Видишь ли, это чертовски долгая история. Сперва он настроил Элин против меня. Раздраконил меня в пух и прах, наболтал, что я, мол, крепко выпиваю. Само собой, я маленько выпивал, но кто, черт побери, не выпивает? Во всяком случае, дорожных аварий не было, иных неприятностей тоже. Отчего же не выпить-то маленько? А этот мерзавец отправился в комиссию по борьбе с пьянством, натравил на меня власти и добился-таки своего: у меня отобрали права.
— А Элин?
— Одному черту известно, какая муха ее укусила. Она привыкла идти у него на поводу. Делала, как отец велит, и все тут. Собственной воли у нее не было. Ну я и бросил ее. Все бросил, вообще.
— А после в Америку подался?
— Ага, в Америку. С выпивкой завязал. Представляешь? Вправду завязал. Проповедовал, с пятидесятниками якшался. В общем-то счастливое время, скажу я тебе. Хотя я, понятно, был вроде как сам не свой. Причем довольно-таки часто. Слышь, Торстен, ты мне вот что скажи: как по-твоему, есть на свете злодеи?
— Ну, это как посмотреть. Ежели взять Гитлера или Сталина…
— Да плевать я хотел и на Гитлера, и на Сталина. Они оба уж померли давно. Так есть или нет?
— Что «есть»?
— Сказал же — злодеи.
— Это как посмотреть.
— Ты уж мне поверь. Есть злодеи, есть. Небось думаешь, я зря прицепился к этому Бромстену, да? Дескать, с точки зрения Бромстена, все выглядит иначе? Клянусь, никакой Бромстеновой точки зрения вообще нету. Хотя, если тебе неохота говорить про Бромстена, можно и о другом потолковать. Злодеи на свете не редкость, вот в чем штука. Ты меня послушай, сам поймешь.
Я тогда по нескольку раз в год возил грузы в тюстбергскую лечебницу. Продукты, молоко в бутылках, барахло всякое. Словом, все, что требуется на кухне и что я обычно перетаскивал туда в одиночку.
Ведь лечебница была для слабоумных.
Посторонние туда заглядывали редко, только по работе. А тамошних пациентов никуда не выпускали, они с детства были слабоумные, идиоты, которых нельзя оставлять без присмотра. Иные от роду ущербные, иные дожили до таких преклонных лет, что перестали понимать, где находятся и кто они есть. Сидели в коридорах или бродили по комнатам, медленно, будто скотина на выпасе.
Думаю, родственники навещали их крайне редко. Я, во всяком случае, посетителей ни разу не видал. Открестились от горемык, от которых весь мир открестился. А другого мира те не знали.
Смотреть было совестно, как санитары с ними обращаются. Под вечер там вроде как кофепитие устраивали, и для большинства кофий этот очень много значил. Горячий, черный, сладкий. Сахарницей они особенно дорожили.
Но распределяли сахар строго по норме. Сколько хочешь не дадут. Не дождешься. И ради лишнего кусочка слабоумные горемыки выделывали по заказу санитаров разные фокусы. Прыгали через палку, которую те поднимали все выше. Балансировали палкой на носу. Понимаешь, санитары обращались с этими людьми будто с собаками. И ни капли не стыдились. Глядя на меня, хохотали и еще больше изощрялись в этой мерзости.
У меня аж слезы на глаза наворачивались, но, как обычно, характер я проявить не мог. И остаться тоже не мог. Ничего не мог.
Злодеи — это самые обыкновенные люди, верно?
Нету в них ничего особенного или примечательного. Люди вечно ищут в злодеях что-то особенное. Они, мол, больные, извращенцы или еще какие. Но ведь это неправда! Такое впечатление, будто все упорно норовят утаить и отвергнуть то, о чем прекрасно знают.
Черт, иной раз мне кажется, будто я и впрямь прикончил старикана. Хотя, наверно, я это просто выдумал. Столько раз мысленно сталкивал подлюгу с обрыва в собственном его карьере и прямо воочию видел, как рука его торчит из песка, что порой готов поверить, будто и вправду столкнул. Ты-то как думаешь, столкнул я его или нет?
Торстен долго молчал, потом задумчиво произнес:
— Нет. Думаю, не столкнул.
Он решительно прошагал на кухню, открыл холодильник. Так и есть. Бутылок не видать. Интересно, куда он девал пустые бутылки. Последнюю-то, ясное дело, припрятал. Это уж точно. Как собаки прячут косточки. А я не из тех, кто станет искать по всему дому.
Зато шматок колбасы еще остался. Торстен задумчиво вытащил его и сунул в рот. Так себе колбаса, но хорошей нынче днем с огнем не найти.
Так я и думал. Сам тяпнул один стакашек, ну, может, парочку, а этот хлюст втихаря вылакал все остальное. Зря я его сюда привез. Только и делает, что небылицы про себя сочиняет. По правде говоря, я думаю, что ни мужик этот, ни девчонка вовсе не существовали. Песчаные карьеры ценой в миллионы! Смехотура! Транспортная контора — да не было ее, черт подери. И машины он никогда не имел. Выдумал все, чтоб себя оправдать. Лихой малый. А лихих надо остерегаться. От них зараза идет. В жизни полным-полно неудачников, и стали они таковыми потому, что сами напрашиваются на осечки. Вроде как жить без них не могут. В этом окаянном домишке, к примеру, есть теперь кафельная стена, которой вчера не было. Скоро я ее закончу, и выйдет она хоть куда. Любая первоклассная гостиница не откажется иметь в уборной такую стену.
Не знаю, заплатят ли мне вообще за эту работу. Не знаю даже, я ли буду ее заканчивать. Не знаю, и на кого работал, и сумеет ли он оценить сделанное — вдруг будущему жильцу не по душе такой цвет. Вдруг ему больше нравится мелкая плитка, какая была в моде в пятидесятые. Но так или иначе, я во внешнем мире кое-что сделал.
— Ой, гляди, сколько водищи на полу. Где-то протечка, — сказал Стиг. — Давеча было не так мокро.
— Вот чертовина, я думал, что все перекрыл. Будь другом, возьми тряпку и подотри маленько.
Стиг принялся за дело, однако ж без особого усердия. Вроде как выдохся мужик вконец. Хотя и тряпка-то у него не ахти какая. Н-да, послал Бог нынче помощничка. Торстен опять пошел на кухню. На сей раз его башмаки оставляли весьма приметные следы, ну и наплевать. Он нагнулся к водоразборному крану возле посудомоечной машины. Ведь это же главный кран, а? Разводной ключ лежал там, где он его оставил. Торстен силился затянуть кран потуже, его даже в холодный пот бросило, но кран не поддался ни на миллиметр. Еще в тот раз был затянут как следует. А вода, наверно, та, что оставалась в трубах, утешил он себя.
Над верхушками деревьев за кухонным окном он углядел красного змея, который почти недвижно парил в вышине на ветру. Приятно иной раз подумать о чем-то другом. Когда-то у Торстена тоже был красный змей. Он сам его смастерил, но при первом же запуске тот застрял в ветвях одного из высоченных кленов на Кнектбаккен в Хальстахаммаре. К искренней радости соседских мальчишек, он целый вечер пробовал снять змея — то длинными жердинами, то камнями (которым полагалось сбить змея с дерева, а вместо этого они, разумеется, падали в самых неожиданных местах), но, увы, змей так и остался на ветке. Следующей зимой, когда он стал слишком взрослым, чтобы запускать игрушечных змеев (и уже работал в бакалейном магазине, что находился в доме Класона), змей по-прежнему висел там, в клочья изодранный ветром, — жалкое зрелище. Ни дать ни взять подбитая птица. Когда запускаешь змея, самое замечательное, что сразу находишься как бы в двух местах. На земле и в поднебесье. Смотришь вниз, на себя самого, и видишь запрокинутое лицо, розовое пятнышко, которое невесть как умудряется держать тонкую нитку.
— Нет, выдумки все это, наплел черт-те чего, — опять повторил себе Торстен.
В этот миг на крыльце позвонили. Да, добра не жди.
СТРАННАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ
Звонки не умолкали. Кто бы ни стоял на крыльце, ему, похоже, и впрямь что-то нужно.
Щепка куда-то запропастился, волей-неволей напрашивается подозрение. Наверняка опять наверху, трясет старый сейф. Неужто нет предела ребячливым надеждам, какими люди способны себя тешить? Или он просто прикорнул где-нибудь в тихом уголке? А вся эта трепотня насчет Бромстена явно попахивает выдумкой.
В руке Торстен Бергман по-прежнему держал насквозь мокрую тряпку, которой безуспешно пытался мало-мальски подтереть пол в ванной. Такое впечатление, что воды не убывало, а, наоборот, прибавлялось. А этот, ну, который на крыльце, тоже хорош — нет чтобы потрогать дверь и обнаружить, что она не заперта, знай себе трезвонит. Уму непостижимо.
Целая вереница малоприятных картин промелькнула в голове, пока Торстен шел открывать. Однако ожидало его совсем другое.
На пороге стояла крепкая рыжеватая блондинка с орущим малышом на руках, второй ребенок цеплялся за ее юбку; младшему года два, старшему лет пять. Торстен давно разучился определять на глаз возраст ребятишек. На женщине было аккуратно отутюженное, нарядное синее платье с короткими рукавами. Мускулистые руки усыпаны веснушками. Боже правый, что этой женщине тут надо? Она почему-то упорно рвалась в дом, и от неожиданности Торстен даже не спросил, чего она хочет. Учтиво распахнул дверь, и женщина без колебаний шагнула в переднюю.
— Та-ак. — Она огляделась по сторонам, прошла в гостиную, быстрым шагом, словно спасалась бегством — от кого-то или от чего-то. Потом в упор посмотрела на Торстена; глаза у нее были голубые и немножко строгие. — Телефон?
— Нет. Нету здесь телефона. Рановато пока для этого. Не скоро еще проведут. Если жильцы поселятся.
— Но мне нужно позвонить. Срочно.
Остается надеяться, что она не хитрит, подумал Торстен. Говорят, иные ловкачи под таким вот предлогом заходят в квартиры к старикам, а потом грабят их. Хотя здесь, черт возьми, красть нечего. Разве что водку из холодильника, да и той уж нету. Так что красть вовсе нечего. А ежели она решила ограбить меня, пускай приходит на Брункебергспумпен, нет вопроса. И все время в ванной капает эта треклятая вода. Как бы мне отделаться от нежданной гостьи? И сколько пройдет времени, пока вода хлынет через порог?
— Так нет у нас тут телефона.
— Мне позарез нужно позвонить. Поговорить с мужем.
Вместо объяснений женщина поставила двухгодовалого малыша на теперь уже грязноватый и лишь местами застланный бумагой паркет. Старший мальчонка быстро спрятался у нее за спиной. Где же черт носит этого окаянного Щепку?
Может, у нее даже полиция на хвосте? Торстен смутно припоминал заголовки в вечерних газетах, насчет иностранцев, беженцев, которые прятались от иммиграционной полиции по церквам и домам. Или может, муж по пятам за ней гонится? Вдруг с минуты на минуту заявится сюда и устроит жуткий скандал? Может, все ж таки стоит отнестись к ней маленько подружелюбнее? Он попытался выманить мальчонку из-за мамашиной спины. Бедра у мамаши роскошные, ничего не скажешь, но мальчонка предпочел остаться в укрытии.
— К сожалению, телефона здесь нет.
Торстен был не слишком уверен, иностранка ли она. Но вот с пониманием у нее точно есть сложности. Он чувствовал, что размякает.
— Здесь поблизости живет некто Петтерсон. Очень услужливый человек. Тачку нам одолжил и пару лопат. Может, и позвонить разрешит, если мой коллега пойдет с вами и потолкуем с ним.
Пока Торстен говорил (а для него это была невероятно длинная речь), он всматривался в лицо женщины. Нет, вряд ли она зарится на его бумажник. Лицо широкое, открытое. Голубые глаза глядят прямо и даже твердо. Вокруг одного — темные желтоватые тени. Она что же, налетела впотьмах на дверь, или ее вправду кто-то ударил? Лицо вообще-то говорит о сильном характере — чуть широковатое, очень открытое и какое-то растерянное. А в холодной голубизне глаз почему-то сквозит усталость. Будто они насмотрелись на всякие ужасы. И вот теперь пристально глядят на него.
На миг он оказался как бы во власти этого взгляда. И ничего не имел против. Люди редко так пристально глядели на него, даже не припомнить, когда это было последний раз. Он провел ладонью по щетинистому подбородку. Утром не успел побриться, только кое-как ополоснул лицо холодной водой. Да и позавчера, кажись, тоже не брился. Позавчера было так давно, что он напрочь запамятовал, чем в тот день занимался. И, как назло, гостья заявилась именно тогда, когда он хотел вернуться к работе. К своей стене, первой за такое долгое время. К тому единственному, что придавало этому дурацкому дню хоть какой-то смысл.
А теперь он, ясное дело, нипочем не закончит.
— Стыдно сказать, но он выставил меня и детей за дверь, заперся на замок и не пускает нас в квартиру. Единственный шанс — поговорить с ним. Стоять на лестнице и стучать без толку. Поэтому мне нужен телефон.
Торстен долго медлил, так долго, что младший ребенок опять расплакался, а это отнюдь не способствовало разговору. Хоть бы Щепка, будь он неладен, пришел да подсказал что-нибудь дельное.
Во всяком случае, вроде не иностранка. Ну а соображает медленно, скорей всего, от неимоверной усталости. Может, ей давно не удавалось как следует выспаться?
— Не знаю, — нерешительно сказал Торстен. — Раз уж так плохо дело, может, лучше властям позвонить, а?
У женщины вырвался короткий невеселый смешок. Торстен прикусил губу. Не успел договорить — и сразу понял, что совет не слишком удачный. Да и не ему соваться с такими советами. Сам-то скорей бы с голоду помер, колючую проволоку поверху забора протянул и запустил в «сад» голодных овчарок, чем с властями связался, будь они неладны. Он аж вздрогнул, вспомнив, каково ему пришлось во время недавней переписи населения. Женщина покачала головой и пошла к двери, но детей с собой не взяла. Оба мальчика сидели на полу и оглушительно орали. Щепка, который, оказывается, все же торчал наверху, сейф этот дурацкий обнюхивал, спускался по лестнице, вроде как медленно, нетвердой походкой. А бледный какой, без кровинки в лице. Уж не надорвался ли? С него станется поднимать эту окаянную бандуру.
Явно не по себе мужику, думал Торстен. Что-то с ним определенно не то, только не пойму, в чем дело. Руку ко лбу прижимает, ровно от боли. Или может, глазам своим не поверил, как увидал тут эту дылду с детьми.
— Слушай, ты как? — спросил Торстен.
— Не очень. Плоховато себя почувствовал, но сейчас уже лучше.
— Я же говорил, незачем тягать этот чертов сейф. Чушь ведь собачья.
— Кто она? А дети откуда? Чего ей надо?
— Позвонить хочет. Но телефона тут нету. Муж ее выгнал.
Щепка рассеянно смотрел на младшего из малышей, который по-прежнему орал во все горло.
— Бедняжка! А малышам-то каково! Они ведь даже ругаться не умеют.
Малыш умолк, словно смекнул что-то, и вдруг просиял. Но Щепка уже не смотрел на него. Думал о своем, будто и впрямь никак не мог оторваться от собственных мыслей.
— Слушай, все ж таки дурной это дом. Сплошные странности. Жуткое дело! Одному Богу известно, выйдем ли мы отсюда живыми. А дети тут зачем? И с какой стати ей приспичило звонить? Неужто дома телефона нет? — Он снова глянул на детей — старший спрятался за спиной у матери и лишь изредка осторожно оттуда выглядывал — и добавил: — Может, они кушать хотят?
— Съестного у нас не осталось. Кстати, пить тоже нечего. Как ни странно, — заметил Торстен.
Между тем женщина, подхватив малыша, энергичным шагом исчезла в передней, буквально волоча за собой старшего мальчонку.
— Черт, так все же нельзя! Ну на что это похоже, черт подери! Мы не можем оставить ее на произвол судьбы! Дай-ка я хоть гляну, куда она направилась.
— Валяй, — кивнул Торстен. — Я здесь побуду. А ты ступай присмотри за ней. Или лучше наоборот сделаем?
— Ну уж нет. Только бы мне ее догнать.
— Ага. Главное — не нервничай.
— Мы когда-нибудь разделаемся с этой окаянной плиткой?
— Мне и самому любопытно. Ступай! А то ведь не догонишь.
ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМИ РЫБКАМИ
Забрала детей и ушла. Ушла, мрачно и серьезно бормоча что-то насчет всяких мошенников, что хозяйничают в чужих домах, насчет алкашей и аморальных типов, она, мол, непременно кой-кому расскажет, что тут творится. Расскажет, какие молодчики нынче дома ремонтируют! А сама понятия не имеет, куда теперь идти. С малышом на руках она нерешительно остановилась возле изгороди. Старший мальчонка напоследок поглядел на дом. Очень его заинтересовали смешные старые дядьки. Раньше он никогда таких не видел. Вот бы остаться и поиграть со Стигом. Мальчик шел так медленно, что мать прицыкнула на него, и он, жадно высматривая Стига, все-таки зашагал побыстрее. Уже успел усвоить правила.
Она не знала, вернуться или идти дальше по улице. Чем дольше ее не будет, тем сильнее он разозлится. Но если она вернется, он не откроет, снова примется унижать ее перед соседями (постылыми соседями, у которых холодные, любопытные глаза), вынуждая торчать на площадке и молотить в дверь. Малыш, чего доброго, опять разорется. И они опять пригрозят полицией? А полиция означает, что детей у нее могут отобрать, отдадут в приют. И она никогда больше их не увидит. От этих соседей только того и жди, ясное дело. Долговязый-то хамлюга из квартиры напротив уже разорялся: «Смотреть надо за детьми, иностранка чертова!» А она вовсе не иностранка. Она из Турнедалена, потому и внешность у нее не такая, как у здешних, смугловатая, но объяснять без толку. Выходит, все, кто родился не на этой унылой глинистой упландской равнине, — «чертовы иностранцы»? Будто родиться в здешних краях — немыслимая заслуга.
Можно позвонить, хотя зачем? Эх, бросить бы все, войти в реку, в ледяную воду и погрузиться с головой, навсегда. Так его и этим вряд ли проймешь, вряд ли заставишь раскаяться. Все двери на замке, смерть и та, в сущности, не выход, не открытая дверь. Просто некая тьма, влекущая, оттого что не знаешь, что там внутри. Она тоже усвоила правила.
Догнать ее оказалось нетрудно. Она шла медленно, хоть и решительно, ссутулясь от ветра, который успел стать очень холодным. Высокая женщина, а ноги вроде коротковаты. И мальчонку прямо волочет за собой. Стига не оставляло ощущение, что за всю свою жизнь он не видывал такого вконец отчаявшегося человека, который утратил всякую надежду. Откуда же берется безнадежность?
На миг ему подумалось, что безнадежность и есть то единственное, что связывает людей. Что все остальное случайность и может улетучиться в любую минуту.
— О'кей, — сказал Стиг. — Куда же вы идете? Домой или от дома?
— Сама уже не знаю, — ответила женщина.
— Как вас зовут?
— Сейя. Коли это так важно.
— Мы с Торстеном решили, что мне надо пойти с вами и попытаться вам помочь. Мужа вашего усовестить, как говорится. Нельзя вам скитаться по улицам, с детишками-то. Осень на дворе, и холод собачий, и слякоть. Простудитесь еще.
— Не уверена я, что вам это по силам. И годы ваши немолодые, и вид замухрыжистый. Занимались бы лучше своим. Кстати, что вы, собственно, делаете в том доме?
— Да не знаю. Работа не моя, а его. Торстена Бергмана. Мы давно знакомы, вот я и приехал с ним сюда, дома-то скучно сидеть. По-моему, он тоже толком не знает, что мы там делаем. Вроде бы надо плитку положить в ванной. Такая вот задача. Ну мы и кладем. А еще, кажись, на кухне. Чудно, правда, что ни Торстен, ни я за весь день никого там не видали. И работенка эта мне, пожалуй, разонравилась. Так приятно выйти на воздух, доложу я вам. Дом чудной какой-то. И никто так и не пришел, не сказал что да как. Самим приходится кумекать. Мы правильно идем? К вам домой, чтобы я вразумил вашего благоверного?
— Сейчас мы вообще не идем. Видите, мальчик стал как вкопанный. Умаялся очень.
— Может, взять его на закорки? Ну как, согласен? Устроишься на самой верхотуре. Оттуда все куда лучше видать. Ну, вот и ладно.
Далось это Стигу не так легко, как может показаться. Детей у него никогда не было, потому что жёны всегда бросали его прежде, чем доходило до этаких фокусов. С детьми он общался, помнится, только в пору собственного детства.
Да и тогда общение, помнится, сводилось к одним лишь дракам. Возле поселка хальстахаммарских работяг, на школьном дворе — всюду шли бесконечные потасовки и баталии, из-за мячей, из-за найденного дохлого воробья, из-за всего. Вдобавок Стиг никогда не воспринимал себя как ребенка. Такое ощущение, будто, едва родившись, он отправился прямиком в школу (она запомнилась запахом мела, громовыми сморканьями учителя в яркий носовой платок и замечательными красочными плакатами издательства «П.А. Нурштедт и сыновья», изображавшими людей каменного века и средневековых рыцарей. Видно, так и должно быть в школах. А потом настала пора идти в ученье, на фабрику, где выпускали болты, гайки, шурупы и прочее, жуткое место, уже от шума впору с ума сойти. Работяги постарше вечно устраивали ученикам дурацкие розыгрыши. Посылали к мастеру за глазомером и все такое).
Сейчас он стоял здесь, на улице, усталый, разбитый, мучаясь жестокой головной болью (из тех, что стучат в висках в такт пульсу), и не знал, куда идти и как подступиться к задаче, которую ему так неожиданно доверили. И все-таки был рад, что есть чем заняться.
Удивительное дело, мальчонка уютно расположился у Стига на плечах, до того уютно, будто Стиг вызывал у него живейшую симпатию.
Странная штука — природа, эти ее семена, которые прорастают, семядоли, которые делятся с одинаково слепой надеждой, где бы ни очутились — в трещине посреди асфальтированного шоссе или на садовой грядке. Неужели им не страшно? А может, так и надо? Если б люди сами решали, когда и где им рождаться, наверно, вообще никто бы не рождался, а? Совершенно очевидно, что жизнь отнюдь не намерена служить нашим целям. Мы цепляемся за нее, где удается, и делаем с нею, что можем. Но ведь на самом деле мы уже существуем, живем задолго до того, как приходит понимание, что с этим делать. Вся штука в том, что мы об этом не просили. А после вынуждены придумывать, что с этим делать.
Ну что, поскачем маленько?
С некоторым усилием он припустил внатруску. Н-да, головная боль на воздухе не прошла. Он вдруг отчетливо вспомнил (воспоминание словно бы всплыло сквозь головную боль и вспыхнуло крохотным солнышком), как сам сидел на закорках у собственного отца. Чтобы кое-что увидеть. Что угодно. К примеру, духовой оркестр, марширующий по улице фабричного поселка. А каким защищенным чувствуешь себя, зная, что у каждого маленького мальчика есть свой папа и что сидишь именно у папы на закорках. Конечно, вот так и должно быть устроено на свете.
Сидеть у папы на закорках — это духовые оркестры, цирковые парады, огнеглотатели и большие флаги, трепещущие на ветру в день первого мая. И почему-то свежие вафли, посыпанные сахаром. Вот жалость — нет у него вафель, нечем угостить! Тут Стиг опять запыхался, прямо хоть ссаживай мальчонку. Но Сейя знай шагала вперед, забавными мелкими шажками. Не иначе как в сторону дома. От ребенка пахло детством, а рубашонку ему, похоже, уже несколько дней не меняли. Ботиночки матерчатые, стоптанные, но шнурки завязаны аккуратно. Стиг наверняка не сумел бы развязать их, если б вдруг понадобилось.
Как же все-таки быть с этой ситуацией? На черта она ему сдалась! Вот в чем вопрос. Впустят его в квартиру или нет? А ежели впустят туда, к этому злющему мужику, способному этак запросто выставить за дверь, как говорится, собственную плоть и кровь, — он что же, вправду этого хочет?
Проблема не в том, что он там застанет, а в том, что придется оставить их там.
Внезапно, как частенько бывает с людьми, которые не знают, что делать, он стал думать совсем о другом — об этой треклятой протечке в доме. Интересно, чем занят Торстен, пока он, Стиг, ошивается на улице, — собирает воду или плитку свою укладывает?
— Может, сперва по телефону позвоним? — сказал Стиг, метров через сто. Мальчик сидел спокойно, но от тяжести голова вконец разболелась. — Ну как? Может, позвоним и попробуем его вразумить? Чтоб впустил нас в квартиру-то.
— Делайте, что хотите, — сказала она.
Ишь как заговорила — вроде ее это больше не касается.
Дальше по улице, на углу, обнаружился телефон-автомат. Она сказала, что отсюда видно дом, вон там, за деревьями. На вид вполне приличный, кооперативная постройка начала пятидесятых или вроде того. Качество строительства было тогда маленько получше. Н-да, у них определенно водились денежки, по крайней мере во время оно. Квартиры в таких домах нынче недешевы.
Делайте, что хотите, — легко сказать. Но телефон, разумеется, не работал, хулиганы постарались, провод перерезан, аппарат вымазан какой-то гадостью, все как обычно. Что ж это за люди такие — заняться им больше нечем, кроме как провода резать в общественных автоматах! В молодости Стиг, помнится, ничего подобного не видал. Ни в Хальсте, ни в студеные зимы военных лагерей в городишке Мальмчёпинг. Кто же этак злится-то на весь свет? Неужто им вправду охота, чтоб на улицах, среди людей, стало до невозможности холодно и бесприютно?
Идти к Петтерсону, пожалуй, тоже нет смысла. Дом его уже позади остался, и хозяин, по-видимому, был в отлучке. Хороший мужик все-таки, одолжил тачку и лопаты. Но не факт, что обрадуется, если Щепка целое семейство к нему притащит. Меру надо знать, не требовать от людей слишком много.
Чуть не доходя до угла была булочная, не то кондитерская; покупателей ни души, только какая-то постная особа за прилавком. Дверной колокольчик звякнул, и Щепка нагнулся пониже, чтобы мальчик не ушибся о притолоку. В магазинчике пахло хлебом, а этот запах люди почему-то связывают с добротой. Но карга за прилавком на доброго человека определенно не тянет.
Едва Щепка заикнулся насчет скромного желания позвонить — по местному номеру, ясное дело, — а эта особа мерзким костлявым пальцем уже указала ему на дверь. Как ведьма в сказке! У нее, у карги этой, даже хватило наглости вякнуть что-то про полицию. Н-да, он хоть и убрался из пустого и странноватого дома и снова был в реальном мире, но черт его разберет, что лучше!
Щепка медленно шагал к выходу, исполненный и новообретенной гордости оттого, что мальчуган благоволит ему и охотно сидит у него на закорках, и клокочущего раздражения по причине крепкого похмелья.
Он отчетливо сознавал, что будет трудновато держать ножки мальчика, чтобы тот не упал и не расшибся, и одновременно душить омерзительно жадную и злую старуху кондитершу, ведь это дело безусловно требует обеих рук. И в порыве неожиданной преданности мальчугану, который так уютно и доверчиво сидел у него на плечах (оказывается, можно разом испытывать очень добрые и очень злые чувства; священники, будь они неладны, никогда не принимали этого в расчет, а ведь так оно и есть), Стиг поневоле смирил себя, обернулся и сказал (надо признать, довольно громко):
— Ну, берегись, старая перечница. Помяни мое слово, гнить тебе в могиле, вместе с пальцем твоим костлявым, и очень скоро. А тогда поздно будет раскаиваться. В гадостях, причиненных малым сим. Не забудь об этом, когда станешь добычей червей.
Побледнела эта карга или нет — сказать непросто, ведь Щепка уже вышел за дверь и с грохотом захлопнул ее за собой. Да и не все ли равно. Но в глубине души Щепка чувствовал удовлетворение, как бывает порой, когда крепко выругаешься и чувствуешь, что брань достигла цели. Щепка, кстати говоря, был большой мастак по такой части. Мальчишкой по дороге в школу он частенько умудрялся, швырнув снежок через плечо, залепить прямо в глаз какому-нибудь мучителю. Сам Стиг не видел тут ничего особенного, считал это одним из своих природных талантов.
Мальчонка у него на плечах засмеялся. Веселым, искренним детским смехом, который приходит так же внезапно, как в солнечный мартовский день с кровельного желоба падают сосульки и тают на тротуаре. Этот смех наполнил Щепку огромным счастьем.
— Черт с ним, с телефоном, — сказал он женщине, которая, бледная от ожидания, стояла на улице. В кондитерскую она не заходила и толком не понимала, что происходит. Но смех ребенка на миг смахнул тень и с ее лица.
С этой минуты весь поход как-то переменился. Разом стал намного легче.
*
Торстену он после рассказал примерно вот что.
Живут они дальше по улице, на углу, в кооперативном доме. Старая трехэтажная постройка сороковых годов. По-настоящему красивая и аккуратная. Взбираемся по лестнице, она впереди, я следом. И тут я вправду призадумался, зачем меня сюда занесло.
Силы уже не те, что раньше. И полдня работы с твоей чертовой стенкой даром для сердца тоже не проходят, ясное дело. Да и бегать по лестницам давненько не приходилось. С самого начала я приотстал, а когда потный и запыхавшийся наконец добрался до площадки, дверь была притворена.
Вхожу и вижу: он сидит, книжку читает. Средь бела дня. А возле кресла стоит большущий аквариум с золотыми рыбками, я этаких рыбок в жизни не видал — одна крупней и красивей другой. Квартира, скорее всего, двухкомнатная, но в остальные помещения я не заходил, был только там, где он сидел. И должен сказать, если не считать аквариума, ни красотой, ни уютом эта комната не отличалась. Кучи газет на полу, повсюду разбросаны детские игрушки. Диву даешься, какой тарарам способны терпеть некоторые люди.
Жена его тоже здесь стоит, не знает, что сказать, а муж сидит себе в мягком кресле и опять же молчит. Я к тому времени уже едва на ногах держался от усталости, после всех этих лестниц, и с удовольствием бы сел в кресло. Сколько ее мужу лет, так сразу не скажешь — может, сорок, а может, и меньше. В общем, все там вроде как уладилось, и приперся я неизвестно зачем.
— Замечательные рыбки, — говорю я ему.
— Еще бы, они и обошлись недешево, — отвечает он.
И опять тишина. Я делаю новую попытку и говорю: жаль, дескать, что к золотым рыбкам никаких других рыбешек не подсадишь. Они столько аммиака жабрами выделяют, что другие не выдерживают. Он глядит на меня, словно только что впервые заметил.
— Ну, это не проблема, — говорит. — Зачем другие-то рыбешки?
— Так ведь скучно. Ну, смотреть все время на одних и тех же. Мне бы лично надоело сидеть тут и всю дорогу пялиться на золотых рыбок. Они же все одинаковые по цвету.
— Отнюдь, — говорит он. — У них масса оттенков, если присмотреться повнимательней. При каждом движении цвет чуточку меняется… А кто вы, собственно, такой? И что вы здесь делаете?
— Пришел помочь вашей жене войти в квартиру. Вы же выставили ее с детьми за порог. По правде говоря, жена ваша, Сейя, пришла к нам и сказала, что вы ее и детишек вышвырнули за порог и заперли дверь. Нешто можно этак обращаться с родной женой и детьми, а? Радоваться надо, коли детей имеешь.
— Ну, вышвырнул — это, пожалуй, сильновато сказано, — быстро вставила Сейя, — а вот дверь запер, что верно, то верно.
— Ну, если б знал, нипочем бы сюда не пошел!
— Он нас не вышвырнул. Дверь захлопнул перед носом, и все.
— Ничего подобного. Дверь сама захлопнулась, от сквозняка. Делать мне, что ли, нечего, кроме как за дверью следить — открыта она или нет. Сами видите, наговаривает она на меня. Напраслину возводит. Скандала хочет, шумихи. Жить ей иначе неинтересно. Но если она не одумается, власти живо заберут детей под опеку. Вы-то небось аккурат из таких, кто строчит доносы, а?
— Да нет, — говорю, — вовсе не из таких.
— А не врете? Точно? Может, все ж таки чиновник, хоть и из совсем маленьких?
— Нет, — отвечаю, — просто всему есть предел. Каждому, поди, охота отдохнуть от жены и детей и спокойно полюбоваться золотыми рыбками. Однако ж, кроме золотых рыбок, в жизни есть и кое-что еще. К примеру, ответственность за тех, кого родил на свет, верно?
Если он раньше не вскочил и не двинул мне в зубы, то сейчас наверняка двинет, думаю я, а потому кладу на стол отвертку (она была у меня в заднем кармане), чтоб никто об нее ненароком не покалечился. А хмырь этот сидит себе как ни в чем не бывало в кресле да еще и голову руками подпер. И вроде как даже плачет.
Ситуация, надо сказать, до ужаса неловкая. Я хоть и дожил до семидесяти лет, а до сих пор никогда не видал, чтоб мужики плакали. Ну, он помаленьку очухался, обрел дар речи и говорит примерно вот что:
— Я хочу только немножко покоя.
— А кто бы не хотел, черт побери, покоя-то! Да одним хотеньем не обойдешься… Кстати, странное дело, сам не пойму, но сдается мне, я вас знаю.
— Откуда? — говорит он, с удивлением. — Хотя и мне ваше лицо вроде бы знакомо. Только вот не соображу откуда, черт возьми.
— Вспомнил. Ты — Аффе. Точнее, Альфред. Младший сынишка моей тетки по матери.
Чем все кончилось и как он распрощался с этим диковинным семейством, Стиг пока что рассказывать не стал.
ДЕНЬ ЗАЩИЩАЕТСЯ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
Торстен Бергман яростно продолжал работу. Выкладывал стенку. А что еще прикажете делать? Он обливался потом и чертыхался, запускал мастерок поглубже в ведерко с раствором, намазывал шершавые стены, аккуратнейшим образом прижимал плитку и время от времени переносил шнурок на новое место. Уже сейчас видно, что после затирки швов стенка будет высший класс. Богатая, благородная. Так ведь от него, наверно, этого и ожидали? Холодной благородной синевы. Конечно, тут недостает двух поггенполевских кранов — но ведь они без труда вернут их на место. Незачем думать о мелочах, когда речь идет о более крупном единстве. А на полу опять полно воды, правда, набирается теперь помедленнее, потому что Торстен забил трубы деревянными заглушками. Словом, он опять владел ситуацией.
По-прежнему неизвестно, для кого он работает, зачем и за какую плату. Но он себя знал, теперь это не так уж и важно. Он работал, то радостно, то со злостью и ожесточением, когда что-нибудь было не по нем. Работал. И время стало нехотя наполняться смыслом.
Они пробыли здесь недолго. И все же после малышей осталась пустота. Дело не в их голосах и не в облике, просто после них в комнате осталось какое-то особенное беззвучное тепло. Он все время думал, как они там. Надо надеяться, что Щепка сумеет прояснить ситуацию. Хотя вряд ли стоит очень уж обольщаться, вид у него перед уходом был совсем измученный, бледный и жалкий. Вдобавок еще и водки незнамо сколько вылакал — куда больше литра из тех трех, что были у них в запасе. Тоже хорошего мало.
Право слово, удивительно, как иные способны накачиваться.
А платил-то он, из выручки за краны! Всю жизнь мечтал! Торстен ощупал карман старой кожаной куртки: там ли бумажка с расчетами? Не мешало бы вскорости все проверить да подвести черту. Он точно помнил, что сунул эту записку в карман (давеча, когда показывал ее Щепке). Там и вправду есть какая-то мятая бумажка. Но не та. Другая. Лоскуток старого картона, который он, сонный и злой, утром этого долгого дня отхватил от обложки телефонного справочника, чтобы черкнуть адрес. Рассеянно перечитав записку, теперь уже совершенно ненужную, он спрятал ее обратно в карман. А треклятый листок с расчетами, должно быть, остался в машине, в бардачке. Сейчас у него нет ни времени, ни охоты идти на улицу и разыскивать его. Ну и ладно, обойдемся. В крайнем случае можно все записать еще раз. Что ни говори, память у него — дай Бог каждому.
Несмотря на все бутылки, литры и стаканы, надо сказать.
В детстве — совсем маленьким мальчиком, который понятия не имел, что это означает, — Торстен был трезвенником. И вместе со своей праведной мамой, приверженкой свободной церкви, ходил на собрания общества трезвости, где речистые господа из далекого Вестероса и еще более далекого Эребру рассуждали об опасностях пьянства. Можно заработать цирроз печени. (Один из ораторов даже возил с собой такую циррозную печень и всем ее показывал. Правда, не говорил, где ее взял, поэтому Торстен не больно-то ему доверял. Вдобавок Торстен в ту пору считал, что любые внутренние органы при любых обстоятельствах выглядят чрезвычайно странно.) Публика состояла из очень трезвых людей, главным образом пожилых женщин, и ораторы наверняка пользовались бешеным успехом. Цирроз печени был не единственной опасностью, какой грозило пьянство. Ведь и в самом риксдаге свободно могут взять верх пьянчуги, которые понятия не имеют, как управлять страной. А в лихие времена такое чревато большими бедами, это каждому ясно. Вот почему необходимо, чтобы в правительство попадали трезвые либералы, а не пьяницы-социалисты, которые могут натворить Бог знает что. (Неприязнь к социалистам Торстен Бергман сохранил на всю жизнь, только вот, к сожалению, оказалось, что с годами они становились все трезвее и энергичнее.)
Помнится, тетя Свеа, работавшая «холодной буфетчицей» в стокгольмском «Гранд-отеле» (место благородней других, а потому и греховней), вечно рассказывала жуткие истории о том, что случается из-за пьянства. Пьянчуги сидели по ресторанам и в конце концов теряли всякое соображение. Теткин дружок Чарли — он служил в «Гранд-отеле» швейцаром — однажды, к примеру, выручил какого-то господина, который окунул подтяжки в унитаз с дерьмом, а после как ни в чем не бывало нацепил их поверх белоснежной парадной сорочки, — так вот Чарли тихонько, чтоб никто не видел, посадил его в такси и получил за это полсотни крон. А иные крестьяне через пьянство лишались всего достояния — и земли, и дома. Пьянствовали по гостиницам, меж тем как ребятишки ихние корочки хлеба не имели. (Торстен порой удивлялся, как тетка Свеа вообще может работать в таком месте, от которого одни беды, но название ее должности — «холодная буфетчица» — звучало солидно. Внушало ощущение, что она, по крайней мере, не впутывается в эти опасные дела. «Горячая буфетчица» куда хуже.)
Собственно говоря, все человечество можно разделить на людей хороших и плохих. Лет в семнадцать, когда работал газетчиком на перегоне Эребру—Вестерос, Торстен начал догадываться об ужасной правде: он ошибался, праведники и трезвенники вовсе не составляют большинства.
КНИГИ! ГАЗЕТЫ!
Перегон был длинный, и все это время он со своей большой тяжелой сумкой ходил взад-вперед по вагонам. В Халльсберге подвозили вечерние газеты, и он принимал смену от напарника, худого, прыщавого, болезненно-бледного долговязого парнишки. За минуту-другую, прежде чем поезд тронется и напарник спрыгнет на перрон, надо было умудриться проверить счета. Начальник станции, здоровенный бугай, не давал снисхождения газетчикам, которые задерживали поезд. Вернее сказать, он вообще считал газетчиков помехой.
От сумки чертовски болела спина, особенно в начале рейса, а когда скорый поезд кренился на поворотах, надо было удержаться на ногах и не упасть на пассажиров. На первых порах такое бывало и не всегда встречало дружелюбный прием. Хотя иной раз все громко ржали — если он приземлялся на коленях у какой-нибудь пышной, а изредка даже вполне миролюбивой особы, которая кокетливо обнимала его за талию и не отпускала: дескать, наконец-то нашелся долгожданный женишок. Н-да, уверенности в себе у Торстена от этого не прибывало. Сейчас, спустя без малого пятьдесят лет, стоя среди пыли и запаха сырой штукатурки, он по-прежнему заливался краской при воспоминании о тех мучительных минутах.
КНИГИ! ГАЗЕТЫ!
Ближе к Вестеросу становилось полегче. Книжки мало кто покупал. Да и книжки-то ерундовые, чтиво — детективные романы издательства «Вальстрём», назидательные духовные брошюрки и прочая дребедень. Но газеты расходились неплохо. В тревожные и опасные времена они впрямь шли как горячие пирожки. Сумка быстро легчала, и шагать по вагонам тоже было все легче. Тот день, когда в Париже застрелился этот зануда Ивар Крюгер7, оказался прямо-таки замечательным. Он и половины поезда не прошел, а сумка уже опустела.
Вернувшись домой в Хальстахаммар, он нередко и правда спиной чувствовал, хороший или плохой выдался день в эпоху Депрессии. Чем хуже день для человечества, тем лучше для спины, так Торстен говаривал про себя.
Так или иначе, в этих поездах, везущих в первом классе кучу упитанных господ, а в третьем — солидных, серьезных крестьян, веселых, шумных деревенских новобранцев и более или менее приличных девиц, было нетрудно заметить, что в этом мире преобладают люди безалаберные и нетрезвые, не то что дома у мамы, в Хальстахаммаре, где больше праведников и трезвенников.
Здесь крестьяне, прикрываясь газетами, чтобы проводник не увидел, тайком передавали друг другу литровки и косушки. Здесь юнцы бренчали пивными бутылками в серых бумажных пакетах. А в вагоне-ресторане все шло в открытую, без всякой маскировки. Жуть берет, как подумаешь, что происходящее в поезде — самый обычный фрагмент из жизни безалаберных людей. Но похоже, лекторы не горели желанием выступать перед ними. А уж когда шел призыв в армию или что-нибудь в этом роде, в поезде вовсе черт-те что творилось — и блевали, и безобразничали.
Вернувшись домой, он был попросту не в силах рассказывать матери обо всех этих бедах. Впрочем, к тому времени она обычно уже спала, усталая и измученная после мытья полов в банке. От всего этого, ну, то есть от безгреховной трезвости детства и юности, Торстен Бергман сохранил в итоге лишь глубокое отвращение к любым формам перегибов и безалаберности. То самое, какое испытывал теперь, не умея разыскать бумажку с «экономическими» выкладками касательно закупки материалов, которую организовал утром.
Спиртное он в конце концов попробовал, в компании товарищей по Упландскому королевскому полку, когда был в солдатах, и оказалось, что это совсем другое дело. Едва только он хлебнул несколько глотков из купленной в складчину бутылки и первый хмель пронизал его прыщавое хлипкое тело, как явственно ощутил, что попал в родные края. Он даже не догадывался, что на свете есть нечто столь восхитительное! У него было такое чувство, будто он всю жизнь ютился в крохотной каморке и внезапно обнаружил там за потайной дверцей огромную комнату (светлую, уютную, с большими окнами на все четыре стороны, с колышущимися гардинами и птичьим щебетом снаружи).
Но это никак не может иметь касательства к тому низменному и пагубному, от чего предостерегали трезвенники. Ведь всякому ясно, это здорово, это — возвращение к себе. Отслужив в армии, он стал нередко выпивать, ну, насколько позволяли финансовые обстоятельства, кстати весьма скромные. Однако в глубине души навсегда остался трезвенником.
Ведь пьянство было проявлением скверны и безалаберности. А главное, другие люди в нем коснели.
Сам он прибегал к водке, чтобы достичь порядка более высокой ступени. Можно бы сказать: спокойного ощущения осмысленности мира. С давних пор он вообще не мог мало-мальски толково работать, не тяпнув стакашек-другой за обедом или сразу после, хотя терпеть не мог, когда коллеги выпивали за работой. Конечно, одно с другим не больно-то вяжется, он и сам понимал. Но остро чувствовал, что без противоречий мир существовать не может. Он попросту так создан. И никакой другой мир немыслим — только этот, со всеми его противоречиями и неувязками.
В Торстене, можно сказать, шла непрерывная борьба между порядком и безалаберностью, в которой безалаберность почти всегда брала верх, хотя надежда на порядок не исчезала. Эта страсть к порядку и заставила его сейчас сходить к машине и открыть бардачок. Так и есть: бумажка с расчетами лежала там, мятая, но в точности такая, какой он ее запомнил:
Кредит
Два крана модели «Поггенполь»
(заложены в Упсале, склад
стройматериалов) 1230—
Дебет
Цемент для плитки, «Вяяртиляс»,
четыре банки по 35.90 143.60
Три тубы серой затирки по 24.90 99.60
Различный инструмент 470—
----
Вернуть хозяевам 516.80
Раздосадованный, он вернулся в дом — его преследовало ощущение, будто он что-то такое проморгал. Сердито наливая в ведро воду и размешивая остатки цемента (он вправду надеялся, что до конца дня этого хватит), он сунул очки в карман куртки и тотчас наткнулся на другую бумажку, с адресом. Опять надел очки, перечитал, покачал головой и спрятал листок в карман.
Так уж в мире устроено, что мы впускаем в свое сознание лишь очень немногие известия. Львиная их доля остается вовне, мы предпочитаем обходиться без нее. Ворча и качая головой, Торстен вернулся к своей стене. Пора снять обтяжку с новой упаковки плиток. Рука с кусачками слегка дрожала.
Отчего он в юности так много фотографировал? От восторга перед загадочными образами, что проступали в проявителе? Или из-за восторженных и чуточку боязливых возгласов родни, и девчонок, и прихожанок, когда они видели собственные портреты?
Или оттого, что можно было удержать образ? Как бы выловить его из времени, из густого бурого потока исчезнувших образов и голосов?
Но ведь есть и неприятные образы. Как-то раз на переезде в Томтебу поезд наехал на грузовик с бетонными коллекторами. Бедняга шофер уцелел (во всяком случае, ему так запомнилось), но огромный тяжелый грузовик «скания-вабис» превратился в груду обломков. Завороженный, испуганный, он поехал на то место и принялся фотографировать несчастную разбитую машину и разбросанные вокруг обломки коллекторов. В разных ракурсах. Пока не явились пожарные и не разобрали этот ужас. Что же, собственно, он хотел запечатлеть на дорогой фотопленке? Свои беды? Потерю отца? Воз на дороге, который никогда не доберется до цели?
Заботы, так и роятся в голове. Иные мысли заползают в мозги и сидят там, будто насекомые, упрямые, въедливые паразиты.
Мысль о бумажке в кармане была аккурат из таких. Он старался выбросить ее из головы, а она упорно возвращалась. Все время.
Вроде как волдырь во рту — язык все время лезет его потрогать. Толку никакого, а чертов язык так туда и лезет. Не может успокоиться.
Он опять достал бумажку с адресом. То, что на ней написано, отвергнуть нельзя. Эта бумажка таила секрет, которого он признать не желал.
Ну как, черт побери, можно перепутать Мальма-Скугсвег и Скугстибблевеген — это же просто уму непостижимо!
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПОДЛИННОЙ МОРАЛИ
Сесть Стигу никто не предложил, и он стоял прислонясь к косяку. Да так оно и лучше, ведь штаны у него насквозь пропылились после стольких часов в том малоуютном доме. Впрочем, здесь тоже не очень уютно; мягко говоря, все какое-то временное, устроенное на скорую руку. Но тут хотя бы есть родич из молодых, на кухне хнычут ребятишки, и Сейя гремит в мойке посудой.
— Многое рассказать трудновато, — сказал Аффе. — Первым делом хочу предупредить: я не люблю, когда меня называют Аффе. Меня только в детстве так звали. Мое имя — Альфред.
— Извини, пожалуйста, я ведь не знал.
— Ладно. Извиняю. А золотыми рыбками я только начал заниматься. Они у меня совсем недавно. Я, видишь ли, аккурат вышел из тюрьмы. Несколько месяцев назад. А кажется, будто вчера. Поэтому мне и неохота на улицу выходить. С удовольствием сижу дома, тихо-спокойно. И двери поэтому захлопываются. Женщины с детьми выходят на улицу.
— Черт побери, — сказал Стиг. — Тюрьма — это не фунт изюму.
— Еще бы. Надо думать, хорошего мало. Но случается.
— Так в тюрьму-то небось за пустяки не сажают?
Сейя стояла на пороге кухни, по-прежнему с малышом на руках.
— Зря вы затеяли этот разговор. Начнете расспрашивать, он только разозлится. Ему плохо делается от таких мыслей.
— Ничего подобного. Я с удовольствием поговорю об этом. Мне стыдиться нечего.
— Если не ошибаюсь, родня о тебе уже много лет слыхом не слыхала. Хотя и родни осталось маловато. Теперь, после смерти дяди Рагнара, я, должно быть, самый старший. Но мне казалось, ты жил в Юханнесхове?
— Жил. Когда-то.
— А еще ты вроде бы живописью занимался? Картины писал, маслом.
— Было дело, писал. Но с этим покончено.
— А картины куда подевались?
— Как насчет кофе? — крикнул Аффе в сторону кухни.
Щепка прикидывал, как бы продолжить разговор. Надо же, как странно все обернулось. Чудной нынче день, то и дело натыкаешься на всяких сумасбродов. И все они так или иначе связаны с прошлым.
— Не знаю, слыхал ты об этом или нет. Я еще в школе хорошо чертил и рисовал. Гораздо лучше других. Мог так срисовать старую латунную фляжку во всех переливах света, со всеми отблесками и прочим, что учительница рисования себя не помнила от восторга. Мог изобразить скомканную бумажку со всеми складками и тенями в нужных местах. Учителя чуть ли не побаивались меня. Вначале думали, будто я мухлюю. Но я и не думал никого обманывать.
Ну вот, учительница хотела, чтоб я пошел в Академию, на художника выучился, стало быть. Но ничего не получилось. Папаша решил, что я должен работать в мастерской; конечно, я бы вполне мог настоять на своем. Но в то время работы было невпроворот.
— Твой отец чинил культиваторы, газонокосилки и все такое, верно?
— Ага, и напрокат давал. Год-другой вкалывали не разгибая спины. Потом он скоропостижно скончался, но для меня было уже поздновато начинать учебу. Хотя живопись я не бросил. Даже продавал кое-что двум старым девам, которые держали антикварный магазин. А они продавали мою мазню своим обычным клиентам. Некоторое время спрос был, и неплохой. Писал я, понятно, не какой-нибудь там модерн. Не в стиле эпохи, как говорится. Модерн — это не по моей части. Но и базарной пачкотней мои картины тоже назвать нельзя. Для такого магазина они были в самый раз. Пейзажи и все такое. Большие, красивые норландские пейзажи.
— Это где было? В Юханнесхове?
— Нет, черт подери, в Рутебру. Уже после папашиной смерти. Я чинил старую мебель и для разнообразия писал картины.
— Мне, между прочим, пейзажи очень по душе.
— И вот в один прекрасный день приходят ко мне какие-то люди и спрашивают, не хочу ли я написать кое-что для них. На условиях комиссионного вознаграждения, так сказать. Им нужен лапландский пейзаж. Как у Хельмера Осслунда8. Но осслундовские картины к тому времени очень уж выросли в цене. Ладно, сел я на поезд, съездил в Стокгольм поглядеть на Осслунда. В Музее современного искусства. Замечательный художник. И не очень сложный. Ладно, говорю им, будет вам Осслунд, но взамен гоните двадцать тысяч. Причем десять тысяч вперед, на краски, холст и прочее. Н-да, здорово было. В Норланде мне бывать не доводилось, но к тому времени я успел написать столько северных пейзажей, что в точности знал, как там все выглядит. Синие тени на белом снегу. Заметь, тени всегда дополнительных цветов. И лиловые горные березы, что распускаются в мае. Ну, в общем, эти типы пришли снова и заплатили по уговору. И заказали еще несколько картин. Только не думай, будто я подписывался как Хельмер Осслунд. Что ты, мне и в голову не приходило. Я на такой обман не способен.
— Ясное дело. Но может, кто другой их так подписывал.
— Может. Я не знаю. Не вникал. Кстати говоря, во всякой картине, во всяком рисунке есть, пожалуй, толика обмана. Верно ведь, а? К примеру, ты рисуешь дерево. Все замечательно. Но ты ведь не создал дерево по-настоящему. Ты всего-навсего делаешь вид, будто создал его. Может, и само дерево просто розыгрыш, изображение чего-то еще? Почем мы знаем, что это не так?
— Сказать по правде, я про это никогда не думал. Н-да. Наверно, так оно и есть.
— И вот какой-то субъект воссоздает карликовую березу, которую Хельмер Осслунд создал еще в двадцатые годы, причем гораздо лучше, чем он. Пишет картину с картины, верно? Естественно, напрашивается вопрос, что уж такого скандального и дурного в том, чтобы написать плагиат с плагиата. Ведь один плагиат уже был. Это изначально обман и выдумка — так в чем же разница? Я могу нарисовать стул с натуры. Но создать его я, черт побери, не могу, правда? Хотя, наверно, куда бы лучше создавать стулья, а?
— За это платят похуже, так?
— Мне эти молодчики платили все больше и больше. Подозреваю, что они огромные бабки заколачивали на моих пейзажах. Но и мне кое-что отстегивали. Спрашивают, может, аванс увеличить, чтоб кооперативную квартиру купить, ну я и согласился, конечно… Переезжаю с женой и сынишкой в Упсалу. В эту вот квартиру, которую кистью заработал.
Как все ж таки насчет кофе? Ясно, не дадут. Ладно. Нет так нет.
Потом они приходят сызнова, интересуются, не напишу ли я что-нибудь в манере Карла Чюльберга9. Виды западного побережья, яркие краски, чуть смазанные. Ладно, говорю. Покажите мне, как пишет Чюльберг, а там видно будет. Опять несколько дней в музее провел. И Чюльберг этот оказался настоящей удачей. Я смог бросить все прочие мелкие заработки. Ну, там продажу страховых полисов и так далее. А фокус в том, что я лучше работал под Чюльберга, чем под Осслунда, и столько видов западного побережья написал, что в конце концов изучил его не хуже Лапландии. Хотя и там в жизни не бывал. А чувствовал себя так, будто впрямь все объездил. Чюльберг шел на ура, ну я и говорю этим типам, что мне, мол, теперь машина нужна. Ясный перец, будет тебе машина, отвечают, и не какая-нибудь барахляная колымага. Самый первый сорт обеспечим. И в один прекрасный день заявляются на «мерседесе» — машина почти что новая, с кожаными сиденьями, со стереосистемой и прочими прибамбасами. Сейя и мальчонка (в ту пору у нас был один ребенок), как ты понимаешь, были в восторге. А уж соседи просто локти кусали от зависти. По воскресеньям мы ездили по всей округе — в монастырь Скуклостер, в Квикксунд, да мало ли куда еще. Иной раз и до Кольбека добирались, до тамошнего постоялого двора.
По-моему, всерьез мы допекли соседей именно этой машиной. Во всяком случае, как раз в ту пору они начали жаловаться на запах скипидара. Сам я против скипидара ничего не имел. Мне вообще нравятся все химикалии, какие применяются в живописи, — и скипидар, и даммара, и олифа, и пчелиный воск. Но соседи знай талдычат, что от запаха скипидара у них аллергия разыгрывается. Мол, дети и старики от врача не вылезают. И вообще, в теперешних домах мастерские просто так устраивать нельзя. Отнюдь. Тут нужно особое разрешение властей.
— Ну в тюрьму-то тебя за живописную мастерскую на квартире не могли упечь, а?
— Погоди, и до кутузки речь дойдет! Я все по порядку рассказываю. А не через пятое на десятое. Раз начал, расскажу по порядку. Так вот, стал я примечать, что жильцы в доме здорово меня недолюбливают. Однажды утром смотрю, а на кузове моей новенькой машины здоровенная царапина красуется. На другое утро кто-то радиоантенну отломал. И что я делаю? Перехожу на акрил, ясное дело. Акрил почти вовсе не пахнет. Его водой разводят. Только акрил и масло, понятное дело, близко друг к другу не стояли. Само собой. С акрилом тонкости не добьешься. Правда, когда под Чюльберга пишешь, густыми, толстыми мазками, акрил вполне годится. Ну вот, значит, по милости этих окаянных соседей бросаю я скипидар и шурую акрилом. Он, по крайней мере, сохнет быстро. Стало быть, и работа скорей продвигается. Месяц-другой все идет тихо-мирно, и я уже подумываю, не махнуть ли в отпуск на Мальорку — я и на Мальорке тоже никогда не бывал, даже не писал ее ни разу, и очень было бы недурственно в апреле маленько отдохнуть. И тут звонит один из этих хмырей — звали их, кстати, Сикстен и Уффе, — злющий как черт. Это катастрофа! — кричит. Убить, мол, меня мало за такие номера. В чем дело-то? — спрашиваю. Какая еще катастрофа? Ты же писал акрилом, говорит Сикстен. А это, черт подери, катастрофа. Соседи жалуются на скипидар, объясняю я. Но Карл Чюльберг в жизни акрилом не писал! Ясный перец, не писал, отвечаю. В его время эти краски еще не изобрели. Да, но ведь они обнаружили, что это акрил! И теперь все дело накрылось. Так я же никогда и не утверждал, будто я Карл Чюльберг, говорю я.
Не придуривайся, Аффе, говорит этот так называемый благодетель. Ты отлично знаешь, о чем речь. Полиция, того гляди, расследование затеет! И нами уже интересуется. Уффе на допрос вызывали. Ну, так это его проблема, говорю я. Сам-то я Чюльбергом не подписывался.
Уж не воображаешь ли ты, будто нам очень нужна твоя дерьмовая любительская мазня? — говорит этот хмырь. За это нас под суд не отдадут, не рассчитывай.
Но, говорю я, раз ты продаешь ее как Чюльберга, вряд ли она совсем уж дерьмовая. Вот продать-то я аккурат и не могу, отвечает он. Сказал ведь, они обнаружили, что это всего-навсего акрил и полное дерьмо.
Да что ты понимаешь в искусстве?! — говорю я. Обман и есть обман. Хоть у Чюльберга, хоть у меня.
— Стало быть, — перебил Стиг и задумчиво поскреб затылок (волосы напрочь забиты пылью, а он и не заметил), — ты имеешь в виду, что загремел в кутузку за подделку произведений искусства.
— Отнюдь. Черт, в этом доме даже кофе нету. А ведь дядя в гости заглянул, и вообще.
— Из-за меня беспокоиться не стоит. Я же только хотел помочь твоей жене и детишкам войти в квартиру. Пора к работе вернуться. А то приятель, которому я пособляю, тревожиться начнет.
— За подделки нынче в тюрьму не сажают. Нет, дело в том, что эти хмыри вздумали забрать у меня машину. А я ни в какую. Моя машина, говорю, и все тут. Тогда они посылают сюда за машиной крутых парней. Здоровых таких бугаев, которых нынче нанимают выколачивать долги. Они даже не вскрывали машину и с зажиганием не химичили. Зацепили ее тросом и увезли. Только зря они так поступили. Машина — единственное, что у меня осталось от этих трех лет артистической деятельности. Я гордился ею. Она была настоящая, без обмана.
— И что же ты сделал?
— Поспрошал у торговцев подержанными автомобилями, и в конце концов один навел-таки меня на след. Откуда-то он знал, кому они продали мою машину. Ну я и отправился к этому деятелю — дом у него был в Эншеде, — гляжу, точно, мой «мерседес». Новые номера и все такое, а замок старый. Отпираю дверцу, сажусь за руль, прямо посреди гаражной дорожки, и даю задний ход, домой собираюсь. И тут этот хмырь заступает мне дорогу.
— Вон как.
— К сожалению, пришлось его толкануть багажником. Подпортил я ему здоровьишко, что да, то да.
— Ты прямо оборзел. Он-то чем виноват?
— Ничем. А на дороге стоял. Вот и охромел малость. А я угодил в тюрьму. За нанесение тяжких увечий.
— Ну ты даешь. Аккурат как Сталин или Гитлер какой. Давишь всех, кто на дороге у тебя стоит.
— Ты меня с ними не равняй. Сталин с Гитлером тут вовсе ни при чем. Я свои права защищал.
— Свои права?
Щепка, может, и продолжил бы разговор, но на него навалилась неимоверная усталость. И в груди как-то нехорошо покалывало. Сейчас ему хотелось только одного: потихоньку, не спеша вернуться к Торстену и попросить, чтобы тот отвез его домой. Может, просто переусердствовал, помогая Торстену на этой чудной стройке? Он пошел к двери, а по пути не удержался и заглянул на кухню. Сейя, жена Аффе, кормила мальчонку сухариками, размоченными в молоке. Малыш, видать, здорово проголодался, потому что ел с большим аппетитом.
Чудно, подумал Стиг, ну и аппетит бывает у маленьких ребятишек. И как быстро они усваивают правила жизни, продолжая тем не менее надеяться, что все будет хорошо.
По большому счету, так сказать.
РАБОТАТЬ, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ
В раннем детстве он усвоил христианскую заповедь, что отчаиваться грешно, но применима ли она сейчас — это большой вопрос. Торстен Бергман вконец пал духом и решил, что Софи К. не иначе как злобная старая ведьма, которая все время незримо торчала здесь, не давая ему уйти, заставляя продолжать эту бессмыслицу. Вся в черном, с ног до головы, а глаза серые-серые. Серые, как вода в глиняном карьере возле фабрики «Экебю» ноябрьским днем в пятидесятые годы. (Однажды какой-то мужчина утопился в таком вот карьере, и он до сих пор помнил, каким неестественно серым и вялым казалось мертвое тело, когда его вытащили, — блестящее от глиняной жижи в ковшовом подъемнике.)
Бесспорно, в человеке много чего есть. К примеру, способность попросту не видеть то, что видеть не хочется. Встречаешь кого-нибудь на улице и в упор не узнаешь. Потому что не желаешь видеть. Лицо будит воспоминания, к которым неохота возвращаться. Или они не вяжутся с тем, чего ты желаешь в эту минуту. В стремительно густеющих вечерних сумерках Торстен Бергман преуспел лишь в одном. Умудрился полностью вытеснить в подсознание мысль, что целый день нелепо вкалывал не по тому адресу. Она затаилась там и наполняла руки и голову какой-то предательской энергией, принуждала работать с механическим упорством, поминутно вполголоса чертыхаться и сосредоточенно смотреть на стену. Если он и думал о чем-то еще, то лишь о двух побывавших здесь малышах. Они живо напомнили о счастье, которое он наверняка некогда испытывал, а после почти совершенно забыл. Красная полосочка, вплетенная в узловатый грязно-серый половик будней.
Он давно уже успел растерять остатки здравого смысла и равновесия. Его не оставляло ощущение бесприютности и полнейшей ненужности, пожалуй что, только эта нелепая работа и соединяет его с окружающим миром. Он обвел помещение воспаленными, саднящими глазами. (Это все пыль, глаза от нее болели и слезились, точно он плакал.) Жалкие квадратные метры отлично уложенной плитки — единственное, что у него было. Но принадлежало не ему.
По всей видимости, настал вечер; на стене не хватало по меньшей мере еще одного квадратного метра, башмаки и носки у него промокли, и раствор был уже не такой хороший и мазкий, как вначале. А вода, будь она неладна, по-прежнему плескалась на полу. Сколько он ни подступал к этим трубам, пытаясь потуже их затянуть и перекрыть воду, все напрасно. Они будто жили собственной жизнью.
Как ни прикидывай, а эту чертову стенку ему нипочем не закончить. Не говоря уж о том, что и пол теперь вообще-то придется перекладывать.
Работенки не меньше чем дня на три, на четыре. Но в этом доме никакого завтра не будет, потому что дом не тот. Интересно, что говорили там, в другом месте, в правильном доме, куда он так и не добрался. Наверно, ничего особо и не говорили. Вызвонили кого-нибудь еще да чертыхнулись, пожалев о потерянном времени.
И сколько же он тут пробыл? Вроде бы не один день, а много. Часам и то счет потерял. Голод, утолить который совершенно нечем, вгрызался в желудок.
И вот когда Торстен Бергман сидел, будто Иов на куче пепла и камней, стукнула дверь, и вошел Щепка. Бледноватый маленько, сразу сел на пол, привалился спиной к дверному косяку. Словно без разницы ему, намокнет он или нет.
— Ну? — спросил Торстен.
— Да чудно все как-то.
— Кончилось хотя бы благополучно?
— В квартиру они вошли.
— Ну и как там?
— Чудной народ. Не понимаю я их.
— В каком смысле?
— А вот в каком: не понимаю я, как нынче люди живут. По крайней мере, чем они занимаются.
И Щепка рассказал всю эту историю.
Торстен, понятно, заметил, что он оборвал ее посередине. Ясное дело, есть там что-то, о чем он говорить не хочет. Но Торстен слишком устал, чтобы поднажать на него. Вдобавок и у него тоже есть секрет, который он нипочем не выдаст. Так что секреты эти как бы взаимно уничтожаются.
— Он к тому же малюет.
— Ремонт, что ли, дома делает?
— Да нет. Картины пишет. Но считает, что ничего такого в них нету. Дескать, живопись — это сплошной обман.
— Так-так, — сказал Торстен. — Может, он и прав.
— Эта вот стена, которую мы нынче выложили, по крайней мере, настоящая. Стоит себе и стоит.
— Надеюсь, — отозвался Торстен, без всякой уверенности. — Хотя бы весело было, пока работали. И спасибо тебе за помощь. Надеюсь, ты помогал мне по своей охоте, а?
— Человек всегда сам выбирает, кому помочь. Когда до дела доходит.
— Н-да. Пожалуй, пора домой.
— Согласен. Ты собирайся, а я посижу немножко.
— Плохо себя чувствуешь?
— Нет. В общем-то нет. Устал маленько. И в груди побаливает. Прилягу, пожалуй, на минуточку. Куртку под голову подложу, глядишь, и полегчает скоро.
— Я отвезу тебя домой. Без возражений. До Моргонговы ехать всего ничего. Мы быстро. Человек всегда сам выбирает, кому помочь. Твои собственные слова.
— Так ведь я тебе говорил, что живу теперь не в Моргонгове, а здесь, неподалеку.
Оба замолчали.
Торстен толком не знал, за что хвататься. И в этот миг в дверь энергично постучали, даже не постучали, а замолотили. Невесть почему мир словно бы опять пробудился и требовал впустить его внутрь.
— Кто это, черт побери? На часах-то уж полдевятого!
— Небось эта, Софи, ходила куда-то, а теперь вернулась, — сказал Торстен.
И на миг он даже сам в это поверил.