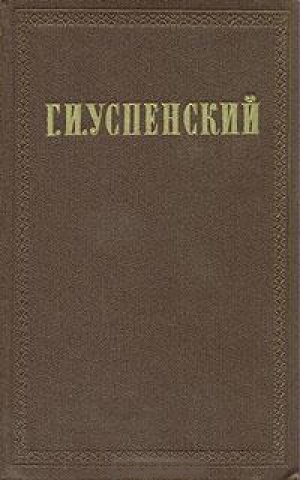
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМЕРТ
В марте прошлого года умер в Москве, в полицейской больнице, один из самых крупных, талантливых и умелых работников последнего литературного периода — Н. А. Демерт. Он был взят на улице в припадке полного умственного расстройства, в том состоянии, когда человек не знает, где он, что с "им, куда он и откуда идет.
Что же довело эту сильную, крепкую, здоровую натуру до такого ужасного состояния, что размягчило этот крепкий, сильный мозг? Говорят: "он пил", но мы, лично хорошо знавшие Н. А., смеем утвердительно сказать, что он пил не в силу "порока", который бы был органически врожденным, — он "до смерти работает, — сказал Некрасов про русского мужика, — до полусмерти пьет". Отделять эти два дела, по нашему мнению, нельзя не только в характеристике поведения русского мужика, но и вообще в характеристике всякого русского человека, и тем более человека, который знает, что такое настоящая работа, что такое работа до смерти. Демерт действительно пил, но работал он трезвый, а вспомнить — как много он работал, сколько дней в течение месяца не отходил он от стола! Почему три-четыре дня, остававшиеся ему свободными в течение месяца работы, он отдавал "зелену вину"? Уж не в работе ли, не в ее ли свойстве, не в ее ли размерах и задачах корень гибели Демерта? Что же он делал?
Заимствуем из некролога Н. А. Демерта, напечатанного в 12 No "Отеч з " прошлого года г-ном К., некоторые биографические подробности, которые, мы надеемся, выяснят нам кое-что в отличительных свойствах Демерта как работника. Демерт родился в 1835 году, у него было много братьев, из которых он был самым младшим. "Учился он сначала в Казанской гимназии, потом в Казанском университете, где окончил курс кандидатом по юридическому факультету. Это было примерно в 1858 году. По выходе из университета он несколько лет был домашним учителем у помещика Д.". "По освобождения крестьян — он был мировым посредником первой их серии, причем имел возможность близко узнать тяготы и нужды крестьянского быта, а с открытия земских учреждений стал членом Чистопольского земства, а потом и председателем земской управы. Но долгое пребывание в провинции было ему не по нутру, он стремился в столицы и сначала уехал в Москву, а потом, в 1865 году, появился и в Петербурге". Затем, с 1865 года, начинается его литературная деятельность. Из приведенного отрывка мы просим читателя обратить внимание на цифры, то есть на годы. Что такое было в России в пятидесятых и начале шестидесятых годов, и как то, что было, должно было действовать на бесспорно даровитую натуру Демерта? Освобождение крестьян, новая жизнь, новая эпоха русской жизни висела в воздухе, ждалась миллионами народа, измученного крепостным правом, ждавшего дня освобождения как пришествия мессии. Много ли в эти торжественные минуты было людей, которые, не выжив из ума, нашли бы в себе силы любоваться прошлым? Все, что было на Руси совестливое, — дышало полной грудью широким простором будущего, предвкушением "совершенно новых" условий жизни, все раскаивалось в этом прошлом, а то, что не имело еще времени прегрешить им прямо, на веки веков воспитывалось и закалялось в задачах будущего. Работать для этого бедного народа, служить ему
а если нет меча, то "и умом" — вот была нянькина сказка, колыбельная песня всего, что носило в груди не кирпич, а сердце. А Демерт был "лют" сердцем от природы. Демерт был умен, энергичен, смел, совестлив, честен. У Демерта была "искра божия", и эта искра божия могла в то время освещать только трудную дорогу будущего, другой дороги у Демерта не было.
В биографическом очерке г. К. сказано, что тотчас после окончания университетского курса Демерт некоторое время жил у помещика Д., а потом был мировым посредником. Эти два обстоятельства как нельзя быть лучше и как нельзя быть прочнее определили ему предстоящий труд и как нельзя лучше доказали ему все глубокое значение этого труда. Говорим это на основании личного знакомства с Н. А. и по рассказам этого времени. Помещик Д. не был обыкновенный русский крепостнический кадык.[3] Это был один из привилегированнейших, из крупнейших и богатейших представителей кадыкового направления. Демерт, живя в его доме два года, мог до отвращения наглядеться на всевозможные растлевающие явления, выработанные крепостным правом, на самые лучшие, махровые цветы этого права; образчики прошлого, сконцентрированные в этом доме самым образцовым образом, как нельзя более наглядно и осязательно убедили Демерта в несостоятельности этого прошлого. В доказательство того, что этот дом был "образцовым" продуктом крепостного права, что он пользовался этим правом по всей широте, служил тот факт, что за несколько дней до освобождения в имении г. Д-ва вспыхнул бунт против владельца, — чего, если помнит читатель, почти не было во всей России. Демерт видел все это, видел, как гниль и несостоятельность "прошлого" обнаружились самым поразительным образом и как этот великолепный махровый цвет, этот дорого стоящий плод столетних крепостных трудов, как этот богатый, блестящий, шумный и жирный дом — вдруг, в один день, распался, развалился, исчез с лица земли, как только из— Похоронив в лице этого дома скверное прошлое крепостного права, Демерт, как видели из биографических данных, сообщенных г. К-, почти тотчас же, в качестве мирового посредника, должен был воочию увидеть и собственными руками ощупать язвы крепостного бесправия. Из роскошных палат, "где ни в чем не знали нужды" и полагали задачу жизни в этом нежелании знать что бы то ни было (знать не хочу!), Демерт спустился в разоренные, которые испокон века во всем знали одну только нужду и жили в сознании полного бесправия, полной подчиненности людей, ничего не хотевших знать. Предоставляем читателю судить — какое впечатление должны были произвести на Демерта эти бесправные люди, забитые, голодные, невежественные, бедные и беспомощные, если, с другой стороны, он уже хорошо, как нельзя лучше, знал, что и результаты этих страданий также бесплодны и отвратительны… Русская литература почти не оставила ни в романе, ни в драме, ни в серьезном исследовании ничего, что бы касалось тогдашнего положения народа. Жизнь крепостного народа всегда была сокрыта для русского общества, быть может потому, что и интеллигенция-то русская сплошь состояла из душевладельцев. Не лишним здесь считаю указать на то любопытное обстоятельство, что именно этот-то период жизни русского народа, темный, неведомый в той мере, как бы следовало его знать, так как это был самый безжалостный, самый лживый и самый бессовестный период русской жизни, — этот-то период наилучше всего разработан в иностранных литературах. В одной, например, французской литературе существует бесчисленное множество романов, посвященных этому жестокому времени. Правда, романы эти лишены большею частью литературных достоинств, насыщены трафаретными эффектами маленькой французской прессы, — но они несомненно взяты из жизни, из тогдашней русской действительности. Гувернантки, гувернеры, домашние секретари, управляющие, в таком обилии выписывавшиеся в наши старые помещичьи дома, увозя с собою на родину наши русские деньги (должно, впрочем, не все из них сумели увезти), увозили также и ужас к положению народа, к условиям его жизни, ужас к кнуту, к произволу и тому подобным атрибутам доброго старого времени. Их воспоминания, по всей вероятности, отделывали в форме романа местные парижские трафаретчики, знавшие, каким ребром поставить факты, чтобы они понравились бы читателю-французу. Но, как бы ни были исключительны факты русской жизни в этой громадной уличной литературе о боярах и невольниках, в них высказано много, так много незнакомой нашей литературе правды о положении крепостного человека, что утвердившееся, хотя бы в одной французской толпе, представление о боярах и о России, как о чем-то ужасном, — оказывается вполне законным и понятным.
Да простит мне читатель это отступление. Я хотел сказать им, что все, что родилось вне народа, не имело и не могло иметь о его действительном положении никакого понятия. Знали, что мужик беден и крепостной, знали, что это негуманно, что бывают злодеи управляющие и т. д., но знать действительное положение, знать, всю подноготную народной жизни, все результаты векового бесправия — никто не знал, не видал… Будучи мировым посредником, Демерт стал лицом к лицу с этими плодами бесправия. Не из книг он знал, что народу нужно помочь, как утопающему, а из личного опыта, из страданий по нем собственного сердца, которое само время уже отдало на служение добру.
Вот какова была школа Демерта. Еще раз повторим цифры. Юность и учение в гимназии и университете, проходившие в ожидании второго пришествия, радостного дня освобождения, светлого будущего. Человек воспитывался в предстоящем служении стране, народу, которые призваны к новой жизни. Два года в образцовой помещичьей семье навеки укладывают в могилу всякую самую ничтожную тень связи с прошлым, а несколько лет в крестьянской среде — ясно определяют трудную дорогу будущего.
Демерт делается общественным деятелем (председателем Чистопольской земской управы), твердо и ясно зная, что ему надо делать, с твердым убеждением, что нет другого более насущного, более серьезного дела. "Продолжительное пребывание в провинции, — сказано в некрологической заметке г. К-, — было ему не по нутру. Его тянуло в столицы". Нам кажется, что это выражение — не совсем точное определение мотива, по которому Демерт оставил провинцию. Мы основываем это мнение на том факте, что, живя в С.-Петербурге, занимаясь литературой, Демерт постоянно угождал той же самой практической деятельности земского человека, которой он занимался в Чистополе. Нет, не потому оставил он провинцию, что она ему не по нутру, а потому, что плоды недавнего прошлого не вымерзли тотчас по появлении новых учреждений, и люди, у которых две трети жизни было в прошлом, искажали новые учреждения и дела. Демерт был один моложе, энергичней и убежденней всех своих товарищей, и если читатель припомнит, как жизнь воспитала прочность убеждений Демерта, то, полагаем, поймет, что он, весь отдавшийся делу, был не по нутру почившему уже в старых порядках большинству, — а Демерту большинство это могло представляться только тормозом, могло только терзать его. Скромно, терпеливо, трудолюбиво работает он в поте лица, но большинство одолело и вытеснило его. Пришлось уходить, выбирать иное поприще для работы в том же направлении, так как никакого другого направления Демерт не мог себе и представить.
Для сего дела, разумеется, не было другого исхода, кроме печатного слова. И вот он появляется в Москве. Совершенно не знакомый с литературным кругом, он долго мыкается по "Петербургским ведомостям" (Корша), по "Развлечениям". Пишет и роман и комедию, сообразуясь с требованиями гг. антрепренеров, но не изменяя себе. Не говоря о том, насколько при таких урывочных и на литературный манер урезанных работах мог высказаться Демерт, мы просим читателей припомнить — каково вообще в половине шестидесятых годов было положение журналистики. Лучшие журналы не выходили совершенно, а место их заступила целая свора неведомых имен, появившихся в качестве издателей газет и журналов и имевших одну цель-ловить в мутной воде не рыбу, а деньги. Положение и опытного литератора в это время было трудно, а положение Демерта еще труднее. Отвращение к бездельному направлению этой темной прессы было в Демерте так велико, что он вновь предпочел отправиться на урок к какому-то помещику и бросил писать. В 1868 году литература начинала оживать; образуется много новых, нешарлатанских, журналов ("Неделя", "Сов обозрение") и преобразовываются "От з". Друзья Демерта вызвали его в Петербург, и осенью 1868 года он сделался хроникером внутренней русской жизни в "От з", которым и оставался до последних дней здорового состояния. Кроме "От з", он работал в "Искре" и "Биржевых ведомостях" в год приобретения их г. Полетикой. Везде он вел внутреннюю хронику.
Мы пришли теперь к ответу на вопрос, поставленный в начале нашей заметки: каков-то был труд Демерта, каков-то был смысл труда — его сущности, и не от этой ли сущности труда, как будто случайно, каким-то роковым образом, погиб этот человек? Надеемся — позволительно задавать себе вопрос о сущности труда общественного и литературного работника, если при определении смертности работающих на заводе, на фабрике, в руднике медицинская статистика обращает на это свойство той или другой работы особенное внимание. Пора, нам, кажется, перестать валить эти бесчисленные, неожиданные случаи смерти русских общественных работников на нечто неизвестное, роковое, точно и в самом деле висит над нами какая-то неведомая сила, подкарауливающая русских хороших людей и убивающая их в самый разгар работы. Какая такая это сила? Что это такое? Работающие на спичечной фабрике умирают от вдыхания паров фосфора и серы. Сапожник, постоянно угнетающий грудь каблуком сапога, умирает от болезни груди, от чахотки. Отчего ж умирает общественный работник, каков был Демерт, какие пары душат его, что размягчает его мозг?
Работа Демерта была обозрение и группировка явлений внутренней русской жизни. Эту работу и делали и делают (особливо теперь, когда явления внутренней жизни почти скрылись от общественного внимания благодаря политическим событиям) помощию ножниц и баночки с вишневым клеем ценою в гривенник. Вырезывай курьезы из газет, наклеивай на бумагу, связывай эти лоскутья иронической улыбкой высокопросвещенного петербуржца над провинциальными захолустьями — и посылай в типографию. Работа нехитрая и, особливо теперь, — очень выгодная.
Работа Демерта была не такова. И сердцем и умом он был отдан ей, и сердце и ум, как видели читатели, были жизненным опытом воспитаны у него в глубокой необходимости исцелять наши внутренние язвы, в необходимости отдать себя этому делу всецело, и вот почему "внутренние обозрения" Демерта не были подклейкой, а серьезной ум и сердце поглощающей работой, жизненным, всякому человеку нужным делом, без которого человек — вешалка для собственного сюртука. Каково же дело, свойство дела, которому Демерт отдавал и сердце и ум? Без малейшего колебания мы позволим себе сказать, что свойства той работы, которую работал Демерт, — убийственней всякой серы, от которой мрут на фабриках, всякой сапожной колодки, продавливающей явления внутренней жизни; что это такое? Бедность, жадность, неразвитость, хищничество, доброта, пожираемая, уничтожаемая случаем, ум, погибающий от бедности, от одиночества, беспомощности, заброшенности, а с другой стороны — глупость, жадность, тупоумие, умышленная тонкая злость, хитрость и пронырливость, из-за медного гроша не жалеющая губить сотни людей, и т. д., и т. д. Просим читателей самим припомнить и представить себе все, что выработало в русском человеке недавнее прошлое, все, что широким потоком хлынуло и проточило все новые явления, учреждения, все, что опутало юные, новые молодые силы. Было бы трудно и долго рисовать картину русской жизни, подлинную, точную, какою именно и знал ее Демерт, но в общих чертах мы можем сказать, что мертвые души не ожили, и не оживут еще долго, и еще долго будут заражать нарождающиеся русские поколения. Стоять поэтому над тем, что хлынуло после мертвых душ, стоять годы, каждый божий день, стоять над ними с широкими, добрыми и энергическими требованиями ума и сердца — это, смеем выговорить, поистине каторжная жизнь… "Отрадные явления", на которые, без сомнения, укажут мне, как алмазы, как драгоценные камни носились перед ним, как и из клоак вместе с грязью вываливаются потерянные кем-нибудь настоящие драгоценные камни… Но стоять над клоакой, дышать воздухом этого потока нечистот, не мочь отойти от него — это трудное и мучительное дело. А Демерт не мог отойти, его не пускало все его развитие, вся его натура. Он стоял над этим, потоком, рылся в нем своими Руками, ловил в нем, что ему нужно, искал чего-то, а поток шел все шире, все вонючей…
Мы бы могли привести многое множество доказательств справедливости этих слов из настоящего и прошлого, но это затянет статью. Тот, кто понимает нас, припомнит сам. Мы просим обратить внимание на следующее обстоятельство. Демерт работал одновременно в "Искре", в "Отечественных записках" и "Биржевых ведомостях"; из всех редакций ему каждый день доставлялись десятки корреспонденции, по свойству русского человека браться за перо, когда грянет гром, когда ему худо, переполненных и мелкими и крупными изображениями горькой, нескладной и постоянно как бы безнадежной действительности русской жизни… С увеличением известности присылка этого рода вестей увеличивалась в громадных размерах, но тон их был один и тот же, дерущий вас по коже. Кроме того, так как он не мог отойти от дела, он тщательно следил за всем, что печатается о внутренней жизни, за столичными, провинциальными газетами, — и вот с каждым днем и ум его и сердце все тесней и тесней обкладывали, обступали эти подлинные материалы подлинной русской действительности. Далеко не все, что он знал об этой действительности, он печатал, но не думать обо всем, не чувствовать все, именно все, чем дышала на него эта масса материала, он не мог… И вот с каждым днем, с каждым годом все больше и больше, все выше и выше росли вокруг него эти стоги полугнилого, удушливо пахнувшего сена, накошенного в широких и пустынных полях русской жизни… Удушливый запах их, запах, которым дышал он много лет изо дня в день, дурно действовал и на мозг и на сердце. От него кружилась голова, слабли руки, слабло сердце, но отбиться от него не было возможности. Он преследовал везде: на улице, в гостях, в театре; запах обезнадеженной действительности всосался во все поры тела, мозга, сердца… А стога росли выше и выше… и конца им не видно было. Что тут делать, что тут предпринять? Какие нужны силы, чтобы все это одолеть, разметать, очистить?.. Минуты отчаяния все чаще и чаще находили на Демерта, и зелено вино было отдыхом, и не пение, а рев, крик человека, которого душит кошмар, вырывался из груди его… А стога все росли… "М г Ник Алекс, сообщаю вам еще гнусную проделку…"; "М. г. Н. А., позвольте просить Вас обратить внимание на беззащитное положение сельского учителя села N, который вследствие происков…" — и так далее и так далее, без конца, без краю… Чтобы переносить это с такой закваской, какая была в сердце и уме Демерта, надо было иметь железное здоровье, железное сердце, каменный мозг, но мозг у него был не каменный, и вот почему он отказался служить… Что ж это, — скажет читатель: — опять гражданская скорбь?
Как ни неприятна ирония читателя, задающего этот вопрос, но я не могу сказать ничего другого, кроме: да, это скорбь, и не скорбь даже, а ужас общественного деятеля перед ужаснейшею действительностью, требующею таких сил, каких нет ни в себе, ни в других, и разрывающей измученный мозг и сердце. Поэтому — слава, честь и вечная память Демерту, погибшему именно от этого недуга!
КОМУ ЖИТЬ НА РУСИ ХОРОШО
В 662 No "Нового времени" г. Незнакомец, рассказывая о своем знакомстве с покойным Н. А. Некрасовым, говорит между прочим о том, что Н. А. возлагал большие надежды на свою поэму "Кому на Руси жить хорошо?" и сожалел, что болезнь не дает ему окончить этого труда, сожалел потому, что именно теперь, в дни недуга, весь ход поэмы выяснился ему как нельзя лучше и шире. "Начиная (поэму), — говорил Н. А., — я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала…"
Об этой поэме раза два приходилось беседовать с Н. А. и пишущему эти строки. Действительно, Н. А. много думал над этим произведением, надеясь создать в нем "народную книгу", то есть книгу полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был войти весь опыт, данный Н. А. изучением народа, все сведения о нем, накопленные, по собственным словам Н. А., "по словечку" в течение двадцати лет.
Однажды я спросил его:
— А каков будет конец? Кому на Руси жить хорошо?
— А вы как думаете? Н. А. улыбался и ждал.
Эта улыбка дала мне понять, что у Н. А. есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев.
— Этому? — спросил я.
— Ну вот! Какое там счастье!
И Н. А. немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мной счастливца.
— Так кому же? — переспросил я.
И тогда Н. А., вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой:
— Пья-но-му!
Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову, и т. д. Деревни эти "смежны", стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, "подпоясанного лычком", и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо.
Это окончание поэмы в литературных кругах известно, по всей вероятности, не мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей..
ОПЯТЬ О НЕКРАСОВЕ!
Приношу тысячу извинений перед читателями Обзора и его почтенной редакцией в том, что почти целый месяц, по моей вине, они не имели ни одного литературного обозрения. Новое, непривычное для меня дело — вот мое оправдание. Отныне постараюсь аккуратно каждую неделю сообщать обо всем мало-мальски заслуживающем какого-нибудь внимания в литературном отношении и по возможности буду стараться, чтобы читатели Обзора были знакомы с содержанием столичных периодических изданий прежде, нежели книжки этих изданий дойдут до провинции.
На нынешний раз — запоздалое письмо мое, к крайнему моему сожалению, такх<е будет посвящено кой-чему уже переставшему быть новостью: скоро месяц, как Некрасов лежит в могиле… скоро месяц, как появился новый литературный орган. Об нем уже много говорили и много писали, и читатель, ищущий в газете новостей и разнообразия, — наверное желает, чтобы гг. газетчики перестали толковать об этом старье. Но пусть мое первое письмо подвергается каким угодно порицаниям, я не могу не сказать кой-чего об этом "старом", во-первых, потому, что вообще запоздал с моими обозрениями, во-вторых, потому, что о покойном Некрасове я намерен говорить не с недовольным читателем, а с автором статьи об этом поэте, напечатанной вОбзоре, и, в-третьих, потому, что новый, толстый литературный орган, с новыми литературными силами, появляющийся в свет как раз на другой день похорон старой литературной силы, так много лет дававшей журналистике известный тон, — заслуживает того, чтобы человек, интересующийся русской литературой, внимательно отнесся к новым деятелям, тщательно определив тот новый тон, новую ноту, который или которую они вносят в старый журнальный хор…
Постараюсь высказать о том и о другом — то, что думаю, по возможности кратко. О Некрасове я хочу сказать два слова, потому что статья, напечатанная в Обзоре, несмотря на действительную полноту сведений, сообщаемых о покойном поэте, в конце концов оставляет впечатление о личности Некрасова — "не хорошее", к памяти о нем примешивается нечто тяжелое, темное и главное — невыясненное. Я нахожу это не совсем правильным. Здесь кстати сказать, что в ту минуту, когда пишутся эти строки, в кругу знатоков и оценщиков литературных достоинств, раздавателей лавровых венков литературным дарованиям, словом, в кругу людей, выдающих литературным деятелям права на вход не в храм славы (такого нет у нас), а просто… в хрестоматию для средних учебных заведений, — идут оживленные толки о том, куда в этом храме — хрестоматии, деть покойного поэта, куда, на какую полку поставить его, рядом ли с Пушкиным и Лермонтовым, промежду их, или выше, или ниже… Они меряют его неумолимою меркою литературных приемщиков и в большинстве случаев находят, что Некрасов не подходит под мерку, ниже ростом, притом этот рост определяют таким выражением: "Там (у Пушкина) море звуков, — а у Некрасова — одна нота, которую он и тянул всю жизнь". Какое однообразие, скажет доверчивый читатель, тянуть одну ноту, и притом "всю жизнь"\ Тут всё на вершки, как у настоящих рекрутских приемщиков, один вершок, четыре вершка — одна нота, три ноты, море звуков… Так ли это? У кого было больше нот и звуков, у Овидия ли, положим, или у плохо грамотного из проповедников? Где была отделка, блеск, изящество формы, глубина знания человеческой натуры — у римских ли писателей, современных однотонным проповедникам? Разумеется, у первых, и если бы г. Белов, ныне оценивающий литературные достоинства Некрасова, стал бы сравнивать классических писателей с людьми идеи, то последние непременно оказались бы и узкими, однообразными, неумелыми, пишущими деревянным языком, с самыми слабыми понятиями даже о грамотности, а у языческих писателей оказалось бы все, то есть именно то же самое "море звуков". G этой точки зрения — разнообразия, шири и отделки — даже Фет, даже Минаев, не говоря о Полонском, об А. Толстом, в тысячу раз выше всех таких проповедников, всю жизнь тянувших одну ноту…
Но здесь читатель, несомненно, остановит меня негодующим вопросом.
— Как! — в гневе скажет он. — Вы… вы приравниваете Некрасова, который, который, который и т. д., к служителям идей?
Нет, нет! — тороплюсь я успокоить взволнованного читателя. Сохрани бог! Я только желал бы, чтобы господа ценители и судьи обратили внимание на качество ноты, я соглашаюсь с ними вполне, что она однообразна, я только прошу определить, какая именно это нота и когда, при каких условиях гудела она? Останавливаясь только на вопросе о качестве некрасовской ноты, я спрашиваю — всякого беспристрастного человека, — не была ли эта нота явлением сильным и в высшей степени самостоятельным, если принять во внимание, что она звучала вовсе не так, как гремела (море звуков!) оратория обострявшегося крепостничества, взяточничества, пьяная оргия откупов. Говорят, что он (Некрасов) весь был выработан влиянием во сто раз более его сильных литературных деятелей сороковых годов, — не споря с этим (так как и эти сильные деятели также, наверное, обязаны в развитии своей силы чему-нибудь или кому-нибудь), я спрашиваю: у кого из них была такая смелость, чтобы не побояться громко и во всеуслышание заговорить о бедствующем народе? А в этом именно и состояла нота Некрасова, и я не могу представить себе, что было бы с развитием следующего поколения, если бы из вышеупомянутой оратории именно эта нота, и в том тоне, какой придал ей Некрасов, — была исключена или отсутствовала вовсе. Представьте себе, что у нас нет и не было Некрасова; у нас есть Записки охотника И. С. Тургенева, Ранние рассказы Л. Толстого, Записки Аксакова, Бедные люди Достоевского, Мертвые души Гоголя, — словом, у нас есть все самое образцовое в художественном отношении, — и нет Некрасова, нет его мужиков, баб, колодников, бурлаков и проч. Представьте себе это, — и вы, я думаю, согласитесь, что, как ни замечательны в художественном отношении вышепоименованные произведения, но едва ли они были бы в состоянии так определенно направить ум и сердце нарождавшегося поколения, как это сделал грубый, неуклюжий, однотонный стих Некрасова. Ввиду этого я никак не могу согласиться с г. сотрудником Обзора, перу которого принадлежит статья о Некрасове, что известностью, популярностью своею он обязан не литературной, а журнальной деятельности. Нет! Если бы "в годину горя" русское общество оставалось с вышеупомянутыми дарованиями, а место Некрасова как поэта было занято существующими до сих пор его сверстниками со включением Лихача-Кудрявича Кольцова, — даже самая мысль, понятие о том, что такое означает хотя бы слово гражданин, — долго бы, очень долго не вышло в русское общество, то есть в толпу, в массу, за которую — ратовали и проповедники.
На это я скажу следующее.
28 декабря, в 8 часов вечера, я, нижеподписавшийся, вместе с толпою других, знавших Некрасова при жизни, — был в его квартире на панихиде. Комната была набита битком — и кого-кого только здесь не было!.. Литераторы, охотники и игроки — вот категории, на которые можно было подразделить всю массу посетителей, — не говоря о толпе "просто" почитателей, о массе молодых людей, мужчин и женщин… Некрасов, исхудалый до невероятности, лежал мертвый, бездыханный, закинув почти навзничь измученное лицо свое, на котором как бы покоилось выражение "другого мира", чего-то совсем нездешнего, чужого… Он точно был объят чем-то до того "иным", какой-то такой, никому непостижимой, да и ему непонятной, но поглощавшей его заботой, — что, казалось, именно только потому и не мог слышать того, что кругом его делалось… ведь трудно, по крайней мере на первых порах, убедиться, что вот этот труп, ваш близкий, знакомый, родня… не слышит, не спит… Не умев отделаться от этого неосновательного впечатления, я невольно спрашивал (не знаю, не то себя, не то Некрасова), неужели он не слышит толков и пересудов, которые идут вокруг него?.. А толки шли: и к какой бы из названных трех групп — литераторов, охотников и игроков — вы ни подошли, в каждой группе говорят о каком-то другом Некрасове, вовсе не таком, о каком говорят в других. В одной группе он литератор, поэт печали, наша изболевшая общественная совесть, в другой он богач, тысячник, человек, живущий на широкую ногу; тут идут расспросы о его состоянии, высчитывают выигрыши, проигрыши; в третьей группе он раб страстей, человек удачи, ловкости, наживы и т. д.
Но достаточно было взглянуть на всего Некрасова, останки которого, отданные смерти, лежали перед вами, достаточно было соединить воедино все составные части, на которые делили его суждения кружков, чтобы вместо этих, дурных и хороших, кусков из Некрасова вышла большая, замечательная фигура, так как даже и куски-то Некрасова по объему очень велики…
Я на все бесполезно дерзал, –
сказал он в одном из своих стихотворений, — и с точки зрения этого "дерзания" Некрасов куда выше своих погодков, далеко не на все и далеко не дерзавших, хотя и одержимых теми же самыми нравственными несовершенствами, как и Некрасов. Не дурные страстишки, а "страсти", быть может также иной раз не особенно доброкачественные, "обуревали" его. Он "не приволакивался", "не улепетывал", как улепетывали "холоднокровные" гг. Рудины всех сортов при роковых результатах своих подзадоривающих на страсть глагольствований, — а отдавался страсти, не помня себя, не умея сдержать себя, несся в бездну ее и потом рыдал от жгучей боли… "Он по целым ночам, — говорили в кругу игроков, — высиживал за картами, не вставая, не разгибаясь…" Опять-таки тут видна сила страсти, не похожая на желание губить время за зеленым столом и уйти в одиннадцатом часу домой с приятным сознанием выигрыша… Словом, что ни тронешь в Некрасове — везде сила и страсть, силы добродетелей, пороков, ума, сердца — все в больших, сильных размерах — и все вместе — один Некрасов… Правда, вокруг Некрасова носятся какие-то, как говорит он сам в одном из последних стихотворений, "дорогие тени" людей, портреты которых на него Укоризненно смотрят со стен.
Но опять-таки: на кого не только из сверстников Некрасова, но и на кого из нас с вами, читатель, эти тени не смотрят укоризненно? "Некрасов мог… Он был богат", — говорят обыкновенно в объяснение, своего права порицать некрасовскую апатию. Но богат и Тургенев, богат Толстой, богат Краевский; богат, и очень, Благосветлов (дом); вся литература сию минуту в общей сложности очень богата. Гораздо богаче и Некрасова и даже Суворина, у которого, говорят, что-то несметное число подписчиков… А между тем тени "живых людей" продолжают оставаться тенями… где и в чем беда? Все мы, — за исключением, конечно, живых теней, — не похожи ли на бедного Некрасова, с тою только разницей, что находим в себе смелость сваливать вину на другого… И на кого же? — на Некрасова, который изболел не втихомолку, не в уголку, а на виду всей русской земли, теми самыми болями, какими больны и мы все до единого… Нет, нельзя, невозможно вспоминать на могиле Некрасова о том, что он "разъезжал в каретах", играл в карты… "выиграл миллион" [4] и проч. Невозможно потому, что Некрасов — наиискреннейший выразитель сущности русской души — страстной, жаждущей жизни, испорченной тысячами дурных влияний, рвущейся из этих пут на волю, к свету, к правде, души — страстной, больной, бездомной и испуганной… Это русский человек весь как на ладони, и к тому же громадный и именно русский поэт. Его место не в храме русской славы (в хрестоматию он пройдет, несмотря на то, что гг. Беловы и не пускают его туда), — а там, где живет и целыми гнездами залегает русская печаль, плач, скрежет зубов… Помня именно только это последнее качество Некрасова, пять тысяч человек провожали его в последнее жилище с глубоким горем и венчали его свежую могилу целой горою венков… не лавровых… нет!.. еловых, наших русских…
ПРАЗДНИК ПУШКИНА
(Письма из Москвы — июнь 1880)
…Вчера, 8-го июня, музыкально-литературным вечером в залах Благородного собрания окончились четырехдневные торжества в честь открытия памятника. Пушкину, и сегодня же мне бы хотелось передать вынесенные впечатления. Следовало бы, минуя все ненужное и не идущее к делу, прямо начать речь о том, что осталось от этих торжеств самого существенного, ценного, достойного памяти, но именно "свежесть-то впечатлений" торжества, которое только вчера окончилось, и не позволяет сделать этого так, как бы хотелось. Существенное и ценное пока еще тонет в шуме и громе ораторских речей, бряцании лир, в звуках музыки, в треске бесчисленных аплодисментов, в беспрестанных криках "браво" и "ура", в звоне ножей, вилок, стаканов и рюмок, в чмоканье поцелуев, — все это вместе сильно мешает сосредоточиться на нравственном значении минувшего торжества. "Нечто сербское" — определяют "Современные известия" общий "облик" миновавшего торжества, и, как, повидимому, ни нелепо это уподобление, но оно все-таки недаром сорвалось с пера г. Гилярова-Платонова.
Во время сербской войны, как известно, энтузиазм, желание жертвовать плотию и кровию, имуществом, достоянием, жизнью и множество других человеколюбивых качеств слились в дружном и восторженном стремлении к освобождению братьев, о существовании которых очень и очень многим было ничего ровно неизвестно, — то есть соединились в восторженном неведении самого существенного. Нечто подобное было и в пушкинском торжестве: желание чествовать, убеждение в необходимости чествования, хотя бы только ввиду того, что памятник Пушкину уже готов и давно уже пугает прохожих своим белым саваном, что, наконец, на чествование уже отпущены деньги и что г. Оливье уже приторговывает аршинных стерлядей, все это совершенно "по-сербски" сгрудилось вокруг имени, которого великое множество действующих лиц совершенно не знало, а другие — весьма солидно позабыли.
Но, не говоря об этом, самый факт торжества в честь писателя, как и война за освобождение братьев, дело также очень мало знакомое громадному большинству присутствовавших и участвовавших не только в качестве зрителей, но даже и в качестве деятелей.
Мирное торжество! Торжество в честь человека, который знаменит тем, что писал стихи, повести, — когда это видывали мы все, здесь на торжестве присутствующие, когда видывала это Москва? Будь это торжество чем-нибудь вроде крестного хода, напоминай спасителя отечества, Минина и Пожарского, — все это известно и знакомо последнему ребенку. В подобных привычных случаях всякий русский человек, сановник он или пожарный солдат, купец, мещанин, простой уличный мальчик, обыкновенная баба, продающая калачи, кухарка — словом, люди всех званий и состояний отлично хорошо знают, когда надо и где надо стоять или куда бежать, что, где и как кричать, когда бросать вверх шапки. Все и всем это известно. Но Пушкин… Что это такое? Почему торжество перед обыкновенным барином, не только без палки ила сабли в руках, но даже и без шапки? Шапку снял и держит в руке. Кто он таков? Писатель! Что же это означает?
Имея некоторые основания знать, в какие громадные затруднения ставят подобные мирные торжества людей, повидимому совершенно близко стоящих к делу, хотя бы, например, художников, которым выпадает на долю сооружать статуи мирным гражданам, мы имели полное право подумывать и о тех затруднениях, в которые должны были стать люди, почти совершенно незнакомые с торжествами подобного характера. Если художник-скульптор должен по целым годам ломать голову над тем, чтобы добиться какой-нибудь возможности воздействовать и вкоренить в непривычное сознание обывателей значение и поучительный смысл в изображении вот этого "простого, обыкновенного человека с шляпой в руке"; если художник теряется, не имея под руками ни одного из тех аксессуаров, которые прямо и внушительно разъясняют толпе, в чем дело и зачем воздвигнута статуя, то есть, не имея возможности посадить своего героя на коня, не смея дать ему в руки саблю или свернутый в трубку исторический документ, не имея никаких оснований гордо закинуть его голову или усеять грудь своего героя знаками отличия; если, повторяем, для человека, специально знакомого с подобного рода делами, мирные торжества и мирные герои торжеств доставляют такую массу величайших затруднений, то что же, думали мы, должен испытывать член, положим, торговой полиции, гласный из трактирщиков или какой-нибудь почтенный владелец квасоварного и кислощейного заведения, которому, в качестве человека, поставленного в необходимость, как депутату, торжествовать, придется думать над составлением, положим, церемониала торжества? Во всяком ординарном торжестве всякий ив "жителей", имеющих свои "заведения", отлично хорошо знает, что всякая "церемония" требует молебствия, угощения и "ура"; но что ему может быть известно по части такого торжества, как торжество Пушкину? Мы сомневались.
И точно: приехав в Москву двумя днями ранее торжества, мы имели некоторую возможность лично убедиться, что сомнения наши имеют кое-какие основания. Очень часто слышатся слова "депутация" и "Пушкин", а что такое? — повидимому, во всесословной толпе не было известно. Во-первых, поговаривали в народе, что едва ли митрополит разрешит святить статую, так как, что ни говори, Пушкин-то он Пушкин, а все-таки он истукан, статуй, идол. С коих же это пор идолов будут кропить святой водой? Минин — Пожарский спас отечество. Хотя это обстоятельство также мало кому известно в подробностях, но слово "отечество" само собою заставляет умолкнуть. Пушкин, человек не на коне, не с саблей, а просто со шляпой в руке, человек, неизвестно чем заслуживший честь быть увековеченным памятником, — дело совсем другое. По поводу такого партикулярного человека можно и подумать и смело высказать мнение; а начав думать, не трудно прийти к убеждению, что поклоняться идолам, в виду московских святынь, дело вовсе, не подходящее. Мы не раз в эти, предшествовавшие празднеству, дни слышали разговоры, касавшиеся этого предмета:
— Навряд будут кропить-то!
— А, пожалуй, по понешнему временя, братец ты мой, не дорого возьмут и окропить!
— Ну, уж это извини! Это, друг любезный, надо оставить!
— Да, это уж — что ж это?.. Пушкин, Пушкин, а тоже надобно и про господа бога не забывать!
И действительно, митрополит не кропил монумента святой водой, хотя одна петербургская газета и выражала желание, чтоф хорошо бы, желательно бы, чтобы это случилось.
Помимо этих фанатических толков, урчавших в самой глубине толпы, какая-то вялость в распорядках думы по поводу торжества, какая-то вялость в интересе к этому торжеству, по временам мелькавшая то в том, то в другом, невольно убеждали вас, что торжество пушкинское — дело непривычное. Приехали кареты от Лоскутной гостиницы на вокзал за господами депутатами, и люди, приехавшие их встречать, толкуют о том, как узнать, кто депутат и кто нет?
— То-то вот и оно-то! — говорит один из ожидающих, — главная причина, как узнать!..
— Как его узнаешь, на нем не написано!
Даже вот какие вещи возможны были за день, за два до торжества.
Подхожу к жандарму на платформе Николаевского вокзала и спрашиваю:
— Пришел пушкинский поезд?
Жандарм поглядел на часы и серьезно произнес:
— Теперь пришел! — и прибавил: — только вам надо на Ярославский вокзал идти. — Пушкино по Ярославской.
Кокарды, отличавшие депутатов от простых смертных, были разосланы только 5-го июня, в самый день начала торжества. Газетчик, продавший мне газету, как-то уныло и неохотно прибавил:
— Книжонки Пушкина есть!
Он, очевидно, не знал, о Пушкине ли книжонки, или Пушкиным сочинены они, и вообще, видя окружающее это имя всеобщее недоумение, сам уныло и неопределенно смотрел на книжонки, не ожидая от них пользы. А посмотрите-ка, как он оживился и с какой энергией сует в руки сборник "Скоморох"! Он знает, в чем тут дело.
Четвертого июня в московских газетах, наконец, появился церемониал праздника и рассеял всеобщее недоумение. С появлением его всякий обыватель мог уже знать, в чем будет заключаться торжество, мог видеть порядок, по которому оно будет происходить, и мог, стало быть, перестать бесплодно думать о Пушкине. Но порядок и церемониал повергли нас в величайшее недоумение и как нельзя лучше доказали, что "мирные торжества", подобные пушкинскому, — точно, вполне непривычные для нас торжества. Распорядок и состав депутаций не поддавался возможности определить, какими соображениями руководствовались господа составители этого церемониала? Все депутаты, прибывшие в столицу, разделены были на три группы, причем каждая группа, по прибытии на площадь, должна была собираться около присвоенного ей значка. По числу групп, значки были также трех цветов: белого, красного и синего. Чем же руководствовались при помещении известных депутаций в эту, а не в другую группу? В первой группе помещены следующие депутации и в следующем порядке: вместе с депутациями от Московской духовной академии, Синодальной типографии, училищного совета Реформатской и Петропавловской церквей, вместе с депутациями московского дворянства и непосредственно за депутацией от Казанского университета ни с того ни с сего помещена депутация от певчих типографии Мамонтова, а за этими певчими идут депутации от женских институтов, от Общества для содействия мореходству, депутаты от Оренбургского края (?), после которых следует депутация от любителей российской словесности (это после певчих), а после него, в одной группе под номером девятым, в одной куче помещены депутаты от городских больниц и депутаты от Варшавского и Дерптского университетов.
Вторая группа депутаций (синие знамена) составлена еще того лучше. Под номером два, например, собраны четыре депутации, решительно ничего общего между собою не имеющие, именно: присяжные поверенные, трактирная депутация (!), депутация от дворянского клуба и от еврейского общества. Депутации от петербургских газет и журналов помещены под № 7 той же группы, за ними следуют депутации от железнодорожных училищ, а в самом хвосте помещена ни много ни мало как депутация от Археологического общества. Депутация Московского университета помещена в третьей (красное знамя) группе, под № 7, после депутаций от частных гимназий, театров, Общества приказчиков, которые в то же время соединены с депутатами от Общества хорового пения.
Словом, кажется, сам Оффенбах, такой мастер смешить публику шутовскими процессиями своих опереток, не мог бы придумать ничего более комического, как то, что придумано в церемониале: институтки и мореходы, математики и садоводы, трактирщики и присяжные поверенные, евреи и литераторы, актеры и университеты, мамонтовские наборщики и археологи, [5] все это следовало, по церемониалу, одно за другим без малейшего смысла и даже внешнего благоприличия. Волей-неволей, а приходило в голову: "А что если, вместо торжества, выйдет комическое представление, комедия, а пожалуй, фарс?"
{Кстати: ни от женщин-докторов, "курсисток", писательниц на празднике не было представительниц.
Депутатов-женщин было всего две: одна член Общества любителей российской словесности, г-жа Голохвастова, другая — г-жа Ьвреинова, депутат от Юридического общества.}
Но не только в этого рода "сербских" чертах, проглядывавших в приготовлениях по предстоящему торжеству, заключались опасения в благополучном и благоприличном исходе последнего. Как известно, "сербские" черты явлений из русской жизни, помимо дружного соединения разнородных элементов на деле, которое этим элементам мало или почти неизвестно, имеют еще другую, не менее характерную сторону, именно: дружно и восторженно соединенные неведомым делом элементы стремятся в то же время, каждый в отдельности, проявить свою индивидуальность в высочайшей степени, довести ее до последних границ возможного. В соединении этих крайностей, по нашему мнению, именно и заключается то, что разумел Гиляров-Платонов под именем "сербских черт".
Как известно, торжество должно было сложиться из участия трех самостоятельных учреждений: Общества любителей российской словесности, университета и думы. Ко всему этому, у депутатов в руках были пригласительные билеты от комиссии по открытию памятника Пушкина, следовательно, всякий депутат зависел от четырех разных распорядков; в Обществе любителей российской словесности выдавали билет на вход только тем лицам, которые были приглашены именно обществом, а не комиссией, или думой, или университетом. Университет выдавал билет, кому, по его мнению, было надобно дать, дума раздавала в изобилии едва ли не кому будет угодно получить; словом, между этими четырьмя инстанциями шла рознь, вследствие которой депутат с приглашением комиссии мог не попасть в литературные заседания Общества любителей русской словесности. Приглашенный Обществом любителей русской словесности мог не попасть на художественно-литературные вечера того же общества, о чем должна была позаботиться дума. Вследствие такой самостоятельности в поступках разных учреждений во имя одного дела, депутату, желавшему видеть все что происходит, надо было иметь восемь штук разных билетов: два для входа в заседания Общества любителей русской словесности (от общества), три от думы (на прием депутатов в думе, для входа на площадь и третий — на думский обед), один из университета на художественно-литературные вечера. Кроме всех этих билетов, нужно было иметь еще билет на литературный обед, даваемый членами Общества любителей российской словесности. Таким образом, проявление самостоятельности составлявшими программу торжества учреждениями делало то, что каждый депутат должен был немало употребить времени на то, чтобы запастись необходимыми билетами, причем, например, в Обществе любителей российской словесности ему говорили, указывая на приглашение от комиссии:
— Примите во внимание, что приглашение это ровно ничего не значит!
А на вопрос:
— Зачем же именно рассылаются такого рода неосновательные приглашения? — отвечали:
— А уж это потрудитесь узнать в самой комиссии.
А в комиссии, после представления приглашения и заявления о том, что, как, мол, прикажете поступить мне с билетом, который ровно ничего не означает? — спрашивали прежде всего:
— Позвольте узнать, кто и где вам сказал, что это приглашение ровно ничего не означает?
И получив ответ, что сказано мне это в Обществе любителей российской словесности, отвечали:
— Позвольте вам сказать, что все это сущий вздор-с. Общество любителей российской словесности пусть лучше заботится о том, о чем ему следует, а не мешается в чужое дело. Билет этот, напротив, означает все-с, и вы очень хорошо сделали, что его представили!
Ко всему этому, опасения за благообразие торжества нимало не умалялись каким-то глухим урчанием неведомых постороннему человеку враждебных элементов, не только в таких совершенно самостоятельных учреждениях, как дума, Общество любителей словесности, но и в самых недрах некоторых из них. Так, например, в самом Обществе любителей российской словесности, по крайней мере как гласила молва, происходило какое-то распадение на враждебные лагери. Сначала прошел слух об обеде г. Достоевскому, обеде, который дают этому писателю почитатели, и почитатели не из числа главных действующих в Обществе российской словесности лиц. Затем что-то пронеслось недоброе относительно г. Каткова. Одна петербургская газета, в корреспонденции из Москвы, полученная здесь как раз накануне торжества, зловеще сулила какой-то индийский танец, качучу (?) на могиле великого поэта, качучу, которую хотят якобы проплясать "ожиревшие краснокожие либерализма", прибавляя, что пропляшут этот танец вышеуказанные краснокожие "для удобства своего дебоша"! Что означает последняя фраза, никому известно не было, никому даже не было понятно, но это-то и усиливало подозрения относительно того, что в недрах предстоящего торжества таится нечто недоброе; в довершение подозрений и опасений та же петербургская газета сулила, что М. Н. Катков и Ф. М. Достоевский "сумеют ответить" этим краснокожим любителям дебоширства, а отказ г. Каткова от билета на вход в заседания Общества любителей российской словесности, опубликованный в "Московских ведомостях", явно сулил в недалеком будущем что-то зловещее.
Но настало пятое июня, и тревожные грозы рассеялись сами собой. Самый опасный, по сказанию молвы, человек, который мог бы нарушить торжество, М. Н. Катков, явился на думском обеде агнцем, сущим ягненком. Он не только не ополчился ни на кого, но, как вам уже известно, воззвал к примирению, не объявив, однако, никаких для этого условий. И, несмотря на это, не только не нашлось человека, который бы спросил у М. Н., на чем именно он желает помириться, но, напротив, было немало людей, которые, не задумываясь, пошли чокаться с ним бокалами, — черта тоже, если угодно, сербская, — обниматься и целоваться, не зная повода к этому и даже не думая о поводе. Впрочем, вялая, деланая речь г. Каткова, особливо для того, кто сам видел оратора во время ее произнесения, ни на минуту не оставляла сомнения в том, что М. Н., взывая к свету ума, нимало не обязывал себя к каким-либо миролюбивым поступкам; тусклый, холодный взгляд оратора, запинающаяся речь, все это с одного взгляда поселяло в слушателях полнейшее безучастие к вялым воззваниям о примирении, и почему этим обстоятельством газеты занимаются с каким-то особенным вниманием, нам положительно непонятно. Не будем говорить также и о продолжении комедии с бокалом, протянутым тем же М. Н. Катковым по направлению к И. С. Тургеневу, и возвратимся к самому торжеству.
Если так легко устранились сами собою опасения замыслов М. Н. Каткова, то опасения о беспорядочности церемониала рассеялись еще легче. Именно как-то "само собою" депутации, весьма немногочисленные, разместились так, как им было удобно; отсутствие каких-либо особенных отличий в костюмах (торжество было гражданское, штатское) совершенно уничтожило разнокалиберность и разношерстность депутаций; сами собою образовались вокруг памятника группы внимательных к торжеству людей, с венками в руках.
И вот, около двух часов дня, перед глазами большой, хоть и не особенно, толпы, упала скрывавшая памятник поэта холстина, и перед всеми собравшимися на площади зрителями явился простой, умный, с внимательным, умным взором, образ Пушкина, и все, кто ни был тут, пережили не подлежащее описанию, поистине "чудное мгновенье" горячей радости, осиявшей сердца всей толпы.
На этом мы оканчиваем собственно с торжеством. Описывать обеды, музыкальные вечера и общую декорацию праздника — мы не мастера, не охотники, да и времени и места у нас на это нет. Ели недурно и пили благопристойно, этого, кажется, достаточно. Перейдем прямо к изображению нравственных приобретений, оставленных праздником в зрителях и слушателях. В течение четырех дней праздника, с 5-го по 8-е июня включительно, мы, кроме множества собственно пушкинских пьес, читанных на литературно-музыкальных вечерах, слышали не один десяток более или менее… продолжительных речей и несчетное количество тостов. Это обилие застольных речей, весьма любопытных на первых порах, очень скоро утомило публику, так как поминутно отрывало от очень питательных блюд, заставляло вставать с места, идти в другой конец зала, чтобы выслушать несколько вполне непитательных слов. Даже под конец первого думского обеда многие из присутствующих настолько "окрепли" нервами, что, заслышав откуда-нибудь из конца залы воззвание: "Господа! Позвольте и мне, в свою очередь…", уже не трогались с места, полагая, что не будет большой беды, если придется услышать речь оратора и не во всех подробностях.
Почин к многоглаголанию сделан был в тот же день, на думском обеде, И. С. Аксаковым. Всякому хорошо и притом давным-давно известно, что И. С. Аксаков — человек обширного образования, ума, таланта, но его красноречие, ораторское искусство, очевидно, не могло и не имело ни времени, ни случая выработаться в живом общественном деле (когда такие бывали дела на Руси?), при живом участии живых людей, не могло привыкнуть ставить на первый план в публично говоримом слове именно это живое внимание, живой интерес живых людей. Красноречие ораторов, подобных И. С. Аксакову, вырабатывалось в пустом пространстве, без участия и строгого внимания слушателя, даже без знания и определения — кто таков этот слушатель? Внешние торжественные приемы и выспреннее многоглаголание волей-неволей должны, для ораторов такого рода, составлять единственные средства влияния на публику. И точно, И. С. Аксаков, поднявшись с бокалом, тотчас после речи г. министра народного просвещения, каким-то торжественно напряженным голосом, медленно отделяя слово одно от другого и оглядывая публику "окрест", произнес свою речь, как известно, начинающуюся словами: "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…" "Со всей Руси великой, — продолжал оратор, — ото всех (?) концов ее, с верховных высот власти и со всех общественных ступеней, стеклись сюда вы, послы и представители всенародного (?) мнения, чтобы перед лицом всего мира (?), всею Россиею поклониться великому, воистину русскому поэту". Напыщенно-громогласная речь продолжается таким образом: "Настоящим торжеством, принявшим такие неожиданные, небывалые (!) размеры… воочию всевластно объявилось действительное, доселе, быть может, многим сокрытое, значение Пушкина". Уж из этих отрывков вы можете видеть, какою напыщенною невнимательностью к действительному факту отличается ораторство, вырабатывавшееся без публики, без общества и не питавшееся, в своем совершенствовании, какими-либо реальными, общественными интересами. Все это, однакож, не мешало громом рукоплесканий приветствовать речь И. С. Аксакова, так как и публика также воспитывалась в той же школе, и не в привычку ей видеть в ораторе внимательного к ее желаниям глашатая. А что ей нужны ораторы другого рода, что у нее есть ее, подлинно ей принадлежащие, только никем или редко кем затрагиваемые симпатии и желания, это доказал нам тот же пушкинский праздник, что мы своевременно и увидим.
С почина И. С. Аксакова, празднословный тон на долгое время вкрался в публичную беседу и, за некоторыми, иногда блестящими, исключениями (речи И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского), поистине безжалостно допекал нас, бедных депутатов, нас, этих послов, "представителей всенародного мнения", собравшихся, как известно, для того, чтобы "перед лицом всего мира поклониться великому поэту", а вовсе не для того, чтобы уехать с головною болью от обилия праздного громогласна, хотя и в честь великого поэта. Нас поразило обилие ораторов той самой школы, талантливейшим представителем которой служит И. С. Аксаков. Уступая своему первообразу в ловкости построения празднословных, хотя и эффектных речей, последователи этой школы превосходили И. С. Аксакова в обилии напыщенных жестов, в силе и напряжении голосовых средств, в обилии решительно ничего не означающих, хотя и длиннейших периодов. Были речи в этом роде до такой степени странные, что при всем желании не было никакой возможности отыскать в них — где, собственно, находится и в чем заключается главное предложение? Некоторые ораторы даже как будто бы и начинали прямо с придаточного предложения и, сказав, например: "Пушкин, который…" или "Пушкин, славное имя которого", уж не могли никак выбраться на какую-либо прямую дорогу, а так и застревали минут на двадцать в придаточных предложениях.
Не в суд и не во осуждение, а тем паче не в посмеяние и уничижение славного праздника и славных, радушных и искренних людей, участвовавших в нем словом и делом, пишем мы это; нет, мы только хотим указать, до чего устранен русский литератор от своего слушателя, от публики, от толпы, что он робок в ней, что он не находит слова для беседы с ней; он в первый раз говорит с ней о своем литературном деле, и даже как будто не верит, чтобы не громкое, не напыщенное, а простое и задушевное слово что-нибудь значило для публики. В течение двух с половиною суток никто почти (за исключением И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского) не счел возможным выяснить идеалы и заботы, волновавшие умную голову Пушкина, при помощи равнозначащих забот, присущих настоящей минуте; никто не воскресил их среди теперешней действительности, а это-то, как увидим ниже, и было бы самым действительным средством к выяснению всей обширности значения Пушкина. Напротив, руководствуясь в характеристике его личности и дарования фактами, исключительно относившимися к его времени, господа ораторы, при всем своем рвении, и то только едва-едва, сумели выяснить Пушкина в прошлом, отдалили это значение в глубь прошлого, поставили его вне последующих и настоящих течений русской жизни и мысли. Привязанные, точно веревкой, к великому имени Пушкина, они сумели-таки поутомить внимание слушателей, под конец торжеств начавших даже чувствовать некоторую оскомину от ежемгновенного повторения "Пушкин", "Пушкина", "Пушкину"!.. И чего-чего только не говорилось о нем! Он сказочный богатырь, Илья-Муромец, да, пожалуй, чуть ли даже и не Соловей-разбойник! Он летает на ковре-самолете, носится из конца в конец, из Петербурга в Кишинев, в Одессу, в Крым, на Кавказ, в Москву. Пушкин — это возбуждение русской музы, это незапечатлен-ный ключ, Пушкин слышит дальний отзыв друга, бред цыганки, песню Грузии, крик орла, заунывный ропот океана. Пушкина честят и славят всяк народ и всяк язык, но мы, русские, юнейшие из народов, мы, узнавшие себя в первый раз в его творениях, мы приветствуем Пушкина, как предтечу тех чудес, которые, может быть, "нам суждено явить". В течение двух с половиной суток, почти без перерыва, публика слушала такие и подобные уверения в гениальности, многосторонности, широте, теплоте и других бесчисленных качествах этого гениального человека и его огромного дарования. Хлопали, хлопали, наконец стали уже чувствовать утомление, когда на выручку явились сначала И. С. Тургенев, а за ним и Достоевский. И. С. отрезвил и образумил публику, первый коснувшись, так сказать, "современности". "Не в суде глупца, — сказал оратор, — и не в смехе толпы холодной было дело (то есть заключалась причина охлаждения общества к творчеству Пушкина); причины лежали глубже; они были неизбежны и лежали в историческом развитии общества, в условиях весьма многосложных, при которых зарождалась новая жизнь, начинавшая вступать из литературной эпохи в эпоху политической общественной заботы и деятельности. Забвение поэта произошло оттого, что возникли нежданные, но законные и неотразимые потребности, явились запросы, на которые нельзя было не дать ответа. Не до поэзии, не до художества было тогда… (Рукоплескания.) Из храма, где поэт являлся жрецом, где еще горел священный огонь, но горел только на алтаре и сожигал только фимиам, люди пошли на шумное торжище. Поэт-эхо сменился поэтом-глашатаем; раздался голос "мести и печали", а за ним явились и пошли другие, пошли сами и повели за собою нарастающее поколение". Многие в этом изменении задачи поэта видели просто упадок, "но мы, — сказал оратор, — позволим себе заметить что падает, рушится только мертвое, неорганическое, живое изменяется органически ростом, а Россия — растет!" (Рукоплескание.) Точно так же и возрождение в обществе внимания к давно и не без основания забытому поэту И. С. Тургенев объяснял не тем, что поколение, отставшее от поэтов эха и последовавшее за поэтами-глашатаями, раскаялось в своей опрометчивости или утомилось на неприветливом пути. Вовсе нет: "мы радуемся этому возвращению, — сказал И. С. Тургенев, — в особенности потому, что возвращающиеся к ней (поэзии Пушкина) возвращаются не как раскаявшиеся грешники, не как люди, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, не как люди, которые ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись, — нет, в этом явлении мы скорее видим симптом хотя некоторого удовлетворения, видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить в жертву все, не идущее к делу, что эти некоторые цели признаются уже достигнутыми и что будущее сулит достижение и других".
"Нарастающее поколение", принятое под защиту И. С. среди царившей против него вражды, была первая светлая минута пробуждения мысли "современников о современном".
Но никто не подозревал, чтобы эта же "современность" могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время "смирнехонько" сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.
Когда пришла его очередь, он "смирнехонько" взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. Просто и понятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине, как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.
Содержание речи приблизительно состоит в следующем: Пушкин, как личность и как поэт, есть самобытнейшее, великолепнейшее выражение всех свойств чисто русского духа. Эта чисто русская самобытность не покидала Пушкина даже в самом раннем периоде его деятельности, в период подражательности иностранным образцам. И тогда, по словам г. Достоевского, он уже не мог не перерабатывать сущности произведений иностранной литературы так, как того требовали чисто русские, самобытные, народные свойства его души. Свято повинуясь в своей литературной деятельности этим требованиям, Пушкин, вместе с полнейшим и совершеннейшим выражением души русского народа, есть также и пророчество, то есть указание относительно предназначений этого народа в жизни всего человечества. Изучая Пушкина, можешь в совершенстве знать — что такое, какие сокровища заключает в себе душа русского человека, какими муками она томится, и в то же время можешь с точностью определить, на какую потребу, на какую задачу в жизни всего человечества нужны и предназначены эти прирожденные русской натуре, русской душе качества. Эти, по словам г. Достоевского, чисто русские, народные черты сказались в Пушкине тем, что уже в самую раннюю пору своей деятельности он останавливается, на типе страдальца, скитающегося по свету, не имеющего возможности успокоиться, удовлетвориться действительностию или чем-нибудь, какою-нибудь, хотя бы наилучшею, частью ее явлений. Тип страдающего скитальца, тип, по словам г. Достоевского, также чисто русский, замечаемый уже в древнейший период русской жизни, существовавший во все последующие периоды ее, существующий и теперь, сию минуту, и который не исчезнет далеко в будущем; не находящий успокоения, мятущийся русский страдалец потому не может исчезнуть ни в настоящем русской жизни, ни тем паче в ее будущем, что для успокоения обуревающей его душу тоски нужно всемирное, всеобщее, всечеловеческое счастие. "На меньшем он не помирится!" (Безумные рукоплескания.) И, что главное, мировая задача успокоения только в мировом счастии, в сознании всечеловеческого успокоения — есть не фальшивая или праздная фантазия скучающего, шатающегося без дела, хотя бы и малого, человека, но, напротив, составляет черту русской натуры, вполне органическую. Пушкин своею восприимчивостью к пониманию чужеземных нравов, доказанной его произведениями, есть наилучшее выражение и олицетворение этой черты. Никто, ни один величайший поэт в мире, не исключая даже и Шекспира, не проникался так идеями, нравами и пониманием самого склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирождена ему, как истинно русскому человеку. Греки и римляне Шекспира — такие же англичане, как и он сам; испанцы, итальянцы Пушкина, напротив, настоящие испанцы, настоящие итальянцы. "Та же восприимчивость к пониманию чуждого народа, его души, его радости и печалей, свойственная совершеннейшему выразителю русской души, свойственна и всему русскому народу; печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его тоска, его страданье для нас, для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей". Из всего этого оратор выводит то заключение, что русский человек, которому предопределено наполнять свое существование только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой, мой ближний, внесет в конце концов в человеческую семью умиротворение, успокоение, оживляющую и веселящую простоту смирения. До тех же пор, то есть до тех пор, покуда всечеловеческие задачи, лежащие в русском человеке, не получат предопределенного им исхода, русский человек не перестанет быть страдальцем, самомучеником, не успокоится ни на минуту. Пушкин, чуткий душой, провидел эту предназначенную русскому народу миссию и, как уже сказано, в самую раннюю пору литературном деятельности изобразил такого скитальца сначала в Алеко, потом в Евгении Онегине. Достоевский от себя при этом прибавил, что тот же скиталец, только в ином виде, в другой форме, существовал и после Пушкина, после Онегина, существует и теперь и будет существовать вовеки, до тех пор, пока, как уже сказано, не найдет успокоения во всечеловеческом счастии.
Мы не можем ручаться за то, что совершенно точно передали мысль первой половины речи г. Достоевского, но мы положительно ручаемся за то, что понята она и оценена была именно в том смысле, как нами изображено. Может быть, мы не так и не то рассказали, но почувствовалось, произвело сильное впечатление именно то самое, что у нас изображено. Характеристика Татьяны, сделанная г. Достоевским во второй половине речи, причем ту же черту, то есть невозможность основать свое счастие на несчастии другого, г. Достоевский как-то переиначил, не произвела того ошеломляющего эффекта, как характеристика и объяснение значения русской тоскующей души, а как бы прошла мимо ушей. А какое-то замечание, сделанное г. Достоевским насчет какого-то смирения ("Смирись, гордый человек!"), будто бы необходимого для этого скитальца в то время, когда и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой заботой, и это замечание прошло также мимо ушей; всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслию о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе.
Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения; один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду. Да, не для железнодорожников, не для представителей тех четырнадцати классов, на которые разделено, по словам г. Достоевского, русское интеллигентное общество, могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях. Слова эти могли произвести впечатление именно только на молодежь и на тех из остепенившихся представителей ее в недавнем прошлом, которые живо чувствуют еще пережитое ими, потому что ни одно поколение русских людей никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии, как то, которое должно было выполнять свою исконную, по словам г. Достоевского, миссию в последние два-три десятка лет. Как могло случиться, что почти все молодое поколение, стоявшее не за порабощение освобожденных, не за угнетение их, не за развращение их, словом, не имевшее не единой злостной мысли против своего народа, оказалось ненужным ему? Однако это случилось! Никакому из всех молодых поколений, когда-либо существовавших на русской земле, не предлежало такой массы работы именно на служение ближнему, освобожденному от неволи, как поколению последних двух-трех десятков лет, и что же? Работы этой не нашлось, не оказалось, или она оказалась ненужной. Сам г. Достоевский, взявшийся изобразить один процесс в форме романа, предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, и ни единым словом не попытался отделить от этих гнусностей той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой он так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества любителей русской словесности. А ведь не может быть сомнения, что молодое поколение последних лет, при начале своего поприща, если бы нашло поддержку в истолкователях его задачи, если бы эти истолкователи поставили задачу на первый план, возвели ее хотя бы до сотой доли тех ослепляющих размеров, до которых теперь возводит ее г. Достоевский, несомненно не коротало бы оно свою жизнь так, как оно коротало и терзалось многие годы.
Как же было не приветствовать г. Достоевского, который в первый раз, в течение почти трех десятков лет, с глубочайшею искренностью решился сказать всем исстрадавшимся за эти трудные годы: "Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей вашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности".
Это громко, горячо сказанное слово могло и должно было потрясти многих и многих. Тот, кто упал без чувств после речи г. Достоевского, наверное, упал потому, что понял ее так, как мы старались передать. Но, повторяем очень может быть, что мы передаем слова г. Достоевского недостаточно точно и верно. Достоевский человек мудреный; как уже сказано, он еще недавно целую группу прославляемых им теперь людей сравнивал с свиным стадом и предрекал им гибель в пучине морской. Мудрено понимать человека, примиряющего в себе самом такие противоречия, и нет ничего невероятного, что речь его, появясь в печати и внимательно прочитанная, произведет совсем другое впечатление. Но, не ручаясь за подлинность того, что именно хотел сказать г. Достоевский, мы опять-таки повторим, что за сущность произведенного им впечатления можем вполне поручиться.
(На другой день)
Опасения наши, высказанные в только что оконченном письме, относительно подлинного смысла переданного нами содержания речи г. Достоевского, к несчастью, оказались основательными. Речь г. Достоевского напечатана теперь в 162 No "Московских ведомостей". Прочитав ее, и притом не один раз (она понятна не сразу), мы нашли, что хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано нами, но что, кроме этого, в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений, уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства. Эти неподходящие черты он разбросал по всей речи, где по словечку, где целыми фразами, и всегда вблизи с разговорами о всечеловечности. Чтобы читатели могли яснее видеть, до какой степени речь г. Достоевского теряет в понимании благодаря этим заячьим прыжкам, приведем выписки из подлинного, напечатанного текста.
Прежде всего, сделаем выписки, доказывающие, что мы имели все основания передать речь г. Достоевского так, как передали. Вот что г. Достоевский говорит о духе русского народа:
"…Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, к всемирности и всечеловечности? Да, назначение русского человека есть бесспорно всемирное, всеевропейское. Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните [6]) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… Для настоящего русского Европа и удел арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел родной земли… Что наш удел и есть всемирность… Стать настоящим русским и будет именно значить — внести примирение в европейские противоречия… Ко всемирному, всечеловеческому братству сердце русское, быть может, из всех народов наиболее предназначено".
А вот что говорит г. Достоевский о русском "страдальце":
"В "Алеко" Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Это тип постоянный и надолго поселившийся в русской земле. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и если в наше время не ходят в цыганский табор искать успокоения в их диком, своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, ходят с новою верою на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастия не только для самих себя, но и всемирного, ибо русскому скитальцу именно необходимо всемирное счастие, чтобы успокоиться, дешевле он не помирится… Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся".
Этих выписок, кажется, вполне достаточно для того, чтобы видеть неразрывную связь скитальца с народом, его чисто народные черты; в нем все народно, все исторически неизбежно, законно. Вот, основываясь на этих-то уверениях, я и передал речь г. Достоевского в том смысле, как она напечатана в письме из Москвы, радуясь не тому всемирному журавлю, который г. Достоевский сулит русскому человеку в будущем, а тому только, что некоторые явления русской жизни начинают выясняться в человеческом смысле, объясняются "по-человечеству", не с злорадством, как было до сих пор, а с некоторою внимательностию, чего до сих пор не было.
Но у г. Достоевского, оказывается, был умысел другой. Уж и в тех выписках из его речи, которые приведены, читатель может видеть местами нечто всезаячье. Там воткнуто, как бы нечаянно, слово "может быть", там поставлено, тоже как бы случайно, рядом "постоянно" и "надолго", там ввернуты слова "фантастический" и делание, то есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостию, которая не дает возможности продешевить, и т. д. Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить мало-помалу все свое "фантастическое делание" в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения. Помаленьку да полегоньку, с кочки на кочку, прыг да прыг, всезаяц мало-помалу допрыгивает до непроходимой дебри, в которой не видать уж и его заячьего хвоста. Тут оказалось, как-то незаметно для читателя, что Алеко, который, как известно, тип вполне народный, изгоняется народом именно потому, что не народен. Точно так же народный тип скитальца, Онегин, получает отставку от Татьяны тоже потому, что ненароден. Как-то оказывается, что все эти скитальчески-человеческие народные черты — черты отрицательные. Еще прыжок, и "всечеловек" превращается "в былинку, носимую ветром", в человека-фантазера без почвы... "Смирись! — вопиет грозный глас: — счастие не за морями!" Что же это такое? Что же остается от всемирного журавля? Остается Татьяна, ключ и разгадка всего этого "фантастического делания". Татьяна, как оказывается, и есть то самое пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что, прогнавши от себя всечеловека, потому что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предает себя на съедение старцу генералу (ибо не может основать личного счастия на несчастии другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собою. Но увы, тут же оказывается, что жертва эта недобровольная: "я другому "отдана!" Нанялся — продался. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, а старец, который женился на молоденькой, не желавшей идти за него замуж (этого старец не мог не знать), именуется в той же речи "честным человеком". Неизвестно, что представляет собою мать? Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей. Нет ни малейшего сомнения в том, что девицы, подносившие г. Достоевскому венок, подносили ему его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь ухаживанию за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья; не за матерей, выдающих дочерей замуж насильно, дабы они в будущем своими страданиями помогли арийскому племени разогнать тоску. Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся. Но в неправильном толковании речи виновен не кто иной, как сам Ф. М. Достоевский, не высказавший своей мысли в более простой форме.
СЕКРЕТ
(Продолжение предыдущего)
Да, виновен сам Ф Мих, о чем пришлось и говорить, и думать, и писать уже после того, как "торжество" стало забываться, а одновременно с забвением мелочных его подробностей в обществе литературном и обывательском стал возрастать интерес именно опять-таки к сущности речи Ф. М. Достоевского, затронувшего существенные вопросы жизни. И чем более обыватель старался проникнуть в "самую суть" учения Ф. М., тем более он терялся и недоумевал. Желая силою своего слова покорить всех обывателей и быть приветствованным "всеми", г. Достоевский соединил в своей речи вещи совершенно несоединимые.
В самом деле, представим себе, что все те, на кого речь г. Достоевского произвела сильное впечатление, явились к нему в квартиру благодарить и выразить сочувствие.
Является муж Татьяны благодарить за то, что г. Достоевский назвал его честным человеком, несмотря на то, что его и самого иной раз мучил вопрос: "Уж не загубил ли, мол, я, старый хрен, чужую жизнь?" Честный человек рад ободряющему слову, он рад, что почтенный писатель заступился за него, он хоть и стар, но он любил Татьяну "как отец", лелеял ее как зеницу ока, и, правду сказать, Татьяна ценила его внимательность и спокойную, но прочную любовь, не рвалась, как нынешние, непохожие на женщин, стриженые барышни, в какие-то курсы, не бегала с книжкой. Генерал благодарит г. Достоевского за то, что он вывел и возвеличил этот истинный образ женщины, матери семейства, верной долгу, слушающейся родителей. В заключение генерал похвалил тешу, m-me Ларину, то что она, как "истинная" мать, сумела во-время обуздать Татьяну, не побоялась ее слез, выбила из головы дурь и фантазии о каком-то хлыще Онегине, и своею твердостью достигла того, что из Татьяны вышла женщина, а не какая-нибудь нынешняя курсистка, не какая-нибудь мечтающая о каких-то общественных делах, вроде несчастной племянницы генерала Маши Булатовой, которой, вероятно, предстоит гибель. "Эти книжки, — заканчивает генерал, — эти курсы, лекции, служение народу, фельдшерицы, это, по-моему, гибель семьи!"
Поблагодарив Ф. М. еще раз и жарко пожав ему руку, генерал уходит, но в самых дверях сталкивается с несчастной племянницей, Машей Булатовой, которая также является благодарить г. Достоевского.
— Ты зачем? — в удивлении спрашивает генерал.
— Я хочу поблагодарить г. Достоевского, — отвечала Маша Булатова, — за то, что он своим искренним словом поддержал меня, тогда как вы все измучили меня; чувствую силы на борьбу со всеми вами, и, уж будьте покойны, теперь никакими запорами вам не удержать меня в вашей великолепной тюрьме.
Затем Маша Булатова в жарких выражениях, торопливо рассказывает г. Достоевскому свою историю, как бабушка m-me Ларина, этот самый генерал и частию уж состарившаяся Татьяна, ее родная тетка, во что бы то ни стало хотят ее упечь замуж за очень богатого человека, что она знает, как пуста эта праздная жизнь, что она не эгоистка, что она хочет быть полезной другим, что она хочет есть трудовой хлеб, учиться, знать, учить других. Она в сильном волнении рассказывает Ф. М., что генерал и m-me Ларина, видя ее участие к сельскому учителю и боясь, чтобы из этого не вышло "амуров", натворили бог знает чего. Распустили про учителя такие слухи, что того теперь и след простыл. Что даже на курсы попасть ей стоило страшных усилий, на каждом шагу ей делали неприятности. Доводили о чем-то до сведения начальства, вследствие чего ей не выдано было свидетельства о благонадежности. Но теперь, после речи Ф. М., ей всё нипочем. Она все забыла. Она вся хочет отдаться служению на родной ниве. Ей ничего не нужно: ни женихов, ни карет, ни богатств, она уйдет в чем есть и вся посвятит себя служению на пользу ближнему. Затем, с гневом взглянув на своего дядю, она прибавила: "Да, давно-давно пора было заклеймить публично, всенародно нашу ужасную буржуазию, праздную, апатичную, не думающую о народе и его нуждах. А это вы сделали в одном месте вашей речи, Ф. М.! Спасибо вам, большое спасибо!"
Она ушла, горячо пожав руку Ф. М. и презрительно взглянув на дядю. Дядя, весь красный от гнева, недоумевая, глядел на г. Достоевского, который, чувствуя свое неловкое положение, как-то загадочно улыбался, глядя в землю. Генерал, покрякивая, хотел удалиться и начал прощаться, говоря: "Во всяком случае, позвольте еще раз…" Но не успел он окончить фразы, как в комнату влетает — боже милосердный — социалист!
В каком он виде, пусть изобразит кто-нибудь другой; в моей лире нет подходящих для этого звуков, и перо мое невольно дрожит в руке. Коротко скажу: он был ужасен! Он едва не сшиб с ног генерала, стремительно бросился на Достоевского, как бы желая его задушить, и вопил: "Благодарю, благодарю!" Генерал ушел не простясь. Но тотчас же явился новый посетитель. Это был И. С. Аксаков.
Видя, что Ф. М. обнимается с какою-то подозрительною личностью, Ив С стал в стороне и слушал.
— Отлично, Ф. М., вы утерли нос этим славянофилам! Довольно они разводили на бобах насчет народной подоплеки! Я думаю, Аксаков теперь почесывает в затылке, как вы хватили его всеевропейским-то человеком! Именно, правда ваша, русскому человеку придется быть пустым пузырем, если, как вы говорите, всечеловеческая тоска не заполнит его душу. Слава вам, что вы так смело, искренно связали идеалы русского человека со скорбию о всечеловеческом счастии! Да! Только всемирное счастие, только тоска по нем, — вот задача мыслящего человека и чистого сердца! И я жму вашу честную руку за ту прямоту, искренность, с которою вы не побоялись сказать это публично!
— Там в середине есть место… — начал было Ф. М., улыбаясь и загадочно глядя наискось, но социалист ушел так же, как и пришел, вихрем.
— Этот урод какими судьбами очутился здесь? — в удивлении спросил И. С. — И, что-то я не понимаю, кажется, с благодарностию явился? Или мало ему той оплеухи, которую вы закатили всем этим общечеловекам? Так подогнуть башку пустозвонную, от пустоты и вместе гордости лезущую вверх, как подогнули вы, почтеннейший Ф. М, подогнуть под ярем народного плуга, под соху мужицкую, никто доселе с таким блистательным успехом еще не делывал! Вероятно, не пробрало пустую башку! Да, пора, пора согнать всю эту всеевропейскую саранчу с нивы народной, которую с ношей крестной исходил, благословляя, царь небесный! Пора переломить пополам, как гнилую палку, этот гордыбачащий и европейничающий вздор! Меня такие господа костят за то, что я сижу в банке, а толкую о народе да об общине. Надо заткнуть глотку этим непрошенным судьям; чем совать свои всеевропейские носы в разные общественные порядки, "пойми, каналья, сам-то самого себя, сам-то себя ухитрись высечь и больно высечь!" — вот что у вас, Ф. М., вышло великолепно. И положительно скажу, всевластно, воочию объявилось, быть может, доселе невиданное зрелище единения на мысли о родной ниве всевозможных противных по убеждениям лагерей.
И тут Ф. М. что-то заикнулся было насчет того, что "там в середине есть место", но И. С. Аксаков не слыхал, что говорил ему г. Достоевский, и, крепко пожав ему руку, уехал в банк.
Положение Ф. М. во время этих визитов было весьма щекотливое. Особенно же ему было неловко, когда к нему явилась Татьяна. Она благодарила его не за себя.
— Что прошло, того не воротить! — сказала она. Она была рада, что Ф. М. единственный человек, который хорошо отозвался об Онегине.
— Ведь, право, он был добрый человек, но вы вспомните, какое тогда было время! Куда было девать и сердце и ум? Они потом с Чацким оба, бедные, как мучились в этом ужасном обществе! Я не жалею о прошлом — что жалеть о том, что ушло навсегда! Но ведь вспомните положение тогдашней женщины, девушки. Мы ничего не знали, жили, как велят… Мы были забиты… Разумеется, оставалось терпеть… Поверите ли, я часто завидую моей племяннице! Она будет вольная птица… Сама себе голова. А мы? Мы даже и любить-то не смели, кого хотели! И думать не смели… А теперь! Хоть не браните, и за то вам спасибо, Ф. М.!
Татьяна приложила к глазам платок.
Я очень сожалею, что не имею времени перебрать решительно всех посетителей, благодаривших Достоевского, мнения которых, по частям, исчерпывают всю знаменитую речь.
Но уже и из этих примерно изображенных визитов читатель, знакомый с речью Достоевского, может видеть, во-первых, то, что подобные визиты совершенно возможны, во-вторых, то, что они происходят вследствие некоторого недоразумения, и, в-третьих, наконец, что, несмотря на благодарность, выражаемую Достоевскому его разнородными почитателями, все они, вследствие вышеупомянутого недоразумения, должны уйти от него с чувством некоторого неудовлетворения и как бы некоторого неприятного раздумья. Всякий из этих посетителей — славянофил, социалист, генерал или курсистка, очевидно, неприятно поражены соседством один другого и непременно должны чувствовать некоторое изумление при виде того, что вчерашние враги (например, дядя и племянница) вдруг оказались как бы вполне согласными друг с другом, хотя и знают в то же время, что между ними нет и не может быть ни малейшего согласия. Что ж это означает?
А весь секрет, вся тайна этой путаницы, вся суть этого невозможного объединения разнороднейших, уже установившихся, вполне определившихся взглядов партий и мнений заключается, по нашему мнению, в одном маленьком словечке, которое Достоевский поставил в самом центре своей речи. "Смиренно поработай на родной ниве!" — сказано в самом центре всеобъединяющей речи. Вот это-то слово "нива" и есть, по нашему мнению, корень зла. Что такое, в самом деле, означают слова "родная нива" (просим пристальнее вникнуть в смысл этих слов). Точно ли это обыкновенная нива, положим засеянная овсом, или же нечто иное? Очевидно, выражение это аллегорическое. Но опять, что означает эта аллегория? Положа руку на сердце, выражение это (как думаем мы) ничего существенного, определенного не означает и означать не может. А между тем, на этой-то ничего не означающей ниве приглашают работать, да притом еще смиренно, и вокруг этой смиренной работы на ниве вертится все громадное, всечеловеческое значение русской страдальческой души, все ее всемирно умиротворяющее значение. Как же могло случиться, чтобы два-три ничего не означающие слова могли объединить, по крайней мере хоть в аплодисментах, людей, явно враждующих между собою, и объединить даже как бы во имя самой вражды? Ведь вон племянница-то благодарила именно за то, что от Достоевского досталось ее дяде, а дядя за то, что досталось племяннице?
В этом-то и есть секрет.
Поставив в центр речи слова, ничего определенного не выражающие, Достоевский дал полную волю своим слушателям придавать им тот смысл, какой они придать им желают. Да, дяде курсистки весьма довольно в этой фразе одного смирения, которое вполне оправдывает его женитьбу на Татьяне, его отношения к непокорной племяннице. Относительно же нивы, он против нее ничего не имеет; так как выражение это ничего не значит, то его с удобством можно пропустить мимо ушей. Против неопределенности выражения ничего не имеет и славянофил, и не только не имеет, но находит его весьма приятным, так как ему нравится в речи не столько эта "работа" на какой бы там ни было ниве, сколько то великое будущее, те предстоящие чудеса, которые, как оказывается, русский человек совершит с европейскими порядками впоследствии времени. Ему дорого это отдаленное будущее, а не постыдное настоящее, для которого вполне достаточно "смирения" вообще.
Но наряду с лицами, отдающими в вышеприведенной фразе Достоевского предпочтение слову "смирение" перед остальной частью фразы, в числе слушателей и читателей было немало таких, которые сами, самовольно, не спросись Достоевского и не дожидаясь его, придали выражению "родная нива" совершенно определенный, свой смысл, свое, худо ли, хорошо ли понимаемое, значение, а главное, чтобы не терять времени в напрасных толкованиях пустопорожних слов "родная нива", заменили их в собственном своем воображении тоже двумя словами, но словами, имеющими определенный смысл, — именно, решили, что речь идет просто-напросто о "народном деле". Эта незначительная замена одного слова другим, пустого что-нибудь означающим, тем более имела значение для гг. самовольцев, что немедленно же давала точный и определенный смысл, с одной стороны, слову "смирись", с другой — "потрудись", "поработай".
И вот, согласно тому смыслу, который разномысленные слушатели Достоевского придавали, каждый в отдельности, самому важному пункту, на котором вращались все детали речи, и последние были поняты и пригнаны к центру также по-своему, на свой образец. Те, которые, не вникая в сущность речи, просто довольствовались смирением Татьян, смирением букашки, проткнутой булавкой и до конца жизни безропотно шевелящей лапками, были, разумеется, очень довольны тем, что от этих булавок и букашек со временем произойдет нечто всемирно замечательное. Ни о ниве, ни о работе на ней такого рода господа, конечно, не думали. Быть проткнутой булавкой, — это-то, должно быть, и есть всечеловеческая заслуга, и в этом-то, должно быть, и заключается работа на родной ниве. Но те, кто "ниву" заменил "делом", те невольно, но неминуемо должны были искать в речи Достоевского и определений самого дела народного. В смысле этого определения такие слушатели, разумеется, должны были обращать особенное внимание не на те места речи, где говорится о тряпичности и дрянности разных человечишек, шатающихся по свету с надутыми на человечество губами, а на те места, на те выражения, где говорится о всечеловеческих страданиях, о том, что сердце русское наиболее к ним восприимчиво. Все, что было сказано в последнем смысле, принималось как указание, оправдание и объяснение.
В такого рода неправильном толковании наиболее торжественных мест речи Достоевского, конечно, виновато самовольство его слушателей, подставивших на место умилительного слова "нива" довольно грубоватое слово "дело". О том, правильно ли или неправильно понята речь Достоевского и нами и своевольцами, как и что мы поняли, — мы уж сказали. Более об этом говорить не будем. Мы только хотим обратить внимание читателя на ту поистине громадную жажду, с которой значительная часть общества, если не все общество поголовно, ждет откуда бы то ни было указания на "дело", на народное "дело". Оно само, как видите, разыскивает эти указания там, где их даже и нет, само строит собственные свои теории из таких материалов, которые и собраны-то собственно затем, чтобы сказать — "перестань!"
Мы сказали выше, что этим недугом заражено почти все общество, потому что после освобождения крестьян буквально все общество стало на новую дорогу. Народный вопрос сам собой стал перед всеми; решение его не может не волновать всякого, и буквально всякий думает о нем по-своему. Именно неизбежность, обязательность, неминучесть мысли об этом вопросе, настоятельность определения "народного дела" дало последнему двадцатипятилетию ту, а не другую физиономию, и если эта физиономия не всегда и не всем приходилась по сердцу, то единственно потому, что "народное дело" не выяснялось во всей полноте и беспристрастии, к которому обязывает его серьезность и значение. Все впотьмах, все ощупью, все в беспомощном неведении. Предсказаний, шарад, ребусов насчет великого будущего, ходячих фраз, что "этого у нас нет", что мы такие-сякие — сухие и немазанные (на пушкинском празднике один оратор сказал: "у нас нет сословий!") — сколько угодно, а настоящего выяснения задач народного дела, задач, необходимых для всякого живущего на Руси, — потому что нельзя, невозможно целым поколениям жить о едином хлебе, — нет! Теперь вот, через двадцать пять весьма поучительных лет, нам говорят: "поди, мол, потрудись на какой-то родной ниве!" А где она? Что она? — неизвестно. Да еще со смирением! Не только нет мало-мальски правдивого, беспристрастного указания на самое дело, но даже и положение-то самой нивы, на которую приглашают потрудиться со смирением, как на грех, ни единым словом не уясняется.
В "Дневнике писателя" того же г. Достоевского (1877 г., № 2) есть две в этом отношении весьма характерные главы. Одна из них называется "Злоба дня в Европе", а другая, рядом с нею, "Русское решение вопроса". Параллель могла бы быть в высшей степени интересная, если бы была соблюдена автором равномерно во всех частях. Но этого-то именно и нет. Покуда дело идет о злобе дня в Европе, автор вполне последователен. Прежде всего он изображает происхождение данного положения вещей и, на основании этого положения, выводит заключение относительно того способа, которым может быть решен, или без которого решен не может быть, роковой, проклятый вопрос. Но как только дело касается России, никакого положения вещей нет, а прямо, с первой строки, начинаются ни на чем не основанные прорицания, указания, ребусы, шарады. Сделаем небольшую выписку. Вот что говорится о злобе дня в Европе. "В Европе был феодализм, были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и, наконец, задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: "убирайся, а я на твое место". Но, став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу для своего благосостояния, из-за куска хлеба". Но, в свою очередь, этот новый хозяин, буржуа, "отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший в борьбе его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он предчувствует, что когда тот усилится, то сковырнет и его с места, точно так же, как он сковырнул рыцаря, и точно так же скажет ему: "Убирайся, а я на твое место". Вот положение вещей в Европе, положение историческое, вполне объясняющее неизбежность борьбы не на живот, а на смерть между двумя борющимися сторонами, уже ставшими в боевую позицию. Г. Достоевский обстоятельно объясняет, почему ни та, ни другая сторона не могут уступить, почему вопрос не может быть поставлен на нравственную почву. Все эти объяснения в европейском решении вопроса о злобе дня, повторяем, основаны на исторически сложившемся положении вещей, очерк которого г. Достоевский приводит в начале статьи именно для того, чтобы читателю было понятно, почему дело решится так, а не иначе.
Но как только дело касается России, с первой же строки начинается отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь о самосовершенствовании. Ни о положении вещей в данную минуту, ни о прошлом, из которого оно вышло, — нет ни одного слова. На каждом шагу задаешь себе вопросы: какую-такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду с открытым воротом и в армяке собирать на построение храма божия? Если ту же, какая в Европе, то почему же там дело должно кончиться дракой, а не Власом? Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно? Если бы г. Достоевский был последователен, то параллельно вышеприведенному изображению положения вещей должен бы был представить такое же и относительно России. В Европе, говорит он, были рыцари… а у нас были или не были? если не рыцари, то хоть простые грабители, откупа например, которые опаивали народ дурманом, организм, физическое здоровье его расстраивавшие? Забирались не только в карман, а в самую кровь. В Европе вот, говорит г. Достоевский, буржуа не дает пролетарию жить на свете… А у нас есть ли что-нибудь в этом роде? Для кого устроены банки всевозможных родов и видов, кто играет на бирже, съедает миллионы гарантий и субсидий? И достаточно ли в таких делах Власа, собирающего на построение храма божия? Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться? Единственное объяснение этому, кажется, состоит в том, что люди эти вообще ужасно развращены, испорчены. И опять неизвестно, кто их испортил, отчего они развратились и отчего именно они-то и суть провозвестники христианства. Не определяя "положения" вещей, не объясняя его, решительно невозможно давать советов о том, что нужно делать, невозможно предсказывать, прорицать, учить и наставлять, не рискуя впасть в противоречия и свести самую горячую проповедь на ничто. И таких противоречий можно найти у г. Достоевского немало. В речи он подтрунивает над тем, что до сих пор интеллигентный человек все как будто хочет поднять народ до себя, а в дневнике прямо советует "поднимать…" В том же дневнике говорит: "Раздай имение", а на следующем столбце говорит, что "можно и не раздавать".
Итак, все дело сводится на внимательное исследование положения, в котором находится родная нива, ибо только в таком случае слово "смирение", которое мы ставим во главе угла служения народному делу, получает смысл определенный, определенное направление и определенные границы. Точно так же и дело народное делается совершенно определенным, принимает реальные формы. Позволим себе привести небольшой пример. Предположите, что некоторый человек (молодой или старый, все равно), чувствительный и сердцем и умом к нуждам родной "нивы", приходит к сознанию необходимости посвятить себя, свои силы и средства на служение ей. Никаких западноевропейских декораций он устраивать, для собственной потехи, на этой ниве не желает. Напротив, он желает работать чисто в народном духе. Общинные начала можно ли полагать народными, крепко пустившими корни в глубине народного духа и, ума? Я полагаю, что можно. Представьте еще, что, преклоняясь пред ними, как пред народными, впечатлительный человек этот понимает их и ценит гораздо более, чем ценятся и понимаются они на самой ниве, причем он ценит их и дорожит ими особенно сильно и страстно, потому что ему, как человеку образованному, в подробности известно мучительно-тягостное положение злобы дня у миллионов европейских народов, о чем говорит г. Достоевский. Изучив эту глубокую неправду человеческих отношений в Европе, сначала по книжкам, потом убедившись, положим, личным опытом, до какой степени отношения эти несправедливы, жестоки, не имея сил забыть ни казней коммунаров, которые чувствительному человеку пришлось видеть, не имея сил и возможности изгладить из памяти впечатление лондонских рабочих кварталов, этих человечьих гнезд нищеты и скорби, беззащитного одиночества, — чувствительный человек наш, подавленный массою человеческих страданий, пережитых им и в книге, и во сне, и наяву, приходит к мысли, или, вернее, к прочному убеждению, что его личные несчастьишки — ничто в сравнении с этими вековыми страданиями миллионов, начинает забывать о себе, о своих личных недугах и все более и более делает своими чужие беды. Он чувствует, что надо "смирить" себя, покорить себя работе на родной ниве, послужить народному делу. Где же ему служить, как не на родине? Радостно замечает он, что у нас еще дело не стало на ту неприветливую почву, как в чужих землях, что у нас есть "общинные начала", из-за которых там бьются в кровь не один десяток лет. Именно помня эту кровь, эти Сатори-Кайенны, он страстно желает сохранить эти предохраняющие от крови и слез наши народные начала и принимается работать над тем, что уже существует как факт, что даже правительством признается, как форма общежития, обеспечивающая прочность финансовой системы, предохраняющая страну от развития пролетариата. По своим силам и средствам он задумывает самое малое дело в этом чисто народном смысле. За большое он не берется, он просто взвесил и оценил свои силы и средства, понял, что может и чего не может. На самое дело наталкивает его простой случай. Он прочитал в газетах, что в камере мирового судьи того города, где он живет, разбиралось дело о побоях и увечьях, нанесенных сапожным мастером Кудрявцевым десятилетнему мальчику-ученику. Из дела оказалось, что Кудрявцев колотит своих учеников не на живот, а на смерть, бьет ремнем, не кормит, держит в холодной комнате. Впоследствии, пройдя сквозь эту каторгу и оставшись живым и здоровым, мальчик и сам, пожалуй, будет так же учить своих учеников.
И вот, жалея мальчика в настоящем, жалея его в будущем, чувствительный человек наш надумывает самое простое, по его мнению, дело. Он решается отдать свои средства на образование мастерской ("Отдай имение твое!"), в которой бы ребят не били, а учили, не мучили голодом, а кормили — и думает, что общинное начало в виде артельного хозяйства, вещь не только не предосудительная, но прямо нужная и законная. Он отыскал избитого мальчика, а этот привел к нему еще двоих, тоже избитых, три другие ушли от другого сурового хозяина сами, и вот начинают жить. Чувствительный человек, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, "принанял" покуда в главные мастера взрослого сапожника, но, желая быть последовательным именно в смысле народного дела, он должен "убедить" как взрослого рабочего, так и маленьких учеников его в том, в чем убежден сам. Ему обидно, что его называют "хозяином". Какой он хозяин? Он такой же, как и они. Он хочет только, чтобы, при его помощи, они "сами" завели "свое" дело на товарищеских основаниях, сами были хозяевами своей работы. На первых же порах ему приходится, очевидно, очень и очень много разговаривать. Сапогов не шьют покуда, а разговоры идут, и разговоры долгие. А покуда они разговаривают, против него, против этого чувствительного человека, уж устраивается нечто неприязненное. Положим, что у нас нет ни буржуа, которые не дают жить пролетарию, "нет даже сословий" — нет ничего в западноевропейском, не христиански-враждебном роде, но есть двое хозяев-сапожников, которые недовольны, и очень основательно недовольны тем, что от них сбежали мальчики, что это дурной пример; есть, кроме того, матери и отцы, не понимающие и не могущие понять, почему это барин затесался к сапожникам, что ему нужно, и непременно думающие, что тут что-нибудь не так; есть, наконец, сами мальчики, берущие пример в непонимании как с родителей, так и с взрослого мастерового, своего учителя, который также покашивается на барина, отказывающегося быть хозяином, и полагает, что тут не без подвоха. Все эти — не буржуа, ни тем паче рыцари, ни, боже избави, пролетарии, начинают шушукать, болтать, обсуждать в кабаке, за воротами, а те из них, кому нужно, начинают и поступать по силе и по мочи. Как они поступают — не наше дело. Но представьте себе, что впечатлительный человек, вследствие их поступков, с сожалением принужден пойти, положим, хоть к г. Достоевскому, "посоветоваться", как ему быть?
— Закрывать мне мастерскую или же отстаивать ее? Что ответит ему Ф. М.? Неужели скажет:
— Смирись! Гордый человек!
Но на это впечатлительный человек может возразить:
— Да я и так уж смирился. Мне лично ничего не надо, я хочу только хоть этим пятерым, шестерым мальчишкам быть полезен. Неужели же я должен бросить их на произвол судьбы? Ведь их пуще прежнего начнут колотить колодкой по голове? Мне кажется, что я и по-христиански не имею права отступать. Я должен идти до конца. Пусть делают, что хотят, я готов!
— Смирись, праздный человек! Покори себя себе, усмири себя в себе. Не вне тебя правда, не в сапожной твоей мастерской, а в тебе самом найди себя, сам собой, в себе!
— Стало быть, бросать посоветуете?
И даже на этот вопрос нет категорического ответа; не слушая и не останавливаясь, Ф. М. продолжает прорицать:
…И узришь свет! И увидишь правду! Победишь себя, усмиришь себя и других освободишь; и узришь счастие… и начнешь великое дело… Не в вещах правда.
И так до бесконечности.
Читатель видит, до какой степени самые прекрасные прорицания оказываются бесплодными, раз "на родной ниве" оказалось крошечное дело. Видит, что даже ответов на самые простые вопросы, возбуждаемые делом, совсем-таки нет в обращении. И не следует ли из этого, что прежде, нежели приглашать потрудиться на ниве, прежде, нежели рекомендовать смирение, как наилучшее средство для этого труда, заняться с возможной внимательностью изучением самой нивы и положения, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение определит и "дело", в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь его сделать. А прорицать можно и после.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЬЭТАЖ
…Не так давно деревенское уединение мое было нарушено весьма неприятным обстоятельством: случилось мне прочесть в литературном обозрении "Голоса" о том, что "Русский вестник" поместил статью, посвященную литературе о народной жизни, где осрамил всех пишущих о народе (а я тоже маракую по части разных очерков и отрывков из крестьянской жизни) самым постыдным образом. Не то огорчило меня, что автор статьи причислил себя к "литературе бельэтажа", [7] к литературе парадных комнат, а всех нас наименовал литературою кабака и харчевни, заднего двора и черной лестницы; не то, что в посрамление нас он торжественно указал на великие имена Пушкина, Лермонтова и Гоголя и противопоставил им "всех этих" "разных семинаристов"; не то, наконец, что наши несчастные очерки и отрывки из деревенских дневников он привел в связь с крамолой, нет! Все это давным-давно известно, а главное, все это не может быть опровергаемо и, стало быть, нисколько не может волновать "этих разных семинаристов". В самом деле, разве я не знаю, что, например, я, один из "этих семинаристов", не похож на Пушкина? Разве я не знаю, что "Русский вестник" литература бельэтажа? Разве я не знаю, что "крамола" чудится этому бельэтажу литературы во всем и что нельзя написать "отрывка" из деревенского дневника и затронуть в нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь литературный сыщик не указал на тебя как на человека, которого следовало бы истребить? И чем я виноват, что я родился не в бельэтаже? Родись я в бельэтаже, а бельэтажный критик в лакейской, тогда он бы был представителем литературы кабака и харчевни, а я забрался бы в бельэтаж… Все от бога, господа, и в этих делах ничего не поделаешь. А они ругаются и за то, что родился не в бельэтаже, и за то, что не Пушкин. Но, милостивые государи, ведь и вы тоже не Пушкины. Разве господин Катков похож на Лермонтова или разве г. Щебальский напоминает Гоголя?
Повторяю, не это меня взволновало и раздосадовало; на все это, право, можно бы ответить и весело и остроумно, если б была охота и если бы наша жизнь не была так тягостна и так упорно не хотела хоть чем-нибудь облегчить угнетенную душу русского человека. Меня взволновала, благодаря этой критике, именно эта самая жизнь, жизнь деревенская, окружающая меня. Тысячу раз я говорил себе, что надо бросить писать о деревне, что теперь "поздно", что очерки и отрывки, при условиях, которыми окружена подобного рода литературная работа, бесплодны, не нужны, потому что не могут выразить всей многосложности того ненужного зла, которое введено в народную жизнь упорными и ужасными, по бессердечию, усилиями и с которым теперь деревня принуждена разделываться "своими средствами". Вот этот-то прилив обессиливающей тоски, тоски, прекращающей в конце концов всякую работу мысли, всякую возможность ощущать, будучи живым, что-нибудь, кроме страшного холода внутри и вне, вот в такое-то мучение и повергла меня статья бельэтажного критика. Она опять и в усиленной степени воскресила эту действительность деревенскую, от которой не знаешь, куда уйти, чтобы хоть здоровьем-то физическим запастись; она, доказывающая, что "очерки" и "отрывки из дневников" — ничтожество и посрамление литературы, сделала то, что сама действительность, которую "очерки и отрывки" не отражают и в самой ничтожной степени, вдруг встала во всем своем грозном безобразии и стала давить, гнести, царапать, рвать и мучить всеми муками, на какие способно без нужды, без смысла раздраженное существо. В самом деле, какие уж тут "отрывки" и "очерки"!
Чтобы хоть мало-мальски успокоиться от этого волнения, которое, я знал уж, не могло кончиться ничем, кроме упадка физических сил, я вновь взялся за газету, в которой было напечатано литературное обозрение; мне хотелось отвлечь мое волнение от мучительной действительности и сосредоточить его на чем-нибудь таком, что бы дало мне возможность хоть как-нибудь облегчить мое волнение, чего действительность не дает; думаю: перечитаю фельетон, проберу (мысленно) г. Каткова, проберу (мысленно) г. Щебальского, вот мне и станет легче. Взял я с этою целию фельетон и стал его перечитывать и, к величайшему моему удивлению, с первых же строк не только стал успокаиваться и перестал волноваться, но был поглощен соображениями совершенно новыми и неожиданными.
Дело вот в чем.
В том же самом литературном обозрении, где г. литературный обозреватель рассказывает о том, как г. Ще-бальский "изуродовал" нас всех, пишущих о народе, этот же г. литературный обозреватель упоминает о другом литературном произведении, напечатанном в том же номере "Русского вестника", где помещена и статья г. Щебальского. Произведение это, принадлежащее, без всякого сомнения, к литературе бельэтажа (оно напечатано в "Русском вестнике"), есть роман г-жи Толычовой, в котором рассказывается такая история: жили-были граф с графинею, и родился у них сын; но ехидная дворовая баба подменила графского ребенка своим ехидным дворовым ребенком, рожденным, по всей вероятности, незаконно, где-нибудь в конюшне или в хлеву. И вот возникает трагическое недоразумение: под именем графа, в графском бельэтаже, растет продукт лакейской и кучерской, "исчадие кабака и харчевни", а настоящий граф воспитывается в лакейской, впоследствии даже чистит сапоги попавшему незаконно в бельэтаж прохвосту, каковой прохвост и ругает настоящего-то графа всякими скверными словами, называет "неумытым рылом". Вот голый остов превосходного произведения г-жи Толычовой, и хотя я получил о нем понятие из сокращенного пересказа, сделанного литературным обозревателем "Голоса", но, признаюсь, оно дало моим мыслям совершенно неожиданный оборот. "Боже мой! — воскликнул я, — какое трагическое положение! Прохвост ругает настоящего графа за "неумытые руки", за то, что настоящий граф, волею судеб поставленный в положение человека низкого звания, не умеет правильно выражаться, говорит "руп на руп" вместо "рубль на рубль", "в Питенбурх" вместо Петербург, называет прохвоста "васясо" [8] вместо "ваше сиятельство", а на деле-то оказывается, что этот чванящийся своим бельэтажем проходимец сам бы должен был чистить своему теперешнему лакею сапоги и бегать у него на побегушках. Боже мой! — воскликнул я опять, — ведь, стало быть, бывают случаи такой глубокой несправедливости! Стало быть, возможно, что человек, сидящий в бельэтаже и кричащий "мы — бельэтаж", ругающий кабак и харчевню, брезгающий всем, что недостойно его общества, возможно, стало быть, что этот человек именно сам и есть истинный представитель кабака и харчевни?" Мысль г-жи Толычовой показать, что титул, дорогое помещение и грубость по отношению к меньшей братии еще не суть признаки благородства души и не могут еще служить основанием для всеобщего уважения, показалась мне достойной величайшего внимания. Если это та самая г-жа Толычова, подумал я, которая написала рассказы о 12-м годе, то самый возраст ее, свидетельствующий о ее огромной опытности и знании людей, должен быть порукою в том, что она недаром отметила эту черту нашего времени; она должна была видеть настоящие бельэтажи, и если в настоящее время задалась мыслью доказать, что не во всех бельэтажах живут порядочные люди, то, стало быть, черта эта особенно стала бросаться в глаза. И точно: я вот очень хорошо знаю, что волостной старшина Чуркин, уже набивший карман благодаря крестьянской безграмотности и нужде, через пять — десять лет очутится в Москве, наймет бельэтаж и начнет ругаться на свою же братию, мужиков, и что же? Неужели же я должен буду считать его представителем ума, таланта, совести, чести только потому, что эта скотина платит дорого за "фатеру"? А таких молодцов, будьте уверены, станет прибывать из деревень в город и столицы с каждым днем все больше и больше, и что же будет, если все они (сию минуту просто только мироеды), забравшись в бельэтаж, провозгласят собственную свою литературу, "почнут" отыскивать крамолу, а когда им не понравится какой-нибудь "отрывок" из деревенской жизни, напечатанный не в бельэтажном журнале, то они, без больших разговоров, будут прямо посылать своих литературных критиков в полицию? Ведь житья не будет!
Чтобы разрешить трудную в настоящее время задачу: "кто должен считаться истинно достойным жителем бельэтажа?", г-жа Толычова употребляет, как мы видели, прием весьма оригинальный. В графе, живущем в бельэтаже, она (если так можно выразиться) помещает подлую и низкую душу, а в лакее этого графа помещает душу высокую и благородную, и таким образом мерилом истинного аристократизма является благородство души, благородство и гуманность идей, намерений и поступков. Она как бы говорит: человек с титулом, но с низкою душою, и "в бельэтаже" есть не более как тварь, не стоящая внимания; а тот, кто без титула, находясь в самом низком звании, но обладает благородным сердцем и возвышенным умом, тот-то и есть истинный аристократ. Так у нее в романе и вышло: лакей оказался графом, а граф оказался лакеем и был выгнан из бельэтажа при помощи дворников.
Да! надобно г-же Толычовой отдать полную справедливость, она как раз во-время выдвинула на сцену позабытый некоторыми бельэтажами принцип "благородства души", как признак истинного аристократизма и права на привилегированное положение в обществе. Благородные помыслы и благородные поступки — вот единственные основания права считать себя человеком, стоящим выше толпы, выше улицы, выше харчевни. Посмотрите, пожалуйста, на следующие два эпизода, недавно прочитанные мною в газетах: от 6-го мая напечатана из Рязани такая корреспонденция: "Несколько дней назад в пригородном селе Кузьминском произошел следующий прискорбный случай. На другой день после бывшего там пожара прискакал в село, верхом на лошади, тамошний мировой судья князь К-н и стал сгонять кузьминских крестьян нагайкой, чтобы затушить те сто тридцать крестьянских дворов, которые еще накануне сгорели в селе дотла. Кузьминские крестьяне предположили, что их мировой, и прежде эксцентричный и взбалмошный, теперь просто сошел с ума, и стали по возможности уклоняться от его нагайки; но потом, видя, что князь К-н не пьян и не болен, а только страшно озлоблен на крестьян (курсив подлинника), начали выражать ему свой ропот на его грубое над ними насилие в довольно резких формах, особенно когда кн. К-н, разъезжая по пожарищу с плетью в руке, отхлыстал ни за что ни про что сельского старосту, избил нагайкой старика Беляева и иссек еще несколько лиц, случайно попавшихся ему под руку. Сын крестьянина Беляева, видя иссеченным своего старика-отца, в порыве понятного чувства и справедливого негодования на судью умолял' своих односельчан вступиться за его отца и стал выражать в селе порицание князю К-ну, утверждая, что его поступок есть грубейший произвол, так как по закону даже каторжных стариков не наказывают плетьми. Узнав об этом, мировой судья князь К-н страшно рассвирепел на сына крестьянина Беляева и послал тотчас же тамошнего урядника составить "протокол об оскорблении Беляевым мирового судьи при исполнении последним служебных обязанностей". Крестьяне же, в свою очередь, а особенно потерпевшие, собираются жаловаться на судью за дикую расправу. Но очень встревожены тем, как бы не вышло им из-за этого какой опаски" ("Голос", № 125).
В этом деле, как видите, действует князь, лицо, несомненно причисляющее себя к "бельэтажу". А вот другой случай, в котором играет роль, выражаясь языком бельэтажа, человек харчевни и улицы, просто-напросто урядник. "В Гадячском уезде, — пишут в том же "Голосе", — на одной сельской ярмарке произошел пожар. Урядник, находившийся здесь, ни с того ни с сего вообразил, что причина пожара — поджог, и, руководимый какими-то непостижимыми соображениями, поймал за шиворот одного из крестьян и стал его тащить куда-то, а так как крестьянин сопротивлялся, то урядник принялся его колотить, крича народу, что он поймал поджигателя; раздраженный пожаром народ целой массой навалил на несчастного мужика и принялся его тузить до того, что урядник сам должен был отбивать его и отбиваться от толпы шашкой. Избитый крестьянин оказался ни в чем не виноватым". Вот два деяния, из которых в одном действует князь, а в другом — плебей. Спрашивается, имеет ли князь К-н хотя малейшее право хоть чем-нибудь кичиться перед плебеем? И может ли означенный князь презирать этого плебея только потому, что он князь и обитатель бельэтажа? Кроме того, если поступок князя К-на, бесцельный и жестокий, не роняет значения того бельэтажа, к которому он себя причисляет, то почему и уряднику не считать себя достойным этого бельэтажа, раз он делает точь-в-точь такой же бессмысленный и жестокий поступок, как и кн. К-н? Но госпожа Толычова приходит нам на помощь и так разрешает запутанный вопрос: "Нет, — говорит она, — никто из вас недостоин бельэтажа, а оба вы, несмотря на разницу звания и состояния, заслуживаете арестантской. Бельэтажа достоин тот, кто, несмотря на звание и состояние, имеет благородную душу, не колотит людей зря, потому что так пришло в голову, не гонит нагайками тушить пожар, который кончился тому назад два дня, а приходит на помощь погорельцам, помогает ободрять словом, пользуется возможностью проявить свои благородные чувства. Вы же оба — не бельэтаж".
Признаюсь, чем больше и внимательнее вдумывался я в значение того глубокого смысла, который придает госпожа Толычова слову "бельэтаж", тем неудержимее возгоралось во мне желание узнать и точно определить, действительно ли "ихний" бельэтаж имеет права на ту наглость, с которою он кричит о своем высоком положении в обществе? Имеет ли право этот "ихний бельэтаж" кричать на весь свет: "Мы — литература бельэтажа, мы — представители и выразители высшего общества, мы — большой свет, мы — соль земли, а все остальное — сор и грязь, которую надо вымести вон, выбросить в канаву с нечистотами". И едва я начинал думать об этом, как уж, сам не знаю почему, чувствовал себя весьма неловко. "Ох, — говорил я сам себе мысленно, — ведь, пожалуй, что в этом бельэтаже не совсем чисто!.. "Фатера", — думалось мне со свойственной мне безграмотностью, — у "их" точно что в бельэтаже, а народ там, как оказывается, не вполне… нет!.. как будто бы не вполне господского звания! Фраки на них надеты, это правда, но ведь вот и у "татар" вся прислуга во фраках? А разговор ихний? А уж что касается разговору, так и в харчевне так не разговаривают, как в ихнем бельэтаже. На нашего брата из низкого звания серчают и начальству жалуются, когда по безграмотности скажешь "руп на руп", или "васясо", или "Питенбурх", жалуются и на весь свет срамят, а сами? Двадцать пять лет, день в день, час в час, изо дня в день и из часу в час, во все свои парадные окна, подъезды и швейцарские не войдут, не выйдут и не выглянут без скверного слова: "Мошенники пера! мерзавцы либерализма! разбойники печати! идиоты самоуправления!" Двадцать пять лет, на всю Россию, в окна и в двери, только и слышишь — скрежещут и орут: подлецы, мошенники, разбойники, плуты, идиоты. Только развернешь лист ихней бельэтажной газеты, на первой же строке скрежет и крик! И это с девяти часов утра каждый божий день, двадцать пять лет! Никому нет покою!"
До какой степени не одобряется человеком улицы, и вообще всяким, обывателем, созидающим благосостояние бельэтажа, — грубое, презрительное к нему, "обывателю и человеку улицы", отношение того же бельэтажа, — может служить случайная встреча и случайный разговор на железной дороге с одним старым отставным солдатом, многие годы служившим швейцаром во многих больших московских домах. Разговор с ним шел именно о трудности его службы, о необходимости потрафлять по характеру господ, причем немало из них любят помыкать прислугой почти ради только собственного удовольствия. Что меня особенно поразило в рассказе этого солдата, это случайно высказанное им порицание каких-то господ, проживающих в Москве на С м бульваре, у которых он жил в последний год и которых, за грубость обращения, не признавал господами.
— Все до единого сердитые-пресердитые! И гости-то и знакомые не войдут — не выйдут, чтобы глазами волчьими не сверкать и чтобы чего-нибудь сквозь зубы не шептать… И что за компания — понять невозможно!..
Никакого сомнения не было, что солдат служил именно в том самом доме, где хоть и есть мусорные кучи, но где есть и бельэтаж.
— Не печатают ли они какой-нибудь газеты? — спросил я швейцара.
— Как же! День и ночь печатают! И опять же таки и на бумаге все неприятность стараются сделать простому человеку.
Мнение швейцара подтвердилось как нельзя лучше.
Поезд подошел к Любани. Я и старик вышли. Он стал пить чай, а я пошел купить газету. Когда поезд тронулся опять, старик опять сидел против меня, и газета, которая была у меня в руках, опять заставила нас возобновить разговор и, к удивлению моему, разговор о том же самом "бельэтаже". Произошло это оттого, что в том номере газеты "Новое время", который я купил в Любани, на первой странице (№ 2231) в статейке "Охранители или опустошители?" шла речь именно об этом самом знаменитом бельэтаже.
Пробежав статейку, я невольно остановился на следующих строках: "…самое понятие "сильной власти" имеет для "Московских ведомостей" особый смысл, не всегда отвечающий тому представлению о сильной власти, какое дается примерами истории, политическими доктринами, наконец простым здравым смыслом". Припомним лишь несколько случаев из деятельности господ этого бельэтажа. Они, например, "были недовольны энергическим проявлением власти, когда шло дело о прекращении таких общественных бедствий, как занос чумы через Каспийское море или как голодовка в обширной полосе империи. Им казалось, что усилия власти, направленные к успокоению населения, роняют ее престиж. Они хотели, чтобы свою силу власть проявила пренебрежением к тревожному состоянию страны, бездействием в виду опасности".
Прочитав эти строки, я немедленно перечитал их моему собеседнику, но тот, не привыкнув к газетному языку, попросил меня рассказать своими словами.
— Дело в том, — сказал я, — что когда была чума и голод в восьми губерниях, так эти господа, что на бульваре-то бельэтаж нанимают, у которых ты служил…
— Ну-ну-ну!
— Они стали советовать начальству, чтоб оно не помогало.
— Не помогало?
— Да! Потому, говорят, если оно снизойдет, будут слушать, о чем тебя просят, так его уважать не будут, а если говорят, ты не будешь обращать внимания, плюнешь, тогда, говорят, и будут тебя почитать!
— Так. Это все одно, как ежели бы в старые времена, при господах, околела, положим, у меня лошадь и пошел бы я к барину, а барин вместо того, чтобы мне подсобить, плюнул бы мне в лицо и прогнал?
— Выходит, что так!
— А ежели бы он мне в моей нужде помог и дал бы мне лошадь, так я бы, стало быть, должен — не почитать за это?
— Должно быть, что…
— Это кто же говорит?
— Да вот… они!
— Всё в той фатере?
— Там!
Старик вздохнул и сказал, покачивая головой:
— Н-не знаю!.. Какое-такое отечество они обожают, а, по-моему, так за этакие слова не только что снисходить… Господи ты боже мой! зла-то и так между нами много! На то и начальство, чтоб его не допускать, на то и власть огромная, чтобы добро делать… Ведь вот голодные-то, сказывают, восемь губерний — ну, что они сами-то могут? Кто ж, как не начальство сделает? У начальства все есть, и деньги есть, и прикажет оно, так его должны слушаться, все есть, чего у нашего брата нет… А они говорят: не помогать!.. Нет! не настоящие это господа! Вот помяните мое слово!.. Ну-кось, почитай-кось, что там еще про них сказано?
Я снова взял газету и прочитал:
— "Еще более разительный пример мы видели в недавнее время, когда в правительственных сферах обсуждались вопросы по улучшению быта крестьян. Важнейший из этих вопросов, об обязательном выкупе, они трактовали с такой точки зрения, что если исключительные интересы землевладельцев не будут удовлетворены даже свыше полной меры, то государству грозит серьезная опасность". Власть приглашалась бельэтажем проявить свою силу страхом перед возможным неудовольствием некоторой части землевладельцев, хотя бы в ущерб справедливости и разумно понимаемым государственным пользам.
— Ну, что это такое? — спросил старик.
— А это вот что такое, кажется. Начальство хотело выкупить крестьян, которые до сих пор еще не выкупились, а потом само уж получить с крестьян. Дело в том, чтоб раз навсегда покончить. Ну, а эти, что на "фатере-то" живут, говорят: "А по какой цене выплачивать будете?" Начальство им отвечает: "По оценке, как в 61-м году была сделана оценка". А "в фатере-то" это не понравилось!
— Мало?
— "Мало, говорят. А отдайте нам, во-первых, по новой оценке, потому земля теперь вдвое, втрое дороже стала". Начальство им говорит: "Переоценку в 1880 году покойный государь отменил". А они отвечают: "А мы, говорят, обижаемся. Давайте нам "свыше полной меры". то есть выше чего земля теперь стоит.
Старик молчал и крепко думал о чем-то.
— Это что же будет? — сказал он наконец. — Предположим, купил я себе дом за тысячу рублей, будем говорить примером; через год пристроил я баню, и дом стал дороже; через десять лет выстроил я завод, он еще дороже. Что ж? старый хозяин все и будет ходить ко мне да взыскивать с меня: я, мол, продал тебе дом за тысячу рублей, а теперь он стоит пять, так позвольте мне четыре тысячи получить? Так, что ль?
— Право, не знаю. Выходит, как будто так.
— И все в той фатере?
— Все там.
— Нет! Не господа! Это не настоящие, уж поверьте моему слову, не настоящие! Это и мы, на что уж мужики, и то понимаем, что и господ не надо обижать, платим, готовы, но чтобы господа бы мужиков обижали, нехорошо! Хорошие господа никогда этого не делали. Что следует — брали, а уж что не следует, "свыше полной пропорции", это уж нехорошо! Брали и нам помогали, а эти, вишь, кричат: "Не помогай!" Видал я господ, только не похожи были они на этих. Я сам бывший крепостной князя Александра Ларивоныча Васильчикова… изволите знать?
— Как же!
— Ну, так вот настоящий барин, не то чтобы что, вполне князь! Спрошу я вас, дозволил ли бы он, чтобы, например, не помогать мужику или присоветовать, чтобы с него брали сверх препорции? Дозволил ли бы он себе дебоширничать или нехорошими словами ругаться, а тем паче советовать: не помогай? Ну, какие же это господа? Фатеру, точно, что фатеру хорошую нанимают, нечего про это сказать, но чтобы почесть их за благородных — нет! этого не будет!
Старик долго и убедительно говорил на ту же тему, сравнивая этот ихний бельэтаж, его дела и желания с поступками и мыслями своего покойного барина, и упорно настаивал на том, что "это не настоящие господа". Эти речи старика до такой степени много напомнили мне прошлого и так мрачно оттенили этим прошлым настоящее, что я даже был рад, когда, наконец, поезд подошел к той станции, на которой мне пришлось выходить.
Но рассказы старика о князе А. И. Васильчикове напомнили мне, что у меня дома уж несколько дней лежит книжка г. Голубева, посвященная описанию живни и деятельности этого общественного деятеля. И вот я, под влиянием непокидавшего меня желания убедить самого себя, что права "ихнего бельэтажа" на гордость, самохвальство и настойчивость, с которою он умеет достигать своих, не всегда приятных для общества, целей, не имеют достаточных оснований и вообще могут быть оспариваемы вполне основательно, немедленно по возвращении домой принялся за чтение книжки г. Голубева "Александр Илларионович Васильчиков".
Я прочитал эту книжку почти не отрываясь, и уж с первых страниц и затем на каждой строке и странице не мог не говорить себе: "Да, это вот бельэтаж, это благородство души, это благородство поступков". Нет сомнения, что я, как плебей, во многом не соглашался с почтенным общественным деятелем и, зная свою плебейскую среду, не раз говорил, что "это, мол, не подходит к нам", "от этого не будет толку", "это нам не к руке", но все-таки не могу выразить, до какой степени мне было приятно вновь переживать и вновь передумывать то же, что переживал и передумывал этот справедливо и гуманно думавший человек.
Посмотрите, в самом деле, какая непроходимая разница между этими "барскими барами", кричащими на весь свет: "мы бельэтаж, мы соль земли", и настоящим, благовоспитанным, никогда не обращавшим внимания общества на то, что он нанимает дорогую "фатеру". А. И. Васильчиков в самом деле барин, князь, что весьма не мешает помнить сомнительным аристократам ихнего бельэтажа. Не мешает им, что-то такое бормочущим о Пушкине и Лермонтове, принять к сведению и то обстоятельство, что кн. Васильчиков в молодости близко знал их, воспитывался произведениями этих писателей; на его глазах был убит Лермонтов, при нем же убили и Пушкина. Эти две смерти восторженно любимых писателей навсегда запечатлели в нем любовь к ним и решительно и навсегда оттолкнули его впечатлительную и благородную душу от того кружка тогдашних бельэтажей, где, по словам биографа, находились такие люди, которые открыто "оправдывали убийство", извиняли волокитство и обвиняли поэта в излишней ревности.[9]
Общество, в котором одобряют убийство и обвиняют таких убитых, как Пушкин, общество, где Лермонтовы сами ищут смерти, несмотря на свои бельэтажи, несмотря на полную возможность занять в нем одно из самых первых мест, не влекло к себе А. И. "С ранней молодости, — говорит он, [10] — я почувствовал всю ничтожность канцелярской службы и необходимость узнать быт народа… в провинции, в деревне, где уныло и мирно течет трудовая жизнь". И вот, чтобы найти себе дело вне Петербурга, где, по его словам, "все представляется в ложном свете", он занимает выборную должность уездного предводителя дворянства. Первое, что начинает мучить его при столкновении с тем обществом, в котором ему приходится жить и действовать и представителем которого он избран, это, во-первых, безнравственность тогдашних владельцев и беспомощность крестьян… "Я производил, — говорил он, — несколько дел о распутном поведении владельцев, сопровождавшихся самыми отвратительными преступлениями. Но, к стыду нашего времени, должен сознаться, что редко находил возможность обвинить преступника; показания крестьян против господ не принимались к сведению, а соседи отзывались незнанием или даже одобряли поведение того же самого барина, которого они считали мерзавцем и подлецом".
Невозможность для крестьян добиться правды и внимания к себе — также характерная черта того времени — возмущала его едва ли не больше общественной безнравственности. Он с глубоким негодованием рассказывает, как губернское начальство требовало примерного наказания бунтовщиков-крестьян, весь бунт которых заключался в том, что они, лет десять прожив на полной свободе, согласие законному духовному завещанию покойного барина, вдруг неожиданно опять оказались крепостными. "И действительно, — говорит он в глубоком негодовании, — наказание было примерное: десять дней крестьян усмиряли всякими средствами, добиваясь от них повинной, но, не добившись ее, пятнадцать человек увели под прикрытием целой роты прямо в Сибирь". Зная те круги общества, которые порицали Пушкина, ознакомившись с безнравственностию тогдашнего общества, считавшегося интеллигенцией, и глубоко тронутый бесправием народа, он с искренним негодованием говорит в своих заметках о тех землевладельцах, которые бросают на произвол управляющих свои обширные поместья, безжалостно относятся к участи миллионов своих крестьян, предпочитая строить себе дачи из барочного леса, чтобы быть ближе к тем сферам, где раздаются пироги.
И вот, начиная с крестьянской реформы и непрерывно в течение двадцати пяти лет, кн. Васильчиков упорно преследует, насколько возможно, одну только цель — устроение освобожденного народа "по правде и справедливости". Проследить эту деятельность подробно — и рассказать ее шаг за шагом мы не имеем никакой возможности. Мы отметим только то, что считаем самым главным в этой деятельности, самым существенным, и сопоставим мнения кн. Васильчикова, касающиеся этого главного и существенного, с мнениями знаменитого бельэтажа.
Время, которое настало после освобождения крестьян, и задачи, которые оно поставило на очередь, кн. Васильчиков определяет таким образом:
"Для нас в России нет предмета более поучительного и вместе с тем более современного, как исследование тех превратностей, через которые прошло землевладение в Европе. Оно своевременно потому, что мы именно вступаем с освобождения крестьян в тот период общественного устройства, когда закладываются главные основы социального быта. Оно поучительно потому, что в истории европейского землевладения должно проследить и длинный ряд грубейших ошибок, насильств, несправедливостей и правильный ход цивилизации" (стр. 70). Заметив появление в народной среде зачатков пролетариата и ужасаясь, что признак этот грозит развитием имущественного неравенства, развитием нищенства и безземелья и вообще того строя, "который процветает в Западной Европе" (стр. 104), он говорит: "Этот момент надо схватить и принять меры к предотвращению опасности. Вопрос этот важен именно в настоящий момент нашего внутреннего устроения, ибо не надо думать, чтобы какое-либо правительство или общество могло по своему произволу выбирать удобное время для организации поземельной собственности. Во всех государствах наступает известный момент после свержения ига крепостной или феодальной зависимости, когда внутренние отношения граждан к земле слагаются в известные формы и когда предусмотрительное правление может направить эту организацию и, не насилуя народных нравов и стремлений, не нарушая ничьих прав, дать им разумные руководства.
Но этот момент очень краткий, и, упустив его, случай потерян навсегда; мирный исход навсегда закрыт, и остается только путь, которому и следуют европейские государства, с беспрестанными колебаниями взад и вперед".
Что же должно было делать, по мнению кн. Васильчикова, чтобы трудный и опасный исторический момент, в который вступила Россия, был пережит "без нарушения чьих бы то ни было прав" и без "насилия народных нравов"? По мнению кн. Васильчикова, огромная задача, заданная России крестьянской реформой, могла быть разрешена только при помощи:
Во-первых, народной школы, во-вторых, самоуправления, и, в-третьих, гласного суда (стр. 48), и притом введенных не в разбивку, а единовременно, сразу, так как только введенные сразу они положат прочное основание самоуправлению вообще.
"Народное образование есть вопрос жизни и смерти для народов нашего века, и величие современных держав зависит от числа грамотных еще более, чем от числа солдат" (стр. 48). "Коль скоро дело заходит о преобразованиях, которые им (бельэтажу) не по сердцу, они прибегают к аргументу о неразвитости нашего населения и предлагают предварительно заняться обучением народа, подготовлением, рассчитывая довольно верно, что эти предварительные занятия займут целые поколения и отсрочат надолго ненавистные им реформы" (стр. 38). "Мы не беремся доказывать им (бельэтажу), что народ воспитывается... не в одних только школах, но гораздо более и действительнее в гласных судах и собраниях, что самоуправление точно так же, как и грамотность, составляет элементарное образование народа… они это знают и поэтому опасаются этого движения к свету и порядку" (стр. 38). "Если не будет принято мер к правильному образованию народа, то мироеды их (крестьян) объедят, а пьяницы разорят" (стр. 26).
Итак, школа и самоуправление неразрывны в воспитании народа. О "самоуправлении", как известно, кн. Васильчиков написал целое большое исследование, в котором разработал вопрос во всех подробностях; касаться Эт их подробностей мы не будем опять-таки потому, что нам не позволяют этого тесные пределы нашей заметки.
Сделаем поэтому только одну, самую существенную для нас, справку:
"Главное и высшее значение земского самоуправления заключается именно в том, что оно учреждает законный порядок для обсуждения так называемых социальных вопросов, обсуждения, возможного только в местных собраниях и сходках всех обывателей" (стр. 45). "В развитии этой формы управления, выражающего правильное взаимодействие народных желаний и местных властей, в пределах закона и под охраною суда", кн. Васильчиков видит: "решение будущей судьбы не только русского и всех прочих современных обществ, но и разрешение грозной задачи: должны ли народные массы окончательно подпасть под руководство революционных партий или же, при правильной организации местного самоуправления, могут ожидать постепенного разрешения вопросов образования, кредита, уравнения податей и повинностей" (стр. 45).
Если бы мы хотели входить в подробности, в которых должна бы и могла проявиться основная идея "устроения" так, как ее понимал кн. Васильчиков, в применении к ежедневным и мелким нуждам народа, мы бы никогда не кончили выписок и цитат из книги, которою пользуемся. Ограничимся поэтому тем, что приведено выше. Нам известен взгляд кн. Васильчикова на послереформенное время вообще, известна многосложность задачи, выпавшей на долю общественного деятеля, известны главные факторы, при которых задача эта могла бы быть разрешена, — школа и самоуправление; известны, наконец, и некоторые формы практического применения основной идеи устроения среди народной массы. Этого, по нашему мнению, вполне достаточно для того, чтобы читатель мог представить себе нравственный облик человека, о котором идет речь. Вы видите, что это человек не своекорыстный, честный, развитой, великодушный, умный, добросовестный. И можете представить, ни в чем он не имел успеха!
За исключением ссудо-сберегательных товариществ по части сельского кредита, ни одна его мысль, ни одно его соображение или указание не вошло в жизнь, ни в чем не осуществилось. Да и ссудо-сберегательные товарищества, о которых он сам говорил, что они "составляют только первую ступень общей организации народного кредита, который надо постепенно расширять в виду нарастающих нужд сельского хозяйства" (стр. 104), — и они, введенные с огромными ограничениями, оторванные от малейшей возможности придать им характер учреждений, имеющих в виду общественную пользу, а не пользу мироедов и кулаков, я думаю, не могли не огорчать их устроителя по своим, вовсе неожиданным для него, результатам. Но и такие осколки от большого плана "народного кредита", и те, как свидетельствует г. Голубев, при самом своем появлении на свет были встречены весьма недружелюбными людьми: "Независящие обстоятельства доходили до того, что в 1872 году, когда комитет о ссудных товариществах пожелал устроить на политехнической выставке витрину для продажи своих изданий "о том, как можно бы избавиться от ростовщиков", "артели рабочих", так желание комитета встретило целую массу затруднений, начиная с того, что для этих книг было отведено место среди машин, а когда на витрине была прибита вывеска, то полиция усомнилась в легальности комитета и, несмотря на представленные документы, доказывающие, что комитет получает даже правительственную субсидию, настояла на том, чтобы вывески не было. Личное посещение выставки министром финансов Рейтерном, публично заявившим комитету благодарность, заставило весь враждебный витрине синклит переменить мнение". [11] "Незадолго до своей смерти, — говорит биограф, — кн. Васильчиков получил высочайшую благодарность за деятельность по народному кредиту, красноречиво свидетельствующую о том, насколько эта деятельность была социалистическою, каковою желали признать ее слишком усердные поборники порядка, эти настоящие темные, вредоносные силы России". [12] Но опять-таки повторяем, эти попытки устроения кредита сам кн. Васильчиков считал только первою ступенью… Что ж бы было, если бы он взялся за вторую?
Отчего же такая немилость? Откуда идет это расстройство? Да все оттуда же, из "ихнего" бельэтажа; бельэтаж ихний начал действовать, и не то чтобы действовать, а прямо уж спасать. Крики: "мошенники", "негодяи" уже начали раздаваться в самую раннюю весну послереформенного времени. Говорить подробно о всех средствах спасения, какие пускал в ход вышеупомянутый бельэтаж, мы не имеем возможности; следовало бы перерыть и подробно исследовать все проделки этих спасителей: труд огромной общественной важности, сию минуту, однакож, ни для кого не возможный. Поэтому скажем только, что если было на Руси за последние годы сделано для нее что-либо доброго и в самом деле необходимо важного, так все это вышло не из ихнего бельэтажа.
ПИСЬМО В ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ [13]
{* Во время печатания этого письма Г. И. Успенского мы получили от последнего небольшое дополнение, которое и помещаем в примечании по его желанию:
"Около 24 июля и особенно около 14 ноября прошлого года и в промежутке времени между этими числами, также и после 14 ноября, до настоящего времени, я получил с разных концов России много самых сочувственных мне писем и телеграмм за подписью более двух тысяч лиц разного звания и общественного положения. Я положительно не нахожу слов, чтобы не только достойно отблагодарить моих читателей за такое неожиданное ко мне внимание, но и сам не могу еще разобраться в многосложности пережитых мною за это время впечатлений. Ответ моим читателям я дам подробный и искренний тогда, когда буду в состоянии это сделать. Теперь же я могу сказать только одно: моя благодарность так же неизгладима в моем сердце, как неизгладимо пережитое мною впечатление. Г. У.". (Примеч. ред. журнала "Русская мысль"). }
Два с половиною месяца тому назад я имел честь получить уведомление от Общества любителей российской словесности об избрании им меня своим почетным членом.
Высокая честь, которой удостоило меня почтенное Общество, была для меня так неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна, что я не решился тотчас же отвечать на это извещение. Я чувствовал, что при обычном недосуге, а главное, повторяю, именно вследствие неожиданности и многосложности полученного мною впечатления, моя торопливая благодарность могла быть высказана тогда только в самых официальных выражениях, а я этого никак не желал.
Мне хотелось поблагодарить почтенное Общество таким образом, чтобы оно могло видеть, как именно понимаю я сделанную им мне великую честь, и могло бы убедиться, что моя глубокая благодарность имеет существенные и важные для меня основания.
На выполнение этого желания требовалось некоторое время и несколько спокойных часов, и вот почему я предпочел аккуратность отправки официальной благодарности — благодарности хотя и запоздалой, но искренно и тщательно обдуманной.
Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то и другое ни в каком случае не может идти в какое бы то ни было сравнение с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом любителей российской словесности.
Вот почему я искренно рад верить, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном отношении, воздавать мне чести неподобающей и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне, по совести, быть не место, — делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и незатруднительных для моего понимания.
Я думаю, что догадки мои о причинах оказанного мне Обществом любителей российской словесности внимания не будут особенно ошибочными, если я попытаюсь выяснить их, основываясь на мнениях о моей литературной деятельности, высказанных мне в многочисленных письмах и телеграммах, которыми почтили меня мои читатели.
Но из всех многоразличных суждений моих читателей о моей деятельности я, для краткости и ясности дела, позволю себе остановиться только на таком из них, которое, во-первых, лично мне кажется непреувеличенным, во-вторых, составляет более или менее существенную черту всех вообще мнений о моей деятельности, высказанных в письмах, и, в-третьих, выражено в самых простых и ясных словах. Такое простое, ясное, понятное мне мнение выражено в письме, присланном мне от 15 человек рабочих, то есть от людей, которые только что, как говорится, прикоснулись к книге и думают о ее достоинстве без всяких иных соображений, кроме соображений о действительной пользе, которую этим простым людям приносит та или другая книга.
Чтобы почтенному Обществу было видно, что мнение о полезной книге высказано точно простым человеком, а не навеяно или внушено кем-нибудь не причастным к интересам жизни простого народа, я приведу из упомянутого адреса несколько отрывков, характеризующих как среду, из которой послышалось мнение о хорошей книге, так и самое это мнение:
Стыдно нам, русским рабочим, делается тогда, когда мы всюду слышим похвалы заграничным вещам. Говорят, что их вещи и дешевле и лучше и что только за границей изобретают хорошие машины и другие вещи. И нам обидно становится. Чем хвалить заграничное и порицать русских рабочих, не лучше ли устроить школы, где могли бы мы, рабочие, учить физику, механику. Вот тогда бы мы, русские рабочие, не хуже заграничных могли бы сделать что угодно. Вот оттого-то и обидно слышать порицание, в чем мы не виноваты. И грустно и тяжко на душе… Что-то темно и непонятно.
Я думаю, что так может писать и говорить только действительно простой, рабочий человек, и вот как этот простой человек рисует свое незавидное положение, от которого — как ни покажется это удивительным — спасает его только книга:
Как подумаешь о себе и своей доле, невесело станет на сердце. Видим себя одинокими, беспомощными… Мы видим, как иные бессердечные люди на каждом шагу унижают нас и наших товарищей, смотрят на нас с презрением, называют глупым народом и в своих словах умышленно выставляют нас лентяями, пьяницами и считают рабочего последним человеком. Своим черствым сердцем не умея нас понять, они судят о нас по давно прошедшему времени и думают, что мы и теперь как были в крепостное время, что мы, как они, словно столб, врытый в землю, подгниваем на одном месте. Они своими слепыми глазами видят в нас только грязных, неуклюжих рабочих. Пора им перестать видеть в нас непонятное стадо глупых людей и говорить, что мы неспособны понимать правду, не нуждаемся в образовании, не любим читать хорошие, дельные книги. Пора перестать говорить нам, что мы должны думать только о еде и работе.
На всех шестнадцати страницах (в четверку) письма рабочих только в двух-трех местах, и только слегка, упоминается о невзгодах жизни в материальном отношении, о нужде и бедности. Самым же главным несчастием простого рабочего человека оказывается невежество, темнота, отсутствие нравственной поддержки, дающей возможность ощущать в себе человеческое достоинство. И вот эту-то нравственную поддержку, как оказывается, простой человек нашел, по словам адреса, в "хорошей" книге. Чем же собственно хорошая книга помогает простому рабочему человеку? В ответ на это выписываю еще небольшой отрывок:
В праздничные дни и по вечерам мы полюбили читать хорошие книги, и вечер проходил незаметно. Довольные чтением, мы расходились с волнением в душе, и забывалась на время тяжелая доля рабочего, жизнь на заводах и фабриках, тяжелая, обидная, бесправная, полная бранью и унижением. Мы чахли в ней, чахли и наши дети по фабрикам и мастерским. Но вера в добро и правду не покидает нас, облегчает измученное сердце, и надежда в душе загорается. Утром (после вечернего чтения) мы идем на работу, но сердце весело, потому что теперь вокруг себя мы видим все ясно и понятно, и жаль нам становится своих товарищей, которые живут в темноте и невежестве, и мечутся эти горемыки, проклиная долю рабочего, проклиная себя и свою неповинную семью. И верится нам, что настанет хорошее время, когда все рабочие разовьются, поумнеют и полюбят хорошее чтение, будут дружно жить и любить товарищей, убавится тогда пьянство и разгул, и тогда нас, рабочих, все станут уважать.
Вот какое значение простой человек придает книге. Не от нее он ждет, по крайней мере сейчас, изменения в своем личном положении. "Книга" ничего не изменяет в его труженической жизни и материальной обеспеченности. Он и после прочтения хорошей книги, как видим, ранним утром, "чем свет", так же идет на работу, как и тот его несчастный товарищ, который вчера вечером только пьянствовал с горя. Тот, кто не пьянствовал, а читал, счастлив именно только тем, что читал, что ему стало ясно и понятно вокруг себя, тогда как тот товарищ его, который не знал удовольствия провести вечер с книгой, несчастен и достоин жалости потому, что, страдая, не понимает своего положения и испытывает только беспомощность и одиночество.
Для этой хорошей книги они, по словам составителей письма, добрались не вдруг, а после долголетнего одурманивания себя лубочною литературой.
Мы, темные люди, ничего об этом (о хорошей книге) не знали, а шли на базар и покупали те книжки, которые предлагал нам услужливый разносчик. Мы верили его похвалам, которые он рассыпал своему товару. И вот теперь, когда мы узнали хорошие книги и немного развились, когда в праздничный день идем по базару, то с грустию на сердце видим, что есть еще много нашего брата, который пробавляется этими книжонками. Сколько прошло времени, сколько пролетело юных годов бесплодно, пока мы сами, своим умом и желанием к развитию, а иногда и с помощию добрых людей, добрались до хороших книг, которые открыли нам глаза, показали свет и правду. Мы сумели сами для себя извлечь из этих хороших книг для себя пользу. Мы научились думать о своей жизни, о своих товарищах, о жизни разных людей, научились отличать добро от зла, правду от лжи.
Вот в число таких-то книг, по словам письма, между многими другими хорошими книгами попали и мои, и характеристика того, что именно в этих книгах показалось простым людям достойным внимания, выражена такими словами:
Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книги, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите справедливо, так что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий подумает о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце.
Никаких иных дополнений простой человек к этой характеристике не прибавил и в этом отношении, повторяю, вполне совпал с сущностью всех прочих сочувственных мне писем. Действительно, "желание писать справедливо" всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек подумал "о темном и светлом житье простого человека".
Это действительная правда! И если высокоуважаемое Общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом — именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искренна и чистосердечна должна быть ему моя благодарность: честь, сделанная мне, есть, вместе с тем, приветствие и поощрение того рода литературы и тех ее участников, которые руководствуются такими же простыми целями, а главное, приветствие и тому простому читателю, который только что добрался до хорошей книги.
Что этот читатель не остановится на первых, одобренных им книгах, а пойдет дальше, можно видеть также из следующих слов простых людей:
Теперь мы видим, сколько есть добрых людей и сколько есть прекрасных книг! Их столько, что нам читать и не перечитать во всю жизнь!
Но читать эти книги добравшийся до них простой человек будет наверное, и, следовательно, книга, то есть русская и общечеловеческая "словесность", как видим, уже имеющая нового пришельца читателя, будет иметь его в огромном количестве.
Ввиду всего этого я, принося почтенному Обществу еще раз личную мою благодарность, глубокую и искреннюю, не могу с своей стороны ничем иным приветствовать его, как только радостным указанием на эти массы нового, грядущего читателя, нового, свежего "любителя словесности".
СПб,
6 февраля 1888 г.
А. П. ЩАПОВ
Среди коренных, чистокровных "сибиряков", честно послуживших общему делу русского народа, чтимых и ценимых всею Россией, — имя А. П. Щапова несомненно занимает первенствующее место. Его происхождение, среда, в которой он родился и жил с раннего детства, а главное, исторические особенности, при которых эта среда сложилась, — все это самым определенным образом отразилось на его литературной деятельности и на всей его жизни,
Не имея возможности в этой краткой заметке с должной внимательностью обозреть все, что сделано и пережито А. П. Щаповым, мы позволим себе остановить наше внимание только на тех характерных чертах его литературной деятельности, в которых ясно Отразились особенности этого великоруса-сибиряка, особенности ве-ликорусско-сибирской жизни и великорусско-сибирских исторических преданий, и делаем это потому, что именно только благодаря этим особенностям жизни великоруса-сибиряка историк Щапов имел возможность осветить некоторые явления общерусской жизни таким ярким светом и выставить их в таких осязательно живых образах, которые уже значительно затуманились в сознании просто великорусского человека, жителя и деятеля внутренней России, хотя и родоначальника великоруса-сибиряка.
Славянофильство, как известно, нашло в Щапове ревностного и искреннего поклонника, раз только он отдался изучению основ жизни русского народа. В 60-х годах в пору расцвета деятельности А. П. Щапова, литературная деятельность славянофилов, затихшая было в последние годы царствования Николая, также расцвела пышным цветом, и славянофильская печать изобиловала крупными работами по исследованию русской народной старины и коренных устоев народной жизни. В смысле обилия и тщательности литературного труда славянофильская партия сделала в эти годы, быть может, несравненно более, чем за весь прошлый период своего существования. Но все это "литературное дело" уже не могло быть согрето пламенною верою в возможность "животворения" прекрасного прошлого в условиях настоящего времени. Самый искренний и самый ревностный защитник "прекрасной старины", самый ярый славянофил 60-х годов, все равно — петербургский или московский великорус, не мог уже не смотреть на это прекрасное прошлое именно как на прошлое. Прожив из рода в род в условиях, совершенно к этому "прекрасному" неподходящих, он мог ценить его в своем сознании, но уж не мог ощущать близости этого прошлого к самому себе, к своей личности и своей личной жизни. Еще шапку боярскую, косоворотку и овчинниковской работы жбан он мог перенести из этого прошлого в свой современный отель, и даже отель мог облепить петухами и обвесить русскими полотенцами, — но уже знал, что ему нельзя "самому приказаться" на службу великокняжескую, [14] знал уже, что нельзя ему жить на свете, не заглядывая в биржевые известия газет, что нельзя ему жить без дивиденда, без купона. Скорбя о "прекрасном прошлом" теоретически и лелея в своем воображении прекрасный образ старинного русского крестьянина, "созидателя" русской земли, он на деле, наученный опытом жизни "не народной", не задумываясь, например, устраивал винокуренный завод и не церемонился с потомками "прекрасной старины", основывая предприятие, успех которого обеспечивался прямехонько народным крестьянским расстройством. Даже и в лучшем случае, то есть только в мечтаниях о прекрасном прошлом и (минуя настоящее) о прекрасном будущем, всякий такой петербургский или московский славянофил не может уже не принимать во внимание всю многосложность о бок с ним идущей европейской, общечеловеческой жизни и, таким образом, не может жить прелестями прошлого. Хорошо оно, прекрасно, справедливо это прошлое; он знает это во всех мелочах и подробностях, но жить этим прошлым для него уж решительно невозможно.
Вот почему иной завзятый славянофил, будучи неумолимым ненавистником "новшеств" на страницах своей книги или газеты, — мог весь век спокойно прожить в условиях ненавистного ему "иноземного, иночиновного" строя жизни. Не так вышло с Щаповым, жизненная карьера которого была, как известно, надломлена в самом начале его литературной деятельности, и надломлена именно потому, что симпатии Щапова к "прекрасной старине" были для него делом самым близким, жизненным, почти ощущаемым в окружавшей его действительности.
Чтобы видеть, почему для сибиряка Щапова народная старина могла казаться близкой и почти ощутимой в действительности, необходимо припомнить, что в основных началах жизни великорусского человека, сделавшегося "сибиряком", лежало главным образом желание отстоять за собой право жить по старине. Великорус делался великорусом-сибиряком, появлялся в глухой и отдаленной стране главным образом потому, что либо добровольно не хотел покоряться никаким, нарушающим старые порядки, "новшествам" или сам был изгоняем этими "новшествами", как вредный для их развития элемент. В том или другом случае он появляется в Сибири только потому, что здесь, в глуши, можно было жить по традициям старины, причем "старина" эта для вольного или невольного беглеца была вовсе не стариной, а самым живым, справедливым божеским житьем.
Великорус-сибиряк Щапов был сибиряком не только по месту рождения, но и по родственности духа с теми вольными и невольными колонизаторами Сибири великорусами, которые так или иначе потерпели от новшеств и родословие которых имеет несомненную связь с самыми отдаленными представителями "упорного" против "новшеств" великорусского типа. По словам г. Аристова, которому принадлежит весьма обстоятельная биография А. П. Щапова, последний, толкуя с ним о своем происхождении и предках, сообщил ему, что прадед или пра-. прадед по его отцу служил священником в одном из сел какой-то губернии в средней России и был сослан в Восточную Сибирь за какое-то неизвестное преступление. "Я думаю, — говорил Щапов, — что предок мой переселен за упорство в раскольничьих убеждениях, и вот на каком основании. В именном списке выборных депутатов в екатерининскую комиссию о сочинении проекта уложения значится депутатом от раскольничьих слобод войсковой обыватель Иван Щапов". А. П. Щапов, указав при этом г. Аристову этого выборного в материалах для истории комиссии под № 143, напечатанных в "Русском вестнике", прибавил: "видно, когда моего предка священника сослали в Сибирь, родной брат его улизнул к казакам. Вот какая моя знаменитая родословная!" (стр. 4). Родной отец А. П., дьячок села Анги (Иркутской губ), женатый на простой крестьянке, "бурятке", всю жизнь тянувшей вместе с мужем крестьянскую лямку и даже всю жизнь носившей крестьянское платье, конечно этот бедный сибирский дьячок находился уже в самом отдаленном родстве с "упорным" своим предком екатерининских времен, как и этот последний, в свою очередь, был уже целым столетием отделен от родоначальников "упорного" типа великорусских людей. Но нет почти никакого сомнения, во-первых, в том, что духовное родословие ангинского дьячка корнями своими исходит именно из условий, породивших на Руси тип "упорного" против новшеств человека, а во-вторых, в том, что дух этого родового упорства и его сущность не могли не дожить и до времени детских лет А. П. Щапова, а следовательно, не могли не оказать и влияния на направление его нравственных симпатий. Если в ином действительно "знаменитом" родословии целые столетия не забывается и переходит из рода в род какое-нибудь воспоминание о шубе, "пожалованной" с собственного плеча князя Суздальского, то также не могут забыться и предания таких родословий, у которых, как у "упорных" против новшеств людей, накоплена горьким опытом жизни такая несметная масса своеобразного жизненного материала. Могут забыться и растеряться в длинном пути столетних затруднений фактические подробности того или другого "родословия" сибирских великорусов, но не может погибнуть идея, руководившая "упорными" людьми в их жизненном опыте, не может не дойти до самых отдаленных потомков этих "упорных" людей сущность тона их жизни и стремлений. Если же принять во внимание, что не только в семье собственно А. П. мог и должен был сохраняться тон и смысл существования его "упорных предков", но что и во всем окружающем его детство обществе и народе, состоявшем так же, как и он сам, из потомков все тех же борцов с новшествами или их жертв, — то нельзя не видеть, что живые впечатления "прекрасной старины" могли быть ощущаемы юным сибиряком как действительные впечатления его личной жизни.
В каких же очертаниях и с какою нравственною сущностью могла ощущаться Щаповым "прекрасная старина", донесенная до времени его юношеских лет, в родовых преданиях как его собственной семьи, так в преданиях вообще семей коренных сибиряков, среди которых он провел самые впечатлительные юношеские годы?
Произведения Щапова служат наилучшим изображением того пути мысли, по которому вело его родственное чувство, почти личная, родовая связь с самыми отдаленнейшими прародителями "упорного" великоруса. Как на собственное свое личное, родовое достояние, набрасывается он на бумаги, попавшие в Казанскую духовную академию из Соловецкого монастыря и раскрывающие во всех подробностях историю борьбы упорных ненавистников новшеств с этими самыми новшествами. Под влиянием сильнейшего пробуждения, благодаря этим бумагам, почти сыновней любви к своим "упорным" предкам, он сразу находит совершенно определенный смысл и цель своей литературной деятельности, до сих пор колебавшейся в избрании тем и задач. Прекрасное прошлое воскресает в его воображении в таких ярких образах, какие может вызвать и олицетворить только личная с этими образами связь и личная к ним горячая любовь.
Вот, между прочим, несколько строк, принадлежащих самому Щапову, в которых он живописует цели и желания своих упорных предков в то далекое от нас время, когда они еще и не думали делаться "упорными".
"Избрание царя Михаила Федоровича волею народа, всею землею, по записи совета всей земли; жизненная народная потребность нового соединенно-областного земского строения на свободных, излюбленных самим народом началах любви, совета, единения; естественное, жизнью народа требуемое и выработанное право на местные земские советы и на общие земские сборы; наконец, исстаринное жизненно-народное право земской областной гласности перед правительством; — все это, по наивным мечтаниям тогдашних земцев, естественно, неотъемлемо уполномачивало областные общины смело вопиять к избранному народом царю, протестовать против произвола, насилия и стеснений, представлять различные интересы и потребности местной областной жизни; сообщать местно-областные, жизненно-народные материалы для законодательства; подавать местно-областные советы общему земскому совету и царю и требовать на живые, свободные, прямые вопросы жизни — прямых, свободных, живых ответов…" [15]
Вот в каких привлекательных чертах изображает Щапов цели, желания и стремления своих предков, еще и не думавших быть упорными, а твердо веривших, что, пережив тяжкие годы смутного времени, надобно жить, наконец, и по-божески. В уважение к требованиям земских людей учрежден был в Москве специально челобитный приказ, в который и стали поступать со всех концов русской земли и "советы", и "просьбы", и вопли, и даже "требования"… Кстати сказать, количество воплей или вопияний решительно преобладало над всякими советами и требованиями. Перечислению этих воплей, и притом в самых сжатых выражениях, посвящены в небольшой брошюре Щапова сплошь две страницы, начиная с 14-й и кончая 17-й. А с этой 17-й страницы начинается уже только описание отчаянного положения "земских людей", еще так недавно позволявших себе мечтать о каких-то советах и требованиях.
В то время, когда земские, люди вопияли о том и о другом, "московская централизация успела уже сильно сдавить, "стянуть" и вообще поглотить областную жизнь" (17). Повсюду в областях было введено уже воеводское управление, вместо выборного самоуправления и самосуда. Вольно-народная колонизация и свободное самоустройство городских и сельских общин окончательно заменилось приказно-правительственной колонизацией, казенным городовым делом, указным устройством городов, острогов. Равноправное, свободное экономическое саморазвитие земства сильно подрывалось несправедливым, вопиющим разъединением земства на тяглые и льготные общины. Неравные государственные условия экономического состояния общин и частных людей порождали вопиющее экономическое неравенство в народе, порождали множество голутвенных, обнищалых, оскуделых до конца людей, рядом с отяжелевшими от богатства привилегированными людьми. Экономические интересы земства поглощались интересами и прибылью казны. Доходы народные стягивались в казну разными сборами, податями и тяглами. Началась сословно-записная или сословно-разъединительная систематизация и рассортировка земства. Вольные народоправные волости к концу XVII века были окончательно разделены на классы крестьян: помещичьих, казенных и дворовых. Систематически совершалось сословное, хозяйственное и бытовое разъединение. Вследствие разделения земского и церковного дела духовенство теряло нравственную силу, и влияние его на земство нравственно падало. Наконец образовалось особое служилое сословие приказного городового дворянства. Бояре, дети боярские и приказные люди в приказных службах и поместьях владычествовали над народом, обогащались за счет народа; боярство стремилось приобрести перевес над земством. Московские знатные бояре делались при москов дворе временщиками. Произошло даже разделение между государевым, царственным и народным, земским делом, разделение, официально высказанное самим Алексеем Михайловичем (стр. 17–21).
Вот самое беглое, поверхностное изображение того трагического положения, в каком очутился великорусский земский человек во второй половине XVII века. Действительность, решительно ни в чем и ни малейшим образом не отвечавшая желаниям и мечтаниям земского человека, как бы ошеломила его. "Не услышал он (так много ожидавший земский человек) ни одного желанного слова, ни одного успокоительного ответа, не получил правильного, прочного земского строения" (стр. 26). И вот, вследствие нестройности и нескладности земского устроения, в земстве начался великий разлад и раскол. Ошеломленные в своих светлых мечтаниях и устрашенные быстрым натиском всякого рода противународных новшеств, земские люди не могли не противупоставить этим новшествам в той или другой форме своего упорного нежелания примириться с ними…
Прежде всего начались народные движения, то есть открытые и кровавые бунты… Раньше всех взбунтовалась Москва (1648 г., мая 25) всею землею земских людей. "Вслед за московским бунтом последовал бунт коломенский, бунт в псковской земле, бунт в Устюге, бунт в Сольвычегодске. Словом — мир весь закачался, как говорил тогда один из бунтовщиков…" (стр. 28). "Когда были прекращены бунты, в тиши, на Московском печатном дворе, возник первый толк, первое согласие раскола, и никто тогда не думал, не гадал, что это родилась могучая общинная оппозиция податного земства, массы народной против нового, разделенного церковного и гражданского строя жизни" (стр. 28). "Из Москвы, из столицы древнего московского государства, раскол быстро распространился по всем великорусским областям и стал принимать областное направление и устройство. Он стал оседать, установляться путем новой колонизации пустынных мест, лесов в новые областные скиты, общины поморские: стародубские, донские, керженские, казанские, сибирские, саратовские и другие" (стр. 29).
Для нашей небольшой заметки будет вполне достаточным ограничиться вышеприведенными (хотя, сознаемся, очень поверхностными) данными из прошлой истории "упорного" великоруса, чтобы иметь понятие о том основном тоне и сущности родовых преданий великоруса-сибиряка, которые неминуемо должны были, хотя бы и в самой малой степени, проникнуть в родовые семейные предания и дьячка села Анги, то есть родного отца А. П. Щапова. Человек "свободного земского строения", в его идеальных мечтаниях и в его практической борьбе в защиту дорогих идеалов, конечно, едва ли мог бы выясниться юному воображению Щапова в каких-либо ярких и осязательных признаках и формах. Но задушевное дело этого человека, его задушевная мечта, его сердечная любовь и тоска о прекрасном прошлом, — все это не могло не чуяться, хотя бы и в самых спутанных семейных пересказах, дополняемых не менее спутанными пересказами людей окружающей среды, и, следовательно, не могло не заронить в детскую душу сибиряка-великоруса зерна родственной любви к самой сущности дела и жизни его прародителей.
Это почти личное родство А. П. с "упорными" борцами за свободное земское строение и почти родовая связь его личности со всеми перипетиями борьбы за их идеалы, все это ярко запечатлено в каждой строчке его литературных произведений, в каждом слове, произнесенном с кафедры, и в каждом шаге его личной и общественной жизни. В этой личной близости к старине заключается его литературный и профессорский успех, в нем и личное его удовлетворение; но в нем же и источник его замкнутости в более или менее тесном кругу вопросов, преимущественно русской жизни, нескладной русской действительности, которая могла его только терзать. Эта замкнутость в излюбленных интересах излюбленного прошлого, составляя существенную особенность его литературной деятельности и личной жизни, делала его как бы одиноким тогда и там, когда и где излюбленные, сердечные печали не совпадали с печалями и скорбями живой действительности. Как-то одиноко стоял он в литературе, которая, хоть без пути и дороги, однакоже "мчалась" по следу нарождавшихся неожиданных, беспорядочных, но всегда многосложных, явлений новой русской жизни. Одиноким казался он и в жизни: ее беспорядочная многосложность не давала ему возможности воплотить в каком-либо живом деле его "излюбленные", сердечные идеалы. А раз отрешаясь от них и пробуя стать в ряды деятелей беспорядочной действительности, Щапов терял все свое обаяние. В 1862 году (после его казанской истории, о которой скажем подробно) он, попав в Петербург, пробует писать в "Искре" юмористические очерки "из бурсацкой жизни" и блещет в них "литературными прикрасами" и всякимц "преувеличениями" (стр. 5 биографии Аристова), то есть такими неожиданностями, которые не имеют решительно ничего общего с настоящим "щаповским делом". К настоящим щаповским трудам он опять-таки возвращается в своей родной сибирской среде, но, не мирясь с современной сибирской действительностью, оживает только в работе над теми же излюбленными темами.
Но там, где его личные и вместе с тем его общественные идеалы имели случайную возможность проявиться на деле, где временное стечение благоприятных обстоятельств не отрывало его задушевных убеждений и идеальных требований от требований действительности, от "сегодняшнего дня", где, напротив, действительность как бы сама взывала к правоте его сердечнейших симпатии — там только Щапов мог ощущать в себе действительную полноту жизни и тогда вырастал до значения народного вождя, обаяние которого было неотразимо.
Пересмотрев биографические материалы, касающиеся профессорской жизни Щапова и собранные г. Аристовым, читатель найдет там множество таких эпизодов из жизни Щапова, где личность его является положительно обаятельной. Это случалось всякий раз, когда и предмет лекций и настроение слушателей и, главное, не столько настроение, сколько самая сущность всей духовной жизни профессора, как нельзя лучше соответствовали одно другому, а все вместе находилось в непосредственной связи с главнейшими требованиями "современности". Приближалось освобождение крестьян, приближалось время обновления народной жизни, и никто лучше Щапова, великоруса-сибиряка, воспитанного в родовых преданиях о "земско-союзной жизни великорусского народа", — никто, иной не мог бы в это многосложное время, с такою "необычайной энергией и силой убеждения", — осветить размеры и глубину предстоящего обществу народного дела.
11-го ноября 60 года была первая лекция Щапова в Казанском университете. Публики собралось такое множество, что "ни одна из аудиторий не могла вместить всех слушателей, и все принуждены были перейти в актовую залу" (стр. 56). Впечатление этой лекции было потрясающее (стр. 57), и с этого времени толпа очарованных слушателей постоянно окружала кафедру Щапова. На этой первой лекции он сделал совершенно самобытный обзор исторической русской жизни с древних времен До освобождения крестьян. Областной земско-союзный элемент был выставлен им как главнейший мотив истерического движения до времени централизации. Он ярко очертил вековую борьбу земско-союзного строя с соединительной, централизующей силой государства. Указав, в какие моменты истории и в каких формах эта борьба выразилась с особенным напряжением, он сделал обозрение этой борьбы от времени междуцарствия и постепенно проследил ее на земских соборах XVII века, в областных демократических и инородческих бунтах. Обозрев все хлопоты правительства с проявлением этой протестующей силы в течение всего XVIII и половины XIX столетия, он высказался и о тайных обществах, о конституционных проектах, а в конце концов вновь сосредоточил напряженное внимание своих слушателей на "земско-союзном строении", оставшемся, по его мнению, до сих пор без всякого общественного внимания, но таящего в себе задатки зиждительной, плодотворной нашей будущей цивилизации. [16]. С этого дня он стал "царить в университете". Когда он читал — все аудитории пустели, городская публика стремилась слушать Щапова (стр. 58). Дело было живое; все общество, от мала до велика, желало знать — как оно должно жить при новых порядках? И не могло не видеть, что Щапов делает большое патриотическое дело. Не ограничиваясь чтением лекций в университете, он посещал частные студенческие сходки, появлялся и говорил на собраниях у частных лиц и везде энергично и любовно продолжал свою проповедь о забытом обществом земско-союзном строе. Весь проникнутый любовью к своему делу и неотразимо убежденный в его общественной важности, он поражал и увлекал своих слушателей неслыханной откровенностью, искренностью, смелостию; говорил открыто о лицах и событиях, что сам знал…[17]
Путь, по которому повело Щапова его задушевное сердечное дело, далеко не был усеян только розами. Отвечая с кафедры на жгучие вопросы жизни, — он нажил себе врагов в ученом сословии, требовавшем от кафедры только науки. Но, уступая этим требованиям специалистов и принимаясь трактовать о каких-нибудь вопросах чистой науки, он вновь возбуждал негодование, на этот раз уже среди своих поклонников, которые жаждали живого знания жизни. Пытаясь удовлетворить и тех и других и раздваиваясь в своем чувстве и деле, — он иногда ощущал невыносимый душевный гнет, "томительную тяжесть на сердце" (63). Недовольство его осложнялось еще и собственным сознанием того, что знания его недостаточны, что он еще "не доучился" до прочного положения профессора. Односторонность собственного образования (63) крайне мучила его. Все это повергало его иногда в совершенное отчаяние, омрачало душу и побуждало прибегать "для облегчения" к общерусскому "средству". Потребность увеличить свои знания, наконец, привела его к мысли ехать в Петербург для занятий в архивах и в библиотеках, о чем 12 апреля 61 года он и подал факультету прошение.
Но жизнь опять схватила его за сердце, за самое больное, самое жизненное место его души. Дело только что освобожденного народа шло не вполне тем путем, какой мечтался Щапову как "излюбленный". Крестьяне охотно верили толкователям, которые обещали им много льгот, в ущерб льготам помещиков (стр. 65). Ожидание "полной воли" сменилось недоверием к манифесту, где говорилось о срочном обязательном выкупе крестьян от помещиков. Явилось подозрение, что настоящая "золотая грамота" спрятана… (65). По поводу этих слухов возникли сильные недоразумения и волнения в Пензенской, Симбирской, Саратовской и других губерниях. Но самый выдающийся бунт разгорелся в селе Бездне Спасского уезда Казан губ.
"Там, — говорит г. Аристов, — раскольничий начетчик Антон Петров, благодаря недоразумениям между помещиками и крестьянами, стал во главе движения недовольных и еще более подзадоривал их к упрямству и неповиновению. "Земля божья, — твердил он, — а человека бог поставил над белы руку своею: владать землей, водой, зверями лесными и рыбами морскими. Нельзя земли отнять от народа, нельзя отнять и души". Для усмирения собрались войска. Антон Петров вышел к народу с иконой на груди, стал на возвышение, убеждал не сдаваться, а стоять за правду, как один человек. На это зрелище стекалось множество крестьян из соседних деревень. Несмотря на "увещания", "убеждения", толпа упорно стояла на своем. Приглашение разойтись и выдать Антона Петрова не было удовлетворено крестьянами. Сделан был залп из ружей, и сразу пало несколько убитых и раненых. Толпы народа в ужасе бежали в разные стороны, второпях бросились через речку, где многие и потонули, потому что весенний лед был хрупкий".
Когда эта печальная весть была получена в Казани. Горькое и тяжелое впечатление охватило все общество. "Щапов впал в страшное волнение и плакал навзрыд о невинно убитых крестьянах, называя их страдальцами и мучениками". Виновниками прискорбного дела считали лиц, которые не умели даже говорить с народом, на умели убедить простодушных, непонимающих людей. Под горячим впечатлением решено было отслужить торжественную панихиду по убитым в с. Бездне, и Щапоз вызвался приготовить и сказать надгробную речь. Панихида отслужена была в вербное воскресенье, после вечерни, 16 апреля (а 17 в с. Бездне расстреляли А. Петрова). Народу собралось множество. "Богослужение совершалось соборне, двумя священниками и иеромонахом в сослужении дьякона и иеродиакона. На кратких ектениях священнослужители поминали "рабов божиих, во смятении убиенных". "Вечную память" пропела вся толпа молельщиков, находившихся в церкви. Щапоз, взойдя на амвон, взволнованным голосом произнес одушевленную речь, в которой коснулся бездненской истории… Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление и потом в рукописи ходила по рукам" (стр. 66).
Профессорская деятельность Щапова должна была прекратиться, а литературные работы, быть может, и выигравшие против прежних трудов Щапова в литературном отношении, с этого времени и до конца его жизни, кажется, не были достаточными для того, чтобы Щапов чувствовал себя довольным, счастливым и спокойным. Он был живой человек, слово и мысль которого были пламенны и животворны лишь тогда, когда и в деле жизни могли быть осуществимы в какой бы то ни было степени, а главное-неразрывны с нею, но дальнейшая жизнь А. П. не баловала его в этом отношении.
На этом мы и кончим нашу, сознаемся, весьма поверхностную характеристику духовной жизни и литературно-общественной деятельности Щапова.
Особенности родовых сибирских преданий, сохранившихся в живой действительности, до такой степени жизненно воепитали и укрепили в нем веру в правоту старинного земского союзного строя, что он не мог не стремиться проявлять своих симпатий к нему не только в слове и печати, а прямо в деле живой действительности.
Но "дела" для Щапова не было и не могло еще быть. Не было еще ни земства, ни обновленного суда, ни городского самоуправления; не было ничего такого, что впоследствии, постепенно, было вызвано таким большим, по старинному образцу сделанным, делом, как освобождение крестьян.
Европейская Россия кое-как дожила до некоторых попыток изменения в земском строении. Доживет до них и Россия Азиатская, и великорус-сибиряк вновь когда-нибудь встретится с учреждениями, напоминающими те, во имя сохранения которых "упорствовали" его предки…
Необходимо свято хранить эти родовые предания колонизаторов Сибири, чтобы дело бумажное могло преобразиться в дело живое, а забывчивым потомкам коренных сибиряков литературные произведения А. П. Щапова и его жизнь как нельзя лучше могут напомнить сущность этих преданий и докажут им, что предания эти не заглохли в великорусском народе и по сей день.
Томск, 20 июля.
ГОРЬКИЙ УПРЕК
Письмо это, найденное в бумагах К. Маркса после его смерти, заслуживает самого глубокого внимания всякого русского человека, которого крепко и искренно заботят судьбы русского народа. Несколькими строками, написанными так, как написана каждая строка в его "Капитале", то есть с безукоризненной точностию и беспристрастием, — К. Маркс осветил весь ход нашей экономической жизни, начиная с 1861 года. Без малейшего колебания в понимании подлинной сущности фактов нашей действительности, без малейшего снисхождения к нашим экономическим бессмыслицам, — он посылает нам из-за могилы грозный и горький упрек в том великом грехе, который русское общество совершает против самого же себя.
Этот горький и грозный упрек необходимо слышать великому русскому человеку, чтобы, так сказать, "опомниться", "очувствоваться" в понимании своих личных и общественных обязанностей. Строгий, беспристрастный взгляд такого человека, как К. Маркс, на "нас, русских", на наш русский народ, на его экономические особенности и на его поистине священные обязанности к самому себе, — такой взгляд не может не заслуживать самого глубочайшего внимания, потому что он не затуманен никакими "временными веяниями", никакими не подлежащими определению (а иногда даже и пониманию) случайностями русской жизни, которые играют в условиях нашей жизни несомненно значительную роль и не дают возможности, даже и в литературе, судить о ней с полным беспристрастием. "Кому из российских обывателей не известно, — писал я недавно в одной газете, касаясь вопросов, подходящих к настоящей заметке, [18] — что иногда статистические "данные" о благосостоянии или неблагосостоянии того или другого угла могут изменяться до неузнаваемости единственно только от "карахтера" г исправника? У одного исправника "карахтер" жестокий, горячий, — да и жена у него франтоватая, любящая иметь в обществе "значение", — и вот он, чтобы получить повышение или денежную награду к празднику, начинает "выбивать" подати безо всякого милосердия и в такое время, когда все хозяйственные продукты не имеют настоящей цены, когда продавать их значит прямо разориться на весь будущий год; он, конечно, взыщет, представит раньше прочих, отличится и награду получит, — но народ отощает, изболеет, измается, и, таким образом, статистические таблицы обогатятся цифрами смертности и болезненности. Другой же исправник, добрый, мягкий и холостой, повременит, даст мужикам время продать продукт подороже, — и не только не разорит, а, напротив, улучшит положение крестьян, расстроенных "энергическим" предшественником, и обогатит цифрами столбцы не смертности и болезненности, а столбцы прибыли и прироста. Но ведь среди цифр нельзя упомянуть, что в разорении крестьян д. Палкиной виноват "карахтер" исправника Ароматова? И нельзя также сказать, что прирост населения произошел потому, что новый исправник человек добрый, что он даже музыкант, попискивает на флейте, да и под фисгармонию подпевает? Без этого же объяснения разноречивые цифры из одной и той же местности на пространстве времени двух-трех лет — не могут дать точных указаний ни о процветании, ни об упадке и невольно ставят исследователя в недоумение".
Да простит мне читатель эту не совсем подходящую к делу шутку: я просто желал обратить его внимание на огромное значение в условиях нашей жизни такого рода "данных", которые никоим образом не могут быть объясняемы при посредстве строго научных приемов. Подлежат ли каким-либо достоверным научным выводам, положим, статистические данные о преступности по тем деревням Горбачевского уезда Нижегородской губ., крестьяне которых (бывшие шереметьевские) до сих пор с 61 года, кажется, не имеют даже утвержденных уставных грамот и владенных записей? Дела "о сопротивлении властям" идут в этих шереметьевских деревнях постоянно. Из одной этой местности несколько лет подряд препровождалось под суд и в тюрьмы немалое количество народа. Можно ли взять цифру "горбатовской преступности" в общую сумму преступности в России и делать на этом оснований какие-нибудь общие выводы о падении народной нравственности? Кто, наконец, не слыхал этой характернейшей фразы: "Нет! При Михаиле Петровиче порядки были не те! Куда!.. А как этот, нонешний чорт, приехал, — все пошло шиворот-навыворот!" Всякий слыхал эти слова, и всякий должен знать, что именно за "данными", которыми наполняют статистику "карахтеры" большого и малого размера, трудно видеть подлинное положение дела, трудно выводить заключения, не подлежащие сомнению. Ввиду такой посторонней примеси к подлинным данным — огромный статистический материал, накопившийся в настоящее время, при разработке его большею частию невольно заставляет исследователя оставлять без объяснения цифры, не поддающиеся ясному определению, устранять их и придавать своему исследованию несколько односторонний оттенок. Среди зловещих цифр, рисующих известное явление народной жизни в самом безнадежном виде, нежданно-негаданно (добрый исправник) и тут же рядом стоят такие цветы лазоревые, такие идут от этих цветов благоухания, — что, оглядывая то и другое, остается только руками развести. Мы до настоящего времени не имеем ясного представления хоть бы о том, что творится с нашей крестьянской общиной: то она распалась, вконец развратилась и разложилась, изворовалась, разбрелась и исчахла, — то, напротив, оказывается, что она процветает, плодится, множится, крепнет, умнеет, добреет и полнеет. Все это сказано на основании точных, не подлежащих сомнению "данных", — и все-таки, несмотря на обилие такого рода исследований, мы решительно не можем иметь определенного понятия, о том, что именно творится в нашем народе.
Ввиду такой неясности в понимании действительного положения страны нам не может не быть дорого беспристрастное слово такого человека, как Маркс, не разделяющего явлений нашей жизни на отрадные и безотрадные, но берущего их в полном объеме и извлекающего из них ничем не прикрытую, подлинную сущность. Письмо Карла Маркса прежде всего поражает читателя именно желанием его показать своим почитателям и противникам, что он вовсе, так сказать… не марксист… как об нем полагают те и другие, и что его "теория" будто бы "фатальна для всех народов". Нападая на Н. К. Михайловского, которому и предназначалось это загробное письмо, [19] он, за один только легкий намек нашего писателя на то, что теория Маркса может подлежать сомнению, — обрушивается на него с таким жестким упреком: " — Ему (Н. К. М.) надо преобразить мой очерк ("Капитал") происхождения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию общего хода развития, в теорию, которой фатально должны подчиниться все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они находятся, чтоб в конце концов придти к такому экономическому строю, который обеспечивает наибольшую свободу проявления производительных способностей общественного труда и всестороннего, развития человека". Определив этими словами собственную свою теорию так, как ее понимают его противники и почитатели, — он тут же заявляет, и даже довольно грубо, что такое понимание его деятельности он считает бесчестием для него (honte) (стр. 273).
Я обращаю особенное внимание читателя именно на этот порыв гнева против возможности только подозревать его, К. Маркса, в создании такой теории, потому что Н. К. Михайловский в самой статье своей цитирует того же самого Маркса именно для доказательства той самой мысли, которую выражает в своем гневе и сам Маркс: то есть, что "история происхождения капитализма в Западной Европе" не дает основания для "теории, которой Фатально должны подчиняться все народы". Именно это и говорится в статье Н. К. Михайловского, и в доказательство этого Н. К. берет материалы из той же книги "Капитал", о которой идет речь.
"Поправки к теории Маркса можно заимствовать у самого Маркса, — говорит Н. К. Михайловский в той же статье. — В предисловии к "Капиталу" читаем: "В Англии процесс преебразования очевиден до осязательности. Дойдя до известной высоты развития, он должен отразиться на континенте. В каких формах проявится он там, в грубых или гуманных, это совершенно зависит от степени развития самих работников. Следовательно, независимо от высших мотивов, собственный интерес самих господствующих классов требует устранения путем закона всех препятствий, мешающих развитию рабочих классов". "Одна нация может и должна учиться у другой". Спросим, какого же рода урок можем получить мы (Маркс говорит о Германии); из истории экономических отношений в Англии? И с особенным вниманием относится к английскому фабричному законодательству, то есть к тому, насколько в Англии подвинулся вопрос о правительственном вмешательстве в регулирование рабочего дня, женского и детского труда. Здесь, — говорит Н. К. Михайловский, — именно лежат те поправки к фатальной неприкосновенности исторического процесса, которые могут быть заимствованы у самого Маркса".[20] И далее: "С этими поправками, заимствованными у того же Маркса, его теория, как видим, оказывается уже не такою, чтобы опускать руки и приветствовать ниспровержение зачатков собственного идеала" (в той же статье Н. К. Михайловского}.
Из всего этого читатель видит, чем именно задела "за живое" К. Маркса статья Н. К. Михайловского: несколько раз в ней употреблено слово "теория", тогда как сам Маркс считает свой труд только "очерком происхождения капитализма в Западной Европе" и вовсе не возводит в теорию, да еще фатальную, всех язв капиталистического строя жизни. На глазах всего света, в недавние от нас времена весь Париж был сожжен коммунарами, и прекращение этого "фазиса" капиталистического строя жизни потребовало истребления 23 тысяч воспитанных этим же строем его врагов. Я сам видел живые следы этого "фазиса", приехав в Париж в скором времени после подавления восстания, когда военные версальские суды беспрерывно, в десятках отдельных судебных камер, приговаривали виноватых [21] по два, по три человека на каждую камеру в течение одного часа. Можно ли предположить, даже принимая произведение Маркса за теорию, фатальную для всех народов, чтобы такие ужасы могли быть признаваемы им за обязательные даже для тех народов, которые не имеют "никаких оснований ниспровергать зачатки своего собственного идеала". В брошюре, написанной вместе с Энгельсом специально для выяснения этой кровавой парижской бойни, вполне выяснено шушуканье Франции с Германией относительно взаимного участия в подавлении этого восстания, так как это продукт общеевропейского капиталистического строя, одинаково тревожащего обе эти страны. В то же время как "нации" они были врагами и поколачивали друг у друга солдат под стенами Парижа, главным образом "для газет" и для соблюдения дипломатических формальностей. Признавая труд Маркса за теорию, надобно признать и неизбежность всех этих ужасов, но Маркс и писал свою брошюру в поучение нациям, еще не дожившим до этих ужасов, веруя, что одна нация "должна учиться у другой". Все это вполне совпадает с тем, что написано в статье Н. К. Михайловского, а Маркс все-таки "осерчал" на него, и единственно за то, что он мог говорить ему о том самом, что он и сам исповедует.
Но не довольствуясь доказательствами того, что он вовсе не проповедник "фатальной теории", ссылками, заимствованными из его же книги "Капитал" и из дополнений и примечаний к последующим новым изданиям этой книги, — он, наконец, прямо, просто, с полным беспристрастием высказывает свое мнение и об экономическом положении России, страны, которая вовсе не входила до сих пор в его "очерк происхождения капитализма", — и вот тут-то мы слышим глубоко поучительные и в то же время неоспоримо укоризненные для всех нас слова:
"Так как я не люблю оставлять "quelque chose a deviner", [22] то выскажусь без обиняков: чтобы иметь возможность судить с знанием бела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя" ("Юридический вестник", № 9, стр. 271).
Нет! Это не московский "патриот своего отечества", вопиющий о поощрении "прызводства" средствами казначейства; это не "народник" с искреннею любовью к прекрасному, тщательно собирающий цветочки радующих душу [23] действительно благообразнейших явлений нашей народной жизни; это и не "марксист", полагающий, что цветочки, собираемые народниками, должны все-таки погибнуть ввиду фатальности теории капитализма. Это именно самая подлинная, самая светлая и самая горькая правда обо всем нестроении всей нашей жизни во всех отношениях. Несомненно, в наших руках есть немало и очень немало оправдательных документов, о которых даже и Карл Маркс не мог бы иметь понятия. Но, имея их в руках, мы все-таки не можем не видеть "сущей правды" нашей жизни именно в этом горьком упреке К. Маркса: мы лишаемся самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы не переживать всех перипетий европейского зла.
О чем же он жалеет и скорбит, говоря такие слова, касающиеся только ошибок в экономическом развитии? Я думаю, что он скорбит о личности человеческой, которая непременно должна быть жертвой этих ошибок. Для обороны этой личности в Европе он особенно тщательно изучил и развитие капитализма в Англии. Интересуясь участью нравственного развития русского человека и общества, — он изучил и экономическое положение России. И если мы примем его характеристику нашего положения без разделения явлений нашей жизни на отрадные и безотрадные, а только в том виде, как его понимает К. Маркс, то есть в виде соединения в каждой отдельной личности здоровья и гнили, отрадного и безотрадного, — то мы можем с достаточной ясностью объяснить себе, почему вся наша жизнь во всех своих проявлениях представляется нам самим то как бы одним сплошным упадком во всех отношениях, то, напротив, едва приметным, но могучим развитием самобытных форм жизни.
На самом же деле любовь к Купону и желание, чтобы эта любовь не имела неразрывно связанных с Купоном последствий, предлагаются нашему обществу как идеал, которому оно должно бы следовать. Одновременное дружелюбное сожительство в наших сердцах Христа и антихриста, как кажется, и есть та наша система личной и общественной морали, которою наше общество должно руководствоваться в своих взаимных отношениях. Если "по-европейски" такое, положим, купонное дело, как ситцевая фабрика, проявляет себя не только "прызводством" ситца, а еще и так называемым "рабочим вопросом", "стачками", сопровождающимися столкновениями с войсками! и т. д. и т. д., то то же дело "по-нашему" должно быть поставлено совершенно иначе: фабрика будет, ситец будет, этому никто не будет препятствовать, а всего прочего не должно быть ни в каком случае. Почему? Да просто потому… "чтоб не было!.." И так во всем: всякое европейское зло приемлем, но европейский против этого зла крик — не приемлем и стараемся утвердить такое положение дел, чтобы каждый делал только свое дело [24] и в чужое не мешался, не осложнял бы его неподходящими к делу соображениями. Все это, как видим, и отражается на неподвижности нашей жизни, на тягостной суете сует выполнения необобщенных и неосмысленных обязанностей, не подвигающих вперед ни личного, ни общественного благосостояния.
И хотя, повидимому, влачение жизни во имя таких идеалов и может быть иной раз принимаемо за тихое и благообразное житие, но иногда не мешает и "очувствоваться", освежить в себе представление о человеческом достоинстве, и вот почему загробное слово Маркса, прямо указывающее на ненормальное состояние нашей мысли и совести, освежая и оздоровляя то и другое, заслуживает нашей глубокой благодарности.
Единственно лишь там, где есть великие надежды и великие идеи, великие мысли о будущем, — там только и есть в умах тот принцип литературной жизни, который помешает им окаменеть и не допустит дойти литературу до истощения,
В наше время в моде удалять радость из всякого рассказа. Наше время печально, а писатели выражают чувства избранных. Но это недолго продлится: во всяком случае это не последнее слово человечества в деле поэзии и искусства, потому что это противоречит психологическому закону, по которому память уклоняется от печальных воспоминаний и так часто, как только можно, возвращается к счастливым моментам. Придет время, когда в поэзию снова станут заносить неоцененные моменты радости, часы счастия. Когда пройдет теперешняя мода, родится искусство, которое будет служить оправой для этих моментов, как бы бриллиантов, и тогда они будут издали ярко сверкать как в книгах, так и в жизни.
Я нисколько не осуждаю того, что поэзия перестала изображать идеальные фигуры. Но последствием этого стало то, что человеческий уровень принизился в современных романах. Слишком часто характеры так незначительны, что наилучшее описание не может сделать их интересными.
В настоящее время все соглашаются, что в художественном отношении умственное значение изображаемых лиц совершенно безразлично. Это верно лишь до известной степени, потому что высшие умы всегда будут привлечены более возвышенными и более трудными задачами.
Великий поэт не откажется всходить на какую угодно высоту, до которой поднимались его современники. Он захватит в свою сеть все сокровища ума и души. В настоящее время, можно сказать, вечно женственный переходит в стоны и плач по человеку, а мужественный представляет или то, что грубо, или то, что жалко.
ОТ АВТОРА
Предисловие к первому изданию сочинений
В настоящем издании очерки мои печатаются, по возможности, в том виде, а главное, в том порядке, в каком следовало бы их печатать и ранее. К сожалению, при появлении их как в журналах, так и в отдельных изданиях, не всегда можно было соблюдать последовательность, а иногда приходилось печатать их вовсе не в том виде, какой они имели в рукописи.
Времена, пережитые русскою журналистикою за последние 20 лет, были преисполнены всевозможных случайностей, беспрестанно расстраивавших правильное ее течение и развитие. Мои очерки много пострадали от этих невзгод журнального дела чисто во внешнем отношении. Правда, аргусам нечего было в них искоренять: цензурные беды обрушивались не на такого рода литературные явления. Но в общем водовороте ничто не может оставаться нетронутым. Нет никакого сомнения, что эти очерки вышли бы рельефнее, полнее и осмысленнее, если бы журнальная жизнь была устойчивее и представители печати могли чувствовать себя поспокойнее.
Укажу на один пример. "Нравы Растеряевой улицы", задуманные мною в 1866 году, только что начали печататься в "Современнике" (No№ 2 и 3, 1866 г.), как журнал этот был закрыт. Продолжение этих очерков, приготовленное для "Современника", должно было явиться в сборнике "Луч", изданном редакцией "Русского слова", которое также было прекращено, причем все, что имело "связь" с очерками, напечатанными в "Современнике", надо было уничтожить, обрезать, выкинуть, для того, чтобы "продолжение" имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им "сделана" иная обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале "Женский вестник", так как тогда (1866 г.) почти совершенно не было других литературных журналов. Судите поэтому, что должна была претерпеть "Растеряева улица" с своими пьяницами, "сапожниками и мастеровщиной", появляясь в журнале, посвященном женскому развитию, женскому вопросу! При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличт ней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что ж было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше. Наконец, очень много материала, приготовленного для "Растеряевой улицы", было разбросано в виде очерков и сценок по всевозможным газетам и листкам. Я их не собирал и не собираю в настоящем издании: все это было продуктом тогдашней литературной "бесприютности". Сплоченных литературных кружков, к которым могли бы пристать начинающие писатели, — ничего тогда налицо не было. Все удручало вас и делало одиноким. А между тем общество, вступившее в совершенно "новый период жизни, требовало от литературы, — и имело на это право, — многосложной и внимательной работы…"
Таким образом, как отсутствие "школы", так и глубокое внутреннее сознание, что "теперь" обновлявшаяся жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, — делали то, что незначительная способность написать "рассказец" или "очерк" ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. "Все это не то!" — думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, "кой-как", появляясь в виде "отрывков" без начала и конца.
В настоящем, издании этот материал первых лет моего литературного труда приведен, повторяю, в возможный порядок. Все, что совершенно плохо и вполне незначительно, — выпущено. Все, что было разрознено, но имеет некоторую связь, — восстановлено. Что касается собственно настоящего 1-го тома, к которому главным образом относятся все вышеизложенные замечания, то "Нравы Растеряевой улицы", составляющие этот том и печатавшиеся в прежних изданиях под тремя различными названиями, теперь приведены в тот порядок, в котором им следовало бы быть. Но все-таки они местами оборваны: "Растеряева улица" еще долго "дописывалась" во многих отрывках и очерках последующих лет; много "растеряевского" перешло и в "Разорение", которое есть в сущности та же "Растеряева улица", только в новых условиях жизни.
Вот таким-то образом писались и издавались почти все эти очерки. Приведенные в порядок, то есть написанные по хорошо разработанной программе, — они бы могли дать более или менее полную картину нравов русской провинциальной разночинной толпы за последние годы; но я знаю, что и теперь, когда я привел их в желательный порядок, они не дают этой полноты и, к сожалению, не могут уже быть ни лучшими, чем были, ни более наглядными.
Глеб Успенский.
С.-Петербург. 1 октября 1883 г.
ОТ АВТОРА
(Заметка о втором издании)
В состав настоящего двухтомного издания, кроме восьми томов, изданных в промежуток времени с 1883 по 1886 год, вошло почти все, что было написано мною до самого последнего времени. К прежде изданным восьми томам прибавлено теперь такое количество нового материала, которое, по счету печатных листов первого издания, могло бы составить еще два новых тома — девятый и десятый. То, что в отдельном издании могло бы составить том девятый, помещено в конце первого тома настоящего издания, а материалы тома десятого — в конце второго. Такое разделение сделано частью для более равномерного объема обоих томов, а частью и по следующему соображению: собственно беллетристических произведений во всем написанном мною мало, а, напротив, очень много такого рода наблюдений, которые передаются мною в форме небеллетристической. Все, что касается крестьянства, изложено именно в виде заметок, дневников и вообще без притязания на какую-нибудь внешнюю литературную отделку. Вот почему все, написанное исключительно в этом роде и касающееся почти только народной жизни, помещено во втором томе; к первому же прибавлено из написанного мною после 1886 года все, что, во-первых, носит на себе отпечаток хотя какой-нибудь более или менее определенной литературной внешности — очерка, рассказа, — и, во-вторых, касается не исключительно только вопросов крестьянской жизни.
Некоторые из моих читателей неоднократно выражали желание, чтобы все написанное мною было издано в хронологическом порядке. К сожалению, ни в первом, ни в настоящем издании это справедливое желание не могло быть исполнено по причинам, о которых я уже подробно сказал в предисловии к изданию 1883 года.
"Времена, — писал я тогда, — пережитые русскою журналистикою в шестидесятых годах, были преисполнены всевозможных случайностей, беспрестанно расстраивавших ее правильное течение… Я говорю здесь о тех чисто внешних затруднениях, благодаря которым нельзя было благополучно начать и кончить задуманную работу. Приведу один пример: "Нравы Растеряевой улицы", начатые в 1886 году, прекратились на четвертой главе, потому что "Современник" был закрыт. Продолжение этих очерков, приготовленное для "Современника", должно было явиться в сборнике "Луч", изданном редакцией "Русского слова", которое также было прекращено, причем все, что имело "связь" с очерками, напечатанными в "Современнике", надо было уничтожить, обрезать, выкинуть — для того, чтобы "продолжение" имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им "сделана" иная обстановка и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале "Женский вестник", так как тогда (1866 г.) почти совершенно не было других литературных журналов. Можно поэтому судить, что должна была претерпеть "Растеряева улица" с своими пьяницами, "сапожниками и мастеровщиной", появляясь в журнале, посвященном женскому развитию, женскому вопросу! При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше".
Вот основания того, почему я нашел более удобным для читателя в каждом томе первого издания собирать воедино все, что на известную тему было написано хотя бы в течение нескольких лет, не раздробляя однородной работы вставкою посторонних, но одновременно писавшихся статей, чего требует хронологический порядок. Очерки же и рассказы, которые писались в промежутках работ на какую-нибудь одну, более или менее определенную тему, — такие очерки прилагались к каждому тому как дополнения, но по возможности также более или менее однородного содержания.
Переиначивать этого порядка не оказалось возможным и в настоящем издании. Ввиду того же желания — дать каждому тому более или менее определенное содержание — я и в настоящем издании, вместо буквальной перепечатки "Писем с дороги", которые писались мною в течение трех лет и составили бы не менее двух томов объема первого издания, — исключив из них частые повторения об одном и том же вопросе, неизбежные при повторении этих явлений в дорожных встречах разных лет и разных мест, — выбрал из этих писем только то, что казалось мне наиболее заслуживающим внимания, а то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса. В этих именно видах я и ввел под общую рубрику "Писем с дороги" три компилятивные дополнения (главы VI, VII и X); более подробно уясняющие такие явления жизни, которые пишущему "с дороги" нет возможности пополнить личным наблюдением.
Таким образом, все, что не вошло в это издание, — не вошло потому, что было бы повторением сказанного ранее в той или другой из помещенных уже в этих томах статей.
8 ноября 1888 г. СПб.
ПРИМЕЧАНИЯ
Первый раздел настоящего тома составляют статьи Г. И. Успенского на литературные и общественные темы; вместе с "Письмом в Общество любителей российской словесности", авторскими предисловиями к собраниям сочинений и "Автобиографией", также помещенными в данном разделе, эти статьи существенно дополняют те суждения по вопросам искусства и литературы, которые имеются в других произведениях Успенского (таковы, например, высказывания о народнической литературе в очерках "Из деревенского дневника", глаза "Поэзия земледельческого труда" в очерках "Крестьянин и крестьянский труд", очерк "Выпрямила" в цикле "Кой про что" и др.); вместе с тем эти статьи, разумеется, имеют и вполне самостоятельное значение.
Во втором разделе печатаются избранные письма Успенского. В данном собрании писем редакция стремилась отобрать все наиболее ценное из переписки писателя, что характеризует его литературно-общественные связи, что важно для понимания его взглядов, его отдельных произведений, что существенно для характеристики личности писателя, для ознакомления с важнейшими фактами его биографии. Из писем, характеризующих отношения Успенского к виднейшим представителям литературы его времени, целиком представлены письма к Некрасову, Салтыкову-Щедрину, Короленко.
Публикация эпистолярного наследия Г. И. Успенского началась сразу же после кончины писателя и продолжается вплоть до наших дней. Однако многие из писем Успенского остаются или еще не выявленными, или же их следует считать навсегда утраченными. Так, например, не обнаружено ни одного письма Успенского к И. С. Тургеневу, хотя о их переписке имеется ряд свидетельств. Наиболее полный свод писем Успенского ныне дан в Полном собрании сочинений писателя (тт. XIII и XIV, изд. Академии наук СССР, 1951 и 1954), сюда не включены лишь письма периода его болезни.
Тексты писем печатаются по первоисточникам (автографам или — в случае утраты подлинников — первичным публикациям). Даты писем и места их написания помещены справа перед началом текста; даты, не проставленные писателем, приводятся в угловых скобках; в таких же скобках раскрываются в тексте незаконченные слова, отдельные инициалы, названия и т. п. В примечаниях сообщаются данные о первой публикации письма и месте хранения автографа. Даты писем, не проставленные Успенским, устанавливаются на основании биографии писателя, его переписки, сведений о публикации упоминаемых произведений, архивных и иных историко-литературных данных.
Краткие справки об адресатах и упоминаемых лицах даны в указателе имен.
Список сокращений, принятых в примечаниях:
ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (в Москве).
ГПБ — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (в Ленинграде).
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (в Ленинграде).
ЦГЛА — Центральный Государственный литературный архив СССР (в Москве).
ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив (в Ленинграде).
Сб. АН — "Глеб Успенский. Материалы и исследования", 1, изд. АН СССР, М.-Л., 1938.
Сб. ЛЛМ — "Летописи Государственного литературного музея", т. 4, М., 1939.
Сб. "Архив Гольцева" — "Архив В. А. Гольцева", М., 1914.
Ст. Н. К. Михайловского — статья "Материалы для биографии Г. И. Успенского". — "Русское слово", 1902, № 3.
Полн. собр. соч. — Полное собрание сочинений Г. И. Успенского, тт. I–XIV, изд. Академии наук СССР, 1940–1954.
Тексты статей "Федор Михайлович Решетников", "Николай Александрович Демерт", "Праздник Пушкина", "Секрет", "Подозрительный бельэтаж", "Смерть В. М. Гаршина", "А. П. Щапов" и "Автобиография", а также примечания к ним подготовлены А. В. Западовым. Остальные статьи и раздел писем (тексты и примечания) подготовил Н. И. Соколов; ему же принадлежат составление "Хронологической канвы жизни и деятельности Г. И. Успенского" и "Указателя имен и названий".
СТАТЬИ
Смерть Н. А. Демерта 20 марта 1876 года вызвала в печати несколько некрологов, посвященных ему. Успенский, лично близко знавший Демерта, находился в это время за границей. Он возвратился в Россию в начале 1877 года и в марте, к первой годовщине смерти Демерта, написал о нем статью для журнала "Пчела". Цензура нашла статью "тенденциозной", выставляющей "в безотрадном виде наш общественный строй", и запретила ее к печати. Успенский написал другую статью, с учетом цензурных требований, которая была помещена в "Пчеле", 1877, № 15 (см. текст ее в Полн. собр. соч., т. VI, 1953, стр. 505–508).
Первоначальный текст статьи, публикуемый в настоящем томе был обнаружен советским исследователем А. А. Шиловым в архиве Петербургского цензурного комитета в виде корректурных гранок с пометками цензора, опубликован впервые в сборнике "Глеб Успенский. Материалы и исследования", I, Л., 1938. В настоящем издании статья печатается по корректурным гранкам (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, № 78) с восстановлением зачеркнутых цензурой мест и исправлением допущенных опечаток и неточностей.
Статья Успенского полна глубокого социального смысла и освещает невыносимо тяжелые условия литературного труда публициста-общественника 70-х годов, каким был Демерт, видный сотрудник демократических изданий. Именно потому она и не могла быть пропущена цензурой.
Стр. 60. …"до смерти работает…" — цитата из поэмы "Кому на Руси жить хорошо?".
— …г-ном К- — Имеется в виду некролог, написанный Н. С. Курочкиным.
Стр. 61. И сердцем и (даже!) мечом — неточная цитата из песни Н. В. Кукольника в его романе "Эвелина де Вальероль".
Стр. 62. …у помещика Д. — Возможно, имеется в виду помещик Дашков (Самарской губ.), в имении которого в 1860 году имело место крестьянское возмущение.
Стр. 65. Пишет и роман и комедию… — Имеются в виду комедия "Гувернантка третьего сорта" ("Современник", 1861, № 7) и начало романа "Черноземные силы" ("Невский сборник", 1867).
Впервые опубликовано в "Пчеле", 1878, № 2, 8 января; в том же году без изменений перепечатано в сборнике "На память о Николае Алексеевиче Некрасове", СПБ., 1878, стр. 56–58. Печатается по тексту "Пчелы".
Данная заметка и последующая статья ("Опять о Некрасове!") — одно из ярких свидетельств глубокой идейной и творческой близости Успенского к поэту революционной демократии. В воспоминаниях об Успенском (Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, В. В. Тимофеевой-Починковской и др.) рассказывается 0 подлинном преклонении Успенского перед поэзией Некрасова, перед его личностью, как поэта и как организатора передовой журналистики.
Заметка написана в связи с появлением в газете "Новое время" статьи А. С. Суворина (писавшего под псевдонимом "Незнакомец") "Недельные очерки и картинки", о которой и упоминает Успенский в начале своей заметки.
Статья впервые опубликована в серии "Литературные и журнальные заметки" тифлисской газетой "Обзор", 1878, № 27, от 29 января, за подписью "Г — в"; печатается по тексту газеты.
Авторство Успенского установлено на основании его писем к издателю газеты Н. Я. Николадзе (см. "Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе", изд. "Заря Восюка", Тбилиси, 1949, стр. 69–77; в настоящем томе — письма 64, 65).
Непосредственным поводом для статьи послужил некролог о Некрасове, появившийся в "Обзоре", 1878, № 2 от 3 января, и перепечатанный затем в упоминавшемся сборнике "На память о Николае Алексеевиче Некрасове". В этом некрологе содержались неверные утверждения о жизни и творчестве Некрасова. Статья Успенского, опровергая эти утверждения, вместе с тем была направлена и против всей реакционной и либеральной прессы, дававшей искаженное представление об умершем поэте. Значение выступления Успенского подчеркивается тем фактом, что многие положения его статьи (без упоминания имени автора) были процитированы на страницах "Отчественных записок" (1878, № 3, стр. 138 и след.) во "Внутреннем обозрении" Г. З. Елисеевым (подробнее о проблематике статьи и обстоятельствах ее появления см. в работе: Н. И. Соколов. Глеб Успенский и Некрасов. — "Некрасовский сборник", II, изд. Академии наук СССР, М-Л., 1956, стр. 458–471).
Стр. 72. …целый месяц… не имели… литературного обозрения. — Как очевидно, Успенский предполагал начать обозрения сразу же с нового года, фактически же осуществил свое намерение лишь к концу января.
— …новый литературный орган — журнал "Слово"; выходу первого номера этого журнала Успенским была посвящена следующая статья серии "Литературные и журнальные заметки" ("Первая книжка журнала "Слово"),
Стр. 73. "Там (у Пушкина) море звуков… " — Подобное утверждение содержалось в статье Е. Белова, помещенной в "С.-Петербургских ведомостях: ", 1878, № 8, 8 января.
Стр. 74. Ранние рассказы Л. Толстого. — Очевидно, имеются в виду "Детство и отрочество" и "Военные рассказы", вышедшие отдельными книгами в 1856 году; именно в связи с выходом этих произведений была написана известная статья Н. Г. Чернышевского о Толстом.
Записки Аксакова — "Записки об уженье рыбы" и "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии" С. Т. Аксакова! но вероятнее, что Успенский имел в виду более известные произведения Аксакова — "Семейную хронику" и "Детские годы Багрова-внука", которые также написаны в форме "записок".
Стр. 75. …грубый, неуклюжий, однотонный стих Некрасова — перефразировка строк из стихотворения Некрасова "Праздник жизни — молодости годы…":
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!
— …"в годину горя" — выражение из стихотворения Некрасова "Поэт и гражданин".
Стр. 76. Я на все бесполезно дерзал — неточная цитата из стихотворения Некрасова "Рыцарь на час". У Некрасова: "Я на все безрассудно дерзал".
— Укоризненно смотрят со стен — из стихотворения Некрасова "Скоро стану добычею тленья…".
Впервые опубликовано в журнале "Отечественные записки", 1880, кн. VI, под заголовком "Пушкинский праздник (письмо из Москвы)". Вошло в III т. Сочинений Успенского. Печатается по атому тексту.
Впервые опубликовано в журнале "Отечественные записки", 1880, кн. VII, под заглавием "На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения)". Вошло в III т. Сочинений Успенского. Печатается по этому тексту.
Статьи Успенского посвящены открытию в Москве памятника Пушкину. Средства на создание памятника собирались с 1860 года, к 1870 году образован специальный комитет по постройке, работа была поручена скульптору А. М. Опекушину, и 6 июня 1880 года состоялось открытие памятника. В числе выступивших с речами были И. С. Тургенев, И. С. Аксаков, академик Я. К. Грот, академик М. А. Сухомлинов, Ф М. Достоевский. Речь последнего привлекла наибольшее внимание общественности. Достоевский истолковал Пушкина по-своему, и против его оценки возражает Успенский.
В условиях реакции 80-х годов русская общественность ждала от выступавших на открытии памятника каких-то ответов на волновавшие ее вопросы социально-политического порядка. Это была одна из немногих возможностей публичного обсуждения актуальных общественных проблем, однако ораторы не воспользовались ею. Н. К. Михайловский, подводя итоги праздника, писал: "Мало кто думал о Пушкине и на пушкинском празднике. Что у кого болит, тот о том и говорит, а специально Пушкиным у нас, кроме разве П. Анненкова и Грота, никто не болен. Г. Достоевский, например, по этой части вполне здоров, он совсем другим страдает, он… самим собою болен". [25]
Речь Ф. М. Достоевского, построенная на призыве: "Смирись, гордый человек!" и далекая от правильного истолкования вольнолюбивого и народного творчества Пушкина, явилась главной темой статей Успенского. Он глубоко разобрал ее содержание и верно определил попытки Достоевского обмануть аудиторию мнимым сочувствием идеалам Пушкина. С истинной проницательностью Успенский вскрыл ложный пафос Достоевского н как общественный деятель показал бесплодность его приглашения "поработать на родной ниве". Передовая молодежь, поняв тезис Достоевского как призыв позаботиться о "народном деле", вначале приняла его сочувственно. Изображая сцены посещения Достоевского представителями самых различных общественных группировок, из которых каждый сумел найти в речи мысль, его занимавшую, Успенский говорит о невозможности следовать советам знаменитого писателя. С полной убедительностью Успенский раскрыл "секрет" речи Достоевского и сделал ее безопасной для читателей, искренно заинтересованных вопросами общественного дела.
Стр. 78. "Нечто сербское" — то есть сходное с воодушевлением во время сербско-турецкой войны 1876 года, вызвавшей поток добровольцев из России в помощь братскому славянскому народу.
Стр. 82. …от любителей российской словесности… — Имеется в виду Общество любителей российской словесности.
Стр. 90. …поэтом-глашатаем… — Подразумевается Н. А. Некрасов.
Стр. 95. …один процесс в форме романа… — Речь идет о процессе "нечаевцев", материалы которого использованы Достоевским в романе "Бесы".
Стр. 103. …с ношей крестной исходил… — перефразировка строк из стихотворения Ф. И. Тютчева "Эти бедные селенья…".
Стр. 104. В поле бес нас водит, видно… — из стихотворения А. С. Пушкина "Бесы".
Стр. 109. …подобно Власу. — Имеется в виду герой стихотворения Н. А. Некрасова "Влас".
Стр. 110. …казней коммунаров… — то есть участников Парижской Коммуны.
Стр. 111. Сатори-Кайенны — место ссылки осужденных парижских коммунара 1.
Впервые опубликовано в журнале "Отечественные записки", 1882, кн. VI. Вошло в III т. Сочинений Успенского и печатается по этому тексту.
Статья Успенского является ярким образцом выступлений писателя-демократа против буржуазно-дворянской идеологии и ее носителей. Она направлена против М. Н. Каткова, реакционного публициста, которого В. И. Ленин называл "верным псом самодержавия". [26] Успенский с гордостью говорит о том, что он не принадлежит к дворянской литературе "бельэтажа", и заявляет о своих демократических убеждениях.
Стр. 114. В газете "Голос", 1882, № 126, 13 мая в еженедельном фельетоне Аре. Введенского "Литературная летопись" была разобрана статья реакционного публициста П. К. Щебальского "Наши беллетристы-народники", помещенная в кн. V журнала "Русский вестник" за 1882 год. В ней говорилось о том, что беллетристика, печатающаяся в журнале, — это "бельэтаж", "чистые комнаты" литературного здания. "Остальная беллетристика, это — чердаки и подвалы, грязные чуланы и никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, задние дворы с кучами мусора". "Знаменем этой литературы является Салтыков-Щедрин, а во главе "молодой фаланги" идет Глеб Успенский".
Арс. Введенский высмеивает критика "Русского вестника", разбирая недостатки повестей, помещенных в той же книжке журнала, и обвиняет его в доносе на молодую литературу за ее "связи с нигилизмом".
Стр. 116. Роман г-жи Толычовой (псевдоним писательницы Е. В. Новосильцевой). — Имеется в виду ее повесть "Предсмертная исповедь".
Стр. 117. Рассказы о 12-м годе. — Толычовой принадлежит ряд произведений об Отечественной войне 1812 года: "Рассказы очевидца о двенадцатом годе" (М., 1870, переизданы в 1880 г.), "Приемыш, повесть из того времени, как французы брали Москву" (М., 1870, переиздавалась в 1880 и 1886 гг.) и др.
Стр. 122. В Москве на Страстном бульваре помещались редакция и издательство М. Н. Каткова, выпускавшие реакционные издания — газету "Московские ведомости" и журнал "Русский вестник".
— …в номере газеты "Новое время", 1882, № 2231, статья, посвященная выступлениям "Московских ведомостей", называлась "Охранители или отрицатели?".
Стр. 129. …целое… исследование… — Имеется в виду книга А. И. Васильчикова "О самоуправлении" (1869).
Впервые опубликовано в журнале "Русская мысль", 1888, III, стр. 236–240; при жизни писателя не переиздавалось; печатается по журнальной публикации.
"Письмо" явилось откликом Успенского на избрание его 16 ноября 1887 г. почетным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете; одновременно писатель ответил на многочисленные приветствия, полученные им в связи с 25-летием литературной деятельности, отмечавшимся в ноябре 1887 года. Большой список этих приветствий Успенский приводит в письме к В. А. Гольцеву от 16–21 февраля 1888 года (см. настоящий том, письмо 168). Особенно писатель дорожил приветственным адресом тифлисских рабочих, выдержки из которого привел в своем "Письме" (полностью адрес опубликован в сб. АН СССР, стр. 366–370).
Адресу тифлисских рабочих и ответу Успенского большое значение придавал Г. В. Плеханов, использовавший эти документы в ряде своих работ ("Предисловие к брошюре "Первое мая. 1891", "Русский рабочий в революционном движении: ", "Столетие со дня рождения В. Г. Белинского" и др.); как яркое доказательство растущей активности рабочих масс.
Впервые напечатано в "Сибирской газете", 1888, № 55, 22 июля. Воспроизводится по тексту газеты.
Предприняв поездку к сибирским переселенцам, Успенский в июле 1888 года прибыл в Томск. Редакция "Сибирской газеты", в которой участвовали представители политической ссылки, деятели народнического лагеря, готовились к большому культурному событию в жизни царской России — открытию первого сибирского университета в Томске. В номере газеты намечался отдел "Замечательные сибиряки", и для него Успенский написал статью о Щапове.
Афанасий Прокофьевич Щапов — выдающийся историк, разночинец-демократ, сформировавшийся как ученый в период революционной ситуации 1860-х годов, отличался огромным вниманием к изучению народных движений, общинного строя в России, истории раскола. Блестяще начавшаяся профессорская деятельность Щапова в Казани была прервана после его выступления по поводу расстрела 16 апреля 1861 года крестьян в с. Бездна, Казанской губ, не желавших признать разорявший их манифест об "освобождении" от крепостной зависимости. Щапов был арестован и препровожден в Петербург. Наказание, назначенное ему Александром 11 — "подвергнуть вразумению и увещанию в монастыре", было отложено вследствие энергичного протеста литературной общественности, организованного Н. Г. Чернышевским, но Щапов поплатился тюремным заключением и потерей профессорской кафедры.
В 1863 году Щапов был выслан из Петербурга на родину, в село Анга, за Байкалом, откуда ему удалось переселиться в Иркутск, где он и провел последние годы жизни.
Щапов предпринял ряд этнографических исследований края, участвовал в экспедициях и оставил ценные работы по вопросам изучения Сибири.
Успенский видит в Щапове потомка "упрямых" великорусов, не желавших смиряться под ярмом самодержавия и после безрезультатного протеста уходивших в Сибирь, подальше от центральной власти. Он отмечает у Щапова уважение к выборному началу общественного строя, потребность в создании "соединенно-областного земского строения", желание заставить царя выслушивать требования земских людей и выполнять их. Склонный переоценивать роль земских учреждений в своем горячем стремлении оказать живую помощь народу, Успенский с благодарным чувством вспоминает о Щапове, показавшем "правоту старинного союзного земского строя". Вместе с тем он осуждает общественный порядок царской России, не дававший места никаким попыткам облегчить тяжелую жизнь трудящегося народа.
При написании статьи Успенский широко воспользовался фактическими материалами, приведенными в книге II. Я. Аристова "Афанасий Прокофьевич Щапов. Жизнь и сочинения", СПБ., 1883.
Стр. 157. Книга А. П. Щапова "Земство и раскол", вып. 1, вышла в 1862 году в Петербурге, изд. Д. Е. Кожанчикова. В приводимой цитате слов: "по наивным мечтаниям тогдашних земцев — у Щапова нет.
При жизни писателя статья не публиковалась; впервые в отрывках напечатана В. Н. Поляков в "Саратовском листке", 1902, № 74, 2 апреля; полностью опубликована Н. К. Пиксановым в журнале "Новый мир", 1929, № 3: в настоящем издании печатается по рукописи, хранящейся в ПД.
Статья написана в связи с перепечаткой в "Юридическом вестнике" в десятой книжке за 1888 год (Успенский ошибочно указывает № 9) письма Маркса в редакцию "Отечественных записок" (см. сборник "Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями", издание второе, Госполитиздат, 1951, стр. 220–223), Письмо Маркса вызвано статьей Н. К. Михайловского "Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского", напечатанной в 1877 году в октябрьском номере "Отечественных записок". Маркс возражает против искажений его взглядов, допущенных в статье Михайловского, и высказывается по ряду вопросов пореформенного развития России. Письмо cfaлo известно лишь после кончины Маркса и затем широко дебатировалось в русских общественных и революционных кругах, особенно в период борьбы марксистов с народниками (см. В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 129, 247–248).
Письмо Маркса привлекло Успенского глубиной анализа явлений русской действительности, критикой программных положений народничества. Вместе с тем очевидно, что Успенский далек от подлинного понимания марксистской теории, для него осталась непонятой и та борьба, которая уже в 80-е годы развертывалась между марксистами и народниками. (Подробнее о статье см. в работе Н. И. Пруцкова "Г. И. Успенский о письме К. Маркса в редакцию журнала "Отечественные записки". — "Вопросы философии", 1953, № 3, стр. 81–87).
Работа над статьей относится к ноябрю-декабрю 1888 года (см. письма 227 и 231), в 20-х числах декабря она была послана в редакцию "Волжского вестника". Не пропущенная царской цензурой, статья все же стала известной в литературных кругах Казани. В. Н. Поляк сообщал Успенскому в январе 1889 года: "Ваша статья "Горький упрек" ходит здесь по рукам. Меня просят спросить Вас, — не позволите ли ее списать в нескольких экземплярах, так как желающих прочесть ее — масса". В дальнейшем А. И. Эртель пытался напечатать статью в "Воронежском листке", но также безуспешно.
Стр. 167….писал я недавно… — Имеется в виду очерк "Не знаешь, где найдешь" ("Русские ведомости", 1888, № 356, 27 декабря); статья была написана до опубликования очерка, и сам Успенский не был уверен, что процитированные строки редакция вставит в очерк (см. письмо 232); действительно, эти строки в печатный текст редакция не включила, очевидно, опасаясь цензуры.
Стр. 170….приехав в Париж… — Имеется в виду поездка Успенского в Париж в 1872 году.
Стр. 171. В брошюре, написанной вместе с Энгельсом… — Речь идет о воззвании Генерального совета Международного Товарищества Рабочих "Гражданская война во Франции", написанном Марксом в 1870–1871 годах; Энгельс в написании этого произведения не участвовал.
Набросок незаконченной статьи, без заглавия. Впервые полностью опубликован в Полном собрании сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1953, стр. 488–489, под заглавием "О современной литературе". Печатается по автографу, хранящемуся в ПД.
Впервые напечатано в качестве предисловия к первому изданию Сочинений Г. И. Успенского в восьми томах, изд. Ф. Павленкова (СПБ., 1883–1886), т. I, СПБ., 1883. Печатается по тексту этого издания.
Стр. 176. Времена, пережатые русскою журналистикою… — Имеются в виду многочисленные цензурные гонения, последовавшие в результате подавления революционного движения 1860-х годов и наступления реакции; кульминацией этих гонений явилось закрытие в 1866 году журналов "Современник" и "Русское слово".
— Аргус — в греческой мифологии многоглазый великан; здесь под аргусами подразумеваются царские цензоры.
— "Нравы Растеряевой улицы". — Об истории печатания этого произведения см. в примеч. к т. 1 настоящего издания.
Написано в качестве предисловия к изданию — Глеб Успенский. Сочинения. Издание второе, Ф. Павленкова. Дополненное. СПБ., 1889; перепечатано в третьем издании в том же году. Печатается по последнему изданию. В рукописном отделе ПД имеется черновой автограф заметки, содержащий некоторые разночтения с печатным текстом.