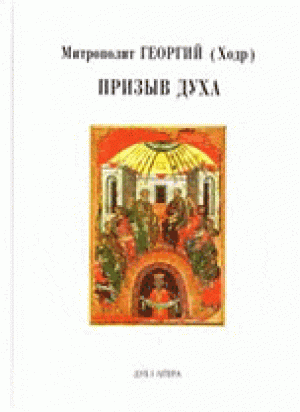
Слово к читателю
Не могу скрыть волнения при мысли о том, что этот сборник выйдет по–русски. Быть может читатель найдет в нем какой–то след того, чем я обязан русской культуре, будучи воспитан ее богословской мыслью. Я обучался богословским дисциплинам в Париже, в Свято–Сергиевском институте, созданном русскими богословами. Там я познал вкус тонкого и любящего руководства, там я познакомился с деятельной и живой молодежью, вдохновленной Евангелием.
Я приехал в Париж вскоре после смерти о.Сергия Булгакова, но имел счастье учиться у епископа Кассиана (Безобразова), архимандрита Киприана (Керна), профессора Антона Карта–шева, о.Василия Зеньковского, о. Николая Афанасьева, о.Алексея Князева, Сергея Сергеевича Верховского, о. Георгия Флоровского, профессора Владимира Вейдле и о. Александра Шмемана.
Еще до поступления в институт я читал Николая Бердяева и некоторых русских религиозных мыслителей. Может быть, именно их мысли да еще книги Достоевского и побудили меня выбрать Свято–Сергиевский институт. Кроме того, была большая крепкая дружба с русской молодежью из Христианского Движения.
Но я пришел в Свято–Сергиевский институт не из арабской пустыни. Антиохийская Церковь — вот моя мать. А именно в Антиохии ученики Христовы впервые были названы христианами (Деян. 11,26). Там почерпнул я веру, там началась моя молитвенная жизнь. И там мы, семнадцать молодых студентов, создали в 1942 г. Движение православной молодежи, которое стало мощнейшим источником христианской жизни па пространстве, где действует наша поместная Церковь. Началась евангелизация, в ней проявились души необычайной жизненной силы. Оттуда пошло все нынешнее наше монашество. Там воспитывалось большинство наших священников–миссионеров, наших епископов. Всякий, кто по–настоящему пламенно говорит об Иисусе, был, должно быть, затронут нашей апостольской вестью. Господь избавил нас от узкого консерватизма, от жесткого ритуализма и велел нам свидетельствовать о подлинной евангельской жизни. Это, быть может, лучшее, что смогла дать Антиохийская Церковь вселенскому Православию.
Многое, что вы найдете здесь, происходит из этого опыта. Запечатлению этого опыта в языке понятий служат богословские формулировки. Обогащенная всем лучшим в нашем предании церковная духовность несет жизнь миру.
Самое интересное в этой книге идет от опыта соседства различных религий в наших регионах. Быть может, особенность нашего православия в том, что мы имеем понятие о современном Востоке, но также и о Западе, ибо в нас живет и западная культура. Православие, укорененное в опыте Отцов, и, может быть, особенно Отцов–аскетрв, приемлет всякое веяние Духа.
Митрополит гор Ливанских Георгий (Ходр)
Призыв к христианам
Вы — носители великого призыва, вы — закваска спасения. Вы стали таковыми благодаря Тому, Чье имя носите, в Кого крестились. Однако вы заблуждаетесь, если мните, будто значите что–нибудь без Него. Вы также заблуждаетесь, если мните, будто другие никогда не смогут измениться к лучшему, — словно имена ценны сами по себе и словно Христос не может — водою или без воды — крестить в Бога того, кому пожелает даровать Свою благодать. Несомненно, все исходит от Спасителя, Которому вы поклоняетесь: всякая истина, всякая чистота, всякое величие, всякий идеал. Все доброе, что есть в этом мире, так или иначе создано Христом. Но Господь действует, где Ему угодно, и не вам ограничивать Его деятельность. Он обещал исполнить вас Своей благодатью, но Он не говорил, что сделает ее хранителями только вас одних. Заклинаю вас: не будьте «большими роялистами, чем король» — чем ваш Царь, который может «из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3, 9).
Не думайте, что вы — цель этого мира! Мир не затем сотворен, чтобы вам служить, это вы призваны быть слугами. А слуга внимательно выслушивает волю своего хозяина и трудится, чтобы воплотить его замыслы. Вашей вере чуждо понятие господства, оно заменено понятием служения. И только в самоотвержении обретает законность своей власти тот из вас, кто облечен ответственностью. И власть эта тает, чуть только ее носитель проникается духом потребительства. Часто смысл существования этой власти теряется еще до того, как она исчезнет в действительности. Ни Господь, в Которого вы веруете, ни те, за кого вы ответственны, не признают такой власти, которая не основана на служении. К тому же культурное преимущество, которым вы оправдываете некое ваше превосходство, теперь становится, если уже не стало, мифом. Ученость перестала быть исключительно вашим достоянием, и просвещение — в таких его измерениях как открытость добру, утонченность, вкус, изящество — все более и более распространяется среди людей. Если цивилизация в немалой степени связана с женщинами, составляющими половину рода людского, его вдохновительницами и воспитательницами, то очевидно, что нехристианкам принадлежит такая же доля в дарах естества, что и христианкам.
Несомненно, для сердца Христова нет ничего дороже такого хода событий. Ибо Христос отдает себя всем, Он ни в коем случае не есть чья–либо исключительная собственность. Он откликается на нужды всех, так же как во время Своего земного служения Он совершал свои дела независимо от верований тех или иных людей. Всякое продвижение вперед инаковерующих радует Его также, как успех Его собственных учеников. Он — Спаситель мира, а не только своих последователей. Он ведет к спасению различными путями, среди которых — культура, техника, законные способы общественной борьбы. Отчего же нам вместе с Ним не радоваться достижениям других?
Скажу больше: Господь присутствует в этической, художественной, научной революциях, которые просвещают мир и так или иначе выявляют Его присутствие во вселенной. Современная христианская мысль принимает эту позицию и начинает осознавать, что Бог присутствует не только в смирении, доброте или милосердии. Если, проявляя Свое присутствие, Бог желает блага всем, Он должен разнообразить средства выражения. Духовная жизнь, при всем вдохновении и при всей преобразующей личность силе, которые она в себе несет, не исчерпывает духовной энергии в мире.
Безусловно, мир преобразуется святостью. Когда он был еще мал, не очень силен, и его проблемы были несопоставимы со вселенским порядком, у святости было только одно обличье. Но в открытом, идущем к объединению мире, с его непрестанным усложнением, глобализацией и всеми вытекающими из нее проблемами, сама святость, несомненно, должна принять новые формы. Такие формы, которые не были бы чужды объективным поискам разрешения сложностей человеческой жизни.
Творчество, через которое человек сегодняшнего дня стремится возрастать и перерастать самого себя, предполагает скрытое присутствие Христа в мире. Придет день, когда это присутствие станет явным, но до времени оно должно быть скрытым. Долг любви по отношению к миру обязывает учеников Господних участвовать в его развитии и коренном преобразовании. Их любовь не может более ограничиваться индивидуальным уровнем, она должна проявиться на уровне общественного воздействия и исторических перемен.
Христиане совместно со всеми прочими людьми должны осуществлять это преобразование мира ради всеобщего блага. Оно не может быть делом одной какой–то группы или страны, сколь бы могущественной та ни была. Нет, ему невозможно более оставаться результатом однонаправленной деятельности, необходим обмен, соучастие. Ибо всякая помощь более могущественного менее развитому подвергает сильного риску подчинить слабого, навязать ему свои требования и прийти, в конце концов, к политике превосходства. Верующий должен не только щедро давать, но и уметь принимать с той же простотой, с тем же смирением, с которыми он, как предполагается, дарует.
Если таковы на сегодняшний день христианские воззрения, то вы, христиане, где бы вы ни были, должны проявлять готовность и давать, и принимать, то есть быть соучастниками. Должны проявлять готовность давать, потому что вам много дано Христом. Должны проявлять готовность принимать, потому что это тоже милость, которую Бог дарует вам через других людей.
Эта идея соучастия могла бы стать вкладом нашей страны на всемирном уровне, так как великие державы, кажется, еще ее не открыли. К тому же предостережение часто исходит от малых. Но вот что еще более прямо касается вас и что еще важнее: надо понять, что истинная жизнь человека в том, чтобы забыть о себе. Лишь забыв о себе и встретившись в истине с другим, человек, наконец, обретет себя. До сих пор вы не узнали другого в Господе. Вы видели только безобразие другого. Конечно, человек слаб, противоречив, никто не свободен от ребячества, хитрости и эгоцентризма. Но безобразие твари не может стереть с нее печати Творца. Всякая человеческая личность, по самому факту ее призвания, даров, полученных ею от Бога, стремления к дальним горизонтам, причастна Христу. Только в этом свете вы должны смотреть на нее. Так вы поможете ей оживить в себе личность божественную, которой она должна стать. И главное: вы должны осознать, что не будете более ничем, что станете даже чуждыми Христу, если откажетесь так смотреть на другого.
Так зачем же утверждать свое мнимое превосходство и желать, чтобы его во что бы то ни стало признали другие? Только в любви Христос пребывает рядом с нами, и если вы не исполнитесь любовью, то не внесете никакого вклада в созидание вашей страны, не принесете блага человечеству. Только в любви осмыслите вы самих себя и свою жизнь, и поэтому любовь должна стать для вас всем. Без нее вы приблизитесь к небытию, вернетесь в первобытное варварство. По существу, вы — то зерно, которое должно умереть, чтобы другие жили. Вы обладаете истинной тайной жизни, так как Кто–то научил вас принимать смерть. Все ваше преимущество — в этом самоуничижении, в непрестанном порыве, побуждающем вас раскрывать пределы Церкви новым горизонтам вашего жертвенного свидетельства. Вы сможете подтвердить ваше самотождество, только если никогда не будете его утверждать. Вся ваша особенность состоит в том, что вы не стремитесь указывать на нее или заставлять других ее признать. Вы спасетесь, только если не будете искать себе защиты. Напротив, вам следует погрузиться в схватку, в самую сердцевину проблем этого мира. Вы не станете искать господства, ибо «князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими» (Мф. 20,25). А вы не от мира сего. Всякий раз, когда вы почувствуете какую–то гордость оттого, что вы сильны, согласно логике мира сего, или почтенны, по общему мнению, от вас отойдет животворящий Дух. Ибо «незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1, 28).
Веруете ли вы во все это?
Глава 1. К ИСТОЧНИКАМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Величие и смирение Божие
Вот уже несколько лет, как я потрясен словами Иисуса: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Почему Господь, Которому присущи все свойства Божества и все добродетели совершенного человека, выбрал для самохарактеристики только кротость и смирение, так, словно в этих качествах таинственно явлены все остальные?
Во всех религиях человек бывает потрясен величием Вечного. Св. Иоанн Златоуст говорит в своем комментарии на 2–ю главу Послания к Филиппийцам, где речь идет как раз о кенозисе: «У язычников различаются великие и малые божества. В Писании же везде виден только великий Бог, и нигде нет малых».
Писание непрестанно напоминает о величии Иеговы. Псалмопевец обращается к Нему так: «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Пс. 70,18). Бог являет свою силу народам: «Ты избавил мышцею народ Твой» (Пс. 76, 16). Наряду с этим Он — Бог, «поражавший народ в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием» (Ис. 14,6).
Мы видим здесь то свойство Божие, которое выражается в Его великих делах на протяжении всей истории Израиля. Вместе с Израилем мы переходим от космоса к историческим Богоявлениям. Здесь величие становится искуплением. Оно безгранично, однако вписано в человеческое время.
Независимо от откровения, данного евреям, величие Божие связано с тем ошеломлением, которое испытывает тварь перед безграничностью Творца. Тварь чувствует, что Господь миров превыше космоса и содержит его в Себе. Человек охвачен бытием Божиим, словно находясь вне вселенной. Я думаю, что апофатическое, или отрицательное, богословие присуще человеку в этом состоянии восхищения и связано с тем головокружением, которое охватывает человека в присутствии скрытого Бога. Отрицательное богословие преобразует наше опьянение пред лицом Господа в осознании, что Бог всегда за пределами того, что мы утверждаем о Нем, что Он есть Hypertheos (сверх–Бог), и всегда в движении, всегда превышает всякую сущность. Он — Неизменный, ибо Он и есть Неопалимая Купина. Он шествует впереди своего народа, которым Он сделал Израиль, ибо тот узрел Его, что и сделало возможным приятие и повиновение. Он — Единственный, ибо нет ничего подобного Ему. Он не совпадает с числом 1, как не совпадает и с числом 3. Лишь отказавшись от всякой попытки свести Бога к числовому ряду, мы познаем, что Он — Неизмеримый, что Его величие превосходит все. С этим величием несравнима огромность космоса, сколь бы невообразимой ни была протяженность вселенной в полном ее размахе.
Так как для тварного и нетварного нет общей мерки, Бог неузнанно открывает себя в природе и остается вне пределов разума. Открываясь, Он проявляет Себя как Иной. Он обитает в собственной святости, она — место Его уединения, из нее слышится Его речь. Мы постигаем эту речь только в знании, превышающем наши пределы, которое Он, по благости своей, дарует нам: «Во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35,10). Преображенные этим светом для вечной жизни, мы обретем духовные чувства, которые позволят нам его созерцать. Тогда мы будем возрастать от славы в славу. Проникшись Божественными энергиями, мы сможем постичь великолепие Божие и воспринять Его неприступный свет. Но мы никогда не сможем проникнуть в Его бездонную сущность. Его величие отмечено этой вечной антиномией между достижимым и недостижимым. Бог являет Себя в том, что Его скрывает. Он один рассекает окружающий Его божественный мрак, чтобы предложить нам близость лицом к лицу. Хотя Бог, снисходя к нам, показывает нам Себя, Он, однако, остается за пределами даже библейского слова, которое именует Его Богом Саваофом. Он не полководец и не покоряет никаких народов. Он не закрепляет за собой никакой земли и не передает ее кочевым племенам. Он не делит добычу между победителями, не возводит на престолы и не свергает царей, не связывает Своего дела с победой, не распространяет веры в Себя мечом, не поддерживает ее с помощью чиновников, не предпринимает и не благословляет никаких крестовых походов, не утверждает Себя через мирскую власть. Он не сжигает еретиков, не насилует ничьей совести, не бегает по мирским дорогам в поисках сторонников. Он признает право на заблуждение, свободу грешника. Он, однако, опрокидывает сильных и отсылает с пустыми руками богатых. Стада еврейских патриархов, состояния мудрых и степенных христиан, процветающие предприятия технически и информационно продвинутых обществ — все это на языке Царства остается ничего не значащими словами, ибо никоим образом не отражает величия Божия.
Бог не уполномочивает пророка убивать людей. Вот Илия после бойни, учиненной им на Кармиле, уходит на Хорив и там встречает Бога: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (3 Цар. 19, 11–13).
Следует очень серьезно воспринимать слово Господне: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9), ибо ни богатство, ни власть, ни какая–либо форма принуждения не являют Бога. Увы, очень часто справедливым бывает изречение: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». К сожалению, все еще остается искушение союза между престолом и алтарем. Престол принимает разные обличья: это может быть и слово, и наука, и риторика, и ораторское искусство. Переходить ради консолидации Церкви от одного вида раболепия к другому, любезничать в мирских канцеляриях, угождать вкусам, господствующим в той или иной области мысли или искусства — значит принимать мирское обличье, смешивать Божеское и человеческое, вступать в соблазнительную игру, а это — бесовский удел. «У нас один Бог Отец» (1 Кор. 8,6). Эта единственность Бога исключает всех мнимых богов. Слава Его исключает всякую иную славу. Как верно слово апостола: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 18–19).
Здесь возникает проблема проявления Бога в творении, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20). Тут мне хотелось бы призвать на помощь экзегетов. Не думаю, что Павел считал природу эпифанией Бога, ибо нельзя о Боге заключить из природы, но можно с помощью веры постичь Его проявление. Нельзя было бы воздать хвалу Богу, не получив прежде представления о Нем как о единственном и личном. Думаю, что для верующего нормально исходить из Логоса, чтобы ощутить logoi spermatikoi — семена Логоса, рассеянные в творении. Обретенный в вере Логос приведет нас к logoi — к «смыслам бытия» вещей. Открыв Себя как Премудрость, Он пробуждает в нас множество премудростей человеческой культуры. Без помощи Духа, Который наставляет на всякую истину, человек остается пленником собственной ограниченности. Всякое человеческое достояние, замкнутое в себе, может открыться или не открыться благодатному оплодотворению. Величие Божие несоизмеримо с тем, что дает культура.
Итак, я считаю, что в искусстве есть творческое начало богословской природы, хотя и не непременно религиозное. Ибо мы в истинном смысле сотворчествуем Богу. Если есть кенозис в творении, то есть он и в художественном творчестве. Бог предоставил нам создавать красоту. Превращая нас в художников, Он некоторым образом пожертвовал Собой. Искусство — способ мыслить почти по–Божески. Вот почему Рильке говорил о некоторых своих стихотворениях, что он их не писал. Не так уж важно, знает ли художник, что он получил от Бога. Конечно, создатель произведений искусства — не пророк, потому что не имеет религиозного послания, но он водится животворящим Духом. Здесь также верующий постигает в человеческих формах великолепие Божие.
Можно ли говорить о Божием смирении? Думаю, в Ветхом Завете этого не разглядишь. А в Новом? Бог Нового Завета–Бог Троица. Говорить о Нем — значит говорить о трех Божественных Лицах, и лишь затем приходит мысль о единосущии. Второе Лицо Троицы — Агнец, закланный прежде создания мира. Может ли Сын, вечно зримый в Своих Страстях, открыть нам тайну Божия смирения? Что значит быть закланным прежде создания мира? Если схоласты говорят о жертвоприношении в предвидении греха, то восточное Предание — в частности, в лице Св. Максима Исповедника — не считает, что эта жертва обусловлена грехом. У Бога есть жертвенный замысел, который не зависит от исторических обстоятельств, связанных со злом. Смирение Сына вписано в тот Его образ, который был у Бога прежде начала времени.
Если кенозис поставлен в связь с Воплощением, то во внутритроических отношениях он неощутим и в разговоре о Божественной Троице не упоминается. Однако не об Агнце ли, закланном от создания мира, Христово слово, обращенное к Никодиму: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3, 16)? Это сказано в прошедшем времени, еще до Голгофской жертвы.
Не Агнец ли вместе с Отцом и Духом создал мир? Мир — это плод Божией безумной любви — manikos eros, по выражению Отцов Церкви. Не было ли сотворение человека первым кенозисом Бога? Как может Бог утверждать свободу человека, не ограничивая Своего воздействия на него? Если свобода человека — дар Божий, то она и есть, по слову Св. Григория Паламы, образ Божий в человеке; и совершенно незачем считать ее некоей Urgrund (первоосновой) или Gottheit (божественностью), предшествующей самому Богу. Это сделало бы ее вечно противопоставленной Богу, чем–то вроде четвертой ипостаси. Но безвозмездный дар человеку, свобода, оборачивается для Бога добровольным ограничением, и величие Божие, таким образом, ощущается в связи с этим самоограничением, принятым по Своей воле и навеки. Если есть кенозис в творении, не выражается ли в этом вечный кенозис? Отцы не называли это так. Но то, что может быть так названо, подразумевается и во внутритроической любви. Как утверждал Кирилл Александрийский, именно любовь, вечно ходящая по кругу между Ипостасями, создает единство. Евангелие от Иоанна так определяет любовь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). И любовь Сына к апостолам, к верующим в Него, не есть ли, в тайне домостроительства, эпифания того, что каждая Ипостась дарует другой? Вот что говорит Иоанн о вечном отношении двух первых Ипостасей: «Отец любит Сына и все дал в руку Его» (Ин. 3, 35). И еще: «И показывает Ему все, что творит Сам» (Ин. 5, 20). В этом внутреннем отношении жизнь каждого из Божественных Лиц отдана другому; так совершается познание Ими друг друга.
Очевидно, что Писание говорит о любви, прежде всего, в связи с тайной домостроительства, потому что его особая цель в том, чтобы спасенный человек знал, что он любим Богом. Но тайна домостроительства (oikonomia) зависит от тайны богословия (theologia). Это вновь очерчивает природу вечной agape (любви). В плане истории Иисус говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 23–24). И мы знаем, что та слава, которую Христос получает от Отца в час Своей смерти, есть та самая, которую Отец даровал Ему от века.
Можно, стало быть, говорить о Троице как об основании божественного смирения. Я имею в виду триипостасное смирение, озаряющее тот кенозис, о котором говорится в Послании к Филиппийцам. Там идет речь о славе, которую Сын скрывает за реальностью воплощения, о славе, которую Он вновь явит через страдания. Это можно проиллюстрировать образом трех сообщающихся сосудов, один из которых, начиная наполняться, наполняет и другие. Физическая реальность предполагает, что пустой сосуд еще несколько мгновений будет оставаться пустым. Но в вечном движении Божием любовь Отца к Сыну и Духу можно понимать как «уничижение», чтобы проявили себя две другие Ипостаси. И каждая из Них получает это уничижение как любовь. И в то мгновение, когда Лицо проявляет Себя через это уничижение, Оно отказывается от Себя, чтобы явили Себя два других. В этом смысле мы понимаем, что любовь есть смерть ради других. Но в то мгновение, когда приходит смерть, приходит и возрождение. Так, Кто в Божией истории жил среди людей, Тот вечно жил в Боге. Почему казнен был Сын, а не Отец? Мы только знаем, что так была явлена тайна любви. Я осознаю все те трудности, которые могут возникнуть при таком созерцании Божества, тем более, что словесное его выражение, данное в меру моих познаний, может показаться до странности новым. Оно показывает преимущества разговора о Боге в библейских, а не в греческих терминах. Не вижу, что можно сказать о Божием смирении, формируя сущностные понятия. Меня всегда терзал вопрос: почему Богу запрещают страдать? Идея бесстрастности Бога — что это: в самом деле догмат или только пережиток платонизма? Что же означает тогда Божие сострадание?
Бог, наконец, показал нам Себя в смиренном и оскорбляемом Сыне. В Нем и через Него поняли мы, что величие Божие полностью явлено в уничижении Сына, в принятии Им небытия. Мы не только можем утверждать, что в стра–дании нет ничего недостойного, но должны сказать в плане theologia (богословия), что взятое на Себя страдание было навеки избрано Богом как сообразное Его природе носителя любви и, таким образом, в Страстях Христовых бого–человеческая природа не подверглась насилию.
Как избежать антропоморфности нашего представления о величии Бога без понятия о Его смирении? Если утверждать бытие Божие — значит утверждать Его «небытие», то говорить о великолепии Его славы можно, лишь сказав о том, что она отражена в Его жертвенной любви.
Нужно спасти Бога от двусмысленности Его величия, дабы отстоять Его истинное бытие. Бесстрастный Бог мучает людей и господствует над ними. Бог стал Великим Инквизитором потому, что люди создали Его по своему образу. Бог, который выставляет напоказ Свое величие и власть предавать людей смерти, не может признать за ними свободы.
Такой взгляд на вещи, конечно, будет нелепостью в глазах тех, кто не приемлет кроткого сердцем Иисуса из Назарета, обладателя wilayat, печати святости, как говорит Ибн–Араби. Именно Иисус Христос раскрывает тайну Божеского и человеческого смирения. Св. Иоанн Лествичник вместе со всем аскетическим преданием представляет смирение как высшую добродетель, сознавая, что это та ступень «святой лествицы», до которой никто не может добраться. Кто доходит до нее, тому открывается вся внутренняя жизнь Бога; он видит свет Восьмого Дня и становится свидетелем этого света.
Каково богословское основание этой добродетели? Церковь — свидетельница, у нее нет собственной воли; в безмолвии она становится Словом Божиим в человеке, который живет в ней. В комментариях на «Отче наш» Св. Максим Исповедник пишет: «Если нерушимая мощь Царства дана смиренным и кротким, кто тогда будет настолько лишенным любви и желания божественных благ, чтобы не потянуться изо всех сил к смирению и кротости, дабы стать, насколько возможно человеку, печатью Царства Божия, неся в себе то, что по благодати дает образ, подобный образу Христа, великого Царя? […] Душа, в которую естественно влилась святость образа Божия, волею Его преобразуется в подобие Божие. […] Она делается осиянной обителью Святого Духа. […] Через нее всегда таинственно рождается Христос, воплощаясь в тех, кого Он спасает; Он творит рождающую Его душу Девою–Матерью».
Эта девственность души может быть обретена христианской общностью, которая стремится уничижить себя ради Царства, отвергая всякий иной способ действия, кроме Слова, ибо мирская забота о действенности опускает на лицо ее покрывало. Отрекаясь от всякой собственной воли, Церковь–свидетельница в безмолвии становится Словом Отчим.
Крест — путь от воплощения к воскресению
Писание открывает нам «тайну, сокрытую от веков и родов»: это «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1, 26–27). Эти слова апостола Павла означают, что свет Христов отныне с нами, но вместе с тем это свет грядущей славы. В том, что дорогу озаряет свет, исходящий от Возлюбленного, убеждает нас надежда. Путь этот начинается от лика Христова и ведет к нему в вечности, где любовь упраздняет порывы надежды. Когда мы находимся в присутствии Бога, вне этого присутствия для нас нет ничего, и мы переходим от славы в славу. Чем более мы взираем на Христа и укрепляемся в видении Его, тем сильнее желаем принести Его послание всему миру, «чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1, 28) Здесь мы стоим перед антиномией: с одной стороны, человек живет в надежде и попрежнему «переходит», с другой же — отныне он доходит до совершенства. Именно это переживает человек, в котором сотворяет обитель Христос.
Говоря о воплощении, христиане утверждают, что в совершенном человеке сотворяет обитель Бог во всей Его полноте. Это одно из значений, которые они придают слову «воплощение». Что за плоды рождает эта вера, к каким действиям побуждает? Перед нами встречное движение: нисхождение Бога к человеческой немощи и восхождение человека к Богу, восхождение, которому нет пределов. Выражается ли это движение по восходящей в нравственном поведении или в цивилизационном созидании, оно есть не что иное, как последствие благоволения, нежности Бога к человеку. Когда, по Своей любви, Бог, принесенный в жертву на Кресте, становится на наш уровень, нам остается лишь броситься в ту дверь, которую Он отворяет нам, — в Него, в бесконечность. Над нашей головой нет больше крова, и ничто не может остановить нашего порыва. И если нашего прошлого для нас не довольно, перед нами время, данное нам теперь, и то, которое грядет, также как время наших братьев и сестер, ибо все мы составляем единого человека, влекущегося к славе. Когда архангел Гавриил возвестил Марии, что Ее Сын будет царствовать и что «Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 33), он тем самым сказал Ей, что Назарянин воцарится в царстве любви, или, вернее, что Он Сам есть это Царство и сразу окажется выше веков вместе с теми, кого любит.
В службе празднику Благовещения мы поем: «Адам обновляется, и Ева первыя печали свобождается». Плоть Марии становится божественной, она преодолевает возведенную между Богом и людьми преграду, чтобы вселиться в божественный свет и приобщить каждую человеческую клетку к сияющему Телу Христову. Соприкосновение с благодатью стало пережитой действительностью; тем самым мы обрели победу над грехом, смертью и всеми сопровождающими их бедствиями. Явился новый человек. Свершилась качественная перемена: от жизни без Христа мы перешли к жизни в Нем. Это новое состояние стало явью здешнего мира. Оно требует от нас здесь и теперь написать историю Бога в людях.
Однако «невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17, 1). И они многочисленны. Даже в самой Церкви! Мы хорошо знаем эти соблазны; знают их и те, кто нас не любит, но они не замечают той святости и того покаяния, которые также проходят сквозь всю историю христианства. Покаяние — а стало быть, осознание греха–может быть очень сильным в христианской среде, притом никакой другой религиозной традиции не присуще столь острое осознание греха.
Фактически, мы призваны стать такими, как Христос, и не менее. К прискорбию, большинство верующих оступаются и падают с «лествицы добродетелей», по которой мы пытаемся подняться, и очень немногие достигают вершины. Таковые обитают в вышних, они уже приближены к Престолу и на собственном опыте переживают потрясение и опьянение от предстояния Богу. Невозможно вообразить себе их благость, смирение и свет, который озаряет глубину их сердец!
Христианин, став святым, уже здесь и теперь наслаждается светом Божиим. Эти немногие составляют святую Церковь, полностью принятую Супругом. Наши великие богословы определяют Церковь именно так. Стало быть, истинные члены Церкви не являются частью горизонтального христианского общества, которому так нравится грех. И все–таки они по–прежнему приемлют его, так же как приемлют из любви с той же силой и верностью всякое другое человеческое общество–насколько им позволено осуществлять по отношению к нему свободу любви. Кто воспаряет на крыльях надежды к человеческому совершенству, тот, осознанно или нет, становится носителем энергии, исходящей от Иисуса. Все, кто страдает, — откуда бы они ни были, нашли ли они прибежище в одиночестве или блуждают в пустыне людских сердец, — палимы огнем печали и отчаяния. Все они принадлежат Христу по упованию, независимо от того, способны ли они высказать это хотя бы лепетом.
Христианин, чье христианство подтверждается удостоверением личности, стоит в центре моей любви не более, чем всякое иное творение. Крещение дает силу, которая может претвориться в действие, а может и остаться мертвой буквой. Есть крещенные водой, а есть крещенные своими слезами. Вода ничего не значит, если ее не оживят слезы.
Евангельское послание о воплощении означает, что крест и позади, и впереди нас. Но как Христов кенозис привел Его к воскресению, так и мы проходим путь от нашего личного креста до нашего личного воскресения. Это относится также и к Церкви, которая, вследствие направленной на нее безумной любви, через смерть приходит к воскресению. Сколько людей принимает смерть, чтобы через нее достигнуть жизни, давая тем самым жизнь другим! Они с презрением отвергают неизбежные соблазны, чтобы обогатиться одной лишь славой Христовой. Вот оно — чудо чистоты, вот она — поэма, которая пишется кровью и терпением! Вот что такое преображение! Преображение не предмет, получение которого гарантируется, но безвозмездный дар Божий, возносящий нас к бесконечной надежде.
Стало быть, смерть и воскресение глубоко связаны между собой, и Пасха — история этой связи. Такое единство смерти и жизни подтверждается лишь одним событием, истинным только относительно Христа. Следуя за Ним, те, кого Он любит, прозревают это событие в глубине тайны и созерцания. Если мы остаемся в области зримого, то перед нами два последовательных, но независимых события. Однако они незримо связаны, и праздник Пасхи лучше всякого богословия возвещает это единство. Ибо само по себе страдание — бессмысленно, так же, впрочем, как и такое воскресение, которое не озаряет своим таинственным присутствием сам крест, а понимается как чистое изменение, независимое от того, что ему предшествует. И победа, и раны сопутствовали и всегда будут сопутствовать Воскресшему.
В христианстве нет богословия страдания, а есть лишь богословие воскресения. Страдание ненавистно, ибо связано с грехом. «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6, 23). Так же ненавистна и смерть, ибо она противостоит бытию. «Последний из врагов — смерть». Мы утверждаем в нашей вере, что «в начале» смерти не существовало, она водворилась хитростью, пришла как наказание. Поэтому трудно назвать христианство религией, проповедующей страдание, а христиан — людьми, наслаждающимися трагедией. Мы не кичимся горем и бедствиями, и скорбь для нас — не критерий святости. Напротив, мы потому за терпение, что оно приносит утешение.
Если рассуждать богословски, нам не позволительно ни сетовать в страданиях и скорбях, ни нарочно создавать их, думая таким образом соединиться с Христом на кресте. Это возвысило бы нечто такое, что лишь умаляет бытие. Немощь нашего тела и печаль души — это, увы, качества приобретенные. Они сопровождают нашу повседневную жизнь. И нам как христианам незачем к ним еще и стремиться; напротив, наша надежда именно в том, чтобы их превозмочь и исцелиться от них. Однако к более полному бытию мы приобщимся только через живущее в нас тление; именно став пленниками тления, начали мы шествие к смерти, но даже в этом шествии мы стремимся к жизни. Крест и воскресение–неразлучная чета.
Крест, пред которым повергаемся мы наземь, побуждает нас открыть глубины человека. Крест — носитель жизни. От него исходит свет. Он–то и ведет нас к воскресению. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Чтобы следовать за Иисусом, напоминает нам Евангелие, нужно загубить свою жизнь и взять свой крест. Это призыв преодолеть замкнутое «я» и все, что мешает нашему движению к истине и любви. Далее следует новое слово Господне: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8,36). Этим Он говорит нам, что все, чем мы обладаем, — деньги или власть — может привести нас к погибели, если мы страстно к этому привяжемся. Когда у нас есть вера, мы всецело живем упованием, ибо тогда мы стремимся в повседневной нашей жизни лишь к одному — исполниться благодати, которая приходит к нам. Если мы хотим «в Бога богатеть», то непременно живем в бедности. Мы должны умереть сегодня, чтобы жить завтра.
Любя деньги и телесную силу, мы рискуем дать им поглотить нас и помешать нам положиться на Бога. Бог примет нас только тогда, когда мы совлечемся всех этих вещей, — так как деньги, сила, тело — все это действительно только «вещи», — и даже самих себя. Мы становимся вещью, когда воспринимаем себя, как свою собственность: мы погибаем, если дружим с тем, что обречено погибели. Князь Негое Бассараб, который правил в XVI веке Румынией, писал своему сыну: «Кто одарен просвещающим разумом, того не помрачит ни царство, ни господство, ни патриаршество, ни епископство, ни игуменство, ни все то временное, что занимает нас; одна у него забота — любить Господа Бога всем сердцем своим».
Такой человек знает, что в нем явлен Христос и что он, таким образом, дает бытие миру. Кто одушевлен великой верой, тот не происходит от мира. Это мир происходит от него. Он не боится, ибо он не от мира. Он созидает любовью новую вселенную. Верующие немногочисленны, но именно их вера движет мир к преображению. Все лучшее в мире — от добрых дел чистых сердцем людей. «Мудрые мира» считают истинно верующих наивными, ибо те не бывают ни агрессивными, ни хитрыми. «Мудрые» считают того, кто отвергает ложь и лукавство, простаком. Напротив, для того, кто живет в чистоте, «преображенный» проходит сквозь времена и господствует над ними, щедро наполняя их своими плодами. Все вещи он понимает в Боге, тогда как другие блуждают по поверхности своего бытия вразброд и принимают свою тоску за действительность.
Когда апостол Павел пишет: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24), он хочет сказать, что только распятие верующего, ступившего на путь очищения, отражает красоту Спасителя. Вне такого распятия «похоти» христианина превратятся в гнет для других. Далее апостол говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал. 6, 14). Этим он напоминает нам, что верующий должен радоваться своему распятию, ибо оно делает его независимым от мира, и потому его господином. Напротив, если верующий даст себя увлечь невоздержанности, — а властолюбие — один из ее видов, — он может хвалиться лишь скорбями, которые причиняет другим. Верующий не ищет креста с горячечным безумием; крест сам ищет его, злые люди жестоко уязвляют его, не спрашивая позволения. Это не значит, что христианин должен наслаждаться преследованиями и не в праве сопротивляться несправедливостям и притеснениям, объектом которых он может стать, — отцы–мученики не раз восставали против воли императоров, — но истинный христианин знает, что мирские люди желают его гибели и что таков его удел на земле живых. Он пытается научить их свободе, зная притом, что истинная свобода — та, которая в истине и правде освобождает и восхитившего ее, и других людей, — великая редкость, ибо она — дочь евангельской веры, живущей во всепоглощающем служении и в непрестанном труде. У кого есть опыт этой свободы, те опасаются за нее, ибо знают, как она хрупка. Они осознают, что поиск этой свободы не кончится никогда и что никакое общество не сможет считать ее обретенной. Ибо правительства часто склонны не придавать значения текстам, а демагогия дает волю злобе и ненависти. Одна трагедия следует за другой, так что всегда необходимо, по мере возможного, пытаться обеспечить свободу на уровне законодательства и государственных структур.
Истинная поддержка наша — в Боге. В Нем мы ищем первых плодов новой жизни. В эти сумрачные времена, когда нас всякий день притесняют и «домашние», и соседи, мы не можем больше обольщаться обещаниями и продолжать увлекать ими других. Мы с Христом словно стоим на шаткой скале, действуя — и видя, как действуют другие — слабо, бессильно. Мы умаляемся, «чтобы дать пройти гневу Господню», когда страдания мира пригибают нас, но и поднимаемся к вершинам надежды, цепляясь за былинки, которые Господь не перестает нам посылать. Так идет наша жизнь, и так будет до конца времен, до второго и славного пришествия Христова.
Если, предстоя Кресту, мы хоть на мгновение забудем о грядущей победе, значит, мы соглашаемся с тем, что страдание спасает, тогда как наверняка знаем, что оно — лишь выражение нашей осужденности, экзистенциального падения. Останавливаясь духовно перед Крестом, мы не должны видеть в нем лишь орудие казни Спасителя; созерцая Крест, мы поклоняемся ему, ибо благодаря ему вселенную наполнила радость.
Вот почему в византийском искусстве Распятый первоначально изображался с открытыми глазами во всей полноте Своей подлинности и реальности — умершим и, однако, Царем: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания» (Евр. 2, 10). Христа Бог «совершил» — т. е. сделал совершенным в его человеческом естестве — через страдания на Кресте, и Крестом Он был прославлен.
Во время последнего Своего противостояния царству смерти Иисус говорит: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое!». Ему отвечает глас с небес: «И прославил и еще прославлю» (Ин. 12, 27–28). За этим эпизодом следует очень сжатая речь о свете: «Я свет пришел в мир…» (Ин. 12, 46). И в прощальной речи Учитель развивает эту тему, завершая так: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17, 5). Значит, эта слава, при воплощении скрытая в человеческой природе, никогда не покидала Господа в Его существе и вновь проявилась в Нем в Его смертный час.
Христос умер не вопреки своей воле, не насильственной смертью. Никто не мог Его принудить умереть. Его враги думали унизить Его, но это Он, из любви, даровал им жизнь. Смерть принесла Ему только честь и прославление. Христос не был побежден смертью. Он добровольно покорился смерти на мгновение, но в то же мгновение освободился и восторжествовал над нею.
Пасхальный гимн напоминает нам об этом: «Христос … сущим во гробех живот даровал». Люди видели смерть, но Он воистину пребывал вне гроба, куда они Его положили. Не через три дня, но немедленно Он смертию смерть попрал и дал тем, кого любит, силу освободиться от нее. Воскресение в третий день — это лишь зримое проявление в определенном и конкретном отрезке времени той вспышки света, которой просиял Христос в великую Пятницу. Перед нами не фильм, в котором образы следуют друг за другом, но спасительная действительность, и проявляется она по–разному. Мы в самом сердце тайны, непостижимой рассудку, и можем лишь всецело преклониться.
Мы далеки от той плоти и крови, которую в изобилии преподносят нам театр и кино в произведениях, посвященных Страстям Христовым. Скорбеть над Иисусом, сожалеть о Нем — значит отрицать божественную и светлую сторону спасения, словно Бог позволил погубить Своего Сына, дабы утолить Его кровью некий Свой, Божий, гнев. Нам говорят, что справедливость потребовала смерти Бога, ибо только такой смертью можно было удовлетворить ярость, которую вызвал у Бога человеческий грех. Эта ересь распространилась в средние века в западном богословии; ею отмечено и западное благочестие, поощряющее в христианах какое–то пристрастие к скорбям и побуждающее людей кичиться своими страданиями, считать их признаком благодати, словно калеки и уроды ближе всех к Богу.
Преувеличенный поиск несчастья стал признаком добродетели. И в постановках, посвященных Христу, стремились показать Его слабость, недужность, изобразить Его как труп. А между тем древняя традиция учит нас, что даже слово «труп» не подобает употреблять, говоря о Господе, о тайне Его смерти. Тело Христово на Голгофе и во гробе — то самое Тело, Которое восседает на престоле с Отцом и Духом.
Христиане, разделяющие два естества Христовы и настаивающие на Его страждущем человечестве — потому что так удобнее, и к тому же это уподобляет Христа нам, — такие христиане, фактически, впадают в несторианскую ересь. Верно, что Христос был, как мы, из плоти и крови, что уподобился нам во всем, кроме греха. Но он призывает нас стать такими, как Он, в ином смысле: Он возвысился над телесными скорбями, принял их на Себя, в Своей божественности, и обратил их в поле деятельности любви Божией.
Что Христос уподобился нам — это известно. Что мы должны уподобиться Христу — это призыв к нам. К сожалению, многие христиане не различают этого, предпочитая–и в своей духовности, и в своей вытекающей из нее ментальности, и в художественном выражении — практиковать нечто вроде несторианства, отрывая Его человеческое естество от божественного. Получается какое–то христианство умерщвления. Это хорошо видел Ницше, когда обличал христиан как упадочников. Сентиментальное, любящее скорбь христианство, как греческая трагедия, помещает человека в тень рабства.
Начиная с воплощения Христа и благодаря всему, что Он открыл нам о Себе, мы — люди воскресения. Дух воскресения есть и в Его словах, и в Его чудесах. Его духовность светла и радостна. Он перевязывает раны и озаряет их венцами света.
Когда Бог встречает смерть, Он уничтожает ее, и не нужно больше говорить о ней, ибо Христос «уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха» (Рим. 6,9–10). Что до нас, то мы пребудем с нашей Пасхой — Христом живым — и будем жить под Его сенью среди народов до конца времен.
В разговоре с Марфой, перед тем как воскресить Лазаря, Иисус придает новый смысл понятию воскресения, утверждая, что Он Сам есть воскресение. Он не отрицает воскресения в последний день, подтверждаемого многими местами Писания, но ставит нас перед воскресением, уже совершившимся, которое происходит сегодня, а не только в последний день. Мы стоим словно перед «уплотнением» времени, исполнением упования, будто последние времена «в сжатом виде» пришли в настоящее мгновенье. Христос–современник всякого человека. Хотя Он и пришел на землю в прошлом, Он и теперь остается здесь. Он не только «грядет» в конце времен, Он всегда приходит к нам и пребывает среди нас. Он с нами не только в Своем учении — Он присутствует. Мы имеем дело не с книгой, а с живым лицом, которого не помрачит никакая ночь. Мы сами причастны бытию лишь в той мере, в какой созданы по образу этого лица. Уникальность христианства в том, что оно не состоит в одном лишь учении о Христе, или в мнении о Боге, или в представлении о мире и в выводах из него, но прежде всего и более всего оно есть Сам Христос и наше личное отношение к Нему, наша верность Ему.
Стало быть, наша любовь к Иисусу из Назарета и есть тот абсолютный критерий, по которому мы проверяем наши поступки. Иисус из Назарета, а не земля или небо — вот наше единственное прибежище. Поэтому Он говорит: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Хотя глагол «оживет» означает сам по себе будущее время, продолжение фразы устраняет всякую двусмысленность: «Живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин. 11,26). Ясно сказано, что верующий не узнает смерти, что он не подвластен смерти. Он выше печали, выше трагедии, он обретает покой в Том, Кто дарует ему, как и всей вселенной, воскресение. Воскресение, которое он предвкушает уже здесь, будучи с Христом. Тут мы видим, почему Лазарева суббота так тесно связана с Пасхой: она представляет собой путь, который ведет от восстановления к возрождению, шествие к красоте Того, о Ком Исайя (42, 1–4) говорит: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы» (Мф. 12,18–21).
В этом Отроке, в обретении Его — истинное целомудрие, великое подвижничество. Оно будет нам дано силой, о которой и не мечтают те, кто наслаждается властью. Кроткий ничего не доказывает, он сам — доказательство. Он — посредник, и он же — язык. Другие кричат, а всякий крик — это разрастание бытия, притязание быть. Кроткий признает инаковость иного, ибо он желает для себя не свободы вызова, а той свободы, которая ставит себя под вопрос в диалоге, то есть свободы любви. Тот, кто любит, скорее отречется от себя и умрет, чем станет кричать. Он до того упорен в своей любви, что и другого заставит раскрыться. И тогда свет узнает себя в свете. В этом и состоит истинное мужество, истинная власть. Поэтому кротостью обладают сильные.
Я уподобил бы кроткого женщине — в том смысле, что он способен принять другого. Кротость — это разговор между двумя людьми, которые отказываются от того, чтобы кто–то из них был господином, а кто–то рабом. Кротость — удел тех, кто освободился от шлака, которым цивилизация запятнала оба пола. Это позиция нового человека, который вечно живет в лоне Божием — и в лоне женщины. Вот почему великий сирийский учитель Афраат говорит, что Бог — это мать. Он–мать, потому что Он милосердствует, сострадает, снисходит. В семитских языках слово al rahmat, означающее все эти качества, восходит к rahm — матка. Все мы, мужчины или женщины, происходим из Божьего материнского лона.
Кроткий — не значит наивный. Он видит, какие шипы торчат из иных людей, но знает, что лучи его света смягчат их остроту. Трудностей по–другому не устранить. Не то скрестятся копья, и добрый человек перестанет быть добрым. Целомудрие доброты, как и всякое целомудрие, растлевается насилием. Смирение должно быть соединено с кротостью. По этой–то причине Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11,29).
Почему Учитель, Который обладал всеми добродетелями, пожелал охарактеризовать себя именно этими двумя? Он хотел дать нам понять, что если мы достигнем смирения, то все, что до сих пор мешало нам прийти к кротости, исчезнет в нас. Смирение наше состоит, по существу, в том, что человек осознает свою суетность. Тварь не смеет называть себя смиренной или считать, что подошла к смирению, ибо смирение — это полное самоотречение перед Богом и братьями. Ведь один Бог может сказать, кто я. В полном кенозисе, который и есть смирение, исчезают все те шипы, когти, клыки, какими человек утверждает свое эго. Кротость — дочь смирения, и она побуждает меня сказать: «Возьми меня, Господи, под крыло». Я прячусь под этим покровом. И Бог примет меня таким, каков я семь, неосвещенным. Примет как приношение, ибо и сам Господь тоже ведь под покровом. В Нем не тронет полуденное солнце и не будет разрушено жилище, ибо я под покровом, сквозь который просвечивают лишь мои глаза, чтобы поговорить попросту, на языке любви. Я знаю, что, действуя так, я донесу послание, и тот, кто смотрит на меня стыдливо, обретет место в стране мира.
Движение любви
Троица у христиан — исток всякой мысли, основание всякого поступка. Христианство знает Бога как любовь, так написано в 1–м Послании апостола Иоанна. В этом смысле происхождение любви божественно. Поэтому люди могут встречать и узнавать любовь лишь постольку, поскольку живут в Боге. Более того, любовь и есть жизнь в Боге. Это раскрылось исторически в распятии Иисуса Христа. Крест–это место, где это убеждение утвердилось, откуда оно распространилось по вселенной. Он лучше всего позволил нам узнать Бога.
Любовь понимается как то движение, которое идет от Отца к Сыну и Духу. Таким образом, Сын существует потому, что Он любим. В этом движении любви Он Сам любит Отца, так же как всякая из трех Ипостасей любит и любима. Эта вечная любовь — источник единства Ипостасей, но она не лишает каждую из Них собственного характера. Как единство Троицы не исключает различия Ипостасей, так и Их различие не исключает единства. Единство — в том вечном движении, которое и есть любовь.
Отец извечно и, согласно собственному характеру, щедро одаряет Сына самим Его рождением и сошествием Святого Духа, чтобы исполнился круг любви. Говоря иначе, Отец исчезает в Сыне, потому что Он от века есть источник любви к Сыну, и оба Они вместе суть любовь. Любовь обнаруживается и в Слове, и в Духе именно потому, что она присуща Божьему естеству. Тот факт, что, родившись, Сын получает Отца, Который есть любовь, побуждает и Сына проявить Себя в Отце, то есть отречься от своего Я. Каждый из них–любимое лицо и любящее лицо, и в этом состоянии они нераздельны.
Это объясняет, почему мы часто называем Ипостась Лицом. Когда лицо обращено к другому лицу, они вперяются друг в друга, и оба — в третье. Значит, любовь в том, чтобы смотреть в лицо друг другу. У каждого из трех Божественных Лиц–собственные характеристики: Отец не сотворен и не рожден, Сын прежде века рожден Отцом, а Дух Святой исходит от Отца. Это особенные характеристики каждого Лица. Все они встречаются в единстве, или в любви.
Таким образом, для нас любовь представляет собой вечную связь трех Лиц единого Божества. В численном смысле Бог не один, Он — единая Любовь, вечное движение между Отцом, Его Словом и Его Духом, и через Них Он приходит к миру. Мир был создан любовью, и кто в этом мире переживает любовь, тот участвует в жизни Самого Бога.
Любовь дана только тому, кто влечется к Лику Отчему, кто возвращается к Отцу как блудный сын, вместе со всеми, кого любит, и со всей вселенной. В самом деле, вселенная, сегодня раздробленная и сломанная, тоже возвратится к Отцу, когда в последний день будет озарена Христом.
Обожение любви есть тайна, которая может быть постигнута лишь в глубинах Божиих и в глубинах души. Всякое иное утверждение — лишь рассудочное приближение к Господу, а не попытка стать с Ним лицом к лицу. А стать лицом к лицу с Богом значит заключить с Ним союз, укоренив тем самым Бога в человеке и укрепив человека. Сторонников любви не следует за это обвинять в пантеизме: никто не говорит, что Божественная сущность смешивается с человеческой. Но без любви Бог не сможет овладеть человеком и поселиться в нем. Для тех, кому дано ощутить это, очевидно, что Бог пребывает в человеке, а человек — в Боге, в Его славе и свете.
И поскольку чувства людей проникнутся этой любовью, постольку люди будут в том троическом отношении друг к другу, которое существует в Боге. Человеческая страсть может приблизиться к Божественной любви только тогда, когда два человека, любящий и любимый, установят друг с другом отношения не внешней близости, которая и есть двойственность, но так повернутся лицом друг к другу, что каждый будет смотреть в лицо другому, и оба — в лицо Третьему, Богу. Ибо только Он один может одушевить два человеческих лица и утвердить их и в независимости и в единстве. Любовь божественная есть таинство любви человеческой. Вторая без первой мгновенно истощается либо располагается только в плане человеческой природы.
Если переместить все это в план человеческого бытия, — а величие Бога в том, что он позволяет переместить Себя в нас, — мы скажем так: я — в тебе, ты — во мне; я могу существовать как личность только в тебе, ты можешь быть собой только во мне. Твоя личность сознает себя и живет — в движении к другому; она умирает, когда замыкается на себе самой. Если хочешь быть самим собой, ты должен согласиться смотреть другим в лицо, то есть давать и принимать. Ты живешь постольку, поскольку отдаешь твою душу и все, чем она обладает, а если ты не даешь, ты умираешь. Ты существуешь не тогда, когда осознаешь свое существование как таковое, но тогда, когда осознаешь самого себя как то, что тебе дано. Ты существуешь постольку, поскольку отдаешь свою жизнь, то есть — поскольку умираешь. А если ты вполне осознаешь себя как любящего, ты будешь всем бытием.
Что же это за тайна, которая побуждает тебя умирать для других и без страха идти навстречу смерти? Ты можешь умереть за другого, только если считаешь, что он для тебя все. Поскольку он — вся вселенная, ты приносишь себя в жертву за него, и для тебя это — единственная возможность существовать. Значит, ты можешь жить только через смерть. Напротив, если ты придаешь себе какое–то значение, ты не можешь принести никакой жертвы, ибо твоя забота–сохранить то, что имеешь. Осознать, что ты сам — ничто, — это предварительное условие, чтобы породить другого. Другой может родиться от тебя только тогда, когда ты убьешь твое эго. Умирая, ты воскресаешь, также как и твой ближний, тем же единым движением, ибо никто не может восстать из мертвых, не пройдя через смерть. И наоборот, кто не согласится добровольно принять смерть, тот, в конце концов, все–таки умрет и умертвит вместе с собой других–таким же единым движением.
Христос открыл эту тайну любви в исторической действительности, он показал ее в своем умении принимать раны. Кто ранен Иисусовой любовью, тот становится вместилищем этой тайны. Вот почему невозможно сделать различие между тем, кто любит по–Божески, и достоверным представлением о Лике Христовом.
Но Христова способность принимать раны — это только одна сторона проявляющейся в истории и вне ее Отчей воли к самоотдаче. Отец истощает Себя в любви к Сыну и Духу. Любовь, по определению, есть не что иное, как самоуничтожение в другом.
На этой земле человек утверждает себя тогда, когда уничижает себя, или умирает в другом. Единственный способ выразить любовь — это преодолеть всякий дуализм. Смерть в другом есть, в сущности, воскресение. Действительно, тот, кто любит, не умирает, потому что он пребывает в состоянии постоянного дарения. А тот, кто любим, не может умереть потому, что пребывает в состоянии постоянного принятия.
Никто не может утверждать, что он живет так, если не верует в Бога, не осознает, что он пребывает в Боге, не охватывает своим взглядом всего бытия. Кто смотрит таким образом на все бытие, тот находит его прекрасным, так же как Бог признал, что все «хорошо весьма». Видя пыль на лице брата, ты постараешься стереть ее, ибо ты любишь его красоту. Объективно ты можешь признавать виновность брата, но грех, сколь бы он ни был велик, никогда не исказит его первоначального великолепия. Более того, твой брат раскается, только если ты его любишь. Стало быть, нужно его любить, считать его лучшим, чем ты сам, признавать всякого грешника, преступника, испорченного человека прекрасным в сравнении с тобой, ибо ты призван видеть порочность в себе самом, а в другом — никогда. О другом знает Бог, Он один–судия. Ты не можешь предварять суда и делать судией себя.
Здесь мы касаемся смысла милосердия (al rahmaniya) в том понимании, которое нам дал Иисус. Слово rahma (милосердие, сострадание) происходит, несомненно, от rahm (матка). Говоря о милосердии Божием, великий сирийский учитель Афраат, а до него Климент Александрийский, утверждали, что Бог есть «мать», потому что Он порождает всех людей и принимает их, когда они возвращаются к Нему. Возможно, слово «милосердие» имеет иной смысл, чем слово «любовь». Но если мы из плана языкового перейдем к самому Божественному порыву, сможем ли мы рассматривать движение милосердия и движение любви как принадлежащие к различным регистрам? Можно бы подумать, что у милосердия не такое широкое поле приложения, как у любви, ибо оно есть прощение грехов. Может показаться, что оно более связано с отрицательной ситуацией в жизни человека, которую преодолевает прощением, чтобы прийти к исцелению. В этом смысле оно было бы ступенью или гранью более широкого, более исчерпывающего понятия любви. В действительности, любовь Божия изливается из самого сердца Бога, из самого сокровенного Его существа. Любовь — не один из Его атрибутов, не сторона Его характера, но целостность этого характера в его беспрерывном движении к сердцу человека. Цель этого движения — освободить это сердце от эго и водворить его в Божественном Я.
Конечно, я понимаю реалистов — или тех, кто притязает на реализм, — которые представляются мастерами психологического или психиатрического анализа, тогда как зачастую они всего лишь носители предрассудков. Представим себе, что они могут открыть некоторые факты или даже все, что касается подвергнутого анализу лица. Значит ли это, что все его действия идут от сердца? Если никто не может судить собственное сердце, — ибо только Бог проникает в глубину сердец, в том числе и моего, — как я могу позволить себе исследовать интимные тайны других людей, каковы бы ни были их слова и поступки? Человеческое существо — тайна, в глубины которой может проникнуть один только Бог, его сотворивший. И по этой же логике любой грешник — тоже тайна, и мне дано только попытаться исцелить его раны. В то мгновение, когда я вместо этого стану ему вредить, я поврежу себе самому.
Тайна бытия в том, что каждая личность — это все, каждая, вместе с ее достоинствами и недостатками, с тем, что в ней изменчиво и что постоянно. Каждый из нас — микрокосм. В своей истинной сущности каждый содержит в себе микрокосм, который не может ограничить его, ибо каждая человеческая личность есть бесконечное движение, и ничто не может поставить предел ее богатству. Бог преображается в ближнего и через него обращается к тебе совершенно особенным образом, не похожим ни на какой другой. Ты любишь его в той мере, в какой тебе открывается его красота — хотя бы столько красоты, чтобы скрыть или сделать недействительным его безобразие. И если ты возвысишь себя в нем, а его в себе, вы оба пойдете к тому, что превыше времени и сияет ярче разума. Нет смысла подражать друг другу. Пусть каждый хранит то, что дано ему, свою часть красоты. Характер каждого человека–нечто вроде структуры. Благодать действует в каждом, согласно его собственному характеру. Всякий иной подход будет искусственным. Вселенная — широкое полотно, и каждый из нас вносит в него ту краску, которая в нем живет.
Краски гармонируют между собой в меру творческой силы художника. Люди будут гармонировать друг с другом, когда каждый из них откроет, что другой — необходимое дополнение к его счастью. Разнообразие харизм само по себе не создает общей участи. Согласись признать харизму другого и обрадоваться ей, и это позволит тебе пойти ему навстречу и найти в нем свой покой, а ему — свой в тебе. Только при таком подходе можно наладить отношения, которые ненасильственно преодолеют приличия и условности, вежливость и status quo. Поэтому ты не должен никого бояться, ибо никто на свете не может повредить тебе или унизить тебя. Конечно, возможно нанести ущерб твоему телу и, может быть, твоей репутации; но твое истинное Я — не в теле, а о репутации ты должен заботиться лишь постольку, поскольку ее падение может парализовать твою деятельность и снизить ее успешность. Напротив, если ты преобразишься, твое доброе имя само постоит за себя к посрамлению завистников и клеветников.
Как прекрасен будет день, когда каждый станет радоваться успеху другого, его силе, его познаниям, его доброте, уму, чистоте! Как велик душою был Иоанн Креститель, который был счастлив, видя, что ученики оставляют его, чтобы следовать за Христом: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 30). Иоанн явился призвать к покаянию. А истинное покаяние приводит к Иисусу Назарянину. Стало быть, заговорить о покаянии — значит направить людей к Нему. Кто любит, тот желает видеть тех, кого любит, сияющими ярче, чем сияли при нем, ибо конечный замысел в том, чтобы все пребывали в свете.
Около сорока лет назад я принимал исповедь одной четырнадцатилетней девочки, которая просила меня научить ее исповедоваться. Помнится, я спросил ее, завидует ли она. Когда она ответила утвердительно, я сказал: «Если ты считаешь себя красивой, что ты потеряешь, если другие девочки тоже будут красивыми? Если считаешь себя умной, зачем тебе смущаться, встретив кого–то еще умнее?»
Христос мог говорить о любви, потому что Он не был отлучен от Отчего лона. И будучи в лоне Отчем, Иисус научился всему. Именно в этом смысле Ему было сказано еще прежде, чем был создан свет: «Из чрева прежде денницы Я родил Тебя» (Пс. 109, 3). Личная структура Иисуса — в этой любви, которая просвещает всякого человека, грядущего в мир. Она же отличает и тех, кто близок Ему, ибо вечная обитель Иисуса в лоне Отчем стала и их обителью.
Эту причастность мы и называем Телом Христовым. Сам Христос научил нас, что Он — виноградная лоза, а мы — ее ветви. Он же наставил нас, что в этом связующем нас Теле, в этом вселенском Теле, победившем мир, каждый из нас–единственный. Как все мы ожидаем пришествия Спасителя, дабы обрести себя в Нем — каждый в своей единственности, — так и Он ожидает, что все мы соберемся в Нем и соединимся в любви. И при этом каждый сохранит свое лицо, ибо разумные создания — поскольку они отличаются друг от друга и от Самого Бога — не исчезнут в Господе.
Слова Евангелия о Страшном суде (Мф. 25, 31–46) напоминают нам, ожидающим его, что мы будем судимы по нашему милосердию и по тому, как мы употребили те харизмы, те дарования, что были нам даны. Этот текст говорит нам, что мы должны поставить дары на службу людям, чтобы Бог принял их как благоугодную жертву. Значит, мы должны не зарывать наши таланты в землю, подобно ленивым рабам, а украсить и сделать плодоносным все, что дано нам от Бога.
В этом отрывке из Евангелия удивительно, что Господь не спрашивает нас, как мы молились или постились, не говорит ничего о десяти заповедях, а только о живой любви. Это не значит, что евангельский дух не знает ветхого Моисеева закона, но он считает милосердие венцом закона. Десять заповедей — средство выразить понятие о Боге в наших сердцах и понятие о человеке в Боге. Тому, кто не пришел еще к этому пониманию, нужно изучение заповедей и закона.
Новый Завет не отменяет Моисея. Он перерастает его. Он ведет нас дальше, глубже. Он желает, чтобы и наша практика поста исходила из этих глубин. Церковь призывает нас открыть, что Бог обитает в нашем ближнем, что нам возможно созерцать Его лик не иначе, как в окровавленном человеческом лице, в истерзанном голодом человеческом теле, в преданной одиночеству человеческой душе. Здесь наше отношение к Богу осуществляется не через людей, но в людях. Сказав: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14,6), Иисус не ограничивается указанием на Себя как на связь между человеком и его Создателем. Он расширяет применение Своих слов, утверждая, что никто не придет к Богу, если не обретет Его в своих ближних.
В евангельском чтении о Страшном суде накануне Великого поста мы слышим слова Иисуса: «Алкал Я, и вы дали Мне есть» (Мф. 25, 35). И чуть дальше: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть» (Мф. 25,42). К этому нечего прибавить: в конце времен или в конце земного пути каждого человека Бог будет судить его самое сокровенное. Его правда поразит нас, и мы не сможем ничего утаить из бывшего с нами.
На этой земле мы можем играть роли, обманывая себя и других, притворяться умнее, чем есть, выдумывать себе укрытия и оправдания. Мы колеблемся между дьяволом и раем, ибо живут в нас и тот, и другой. Но ни сегодня, ни завтра мы не сможем обмануть Бога. Даже великие святые не смогут увенчаться перед Ним славой, ибо поступая так, они утратили бы всякую святость и вновь сделались бы духовными пигмеями, каковы они и были, прежде чем прошли искус святости.
В идее Страшного суда важно то, что все человеческие существа ничтожны перед Господом, и нечем им прикрыть своей бедственной наготы. Ни у кого нет пропуска на небеса. Единственный путь туда — это Сам Господь небес, Который простирает нам оттуда руки, чтобы по своему милосердию принять нас. Дело не только в том, что мы умрем духовно, если станем хвалиться нашей добродетелью. Исайя говорит: «Вся праведность наша — как запачканная одежда» (Ис. 64,6). Один Бог разберется с нами. Он видит, как мы нехороши, но Ему угодно омыть нас водою Своей любви, а затем облачить нас светом и принять в Свой свет.
Страшный суд косвенно упоминается у всех четырех евангелистов. Мы не можем закрыть глаза на данный ими образ Бога–Судии. Бог, действительно, Судия Своему народу. Он дает ему заповеди и ждет их исполнения. Этот образ Бога вызывает трепет, ибо у Него — кара и воздаяние. Исайя говорит даже, что в День Господень — в последний день — Бог станет судить человечество огнем.
Евангелие от Иоанна дает нам, однако, иной образ этого дня. Оно учит нас, что суд происходит уже сегодня: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3, 19). Стало быть, суд совершается в сердце человека, а не где–либо еще.
Мир был судим, потому что он убил Христа. Мир сам поразил себя этим убийством. Глубокий и окончательный смысл преступления, содеянного на Голгофе, вот в чем: человечество пожелало устранить из себя Божеское и предать любовь смерти. Но Иисус придал Своей смерти смысл воскресения человека. Он осуществил этот смысл через Свое собственное воскресение. Перед светом, хлынувшим из пустого гроба, мы можем выбрать лишь одно из двух: «облечься» во Христа либо отвергнуть Его.
Если же суд по–настоящему, в самом глубинном своем измерении, совершается в душе человеческой и на этой земле, если это не что иное, как обнажение души перед лицом правды Божией, то и ад — не что иное, как сгорание души в огне собственных страстей. Нет иного огня, кроме того, что в тебе. И в тебе же находится небо. Ты можешь быть небом для других, а можешь быть и адом.
Св. Исаак Сирин утверждает, что «мучимые в геенне поражаются бичом любви […]… любовь силою своею действует двояко: она мучит грешников и веселит собою соблюдших долг свой». Сам Бог есть свет для одних и жгучий пламень для других. Он один — твоя обитель, если ты изберешь вселиться в него и ввериться Ему. И если Он пребудет в тебе, ты сам станешь Его обителью, как написал Иоанн, которого любил Господь.
О чем говорит нам Христос в Евангелии, утверждая: «Алкал Я, и вы дали Мне есть»? Христос, на Которого Матфей смотрит как на Сына Божия, отождествляет Себя при этом с бедняком, с голодным, больным, заключенным и всеми подобными им. Избранные Иисусом спутники — изгнанники на земле. Они стали Ему братьями, потому что их братья по плоти отвергли их, и теперь они одиноки и покинуты. Христос не оставляет нам выбора: встреча с отверженными — это условие приближения к Нему. Он страдает, когда видит людей в изгнании, в презрении, в нужде.
Удивительна способность человека приспосабливаться к трудным условиям жизни. Человеческое существо может довольствоваться самой скудной пищей, жить в конуре, терпеть болезнь, потому что к врачу пойти дорого. Не это мучит его больше всего. Самое жестокое — когда имущие богатство и власть заставляют убогого почувствовать себя низшим существом. Это много хуже нужды.
Иисус же говорит об убогих с несравненной нежностью, называет их Своими «меньшими братьями». Он говорит, что Сам страдал от голода. Ни с кем иным Он так не отождествляет себя. В других местах Он говорит о том, что может быть с Ним сравнимо: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6,63). Он не сказал: «Эти слова суть Я Сам», даже если имел это в виду. Он говорит о Святых Дарах: «Сие есть Тело Мое», но не «Я Сам», даже если подразумевает это. Но об отверженных Он говорит недвусмысленно: «Я алкал, Я жаждал, вы сделали это Мне».
Любящему подобает присутствовать в мире, распространять любовь теми средствами, какими он располагает, открывая повсюду Лик Христов и увеличивая число любящих Бога. Мы знаем, что божественный восторг возможен лишь в Отце Иисуса Христа, даже если человек не так называет Бога. И в последний день перед лицом Божиим все любящие Бога составят единое Тело Христово.
Вот как любит Христос Церковь и каждого ее члена. Вот как побуждает Он всякого участвовать в Своей любви, насколько тот способен. Мы не должны сравнивать различные степени восхождения в Божию любовь. Только Бог знает, кто обретает эту любовь: каждый зван, каждого она укрепляет. Прославляется не тот, кто только получает любовь Божию, но тот, кто распространяет ее среди других. Тайна этого движения любви в том, что если ты обретаешь свою радость в Дающем, то обретаешь эту же радость и в приемлющих. Жаждущие напьются из источников, и каналы донесут живую воду, куда должно.
Вне этого все суета.
Глава 2. МЕСТА И ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Открытость Христу
Мне хотелось бы выделить основу всякого христианского действия, а именно понятие свидетельства. У свидетельства есть носители, есть условия и способы. От нас требуется сразу же поразмыслить о том, вполне ли то христианство, которое мы исповедуем, представляет собой откровение Бога во Иисусе Христе, переданное двенадцатью апостолами и живущее в Церкви до скончания веков. Проблема еще больше обостряется тем, что трансцендентный лик Божий все плотнее занавешивается различными формами имманентности, так как наши современники занимаются только человеком, в отрыве от его божественных корней.
Для верующего именно Бог, и только Бог, определяет человеческое существо и воздействует на него, говоря с ним. Вся судьба человека разыгрывается внутри того замысла любви, который составил о нас Бог прежде сотворения мира. Логика любви требует, чтобы Бог Сам свидетельствовал о Себе, ибо мы можем обратиться к Нему лишь с того мгновения, когда Он заговорит с нами. Его непостижимая тайна, тот факт, что Он превосходит всякую мудрость и всякое рассуждение, означает, что говорить о Нем надлежащим образом может только Он Сам. Несообщаемое сообщается нам через Его Слово, через посредство пророков «в видении, во сне» либо «устами к устам» (Чис. 12, 6, 8). Каковы бы ни были Его средства выражения, Он покоряет человека и водворяется в нем, ибо слово, по еврейскому понятию, есть действительность, оно заставляет признать себя, будучи почти вещественным. Оно непреодолимо. Когда пророку Амосу хотели помешать возвещать послание, он ответил: «Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю»» (Ам. 7, 14–15). Иеремия, самый неистовый и трагический пророк в Ветхом Завете, говорил так: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: «не буду напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его»; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». (Иер. 20, 7–9).
Пророческое слово идет к народу, который Бог избрал, чтобы тот свидетельствовал о Нем перед другими народами: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет… Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы–свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог». (Ис. 43, 10,12).
Однако этому народу случается позабыть о том, что он–носитель вести о спасении. Но у него в Ковчеге Завета хранятся скрижали закона, и этот ковчег становится обителью свидетельства. Значит, в народе постоянно присутствует Бог, и к этому Присутствию раз в году обращается первосвященник, и Оно обличает все грехи Израиля до того дня, когда установится истинное общение между Богом и Его народом — когда будет воздвигнут истинный храм Божий в лице Иисуса из Назарета. Тогда Он будет обителью свидетельства и Словом — не таким словом, которое время от времени бывает обращено к пророкам, но вечным Словом, ставшим плотью.
Христос — «свидетель верный и истинный» (Откр. 3, 14). Все Его служение может быть выражено в Его ответе Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин. 18, 37). В историческом плане Иисус — абсолютный и единственный свидетель Божий. Свидетельство — это отчет о знании, утверждение факта. Ведь «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18). «Свидетель» по–гречески «martyros», и это слово, вероятно, происходит от корня smri–помнить. По индийскому представлению, сущность Божества заключена в нас самих; достаточно осознать это, освобождаясь от неведения, от тяжести вещества. На языке христиан свидетель Божий — это тот, кто охвачен Богом, кто чувствует, что любим Богом; для кого Бог стал единственной действительностью, кто кричит о Нем с крыш, не боясь стать посмешищем; и чья неизбежная участь — страдания, ибо ученик не больше учителя. Если апостол, приведенный на суд, не должен заботиться о том, что говорить, то это потому, что он верит в то, что выскажет его устами Дух Святой, а еще потому, что кровь станет высшим свидетельством чрезвычайного духовного опыта, которому он причастен. Ошеломляющая простота свидетеля происходит именно от того, что он совершенно уничтожил себя перед истиной, которую несет и возвещает. Он и сам стал источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).
Тайна и сила свидетеля объясняются открытостью Христу, его отождествлением с тайной бедности. Прославление Христа, откровение того, что Он есть Господь, было плодом Его уничижения и крестной смерти. Христианин, идущий, как его Учитель, путем смирения вплоть до смерти, становится живым посланием, ковчегом свидетельства. Отрекаясь от мирской суеты, он следует обетам, данным при Крещении.
В каждой Божественной литургии, так же как в Светлую седмицу, Церковь вновь познает своего Господа, живет Им. Она оплодотворена Его мыслью, слита с Его кровью. В этом тайна, которая обращает и приводит ко Христу неверующих.
Но Церковь состоит не из одних только клириков, Церковь — народ Божий. «Народ» по–гречески laos. Отсюда происходит слово laikos — мирянин. Лаик, мирянин — тоже член народа Божия.
В огромной литературе христианских Церквей по этому вопросу, думаю, до сих пор нет удовлетворительного определения того «мира», к которому принадлежат миряне. Клирики ведь тоже члены семьи Божией, laikoi, миряне. Ко всем верующим обращены слова апостола Петра: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». (1 Пет. 2, 9).
Возносить хвалы Богу — это, согласно древней христианской литературе, тоже дело мирян. Св. Иоанн Златоуст требовал, чтобы мы не возлагали все на священников, но сами всецело заботились обо всей Церкви как о нашем общем теле. В V веке Исихий Иерусалимский назвал второе таинство «священническим помазанием», а Иоанн Златоуст, обращаясь ко всякому мирянину, говорил: «В крещальной купели ты тоже сделался царем, священником и пророком». Вот как он объясняет священство мирянина: «Ты потому священник, что принес себя Богу, и принеся в жертву свое тело, ты заклал и себя».
Значит, механическое и формальное единение в культе не может быть, в конечном счете, действенным орудием единения человеческих существ во Иисусе Христе. Ведь Церковь может собираться как жертва, благоугодная Богу, лишь потому, что приносит в жертву все плоды своего сияния в мире. Церковь — не только собрание званых, ekklesia. Она еще и общность пребывающих в рассеянии, diaspora.
Всякая Церковь, живет ли она в своей стране или на чужбине, пребывает в рассеянии. Как говорит Послание к Диагнету, документ II века: «Христиане живут в своей стране, как иноземцы. Чужбина им как отечество и отечество как чужбина». Другое апологетическое сочинение II века говорит, что христиане «шествуют во всяком смирении и благости, и ложь им неведома. И если есть среди них человек бедный или в нужде, у которого недостает необходимого, то они постятся два или три дня, чтобы предоставить нуждающемуся необходимую пищу. […] От них–то и идет та доброта, которая есть в мире. А для меня нет никакого сомнения, что и земля пребывает по молениям христиан».
Стало быть, нет отдельного проявления христианства в Церкви и отдельного — в мире, ибо где Дух Святой, там и Церковь Божия. Где мы исполняем посольство, как прекрасно выразился апостол Павел, там уже насаждена Церковь. Вечная Церковь пребывает у нас в вечном настоящем времени Божием. Если в евхаристическом общении мы становимся единым телом с Христом, то это затем, чтобы приобщиться к чаше страдания окружающих нас людей–приобщиться в служении, в труде и в милосердии. Именно уподобившись таким образом Богу, человек вновь примет вселенную, возьмет ее на себя, воссоединится с ней. В новых Христов, которыми мы стали, действительно, входит вселенная. В мире остается наш внутренний человек, который освящает труд, очеловечивает общественные отношения и экономику, созидает Царство Божие двумя способами: являя Господа миру и собирая Бога, рассеянного в мире. Это двойное действие — внедрения и проявления, включения и распространения — символизировано в действии евхаристическом.
В этой перспективе Церковь — не орудие бегства от мира, не воспоминание о доме умерших. Она — поиск Царства, пребывающего и грядущего. Царство вступает в то творение Божие, за которое Бог отдал единственного Сына. Вот отчего Симона Вейль могла написать: «Не по тому, как человек говорит о Боге, а по тому, как он говорит о вещах земных, можно определить, побывала ли его душа в огне Божием». Если, как сказал св. Макарий, «сердце, очистясь, воспламеняется любовью ко всякому творению», то именно за пределами себя самого христианин будет пытаться решить задачи, которые ставит современная ему цивилизация. Нет никакой особенной христианской техники созидания мира. Нет также абсолютно необходимых для миссии орудий, будь то школы или общественные учреждения. «Бог присутствует во всех вещах, — говорит Псевдо–Дионисий, но не обязательно все вещи присутствуют в Нем».
Поскольку Церковь внимательна к движению истории и к нуждам людей, горсточка христиан может внутри Церкви усвоить ритмы и уроки книги мира, как говорил св. Максим Исповедник. Для греческих Отцов вселенная — книга, в которой можно прочитать словеса Божий, тогда как Писание — вселенная, какой Бог ее мыслит. Соединяясь с этими ритмами мира, христианин не должен отвергать собственного самотождества; напротив, по мысли того же св. Максима, он стремится собрать духовные logoi (прообразы) вещей, «дабы принести их Богу как дары от творения».
В исполнении заповеди о свидетельстве важна такая сторона как словесная передача. Эта сторона, в свою очередь, связана с более богословской проблемой ценности культуры. Об этом измерении передачи ясно говорится в начале 1–го Послания Иоанна: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». (1 Ин. 1, 1–2). Если слово «свидетельствовать» связано с передаваемой истиной, то глагол «возвещать» подчеркивает сторону передачи даже в самой этой истине.
Апостолы Павел и Иоанн, а также Отцы Церкви говорят о философии и даже о нехристианских религиозных посланиях как о передаче. С того мгновения, как мы спасены во Иисусе Христе, за философией сохраняется только ценность посредничества; в ее содержании она не может быть включена в евангельское послание. Поэтому Писание и Отцы прибегали к различным системам греческой философии, не оказывая предпочтения ни одной. Они чувствовали себя в полном праве цитировать Платона, Аристотеля, Плотина, стоиков, отвергая при этом всякую их мысль, несовместимую с Евангелием.
Если малообразованный христианин должен пройти сквозь значительный опыт аскетизма, чтобы, когда нужно, связно изложить свою веру, — а эта обязанность, согласно апостолу Петру, лежит на каждом, — то умственное чистилище не менее сурово, так как здесь нужно остерегаться ловушек — таких понятий о Боге, которые св. Григорий Нисский называет идолами, и мнимо–богословских спекуляций без прямой связи с тайной Христовой. Цель всей умственной деятельности — привести разум к покорности Господу, к возрождению Крещением, к обращению. Надо явить Христа в нас через непосредственное заразительное действие благодати и через труд очищения рассудка. Такой труд может предшествовать приятию Христа. Надо исходить из божественного начала в человеке, осознать это начало, олицетворить его и назвать Иисусом Христом, своим Спасителем.
Остается, стало быть, единственный способ донести послание. Учить Евангелию — значит переводить его на современный язык данной страны и определенного общества на всех уровнях культуры. Надо достичь такого высокого мастерства, чтобы передавать Евангелие, не предавая его, чтобы приближать истину, открывшуюся в иудейско–эллинском контексте, к людям, чьи умы чужды этой культуре и для которых литургический символизм и менталитет Отцов — нечто вроде шифра. Мы знаем, однако, что Пятидесятница ввела в мир не только глоссолалию — говорение на непонятных языках, — но и дар понимания языков. Новое понятие не появляется само собой, оно формируется. Оно может стать плодом труда общности людей, озабоченных спасением голодного и изломанного мира. Но, еще раз повторю, эти усилия — не удел одних только богословов, ибо миссия должна осуществляться на всех уровнях, и способы передачи послания изменяются при переходе с одной умственной и общественной ступени на другую.
Перевод подразумевает наличие двух образов мышления — присущего христианину и присущего его слушателю. Отсюда необходимость вникать в культуру других людей, в их систему символов, в их психологию, наводить мосты между нами и ими. При этом нельзя впадать в синкретизм, то есть нужно чрезвычайно остерегаться привносить в наше послание инородные элементы, происходящие из религии или философии наших собеседников, иначе мы будем передавать уже не Евангелие, а религиозную эклектику. Христианин может усвоить элементы нехристианской культуры, философии или религии, но не может смешивать плевелы с пшеницей. Во всяком сходстве идей есть некоторое расхождение, как есть и возможность совпадения в противостоянии. Поскольку исторической порядок не чужд Божьему замыслу, — а Бог ведь владыка и мира, и времени, — постольку в истории существуют и такие религиозные ценности, которые христианство более или менее оставило в тени. Идея покорности Богу, как она развита в исламе, будучи соединена с возвещением Евангелия, могла бы стать чрезвычайно плодотворной. Всю духовную жизнь можно было бы выстроить вокруг этой идеи, связав последнюю с Иисусовым Крестом. И она была бы гораздо динамичнее, чем на почве ислама. Именно здесь — важнейшая сторона миссионерского богословия и нашего понимания дела Святого Духа. Если Дух Святой вездесущ или может быть вездесущим и во всех нехристианских культурах и религиях, а следовательно, они не принадлежат всецело к области смерти, то мы, открывая в них присутствие Господа, не заслуживаем того укора, который обратил ангел к женам–мироносицам: «Что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк. 24, 5). Действием Святого Духа, Который дышит, где хочет, Христос, несомненно, скрыто присутствует и вне видимых пределов Церкви.
Это, однако, не значит, что по отношению к культурному миру можно занимать бездумно оптимистическую позицию. Нельзя безнаказанно перепрыгнуть из плана Божьего творчества в план творчества человеческого. Человек–грешник и носитель смерти, а потому вся его деятельность, по существу, двусмысленна. Как говорил Клодель о художественном творчестве: «Зло — это раб, который качает воду». Мистики человеческого творчества нет и не может быть в христианском мировоззрении. Вот почему мы не можем подписаться под утверждением великого протестантского богослова Пауля Тиллиха: «Религия — сущность культуры, культура — форма религии», как, впрочем, и под высказыванием современного православного богослова, для которого культура — плод, форма и проявление власти человека творить во имя Творца. В самом деле, ведь бывают культуры чисто языческие, которые не превышают уровня чистой эстетики, даже если она религиозно окрашена. Другой современный богослов, протестант Жак Эллюль, в книге, озаглавленной «Присутствие в современном мире», писал так: «Воля мира — всегда воля к смерти, воля к самоубийству. Нельзя принимать это самоубийство, нужно делать именно так, чтобы оно не могло иметь места. Следовательно, нужно знать, какова в настоящее время форма воли мира к самоубийству, чтобы сопротивляться ей, чтобы понимать, куда должны быть направлены наши усилия. […] Речь идет о том, чтобы внедриться в ту самую точку, где действует эта воля к самоубийству, и увидеть, как может в данном положении действовать воля к сохранению Бога. […] Значит, мы обязаны знать это тяготение нашего мира к смерти во всей глубине, во всей духовной реальности и обращать наши усилия именно на него».
Такова миссионерская позиция по отношению к мирской духовности, и она частично верна. Верна, поскольку она противопоставляет всякому человеческому действию Божий суд, поскольку глубоко библейски видит грех в человеке. А частично — потому что человеческая мысль — это не только стремление падшего человека, но иногда это — выражение именно возрождения человека на чужбине, вне видимой области Церкви, в той скрытой ее области, где святой Дух объединяет тех людей из всех народов, кто ощупью ищет справедливости и истины. Стало быть, есть такие элементы, через которые Дух Иисусов привлекает значительное число людей, и мы должны по–евангельски уметь распознать эти элементы.
Эти отрывочные размышления о свидетельстве станут бесполезными в день, когда наше бытие станет призывом. Если важно, чтобы какая–то группа христиан задумалась над проблемой евангелизации, бесконечно важнее, чтобы те, кто не вовлечен в служение Христово, могли точно знать, что мы перешли от видимости к бытию, от тоски — к миру, что истина Божия уже присутствует в той неизмеримой радости, которая есть заря Царства.
Пути святости
В святом, живущем среди нас, меня поражает то, как одновременно и одинаково сильно ощущает он могущество Божие и собственную человеческую немощь, которые, притом, с необходимостью обусловливают друг друга. Когда на византийской литургии священник перед Причащением преломляет евхаристический хлеб и возглашает: «Святая святым!», хор от лица собрания возражает ему: «Един свят, един Господь Иисус Христос…» Поскольку смирение есть ощущение нашего ничтожества — и, по Иоанну Лествичнику, высшая ступень на лествице добродетели, — оно позволяет нам видеть, как мы убоги, тем яснее, чем более дано нам созерцать свет Господень. Здесь двойной парадокс, утвержденный догматически. Если святость есть встреча благодати и доброй воли человека, то есть синергия, то реальность человека при его освящении никогда не исчезает.
Человек поставлен Богом перед Его лицом навеки. Поэтому наша любовь к Нему не есть слияние с Ним. Будь она слиянием, это стало бы отвержением творения. Никто не проник в тайну взаимной любви Бога и человека. Мы стоим здесь перед невозможностью единения в мистическом браке: «Созерцаю Твой убранный брачный покой, Господи, и нет у меня одежды, чтобы войти в него». Это вечная нагота человека в молитве и вечный покров, который дарует ему Бог.
Однако великий святой Симеон Новый Богослов, живший в Византии в X–XI веках, учил, что духовный человек существует в осознании благодати, нового рождения в Духе, что тождественно познанию Самого Духа. Разумеется, человек для этого рождения выношен Крещением, и не бывает внезапных прорывов благодати вне церковной жизни. Но, как утверждает св. Симеон, Крещение — всего лишь купание в воде, если оно не соединено с даром слез.
Данная нам благодать никогда не вызывает у нас чувства собственной значимости, ибо мы знаем, что всегда остаемся «непотребными рабами». Мы осознаем Божию святость в нас, наше назначение передатчиков и наше всецелое недостоинство. Богочеловеческое дело все так же несказанно.
Святость непостижима вне категории эроса. Когда св. Игнатий Антиохийский сказал об Иисусе: «Моя Любовь (эрос) распята», он сознавал, что через мученичество придет к брачному покою. Понятия agape и eros всегда бывают противопоставляемы, но Бог питает именно страсть к человеку. Он отдается ему в смерти Сына и вызывает в нем ответную страсть к Богу. Человек исследует собственное сердце и своей покорностью поверяет свою жажду Бога: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14,15).
Зримый нами Лик Божий становится силой Преображения. Человек верует потому, что тронуто его сердце. Вера–первое, с чего начинается обручение нашему Господу. Лик Божий все еще скрыт, ибо свет его слишком ярок для нас. Но когда Любимый вводит нас в Свою сокровенность, граница между верой и видением стирается и зацветают обетования будущей жизни. Мы осознаем, что Царство — внутри нас. Все озаряет прошение из молитвы Господней, которое св. Григорий Нисский произносил так: «Да приидет Дух Твой Святой», вместо: «Да приидет Царствие Твое». Любовь к Богу сама становится силой веры, порождает ее, возрождает и, раскаляя до пламени, окружает ее собой.
В глубинах святости вера и надежда стремятся слиться с любовью. Кто, действительно, пришел к полному осознанию того, что он любим Богом, тот уже перенесен в Царство и берет его с собой в смерть. Кому Бог доверился, кого усыновил в Сыне, тот уже видит свет незакатный. В каком–то смысле он уже воскрес из мертвых. Только он один ясно видит Воскресение Христа как Святого и как Господа. Мы живы в Живом, Который воскресает в нас Духом. Нет никакого познания вне видения этой вечной Пасхи, которую мы вкушаем в чистоте сердец.
Христианин знает, что он зависит только от Бога, поскольку, отрекшись от себя самого, освободился от всего. Всегда творя угодное Отцу, Он водится Словом и, по своему послушанию, бывает «очищен, озарен, просвещен и удостоен видеть откровение великих тайн, глубины которых никто никогда не видел и не увидел бы» [1]. Говоря, что чистые сердцем Бога узрят, Иисус имеет в виду непосредственное лицезрение Творца и твари. Христианин вводит Господа в свои отношения с людьми и, делаясь им слугой, служит именно Ему. В надежде славы, к которой предназначена вселенная, он уже теперь видит мир преображенным. Другие люди могут прозревать свет и единство мира через святых.
В самом деле, важно верить в то, что святость озаряет не только наших братьев, но космос как целое. Судьба мира — в свободе материи. Сейчас она порабощена, однако «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надеже, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 20–21). Бог освободил космос через святых и ради той симфонии, которая должна воцариться в преображенной вселенной.
В надежде на это преображение, в историческом становлении, цель которого — приближение полноты времен, святость принадлежит церковной общности как целому. Это то здание, которое, по слову апостола Павла, «слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2, 21–22).
Это полностью исключает индивидуалистическое понимание спасения и момента спасения. Нас всех несет единый поток любви Божией. Св. Исааку Сирину была невыносима мысль о том, что кто–то навеки останется в аду: «И что есть сердце милующее? Возгорение сердца о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах, и о всей твари. При воспоминании о них, при воззрении на них очи слезятся от великого и сильного сострадания, объемлющего сердце. И сердце смягчается, и не может оно стерпеть, или слышать, или видеть какого–либо вреда или малой даже печали, испытываемой тварию. А посему и о бессловесных, и врагах истины, и о причиняющих ему вред ежечасно приносит моление, чтобы сохранились и очистились. И об естестве пересмыкающихся молится по великой жалости. Возбуждается она в сердце без меры по уподоблению в том Богу» [2].
Никто не совершает своего спасения в одиночку или только для себя. Человека составляет факт любви. Если Господь живет в его сердце, Он расширяет его в бесконечные пространства, именно это дает ему разумение тайн нового творения. «Соединенные вместе», как говорит апостол, верующие достигнут «совершенного разумения тайны Бога» (Кол. 2,2). Лишь вместе друг с другом мы совершим дело «созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 12–13). Мы стремимся не к уединенному совершенствованию верующего, но к совершенству «мужа совершенна» в смысле соборном, то есть Христа в целом, как Главы и как Тела.
Всякий богословский разговор о святости должен начинаться с Троицы, поскольку святость — это троическая жизнь в нас. «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына» (Мф. 11,27). Если мы раз навсегда перенесены в лоно Божественной Троицы, если мы участвуем в этой непрестанной жизни любви, то мы обращаемся к людям, чтобы нести им наше свидетельство; и если мы с ними вместе преобразимся в огонь, то запылает мир и преобразится в своем шествии к будущему веку.
Мы исходим из глубокого убеждения, что источник нашего знания о человеке — Бог. Только Бог открывает природу и предназначение человека. С этой точки зрения основание христианской антропологии лежит в новозаветном утверждении, что мы «причастники Божеского естества» (2 Пет. 1,4). Прежде всего от этого откровения идет знаменитая святоотеческая формула: «Бог становится человеком, чтобы человек мог стать богом». С этой формулы начинается учение об обожении человека. Здесь фундаментально то, что человек не уходит от своей человечности, чтобы остаться образом и стать подобием Божиим. И Бог, отдаваясь человеку, не становится меньше, а человек не становится человечнее, когда его отрывают от Бога. Человечность становится в этом случае, так сказать, слабостью и компромиссом с грехом. Ввиду этого Отцы и стремятся обосновать ту мысль, что наша природа–восхождение, а не падение. Принятая Христом, одновременно прославленная и сокрытая в Нем, природа наша восседает одесную Отца, разделяя достоинство и величие природы Божественной. Наше освящение — это непрестанное восхождение, превращение нашего существа в новую тварь. Началось это превращение с Главы. «Так как Бог стал человеком, человек может стать Богом. Он поднимается в Божественном восхождении в той же мере, в какой Бог смирился из любви к людям, когда, не меняясь, принял на себя худшее в нашем положении», — пишет св. Максим Исповедник.
Несмотря на непреходимую пропасть между сущностью Творца и сущностью твари, Бог остается некоторым образом доступным. Чтобы мы стали достойны имени «причастников Божеского естества», в Боге должно быть что–то, причастными чему мы можем стать. Благодаря вечному порыву Бога к нам — его Божественным энергиям, как называют их Отцы в отличие от сущности, которая остается непостижимой, — Божество действительно живет в нас. Благодать — истинный свет, который озаряет бытие в целом.
Человек становится Богом, которого любит. Желающий вращается вокруг Желанного, уже участвуя в Его жизни, в Его бытии. «Эта причастность вещам божественным и есть подобие между причастниками и тем, чему они причастны,» — утверждает св. Максим Исповедник. Человек, в своей душе и в своем теле, получает освящающую славу, которая проницает его всего. Вот почему св. Максим отважился провозгласить: «Став богом по обожению, тварь отныне носит в себе и проявляет лишь энергию, общую для Бога и Его избранников, или, лучше сказать, отныне есть один лишь Бог, поскольку Он, как подобает любви, всей Своей целостностью заполняет всю целостность своих избранников».
Это высшая точка единения. Но единство готовится неусыпным напряжением, искренним стремлением к благодати и усилием, чтобы ее обрести. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11,12). В мире — буря, в сердцах у нас — буря, однако не о том речь, чтобы перенести к нам в комнаты хорошую погоду. Надо поселиться вместе с Иисусом, отложить житейское попечение. Надо сердцем отдаться Иисусу. Символ этой воли к очищению — призывание святого Имени Иисусова. Через сосредоточение на этом Имени, через эту реальность Иисуса в нас движемся мы к Нему в наших сердцах, вступаем вместе с Ним в пламенный порыв любви.
Однако гиганты духовной жизни всегда смотрели на свои духовные подвиги как на простую подготовку к приятию даров небесных. Потому св. Серафим Саровский в начале XIX века и говорил: «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего».
Это значит, что не бывает ни техники святости, ни даже дисциплины, которая механически готовила бы к ней. Аскетическое усилие само по себе есть уже плод благодати, и его в течение всей жизни подвижника бывает недостаточно, чтобы прогнать бесовские наваждения. Воображение, людские речи об обожении остаются опасными препятствиями. Величайшая серьезность в исполнении заповедей блаженства, укрощение взора, «обрезание чувств», как говорит Ориген, уставные посты, продолжительная молитва поддерживаются дарами Духа и сами суть камни, на которых стоя, подвижник ожидает этих даров. Согласно правилу Предания, «соединяясь, праведность дел и благодать Духа наполняют блаженной жизнью душу, в которой они становятся тождественны».
Борьба и харизма — благодатный дар — объединяются в личности. Природа больше не искажена грехом и не демонизирована искушением. Она становится прекрасной, как заря последнего воскресного дня, которому не будет сумерек. Во внутренней аскезе, обретенной в обращении, христианин чувствует, как легко Господне иго. Сердце, где прежде обитали страсти и рабство, становится местом, где раскрывается Царство, где виден свет и где верующий хранит сокровища, доверенные ему Богом. Способность существа к созерцанию, вместилище образа Божия в человеке, сердце верующего хранимо Духом. Разум, который должен оставаться холодным, бдит, чтобы сердце не ослеплялось пылом «похотей плоти». Уравновешенность, ясность ума в обращенном человеке — это именно то, о чем великие духовные борцы Востока говорили: «ум сходит в сердце» под действием Святого Духа.
Этот идеал святости не изменяется по вкусу веков. Он не связан с формой жизни. Монах ли человек или мирянин, мужчина или женщина, семейный или одинокий, ведет ли он жизнь земледельца или работает в промышленности, в области высоких технологий, — сердце его переносит те же искушения и получает ту же силу от Бога. Мы не стоим перед выбором между общественной или политической деятельностью, с одной стороны, и преображением внутреннего существа — с другой. У христианина всегда есть вера, которая состоит в согласии с Богом и внутренней жизнью самого человека. Нельзя считать, что Святой Дух — по одну сторону, а умственная, общественная или семейная жизнь — по другую. Во всех жизненных состояниях вдохновляет одно — евангельский абсолют, ибо в нем спасение. Есть только тот прилив любви, которая, исходя из сердца Троицы, воспламеняет нас и мир, беспрестанно преображает нас и держит нас перед Господом. Мы предстоим Ему в безграничном смирении, но Он Сам ежедневно вновь и вновь подает нам Своего Духа. «Терпение святых» со слезами ждет грешников. Святые знают бездны, но знают и то, что Бог сильнее, чем наши сердца, и что ад человеческий должен превратиться в день, наполненный светом. Святость — пасхальный дар, гимн радости, пропетый в надежде на всемогущество любви.
Свидетельство — сама святость. Заповеди, заключенные в законе Божием, суть свидетельство именно потому, что Он — всесвят. Скрижали закона хранились в ковчеге откровения, или свидетельства (Исх. 27, 21), и скиния называлась скинией откровения — свидетельства (Исх. 38, 21). Пророки несли свидетельство Божие, когда Он обвинял Свой народ (Иер. 29, 23), потому что хотел обратить его в царство священников, которое стало в Новом Завете «царственным священством» (1 Пет. 2,9). В стихе 5 этой же главы священство именуется святым, предназначенным, «чтобы приносить духовные жертвы» святостию своей жизни. Апостол Петр таким образом ставит идею свидетельства в связь с посвящением собрания Богу: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего Вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2,9).
Если пророки древнего Израиля были названы свидетелями, то это оттого, что Слово, которое они несли, было самим присутствием Бога. Дух, Который говорил через них, свидетельствовал о Себе Самом. Когда Православная Церковь посвящает памяти каждого пророка праздник — Исайи, Даниила, — она признает тем самым его личность преображенной через Слово. Некоторые богословы говорят, что все пророки были обожены.
Но свидетель верный по преимуществу есть Иисус, ибо Он Сам — Слово Божие. Он говорит о том, что знает, что Сам видел (Ин. 3, И). Он дает познать Отца, ибо Сам есть «Сущий в недре Отчем» (Ин. 1, 18). Это совершенная близость между Ним и Богом, Который сделал Его свидетелем: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). Свидетельство есть соединение, и это потому, что свидетель Сам живет в общении с Богом — в общении любви и послушания. Вот почему Иисус стал постоянным свидетелем Бога, Который Его «совершил через страдания» (Евр. 2,10), и будет таковым до конца истории. Когда Иисус явился в Своей смерти «Агнцем Божиим», Он стал Первосвященником наших душ.
Нет иного свидетельства, кроме свидетельства Креста. Это объясняет, почему после Вознесения Петр в таких словах требовал, чтобы кто–то заместил отпавшего Иуду: «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался к нам Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян. 1,21–22). Пребывание с Иисусом — источник свидетельства о Его победе. Поэтому христианский Восток зовет созерцание Иисуса bios apostolikos (жизнью апостольской). Только тот, кто видел Христа, «посланник».
Наконец, свидетель — мученик. По–гречески это одно и то же слово. Кто за Христа, те победят диавола «кровию Агнца и словом свидетельства своего» (Откр. 12,11). Ибо любовь побеждает природу, «любящий и возлюбленный объединились в смерти», как поет Церковь в праздник св. Георгия.
Тем не менее, Церковь обязана учительствовать и проповедовать. Само священство определяется как служение Слова. Действительно, слово учащего Евангелию дойдет до сердец лишь в том случае, если у него самого сердце ранено Словом. Только у пламенных людей и слово пламенно. Учение может просветить разум, но оно не возводит к славе Божией. Это может сделать лишь духовный отец, то есть человек, способный породить другого во Христе. Такой человек может и не принадлежать к духовному званию.
Такой образ свидетельства равно истинен и для общества, отмеченного религиозным плюрализмом или секуляризованного. Равнодушное, холодное, разочарованное или полное ненависти сердце все равно откликнется тому, кто любит бескорыстно. Свет свидетеля становится сиянием Откровения, если живущие рядом с человеком знают, что его сила приходит к нему от Христа.
Любовь заставляет умнеть. Она не пренебрегает тем или иным культурным орудием, например, глубоким знанием иных религий в плюралистическом обществе. Речь ведь идет о том, чтобы узнать иного человека в его инаковости, понять и принять его вместе с его отличием. Открытость сердец диктует поведение или даже содержание диалога. Необходимо уважение к своеобразию посланий. Свидетелю не обязательно заниматься сравнительным богословием, а тем более полемикой. Он чуток к духовной красоте, даже если она исходит от нехристиан. Он принимает ее как дар Духа.
Эта чуткость возможна лишь тогда, когда человек свободен от страха, от комплекса представителя меньшинства, от самоощущения узника исторического гетто. Да, в любой человеческой среде, где нет удушья несвободы, христианин призван к творчеству. И даже когда свидетель принужден молчать, лицо его излучает радость и мир.
Открытость сердца может сочетаться с отсутствием образования: свидетель обучен лишь Писанию да литургии, а от него бывает светло. Что важнее всего в свидетельстве–это отождествление себя с бедным. Быть свободным оттого, чем обладаешь; никого не угнетать; делиться со всеми вплоть до разорения; смотреть на других, как смотрел Господь, — вот лучшее внутреннее состояние для свидетельства Евангелия. Дух нищеты, монашеские аскеза, молитва и смирение — это такие христианские добродетели, к которым, например, ислам всегда был чуток.
В иерархическом обществе, в развивающихся странах свидетельство — такое, как мы описали, — по существу не отличается от свидетельства в секуляризованном мире. Консерватизм, религиозный формализм, интегризм являют такое же отсутствие живого Бога, как и общество вовсе безбожное.
Общество традиционалистское и общество секуляризованное, может быть, верят в различные мифологии. Но группа, которая говорит о себе, что она руководствуется Богом, в действительности основывается на идолопоклонническом понятии о Боге–мстителе, Который держит человека в уничиженном состоянии или замораживает его в менталитете клана — клана, ведомого Богом. Какая–то группа может также, стремясь к технике, которой ей недостает, участвовать в мифологизации техники и в сциентизме, несколько более примитивном, чем современный неопозитивизм.
История обществ не несет никакого послания, и религия медиа вносит повсюду пустословие и просто пустоту, а то и другое принадлежит смерти. Если бояться еще и экологического катаклизма, ядерной катастрофы, видеть крушения империй или маленьких стран, защищать которые ни у кого нет интереса, можно впасть в состояние постоянной тревоги. Такое сознание готово обожествить собственный разум, уверовать в реинкарнацию либо начать заглушать страх смерти наркотиками и сексом. Конечно, нужно разрабатывать многое: новую апологетику, новые пролегомены веры, связанные с современными науками. После признания теории «большого взрыва» нельзя дальше тащить за собой философию, основанную на устаревших знаниях. Несомненно, нужно развивать новый язык; нужно заново заводить разговор о том, как понимать веру. Нужно также защитить настоящую культуру с ее сокровищницей чувств и разума; нужно защищать свободу или бороться за нее там, где она потеряна, так как свобода — наиболее благоприятная среда для нормального развития человека и для восприятия веры, основанной не на легковерии, предрассудках или страхе перед Богом.
Секуляризованное, не призывающее Бога общество не должно нас устрашать. С определенной точки зрения, оно здоровее, чем языческий мир, поклоняющийся ложным богам. «Пусть христиане, отвергнув власть и насилие, станут бедными и мирными служителями Распятого Бога, утверждающего свободу личности. Пусть они сражаются в мире на стороне тех, кто ищет смысла этого мира. Пусть они поручатся за веру других. Пусть поручатся и за тех, кто не имеет веры, но творит, хотя бы очень скромно, красоту и добро» [3].
Чрезвычайно ярок пример такого святого, как Серафим Саровский. Этот человек Божий, который предсказал предстоящие России испытания, противостоял трудностям своего века, а они, быть может, не так уж отличались от тех, что стоят перед нами сегодня. Решение, избранное им, состояло не в том, чтобы включиться в мирскую жизнь мира, в лихорадочную деятельность ради его спасения. Он просто ступил на царский путь всецелой самоотдачи Господу, по слову Писания: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11, 28). В простоте своего сердца пошел он к Иисусу. Не проложено и для нас никакой другой дороги, нет спасения вне Христа.
Одно из искушений века, в котором мы живем, — говорить и думать, будто спасение — в человеке и от человека. Искусство, мысль, политика представляют нам целую серию суррогатов спасения. Но и сегодня наше свидетельство, как свидетельство св. Серафима, в том, чтобы сказать и показать в преображенной жизни, что спасение исходит от Бога и идет к человеку, который смиренно приемлет его.
И нам, ставшим сильными от этого главного убеждения, остается лишь обручиться Иисусу Христу ради преображения бытия. Именно шествуя так к Царствию Божию, мы осуществим в истории наше свидетельство нашими словами и делами. Нам удастся преобразовать и некоторые структуры общества, что тоже важно. Но вот о чем нам никогда нельзя забывать: кто не вскормлен хлебом жизни и не вспоен водою жизни, тот лишь волнует мир, но не может глубоко его изменить, ибо только Дух Божий воистину преображает мир.
Послание, переданное св. Серафимом облаку свидетелей, среди которых и мы, в том и состоит, чтобы вести этот смертный бой за святость, чтобы глубоко веровать в единственного Спасителя нашего — Христа Иисуса. Оно в том, что нам нужно спастись, а это значит — осознать наше ничтожество и преобразующее всемогущество Божие. Речь о том, чтобы ощутить в духовном нашем опыте, что нам все дано. Поскольку мы осознаем этот дар преображающей нас благодати, поскольку совершилось это внутреннее преображение, постольку изменился мир.
Бог обнаруживает Себя в божественной красоте бытия, всех существ. Кого Господь преобразит настолько, что его лицо становится иконой Христа, тот и есть верный свидетель. Только святые исполняют единство Церкви, только они свидетельствуют о единстве Бога и мира. Человек никогда не познает истины разумом, если Бог не очистит его сердце. Кого Бог облачит в свет, тот носитель свидетельства, и он же — его содержание.
Свет мира
Один румынский физик недавно утверждал, что на завершающей стадии эволюции вселенной будет существовать только свет, ибо протоны — положительно заряженные элементарные частицы — единственное, что уцелеет из материи.
Однако, пока материя еще не преобразилась в свет, человеку возможно самому стать светом и поступать согласно слову Спасителя: «Вы свет мира» (Мф. 5, 14). Это осуществляется в подражании Христу, Который сказал о Себе Самом: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Это значит, что и мы призваны стать светом, как Бог, освобождаясь ото всех обстоятельств, в которых живем, от условий мира, пространства и времени. Как если бы мы не были сделаны из плоти и крови, как если бы родились по благодати Богом и были свободны от всякого изменения и упадка.
Надеяться достичь такого состояния — значит уже начать переживать его. Начинается с веры. Вера порождает любовь. Любовь побуждает к добрым делам, которые, в свою очередь, позволяют нам дорасти до видения Бога. Видение Бога осуществляется на уровне сердца. Поэтому и сказано, что чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5,8). Это произойдет не только в веке будущем, в Царстве, но уже в настоящем времени. Если любовь Божия сотворит обитель в тебе, если ты осознаешь, что любим Богом, ты освободишься от всего, как писал об этом апостол Павел: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29–31).
Те, кто поступает так, не покидают этого мира, но они не от мира, ибо живут отныне в царстве, которое управляет их сердцем. Они не живут больше по образу мира сего, так как приняли образ Христов. Они могут жениться, если хотят, или не жениться, ибо переросли супружеские отношения. Они едят и пьют, но они свободны от требований утробы. Они имеют дело с деньгами, но остаются бедными в своем искании Бога. Они дружат с искусством и мыслью, дабы погрузить их в разум Бога и Божественную красоту. Те из них, кто управляет государствами, бывают слугами людей; их забота в том, чтобы полностью принять возложенную на них ответственность. Также и те, кто служит людям в Церкви, заботятся о том; чтобы обеспечить благо этих людей. Отражая, таким образом, свет, который есть в них, они оживляют его жаром тех, кто приходит к ним.
Возразят, что наше описание того, к чему призваны люди, всерьез принимающие Божий призыв к освящению, весьма идеалистично, что ему недостает прагматизма, ибо мир не таков. Наш ответ прост: в действительности возможны только два пути — либо оставить мир тем, кто готов торговать истиной, что приведет его к погибели, либо вести мир за его собственные пределы и дать ему таким образом шанс на спасение. Нам еще скажут: «Вы забываете, что мы живем в мире злобном, лживом, низком, хитром, похотливом и изменчивом». Мы ответим, что знаем все это, но хотим видеть созревание нового мира. Мы хотим, чтобы люди стали новой тварью. Мы добавим, что у мира своя логика, а у тех, кто стремится к Царству — своя. Они сознают, что мир будет преследовать их и причинять им всяческие скорби. Но они также знают, что «от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 3–5).
Говоря попросту, нет жизни без усилия. Так как всякое усилие есть распятие, те, кто соглашается взойти на крест, избрали свой удел: воскреснуть в этом мире. Божественная логика также проста. Она требует от нас свидетельства. А свидетельство состоит в том, чтобы узреть Бога здесь и теперь и стать тому свидетелями. Если ты видишь только мир, то рискуешь быть им ослепленным; критерии твоего суда будут от этого нарушены. Мир будет втягивать тебя все глубже и глубже и, наконец, поглотит. Напротив, если твой взор каждое мгновение прикован к Богу, Он всегда будет одесную тебя, дабы ты не поколебался (Деян. 2,25). Сила, данная тебе этим непрерывным видением Бога, поможет тебе тем же взором смотреть и на себя, и на других. Эта сила даст тебе возможность действовать, не отворачиваясь от увиденного. При твоем посредничестве мир станет тогда Церковью, то есть пространством для Христа. Ничто из существующего в мире–дома, торговля, наука, технология — не будет утеряно. Бог хочет, чтобы ничего не пропало, но Он также хочет, чтобы изменились намерения, с которыми употребляются все эти вещи, чтобы превыше всякого употребления стояла чистота. Ничто не изменится в твари, природе, материи, душе, но тварь станет божественной тварью, и то же самое произойдет с природой, материей и душой.
Когда человек так уподобляется Богу, божественная сила, присутствующая в нем, способна укорениться в самой глубине истории. Облик мира, конечно, останется тем же, но изменятся его строй и дух. Усваивая Божий замыслы, мир приспособится и к Божиим способам действия.
В конце концов, тебе придется констатировать, что ты не можешь изменить хода вещей. Ты осознаешь, что войны и грех продолжают одерживать победу. Реализм приведет тебя к допущению того, что мир всегда был таким и что ничего не изменится. Но реализм не должен убивать надежду, иначе говоря, останавливать усилие. Писание нигде не говорит, что во Втором пришествии Бог застанет мир лучшим. Но это никоим образом не должно отвратить тебя от дела, за которое ты ответственен: стараться улучшить мир, с помощью той истины, которая в тебе, привести братьев к новому рождению. Исторический мир живет во многих регистрах, и свет в нем соседствует с мраком. Значит, ты должен непрестанно рассекать мрак и распространять вокруг себя свет.
Тебе придется также констатировать, что зло возрастает. Может быть, тебе покажется, что именно это происходит в наши дни. Всегда нужно помнить о том, что «мало избранных» (Мф. 22, 14). Но пусть это тебя не огорчает. Твое дело–по–прежнему звать братьев на пир. Всегда будут среди них те, кто услышит твой призыв. Твой долг — звать всех, ибо ты сам был призван спасти мир. Те, кто не прислушается к тебе, могут погибнуть, но они сами изберут свою участь. Ты сеятель, а не жнец. Бог соберет урожай в последний день. А пока, не открывая тебе «тайны греха», Он призывает тебя сегодня и завтра во имя Его искоренять грех. Это осуществится — здесь или там, — когда ты меньше всего будешь ожидать.
Самое важное — сохранить себя от зла. Ибо ты отвечаешь за спасение своей души. Стало быть, ты будешь всякий день очищаться с воздержанием человека, не приемлющего никакой грязи и отвергающего любой компромисс. Не забывай однако, что тот, кому удалось уберечься от грязи мира, должен охранять от нее и других. Бог воздаст тебе за каждый переданный тобою луч.
Итак, ты должен всегда помнить о том, что выражение «спасать свою душу» не значит накапливать добродетели ради своей выгоды, что, впрочем, не имело бы никакого смысла, ибо очевидно, что тот, кто спасает свою душу, непременно спасает и души окружающих. Напротив, это выражение означает, что ты не можешь очистить других, если не очистил собственной души. Именно это мы хотим сказать, когда ставим на первое место освобождение нашего существа от объятий тьмы, каждое мгновение загрязняющей нас. Видя твою внутреннюю свободу, другие также будут поощрены к самоосвобождению.
Так как все исходит изнутри человека, не воображай, будто ты способен очистить душу делами, которые кажутся тебе добрыми: дела могут быть добрыми лишь тогда, когда исходят из чистой и доброй души. Ты важнее, чем твои дела. Тебе придется быть основателем грандиозных учреждений, но если это не делается от любящего сердца, то они не послужат ничему. Ты можешь волевым усилием направлять себя, но если тебе недостает любви, все это будет лишь условностью. Всякая мирская организация, если она ограничена мирским духом, погибнет вместе с миром. Людям нужно быть любимыми, даже если они живут в сердце пустыни. Часть нашей Церкви была когда–то кочевой. Эту живую Церковь называли в Иордании «Церковью шатров», кочевниками были ее епископы и вся их паства. Знала наша Церковь и общепризнанные достижения, и процветающие учреждения, но они оказались чужды Духу.
Важно обладать критериями различения добра и зла, постоянного и эфемерного, истинного существования и организации существования. Истинное не всегда просматривается через организацию. Когда участвуешь в создании учреждений, главное — ставить на первое место любовь, знать конечную цель, которая никогда не бывает средством. Я не говорю, что орудия и средства нам не нужны, я лишь привлекаю внимание к тому факту, что накопление их в большом количестве не всегда вдохновлено Духом. Где хочет дышать Дух, там Он находит собственные средства выражения, и эти средства не ограничиваются областью разума.
Если ум не посетит сердца, чтобы просветиться в нем и познать собственные пределы и собственную немощь, он будет все больше иссушаться и найдет удовлетворение в накоплении вещей. А связует все вещи только сердце.
Что такое хорошо обученный солдат без любви к отечеству? Что такое священник, в котором не пылает огонь Божий? Что такое Церковь без Слова? Чего стоит весь мир, если он лишается даров свыше? Как стать наследником Царства Божия, если не проявлять в жизни, в практике добродетелей нищеты духа, кротости, милосердия и мира, названных Иисусом в заповедях блаженства, этой истинной «хартии» Царства, к которой может быть сведено все Евангелие? Что такое христианин, если он не «свет мира» и не «соль земли»? «Если же соль потеряет силу, — сказал Учитель, — то чем сделаешь ее соленою?» (Мф. 5, 13).
Не случайно, должно быть, в Нагорной проповеди первые слова, сказанные Господом после блаженств, это: «Вы — соль земли» (Мф. 5, 13). Каковы практические следствия этого призыва — быть солью всей земли? Соль придает пище вкус или улучшает ее вкус. Те, кому врачи запрещают соль, хорошо понимают это: для них пища безвкусна. Кроме того, соль сохраняет пищу. Ветхий Завет говорит о «завете соли» (Чис. 18, 19). В этом завете Бог сделал царями Давида и его потомков (2 Пар. 13, 5). Если это ветхозаветное слово соединить с мыслью Евангелия от Матфея, смысл стиха: «Вы–соль земли», — будет таков: «Чем сильнее ваша «соленость», тем более вы сами — завет между Богом и людьми. Насколько вы нищи духом, кротки, милостивы, миротворцы, настолько вы сами становитесь этим заветом».
Связь между Богом и человечеством осуществляется через этот малый благословенный, избранный и любимый Богом остаток, которому Он открывает уже сейчас врата Царства.
Встреча между Богом и людьми Божиими происходит через тех, которые поняли, что они посреди мира — граждане Царства. Они сохраняют мир и сообщают ему вкус. Мир — это не протяженность и множество, мир — это малое число чистых. Мир черпает в нем то, что может почерпнуть, но те, в ком Бог сотворил обитель, уже имеют все.
Эти слова были сказаны Иисусом после того, как Он выбрал из Своих учеников четырех. Двое оставили свои сети, чтобы следовать за ним, а двое других оставили отца. Множество людей сопровождало их, потому что эти люди любили Иисуса и хотели слышать, как Он возвещает Царство. Но что это за царство? Что в нем будет? Какие добродетели нужно обрести, чтобы идти к нему? В ответ на эти вопросы, подобно Моисею, который дал своему народу закон, записанный на горе Синай, Иисус — в своем качестве нового Моисея — повел людей на гору в Галилее, чтобы дать им новый закон. Иисус «отверз уста»: новый закон — это Он Сам. Думаю, что гора, о которой идет речь, это гора Фавор, где Он позднее преобразится, так как в этой области нет другой горы. Матфей словно хочет внушить, что преобразиться в нового человека можно лишь тогда, когда живешь в согласии с этим Новым Заветом.
Закончив проповедь, Господь спускается с горы и совершает десять чудес. Он наставляет Своих друзей словом и любовью: и слово, и любовь ведут к исцелению. Затем он избирает двенадцать апостолов и посылает их, испол–ненных Его силой, в свою очередь, наставлять и исцелять. Он делает их солью земли.
Выражение «соль земли», приводит на ум сразу две вещи. С одной стороны, Иисусовы апостолы живут в Нем, с другой стороны — Он посылает их не затем, чтобы они замыкались в себе и упивались своим мужеством, не затем, чтобы создать христианскую «среду», но чтобы быть с другими и служить им. Конечно, все апостолы едины духовно, но дух этот нужно распространить на всю землю. Они — повсюду в мире, но они не монополизируют мир. Они как соль: она сообщает пище вкус, но ее не видно, она — не вся пища. Ученики Иисусовы не подчинены миру, ибо они не от мира. Но они стремятся, чтобы мир проникся их духом, призывают его признать их Господа.
Что христиане составляют общность — это нормально, ибо Господь соединил их с Собою, сделав их причастниками Своих Тела и Крови. Они объединяются с Ним в Его любви к ним и в своем послушании Его воле. Его слова формируют их, поскольку они приемлют эти слова, чтобы жить ими и самим преобразиться в слова Господни. Так они становятся Его присутствием в мире, и Он действует через них. Они постоянно живут с Учителем на горе Фавор, ибо они — ничто, если не преображены в Нем. Именно Его преображением противостоят они тьме, освобождаются от гнета мира и от его сетей, словно никогда их не знали. Они знают их, но простота Христова позволяет им исполнить всех людей светом. В этом и состоит мудрость. Они не услаждаются никем и ничем, кроме своей свободы. Они не руководствуются буржуазной моралью, какими–либо законами или обычаями общественной группы. Они не наклеивают людям ярлыков, ибо знают, что и праведный может отступиться, и злой может исправиться. И, не осуждая никого, они сознают, что мытари и блудницы войдут в Царство Небесное прежде многих, считающих себя чистыми.
Друзья Иисусовы исцеляют людей своей кротостью. Мир полон жестокости, ибо люди в нем боятся друг друга. Они боятся, что другие нанесут им рану. Те, кто принадлежит Христу, не боятся ран, ибо они уже ранены любовью, а любовь никто не может победить. Они не боятся тех, кто у власти, ибо сами не притязают на власть. Если правитель мнит, что власть придаст ему устойчивости, то это потому, что он не отдает себе отчета в том, сколь шаток его престол. У чистых нет в этом мире убежища, но никто не может причинить им вреда. Они обитают в сердце Божием, куда приняты с бесконечным благоволением. Их величие в том, чтобы давать, не считая, не ожидая никакой отдачи. Они освобождают вещи от их безобразия, и ничто не может обезобразить их самих. Вот почему, говоря: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?», — Христос не скрывает Своего опасения за нашу нестойкость. Ибо, если такое случится, как не дать упасть миру? Чем его сохранить?
Подлинная беда христиан в том, что они больше не знают тайны своего призвания. Они привязаны к миру. Они боятся стать малым стадом, тогда как статистика показывает и пред сказывает уменьшение их числа. Вероятно, они не знают того, что вовсе не обязательно действенность христианства бывает выше, когда христиан много, ибо множества ничего не значат, если они не пробуждены духовно. Они забыли, что двенадцать из них, без оружия и без особого красноречия, убедили мир. Они забыли также о том, что в течение первых трех веков своей истории число христиан возросло потому, что их свидетельство утверждалось мученичеством. Смерть мучеников и их духовное сияние спаяли тогда Церковь. Христиане сбились теперь с пути, думая обрести силу там, где ее никогда не бывало. Фактически, они и поныне не убеждены в том, что Христос перевернул все критерии, когда перевернул столы торгующих во храме. Количество, деньги, влияние и все, что следует за этим, ничего не могут против силы кротких и смиренных.
Когда те, кто ссылается на Христа, довольствуются буржуазными добродетелями, они сами становятся пищей, которую нужно солить, ибо сами они — абсолютное ничто без истины Божией, изливающейся на них в сиянии любви. Если они стремятся уподобиться тем народам, которые похваляются своей властью и внешним благообразием, то они скоро станут еще хуже тех, ибо те все же сохраняют хотя бы некоторое приличие и более или менее руководствуются разумом. Можно есть любую пищу, если к ней привыкнуть. Но соль, которая перестала быть соленой, потеряла всякий смысл существования. Ее выбрасывают вон на попрание (Мф.5, 13).
Большое заблуждение — думать, что если только казаться, можно и быть, и что этим возможно оказать воздействие на людей. Люди доверяют тебе не тогда, когда считают тебя могучим, а тогда, когда могут дотронуться пальцем до твоего величия. Народы воспринимают видимость могущества как средство выражения. Если они похваляются своими королями, дворцами, конями, солдатами, то это не потому, что они не знают о тщете всего этого, а потому, что стремятся выразить свое, мнимое, могущество через символы.
Совсем иное дело — христиане. У них нет ничего мнимого: истинного величия нельзя скрыть, нельзя и выразить его искусственными средствами. Люди либо живут им, либо чужды ему. Либо ты нищ духом, кроток, милосерд и чист сердцем, либо нет. Ты можешь попытаться обмануть себя и других. Но истины не скроешь от себя самого, не скроешь ее и от Бога, и от других людей.
Внешность придает ценности тому, что ее не имеет. Тот, кто заботится о ней чрезмерно, обманывает сам себя, а другим дает только крохи себя самого. Но это никого не обманет. Отказ от лжи и открытость стоят дорого, но такова плата за доступ к спасению. Кто не сеет Христа во всей его истине, тот пожнет один ветер. Если ты не постараешься жить по всей строгости Нагорной проповеди, то в тебе нет Христа. Тебе не нужно никого убеждать в том, что ты — соль земли. Земля примет твой запах и вкус, когда твоя любовь разнесет тебя по всем дорогам мира. Тогда человечество споет гимн небожителям.
Только свет, если он огнем вселится в тебя и станет самой твоей жизнью, может восставить людей из мертвых и с несомненностью возвестить божественную победу воскресения.
Тайна соборности
Евангелист Иоанн, будучи уже весьма престарелым, не переставал повторять верующим: «Любите друг друга» (1 Ин. 3, И; 4,7,11). И тем, кто спрашивал, не знает ли он чего–нибудь еще, кроме этих надоевших слов, Иоанн отвечал: «Я не научился ничему другому на груди Учителя». Если пожелаем углубиться в слова и учение Иисуса из Назарета, то откроем, что все, чему Он учил, сводится к этому призыву — любить.
Если позабыть об этой любви, к которой призвал нас Назарянин, все в христианстве утратит смысл, пыл и силу. Все — догматы, благочестие, святость, церковные учреждения, отношения между верующими. Без этой любви христианство было бы, наверное, философией либо, как все чаще говорится, религией, годной для той горсточки людей, которая понимает ее богословие. Это утверждение всегда возмущало меня — ведь одна из моих теток, безграмотная женщина, своей чуткостью, своей чистотой, пониманием достигла таких вершин в познании Христа, которые остаются мне недоступными. И многие другие неграмотные люди, умершие за Христа в Риме, во всей Империи, не получили образования, которое позволило бы им приблизиться к вершинам познания. Мы в нашей стране прожили во Христе сотни лет без богословских школ, без библейских кружков, без проповеди. И все же некоторые евангельские стихи начертаны внутри нас, и наша литургия облачает нас в свет. Все это просветило нас, и мы передали нашу веру детям в чистоте поступков. Ведь христианство — не религия образованных: у этих путь к Галилеянину часто уставлен ширмами, которых не сдвинуть. Настоящая христианская элита — совсем другая, это элита уязвленных любовью сердец, а понять их не всегда способны книжные люди. Я сознаю необходимость учиться и даже получать высшее специальное образование. Но я знаю также, что учение лишь переводит на язык рассудка, искусства или богослужения то, что происходит в смиренных душах, когда в них живет один только Бог. Рассмотрим, например, учение о Святой Троице. Мы выразили его на языке греческой философии, из которой усвоили некоторые термины и категории, приведя их в соответствие с Евангелием. Нападки противников принудили нас использовать выражение господствовавшей тогда культуры. Мы стремились сохранить эти формы мысли постольку, поскольку они могут пригодиться и в наши дни. Но часто традиция бывает наносным слоем на поверхности земли, а важно знать, что на самом деле хотели тогда сказать. Тем более, что мы всегда утверждали, что не скованы рассудком, а лучше сказать, призваны выйти за его предел, так как Бог им не обусловлен.
В чем она, та истина, что за пределом рассудка? Эта истина — Бог в трех ипостасях. Мы были убеждены, что говоря так, мы верно следуем Евангелию. Привержены ли мы сейчас только этому выражению или тому, что оно тщится передать, его глубинному смыслу? Предположим, что в некоей данной среде это выражение больше не проходит, не передает послания. Что нам тогда делать? Заставлять этот народ изучать Аристотеля, чтобы прийти ко Христу? Или предложить ознакомиться с современной философией, чтобы научиться поклоняться Богу?
Мы хотели сказать, что Отец, Сын и Дух не поддаются счету. Это ограничило бы их, ведь счет — это действие рассудочное. А Троица — совсем иное, она не численного порядка. Бог не один, Он един. Это единство вечной любви в Боге между Отцом, Его Сыном и Его Духом. Мы говорим об Отце, Сыне и Духе только потому, что это открылось нам в Новом Завете.
Я стараюсь выразить ту мысль, что, говоря о Троице, мы просто хотим сказать, что Бог есть любовь. Когда мы говорим о Святых Дарах, о Божественной литургии и утверждаем, что во хлебе и вине открываются нам Тело и Кровь Христовы, мы хотим сказать, что Иисус из Назарета в этой встрече преображает нас в Себя. Он делает так, что каждый член общины начинает жить в каждом другом. Он преображает нас друг в друга. Так осуществляется единение между любящим Христом и любимым Им верующим и между всеми, кто любит Назарянина.
Вся твоя жизнь может уйти на попытки описания того, каким образом пребывает Христос в Святых Дарах; на попытки узнать, действительно ли Его присутствие, постижимо ли оно рассудком или возникает действием веры; на изучение различных подходов, споров, которые раздирали Церковь на протяжении всей ее истории. Возможно, твой подход будет православен, то есть настолько, насколько это под силу богословскому утверждению, близок к смыслу Святого Писания. Но если ты при этом не переживаешь Божественную литургию как тайну любви Божией к тебе и к общине, любви между тобою и каждым членом общины, то ты ничего не понял и лучше бы тебе предать огню и твои книги, и твое знание. Несомненно, для служения литургии нужно здание, нужен обряд, нужны правила, и величие, и красота искусства. Но если сквозь все эти завесы ты не узришь распятого Иисуса и свою распятую душу, не увидишь, как ты вливаешься в Него, а Он в тебя, а вы оба — в братьев и сестер, — тогда ты только теряешь время, оставаясь вдали от главного.
Нельзя быть уверенным в том, что древние всегда были близки к главному, и даже в том, что литургические тексты наилучшим образом приводят к нему. Ведь мы знаем, что те, кто составлял тексты, обряды, уставы, не всегда были самыми святыми и обладали самым здравым разумением. А стало быть, нам нужно постоянно трудиться над постановкой духовных вопросов, чтобы непрерывно очищать то, что нам передано, и чтобы быть уверенными, что наши выражения, наши каноны и комментарии пребывают в согласии с Божественным Откровением, а наша жизнь, освященная тем же Духом, стала еще ближе к этому Откровению, чем жизнь наших предшественников. Церковь — это здание, в основании которого — Бог и людское единство. Бог не может быть поставлен под вопрос, но слова и образ действия людей всегда должны ставиться под вопрос, чтобы видение Бога не замутнялось, чтобы мы были все более послушны Его воле, все более способны выразить ее и открыть другим. Это усилие к обновлению не только развивается в веках, но должно вовлечь в себя всех здесь и сейчас. Несомненно, нужно великое терпение, «чтобы никто не погиб». Но нужна еще одна нелегко обретаемая добродетель — желание слушать всех в духе соборности. В православном Предании соборность состоит не только в сопоставлении мнений, но, главным образом, в том, чтобы не презирать меньших братьев Иисуса, ибо кто–то из них может обладать истиной. В нашей церковной жизни, предполагающей слияние голосов и разнообразных харизм в едином Духе, главная трудность зачастую не в отвержении «малых сих», а в отказе от встречи различных направлений или духовных школ. Большая проблема — как ужиться между собой знающим. В том конфликте, который возник в Павлово время в Коринфской Церкви, столкнулись не малые с великими, а те, кто называли себя «Павловыми, Аполлосовыми, Кифиными, Христовыми». Разбираясь в этой проблеме, апостол, по–видимому, не запрещал никому предпочитать ему Аполлоса или Кифу законным духовным предпочтением, основанным на тех качествах, которые верующий мог найти в Павле, но точно так же и в Кифе, или наоборот. Все притоки встречаются в одной реке, которая есть Христос. Тот или иной апостол мог сознательно или бессознательно заслонять собою Лик Христов или лицо другого апостола, если считал себя одного живущим в полноте общения со Христом. Тот, кто ощущал себя так, был близок к катастрофе.
Одна из проблем Церкви в том, что мы часто скрываем ненависть, злобу или зависть за теориями, за ссылками на святые каноны либо за скорыми решениями, тут же признанными выражением церковной власти, тогда как они суть всего лишь проявление властного авторитаризма. А во имя этой власти мы пытаемся вовлечь людей в личные или партийные ссоры.
Труднее всего решить проблему того, каким образом мы приспосабливаемся к Божией власти. Одна из сторон этой проблемы заключается в том факте, что власть епископа исходит от Бога. В это веруют Церкви, верные древнему Преданию. Вопрос, однако, остается: как может епископ знать, основано ли то или иное его действие либо слово на этой Божией власти и не вызвано ли оно его собственными стремлениями, характером, личными страстями? Проблема эта тем острее, что держатели власти в Церкви, как и в монархиях, видят себя в совершенном союзе с Богом. Рациональный ответ на мой вопрос известен: он заключается в духе соборности, который должен преобладать среди епископов и верующих. Теоретически это так и есть, но речь здесь идет не о теории, не о простом рассудочном понимании. Все это в Церкви имеется в изобилии, но кто готов в экзистенциальном плане признать, что между ним и Богом — бездна?
Фактически на этот вопрос нет рационального или институционального ответа. Верно, что Церковь принимает принцип соборности, и каждый, таким образом, признает свою потребность в другом. Но в житейской практике эта система не обеспечивает экзистенциальной встречи между духовенством и верующими, или, как мы теперь говорим, мирянами. Даже постоянные консультации, будь таковые введены, не могут выносить окончательных решений. И даже если коллегиальная система ограничится встречей епископов в синодах, всегда найдется способ сделать исключение, столкнуть большинство с меньшинством. Есть столько понятий, о которых нельзя упоминать в христианстве, даже если к ним порой приходится прибегать для решения практических проблем. Система соборности не может быть основана на юридических нормах: как и в лоне Божества, ограничивающее понятие числа здесь неприменимо, иначе говоря, в области рассудка у меня нет на это удовлетворительного ответа.
Подобно Святой Троице и Евхаристии, соборность есть тайна, а в том смысле, что она дарована Богом, она может и не быть таковой. Она проявляется постольку, поскольку сердца уязвлены любовью, а души живут во смирении, в аскезе, в открытости, чем и позволяют Богу идти, куда Он хочет, и быть единственным носителем власти в телах, призванных умереть.
Дух общения
Быть вместе — значит и свидетельствовать вместе. Если с апостольских времен Церковь, объединенная, подобно Коринфской, апостольским Преданием и преломлением хлеба, дошла из–за внутреннего разделения до того, что породила противосвидетельство, — то тем более те Церкви, в которых раздоры усиливались от схизмы V в. до Реформации, не могут явить миру мощь своей любви и неизбежно заслоняют Лик Господень. Ибо что может значить вне совместного praxis (действия) общение в свидетельстве?
Любовь — та реальность, что превышает всякое знание и определяет его. В 1–м Соборном Послании апостола Иоанна мы находим совершенное соотношение между общением с Богом и общением друг с другом, между обретением знания и истины, заповеди, между требованиями быть в мире и побеждать мир. Свидетельствует на самом деле Дух Святой, и совершается свидетельство — в Духе Святом. Если все мы будем Его носителями, мы явим в общине троическую жизнь. Дух скрепляет наш союз и делает нас единым богоявлением. Однако это становится возможным лишь тогда, когда верующие, тесно сблизившись в любви, придут к такому совершенному разумению, которое позволит им проникнуть в тайну Божию (Кол. 2, 2). Именно благодаря причастности к этой тайне мы можем служить «созиданию Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 12–13). Это движение к церковному, соборному, общинному бытию завершается видением тайны Церкви как места, где ждут света невечернего, где идет пир, на котором встречаются две паруссии, а это невозможно в нынешнем состоянии разделенности.
Мы идем к миру вместе не благодаря совместному усилию или плановому сотрудничеству. Только тождество евхаристического бытия, признак общей веры образует наше единое лицо и представляет его миру. Божеское естество, которому мы причастны, бесконечно восходя к нему, созидает как наше тождество, так и наше единство. Учением Евангелия просвещается не только ум, им очищается, освобождаясь от страстей, сердце. Как говорит св. Максим Исповедник, сам божественный свет, принятый в глубину моего и вашего существа, являет собой отныне «энергию, общую для Бога и Его избранников; или, лучше сказать, отныне есть один лишь Бог, поскольку Он… всей Своей целостностью заполняет всю целостность Своих избранников».
Так Бог Сам созидает koinonia (общение) между теми верующими, которых уже прославил, к какой бы Церкви они ни принадлежали. Koinonia свидетельства — свойство церковного общинного бытия, установленного в Самом Боге. Единство действия следует из единства видения. Мир чувствует только совершенствование жизни, откуда бы оно ни исходило. Это отнюдь не делает относительной важность догматов. Они суть признаки Православия и единственная почва для святости. Но Дух дышит, где хочет, и святость, понимаемая как озарение и прославление, может быть воспринята всеми людьми. Тело Христово составляют вместе все эти мужчины и женщины, таинственно вошедшие в общение Святого Духа. На вопрос, как св. Отцы определяют Церковь, можно ответить, что Церковь — это сообщество обоженных людей, которые, будучи бесстрастны, освободились от страстей и стали обителью Пресвятой Троицы. Они стали своими для Троицы по слову Господню: «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). Совершается это так: вечно зрящий Отца Иисус «в силе, по духу святыни» (Рим. 1,4) делает нас свидетелями, поскольку мы уже причастны воскресению мертвых. Свидетельство, если оно — только произнесенное слово, ничего не значит. Если плоть свидетеля не стала глаголом, преображающим в Евхаристии всю личность целиком, никакое послание не передано. Даже в Ветхом Завете Слово никогда не бывает внешним для пророка; личность пророка преображена Словом, которое стало его дыханием. Вот почему у каждого пророка свой праздник и своя икона.
Наше свидетельство становится Божиим по мере нашего уничижения. Таким образом, становясь общностью кротких, Церковь являет лик Иисуса, Который через Свою смерть сделался и Агнцем Божиим, и пастырем. Вот почему Церковь, в конечном счете, лишь благодаря мученикам становится пророческим знамением.
Великий русский философ Владимир Соловьев идет еще дальше и относит объединение Церкви к области эсхатологии. В «Повести об антихристе» из «Трех разговоров» три главных героя символизируют, как это подсказывают их имена, три великих ветви Христианства: католическую, православную и протестантскую. Убитые антихристом, они воскресают вместе и восстанавливают утраченное единство. Основополагающая разница между Ветхим и Новым Заветами в том, что Господь становится совершенным пророком лишь через смерть. Точно также, отвергая насилие, Церковь вновь обретает свою женственность, в которой предает себя Иисусу и принимает дыхание Его Духа.
Церковь, посланная в мир, призывает людей к тому, что предчувствует сама: это радость быть с Иисусом в брачном покое. Именно ради этого мистического брака противостоит она миру, понимаемому по–иоанновски. Возвещаемое ею Царство разрывает ткань истории. Это и есть истинное отрицание века сего, когда, отвергая идолопоклонничество, «облако свидетелей», живущих в ней, провозглашает обетование о веке будущем.
Дело Божие — не просто развертывание времени, но ряд богоявлений, происходящих в верности Духа Самому Себе и в непредвиденности истории. Так пророческая харизма борется с демонизацией мира. Большая беда в том, что грех описывается и анализируется как обычная уязвимость бытия, а не как следствие искушения от змия — источник распада бытия, приводящего к смерти.
Это значит, что на мир можно смотреть как на райскую гармонию и красоту, по слову Писания: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3, 16). Мир — это поэзия, откровения, божественная книга, проявление вечной мудрости Божией; мир — неисчерпаемый источник той культуры, которая, по слову Оригена, ведет к добродетели; источник той утонченности, которая ведет нас к порогу Царства, несмотря на двусмысленность культуры и неутолимую жажду красоты. Здесь Церковь и мир не составляют двух пространств, не принадлежат к двум различным временам. Сознавая Иисусову любовь к себе, Церковь странствует сквозь время и пространство. Она в мире, а не где–то вне его. Вот почему Ориген был вправе написать: «Христос — космос Церкви, а Церковь — космос космоса». В этом смысле Церковь не обращена к миру и уже не в мире. Это мир — в Церкви. Она–его логос, его смысл. Она ведет его к его предназначению, к преображению, потому что знает, в чем оно, и знает путь к нему.
Мир живет в тайне Церкви ради спасительного «остатка». Множество христиан бездействует в безверии, а «остаток» ожидает Царства и претворяет мир. Царство — скрытое сокровище. Но есть свидетельство, совершаемое через безмолвие, через песнь, в несказанном усердии пламенных душ, уязвленных любовью Иисусовой, а эта рана, по слову Андалу ибн Араби, никогда не заживает.
Во многих странах, где христиане в меньшинстве, их история протекала, казалось бы, тихо, однако в ежедневном общинном исповедании там жило Евангелие. И нехристиане тоже, хотя бы в своей литературе, свидетельствуют о том, что они получили от этой евангельской малости, которая, однако, вовсе не была отсутствием.
Есть эпохи, посещенные Богом, когда возрастает вер–ность, обостряется предчувствие тайн Божиих, усиливается жажда Слова. Церковь тогда становится прекраснее, мир ощущает ее красоту и медленно, незримо преображается. Сейчас не так. Можно сказать, что современный мир замкнулся в разрушительной автономии и сам определяет свои этические ценности, которые все же сохраняют некоторую связь с Евангелием. То есть ясно, что у Духа есть свои пути воздействия на общество, которое развивает свою цивилизацию вне христианских словаря и символики и кажется совершенно чуждым тайне смерти и чаянию воскресения.
Новая евангелизация дехристианизированного мира, конечно, проходит через законное развитие науки и технологии, свободы и прав человека. Требуется осторожное, критическое прочтение мифологии развитых обществ. Ибо эти общества поддерживают очевидно неразумный порядок, расовую дискриминацию, эксплуатацию Третьего мира, несправедливость к народам южного полушария. Если Церкви не отмежуются от макиавеллизма некоторых держав, то христианское свидетельство обречено остаться бесплодным. Присутствие в нехристианской стране иностранных христиан, приносящих туда ожесточение и насилие, с точки зрения тамошних коренных христиан, которых уподобляют этим, есть заблуждение и вина.
Кроме того, народы, получившие независимость, не слишком тянутся к христианству. Поэтому, как мне кажется, миссия и даже уподобляемый ей диалог более не актуальны. Преобразование общества воспринимается теперь как дело мирское, дело международного сообщества, а не как воплощение в жизнь Евангелия. Сейчас неизвестно, к чему можно приложить слова Господни: «Итак, идите, научите все народы» (Мф. 28,19). И все же заповедь Иисусова для нас — категорический приказ, и, каково бы ни было наше отношение к религиям и возможному их месту в Божьем замысле, Христос остается для нас единственным путем к Отцу. Именно в Нем происходит эсхатологическая встреча приверженцев различных религий.
Организованная миссия, конечно, невозможна в огромных регионах земного шара, где религиозная свобода не признается или где гнет господствующей религии исключает всякое обращение. Однако даже там христианское свидетельство известно, оно ощутимо благодаря добрососедству, общему национальному искусству, литературе, благодаря милосердию, присущему простым людям. Истинные евангельские ценности–для всех. Простой или научный диалог открывает умы и сердца истине Евангелия. Таким образом, христиане всех исповеданий несут общий ответ за единое в главном свидетельство. В плюралистических обществах христиане не интересуются догматическими расхождениями. Они призваны быть передатчиками. Ведь в положении передатчика можно быть свободным от политической верноподданности, которой не признают за ним нехристиане, особенно там, где христианство воспринимают как осложнение или представляют как обостренное чувство своей особенности. Участие христиан в развитии национальной культуры, неравнодушие к испытаниям, переносимым народом, заставляют прислушаться к посланию. Доверие к христианам связано с их вовлеченностью в дело справедливости и мира, с их доброй волей к национальному и социальному освобождению, а не просто с борьбой за исключительные права единоверцев. Любовь доказывается в диалоге, который ведется самой жизнью, разделяемой с другими. Такой диалог истины может установиться. Приверженность христиан истине Христовой не должна заслонять тех истин, что рассеяны в окружающих религиозных традициях. Ибо все эти традиции проистекают из того же божественного источника. Всякая животворная духовная пища должна приниматься христианами не как слово человеческое, но как хлеб, сошедший с небес.
Всякая речь, всякое писание отвергает другую речь, другое писание. Поэтому окончательная цель диалога выходит за пределы религиозных традиций и состоит в том, чтобы отыскать божественную истину, скрытую под различными словами и символами. В этом нет релятивизации христианского послания нет какого–либо синкретизма. Это тот же Христос, Которому мы поклоняемся, в Его странствии по бесконечным пространствам религий. Это требует от нас кенозиса — самоотречения. Кенозис — молчаливое свидетельство. Он может принести обильные плоды.
В диалоге Церковь раскрывается, углубляется, познает себя. Для нее это не есть педагогическое или политическое средство, чтобы присоединить к себе других. В любом случае диалог — единственный возможный контакт в плюралистическом обществе. Даже в странах, изначально христианских, атеизм, гностицизм, секты настолько стали традициями религиозной природы, что такая миссия, которая начинает с сокрушения их идолов, уже невозможна.
Христианин силою Духа внутренне созидает этот мир. Обновленный тем же Духом, он участвует в общем труде человечества. Сквозь весь тварный и исторический мир странствует он, внутренне свободный, влекомый Ликом Христовым. Христианин сможет расширить мир до бесконечных размеров Царства только тогда, когда он будет страстно принадлежать и миру, и Царству. Отвернувшись от мира, Царства не обретешь. Мир можно спасти только всею силой грядущего Христа. В этот творческом стремлении — тайна свидетельства.
Малые общины
Немногочисленные на первых порах христиане знали друг друга лично. Они встречались ежедневно на молитвах. Так как они «имели все общее» (Деян. 2, 44), то, вступая в евхаристическое общение, чувствовали, что единение, известное им из повседневного опыта, становится совершеннее в общем причащении Телу Христову. Именно в этом смысле апостол Павел пишет: «Мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). Христиане любили друг друга и звали по имени. И, прощая взаимно друг друга, от чего постоянно креп их союз, они сознавали, что союз этот становится совершеннее — Сам Бог совершенствует его, — когда они вместе подходят к Чаше Господней.
Быть с Господом значило для каждого из них быть также с братом, некоторым образом становиться этим братом, ибо в том и другом брате живет один и тот же Господь. Он узнает Себя в каждом из них. Между их повседневной жизнью и той жизнью, которую они вкушали из единой чаши, уже не было разрыва. Повседневная жизнь становилась с каждым воскресением все слаще и чудеснее. Небесный свет, полученный в этот день, озарял их в течение всей седмицы. Члены общины не были только списком имен в приходской книге. Они составляли стадо Христово, их имена были записаны на небесах. В это стадо они были призваны Господом и объединены Им в крещении. Это единство проявлялось в их сознании как ответственность друг за друга, и причащение Тела и Крови Христовых делало эту ответственность еще пламеннее и осияннее.
Первые христиане совершали богослужения в определенном месте, обычно в доме одного из общинников, и, конечно, там не могло разместиться много народу. И малая община знала, что становится единым телом, когда во время Божественной литургии изливается на нее Святой Дух. Каждый приносил немного хлеба и вина — плодов своего труда. К булочникам не ходили, а сами месили тесто и пекли хлеб, чтобы хлебное приношение было символом их усилий. Таким образом, Бог Отец, принимая в таинстве хлеб, принимал и жизнь, объединенную жизнь собравшихся людей.
Когда при Константине Великом завершилась пора гонений, христиане стали освящать дома своих служений. Византийские церкви той эпохи были в большинстве своем скромных размеров, так как предназначались для семей из одного квартала, которые знали друг друга, любили друг друга и вместе шли путем святости.
Впоследствии в больших городах начали строить богато убранные церкви, которые могли вместить сотни, даже тысячи людей. Однако эти церкви оставались исключением, подтверждающим правило, согласно которому те, кто молился вместе, знали друг друга и жили по соседству. Божественная литургия была поводом к общению, переживанию совместного опыта для людей, которые и помимо того помогали друг другу, находясь всегда рядом. Лица, обращенные друг к другу всю неделю, естественно встречали друг друга и в церкви в день Господень. В повседневной жизни лицо ближнего для нас — икона. Ту же самую икону должны мы обрести в Божественной литургии. Окуривая верующего ладаном, священник воздает ему честь как иконе. Это благословение будет сопровождать его в течение седмицы. Цель окуривания — символизировать высокое достоинство человека.
Позднее возник обычай строить в городах большие церкви. Туда приходили верующие из разных кварталов, порою отдаленных. Постепенно позабылось, что в начале место богослужения потому и называлось «Церковью», собранием, что там собиралась живая «Церковь». Тогда, говоря «Церковь», подразумевали собрание знакомых между собою людей. Мне кажется, что увеличив размер церквей, мы перестали осознавать, что Церковь — это прежде всего верующие вместе, в общении. Если отовсюду сойдутся верующие, но ничем не связанные между собой люди, это будет не Церковь, а просто скопление незнакомых и посторонних. Они приходят в Церковь, потому что там происходит богослужение. Приходят участвовать в обрядах, которые были бы отправлены и без них. Эти обряды представляются им самодостаточными, ни от чего не зависящими церемониями. Их участник может выказывать личное горячее усердие, но он не входит в общение с другими, не ощущает себя членом того же Тела, что и другие. Как можно принадлежать к единому Телу, даже не зная друг друга? Как стать единым у Чаши спасения, будучи разъединенными в повседневной жизни?
Церковь стала местом, где собираются множества. Множество не есть живая община. Даже причащаясь одновременно Тела Христова, мы останемся поодиночке каждый в своем углу, если другие причастники будут нам чужими. Ведь если мы не зовем друг друга по имени, не разделяем друг с другом забот после литургии, мы останемся чужими.
В толпе нет пыла. Пыл — в общине, в подлинном единении. Она излучает его в повседневной жизни, и это излучение достигает вершины, когда народ Божий становится единым Телом в приобщении Телу Христову. Большие церкви, а особенно соборы — это места, которые притягивают множества, поощряя таким образом индивидуальное благочестие. Наша церковная молитва не может по–настоящему слиться с молитвой других, если не слиты наши жизни.
Несколько иное положение в деревне, где люди знают друг друга лучше. Но знают ли они всех детей, и знают ли дети старших? Не забудем также о межсемейных и других раздорах, которые осложняют картину. А уж в большом селе с единственной церковью налицо те же проблемы, что и в городе.
Будь то в городе или в деревне, большие церкви и соборы не позволяют состояться экзистенциальной встрече между верующими. Чаще всего эти церкви не сближают людей. С братом не встречаются от случая к случаю по воскресеньям. Если мы стали частью друг друга, нам нельзя просто находиться бок о бок. Приобщаясь к Телу Христову, мы также приобщаемся нашим братьям, а не только совершенствуем себя. А такое приобщение не может происходить в больших церквах по воскресным дням.
На мой взгляд, эту трудную проблему можно разрешить, лишь строя церкви в каждом квартале города или большого села. Это, однако, не всегда возможно в силу финансовых причин. Мы знаем и то, что не всегда стоит побуждать людей посещать наши современные церкви, ибо для многих людей это всего лишь места, где совершаются замкнутые в себе ритуалы при большом стечении людей и без подлинного пыла. Мы, христиане, приходим в церковь не только ради встречи со Христом, но и ради встречи с нашими братьями. А что это за брат, которого не знаешь, у которого не бываешь?
По–пастырски, по–церковному подобало бы начать с людей, которых жизнь свела в одном квартале или в одном доме. Надо бы нанять или купить помещение, находящееся в удобном месте между тремя или четырьмя домами, и сделать его местом встречи обитателей этого островка. Они обычно встречают друг друга в лифте или на собраниях жильцов. Между ними уже завязаны какие–то отношения. Они составляют общественное единство, которое сможет укрепить и освятить Божественная литургия. Прежде всего можно будет приглашать их семьями на духовные вечера. И когда они ощутят себя достаточно близкими друг другу, им нужно сказать, что нарождающаяся дружба не станет плодотворной и не достигнет глубины, если им не объединиться вокруг Тела и Крови Господа.
Они приходили бы на богослужение в квартиру, превращенную в Церковь, некоторые поначалу из любопытства, а другие, может быть, уже с жаром веры. Во всяком случае, они научатся встречаться в присутствии Господа. В дальнейшем, если один из них проявит особенное усердие, если будет возрастать в учении и познании и будет подлинно заботиться о братьях, его можно будет попросить согласиться предстательствовать им в молитве. Тогда ему будет дано более глубокое религиозное образование, и он станет их отцом, ибо уже будет иметь опыт отцовства по отношению к ним.
Нам нужно много таких квартир в каждом городе. Такой порядок пастырской работы вновь приведет людей к литургической жизни, ибо приобщит их к милосердию, придаст силы завязавшимся отношениям.
Некоторые непременно спросят о действенности такого подхода. Весьма вероятно, сошлются на традиции, унаследованные нами, с тех пор как начали богато украшать наши церкви и освящать их святым елеем. В случае необходимости пастырю, однако, должно бы быть дозволено нарушать эти нормы. Нужда должна освободить нас также от некоторых, также унаследованных, убеждений, согласно которым церковь обязательно должна находиться в особом помещении, а над ее крышей должен быть лишь свод небесный. По моему разумению, единственное требование, которому нужно отдавать первенство перед всякими иными соображениями, это — спасать души и приводить их ко Христу. А ко Христу люди приходят только дорогами жизни, их собственной жизни, через товарищество с другими, через искренность отношений.
Если некоторые традиции — например, построение и освящение церквей византийского архитектурного типа–представляются в наши дни несколько косными и не помогают вести весь народ путем спасения, ничто не мешает ввести сегодня, наряду с ними или вместо них, новые традиции, которые, несомненно, прониклись бы дуновением Духа. Отчего не проделать такой опыт? На самом деле, перед нами один–единственный вопрос: как побудить людей жить во Христе Иисусе.
Я знаю, что многие обстоятельства мешают людям посещать храмы. В большинстве городов более 90% членов наших общин не ходят в церковь регулярно. В самых процветающих наших приходах из ста крещеных — только тридцать практикующих. Где остальные 70 %? Я не говорю, что моя идея, как по волшебству, изменит положение вещей. Я, на самом деле, ничего не знаю. Я, однако, уверен, что приняв ее, мы будем строить на основании, заложенном первоначальной Церковью во времена гонений. Нам непременно нужно провести социально–психологическое исследование. Мы должны серьезно поставить себя под вопрос, пересмотреть нашу пастырскую практику и признать наши нерадение и лень. То, что я предлагаю здесь, есть всего лишь попытка, и в ее основе нечто глубоко человеческое: реальность микрообществ и реальность дружбы. Малые приходы несут в себе экзистенциальное пламя, которого порою не знают большие общины. Члены малой группы более других осознают, что корень молитвы — в реальности их житейской встречи и что вечная жизнь начинается в реальности любви и милосердия, опыт которых обретен там, где проходит их жизнь.
Священник как «посланник» в этом веке
Звание священника начинается с призвания. А что это такое? Должно быть, это Божий призыв, предшествующий рукоположению и воспринятый индивидуальным сознанием кандидата в священнослужители. Однако понятие о таком призыве, — а оно угадывается и в самом чине рукоположения, — не кажется мне основанным на Новом Завете. Конечно, священство — это харизма, дар Святого Духа. Но этот дар воспринимается духовными людьми общины, теми, кого апостол Павел называет пророками, и передается этот дар наложением рук (1 Тим. 4,14). Притом в традиционной православной практике взрослого кандидата представляет епископу община верующих. Епископ же обычно поручает его духовному отцу, чтобы тот подготовил его и ознакомил с требованиями пастырских посланий и канонического права. Будущего священника вновь принимают верующие, собравшиеся для Евхаристии вокруг епископа, который призывает на него Святого Духа и вручает ему священство. Таким образом, Божий призыв передается через епископа и признается собранием.
Священник не живет, подобно монаху, за пределами своего века. Он есть, по определению, закваска для теста. Одно и то же евангельское служение роднит его с мирянином, и оттого, что он «посланник», он не ведет какого–то особенного «образа жизни». Посланник — это тот, кто определяется любовью. Его дело — служение Слова. Но он обретает это Слово — во всех его человеческих измерениях и откликах — лишь постольку, поскольку научен слову сотворенному, которым наделили его лучшие учителя. Только светлая голова, обогащенная познанием человеческих наук, способна усвоить евангельское послание и передать его нашим современникам. Никакой человеческой должности не будет соответствовать тот, кто не чуток к этому миру, без экзистенциального наполнения сектантский фундаментализм представляет собой лишь бессильное слово. Пора Церкви перестать быть начальной школой, пора ее служителям выражать свое усердие — при всей его силе и светоносности — языком, который дает университетское образование. В самом деле, важно, чтобы священник возвышался над средним уровнем общества, чтобы он обладал той зрелостью, без которой Евангелие не может быть ни понято, ни передано служителем Слова.
В древнем христианстве никогда не заходила речь о систематической богословской культуре. Отцы Церкви были вскормлены лишь литургией, проповедью, наставлением учителей, готовивших их к духовной жизни. Церковь, возрастающая в молитве, в размышлении над Писанием, привлекающая юных ко Христу через оглашение, молитвенное бдение, молодежное движение, общественную деятельность, всегда будет порождать таких священников, которые в своей обычной общинной жизни обретают основные начала, необходимые для служителя Слова. Источник нашего духовного разума — жизнь в Церкви. Священство в нас по существу созидается в жизни мирянина. В семинарии наши основные христианские познания, пополняясь и получая истолкование, становятся понятийными орудиями нашей пастырской работы. Конечно, истинное богословие открывает нам нежданные красоты жизни в Боге, пути, которые Дух и Супруга (Церковь) проложили сквозь историю людей. Семинария — еще не вовлеченность, но она — знак вовлеченности. Она лишь пробуждает тот плод, что уже созрел на древе живого христианства. Пастырские послания говорят, что священник должен быть человеком женатым, непорочным, трезвым, целомудренным, страннолюбивым, учительным, не сребролюбивым, что он должен хорошо управлять своим домом и содержать детей в послушании со всякой честностью, «ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3, 5). Кроме того, нужно, чтобы он имел «доброе свидетельство от внешних», т. е. нехристиан (1 Тим. 3,7). Таковы добродетели, необходимые для священнослужения. Их обретает человек, живущий в реальном обществе людей. Еще один признак годности кандидата — возраст: не менее 30–ти лет, как постановили Соборы. Будущий пастырь уже научится обращаться с деньгами, разбираться в людях, у него будет домашний очаг и согласие в доме. Нельзя ведь рисковать Церковью, доверяя ее молодому человеку, о котором известно только то, что он прочитал некоторые учебники, выдержал школьные экзамены и несколько попрактиковался в благочестии, твердость которого еще ничем не испытана вне стен семинарии.
Следовательно, идеально было бы привлекать к изучению богословия рабочего или человека, владеющего профессией. Уже имеющиеся университетское образование или знание ремесла позволит человеку, в случае отказа от рукоположения, вновь включиться в жизнь общества. Не надо вынуждать Церковь рукополагать людей с посредственными способностями из боязни, что те, без особого успеха закончив семинарию, не смогут устроиться в жизни. Алтарь — поле битвы с властями зла, а не прибежище для социально неприспособленных. Настоящий опыт мирской жизни — вот, кажется, единственный и естественный путь к освобождению священников оттого елейного языка, стиля, который превращает их в особый класс.
Именно в свете этого понятия об умственном и психическом равновесии надо бы рассматривать вопрос о женатых священниках, из–за которого пролилось столько чернил в Римской Церкви. Огромное количество священников оспаривает обязательное безбрачие. Вселенская Церковь отвергла это требование, отстаиваемое Римом, на Никейском Соборе в 325 г. Собор присоединился к мнению египетского аскета Пафнутия, сказавшего, что не следует отягощать священника и его жену игом, которого Господь не налагал. Принята была иудейская точка зрения, согласно которой от священника требуется воздержание в то время, когда он готовится приносить жертву во храме. Отвергнув римское мнение, Восточная Церковь не вполне избежала иудейского искушения: она потребовала от священника воздержания накануне служения литургии. Правда, она обосновала эту практику лучшим приготовлением к Евхаристии, духовным трезвением. И призвала к тому же мирян. Но на Востоке, кроме монастырей или больших приходов с несколькими священниками, литургия никогда не служилась ежедневно. Она служилась по воскресеньям, по праздникам и в дни Светлой Седмицы.
Эта тенденция Запада, даже в текстах IV века, несомненно, связана с неоплатонизмом энкратического типа. Папа св. Сирик удивляется, как человек, «оскверненный брачным ложем», может принимать святое таинство. Позднее западные авторы искали других мотивов для безбрачия — психологических либо связанных с миметическим представлением о жизни Иисуса как о предмете воспроизведения. Энциклопедия «Catholicisme», изданная в 1949 г., повторяет аргумент Сирика. Большинство людей, говорит она, «испытывает смущение при мысли о том, что можно приступить к жертвеннику, встав с супружеского ложа». А на Востоке, напротив, думают, что брак для священника — знак целомудрия.
Не будем задерживаться на самом действенном аргументе традиционной католической мысли, представляющем воздержание как полную самоотдачу Богу. Эта мысль, несомненно, принадлежит Новому Завету (1 Kop. 7), но в древности она никогда не считалась связанной со священством. Ее относили к монашеской жизни. Целомудрие в Писании провозглашается предчувствием, предвкушением жизни вечной (Лк. 20, 34–36). Действительный выход за пределы половой жизни есть факт Царства Небесного и означает глубокую и таинственную к нему причастность, призвание к тому исключительному образу жизни, который основан на харизме, т. е. духовном даре целомудрия. Однако дар Духа подразумевает и свободу в Духе. Дар почиет на человеке, которого избирает Господь, независимо от того, какое положение занимает этот человек, будь он даже женат. Тогда он покидает свой очаг и посвящает себя Богу, принимая подвиг монашеского воздержания. Этот путь вовсе не связан с отправлением богослужения, которое совершается в общении веры, Слова и таинств.
В противоположность поздней западной практике, Предание отстраняет монахов от священства. Священство настолько связано с веком сим, с житейскими тревогами людей, что в идеале не должно сочетаться с состоянием, которое предвосхищает жизнь будущего века. Этой позиции не чужды соображения насчет пастырской мудрости. Священник должен очень близко, интимно знать все, что испытывают люди. Верно, что человек, познавший глубины духовной жизни, способен все понять и направить. Но не менее верно и то, что священник, познавший всю уязвимость обычной жизни, в своем естественном опыте обретет источник сострадания, которое облегчит ему переход от абстрактного нравственного суда к кротости по отношению к грешнику. И в то же время верно, что опыт неудачного супружества зачастую вредит духовной жизни. Психолог, которому я сказал, что наличие у священника супруги ставит множество практических проблем, возразил мне: «Но ее отсутствие ставит их еще больше». Вот почему апостол Павел требовал, чтобы брак священника был по человеческим понятиям удачным.
Помимо этих соображений, которые представляются мне верными для любой исторической эпохи, подобает принять во внимание еще одно, современное, возражение против безбрачия в Западной Церкви: в нашей цивилизации, где пол имеет большое значение, многие люди, рукоположенные в молодом возрасте, не могут более выносить связанного со священством образа жизни. В столь бесстыдном обществе, как наше, всякое неопровержимое утверждение может стать, по меньшей мере, неосторожным. Следует также признать, что супружеская жизнь большого числа восточных священников — наряду с добровольной бедностью и аскезой, глубоким личным и литургическим благочестием, пастырским самоотвержением — сближает их с прихожанами. Да и в протестантских Церквях брачная жизнь пасторов никогда не мешала выдвижению выдающихся богословов.
Конечно, брак — отнюдь не панацея. Кьеркегор иронизировал над датским протестантизмом, в котором брак сам по себе рассматривался как признак серьезности. Было бы неверным мистицизировать брак, как это поныне делается в отношении безбрачия. Надо подчеркнуть, наконец, и то, что современная восточная практика непременного вступления в брак перед рукоположением никак не соответствует духу Павла. Для апостола было важно, чтобы счастливая семейная жизнь человека указывала на такие его добродетели как сила и мудрость. А ведь нет ничего ненадежнее, чем наскоро заключенный брак, и вряд ли обремененный им выпускник богословской школы станет от этого сильным и мудрым священником.
Если никакой образ жизни не может быть обязательным и считаться неотъемлемо присущим полноценному пастырю, то перед Церковью встает еще одна проблема: как относиться к вступлению в брак после рукоположения. Каноническое предание однозначно требует, чтобы священник, женившись, становился мирянином. На Западе такого отлучают. Однако известно, что в западном чине рукоположения ничего не сказано о целомудрии, а лишь об обете безбрачия. Часто говорят о мистическом браке между епископом и его епархией, между священником и алтарем. Заключить после этого «физический» брак означало бы, дескать, стать двоеженцем. Кто же не заметит здесь смешения уровней, намеренной игры словами? Ныне в хорошо осведомленных католических кругах полагают, что в конце концов Церковь уступит в этом пункте. Многие православные богословы считают, что традиционный запрет священнику жениться имеет чисто пастырское основание: не должно отягощать двусмысленностью отношения священника с незамужними женщинами.
Я думаю, что искреннему обсуждению этого вопроса мешает опасение, что наши слова будут истолкованы как выражение наших личных затруднений. Вот почему видный католический богослов, сторонник разрешения священникам вступать в брак, говорил мне, словно бы в свое оправдание: «Я могу рассуждать об этом свободно — я слишком стар для женитьбы». Среди упорных защитников безбрачия нередко можно встретить мирян или священников, которых это безбрачие никак не ущемляет. На Востоке эта проблема обсуждается вновь, особенно такая ее сторона, как возможность второго брака священника–вдовца.
Совесть Церкви должна разрешить по меньшей мере два вопроса пастырской жизни. Во–первых, человек, готовый к рукоположению, может еще не встретить той, кого он хотел бы взять в супруги. Эта проблема была несущественной, когда в обществе господствовал брак по расчету, но современная девушка была бы оскорблена, если бы студент женился на ней, чтобы стать священником. Во–вторых, священник, даже охваченный самым искренним духовным порывом, через несколько лет служения может убедиться, что переоценил силу своего воздержания. Зачем же обрекать такого человека, с душой священника, со способностями пастыря, на возвращение в ряды простых мирян? Почему священник, который потерял жену, если он еще молод и на его руках несколько детей, должен быть лишен возможности жениться вторично? Пора признать, что свобода детей Божиих включает возможность для всякого человека, живущего в миру, избрать то состояние, которое наилучшим образом соответствует его возрастанию в жизни Духа.
С той же проблемой свободы связано обсуждение на Западе возможности для священника заниматься ремеслом. Восток всегда признавал, и фактически, и юридически, право на труд. Священник–рабочий среди православных эмигрантов в Западной Европе, священник–ремесленник или крестьянин в любой православной стране — это нормальное явление. Призвание священнослужителя не отторгает человека от его общественных занятий.
Но как сочетать на практике служение священника с полным рабочим днем? Можно допустить, что некоторые священники будут освобождены от некоторых пастырских обязанностей. Но совершенно напрасным было бы предписывать человеку посвящать себя полностью делам, не связанным с совершением таинств, или только проповеди Слова Божия. Священник — это, прежде всего, предстоятель евхаристической общины, прямой передатчик евангельского послания. Именно этой службой должен он добывать себе средства к существованию. Христианское свидетельство в мирской жизни — это, главным образом, дело мирян. Даже преподавание богословия, поскольку оно не связано с богослужением, тоже дело мирян. Если человек уже не принадлежит внутренне служению Богу в общине, отошел от проповеди, от духовной беседы и евангелизации в ее прямой форме, такой человек не верит больше в действенность Слова и утратил самоощущение священника.
Если позволить священнику заниматься профессией за счет сокращения времени служения, то служитель Божий должен быть материально обеспечен, чтобы иметь возможность выслушивать, утешать, молиться у одра болезни, размышлять о текущих вопросах пастырства, изучать Писание. Никакое призвание не исключает, если смею так выразиться, «рутинных» сторон священства. Нет такого выбора: быть только катехизатором, богословом, совершителем богослужений или администратором; даже если община усматривает в нас тот или иной дар Духа, необходимо многомерно, деятельно служить Христу. Поэтому, если у человека и вправду сердце священника, то работа преподавателя, рабочего, врача, парламентария, профсоюзного активиста будет для него лишь вспомогательной. Разве что проживая в стране, где правящий режим запрещает свободное следование Евангелию, он вынужден быть, прежде всего, человеком той или иной профессии, осторожничать в отношениях с людьми и встречаться с Господом во время воскресной Евхаристии.
Утверждать, что прямое назначение священника — служение в общине, не значит запрещать ему размышлять о политике. Послание Христово доступно разумению лишь в рамках той цивилизации, к которой принадлежат наши слушатели, т. е. — внутри общественно–политического контекста. Иначе говоря, политическая динамика — тоже измерение Слова. Евангелие живо, и живо оно именно в том точном смысле, что Слово богато и может воплотиться в языке, вразумительном для современного человека.
Вот почему Слово вновь ставит под вопрос установленный в Церкви порядок, сопутствующий просто установленному порядку. Слово есть движение, и, как таковое, оно сметает всякую социологическую структуру, которую Церковь приняла в угоду веку. Пророческое слово рождается затем, чтобы Церковь обрела образ Иисуса Христа. И, обходя землю, Слово сокрушает все, что обветшало в Церкви и в мире. Потому и колеблют пророки политическую жизнь народа. Священнику присуще это дело смены структур, он совершает его в послушании всегда обжигающему откровению Евангелия. Совершает его и Церковь, увидевшая пророческий дар своего пастыря, который не только хранит, но и покоряет ее. Навозаветное священство — это, с одной стороны, введение Церкви в историю, а с другой — порыв и пламень, переход к воскресению.
В этом процессе Слово, охватывая действительность целиком, стремится стать политическим. У священника здесь двойная забота: о необходимых переменах и о единстве. Всякая власть должна быть проверена на справедливость. Священник — тот человек, который взывает ко всем власть имущим, чтобы те покорились Богу, чтобы извилистые пути стали прямыми и евангельское послание, доныне бывшее закваской, политическим действием, вплелось в ткань истории. Если Слово не вписано в плоть мира, оно всего лишь «медь звенящая и кимвал звучащий». Вовлеченность священника в общественную жизнь не может доходить до присоединения к политической партии или до личного озлобления, так как он сам, в силу своего призвания, есть свидетель кротости Царства. В этом основной принцип, который не мешал священникам в Румынии, Болгарии, Греции, Палестине активно бороться против оккупанта. Но священник — это человек, который разделяет Тело Христово и с теми, кто, будучи отмечены знаком своего времени, избрали радикальный путь, и с теми, кто искренне не готов еще присоединиться к движению истории.
Из этого размышления, внушенного стремлением к справедливости и основанного на внимательном изучении проблем, следует, что священник обязан отчетом только Иисусу Христу. Он не стремится следовать политическим идеям своего епископа или становиться на позицию влиятельных людей из своего прихода. Священник не является частью социологической структуры своей Церкви. Он делает общее дело с пророками всех времен, со своим Учителем Иисусом Христом. Согласно православному чину рукоположения, совершаемому во время литургии, епископ после освящения даров передает Евхаристию священнику, чтобы тот держал ее до самого причащения в знак верности. Во время похорон священника ему, лежащему во всем облачении, возлагают на лицо воздух, который покрывал евхаристические хлеб и вино, словно в конце своего земного служения священник сам стал жертвенным приношением. Между призывом к священству и призывом в Царство к нему обращены слова апостола Павла: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием… будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 4, 2, 5). Священник знает, что должен нести это призвание в уязвимой душе и бренном теле. Вечно движимый призывным гласом, всегда раненный пробужденной в нем этим гласом любовью, он идет за ним, чувствуя свою немощь и веруя в Того, Кто посылает этот глас в приятное благоухание, в радость тем, кому дано слышать Его поступь.
Послание к Илии накануне его рукоположения
Завтра ты будешь впервые как священник совершать службу празднику пророка, чье имя носишь. Тебя избрали для этого служения, потому что прочитали на твоем лице любовь, которой отметило тебя Слово. Вместе с юношами твоей Церкви учился ты с самого детства, читая Писание и житие того, кто был твоим покровителем. Что сказать тебе, который возрастал, сочетая ревностное усердие Илии с кротостью Евангелия; тебе, который в поиске познания понял, что оно дается тем, кто чист сердцем, и, поняв, последовал за ним?
В стране, куда ты эмигрировал, ты научился смирению. Не прельстясь лицом, которым обратилось к тебе это общество, ты предпочел безраздельно посвятить себя Господу. При твоей молодости тебе доверили приход, ибо люди алчут, и некому разделить с ними хлеб. Ты станешь их пищей. Они будут питаться тобой — ты ведь согласился полностью отдать себя Церкви Божией. Каждый день будешь ты углублять свои познания в Писании. Размышляй над ним в безмолвии, чтобы самому напитаться тем хлебом, который ты разделишь с толпой. Молись пламенно, дабы не впасть в заблуждение и не быть унесенным страстями юности. Легко сбиться с пути, если тебе льстят или задевают злословием. Берегись осквернить свое служение, ища за него воздаяния в воле к власти или к мести. Самой большой честью должен ты окружить самых малых.
Ищи Лика Господа твоего, ибо в Нем одном Царство, а лицо человека покрыто пылью. Если любишь, ты будешь царствовать; если ненавидишь, то умрешь и в день Суда будешь в ответе за тех, которые, по твоему небрежению, отойдут в одиночестве.
Одним из искушений для тебя станет желание слишком много знать, станут часы, проводимые среди книг, дабы вкушать от тонкостей богословия, в то время как верующие вокруг тебя жаждут утешения. Не забывай, что ты, прежде всего, тот, кто отирает слезы и омывает ноги. Если ты уничижишь себя так, пред ними предстанет Господь. Но Он же, Слово, остается с тобой. Да не иссякает Он в твоих устах. Если вдали от Него сердце твое согрелось — это Он ведет тебя к Богу. Его Слово будет водительствовать тобой, иногда поражая тебя, как бич. Повторяй его, чтобы сохранить себя, но и чтобы привести тех, кто далек от Него. Возвещай его день ото дня, год от года, даже если ты видишь, что их подстерегает и охватывает грех. Ты, будешь спасен, только если проповедуешь Слово; но их спасение доверено Тому, кто призвал тебя из мрака в чудный Свой свет.
Христово Евангелие требовательно. Не бойся нанести рану. Нанеси ее и перевяжи, ибо ты врач, а не приятель по увеселениям. Ты — тот, кто ведет их к Царству, в котором они осуществят себя; ты не наемник. Вначале они отнесутся к тебе дерзко, ибо человек, которого коснулось зло, не привык слышать Слово. Ты же оставайся под воздействием Слова, дабы стать Словом самому. Твое состояние выразит возглас пророка, чье имя ты носишь: «Жив Господь, Бог, пред Которым я стою!» Если ты останешься на этой позиции или, отойдя, затем вернешься к ней, твоя жизнь станет вместилищем Духа, ты вступишь в ряд тех, кто участвует в искуплении и ведет землю к раю.
Именно благодаря святости принесет плод совершенное над тобою таинство. Святость — это не ангельская чистота. Ибо на то у человека руки, чтобы трогать ими землю. Господь просто не примет ложно уподобившихся Ему. Ничто в мире не заменит святости; она одна есть бытие во всех его измерениях. И она несовместима с любым компромиссом, со злом в тебе и в других. Ты навеки уязвлен той раной, уязвимым для которой сделало тебя Евангелие. Берегись оставить свою первую любовь. Если пребыв какое–то время лишь теплым, ты вновь обретешь пыл, если пройдешь сквозь все отпадения одно за другим, ты будешь послушен Тому, Кто предал тебя им в простоте твоего сердца и духа. Все, кроме этого, суетно и преходяще.
Год за годом, до старости будешь ты держаться только верой, ибо ты не увидишь осуществления Царства. Ты ведь знаешь, что наша жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3,3). В зрелом возрасте тебя охватит смущение, словно все рушится; в себе и вокруг себя ты ощутишь одиночество. Ночные часы подавленности, когда рядом с тобой в комнате не будет никого, и Святая Чаша, от которой ты будешь пить, моля о прощении, станут для тебя оазисом в пустыне, избранной тобою для себя, избранной для тебя Тем, Кто предлагает нам крест.
Теперь ступай в алтарь и влеки нас за собою к Господу. Дай нам хлеба и вина, чтобы нам не умереть.
Благодарю, Илия.
Глава 3. СВЕТ И ТЕНИ ХРИСТИАНСТВА
Парадокс Церкви
Принадлежность к Церкви непременно сопровождается и радостью, и тягостью. В самой природе нашего существования, в котором парадоксально едины Божеское и человеческое начала, лежит свойство быть чувствуемым как сладость и как рана, как присутствие в человеке Духа–утешителя и как тоска греха. Эта кажущаяся двойственность рассудочным путем неустранима. Только наша лень делает христианскую общину абсолютно зависимой от совершенства догматов и несказанной красоты литургии. Ибо, желаем мы того или нет, храм полон торговцами и менялами, и нет такой стены, которая, в душе и в истории, отделяла бы христианскую тайну от христианской немощи. Излияние благодати Божией в Евхаристии не мешает собранию превращаться в гетто. А порою зло бывает столь неприкрытым, столь вопиющим, что нам трудно понять, что связывает эту Церковь с Богом, заблудившимся среди наших размежеваний и нашей посредственности.
Я знаю, крик — это не богословие. Если богословие не хочет быть идеологией, т. е. чертежом мира сего, столь же временным, как всякое слово, оно должно стать опытом скорби, так как оно претендует в какой–то мере на общность с образом Мессии, которого Исайя назвал Мужем скорбей. Однако самый обогащающий и, в то же время, самый обманчивый опыт–это опыт всех христиан, тщащихся встретить Бога в человеке и человека в Боге, найти вечность в своей конкретной истории, воспринять самые повседневные свои обязанности в свете веры, в строгости послушания, так же как в свободе детей Божиих, восторгаясь и терпя, уповая и точно зная, что силы человека ограничены и завершить историю невозможно. Видеть Церковь в мире, начиная с пришествия Иисуса, как глиняную вазу, в которой все же целиком содержится божественное сокровище, значит, несмотря на трещину греха, упорно веровать в то, что человек призван к обожению. Это значит согласиться на уровне личном, весьма определенном, в кротости прощения воспринять лик Христов.
Как жить в Церкви, чем жить в Церкви? Такова проблема, экзистенциально поставленная передо мною. Эта община, которая вкушает Тело Христово, пожирает и себя самое, ибо в ней есть ненависть. В Церкви, как и в любом скоплении людей, человек человеку волк. Никакой приход, никакая юрисдикция, никакая автокефальная Церковь не заключает в себе обетовании жизни вечной. Все увядает и умирает. Если предательство доходит зачастую до проституции, то удушают Христа и угашают дух, главным образом, в Церкви. Однако, даже если та или иная Церковь в лице своих членов бывает неверна, Бог остается ей верен. Он держит в запасе заветный миг, чтобы явить Свою солидарность с нами: это эвристическое присутствие, в котором обращенный человек погружается в нисхождение Духа, как в огненный поток. В крайнем случае, Церковь становится, таким образом, Церковью распятой, местом, предназначенным для мученичества, так что подлинное и последнее призвание пастыря — стать жертвой, кровавой жертвой зверей в человеческом облике, которые грызутся между собой и растерзают того, чья задача — приручить их.
Я знаю, что дурные пастыри — это ужасный бич, очевидная и прямая причина упадка. «Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, — за то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их» (Иез. 34, 8–10). Увы, эти слова Ветхого Завета остаются справедливыми. Иные епископы могут быть недостойны Церкви, могут заниматься симонией и непотизмом. Чаще всего к ним не применяют никаких канонических мер из всеобщей трусости или в силу круговой поруки. Эти клирики перестали быть носителями жизни, они не передают больше никакого послания и угашают в душах Дух Божий. Тогда Бог создает харизму, если смею так сказать, замещения. Верующие живут непосредственно Словом Божиим и литургией, которая, хотя служится без души, остается все тем же источником благодати; живут светом, получаемым друг от друга. С помощью или без помощи орудия, посредника, Бог входит в общину, превращая ее в Свое Тело.
В таком положении самый опасный подводный камень–развитие антииерархизма, за которым, в действительности, кроется мирской клерикализм, когда влиятельные или слишком деятельные миряне пытаются занять место епископов и священников, не будучи ни пророками, ни чудотворцами. А ведь дело церковного мира — не прямое служение, но целостная жизнь народа Божия, и миряне должны работать над обновлением Церкви в целом и, в частности, участвовать в реформе священства, чтобы освободить тело целиком.
Христианин с трагическим чувством принимает Кровь Христову, текущую из Церкви Христианской, которая вся–громадная рана. С этой точки зрения, пасхальная радость–лишь передышка, когда на мгновение смолкает нескончаемое стенание. Несмотря на воскресение, этот мир — юдоль слез. Церковь, в своем пути к Бесконечному, вкушает смертную горечь, хоть и текут из ее ребра потоки воды живой.
«Достоинство христианства и недостоинство христиан». Это бердяевское различение лишь в том случае разрешило бы затруднения, если рассматривать христианство как некую мудрость, от которой люди черпают, как могут. А ведь Иисусово послание значительно больше, чем мудрость. Оно провозглашено и пережито органически как любовь, и община именно под знаком любви опознается как связанная с Учителем. Камень соблазна и преткновения — жизнь в истории, которую с такой печальной точностью иллюстрирует притча о пшенице и плевелах. Враг посеял плевелы в поле пшеницы, и хозяин запретил рабам вырывать их, чтобы не вырвать вместе с ними и хлебных колосьев. Порядок вещей таков, что в Церкви существуют рядом и добрые, и дурные элементы и что линия разграничения проходит, в действительности, через каждую душу, пока не придет Господь со славою судити живых и мертвых. Может быть, единственная тайна душевного мира — терпение святых, ибо в нем есть здравомыслие и катарсис, отказ от суда и доверие к предначертанию Божию.
Самый безумный парадокс, порожденный этим положением, состоит в том, что обновление Церкви берут на себя те самые люди, которые, очень близко зная упадок нашей церковной жизни, тем не менее продолжают бороться за эпифанию Господню. В своем юношеском энтузиазме они мнят, что могут, с Божией помощью, создать новую историческую ситуацию. Заблуждение их в том, что они думают, будто историческая ситуация способна выработать нормальное состояние здоровья. А ведь Церковь определяется в богослужебных книгах как «врачебница». Она становится общиной святых лишь потому, что всегда остается общиной падших.
Церковь — не отделившееся общество. Не выходя из мира, она покорствует или не покорствует Тому, Кто молит об избавлении ее от лукавого. Именно потому, что Он ее любит, Господь вызывает и в ней любовь. В какой мере отвечает она на Его любовь? Будучи предметом благоволения Божия, она поставлена перед лицом Христа как Супруга, которая, возрастая, не старится, а становится моложе. Спасенная искупительным деянием, она обретает это спасение и совершает его в страхе и трепете, колеблясь и пребывая верной; в той мере, в какой уязвимость ее членов остается доступной для благодати. Кто говорит «бракосочетание», говорит и «влечение», но также говорит «обет» и «надежда». В надежде единство уже более или менее осуществлено. Лицо возлюбленной преображается в икону Господню через созерцание Его Лица. Церковь вся целиком есть дар преображения. Так же как Сын есть «космос Церкви», сама Церковь, благодаря этому безвозмездному дару, есть сердце человечества или, по слову Оригена, «космос космоса». В этом смысле, как Церковь, в своем движении к всеобщности и всевосстановлению, сама становится Христом, так и человечество, очищаясь, становится Церковью в тайне Божией. Если так понимать Церковь, то спасение только в ней.
То, что мы признаем Церковь местом, где в тайне Святого Духа присутствует Христос, не мешает нам отыскивать всякий след Бога в религиозных традициях различных народов. Христианское прочтение философии религий — в частности, монотеистических, — философии искусства, социальной борьбы — представляется плодом нашей жизни во Христе. Таким образом, универсальность Христа можно понять и очертить, исходя из Его своеобразия. Речь идет о том, чтобы уловлять лучи, изливающиеся из Слова, ибо очевидно, что принятое Им воплощение не исчерпывает всего Его присутствия. Божественный свет тут и там проступает сквозь всякий шлак. Мы отнюдь не приемлем этого шлака, но евангельская истина безумна, и ей нужно лишь лучшее вместилище. Человеческая мысль вся вмещается в Иисусово слово. Как, например, мы можем оставаться глухими к его отголоскам в мистической поэзии ислама? Если Бог не живет в рукотворных храмах, то Он Сам выковывает Свою золотую жилу и прячет ее в духовном наследии человечества. Где мы охвачены божественным Духом, там повторим за св. Иринеем: «Где Дух, там и Церковь»[4]..
А тайна личности остается неприкосновенной. «Случается так, — говорит Ориген, — что изгнанное наружу оказывается внутри, а внутреннее — снаружи»[5]..
Утверждая нашу церковность, мы не прекращаем верить, что милосердие — это все, и что истинное единство человечества уже принадлежит Христу и открыто Им для смиренных, для тех, кто смог освободиться от всякой конфессиональной гордыни, от всякого чувства этнического, расового или культурного превосходства.
Рассеянное в мире, в людях разных цветов кожи и разных традиций, присутствие Христа делает еще дороже для нас ту Церковь, которая в Духе ведет нас ко всякой истине.
Именно оттого, что мы всецело принадлежим Христу, нас так радует всякий опыт, ощупью приводящий к Нему. Кого нашел Христос, тот сам непрестанно ищет Учителя в странствиях бытия. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его» (Песн. 3, 2).
Христианство характеризируется своим единством, своей единственностью, а не возможным и случайным синтезом с какой–либо иной — философской, религиозной, политической — системой. Оно — не концепция, которую можно смешать, сблизить или сравнить с другой, даже религиозной. И все же мы принимаем свет Христов, где бы он ни явился.
Даже когда мы, в силу необходимости, ведем политическую борьбу, другие знают, что мы Христовы, что последним критерием той жизни, правды, свободы, которые мы стремимся установить на земле, остается Христос. Общество представляется действительностью, которая поддается техническому анализу. Анализ же — орудие общественных наук, предполагающих объективную методологию. Вера находится не на этом уровне. Но какие бы социальные утопии нас ни вдохновляли, в ожидании смерти и в чаянии жизни будущего века, цель справедливости для нас — любовь. Речь идет о том, чтобы изгнать догматизм и всякое общественно–политическое начетничество, способное сузить сознание и ограничить нашу внутреннюю свободу, но при этом нам следует продолжить бороться за новые структуры. А для этого требуется честность и серьезность, которые могут заставить занять радикальные позиции.
Мы на рубеже двух противоборствующих миров, совершенно чуждых друг другу по методам и по языку. С этой точки зрения очевидно, что двойственность составляет самую структуру нашей земной жизни, озаряемой верой. Очевидно также, что мы должны использовать оба эти способа мышления, не смешивая их, но и не отсекая один от другого.
Одними благочестивыми пожеланиями общества не построишь. В самое конкретное дело нужно внести свежесть и новизну Евангелия. Как, однако, совместить неизменность Бога и необходимость исторических перемен? Как именно действовать, не отчуждаясь от конкретного общества и данной политической обстановки? Аполитичное поведение представляется мне отрывом от жизни и попустительством, которые происходят от бесчувствия. Напротив, если личность, и даже христианская община, сможет одновременно служить людям в области общественно–политической и продолжать жить эсхатологией, Евхаристией, Пасхой, — это, по–моему, будет чудо. Чудо, на которое мы надеемся.
Трудность этой задачи заключается в том факте, что социальная мысль известной глубины и реалистичности развивалась, как правило, в кругах нецерковных, агностических, а то и атеистических. Поэтому христиане часто пытались огульно отбросить социальную, особенно марксистскую, мысль, да и та не слишком стремилась к диалогу с христианами. В Восточной Европе Церковь, как и государство, отказывается от такого диалога, предпочитая сотрудничество в плане национальном и, таким образом, de facto освящая монолитность как секулярного, так и религиозного общества. В России после 1905 года обращение в Православие плеяды марксистов, прошедших путь немецкого идеализма, привело к возникновению религиозной, как они ее назвали, философии, оторванной от непосредственной деятельности, хотя и общественно вдохновленной. Ревнивая мысль Бердяева о свободе по отношению к традиции, эротическая и прокатолическая мысль Соловьева, космическая и гностическая мысль Федорова нуждалась во времени, чтобы приготовить путь общественному действию. Но она может стать источником вдохновения при бблыпей свободе общественной практики.
Впрочем, тесная связь Православной Церкви с государством оставляет место лишь для благотворительной деятельности. Наблюдается значительное богословское пробуждение, связанное с общественным консерватизмом, с благочестивым милитаризмом, с каким–то культурным мессианизмом, в котором народ, история, культурное наследие составляют освященное целое. Тут и там в православии наблюдаются признаки утонченного неоязычества, тем более вредного, что оно связано с религиозным символизмом.
Другое, тоже совершенно секулярное, искушение подстерегает Церковь на Ближнем Востоке: это конфессиональная система политического устройства, при которой государство рассматривает религии как политические сущности, пользующиеся определенными льготами. Эта система порождает в умах верующих и в поведении клириков политико–религиозную двойственность. Церковь чувствует себя призванной служить не всем людям, как раньше, а только своим членам. В этой государственной структуре сияние Церкви потускнело, и она больше не смотрит на себя как на носительницу вселенского послания. Она берет на себя функцию совершения таинств, но таинства теряют свое космическое измерение, значение собирания «рассеянных детей Божиих».
Разница в социальном положении отражается на богословских концепциях разных Церквей. Остается выработать социальное богословие, исходя из общей воли православных вместе послужить отверженным земли. Ибо парадокс современной Церкви все–таки в том, что у нее нет глубокого единства, несмотря на единые догматы и все более и более общее неопатристическое богословие. Несмотря на это обновление, Православные Церкви еще не выработали реалистического социального мышления. Они слишком дорого платят за свое спокойствие. Они, более или менее полностью, присоединяются к идеологии своих правительств и безмятежно любуются успехами своих стран.
Я недостаточно осведомлен о богословии в Латинской Америке, чтобы сказать, может ли она принести нам что–то значительное. Но весьма ценно, что христиане там вовлечены в общественную борьбу.
Я все более и более убеждаюсь, что синтез между Евангелием и какой бы то ни было идеологией немыслим. Евангелие так мало концептуально и систематично, так открыто и исполнено оттенков, что оно не поддается отождествлению с политической системой. Нельзя безнаказанно прибегать к Евангелию для обоснования заранее избранной социальной доктрины. Когда слушаешь проповеди про богатых и бедных, кажется, будто проповедник строит богословие на своих страхах и компромиссах. В этой области можно быть либо пошляком, либо пророком, среднего не бывает. Но, во всяком случае, есть в великом предании Отцов IV — V веков золотые слова о справедливости и до утопичности революционные понятия о собственности. Почему общественное учение Иоанна Златоуста, Василия Великого и стольких других не подхвачено, не переработано в свете нашего современного опыта и углубленных, так быстро, из года в год возрастающих знаний по политической экономии? Нужно освободить все народы от гнета, какова бы ни была порабощающая их идеология. Конечно, каждый из нас больше всего чувствует беду своей страны и своих соседей, и это нормально, но не думаю, что есть какая–то иерархия беды.
Все это не получится без облегчения церковного аппарата, реформы литургических текстов, переработки программ богословских факультетов и семинарий, чтобы будущий священник близко знал не только наши ограниченные горизонты, но и наши источники. И вообще есть стиль поведения и речи, может быть, опасный, но необходимый, который сопровождает всякое дуновение пророчества.
Нужно ли зазывать современного человека в холодную и пустынную атмосферу наших общин? Этот человек порою кажется живее, чем средний христианин: в нем больше поэзии, больше влечения к свободе и справедливости. У христианина благороднейшие дела увядают от отсутствия к ним интереса, из–за чрезмерной мудрости, которая все обесцвечивает.
Остается ли Церковь, при настоящем положении, местом спасения? У Оригена или у Афанасия можно найти неслыханное утверждение, что христианская община не потому обозначает спасенное человечество, что в некий день будет причастна пришедшему в Иерусалим спасению, а потому, что состоит из спасенных людей. Таково для этих Отцов доказательство истинности нашей веры: группа мужчин и женщин, настолько уже воскресших, что воскресение для них — не только утверждение Писания, но факт, который читается в поведении общины.
Да, возможность обращения нехристианина к Иисусу Христу вселяет в меня порой страх и трепет. Я боюсь, что, посещая нас, новообращенный станет хуже, чем был, может быть, даже сыном геенны. Ибо если наше Писание говорит ему о Церкви как об общине любви, то в действительности это далеко не очевидно. Встретит он у нас и несогласие, и зависть, и, может быть, впервые столкнется с ними в такой грубой форме. Во всяком случае, он будет обречен на ужасное одиночество, которое испытывали праведники, убиваемые рядом с жертвенником. Я спрашиваю себя иногда, не стала ли жизнь в Церкви напрасной тратой энергии, а слова, произносимые в ней, — гласом вопиющего в пустыне, ведь в пустыне не бывает эха.
Можно самым систематическим образом доказать, что наша Церковь во всем подобна Церкви неделимой, что совершенная гармония царит в ее догматике, в ее богослужении, каноническом праве, монашестве, во всей той привлекательной связности, которая есть в ней и поддерживает нас. И все же, даже в самых развитых богословских кругах ее есть некое увядание, и аргумент Афанасия против ариан не мог бы появиться в нынешней Церкви. В Коране есть выражение, обозначающее иудеев и христиан вместе: «люди Писания», то есть люди, верующие в священные книги. Боюсь, как бы сегодняшние люди не стали смотреть на нас как на книжников, вычитывающих мифы из Писаний, а не как на людей, объединенных личностью Христа, подобно антиохийским общинникам, впервые получившим имя «христиане».
Куда вести обращенных? Что предложить тем, кто, будучи рожден в Церкви, внезапно чувствует, что охвачен божественным огнем? Накануне праздника Воздвижения Креста, 13 сентября, у нас жгут всякую сухую траву и колючки. Гору опоясывает полоса огня, подобная той, что некогда протянулась от Иерусалима до Константинополя. Так сиро–палестинское население оповещало империю об обретении св. Еленой Креста. Церковь может в любое мгновение вновь возгореться, глас вопиющего в пустыне может обрести отзвук, если в Церкви Христовой вновь исполнится слово пророка: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего, укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш» (Ис. 35,1–4).
Это чудо, как любое чудо, непредсказуемо. Какое представление было у апостолов о Пятидесятнице, пока она не пришла? Мы исходим из убеждения, что опустелый храм может наполниться славой. Оставленное нами Тело Христово все так же живо. Именно Оно делает нас новой тварью. Духовный и психологический надлом, инфляция ценностей Церкви будут неизбежны. И все же это не должно привести нас к искушению элитарной «Церковью для чистых».
«Остаток Израиля», по выражению Писания, возвращает Церковь к ее призванию. Но последние праведники будут жить в смирении и вере. Ибо несомненно одно: если их праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мир не будет преображен. Алкание и жажда правды обратят их в вечных нищих милосердия. Всегда памятуя о праве Божием на них и на весь мир, они станут обоюдоострым мечом, одна сторона которого рассечет мир, а другая нанесет их сердцу неисцелимую рану любви.
Дух их будет яростен яростью Божией, ибо прежде чем растить и строить, любовь пблет и разрушает. Но душа с бесконечным терпением перевяжет все раны, нанесенные вдохновляющим Словом.
В тело Церкви перейдет, обратившись, этот «остаток», во свидетельство тишины и прощения. Тогда мы будем присутствовать при настоящем воскрешении отцов детьми, соединении живых со Христом. У святого жертвенника общение между этими людьми уже установилось, их сердца–храмы Божий, где уже происходит вселенское примирение. Участие в Евхаристии означает не только то, что они ждут далекого Царства, но и то, что вне литургического торжества имущие должны отказаться от имущества, чтобы уступить правде Божией и позволить рабам называться господами.
Коль скоро явится в Церкви это облако свидетелей, у меня не будет больше искушения изоляции. Тогда я обрету покой в Церкви — не в понятии о Церкви, а в конкретной общине. Однажды я ощутил, что эта община — истинная, когда в ответ на мое «Мир всем» присутствовавшие друзья ответили мне: «И духови твоему!». Я ощутил, что этот привет вернулся ко мне. Моя личность не была скрыта за моей должностью. Мои друзья не были безымянными существами. Быть вместе во Христе, чтобы любить и быть любимым, это и значит составлять живую и реальную Церковь Иисуса Христа!
Живет эта община под властью Бога. Она свободна от излишнего авторитаризма священника, фанатичного богослова или властолюбивого мирянина. «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?.. Паси овец Моих» (Ин. 21, 16). Пастырство доверено любви. Авторитет пастыря — только в его смерти. Любящая и неизбежно мучимая Церковь смертельно ранит гордыню истории и созидает для нее будущее в Царстве.
Церковь — закваска, но не тесто мира. Ибо мир развивается с известной самостоятельностью знания и организации, и нам не открыта грань, разделяющая историю и промысел Божий. Наука, техника, политика находятся в управлении людей. И может быть, история представляет собой не восходящую линию, а ряд кризисов, серию катастроф. Может быть, у нее даже нет собственного значения. Ключи ее толкования в руках у Бога, и порою Он являет в ней знаки Своей благодати. Но мы созданы в ней. Поэтому мы погружаемся в нее, чтобы вернуться к жизни, чтобы восстановиться в нашем человечестве через возобновленную аскезу бдения и радости.
Тайна этой радости — в Иисусовом напоминании: «Раб не больше господина своего» (Ин. 13, 16). Наше откровение миру, а значит, и наша деятельность, не будут иными, чем у Господа. Весьма показательна с этой точки зрения встреча Бога с пророком Илией — уже после того, как Господь явил силу Свою Израилю и привел Илию на гору Хорив: «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь-, что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра; и там Господь» (3 Царств 19,9–13). Бог являет Свою силу иначе, чем прежде. Последнее Его откровение в веянии тихого ветра–это кротость. В исторической действительности сила Божия явила себя в распятом Христе. Возненавидев мощь, апостол говорит: «Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Здесь глубокий парадокс: Бог, отвергая путь чуда и мудрости, действует в хрупкости Христовой. Бог возникает из Своего уничижения. Христос, «воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6; 9,11). Эта тайна жизни, в которой люди реально участвуют, открывает Бога нашей вере, являя, таким образом, непрерывное присутствие Бога.
Перед уязвимостью Христовой, перед Его покорностью всемогущему Отцу мы можем лишь повторить то, что сказал Петр после слов Господних о хлебе жизни: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6,68). Это совместное шествие, совершаемое в нищете по трудным тропам жизни, путь к Тому, Кто пришел, есть и будет. Наше собрание — знак того общения, которое мы углубим, прощая друг друга, пребывая в простоте, бдении и молитве, не засыпая в мирской ночи. Тогда заблистают на наших лицах божественность и сила Господни вечной правдой и красотой.
Церковь колеблющаяся
Первоначально слово «Церковь» означало общину, собранную вместе для служения Божественной литургии. Это же слово означает Тело Христово. Выражение «народ Божий» пришло к нам из Ветхого Завета; оно означало тот народ, к которому обращался Бог через Моисея, перед которым Он шел, ведя его в землю обетованную. Евангелие прилагает это выражение к ученикам Христовым на их пути в Царство. В том и другом Завете этот народ — не такое человеческое объединение, которое могут охарактеризовать общественные науки. Народ Божий — это тот народ, который творит Своим словом Сам Бог. Новый Завет указывает, что выражение «народ Божий» относится к тем, кто собирается в первый день недели, то есть в воскресенье, чтобы питаться Словом Божиим и Евхаристией. Новый Завет употребляет также выражение «народ святой».
Эти выражения, однако, применяются нечасто. Слово «Церковь» заменяет их все вообще. Оно означает тех, кто составляет Тело Христово в одном городе, будь то Коринф, Иерусалим или любое другое место. Новый Завет редко говорит о Церкви, охватывающей всю вселенную. Нигде в Новом Завете также не говорится, что все собирающиеся в одном месте составляют часть мирового единства. Стало быть, это понимание Церкви, осуществляющей себя в Евхаристии, не дает никакой возможности социологического прочтения, и всякое описание Церкви как социального сообщества верующих — ошибочно. Таким образом, принятое в Ливане обыкновение именовать словом «конфессия» (taifa) различные религиозные группировки, как христианские, так и мусульманские, не имеет никакого богословского основания.
Это не значит, конечно, что Церковь может существовать без людей, которые ее составляют; она просто не сводится к их сумме. Она — Христос в них. Христос значит больше, чем община со всеми ее учреждениями, политикой, защитными рефлексами. Вот почему Церковь достигает своей полноты лишь тогда, когда приходит «в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4,13).
Это подводит нас к другому значению слова «Церковь», а именно: Тело Христово. Это Тело начинается с Главы — с Христа, селящего одесную Отца. Апостол языков передал нам образ «дома Божия», имеющего «Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2, 20–22).
Этот образ имеет в виду древние здания, в которых камни соединял не цемент, а замбк свода. Камни складывались в единое здание, потому что замбк свода поддерживал их. В нем и благодаря ему камни становились домом Божиим.
Послание к Колоссянам утверждает, что все соединено во Христе, а «Он есть Глава Тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благо–угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (Кол. 1, 18–19). Мы движемся по путям Божиим в надежде прийти, наконец, ко Христу, Главе Тела. Мы — Его Тело, которое слагается.
Апостол Павел говорит, что Христос — «глава Церкви, и Он же Спаситель Тела» (Еф. 5,23). Однако Тело это еще не спасено, как и Церковь еще не стала «славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего–либо подобного» (Еф. 5, 27). Только став таковой, станет она «супругой». Сейчас она лишь невеста, совершенная своей Главой, но в своей земной жизни всегда опозоренная. У нее множество пятен и морщин. Это из–за того пути, по которому она идет, из–за тех людей, кто ее составляет. Церковь осуществится в полноте лишь в последний день, когда ничто не сможет разлучить ее с Супругом.
Это очень тонкая диалектика, ибо в странствующей общине уже есть жители Царства, а последние — эсхатологические, как мы говорим по–гречески, — времена присутствуют, с одной стороны, в тех мгновениях, когда мы во власти Божественной любви, а с другой стороны — в той близости, которую Причастие святых Тайн создает между каждой душой и Господом. Но все это останется несовершенным и легковесным, пока вечный свет не совлечет с нас все здешнее в последний день.
Стало быть, в человеческой истории Церковь несовершенна. Она немощна, ибо брошена во время, хотя и озарена благословенным присутствием Господа. И как Господь стал причастен немощной человеческой природе, кроме греха, так причастна ей через своих членов и Церковь. Она пока еще не участвует в славе Господней. Мы живем в надежде этой славы.
Однако, как невозможно отделить Церковь, Тело Христово, от тел ее членов, так не можем мы и сказать, что она доступна греху. Если бы мы утверждали это, то пришли бы к разделению в ней Божеского и человеческого. В это заблуждение впал Лютер, когда проводил различение между Церковью видимой и невидимой. На основании такого различения наши братья–протестанты говорят о Церкви–грешнице. Напротив, согласно православному убеждению, видимое и невидимое в Церкви нераздельно, а значит, нам непозволительно говорить о грешной Церкви на земле и о святой Церкви на небесах. В человеческом времени Церковь колеблется, но не падает.
Церковь похожа на тех стариков, которые очень осторожны при ходьбе. Они боятся упасть и поломать кости. Они покачиваются, чтобы не потерять равновесия. В конце концов, поддерживает их Божественное Провидение. Церковь на земле проявляет симптомы старости. Но она способна еще подняться и помолодеть. В этом ей помогает пророческий порыв. Пророки сознают, что Слово Божие неизменно и что оно способно сделать нас Его детьми по духу и дать нам силы восстать против велений времени и тех ловушек смерти, которые оно приготовило нам. Пророки — люди, которые могут сказать «нет» себе самим, общине, любой форме косности. Они не склоняются перед трудностью, перед решением, принятым согласно мудрости мира сего, а не по внушению Бога. Церковным людям случается терять надежду, оставлять свою первую любовь, а сделав это, они начинают управлять Церковью по рассуждению человеческому, а не по уму Христову.
Такой зачастую представляется нам наша Церковь. Иногда, приспосабливаясь к истории вплоть до соглашательства, она способствует своему падению, даже сама становится его причиной там, где должна брать верх. Она становится предметом соблазна. Это драматично, ибо церковные люди, зависимые от поведения влиятельных членов Церкви, начинают противостоять Христу или удаляются от Него. На течение истории воздействуют не только святые, но и те, кто руководит Церковью и кто способен как на доброе, так и на дурное. Сердце человеческое — это поле, где с пшеницей соседствуют плевелы, и они будут расти рядом до конца.
Грех обычного человека бесчестит его самого и узкий круг его близких. Но когда речь идет о епископе или синоде, мы, зная, что грех может жить в сердцах тех, кто правит Церковью, не можем спорить с тем, что его последствия наиболее опустошительны, ибо этот грех создает соблазн, подрывает доверие «малых сих верующих» к Церкви и потрясает само ее существование, побуждая людей искать приюта вне Церкви. Мы ждем от пастыря, что он приведет нас к пастбищам и водам жизни. Когда он этого не делает, может наступить духовная засуха и отчаяние.
И величие, и немощь Церкви состоят в том, что за нее всегда в ответе люди. Если эти люди дремлют, мы не рискнем признать христианство животворным. Конечно, пути Божий не то, что наши. Он может предпочесть обращаться к нам через нашего отца, мать или друга. Но мы не можем обойтись без того главного дела, которое совершают епископы и священники. Поэтому так важно выбрать хороших клириков. В первоначальной Церкви примиренчества не было. Это не значит, что там не изобиловал грех. Но Церковь умела выявить в своем лоне оскорбителя и наказать его. Она не колебалась прервать общение с великими грешниками, а к другим применяла меры наказания. Она действовала так, потому что была убеждена, что ей нужно хранить чистоту и бодрствовать, как на строительстве, где никто не должен засыпать.
Видеть слабость и страдать от этого; сознавать, что наступает упадок, и оплакивать это — вот наша повседневная судьба. Тем более обливается кровью сердце, когда мы видим, что желающие настоящей перемены составляют лишь «малый остаток». Но не в этом еще самое худшее. Величайшая скорбь в том, что падающие сами не отдают себе в этом отчета. Если глубоко вдуматься, что такое грех, как не бесчувствие?
Кто старается стереть всякое пятно, те добиваются, чтобы Церковь выглядела Телом Христовым. Но чтобы она была им в своем внутреннем существе, в глубине — это не по их части. Это дар Божий. Но чтобы ей действительно, здесь и теперь стать Телом Христовым, предстать радостной супругой сегодня, а не завтра — за это в ответе те, кого Бог избрал, чтобы его Церковь не была местом сетований. Каждый из них осознает себя грешником, но грех ранит их еще больше, когда он поражает общину. Важно, чтобы Христу не было стыдно за нас.
Жизнеспособно ли христианство?
Жизнеспособно ли христианство? Я думаю, задать этот болезненный вопрос может только христианин. Он, действительно, не просто не удовлетворен историей христианства и чуток ко греху, но глубоко ранен и обеспокоен недугами Церкви. Он задает себе этот вопрос, потому что знает, что если ему можно мыслить о престоле Божием, то его ничто не ограничивает. Натянутый, как струна, между небом и землей, он сознает, что в этом все значение его жизни. Более того, зная, что в Писании сказано: «Удаляйте лицемеров из среды вашей», — он предпочитает не рассматривать ни один период истории Церкви как золотой век и не увлекаться безоговорочно кем–либо из святых. Все то, что он узнал о древних и о современниках, сделало его человеком надежды; напротив, тот, кто знает о них меньше, придумывает себе золотые века, чтобы укрыться в них от горечи настоящего. А ведь все времена одинаково плохи, в том числе и те три года, когда Учитель наставлял Своих учеников, один из которых предал, другой отрекся, и почти все задавали ему нелепые вопросы, о которых рассказывают Евангелия.
Я не собираюсь составлять здесь список грехов, которые мы совершили в прошлом и продолжаем непрестанно совершать. Но очевидно, что нам понадобится великая вера, для того чтобы назвать Церковь — собранием святых, Телом Христовым–сообщество христиан какой бы то ни было эпохи и страны. Я из тех, кто знает, сколько темных дел, несправедливостей, насилия, предательства изъязвило Церковь со времен Христа. Знаю и то, сколько вздора, гордыни, тщеславного соперничества есть сегодня в Церквах всего мира. У атеистов на руках козыри, они правдиво описывают уродства Церкви, чем зачастую им удавалось отдалить людей от Бога. Впоследствии носители различных идеологий постарались представить учение Церкви как утопию, призывая людей отвернуться о нее и присоединиться к другим утопиям, которые им поспешно внушали. Ныне эти утопии в большинстве устарели сами, к вящему замешательству их сторонников.
Наконец, в сердцах многих людей, оставшихся христианами, поселилось сомнение. Они считают, что христианству недостает реализма, так как дали себя убедить, что религия должна соответствовать мерке обычного человека, объявленного не способным преодолеть свои страсти и полностью освободиться от греховных влечений. С этой точки зрения любая «здравомыслящая» религия должна предоставить человеку свободу хоть немного уступать своим страстям и побуждениям. Такая религия была бы социологически приемлемой и необременительной; она позволила бы людям делать ровно столько, чтобы ей самой быть выше их.
Евангельские тексты не наивны. Они, как никакая иная книга, знают слабость человека, его лицемерие и испорченность. Христовы обличения фарисеев — и в их лице всех, кто в любую эпоху берет с них пример, — по своей суровости не имеют равных в каком–либо ином религиозном контексте. Столь же исключительно жесток упрек Христа Петру: «Отойди от Меня, сатана» (Мф. 16,23). Наименьшее, что можно сказать, это что Тот, Кем живы Евангелия, не говорит любезностей и свободен от всякого пристрастия: «Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15, 14).
После Вознесения Господня единственной основой отношений между апостолами, между верующими становится верность: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во–первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во–первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2,9–11).
Напомнив нам, что все мы были в рабстве у греха, апостол вновь подтверждает сказанное в Библии: «Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3,10–12). Этого утверждения никогда не смягчал ни один духовный Отец, описывая состояние, в котором живут христиане. Говоря о рабстве греху, все они противопоставляют ему ту праведность, «которая через веру во Христа, […] от Бога по вере» (Фил. 3,9). Из этого следует, что христиане призваны стать новой тварью, которая, зная благость Христову, не только надеется на спасение в конце времен, но отныне сама опытно переживает воскресение в воскресении Христовом. Ее спасение уже осуществлено в самих словах Христа: «Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во век» (Ин. 6, 51). Все это–лишь дополнительное объяснение того, что Учитель выразил иначе: «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17,21).
Первоначальная Церковь полагала, что всегда будет жить, как живет, и что вскорости вновь придет Христос. Если кто–то и стал предателем, то сотни христиан приняли смерть от меча. Согласно протоколам их казней, героизм христиан превосходил всякое ожидание. Они не боялись смерти, а скорее радовались ее приходу, как будто находились в присутствии Христа, победителя самой смерти. Они не чувствовали пропасти между своим телом и небом, они буквально переживали Евангелие и, принимая крещение взрослыми, обещали себе никогда больше не грешить.
Затем пришел Константин и с ним конец гонениям. Вслед за царями люди толпами принимали христианство. Появились и компромиссы, и многих это устроило, но «малый остаток» по–прежнему жил строго по Евангелию. Они не превозносились своими добродетелями, но свидетельствовали о любви, так что сам император Юлиан Отступник вынужден был признать: «Странно видеть, что христиане кормят не только своих бедняков, но и всех бедняков Рима».
Когда компромиссы проникли в жизнь христианских общин, явилось монашество — утверждение евангельского максимализма и совершенства. Хотя была в нем сентиментальность, были излишества, но мистическая литература, порожденная им, отражает огромный опыт борьбы со страстями. В ней проанализированы все человеческие страсти, их вспышки, признаки, хитрости и лабиринты. В них заложены духовные основы христианской жизни, разработана аскетическая техника преодоления страстей и восхождения человека к совершенству, а это и есть воплощенное в истории Царство Божие. Читая тысячи страниц монашеской литературы, мы понимаем, что эти монахи достигли невообразимого уровня святости, что это были истинные гиганты духовной жизни. Они обуздали телесные похоти и нужды, и Дух Святой сотворил обитель в глубине их сердец. Чем более обращаешься к ним, тем более осознаешь, что эти люди доросли до престола Божия.
Это не значит, конечно, что евангельскими общинами были только монастырские братии. Из века в век в разных местах возникали движения за духовное обновление, которые проповедовали глубокое благочестие и праведную жизнь. Среди этих движений мне хотелось бы отметить иезуитскую миссию XVI века в Перу. Образ жизни этой общины с обобществленным имуществом удивительно напоминает первоначальную Иерусалимскую Церковь. Однако позднейший наш опыт позволяет назвать лишь малое число общин, в лоне которых явился преображенный Иисус Христос, так, словно каждый член их был Самим Христом. Что до новозаветного «у них все было общее» (Деян. 4, 32), то это давно уже не было так очевидно, как в африканской общине II века, о которой римляне могли сказать: «Смотрите, как они любят друг друга». С течением времени привычным стало христианство, состоящее из внешних обрядов и ограничивающих свободу правил. Не столько Христос стал, по выражению Иеремии, «дыханьем наших уст», сколько мы утвердились в церковном конформизме и авторитаризме. Реформация поставила своей целью возвратить людей к животворному Слову Божию, но, в свою очередь и очень скоро, протестанты разделились на множество сект и тоже стали конформистами.
В течение этого времени христиане создали множество учреждений, достижения которых огромны и блистательны. Возникла великая культура, она составляет гордость христианских народов и кажется еще более высокой по сравнению с упадком других, более древних культур. Многие люди теперь думают, что христианство и есть эта великая литература и развитая цивилизация, а между тем это представление в высшей степени иллюзорно.
Положение отягощается тем, что вся эта эволюция обычно сопровождалась союзом Церкви — в лице ее руководителей–с великими мира сего, и в этом союзе каждый старался извлечь выгоду из другого. Можно ли более помрачить образ галилейского Учителя, Который был нищ и пришел, по его словам, благовествовать нищим.
Однако то тут, то там звучат голоса, призывающие христиан к обновлению, к добровольной бедности и воздержанной жизни. Таким образом, в одной и той же Церкви соседствуют те, кто не хочет иной славы, кроме исходящей от Бога, и властолюбцы, о которых Господь сказал: «Друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете» (Ин. 5, 44). На одном поле соседствуют пшеница и плевелы — те, кто сражается с грехом, и те, кто им упивается. Евангельская metanoia — обращение, изменение всего существа — превратилась в таинство покаяния, в котором верующий признается в содеянных им грехах, не всегда стремясь стать новым человеком.
Боюсь, что Царство осуществится здесь лишь в уповании малого числа людей, что нам не дано будет его увидеть в пределах настоящего времени. В моем обозрении эволюции христианства я, однако, не могу не отметить, что оно по–прежнему знает движения к обновлению и порывы молодых, которые, в своем упорном поиске очищения и столь же упорном отказе поддаться искушениям, хотят напомнить о том, что пришествие Царства на этой земле всегда возможно. В самом лоне Церкви противостоят друг другу те, кто соглашается с упадком, и те, кто хочет выйти из него. Это не значит, что желающие обновления безгрешны, они просто не хотят быть в союзе со злом и решительно отвергают всякую альтернативу Евангелию Иисуса Христа.
Итак, есть такой «христианин», которого я, с глубокой болью и скорбью, определяю как человека, похваляющегося некоторыми, а то и всеми евангельскими добродетелями. И есть «малый остаток», община, которая слышала о себе от Господа, что она — соль земли, и старается, чтобы соль не утратила силу. Этот «малый остаток» не соглашается сводить на нет Евангелие, поскольку человек слаб, но всеми средствами тщится прийти в меру полного возраста Христова.
Такое христианство жизнеспособно. Оно отказывается стать социологической религией, войти в систему общественных ценностей, уживаясь с теми слабостями человека, которые открывает нам психология. Христианство, пришедшее в меру полного возраста Христова, есть отказ от мертвечины и надежда на преображение благодатью. Восхождение возможно, и пример тому — Христос, сидящий одесную Бога.
«Малый остаток» всегда жил в этом убеждении. И всегда будут люди, которые пойдут этим путем. Они станут светом мира. Так будет, даже если большинство рассеется и подпадет искушениям, став жертвой своего неведения о глубинах, предлагаемых Христом.
Тайна Христова в том, что Он всегда может призвать людей верующих, что небо доступно в этом мире, в пределах плоти и крови, так как Христос способен преобразить и озарить плоть и кровь еще до конца времен.
Глава 4. СПОСОБЫ ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ
Церковь — «космос в космосе»
Церковь и мир. Вот уже несколько десятилетий, как эта тема обрела особую важность, ибо мы осознали, что наше поколение живет совершенно по–новому и что эта новизна ставит перед нами все более и более острые проблемы. Было бы излишним распространяться о тех радикальных изменениях, каковые претерпело общество со времени последней войны, или анализировать чувство мощи и уверенности в науке, испытываемое обычным человеком. Перед неопозитивизмом, будь он философским или грубым, отступают поэзия, любовь и трепет.
Верно, что Церковь всегда была пожираема анти–Церковью. Но в настоящее время огромная часть человечества составляет не–Церковь.
С одной стороны, речь идет не только о тех, кто считается неверующим, или о той массе теплохладных, которую тащат за собою наши «собрания», но более о тех, кто утратил смысл Бога. В их системе представлений или в рамках их конкретного бытия Божественное совершенно «вышло из игры». Они не чувствуют религиозной проблемы. Это общество принадлежит, по выражению Николая Бердяева, к новому Средневековью, где исчезает миф, магия, неведомое, где меркнет образ Бога, о Котором напоминают скорее наши слабость и невежество и существование Которого современному человеку в тягость и, во всяком случае, ни к чему. Для этой категории людей единственная реальность — мир, идущий по пути прогресса, а какая–либо иная область жизни немыслима.
С другой стороны, настолько возросла озабоченность общественными вопросами, конкретно–социальной и международной справедливостью, что всякое иное начинание кажется ненужным в глазах тех, кто смешивает правду–истину и правду–справедливость. А ведь христианский мир долгое время не только чуждался всякой серьезной перемены в этой области, но и ставил под подозрение любую более или менее радикальную социальную практику, так что страждущее человечество стало, наконец, считать Церковь равнодушной к людским горестям.
Стоя перед этим двойным вызовом, Церковь начала осознавать свою миссию, свое особое положение в мире, который недавно еще называл себя христианским. Но гуманистическое общество, как в своих убеждениях, так и в социальной борьбе, теперь видит себя нехристианским. Если же «христианскость» (chretiente) умерла, то как определить себя Церкви?
Христианское мышление чаще всего рождается из исторического кризиса. Наше мышление — не исключение. Но зачатая в муках мысль получает образ, лишь представ перед Господом славы, Который испытывает ее делом. Всякое богословие, если оно, в самом деле, есть видение Бога, становится источником действия. Попробуем, насколько позволит тайна, очертить отношения Церкви и мира, дабы уразуметь некоторые измерения христианской миссии в современном мире и уловить какие–то стороны природы Церкви.
Систематическое изучение этой темы требовало бы уточнить, как относятся друг к другу история вообще и история спасения — два измерения мира и Церкви. Особенно понадобилось бы обсудить с православной точки зрения само понятие истории спасения. Это понятие получило чрезмерное развитие в западном богословии за счет понятия тайны и разнообразия способов Божьего домостроительства, которое совершалось от Авраама до Иисуса из Назарета и все еще не исчерпало Божьего замысла. Пределы этого доклада позволяют нам лишь бегло рассмотреть богословское и этическое отношения Церкви и мира и проявление этих отношений в области культуры и общественной жизни.
Исторически поведение православных по отношению к миру вдохновлено монашеством, а с другой стороны–поиском связи с государством. Конечно, в духовном смысле всякий православный человек — монах, поскольку единственная его забота — искание Царства. Но очевидно, что это искание относилось, главным образом, к будущему, развивая у простых верующих стремление к некоему «бегству от мира». Это стремление к «миру иному» стало еще более подчеркнутым с того момента, когда Византийское государство, которое исполняло функцию внешнего служения и жило в симфонии с Церковью, взяло на себя социальную службу. Там, где государство было мусульманским, христианская община неизбежно замыкалась в себе, потому что была юридически исключена из общественной жизни. Богослужение становилось настоящим культурным убежищем, местом утверждения угнетенными своего самотождества. Оно возвещало свет Царства и отражало великолепие Европы. В нем, несомненно, черпали мужество, чтобы противостоять трудностям жизни, и в нем же искали материнского понимания и сострадания. Церковь, которая разработала самый грандиозный, привлекательный и наступательный в мире религиозный аппарат; Церковь, устремленная в запредельность, с ее аристократией молитвы и эстетикой аскезы, только теперь могла стать кораблем спасения, плывущим по бурным водам мира, образ коего преходит. Отсюда один шаг до непримиримых слов апостола Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире … ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2, 15–16). Мир соотносится здесь с библейским понятием плоти. Если все это составляет область бесовскую, область растления и смерти, то Церковь — это та область, где живущие во Христе Иисусе спасаются от мира.
Эта позиция приводит ко всяческим двусмысленностям. Сфера государственная и сфера церковная так смешались в историческом сознании православия, что христиане уже не заботились о евангельском свидетельстве перед неправдой православного государства или государства атеистического. Целью этого размышления не является обсуждение православного богословия государства. Современная экзегеза показала, что Писание в целом и даже 13–я глава Послания к Римлянам никоим образом не оправдывают приятия всякой политической власти, а тем более восхищенного легитимизма, столь традиционного у православных, будь они левыми или правыми. Горько констатировать, что историческое православие оказалось не в силах пророчески свидетельствовать перед лицом установленных структур и что оно столь комфортабельно сочетает псевдомонашеское манихейство с раболепным мелкобуржуазным консерватизмом. И даже там, где оно отделено от государства или автономно в своей внутренней организации, ему не удается избежать превращения в некое учреждение, подчиненное государству и имеющее форму объединения мирян. Мирянин уже не тот человек, наделенный харизмой, который питает Церковь в свободе, данной ему Святым Духом, а просто член в какой–то мере господствующей параллельной иерархии. Ныне царит не идея соборности или общего дела, а непрочная смычка мирян и клириков. То там, то здесь — надеюсь, ко всей Церкви мой анализ неприменим, — узаконивается существование прослойки мирян — «полуклириков», которые не способны помыслить себя иначе, а иерархия не в силах смотреть на них как на истинных соработников во Христе, потому что для нее есть только рукоположенные и секулярный мир, даже если это Церковь. Перед нами род экклезиологического монизма, который исторически разрушает отношение «Церковь–мир».
В настоящее время Церковь в меньшинстве с точки зрения не только количества, но и восприятия ее окружающим обществом. Это приводит к тому, что она сама осуждает прежнюю свою вовлеченность в общественную жизнь, выходит за рамки цивилизации и находит в этом более свободный и более простой для себя и других способ существования. То здесь, то там она обнаруживает, что находится в положении, в котором была с самого начала; что погружена в общества, с которыми больше не связана исторически. Так, например, в «третьем мире», где нарождающиеся национальные общества все более и более сменяют феодализм, в котором у Церкви было свое место, она уже не чувствует себя хорошо оснащенным судном. Однако она памятует о том, что ее Господь ходил и по водам. Она знает, что может спастись от гибели, только если выбросит балласт. Сейчас она осознает ту уязвимость, что объединяет ее с тоскующим миром. Она уже не тот организм, который все знает и все может сказать; она тоже должна услышать голос Духа, звучащий во всех проявлениях человеческого искания.
Эта открытость миру вплоть до диалога, в котором Церковь ставится под вопрос, есть не только следствие банкротства исторического христианства, но и просто выражение того, что содержится в Откровении. Ведь есть понятие о мире, нисколько не уничижающее его, не сводящее его к плотскому началу: мир как творение Божие. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3, 16). Нет никакого метафизического дуализма между Богом и миром, поскольку мир обрел свет, а тьму избрали злые. Верно, что в четвертом Евангелии понятие мира неоднозначно. Подобно Христу, Его ученики не от мира (Ин. 17, 14). Но мир становится враждебен Иисусу потому, что находится под властью зла (Ин. 17,15). Даже когда Господь утверждает, что молится не о мире (Ин. 17,9), Его молитва об учениках есть косвенная молитва о мире, поскольку спасение мира и, во всяком случае, рассеянных в мире чад Божиих, зависит от верности учеников Иисусу. Более того, Господь молится и о том, чтобы противостояние между миром и общиной Его учеников закончилось, когда мир уверует (Ин. 17, 21). Не потому ли священническая молитва Иисуса противопоставляет учеников миру, что via crucis (крестный путь) скоро введет учеников во славу Господню (Ин. 17, 22)? Кто во Иисусе, те уже в области славы; они перешли в высший порядок, который вторгся в мир с пришествием Иисуса. В Евангелии от Иоанна выражена этическая, а не онтологическая точка зрения.
Как понимать двойное утверждение Писания, что Бог возлюбил мир, а Христос возлюбил Церковь (Еф. 5,25), если не в том смысле, что Церковь — это место, где единая любовь возвещена, проповедана, познана людьми, когда они вместе приступают к трапезе общения? Нет ни двух предметов любви, ни предпочтения тем, кто в Господе Иисусе, ибо Бог равно призирает на добрых и злых, праведных и неправедных (Мф. 5, 45). Некоторым возвещена надежда на спасение, и они знают, что принадлежат к роду Божию. Церковь, несомненно, есть то место, где Бог назван и призывается как Отец Иисуса Христа, но Бог не может быть ограничен ни в Своем имени, ни в таинствах. Несомненно, где названо имя Божие, там уже небо на земле и оттуда исходит благоухание вечности, но дар Божий не измеряется временем и пространством. Божественное присутствие не привязано к Своему великому знаку — Церкви, Оно в совершенной свободе распространяется и на все нехристианское религиозное домостроительство, обходясь без опознавательного знака.
Церковь эсхатологически обращена не к миру, а к Богу. Она призвана стать Супругой и потому некоторым образом войти в тайну противоположности по отношению к Богу. И напротив, с тварным миром Церковь не находится в отношении противоположности. Церковь есть упование человечества, икона того, чем оно призвано стать. И, как икона, она сделана из того же вещества, что и человечество, и из света, исходящего свыше. Она для человечества есть упование преображения. В силу этого призвания Церковь есть, по словам Оригена, «космос космоса». Церковь — это порядок, гармония, смысл нашей вселенной, как Сын, по словам того же Оригена, есть «космос Церкви». Мир некоторым образом находится в Церкви. В ней он открывается себе самому и постигает свое окончательное значение. Когда община верующих различает знамения времени, она открывает в мире смысл, явленный не только ей, который воистину есть смысл вещей, ибо — как сказал Аристотель — в вещах нет ничего такого, чего бы раньше не было в суждении. Пророческое назначение, которое есть назначение Церкви, состоит в том, чтобы явить миру скрытого в нем Бога. Бога, задача Которого — приуготовить историю к ее завершению–Новому Иерусалиму. Место исполнения пророчества — мир, и он же — поле, где безмолвно сияет свидетельство святости.
Эта тесная связь между космической и сотериологической сторонами дела Божия может быть прослежена во всем учении Писания. Достаточно будет кратко проанализировать здесь единство Божественного действия в христологическом гимне из Послания к Колоссянам (1,15–20): Христос — «рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле […]все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он–начаток, первенец из мертвых, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все».
Не станем распространяться об экзегезе этого отрывка. Хотелось бы только указать, что у одного и того же Христа есть назначение космическое — быть «рожденным прежде всякой твари» — и назначение сотериологическое как «первенца из мертвых». Им все создано, все существует (IKop. 8, 6) и все связано. Пролог Послания к Евреям в одном взгляде показывает нам Того Христа, Который несет мир, и Того, Который явится в последние времена.
Гимн говорит, что все создано Им и для Него. Иоанн Златоуст поясняет, что «для Него» означает, что сущность всех вещей обращена к Нему как к началу, от которого она зависит. Я сказал бы больше: космос предназначен стать новым небом и новой землей, согласно Апокалипсису (21, 1). Космос перейдет от тленного бытия к нетленному и, таким образом, весь станет Церковью. Он с необходимостью обращен к концу времен. Тогда завершится примирение, и Церковь перейдет к Отцу. Космос достигнет своего назначения во Христе, когда Церковь придет «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13). Библия позволяет нам говорить об эсхатологическом восстановлении космоса, об искуплении вселенной, естественно завершающемся в спасении человека. В таком видении мир составляет часть Церкви, так же как Церковь, продолженная в своей плоти и истории, составляет часть мира. Мы видим, что происхождение и призвание Церкви и мира определены одним и тем же Господом, Мир как творение есть предмет веры. В вере Церковь и мир не чужды друг другу, они не суть две реальности, которые можно эсхатологически противопоставлять. В общем, Церковь есть вся вселенная целиком в том сотериологическом и эсхатологическом измерении, которое ввел в нее Воскресший. Святоотеческое предание определяет космос только как сотворенную реальность, населенную Божественными энергиями. Фаворский свет наполняет все, и преображенное вещество составит область Церкви в ее совершенстве, когда придет Парусия. Говоря об изменении космоса, св. Симеон Новый Богослов употребляет выражение «новое рождение» [6]: «Наши тела и творение в целом обновятся воскресением и будут причастны сиянию запредельности». Именно в надежде этого космического обновления заключается уже сейчас союз между Землей и Царством. Спасение совершится тогда, когда кроткие наследуют обновленную землю. В ожидании этого мы уже сейчас опытно переживаем предпосылки вселенского обновления, когда живет в нас Дух Святой. Св. Симеон думает, что мир будет совершенно непостижим и никоим образом «не определим для нас», потому что станет духовным. Взятый между сотворением и конечным восстановлением — в ожидании свободы детей Божиих и своего искупления, могли бы мы добавить, — он может быть религиозно постигнут нами только в своем пути к свету.
Может быть, противопоставление Церкви и мира возникло из логической ошибки: сравнивают Церковь, как она определена в символе веры, с миром в его феноменальном, т. е. видимом глазу, ужасе. Забывают, что святость Церкви должно понимать эсхатологически, как святость ее Главы, того мгновения, когда совершается Таинство, и Второго пришествия. Но Церковь как собрание грешников — по слову св. Ефрема Сирина — находится под знаком «тайны беззакония», а следовательно, она составляет часть исторической жизни и причастна нашему жалкому положению. Церковь продолжает быть народом Божиим и подпадает, таким образом, под пророческое осуждение. Святоотеческой мысли Запада и Востока Церковь не представляется непорочной, но подлежащей исцелению. Ввиду невежества и многочисленных уродств ее членов Церковь имеет все основания ежедневно твердить: «И остави нам долги наша». Церковь жива прощением Божиим.
Ныне православное сознание не приемлет некогда обычного выражения «Церковь кающаяся». Это неприятие–реакция на протестантизм. Выражение «Церковь кающаяся» представляется несовместимым с идеей соучастия в святости, неразрывного союза между Христом и Его Телом. Кажется, что это выражение превращает тайну Церкви в феноменологическое понятие. Определение Церкви как народа Божия исправляет перекос современной экзегезы, которая неумеренно настаивала на выражении «Тело Христово». Церковь настолько смешали с Христом, что стало невозможным какое–либо различение между ними. Церковь в ее историческом бытии и в ее таинствах стала полностью отождествляться с жизнью Царства. Такая терминологическая взаимозаменяемость «Господа» и «Церкви» совершенно упразднила образ союза, мистического брака между Спасителем и спасенными, ибо о браке можно говорить лишь тогда, когда есть различие. А ведь во всей библейской традиции от Осии до Песни Песней брак между Господом и Его народом — реальность, находящаяся в становлении, и основана она на верности Господней и на возвращении народа к послушанию. Точно также в Новом Завете единство между воплощенным Словом и спасаемым Им человечеством не отменяет характера, присущего тем, кто движется к спасению, но, по немощи своей, все еще принадлежит к преходящему образу мира сего. Грех мира никоим образом не может быть онтологически внешним для Церкви в ее отношении к миру.
Боюсь, что мы зачастую создаем богословие нашего собственного величия, нашего воображаемого нравственного превосходства над теми, кого считаем принадлежащими к миру сему. Еще Ориген однако предупреждал нас: «Иногда случается, что изгнанный наружу пребывает внутри, а кто внутри, тот снаружи» [7].
К тому же нет никаких доказательств, что опыт близости Божией у христиан больше, чем у других. Один только Бог знает, как отвечает человек на Его любовь. Тайна agape в душе христианина и нехристианина остается неразгаданной. В историко–социологическом плане у нас нет никакого критерия для проверки превосходства христианской среды в плане agape.
Чтобы конкретнее постичь отношения между Церковью и миром, нам нужно обратиться к литургии. Есть царское правило, провозглашенное св. Иринеем: «Наша вера согласна с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает нашу веру» [8]. Не говоря о кресте и храме, которые облекаются в космическое значение, очевидно, что все течение литургического богослужения, включающего в себя вещество, обретает весомость и ритм мира. Община познает, что закваска, вино, вода, масло, цветы, плоды, воск, уголь, ладан, огонь и свет взяты такими, какие они есть, и принесены в дар Господу. Более того, молитва имеет в виду человека с его ремеслом и семьей, возрастом, положением в обществе. Она возносится о таком человеке, каков он есть. Грех упоминается в связи со всем собранием, которое совместно поет: «Господи, помилуй». Совершающий служение признает себя грешником: «Никто–же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити или приближатися или служити Тебе, Царю славы», но Божественное действие истребляет его грех. Мир как он есть, во всей своей немощи, входит в литургию и в своей сущности утверждается ею. Грех не разрывает действительности. В литургическом действии утверждается единство тварного и нетварного.
Человек в литургии взят в его природном измерении и в его измерении историческом, в его усилии осуществить свое владычество над природой и историей. Из начала книги Бытия явствует, что образ Божий есть, прежде всего, образ владычества: первое упоминание о сотворении человека по образу и подобию Божию, так же как и второе упоминание о сотворении человеческой четы по образу Господню, сопровождаются дарованием чело веку владычества (Быт. 1,26–28).
Человек мыслится здесь как посредник между Богом и миром. Он совершает это посредничество в труде, искусстве, политической жизни. Труд обосновывается богословски как причастность Божественной мудрости, как способ воссоздания вселенной. В космической литургии он подобен проскомидии. В литургии все означает действительность, выходящую далеко за пределы храма. Благодаря искуплению нет больше различия между непосвященным и посвященным, естественным и сверхъестественным. Таинство открывает нам, что Христос присутствует, призван присутствовать по ту сторону священной ограды. Стоя на молитве вместе со всеми, мы знаем, что «тайно образуем» не только собор небожителей, но и хор всех человеческих упований, восходящих ко Господу, что и правда, и красота — действительны. Храм земного домостроительства находится между храмом космоса и храмом небесным. Он причастен обоим. С этой точки зрения Церковь — не гетто, которое отрезает нас от истории, а тайна вселенского общения. И церковное действие, взятое во всем его богатстве, символизирует, освящает, вдохновляет, завершает таинственную жизнь человечества. Благодаря евхаристической трапезе мы становимся Телом Господним, а следовательно, в потенции — телом всего человечества, потому что мы таким образом берем на себя то, что взял на Себя Христос. Мы несем это человечество в себе с бесконечным состраданием. Для общины принять Евхаристию — значит пройти через кенозис, потерять свою душу, чтобы обрести свободу и принять человечество безоговорочно во всем его многообразии, во всем его несчастье.
Познать эту тайну самоуничижения — значит увидеть Церковь такой, какой слишком часто видит ее Бог: Церковью, где обрывается общение. Это значит — в некий момент истории пробудить ставшую похожей на синагогу, обросшую ритуалами Церковь, напомнить ей о ее призвании общения. Но это может совершиться по–настоящему лишь постольку, поскольку мы стремимся, чтобы между людьми открылась любовь, превосходящая и право, и силу. Это сразу же глубоко погружает нас в этическую проблематику и, в частности, ставит перед нами проблему культуры и социальной революции.
Христианский мир постоянно находится перед этическим кризисом. Действительно, если в области разума нас искушает языческий натурализм, то в области практики искушает роднящее с иудеями законничество, внешний характер веры. Иногда кажется, что христианская этика так и не ушла от оправдания законом, против которого боролся Павел в Посланиях к Римлянам и к Галатам. Однако собственно христианская позиция не определяется отвлеченной идеей Добра и безличной системой отношений. Эта позиция–кенозис, обращение, взывание к той любви, которой любит нас Бог во Иисусе Христе. Это послушание, обновляющее нас, чтобы через нас Бог мог открыться ближнему как любящий его.
Человек существует потому, что знает, что Бог его любит; потому что он может вступить в общение, которое побудит его открыть эту любовь. Идея, правило, боязнь нечистоты только раскрывает перед нами нашу немощь. Подавляющая нас «абсолютность» мира взрывает абсурд постигающего нас события. Для человека приемлемо лишь такое видение, в котором назначение мира — наша радость. Урок, который несут нам «благодать и истина», состоит в том, что личность выше природы и истории. Мир ждет от нас, чтобы мы стали святыми. Святость — единственное, что не вмещается в образ мира, созданный им самим. А ведь духовное возрождение человечества становится возможным только тогда, когда евангельское свидетельство разрушает и правила, и все наше привычное представление о мире. Одна только святость вновь ставит нас под вопрос, колебля кажущуюся безопасность, в которой мы стремимся укрыться.
Я убежден, что несмотря на всю сложность проблем, поставленных перед нами современной жизнью, человека спасает обретение другой личности, которая безвозмездно соглашается служить ему. Человек соединяется с человеком в общении, которое делает его творцом, потому что оно само есть общение живых.
Не будем распространяться здесь об обновлении Церкви. Невозможно с достаточной силой подчеркнуть важность аскезы, постоянного пыла для овладения Царством. Если, в плане формальном, следует приспособить ту или иную каноническую дисциплину к современным условиям нашего существования, то физическую монашескую аскезу можно смягчать только с огромной осторожностью. Кроме того, прежде чем рассуждать о духовности христианского Востока, чрезвычайно благотворно укрепиться в Нагорной проповеди. Быть честным, если уж не прямо добродетельным — это условие sine qua поп (непременное), для борьбы с морализмом. Богословие приходит после. Так, апостол Петр, призвав Колоссян сначала «умертвить земные члены» (Кол. 3, 5), говорит им, какими они должны стать, «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, на необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос» (Кол. 3, 9–11). Итак, именно благодаря обновлению, пережитому каждым, сокрушается стена разделения, созидается единство Церкви, а из него вырастает единство всего человечества. Такое постоянное очищение человека вернет Церкви утраченный ею облик. Она не будет больше местом, где душно; она станет тем местом, где мы откроем, что Христос Бог есть «дыхание жизни нашей» (Иер. 4, 20).
Хотя реформа аскетики и необходима, не в ней наибольшая проблема. Она может уживаться с поверхностной духовностью. Люди ищут в христианстве не новых стилей жизни, не внешних форм. Их влечет только истина. Огромна притягательная сила креста, открывающего людям свет. Не догмат, сформулированный в ученых терминах, отталкивает их. Они были бы готовы пройти трудную науку, если бы видели, как она может преобразить их существование. Если неопатристическое православное богословие увлекает и воспламеняет энтузиазмом людей, то это оттого, что через словесное облачение, такое же сложное, как в богословских учебниках, оно вводит нас вглубь духовной реальности. Именно потому, что это богословие глубокое и строгое, требования, высказанные некоторыми молодежными движениями в современном православии, приняты всерьез. Напротив, когда оно отворачивается от общественности и культуры, когда его дух становится косным, фарисейским, тогда движение приходит в упадок.
Если присутствует здесь весть Пятидесятницы, то она разорвет ветхую скорлупу и утвердит равновесие, здравие и православие нашего богословского и библейского обновления, нашей литургической реформы и социальной практики. Как нам взывать к Отцу и жить в Церкви, сохраняя дерзновение? Как сохранить тайну, постоянно ее передавая? Как ввести мир в тайну Божию, в брачный чертог, не лишая его присущего ему динамизма? Все это, в принципе, возможно внутри мощного обновления в плане личном и всеобщем. Мир потерял чуткость к идее аскетического подвига. Духовный гигантизм показался бы ныне холодным, индивидуалистическим. Привлекает современного человека образ Христа, который живет среди людей, ест и пьет с ними, но остается «Светом Божиим», без лжи, без какого–либо порочащего Его союза; Христа, кроткого перед людьми, но покорного одному лишь Отцу, снисходительного к грешникам, но грозного к сильным и к тем, кто праведен лишь по закону. Поскольку ученик уподобляется этому образу, постольку он становится стержнем обновления, сообщая его Церкви и всему поколению современников.
Если в богословском и этическом плане установлено, что не существует двух сфер духовного бытия, то деятельность христиан равно протекает в алтаре и вне его. Св. Иоанн Златоуст говорит, что бедняк — это «храм, который больше церкви; тот жертвенник, который ты можешь видеть воздвигнутым повсюду на улицах, и во всякий час ты можешь принести на нем жертву» [9]. Присутствие любви в христианине есть присутствие Христово во всей общине.
Таким образом, мы знаем и то, что, начиная с Креста, не бывает автоматического вхождения в историю в плане спасения. Чтобы прийти ко Христу, как к альфе и омеге всего творения, нужно пройти через смерть и воскресение. Чтобы преобразиться и развиваться в свете, история становится постоянным распятием. И дети света идут на крест в своей жизни, «сокрытой со Христом в Боге». Несомненно, глубинная, идущая в счет перед Богом, жизнь человечества не обязательно параллельна историческому прогрессу. Ее нельзя заставить совпасть с «достижениями» познания, искусства, освободительного движения. И конечно, православный Восток понимает конец времен как эсхатологическую катастрофу, которая завершит историю, разрушив безмятежный оптимизм и посрамив легкомысленный прог–рессизм. Встреча тварного с нетварным превзойдет все, что мы можем от нее ожидать.
Так как красота, уготованная для нас в вечности, несказанна, у некоторых христиан возникает искушение пренебрежительного отношения к творчеству человека. По их мнению, все, что нельзя назвать однозначно и строго церковным, принадлежит веку сему, тени преходящей. Они опираются на монашескую литературу, которая утверждает, что монах должен учиться лишь Писанию да творениям Отцов. Не удивительно ли прочесть, например, такие слова, вышедшие из–под пера ученого монаха: «Келия мира — не лаборатория для ученого исследователя и не писательский кабинет, но место молитвы, труда и размышления» [10]? И этот снобизм смирения преисполняет православный мир. Конечно, нам подобает, вместе с Паскалем, утверждать превосходство милосердия над разумом, но чтобы говорить о шаткости и эфемерности красоты и рассуждающей мысли, нужно сначала хотя бы немного познакомиться с ними. Вообще, кроме случаев редких носителей харизмы, подлинная отрешенность бывает там, где есть опыт, иначе это малостоящая болтовня, в которой свободная и осознанная жертва ради Евангелия смешивается с мазохистским саморазрушением.
Обожествление страдания присуще не одному только западному Средневековью. Некоторое утеснение разума, отказ от мирских наук в древнем христианстве были одной из форм реакции на язычество. Греческая гуманитарная культура была у христиан под подозрением до того времени, когда Аполлинарий Лаодикийский переложил стихами Библию, а Василий Великий рекомендовал обучать молодых людей словесности. В своем пространном возражении Цельсу, который обвинял христиан во враждебности к умственной жизни, божественный Ориген писал: «Логос желает, чтобы мы были мудрыми» («Против Цельса», III, 45). И заключает: «Несомненно, в настоящем образовании нет зла, ибо образование — путь к добродетели» (III, 49).
Нет нужды распространяться здесь о чрезвычайном значении, которое имела греческая философия в разработке корпуса православной догматики. При всей свободе, с которой отцы относились к Платону и неоплатонизму, при том факте, что они не эллинизировали Откровения и что православие по своему содержанию осталось истинно библейским, христианского учения в том виде, в каком оно предложено нам, невозможно понять вне категорий эллинской мысли. Это значит, что нам не приходится искать культуры где–то далеко, за оградой храма. Литургия не только отражает античное представление о красоте, но и использует, говоря об ангелах, платоновскую категорию «идей». На Востоке, где не знали западного гуманизма, богослужение вплоть до прошлого века оставалось единственным источником культуры. Речь идет не об исторической случайности. Ливанский философ Рене Абаши считает, что для разума естественно создавать себе таких посредников между инстинктом и верой, эмпирикой и откровением, как наука и философия: «Это различение ослабляет узы, все еще недолжным образом связующие духовное с временным».
Что сказать о технической цивилизации? Не привел ли, в ментальном плане, ее чрезвычайный рост к некоей разновидности шизофрении? Ведь, с одной стороны, мы продолжаем потреблять все, что приносит нам индустриальное производство, а с другой — живем в романтической ностальгии о прошлом. Боюсь, как бы христианские круги, напуганные все большим и большим развитием возможностей человека, не впали в апокалиптическую болтовню, оплакивание утерянных духовных ценностей, в истерический катастрофизм отсталых народов. В таком случае они рискуют забыть о том, что в нынешних условиях существования только справедливое распределение средств производства на международном уровне, только перемещение технологий и финансов в страны Южного полушария способны освободить эти страны от экономического порабощения великими державами, от голода и утраты собственной глубинной сущности. Можно, конечно, оплакивать утрату «культуры символизма, внутреннего мира, теллуризма», но, может быть, это плата за справедливость, хлеб и достоинство. Может быть, остальное будет возмещено в посмертии? В настоящей точке нашего исторического развития гуманной можно считать лишь такую культуру, которая распространяет себя в мире: мир, созданный для всех людей, и есть критерий человеческой культуры. Пока образование не демократизировалось, музеи, искусство, умственная жизнь были достоянием буржуазии; для множества стран это остается верным и сейчас.
Во всяком случае, культура становится евхаристической лишь тогда, когда отказывается от самодостаточности и делает себя общением. Только человек спасет ее от опасности присущей ей двусмысленности, эстетизма или воли к власти, которыми она нас соблазняет. Именно в общении святых я могу понять, что человек бесконечно превосходит природу, науку, материальное производство, художественное творчество. Пусть культура будет в основе своей литературной или технической, это ничего не меняет: отдаваясь своему словесному или механическому производству, человек спасется лишь в том случае, если осознает, что любим Богом. После работы на заводе, в лаборатории, после межпланетного путешествия человек останется один на один с проблемой любви. Некое космическое опьянение, поэзия, подобная той, что примешивается к геометрии, придадут человеку такое измерение, в котором он сможет открыть Бога не только через самоотречение, но и через преизобилование собственной человечности.
Каков смысл этой эволюции для мысли и для христианской жизни внутри ограды храма? Что означает построение космического храма для храма церковного с точки зрения языка, символов, вероучительных формулировок? Если существует различие между христианским посланием и той иудео–эллинской культурой, в которую оно облачено, можно ли сказать, что Евангелие должно облачиться в другое платье, чтобы быть услышанным? Ответ на эти вопросы возможен лишь внутри процесса значительного духовного обновления, которое стало бы более мощным, чем история, источником дерзновения. Ответ будет возможен, если чуткость к нарождающейся цивилизации раскроет дары воображения и творчества. Ответ — в глубокой любви к Евангелию Иисуса Христа и к человеку, каким дает его нам Промысел, управляющий историей.
Работать в области техники без техницистической мистики, стараться разглядеть в техническом прогрессе его духовное значение — не с позиции церковного верховенства, а путем диалога со всеми духовными семействами страны, в которой живем, — так можно очертить культурный идеал наступающих времен.
Человек сегодня — это, главным образом, сообщество людей. Если ошибка коммунистов была в том, что конкретного нынешнего человека приносили в жертву абстрактному человечеству завтрашнего дня, от того не менее верно, что реальный человек и есть это огромное тело человечества, распятое на кресте нужды от края до края земли. Милостыня, там, где она еще возможна, не облегчит страданий раздираемого тела. Кроме того, в Новом Завете милостыня–скорее средство очищения, подобное молитве и посту, и совершаемое наедине с Отцом. Может быть, она обретает свое назначение как дело любви только в более справедливом обществе, ибо в настоящее время в тех обществах, где она не передается учреждению анонимно, она может уязвить бедняка как знак солидарности дающего с несправедливым обществом. Фактически, она объединяет благодетеля только с Богом, а не с тем, кто ее принимает. Милостыня — не единственная материальная форма agape. В вопросе Иисуса Филиппу, перед словами о хлебе жизни: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин. 6, 5) — звучит особая забота Господня о земном устроении. Речь о Евхаристии становится возможна только после раздаяния хлеба. И с этого времени преломление хлеба стало самым красноречивым знаком общинного характера Церкви. За денежное даяние здесь нищие примут нас в вечные обители, ибо им обещано Царство (Лк. 6, 20) и к ним послан Христос (Лк. 4, 18). В новозаветной перспективе нищие всегда будут с нами (Ин. 12,8). Это значит, что Церковь должна полностью отождествить себя с обездоленными, поскольку эти слова становятся исторической действительностью. Внешнее обретает здесь огромную важность. Стать из любви no–настоящему не иносказательно, нищим, как бы знаком Царства, в котором наше единственное богатство, — таков неоспоримый критерий евангельской подлинности. Человек принадлежит тому, чем обладает. Вот почему без добровольно принятой бедности христиане теряют чувство странничества на земле. Пропадает вкус Евангелия.
Историческая Церковь довольствовалась тем, что видела это эсхатологическое чувство необладания в монашестве, — до того дня, когда монахи начали различать обладание индивидуальное и коллективное. В общем богатстве они обрели ту обеспеченность, от которой отреклись лично, и эта обеспеченность сделала их гораздо сильнее привязанными к миру, чем миллионы голодных на планете. Следовательно, монах, как всякий человек, принадлежит к общественной институции, а конкретно — к классу имущих. Во многих странах, например, в нашей, он владеет богатствами, которые объективно включают его в класс крупных земельных собственников. В этом смысле монах — среди тех, кто поддерживает отчуждающие силы истории.
Верно, что в целом Православная Церковь не стала жертвой неумеренного обогащения. Она осталась Церковью крестьян, ремесленников, многочисленных бедных епископов и плохо оплачиваемых священников. Все христианство сделалось объектом социальной критики оттого, что Западная Церковь, напротив, стала на сторону богатых. Здесь налицо солидарность христианских Церквей как в добром, так и в дурном.
Если же соблазн не так обострился у нас, как у других, от этого не становится менее верным, что безразличие к земным благам в историческом православии должно стать очень сильным, если Церковь хочет по–настоящему участвовать в свидетельстве и тем действенно помочь людям в их страданиях. И эта действенная помощь должна быть бесконечно большей, чем простой призыв к милосердию. Такой призыв, сколь бы мощным он ни был, не приведет ни к чему без богословского и этического обоснования, которое следует вновь разработать. Здесь встает двойная проблема: есть ли у христиан как общины послание, которое нужно передать обществу? С другой стороны, обязаны ли христиане преобразовывать исторические структуры?
На первый вопрос можно ответить, что социальная практика, ответственность за историческую действительность предполагает весьма сложные социологические, экономические, политические, да и технические, познания, которых Церковь не только не имеет, но для которых требуется анализ, даже некоторая идеология, для Церкви неприемлемая. По самой своей природе Церковь не субъект таких познаний. Однако если Церковь, сообщество любви, не обладает технически адекватным пониманием действительности, то отдельный христианин или группа, часть которой составляют христиане, стремясь в настоящее время произвести историческое действие, все–таки не может обойтись без серьезного анализа действительности. Для такого анализа могут быть использованы любая система, метод, концепция, с какой бы философией они ни были связаны, точно так же как христианин–психоаналитик может воспользоваться фрейдовским методом, не разделяя при этом метафизики Фрейда.
Если верно, что Церковь, по своей сущности, чужда социальной науке, то ее свидетельство остается общинным. Ибо она продолжает исполнять пророческую функцию Христа, функцию, которая в Новом Завете не возложена на одних только изолированных носителей харизмы, но присуща народу Божию в целом. Церковь — это таинство любви, а стало быть, и того, чего эта любовь требует от людей. Пророчество, священство и царственность в ней нераздельны. Почему бы Церкви, в определенной стране и в определенное время, не обрести голоса Амоса и не сказать притеснителям праведника: «Многочисленны преступления ваши, и тяжки грехи ваши» (Ам. 5, 12)? Речь не только о том, чтобы она признала высочайшее достоинство бедных, но и о том, чтобы в христианском собрании не допускать никакой формы дискриминации. Ибо вне этого собрания — суд миру: «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2,6). Если эти слова еще не составляют программы политического действия, то они суть, по крайней мере, общинное свидетельство против наглой неправды. Всякое свидетельство, сколько–нибудь широкое по охвату, непременно есть свидетельство политическое, поскольку приносится оно в гражданском обществе и раздражает власть. Абсолютно аполитичная Церковь немыслима: она была бы уже in patria (в отечестве). Не произносит ли Господь в высшей степени политического суждения, когда называет Ирода лисицей (Лк. 13, 32)?
Что до второго вопроса — о преобразовании исторических структур христианами, в поведении Отцов IV и V веков нам указан путь, который ведет дальше, чем простые призывы. Они дали нам учение о собственности и надежду на то, что в свете этого учения христианский мир направится к живой общественной действительности. Св. Григорий Богослов смотрел на «василиаду» великого каппадокийского учителя, общественное дело большой широты, как на «новый град». Иоанн Златоуст вглядывался в опыт Антиохийской общины, где справедливое разделение имущества уничтожило нищету. Кроме того, на Востоке Церковь стремилась воздействовать на византийское законодательство. Монастыри освобождали рабов–христиан. Взгляд вселенской Церкви и на Востоке, и на Западе на богатство, по словам Иоанна Златоуста, состоит в том, что «богатые владеют имуществом бедных, даже если это имущество честно приобретено или законно унаследовано». Все учителя этой золотой нити от святоотеческого времени до византийского Средневековья объявляли деньги и собственность общими для всех людей. Человек лишь управляет имением, полученным от Бога, и пользование им по праву принадлежит всем, так что тот, кто дает бедному, только возвращает ему надлежащее. Мы отнюдь не разделяем веками бытовавшую в христианской среде классическую идею, согласно которой человек сам пользуется тем, что нажил честно, и делится с ближними излишком. Блаженный Августин пишет: «Ты даешь хлеб голодному, но лучше бы не было голодных и ты не подавал бы никому». Здесь мы видим не только духовную закваску социальной революции, но и надежду, что придет день, когда человечество узнает новый общественный строй, который положит конец нищете. Сегодня тот человек, о котором позаботился добрый самарянин, брошен на все дороги истории. Он избит и изранен не вооруженными разбойниками, а самой структурой общества. Оставаться безразличным к этой структуре — значит соглашаться с тем, чтобы новые жертвы постоянно были бросаемы на дороге нашего бытия. Это значит — становиться сообщниками чудовищного разбоя. Возникает проблема: какими средствами противостоять злу. Поднимаются этические вопросы чрезвычайной сложности. Их нельзя не замечать, смотреть им в лицо — цена пророческой позиции и служения Богу во граде людском. Церкви следует осознать, что любовь Господня к миру должна быть явлена как правда и справедливость.
Чтобы вновь обрести единство между градом людским и градом Господним внутри него, необходимо пройти через огонь.
Технология и социальная справедливость
Разделенный мир стремится сегодня к справедливости внутри того общества, которое он хочет видеть технологическим или которое уже стало таковым. Как перевести требования справедливости в план общенациональный или общечеловеческий, если верно, что технология–необходимое средство, а то и неизбежное зло для нашего развития? Вместе со всем человечеством ища решения этой задачи, христиане начнут с того действия, в которое люди вовлечены, чтобы двигаться к Божией правде. Это общее действие должно быть озарено Богом, Бог должен придать ему ценность и направить его. Тогда постоянное призвание христианина к святости обретет то космическое измерение, которое предназначено ему в Божием замысле.
Вселенский характер этой задачи должен быть воплощен нами в жизнь в обществе, которое называет себя ответственным. Ответственность — это этическая позиция, выражающая богословскую истину о человеческой солидарности. Ведь принцип солидарности уже вписан в строй творения. Писание утверждает единство рода человеческого (Деян. 17, 26–27); порядок вещей (времена, в которых живут народы; пределы их разделения), способный привести к познанию Бога. Это единство отражает единство Божественное, ибо образ Божий, присущий человеку, вписан, согласно Григорию Нисскому, во все человеческое сообщество целиком. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 2,27). Здесь человек–это мужчина и женщина вместе, в их окончательной общности. Это человечество в целом, эсхатологически взятое на Себя Христом. Он осуществляет Собою то человечество, которое создано по образу Божию. Спаситель передал этот образ Церкви, даруя ей Самого Себя (Еф. 5, 25). И человек вновь обретает утраченное сходство с Богом, когда, следуя Христу, идет стезею любви. Единство рода человеческого стало действительным благодаря жертве Иисуса Христа и Его победе над смертью. В настоящем времени знак этого единства — Церковь. К несчастью, оно, как и единство Церкви, разорвано грехом, Прометеевой гордыней. Но зло нашей природы, все соблазны, которым мы подвержены, нисколько не умаляют реальности этого утверждения веры: человеческая природа онтологически едина.
В плане спасения этому единству полагает начало понятие мистического Тела. Предание — не отвергнутое Церковью и представленное такими великими Отцами, как Григорий Нисский, Исаак Сирин, Максим Исповедник, — позволяет верить во всеобщее спасение. Учение об апокатастазисе не раскрыто в Библии, дабы человек не злоупотреблял милосердием Божиим. Итак, если это учение не есть предмет веры, оно остается предметом надежды. Каким бы ни было число избранных, мистическое Тело Господне шире, чем все собрание крещеных, и христианская эсхатология представляет нам окончательное видение единства человеческого рода.
Это единство повсеместно утверждается как основанное на естественном законе, «записанном у нас в сердцах» (см. Рим. 2,15) Речь идет не о том, чтобы противопоставлять естество сверхъестеству, чуждому благодати. Восток не знает этой дихотомии. Речь идет о том Божием кенозисе, который с мига сотворения делает нас причастными Божественным энергиям. Эта общность, которая была изначально и которой предназначено быть снова, Факт, что все мы — объект одной и той же заботы Божией, эта со–природность Богу, историческое и метаисторическое спутничество ему составляют богословское основание этики причастности и служения.
Это единство людей по отношению к дарам Божиим — не отвлеченное понятие. Со всеми и с каждым мы конкретным образом переживаем единство, которое невольно побуждает нас узнавать в каждом человеке брата по роду. Наша всечеловеческая общность живет в каждом, кто брошен на дороге мира, ранен разбойниками истории, его кровь льется так же, как кровь Господа. Здесь не только понятие присущего каждому человеку достоинства, не только признание свободы, бессмертия, справедливости, сходства с красотой божественного прообраза, как говорит Григорий Нисский, но и, как пишут Ориген и Максим Исповедник, — утверждение святости людей, которые «могут проявлять все добродетели, даже если не имеют совершенного разумения тайны Искупления» [11].
Эта линия мысли доходит до Григория Паламы (XIV век), который считал, что всякая человеческая раса восходит, через познание творения, к роду Творца, этот великий учитель Востока указывает, что почти вся общность, населяющая мир, — «сама по себе, не учась евангельским заповедям, обладает Богом, Который не есть иной, чем Творец вселенной» [12]. Однако тому, кто знает основанный на глубоком опыте подход восточного богословия, понятно, что речь здесь не о наличии у нехристиан науки о Боге, но о познании Его ими через причастность к жизни Божией.
Это понятие о единстве мира спасительно для нас. Оно открывает нам истинную природу единства Церкви. Церковь — не замкнутый монолит. Она определяет себя не как онтологическую противоположность миру, истории, но определяет динамически, в диалоге с миром, который вновь творится и строится. Конечно, Церковь становится общностью меньшинства в том смысле, что в обществе, все более секулярном, она не обязательно представляется людям первостепенной ценностью. В историческом творчестве она перестала быть решающей реальностью. Она все более и более осознает свою уязвимость, что побуждает ее пересмотреть свои учреждения, переоценить свое прошлое, признать необходимость во многом опираться на новые основания, ибо находится она в ладье, затонуть которой не дает один Господь. Вот почему история подталкивает ее к поиску единства, которое совпадает с единством мира. Для этого поиска необходима кротость диалога и харизма полностью обновленного сослужения.
Единство Церкви не противостоит единству мира, так как и Церковь не находится в отношении противостояния к тварному миру. Церковь — икона того, чем станет человечество; она — смысл мира, его вразумительность (intelligibilite) или, по знаменательному выражению Оригена, «космос космоса». Церковь остается сердцем мира, даже если мир не знает своего сердца. Отсюда следует, что все, переживаемое ею, она переживает символически, в высоком смысле слова. Она познает единство мира, открытое Духом. Так будет до паруссии, когда мир и Церковь станут единой супругой Господа, пришедшего во славе.
Мир и Церковь могут явить единое предназначение, единую волю к обустройству земли. И в то же время Церковь, таинственно связанная со Христом, Церковь, которой открывает свои предначертания судия истории — Дух, — живет, постоянно теснимая миром. Она сама постоянно теснит мир. Она для истории — всегда «жало в плоть». Она возвещает свет грядущий, Царство не от мира сего. Она провозглашает надежду на спасение, которое дано ей, которого она ожидает в молитве, предвкушает в таинстве и которое нельзя попросту отождествить с энергией человека, воздвигающего собственный град. Церковь погружена в купель вечности, которая не может полностью проявиться ни в каком деле человеческом. Ее связь с концом — не просто восходящая история. В ней есть измерение «катастрофы», ибо в природе вещей присутствует разрыв ткани, который исцелит только мир Царства.
Отсюда следует, что христианский поиск нельзя отождествить ни с каким иным поиском. Христианин — это возмутитель, он ставит под вопрос весь устоявшийся порядок. Он пребывает более в движении, чем в «установлении». Он призывает к постоянному перерастанию пределов, и поэтому на него смотрят как на подрывной элемент. Поэтому его не приемлют свои, те, которые подменили борьбу правым или левым легитимизмом. В самом лоне этого богословия общения между Церковью и миром живет этика раскола или, по крайней мере, дистанции. Христианин вышел из храма, чтобы быть посредником Христовым в работе, в искусстве, в политике. Ему открывается присутствие Христа в мире людей. И через то священство, в которое он облачен, восходят к небесному храму все человеческие упования на добро и красоту. Он знает, что, приняв Тело Господне, несет в себе тело всего человечества, которому бесконечно сострадает. Он готов погубить свою душу, чтобы человечество обрело свободу. В этом движении он отрясает тело Церкви от синагогальной пыли, ритуалистической косности, и в то же время он распят своими спутниками по земному странствию, пригвожден ко кресту неисцелимого одиночества.
В этой диалектике общения и разлома христианин присутствует везде, где человек еще должен достичь полного очеловечения. Несмотря на двойственность сотворенного мира и того, что делается человеком, позиция верующего остается утверждающей и бодрой. «Наша христианская жизнь, — пишет Оливье Клеман, — должна стать открытой для всякого поиска, для всякой радости изобретения и открытия, для всякого усилия творчества и красоты человеческой культуры. Всякая действительность — от атома до небесного тела, — всякая красота, от доисторических пещер до тревожных игр абстрактного искусства, всякое усилие ради справедливости и свободы, всякое новое средство освоения земли […] — все это мы должны пропустить через сито нашей любви, все собрать в житницу Церкви, которая одна сможет невредимо пройти сквозь катастрофу конца». И далее: «Нет безошибочных методов для христианской политики, христианской экономики, христианского искусства, но может и непременно должно быть личное присутствие христиан в политике и экономике, искусстве […]: открытое, преображающее присутствие» [13].
С принятой нами точки зрения можно утверждать прежде всего, что род человеческий в целом — носитель и вдохновитель собственного развития. Если, по слову Григория Нисского, «во всех людях один человек», то это ответственное общество состоит из человечества в целом. Церковь, будучи христианским народом, не может подменять собой человечество. Она не может думать за человечество — это все равно что объявить себя старшей, а его младшим. Притом она и так слишком склонна похваляться превосходством «христианской цивилизации». В исторической перспективе, отмеченной большим демографическим ростом в нехристианских странах, Церковь будет воистину «малым стадом». Буквально затерянное в людской массе, призванное осознать солидарность народов, это «малое стадо» ничего не будет страшиться, если сможет, в жертвенном своем призвании, стать живой совестью мира.
Только если пройдет Церковь сквозь огонь Духа, откроют в ней люди, что дыхание движущегося к правде мира — Христос.
В том, что так по–мессиански резко и столь для нас плодотворно говорили пророки и Отцы IV–V веков о справедливости, христианство обретает и дает нам цельное учение о собственности, которая может стать для мирского общества основой его ответственности. От пророка Амоса до апостола Иакова библейское Откровение красноречиво указывает нам во всех случаях достойную позицию по отношению к нищете мира. Таковы слова Иова об обездоленных: «Нагие ночуют без покрова и одеяния на стуже; мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале», а их «заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями» (Иов. 24,7–8,10).
Именно такого тона ждет мир. Современный человек чувствует образ Христа, Который жил среди нас, ел и пил, но был «Святый Божий», нелживый, не запятнаный соглашательством, кроткий и снисходительный к грешникам, яростный к власть имущим. А ведь и среди членов наших собраний есть христиане–вельможи, всем известные эксплуататоры. Если евхаристическая община попускает им, то она живет во лжи, в каком–то религиозном пустословии, и это соблазн для всего человечества. Пока будет беспрекословно допускаться принадлежность к христианству тех, о которых сказано: «Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши» (Амос 5, 12), можно бесконечно говорить о «пророческом назначении Церкви», о необходимости «подвергнуть структуры испытанию критикой». Если мы в самом деле хотим составить во всем мире ответственное общество, то наше свидетельство, прежде всего, должно вновь обрести пророческую непримиримость в обличении угнетателей, господствующих в стране или на континенте. Они ведь могут легко приспособиться к общему учению о социальной справедливости, пока проповедь не касается их и пока они могут участвовать в Евхаристии. В древней Церкви отлучали и за меньшие прегрешения.
Пророческое служение, действенно исполняемое в поместной Церкви, должно быть поддержано таким богословским учением о земных благах, которое стало бы истинным выражением богословия евхаристического. Св. Иоанн Златоуст имел в виду это расширение евхаристического действия за пределы святилища, когда говорил о нищем: «Этот жертвенник ты можешь видеть воздвигнутым повсюду на улицах, и во всякий час ты можешь принести на нем жертву» [14].
Здесь вовсе нет нужды распространяться об общественной мысли Отцов. Они ставили целью новый строй, в котором собственность объявлена общим достоянием всех людей. Ныне то же самое устремление содержалось бы в изменении общественных структур. Никто не мог бы остаться равнодушным к такой переделке общества, которая стремилась бы, по крайней мере, уничтожить нищету, что было бы первой стадией желанного всечеловеческого развития.
Значит ли это, что Церкви сами должны предлагать новые структуры? «Церкви, — говорится в обращении конференции, организованной Всемирным Советом Церквей, — ставят своей задачей научить всех, как достичь действенности в политическом плане». Обращение указывает Церквам их политическую задачу; они должны входить в отношения с политическими партиями ради развития и открыто занимать позицию сторонников «революционных преобразований».
Можно не без основания спросить: не будет ли та или иная концепция, ставшая подоплекой этого вступления Церкви в политику, противоречить понятию об ответственном политическом обществе? Если цель политического действия–гражданское общество, то у Церкви как таковой не может быть автономного политического действия. Деятельность ее членов протекает в лоне национальной или интернациональной общины совместно с другими гражданами. В этом смысле прав был румынский богослов Т. Попеско, когда сказал: «Церковь не должна будет создавать иную науку, иное искусство, иные политические, социальные или даже экономические формы. Она не может уничтожить существующие, не претендует создать ex nihilo (из ничего) целый мир, новый, идеальный, ее собственный мир, ничем не связанный с миром существующим» [15].
В словоупотреблении совета Церквей «Церковь» может означать только историческое христианство.
Это включает определение Церкви как самодостаточного общества, совершенного общества, которое «пользуется влиянием» и потому не чуждо политической власти. Это понятие отражает позицию тех стран, где Церковь преобладает и осознает себя достаточно сильной, чтобы влиять на ход событий. Это уже не верно в тех странах, где Церковь находится в меньшинстве или принуждена молчать. Историческая слабость некоторых Церквей Востока, их причастность к национальной судьбе, их присоединение к чаяниям своих народов делают их более чуткими к реальной национальной общности, которая представляется единственным носителем социального действия и двигателем технического прогресса. Для христианского Востока Церковь остается преобразующим присутствием Евхаристии, организмом, который верует, в котором действует любовь. Церковь не знает экономических и социальных наук. Обладай она исследовательскими центрами, экономическими институтами, она как церковное тело не имела бы компетенции судить о вещах, которые по своей природе принадлежат к области автономного знания. Церковь предпринимает богословское и нравственное размышление о положении человека, о структурах мира производства и труда. Но когда она приступает к собственно научным данным, она вырабатывает побочный продукт гносеологического порядка, робко и запоздало пытаясь подражать квалифицированным организациям. Эти последние, напротив, сознавая собственный технический характер, может быть, стремятся услышать вдохновенный, одухотворенный голос, указующий человечеству призвание и цель.
«Дайте Церкви быть Церковью!» Водимая Духом Церковь сможет сказать, что такое все это развитие, при котором мы присутствуем, — соблазн или некий последний пункт, к которому нужно стремиться. Для нее особенно важно, чтобы выработанное ею богословие не было простым освящением экономической философии развитых стран. В странах Запада христиане искушаемы сакрализацией мира, мечтой о «христианской» империи, хотя бы облеченной в секулярную форму: поскребите западного человека — и увидите крестоносца! Напротив, традиционалистский идеал восточного христианина — литургическая «самодостаточность», при которой мир видится только в его эсхатологическом значении, при которой умственный застой сопровождается апокалиптическим катастрофизмом не высшей пробы. За монашеской отрешенностью зачастую скрывается равнодушие к судьбе мира.
Напротив, христианскому Западу случается уверовать в собственную действительность на том основании, что он претворяет христианскую жизнь в культуру или гуманизм, которые называются христианскими. Конечно, «культура–путь к добродетели» [16], но она всего лишь путь. Для общего движения человечества она — необходимый путь. Вот почему, встречаясь с искушением бегства от мира, православная мысль пыталась религиозно обосновать культуру. Ныне это означает такую духовную позицию, которая принимает технику и неумолимо связанные с ней социологические структуры. Именно внутри этих форм христиане будут пытаться внушать людям более гуманные отношения, придавать смысл досугу в обществе потребления, поддерживать надежду и борьбу народов развивающихся стран. Речь о том, чтобы участвовать в развитии техники, но не сакрализировать ее, чтобы бороться против сциентистской морали и технической мистики в обществе, в силу необходимости плюралистическом. Теоретически не исключено, что человечество, охваченное паникой перед делом собственных рук, предпочтет пути к благосостоянию другое направление и пустится на поиск внутренней культуры; но это представляется возможным лишь тогда, когда благодеяния техники будут достойно разделены всем человечеством; по справедливости разделен преломленный хлеб. Что до технологически образованного современного человека, ничто не помешает ему оказаться бесконечно чутким к мистической поэзии, к величественности и иномирности литургии, к ее духовному богатству, к евангельской простоте взгляда любви. Насущная задача Церкви в обществе, быстрое развитие которого тревожит весь мир и самих специалистов по развитию, состоит в том, чтобы предварительно познать смысл эволюции мира. Верные этой задаче, авторы обращения, названного «Размышлением на 1985 год», подчеркнули такие ценности как своеобразие человека, уважение к жизни, достоинство мужчины и женщины, солидарность между индивидами и по отношению к будущим поколениям. Эта группа сознавала, что «ценности нашего общества могут быть свободно избраны при условии, что мы будем бдительны и не позволим поглотить нашу цивилизацию паразитическому развитию, с которым однажды мы можем не совладать».
Так, «развитие становится, главным образом, проблемой цивилизации […], проблемой повышенной ценности людей в обобщенном режиме человеческой экономики и гармонизированного развития» [17]. Это невозможно без понимания целей, которые определяются «не только повышением благосостояния людей всех общественных слоев, но и возрастанием человечности, и придаваемой ей ценности» [18]. Если Церковь содержит в себе все человеческое, то ее роль в том, чтобы указать направление развития, тогда озарение Логоса и излияние Духа завершают антропологический процесс в его общественном измерении. Церковь по–прежнему будет представлять для человечества высшую ценность вселенского общения. В самом деле, что это за единое развитие, если оно не переходит в любовь? Конкретно это означает, что цель усилий Церкви — создать среди людей объединенную позицию и объединенное действие в пользу бедных. Предстоящий нам проект состоит в том, чтобы вновь обдумать экономическую науку с тем, чтобы она отражала кооперацию между людьми, ибо экономическую науку поддерживает материалистическая философия, индивидуалистическая или коллективистская. Однако человеку необходима такая экономика, которая не отчуждала бы его от духовного призвания. При соприкосновении с духовными людьми задачи экономистов с необходимостью станут относительными; они будут определяться возможностями производства, но и потребностями, которые нужно удовлетворить. А среди этих потребностей не может не быть и духовной. Таким образом, человечеству придется искать и находить забытые ценности. Оно не сможет более пренебрегать качеством человеческих отношений или строить такие структуры, в которых бюрократия, скорость, анонимность, юридическое начало не оставляет человеку возможности проявиться в качестве единственного и неповторимого существа. Не может быть, чтобы воображение людей, встревоженных царством безличности, не нашло более гибких, более открытых эпифании человека структур.
Роль Церкви будет состоять в том, чтобы в плане общинном осознать людские тревоги и сообща поставить искомое вдохновение на службу человечеству. Так можно будет избежать двух заблуждений: активизма верхов, предстоятелей Церкви, и активизма низового, присущего чисто индивидуальному действию.
Опасность активизма в верхах в том, что он производит официальные декларации, отмеченные некоторым догматизмом и сковывающие мысль, что недопустимо, когда речь идет о таком подвижном предмете, как человеческое развитие. По своему сакральному характеру Церковь стремится канонизировать производимые ею тексты. Однако они, в основном, суть плоды «консультаций» ученых и богословов, за которые «отвечает» установленная власть; это простое освящение труда более или менее широких комиссий. Когда речь шла о провозглашении догмата, дело происходило не так. Догмат был пережит в мученичестве, в опыте святых и, таким образом, был воистину выражением глубочайшего церковного сознания. К тому же не подобает мужам апостольским, «оставив слово Божие, пещись о столах» (Деян. 6, 2). Вот почему восточное каноническое право запрещает клирикам заниматься политической деятельностью.
С другой стороны, низовой, индивидуальный активизм так же недостаточен, как активизм верхов. Христианин без того уже покинут в пустыне современного мира, и Церковь не должна предоставлять ему искать на свой страх и риск, что лишь увеличит его растерянность и чувство бессилия. Между христианами необходима сплоченность, их свидетельство должно быть общинным тем более, что речь идет об «общинном развитии». Группа христиан всех профессий, желающих включиться в общее действие, может представить истинное лицо Церкви. Людям ныне необходимо знать, что свидетельство христианина, даже индивидуальное, разделяется его братьями, что оно в некотором роде отражает страдание общины. Поистине, Церковь представлена в группах, которые совместно и свободно трудятся, не обязательно приходя к одинаковым выводам. Эти реальные люди берут на себя заботу о мире.
Эти христианские усилия в настоящее время могут принимать и форму институции. Там, где Церкви по–прежнему занимаются культурными учреждениями и общественными службами, должна проявляться реальная справедливость, особенно в плюралистическом обществе. Важнейшая сторона нашего служения — подготовка человека к жизни в технологическую эпоху. Например, христианский университет, или даже просто университет, где христиане могут иметь некоторое влияние, должен открыть программы исследования путей национального развития или заняться проблемами других развивающихся стран. Христиане, которые работают в одном учреждении или в комплексе учреждений, должны совместно изучить способы их преобразования. Это, может быть, выразится в движении за социальные реформы, которые многие осознанно одобрят, тогда как другие, даже в весьма развитых странах, займут гораздо более радикальную позицию. Важно, чтобы мы позволили Духу вести нас и сохраняли «единство Духа в союзе мира» (Еф. 4, У).
Какова бы ни была политическая позиция различных групп христиан, Церковь должна будет «повсюду принимать сторону обездоленных», и не только в развивающихся странах. Таково требование пророческого служении: Церковь должна вся целиком отождествить себя с бедными, стать их представительницей. Церковь всегда стоит вне какой бы то ни было политической ситуации, примыкая к тем, кого ущемляет установленный строй, будь он буржуазным или революционным.
Часто Церковь живет в революционной ситуации. В течение двух столетий в Румынии православные священники возглавляли крестьянскую революцию. Они поддерживали греческих патриотов в их освободительной войне против турок в XIX веке; они включались в политическую борьбу на Кипре и в Палестине, разделяя страдания людей. Для них речь никогда не шла о том, чтобы создать богословие справедливой войны или богословие революции. Православное духовное Предание настолько чуждо освящению насилия, что не допускает даже законной защиты. Но Церковь не должна никогда соглашаться, если говорят: «мир, мир», — тогда как мира нет и в помине.
Когда кровь бедных вопиет к небу и лицемерие разлагающегося мира становится чудовищным, тогда, может быть, Господь смотрит на революцию как на служение Себе. Церковь одобряет то справедливое, что совершает революция, но она против ее несправедливой стороны. Церковь ценит, что революция развивает даже тех, кого преследует, но она всегда будет разоблачать псевдорелигиозный и «псевдовселенский», по выражению Бердяева, характер революции. Церковь придет на помощь людям, которых соблазнит революционный мессианизм, как приходила на помощь христианам, соблазненным буржуазной цивилизацией. В богатой стране можно долго распространяться о подводных камнях революции, до бесконечности рассуждать о ее безбожии, о том, что она пожирает самое себя и всегда обращается, в конце концов, в мерзость. У людей, которым есть чем утолить голод, всегда достанет и тонкости анализа, но не всегда человек выбирает революционную ситуацию по своей воле. Там, где уважают свободу совести, сохранение установленного порядка содержит не меньшую духовную опасность, чем его изменение. Главное, что Церковь остается неусыпной, чтобы провидеть Царство сквозь все ужасы, от которых страждут люди.
В этом отстаивании более человечного мира огромное значение в экуменическом плане имеет возврат к источникам христианской антропологии. Соединение в природе человека начала божественного и чисто человеческого принимается Церквами по–разному. Отношение природы и благодати, обожение христианина — темы, тесно связанные с этой антропологической проблематикой. Но кто говорит «антропология», говорит также «космология» и «экклезиология». Богословский императив пребывает в Церкви нераздельным. Единство духовного опыта выражается в богочеловеческом синтезе–такова линия освободительного, конкретного богословия, более чем когда–либо актуального перед лицом эволюции мира. Христианский Запад должен бы помочь Восточной Церкви обрести адекватный язык для выражения святоотеческой антропологии, которой питается его духовная традиция. Христианская практика объединит тогда христиан в общем свидетельстве. Именно в действии, как говорит одна византийская песнь, смогут они приступить к лествице созерцания. В определении этой задачи есть то усиление чувствительности к вселенскому, в котором христианин, посвятивший себя развитию мира, увидит действие истины Божией на человека.
Идеальным, естественно, было бы, если бы все люди смогли объединиться в общем усилии, направленном на развитие. Но человечество руководствуется неодинаковыми экономическими и философскими понятиями. Для марксистов и немарксистов, для северного полушария и третьего мира ценности различны. Христианин из развивающейся страны будет анализировать действительность иначе, чем христианин из страны сверхразвитой. В пределах данной работы не подобает распространяться об этом, но действительность так жестока и оскорбительна, что многие люди, как бы ни были различны их убеждения, сразу же сходятся на этой почве. Все сильнее мы чувствуем общность судьбы рода человеческого.
Человек, отвергающий гнет техники, бунтует; при всех чудачествах, в которых может выразиться его неприятие общества, он стремится не только к земному счастью. Молодежь ищет мира, где можно не задыхаться; свободная любовь — это протест, но это также знак того, что действительно важно: встречи с другим в его подлинности. Нынешний культ непосредственности может быть реакцией на чрезмерный интеллектуализм, которому недостает человечности. Ныне простая встреча между людьми важнее, чем идеи. Движет миром человек, во всей его простоте, а не идея. Все решает встреча, а не диалог. Вот почему атеисты и верующие — если атеизм не воинствующий и если верующий способен различить божественное в инакомыслящем, — могут вместе проходить человеческое поприще. Человек всегда глубже, чем его мысль; случается нам познать Бога, не называя Его имени.
Я думаю, что первоначальным вкладом великих религий могли бы стать их исторические идеалы, ибо идеал развития создают не экономические и социальные науки. Иными словами, нам нужно искать у религиозных мыслителей то, что не чуждо социальному измерению. Глубоко духовный, согласный со Словом идеал связан с любовью, с молитвенной жизнью, с внутренней дисциплиной, — но совместим ли этот идеал с технической цивилизацией? Если мы хотим избежать яростной реакции со стороны верующего, который чувствует удушье в таком мире, а также окончательного погружения этого мира в бесчеловечность, напрашивается диалог между служителями различных религий и людьми, вовлеченными в структуры современного мира.
Мир ожидает от нас, христиан, великой неусыпности. Он не хочет, чтобы Церкви довольствовались повторением своих прописей или следовали интеллектуальным модам. Он ищет у нас не вещей, не идей, не структурных концепций, а ценностей. Сейчас Церквами и другими религиозными кругами овладел дух робости. А ведь человек сегодняшнего дня хочет услышать слово жизни, а не благословение тому, что он делает. Он уважает «малое стадо», смеющее бросить вызов. Мир любит, чтобы Церковь слушала его и вела с ним кроткий и разумный диалог. Он ожидает от нее, чтобы она была собой или исчезла. Он чтит лишь мучеников и облако свидетелей Бога живого, запредельного Бога. Этот Бог есть Судия, но милосердие Его столь велико, что Он позволяет нам уподобиться Ему уже в этом мире, на земле, которую наследуют кроткие в ожидании славного воскресения тел всего человечества.
Искусство и творение
В периоды кризиса мы всегда надеемся и ждем, что явятся творцы, множество творцов, люди, которые, подобно Христу, пройдут по водам нашего взвихренного бытия, дабы заменить его бытием спасительным.
Если говорится о творении, значит, наше бытие не статично, не дано раз навсегда в окончательной и определенной форме, и мы сами участвуем в его становлении. Всякое иное определение творения снижало бы его, сводило бы его на нет. Если бы Бог окончательно устроил вселенную, так что человеку оставалось бы только организовывать материю и производить предметы, сочетать краски и гармонически слагать слова; если бы все сущее было лишь излиянием мысли или осуществлением заранее составленного плана — в том смысле, что Бог Сам придавал бы ценность вещам, — тогда мы были бы только ловкими ремесленниками, а не творцами. Напротив, если человек стоит перед лицом Бога и вопрошает Его, если Бог Сам ждет от него этого диалога, более того–ждет участия в создании еще не оконченного мира, тогда попытка заняться этим законна, и мы вовлекаемся в богословское размышление, от которого трудно уклониться.
Продолжающийся вплоть до наших дней философский диспут о художественном творчестве объясняется только тем фактом, что мы, люди, творения Божий, имеем различные точки зрения на Бога и на человека. Начинается не с эстетики, а также не с социологии искусства или его психологии. Подобного рода вопросы я оставляю другим, однако не могу избежать некоторых замечаний. Представив богословскую проблему, необходимо указать на несколько факторов, которые приготовили в истории пути красоте. Я говорю «указать»: не то чтобы я отрицал влияние природы и среды на рождение и развитие искусства, но антропология искусства не основывается главным образом и единственно на этих факторах и измерениях. Искусство исчезнет и будет забыто в тот день, когда в своей свободе превысит возможности своей среды, но на третий день оно воскреснет из лона земли.
Говоря о творчестве, я подразумеваю искусство, а не науку. Если размышлять исчерпывающе, то как избежать попытки связать область разумного знания и область искусства? Разрыв между ними лежит на совести Возрождения, так как это оно отделило точную науку от чувства. Но мы прекрасно ощущаем, что открытия науки так же сказочны, как великие археологические чудеса. Весь мир целиком — не что иное, как формы и силы, и с этой точки зрения наука есть путь, и цель этого пути — привести нас к новой красоте, которая, как заря, взойдет из лаборатории. Однако наука — плод накопления. Она приходит из прошлого, из коллективного усилия. Человек развивает ее так, словно бы он преследовал некую цель или совершал странствие, она бежит впереди него. Он гонится за ней и почти уверен, что догонит. Ибо наука вписана в действительность: мы вопрошаем вещество и находим под его пеплом науку. В отличие от искусства, наука навязывает себя тем, кто не занимается ею. Искусство же все целиком — свобода. Свободно его рождение, свободно наслаждение им. Это делает его отличным от научного исследования.
В области эстетики, которой мы здесь ограничимся, мы приходим к вопросу об окончательных принципах искусства, которые делают его «даром» в глубочайшем смысле слова. Этот дар есть некое излияние, которое мы зовем божественным. Арабы в старину называли его словом «гений», или «джинн», «djinn», соответствующим греческому daimon. Даже о посланнике Божием говорили, что он был поэтом. В Коране читаем: «О ты, получивший зикр, воистину ты безумен». Это «безумие» доказывает, что поэт черпает свое вдохновение вне мира сего и что обитель искусства находится одновременно «здесь» и «там». У всех народов сам язык подсказывает, что художник — не просто ремесленник, который довольствуется тем, что копирует природу или подражает ей, но что он вдохновлен, наделен даром, причастен Божеству или тому, что названо «djinn».
Поэтому и задаются часто вопросом об отношении между «творцами» и их Творцом. За этим отношением стоит вся проблема Божьего творчества. Когда мы говорим в связи с художественным произведением о творчестве, это не просто языковая условность или поэтический образ. Нет, художник есть икона. А, по замыслу иконописца, икона предназначена для молитвы, даже если сейчас она висит в буржуазной гостиной или в музее. Настоящим знатокам известно, что она превосходит себя самое. Художник может не отдавать себе отчета в том, что его дар — от Бога, но он чувствует, что созданное им — это, по выражению Рудольфа Отто, «Совсем Иное».
Каковы отношения этих двух творцов — Бога и человека? Что означает эта глубинная интуиция, благодаря которой художник сходит с небес? Существует ли Божие слово в поддержку этой затеи — создать красоту? В Коране сказано: «Не видят ли они, как начинает и вновь начинает Бог Свое творение?» Это значит, что Бог воссоздает умершее. «Бог творит последнее творение» после воскресения. Речь идет о сущностном изменении, которое позволяет твари быть преображенной и возрасти, быть приведенной к жизни дуновением, а не вылепленной по воскресении заново. «Вдруг, во мгновение ока мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется и слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 52–54).
Цель искусства — сделать творение вечным. В книге Бытия сказано, что творец Духом Своим положил конец первоначальному хаосу. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1,3–4). Как видим, творение, как оно описано в Библии, вовсе не означает творения ex nihilo (из ничего). Только во второй книге Маккавейской, очень поздней и не числящейся в каноне еврейской Библии, мы читаем, что Бог создал все из ничего. Конечно, Новый Завет совершенно ясно говорит о творении ex nihilo, то же самое утверждают и Отцы Церкви, отвергая мнение Платона и греческой мифологии, которая рассказывает о несотворенной материи. И все же, когда Библия говорит о творении, она имеет в виду, главным образом, победу Бога над мраком и Его господство над вселенной. Она не высказывает метафизической теории причинности. Книга Бытия находит параллель и завершение в книге Откровения, в конце которой упоминаются «новое небо и новая земля» (Откр. 21,1).
Там сказано: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21, 3). Конечная цель творения–искупление. Это «точка Омега» Тейяра де Шардена.
Творение продолжается. «Отец Мой доныне делает» (Ин. 5, 17). Бог неусыпно печется о Своем творении. Повеление: «Да будет…» — по–прежнему столь же действенно. Потому и учил св. Василий Великий, что все части мира связует любовь. Любовь вписана в самое структуру бытия. Человек, живущий в любви, есть «новая тварь»: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5,17). Когда мы говорим о Боге Творце, это означает, в конечном счете, что Он любит. Бог создает людей, потому что Он их любит.
Человек есть образ Божий: когда Бог любит, он создает то, что любит. Он выводит его из мрака к свету. И у творческого дела Бога, и у творческого дела человека одна цель — создать Царство света. Любовь Божия не только всеобщая и вселенская, она и частная, особенная. Всякая тварь облечена в эту любовь, как только она становится собой, а не только в силу принадлежности к роду людскому. Эта любовь утверждает каждое существо в его особенности и не дает ему смешаться с целым. Таким образом, вещи несмесимы, и ни одна из них не исчезает в другой. Бог хочет, чтобы был каждый отдельный человек, каждый цветок, каждая звезда.
Так же и художник: он создает, потому что любит. Как только появится в нем предчувствие вещи и он ее полюбит, он видит ее одну. Он утверждает ее в ее особенности. Он забывает обо всем остальном. Созерцаемая вещь представляется ему единственной. Он видит ее в связи с другими вещами. Он видит связь между мелодией и мелодией, между цветом и цветом. Это новое видение вещей — так влюбленный мгновенно открывает, что эта девушка не такова, как все другие. Она не есть одна из женщин, она единственная в мире, она — сам мир. Для художника весь мир становится тем холстом, который он покрывает красками. Также и грешник, умоляющий о прощении, становится единственным во взоре Божием.
Как видим, человек подобен Богу. Но можно ли потому назвать его творцом? Не будет ли это слово лишь аналогией, условностью? В этой точке нашего размышления следует сказать, что художник обновляет творение. Он придает новую форму материи этого мира. Ни мелодия, ни краска, ни написанный текст не существуют как таковые в природе. И какие бы усилия ни прилагал художник, чтобы приблизиться к действительности, всегда остается нечто от его собственной личности, преобразующей полученные извне впечатления. Художник прежде всего читает вселенную, а затем выражает ее. Он может так глубоко уходить во внутренний мир, что порою совсем удаляется от мира внешнего. В принципе, мир искусства — самый прекрасный мир. Он–квинтэссенция обычного мира, его глубина, связь, единящая его со славой, которая воссияет в последний день. Искусство — натянутая струна между нынешним и будущим веком. Оно–предчувствие той высшей Красоты, которая изливается на нас с высоты небес.
У читателя может возникнуть впечатление, что я делаю из художника святого. Истина в том, что каждый святой–художник, но не наоборот. Святой любит всех тварей, разумных и неразумных. Он видит бытие взором Божиим. Это видение преобразует бытие. Святой укрощает диких зверей, он превращает их в товарищей, которые входят в его новый мир. Святой становится выше преступления, совершенного грешником, он отделяет грешника от его греха, перенося человека в будущий век. Святой живет в преображаемом мире и воспринимает мир как свет.
Святой отличается от художника способом выражения. Он может выражать себя, если обладает нужной для этого культурой, но может и не выражать, ему довольно мученической кончины. Он может неумело, смешно, скучно пользоваться языком благочестия, но его косноязычные фразы не выражают по–настоящему его мысли. Он ощущает свою победу над грехом как свой единственный путь, вернее — как единственный путь Бога к нему. Он не представляет себе, что находится в мире выражения. Он не осознает, что идет путем очищения. Напротив, он говорит: «Христос умер за грешников, от них же первый есмъ аз», — или что–то подобное этому из другой традиции.
Ближе всех к художнику пророк. Конечно, художник не связан подобно пророку напрямик с Божественным Откровением, он не получает слова по велению Божию. Но пророк, как понимали его евреи, — а они классики в том, что касается пророчества, — есть человек писанного послания и должен его огласить. Бог сказал ему: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе» (Иер. 36, 2). Или «Слово, которое было к Иеремии от Господа». Мы видим, что у древних пророков были свои способы, которые помогали им достигать вершин литературной выразительности. Здесь не место оспаривать традиционное для ислама воззрение, которое отрицает участие Мухаммеда в создании Корана. Но мы знаем, чем наделяет Бог пророка, когда говорит: «Кто уверует в него, кто поддержит его, кто поможет ему, кто последует свету, сошедшему свыше с ним, те блаженны». Заметим, что не сказано: «сошедшему свыше на него», но «сошедшему свыше с ним».
Мы задались вопросом о применении к человеку слова «творец». Что это — аналогия или реальность, имеющая более глубокие корни? Должен ли человек еще что–то совершить на уровне своего отношения к Богу? Есть ли свобода там, где есть человек? Действительно, либо наша свобода относится как–то к Богу, либо ее нет.
Библия мистически говорит нам о свободе, когда повествует о борьбе Иакова с Ангелом (Быт. 32, 23–33). Вернувшись на родину, чтобы встретиться с братом Исавом, преследовавшим Иакова за то, что тот отнял у него право первородства, Иаков перешел через поток вместе с семьей и всем, что имел, а потом остался один. Тогда Ангел, — который обозначает здесь Самого Бога, — боролся с ним до рассвета. Видя, что не одолевает, Он коснулся сустава бедра Иакова и повредил его. Затем Он сказал Иакову: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Но тот ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». — «Как твое имя?» — спрашивает Ангел и, получив ответ, говорит: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». — «Скажи мне имя Твое», — просит, в свою очередь, Иаков. Но слышит ответ: «На что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно чудно». Иаков получает благословение и называет это место Пенуэл, ибо, говорит он, «я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя».
Здесь нужно отметить, что встреча Бога с человеком происходит ночью, когда все перешли вброд поток. Скорби деторождения приходят ночью, всякие роды происходят ночью, в той ночи, что была до начала, пока не сказал Бог: «Да будет!» Человек всегда яростно борется с Богом, и Бог согласен уступить в этой борьбе. Тогда–то всходит заря в сердце человека. И он становится творцом, потому что узрел лик Божий. Бог просит отпустить Его, и человек становиться таким сильным, что получает новое имя. Изменить имя для евреев, как и для христиан, значило изменить меру ответственности. В этой борьбе, которая вдохновляла великих мистиков, Иаков вводится в свое назначение, в творческую миссию создания нового народа.
Бог дает человеку силу, чтобы противостоять Ему. Конечно, это не значит, что человек побеждает Бога собственными силами. Но это может означать, что Бог хочет быть побежденным. Он хочет, чтобы человек был силен и стоял с Ним лицом к лицу вечно. Такое немыслимо для бога–тирана, для бога, навязывающего свою силу и власть, так же как невозможно такое и для бессильного, слабого человека.
Но может ли всемогущий Бог отречься от Своего всемогущества? Здесь подобает ввести понятие, известное в богословии и в христианской мистике: кенозис, или уничижение. Это слово употребляет апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу: но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 5–8).
Христос в воплощении скрывает свою славу. Он добровольно отказывается использовать неограниченное могущество. Отказывается, чтобы вступить в диалог с тварью, чтобы быть с человеком в отношениях товарищества, без всякой искусственности. Он умирает из любви, чтобы возбудить любовь, чтобы завоевать человека не насильственным действием, а любовью, любовью, которая отдает себя и которой человек, в свою очередь, должен себя отдать.
Бог не может спасти человека, если не спасет его сначала от рабства, самая опасная сторона которого — быть рабом Бога. Бог не хочет, чтобы человек был его пленником, не хочет порабощать его Своим всемогуществом. Ибо Его могущество есть служение. В самой природе Божией — самоотдача; Он никогда не замыкается на Себе. В Своих отношениях с человеком, еще до диалога в строгом смысле слова, то есть еще до того, как человек начинает вопрошать Его, Бог уже вникает в логику его вызова, соглашается быть вопрошаемым от человека. Он подвергает Себя риску, который предполагает всякая встреча. Совершенно неописуемым и непонятным образом Он Сам приносит Себя во всесожжение. Он низко склоняется в Своей любви, чтобы увидеть перед Собой любимое лицо, ради которого он согласен вечно умирать. Но когда Царь умирает смертью раба и, стало быть, отказывается от вечности Своего Царства, та же самая вечность начинается снова, как поется о том в византийской рождественской песни.
Что верно для искупления, порождающего новую тварь, то верно и для сотворения мира. Приводя в бытие мир, сотворяя в начале небо и землю, Бог впервые уничижил Себя, опустошил Себя ради свободы человека, чтобы человек сам стал творцом, и не по аналогии, а по причастности. Творение мира было только лепетом, только чтением по складам в сравнении с тем, чем стало воплощение. Во Христе истина воссияла всем своим блеском, но она была сотворена не тогда. Диалог спасения начался уже после сотворения мира. Крест обновил творение, открыл и явил свободу. Кто не знает свободы, которую мы имеем во Христе, все же узнают первую свободу, меньшую свободу, как называет ее Августин. Это та свобода, в которой мы внутренне определяем самих себя, в которой мы создаем мир красоты.
Человек не потому творец, что извлекает вещество из ничего, он творец потому, что, благодаря живущей в нем силе, он проникает в то, о чем сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2,9).
Искусство — наше освобождение от порабощения чувствами и самими собой, выход в мир грядущий, который лежит за пределами чувств и нашей борьбы с самими собой. Искусство — это свобода восстановления бытия. «Сие творите в Мое воспоминание». Искусство — наша Тайная Вечеря с бытием. Мы не пьем на этой Вечере чашу мира сего, тем более — мира иного, но пьем чашу, в которой смесились то и другое вино. Конечно, тайна сия велика. Преступая ее порог, мы можем оступиться. Свобода искусства может стать искушением, которое, если мы подадимся ему, может увести нас от той великой свободы, какую низводит на нас мир святости. Часто бывает, что творение прекрасного становится препятствием творению добра. У выразительности есть пределы, есть и ошибки. Она может вырваться из объятий духа и стать изменой. Поэтому мы не должны смешивать истинную красоту с блестящими узорами эстетизма.
Когда мы превращаем красоту в вопрос школы или принципов и это приводит нас к эстетизму, мы падаем в глубокую пропасть. Эстетизм — дело тех, кто отворачивается от истины и добра и довольствуется созерцанием. Таковые, в конечном счете, живут лишь в мире чувств, тогда как Творец красоты хотел именно превзойти чувства. Эстет — это человек, подверженный всяческим воздействиям и избегающий свидетельства самой красоты. Это человек моды, он довольствуется разговорами о красоте. Он встречается среди людей культурных, погруженных в интеллектуальный комфорт, рассуждающих о свободе, революции и на другие подобные темы. Его забота — защищать позиции, а не штурмовать их. Он одержим всем, что есть оригинального в искусстве, последней новинкой. Он только потребитель искусства. Такие, как он, составляют элиту, которая презирает простых смертных, знающих лишь предыдущую новинку. В глазах эстета важен не видящий, а увиденное.
Искусство враждебно самозамкнутости. Человек не может творить, если не уничижит себя в поисках свободы. Тогда искусство его будет подобно виденному Моисеем на Хориве кусту, который горел, но не сгорал (Исх. 3, 2). Великое искусство не исчезает в своем выражении, не исчерпывается воплощением. Оно не твердит задов, не повторяется, оно не подражает и не позволяет подражать себе. Оно всегда больше, чем его язык, и не дает себя увлечь магией слова. Для нас, арабов, большое искушение — соблазн риторики, красноречия, красивых образов, словесной музыки, игры фразами. Мы еще не поняли, что великое художественное творчество достигает вершины малыми средствами. Евангелист Иоанн написал самую глубокую в мире книгу на греческом языке времен его упадка. У Достоевского, гения романа, слог тяжеловат. Искусство может быть более или менее умелым в своем выражении. Вся проблема в яркости и силе зрения, которые обновляют перед нами мир.
Упадок искусства порождает проблему порождения самого искусства. Мы спрашиваем себя: возможно ли спасти красоту от власти небытия? Возможно ли Божественное искусство? Могут ли встретиться в одном художественном произведении мир красоты и мир святости, так чтобы это произведение казалось сошедшим с небес, или чтобы мы сами словно приблизились в восторге экстаза ко граду Божию?
Примеры Бернаноса и автора «Братьев Карамазовых» подтверждают, что можно написать роман о святости, что грех — не единственный источник художественного вдохновения. Если Бернанос решился написать роман, то это потому, что у него было послание, требующее передачи. Он создал литературное произведение, хотя к тому не стремился. Дуновение Божие в тебе превращается в бурю, и она открывает тебе видения, к которым ведет Сам Дух, ткущий тебе брачное одеяние. В этом одеянии ты вступишь в брак со вселенной. «И Божественный Учитель, как столь прекрасно говорит св. Максим Исповедник, питает тебя, словно в Евхаристии, знанием о становлении мира». Искусство, пророчество и святость сближены здесь до взаимопроникновения. Того же порядка были песнопения св. Григория Богослова и вообще древней Византии. Отказ от музыкального сопровождения придал этой музыке то религиозное звучание, которого ищут духовные люди всех религий. Свидетель Откровения видит перед Агнцем четырех животных и двадцать четыре старца, из которых каждый держал гусли и пел песнь новую. Идея старинной религиозной музыки в том, чтобы человек пел эту песнь новую, подражающую небесной мелодии. Как подчинить материю звука, чтобы она стала инструментом для этой мелодии и чтобы ее красота пришла к ней от той же музыки, способной, согласно Григорию Нисскому, проложить путь к невозможному? Тот, кто давно посещает Церковь, знает, как мы строим, с Богом и для Бога, храм красоты. Мы знаем, как искусство может стать предвкушением Царства и как может оно лишить нас Царства.
Религиозная архитектура вся проникнута этим божественным характером. Она исходит из мысли, что Церковь есть небо на земле, что в ее небесном пространстве живет Бог, что Он там ходит, как в Эдемском саду. В самом центре здания — Бог. Ветхозаветный храм был выстроен по указаниям Самого Бога. И вместе с тем храм — это образ мира, центр вселенной. Красота здесь пребывает в равновесии архитектуры и ее пропорций, в клонящемся куполе, в весьма определенном богословском образе, в служении литургии, в земном поклоне, в коленопреклонении и в прямом стоянии, в речитативе, в мелодии и свете, в единстве духа, в курении ладана, влекущем нас к небу.
Все эти элементы богослужения следуют друг за другом, сцепляются. Все вместе они погружены во время и в пространство, которые перерастают сами себя, обретают новое измерение, чтобы впасть, словно река, в Царство, которого чаем.
Самой выразительной формой этого искусства Царства, пожалуй, можно назвать икону. Она открывает нам действительность, содержащуюся в kalokagathos, в котором возвещен органический союз Красоты и Добра. По–гречески слово doxa означает и славу, и мнение, в том смысле, что правильная мысль обеспечивает истинное прославление и что истинная хвала — источник здравой и правой мысли. Здесь тесно, нераздельно связано Божеское и человеческое. Человек становится подобен Богу, ибо, созерцая славу Божию, он преобразуется в тот же образ, от славы в славу (2 Кор. 3, 18). В этом становлении человек обожен — не собственными силами или желанием, но нетварными энергиями, которые поддерживают его и влекут в бесконечность. Человек, озаренный этим вечным светом, соединяет в себе природу тварную и нетварную, он являет их в единстве «через обретение благодати», как говорит св. Максим Исповедник.
Этот божественный свет, вкушаемый нами в таинствах Церкви, этот эсхатологический свет, блистающий на ликах святых, этот свет, животворящий иссохшие кости, — и есть тот самый свет, который стремится отразить иконопись. Прежде чем положить первый мазок, иконописец берет благословение у священника и просит, чтобы тот помолился о нем, затем поет тропарь Преображению. Золотой фон иконы на техническом языке называется «свет». Краски, которые вначале, кажется, темнят образ, постепенно становятся ярче, ибо мы шаг за шагом движемся к свету, по мере того как приближаемся к окончательному виду иконы. Одновременно художник старается очиститься от всякого чувственного индивидуализма, устремляясь к видению полной и чистой любви. Перед работой он постится и молится, дабы освободиться от страстей.
Сколь бы ни был художник одарен, он не может приступать к писанию иконы лишь с одним воображением. Кто поступает так, тот чужд иконе и не вправе ее писать. Аскеза, молитва, дар духовного созерцания наряду с художественным талантом суть необходимые условия создания иконы. Перед иконой Троицы работы Андрея Рублева люди говорили: «Зрим небеса отверсты и славу Божию». Конечно, задолго до Рублева, в Византии и в других местах другие иконописцы работали над этой темой. Однако, вполне разделяя с ними понимание Троичной тайны в духе Предания, Рублев сумел выразить ее с редкостной силой, проявив личную гениальность, что и позволяет нам констатировать как его укорененность в Церкви, так и его свободу, ибо он создал произведение искусства.
Верно, что икона консервативна, потому что работа над ней идет по строгим монастырским правилам. Поэтому все иконы кажутся схожими между собой, словно вышли из одной мастерской, особенно если относятся к одной стране и одной эпохе. Это сходство избавляет их от субъективного романтизма, но не лишает утонченной личностности. Есть такая стыдливость, которая не мешает порыву. Конечно, разные школы носят черты своих народов и городов. В нашем регионе одно и то же иконописное направление получает самые разнообразные формы — от Богородицы работы Кафтуна XII века до таких мастеров, как Нематалла Насер, Хомсиот в прошлом веке.
Всех этих художников вдохновляло то, что можно назвать духовной красотой. Но как говорить о художественной красоте в Восточной Церкви, если ее мистика очищена от всякого воображения и мечтания, если она отвергает всякую иллюзию и не дает увлечь себя страсти? Она следует в этом строжайшему аскетическому пути, дабы освободиться от ига страстей и всяческой религиозной сентиментальности. На Востоке молитва есть преимущественно молитва «умная», отвлеченная от каких бы то ни было образов и слов. Мы считаем экстаз признаком начинающих, а не совершенных.
Икона нераздельно связана с восточным богословием. Она основывается на идее освящения человека нетварным светом. Это значит, что человек сам становится светом, что он выходит за пределы чувства и разума и получает опыт вещей Божественных, как они есть сами по себе. Он проникает в ту область, где знание безббразно, беспредметно и где разум не имеет чувственной формы. Икона предназначена для освящения зрения, ибо она превышает зримое, дабы привести к единению с Богом. Икона — путь, который ведет за пределы ее самой, дабы достигнуть чистой сущности, чистой Божественности.
Итак, икона по существу есть парадокс. Это встреча искусства с тем, что постоянно оспаривает его законность. Невозможно иконе родиться в среде, не знакомой с восточным богословием и не живущей им. Этим объясняется ее исчезновение на Западе после Джотто, Чимабуэ и им подобных. Поэтому Запад не смог до сих пор обрести священное искусство. Конечно, есть на Западе произведения искусства с религиозными сюжетами. Но кто смог бы с сосредоточением и сокрушенным сердцем молиться перед Девами Рафаэля? Все священное искусство Запада вращается вокруг человека, его страданий. Христос работы Руо не выходит за пределы страждущей человечности. Он остается в этом мире, в словах: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил?» — и никогда не дорастает до песнопения: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».
С искусством Запада мы остаемся по сию сторону мира–там, где есть заблуждение, желание, рана. И Младенец в яслях, и Мать суть такие же персонажи, как пастухи и волхвы. Они одной плоти и крови — нашей крови, словно Рождество не крещено светом Воскресения. Каждое лицо до исчезновения теряется в зримых вещах. Бытие рассеивается на горизонте. Плоть есть плоть, при всей своей плотности, и она исчезает до конца. Не то икона — она устремлена к человеку озаренному, взирает на него с нежностью. У нее золоченый фон, прочный, как вечность, которую он символизирует. Она — тот небесный лик, что глядит на тебя с милосердием и к которому ты прибегаешь с сосредоточением и сокрушением. И вот из этого недвижного лика проливается движение и влечет тебя к нему и сквозь него — клику Отца милосердного. Глубина твоего человечества встречается с глубиной Его Божества, и твоя жизнь теперь «сокрыта со Христом в Боге».
Сказанного нами о христианском искусстве достаточно, чтобы убедиться в возможности божественного искусства в человеческой области творчества. Бог здесь не обрушивается, как молния. Восточная Церковь верит, что диалог между Творцом и тварью начинается с сотворения мира. Верит она также в то, что в искупительном деле в удивительной синэргии встречаются благодать и свобода. Можно было бы поговорить об иконе с точки зрения ее техники, композиции, об ее египетских, сирийских и других корнях, о чудесной восточной традиции, протянувшейся от Китая до Средиземноморья через Персию, — чтобы показать причастность всего человечества восточному искусству, у которого своя логика и свои особенные правила. Но мы предпочли говорить о том, что характеризует икону, исходя из самих ее восточных корней, о той особенной духовной печати, которая делает ее неотъемлемой частью Церкви всего Востока, поднимает ее на несравненный уровень выразительности в мистическом искусстве.
Представив искусство иконописи со стороны его уникальности, нам следует вернуться к создающему икону человеку в его отношении к природе и к обществу. Мир художника был бы непостижим, если бы мы связали его только с данными обществом или средой и если бы его богатство приходило к нему лишь оттуда. Конечно, природа сообщает ему плодовитость, но он относится не к области природы, он не есть ее зеркало и не создан по ее подобию, даже если он укоренен в ней и влюблен в нее. Бесчувственный человек не создает красоты, от него не исходит святость. Страсть — источник всякого бытия. Но если природа, с художественной точки зрения, есть основа личности, то она не бывает ни ее формой, ни ее законом. Природа — поток жизни, которой мы придаем стройности. В этом процессе природа обогащается в нас в то самое время, когда она в богатстве бытия изливается в наше существо. Так мы переходим от изолирующей индивидуальности к истинно личностному бытию, освобождающему нас от ига природы.
Личность — место, в котором силы природы укрощены и уточнены. Личность превращает природу в «существо». Она есть то светлое, любящее присутствие, которое превосходит природу. Среди ее греческих названий есть слово prosopon, то есть лицо. Как говорит философ Николай Бердяев, лицо не принадлежит миру вещей. В нем мы преодолеваем препятствия холодной и глухой объективности или замкнутой в себе субъективности, которые уничтожают истину. Лицо–та глубина, которая связана с Логосом, со Словом. Вот почему нам кажется, что, подавляя лицо, современное искусство ведет нас в материнское лоно природы, где мраком окутан зародыш. Тело — лишь набросок, ожидающий лица. В художественном плане окружающий мир не порабощает нас своими пределами и формами. Но когда художник отрицает окружающее его творение, он отягощает нас своей заблудшей субъективностью, которая барахтается во временном, случайном и преходящем. Он представляет нам существо, находящееся под воздействием окружения. Он составляет регистр этого окружения, чтобы затем подвергнуть его отрицанию и, в конце концов, разрушить. И прежде чем исчезнуть, предмет его вдохновения в последний раз повернется, задрожит в смертной судороге и повалится. Душа обнаруживает себя обнаженной, погруженной в свою трагедию, она свидетельствует о буре, в которой пребывает, перепутав искренность, то есть согласие с самой собой, и правду, то есть согласие с действительностью.
Некогда художник был наполнен природой, а теперь он наполняет природу самим собой, словно предпочитает, чтобы его душа оставалась безвидна и пуста, какой была земля, когда «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1,2). В этом есть какая–то ностальгия по материнскому лону, по этому мягкому иррациональному теплу, словно бы для нас желанна материя с бытием, но без формы; словно нам хочется вкусить общества джиннов, «духов», с их жутким шушуканьем; словно туннель, по которому движется человечество, для нас предпочтительнее выхода к свету. Весь ужас чудовищ, которых писал Гойя, так или иначе происходит от разложения формы, разложения демонического, которое осаждает и гнетет нас. Когда исчезает Лик Божий, вынуждено исчезнуть и лицо человеческое. Тогда природа перестает быть органическим и гармоническим телом, превращаясь в груду развалин, свидетельствующую о том, что погибло.
Исламское искусство, говорят, абстрактно; оно не знает лица. Но это неверно. Изображения лиц были известны, пока не был подписан запрещающий их hadith. Встречались они и позже. Но если предположить, что эти hadith пророка подлинны, следует вспомнить, что они исходили из принципа, согласно которому образ есть попытка остановить жизнь посредством искусства, способ продолжить жизнь, между тем как она должна однажды завершиться. А значит, искусство выводит жизнь из–под власти Творца жизни, отдает ее в руки человека, а в этом сущность магии. Я хотел бы отметить, что в исламе Лик Божий явлен в Коране, а Коран — чудо Божие, искусство Бога. Человек со своим умением и ремеслом не участвует в его создании. Напротив, где человек воспроизводит жизнь, там он ослабляет ее. Так, жизненная сила животного, уменьшаясь, становится растительной; вид растения приближается к линии. В этом движении к абстракции, к отвлечению проявляется отвержение мира, жизнь которого «забава и игра, и красование, и похвальба среди вас» (Сура «Железо», 20).
Искусство в исламе — как имущество и как дети, только «красование». «А пребывающее благое — лучше у твоего Господа по награде и лучше по надеждам» (Сура «Пещера», 46). Однако посредством этого «красования», то есть искусства, человек поднимается над плоской поверхностью жизни, наполняя ее чудесами «Драгоценной Книги», украшая бездушные вещи, дабы опочил на них взор. Именно это делает архитектура. Она смиряет чувства и возвещает, что Бог превосходит тварь красотой и что никакая иная красота не сравнима с Ним. Если в исламе отсутствует лицо человека, то это затем, чтобы настойчивее звучало утверждение, что один только Лик Божий достоин почитания и поклонения. То, что вдохновляет абстрактное искусство в исламе, не имеет ничего общего с абстракцией в современном искусстве.
В общественной жизни художник участвует и в то же время остается до одиночества независимым. Часто он бывает в раздоре с себе подобными, ибо прежде них достигает совершенства. Другие поглядели на него, и свет его ослепил их. Его жизнь кажется им безумием. Его могут осудить за отклонение от нормы, ибо кто посвящает себя истинной красоте, тот избегает мест, где проституирует себя официальное искусство. Он возмущает однообразный порядок вещей, безопасность рутины, все, что становится в искусстве модой или пустым украшательством. Этот эмоциональный шок опасен для нашего интеллектуального наследия; он ополчается на самое привычное и знакомое нам. От человека, чуткого к искусству, сыплются искры, озаряющие новые перспективы. Вот почему художник всегда был у истоков нового общества, возводимого на развалинах старого. Общество всегда начинается с разрушения. Воскресение приходит после смерти, дружба — после разлуки. Рушатся видимости, которые казались нам основой вещей, ибо внутреннее познание облачает их в свадебный наряд для нашего брака с глубинами бытия.
Замечать глубины мира, независимо познавать общество–не значит быть отрезанным от людей и от их проблем. Наша любовь отвергает стадность, она позволяет нам встретиться с каждым человеком в том, что в нем уникально. После этой встречи мы вступаем с человеком в союз бытия. Мы настолько становимся союзниками, что ощущаем бедность, невежество, наготу, растоптанное достоинство как раздираемое тело и проливаемую кровь. Сострадание ко всем живым — это тот бесконечно кровоточащий родник, из которого пьет всякий творческий дух. Раны униженных и оскорбленных, становясь нашим непрестанным страданием, делаются и языком грядущего человечества. Так красота спасается от идолопоклонничества и самодовольства. Это не значит, что яркокрасный цвет всегда выражает нашу радикальность, или что всего красноречивее крик. Изображения Христа работы Гольбейна или Дюрера — не обязательно лучше всего выражают страдания Назарянина. Нагота часто бывает наглой. Лучший облик Христа — Преображение. Но сияющая одежда спокойного Христа не закроет ни следов от гвоздей на Его ладонях, ни следа от копья в Его боку. Трезвение — начало всякого художественного творчества, трезвение, терпение и неусыпное внимание. Не дело искусства — седлать коня пропаганды. Стоит ему опуститься до выражения политики — все, птичка попалась, и ей свернут шею.
Вместе с людьми, но в стороне от всякого общественного режима, с непрестанным вопрошанием на устах — таким видится нам поведение художника. Именно это товарищество с людьми различных сословий и состояний позволяет художественному чувству сохранять свой характер, одновременно местный и вселенский. Ибо человек становится всечеловеком лишь тогда, когда черпает из источников отечества и в то же время перерастает его. Мы достигаем бесконечных горизонтов, только если глубоки наши корни.
Глава 5. ВОЙНА И МИР
Изгнание беса насилия
Мыслима ли современная война богословски? Этот вопрос можно задать только ощутив его ужасную и вместе с тем постижимую рассудком реальность. Постижимую рассудком, потому что план войны хладнокровно разрабатывается. Вычисляется количество жизней, которые придется положить, взвешиваются интересы государств или коалиций, которые ведут или объявляют войну. Война не начинается как стихийное бедствие, как старинный набег, ибо мы не живем больше при племенном строе. Война скрывается за песнями о свободе, за обращением к такому мирскому божеству, как международное право, за желанием, которое притворяется желанием мира, хрупкого и подвижного царства, имя которому–международное сообщество.
Страна, которая ввязывается в войну, не скрывает своих чисто материальных интересов, защиты своих прав, которым угрожают враги. Этих врагов она выбирает себе по собственной неумолимой логике, в правильности которой она убедит союзников, разделив с ними добычу.
От тотальной войны никуда не уйти. Для очистки совести мы будем взывать к Женевским соглашениям, будем оплакивать невинные гражданские жертвы, словно люди, сражающиеся по обе стороны, — не такие же невинные жертвы, раздавленные равно идеалистической идеологией обоих лагерей. Современное выражение «тотальная война» лишь обновляет «понятие современной абсолютной войны во всей своей подавляющей энергии», как высказался еще генерал Карл фон Клаузевиц, умерший в 1831г. Согласно фон Клаузевицу, необходимо достичь высшей степени резкости в ведении войны, чтобы ее не достиг противник. По логике вещей, две армии «должны пожирать друг друга, как вода и огонь».
В битвах не должно быть никакого хаоса. Стратегия разрабатывается рационально, ее порядок не оставляет места для непредвиденного. Война вдохновляется единственной логикой: победа как условие мира. Ибо, согласно знаменитому утверждению Клаузевица, «война есть продолжение политики иными средствами».
Если понимать войну таким образом и планировать мир во взаимосвязи с ней, для вопроса о справедливой войне не остается места. Здесь, как нигде, подходят слова Паскаля: «Что по эту сторону Пиренеев — истина, то по ту сторону–заблуждение». Кроме несказанных жестокостей, долговременных экономических кризисов, попрания нравственных ценностей, оставляющего неизгладимый отпечаток, увеличения числа хронических больных, к которым прибавляется неисчислимое количество психопатов, слово «мир» таит в себе лишь отсутствие состояния войны, диалектику господина и раба. Пройдут многие годы, может быть, десятилетия, пока новые поколения забудут обиды и поверят в примирение.
Пока будут победители и побежденные, мир будет принадлежать сильным. Кто послабее, увидит крушение своих империй, конец своего престижа. Национальному сообществу потребуется большая смелость, чтобы отказаться от своего тщеславия. На смену наглости приходит обман. Что до слабых стран, получивших независимость, они должны будут понять, что это вовсе не означает свободы. За юридическим термином «независимость» часто кроется возвращение в ином облике эксплуатации, покончить с которой была призвана постколониальная эра. В сознании «униженных и оскорбленных» народов остается убеждение, что они останутся вечно зависимыми, потому что не могут освободиться путем развития высоких технологий, так как от них уплывают товары, производство которых обеспечивает величие других. Более или менее прикровенный расизм, откровенная корысть, воля к господству в Северном полушарии помогает поддерживать рабское положение нищих стран, и, чтобы проучить шалунов, у Совета безопасности ООН всегда есть право вето.
У богатых стран есть возможность привлекать сильные умы, чтобы поставить их у себя на службу науке. Наука расчищает путь к производительной технологии, деньгам и власти. Униженные страны в праве потреблять эту науку, но не производить ее. Иначе у них могут появиться непростительные амбиции. Прометеевский идеал должен по–прежнему принадлежать Западу. Восточному уму надлежит быть фаталистическим; восточное сердце придерживается фанатизма. Общество иератично до интегризма, но интегризм только на руку великим державам, ибо он доказывает превосходство Запада и его право на вторжение туда, где, по его мнению, в опасности свобода. Ибо основная аксиома в том, что никто не имеет права на свободу по отношению к Западу. Можно при случае требовать соблюдения свобод в относительно слабой стране, принадлежащей к западному пространству.
Свобода слабых признается сильными лишь тогда, когда она обретена. Когда она в становлении, она расценивается как мятеж, интифада. Поэтому к ней применяются полицейские меры. Слабые используют оружие терроризма. Оно принято в левых кругах, прошедших западную школу. Это оружие дикое, варварское, достойное осуждения, и это разумеется само собой. Но оно особенно беспокоит дух полицейского общества потому, что не соответствует правилам искусства цивилизованных народов, то есть классической войны.
Создан целый словарь, чтобы настроить чуткую совесть против бедного и безоружного человечества. Так, бомба, брошенная в Галилее палестинцем из Ливана, рассматривается как террористический акт, и, напротив, израильский солдат, стреляя в ребенка, вооруженного камешками, участвует в операции подавления по приказу правительства. Для определения сходных действий используются два разных словаря.
Рациональность есть атрибут реальной или виртуальной мировой империи. Обычное или иное оружие — составная часть этой рациональности. К принципам взывают, когда они полезны; их знать не хотят, если перевешивает государственный интерес. Требуют суверенитета для страны, подчиненной чужому блоку, и не слишком торопятся требовать его для раздражающе гордого народа, который может и не стать союзником.
Группировки и подгруппировки больших государств, также как и малых, движимы смесью весьма земных страстей и интересов. У бедуинов пустыни есть перед ними преимущество ярости, поэзии хаоса. Великие державы руководствуются расчетом, который позволяет им цитировать все хартии прав человека, составленные Западом с XVIII в., и пребывать в коллективной иллюзии, если вообще за их поведением стоит какая–то искренность. Международное насилие — часть этой безнравственности.
Самое трагичное в насилии — его абсурдность. Кто на протяжении долгих лет страдания познал коллективный опыт смерти, тот познал иррациональность в чистом виде. Когда страсти народов бушуют на земле обетованной, жизнь становится драгоценнейшим из даров.
Во время бури ставится единственный вопрос: как спастись? В таком положении для умов естественно быть искушаемыми непосредственностью бесцветного ультрапрагматизма. Когда полнейшая безнадежность продлевается на неопределенный срок, напрашивается единственный вопрос: как мне спастись от смерти? Но когда этот вопрос утверждается как единственный факт текущей жизни, когда он перестает быть исключением, тогда он становится банальным. Он становится такой же вещью, как камень, все значение которого — в его огромности, количественности. Тогда он становиться частью равновесия, поддерживаемого властью, элементом политического размышления, упражнением для ума, эстетической реальностью. Ибо наихудшая позиция человека во время разгула насилия — это бесчувствие к насилию.
В бездне уничтожения вещей, людей, а стало быть, и того человека, который уничтожает, истинным грехом бывает бесчувствие. Ведь по этой логике, в виду насилия, можно самому занять место в концерте безумцев, ввязаться в пляску смерти, вообразить, что совершаешь подвиг спасения, когда у тебя руки душителя. Можно потерять из виду Того, Кто устанавливает различие — если оно вообще когда–либо существовало в очах Божиих — между воином и убийцей. Можно защищать на словах ценности, которых на практике никогда не утверждал. Эти ценности двусмысленны и подозрительны уже потому, что себя ты защищаешь в ином плане. Эти ценности извращены ненавистью, изуродованы тем фактом, что их отделяют от всей совокупности ценностей. Мы никогда не поймем с достаточной ясностью, что убийство исходит из сердца, что никакое зло не бывает внешним, а насилие — это лишь плоское воскрешение гордыни и тщеславия племен, которые никогда не узнавали в другом лика Божия.
Когда большую часть жизни проводишь в огне, месяцами без воды, без пищи, без света и без работы, понятие революции справедливо вызывает безумный смех. Единственной целью, к которой надо стремиться, становится само существование. День и ночь мы кружимся вихрем в концерте безумцев. Городские исчезающие тени ведут пляску смерти. Единственное, что помнится, это то, что мира больше нет. Всякое утверждение двусмысленно и подозрительно, всякий разговор обречен на тривиальность. Надежда исчезает, когда время пусто. Иногда его заполняет ностальгия. Всякая грань между внешним злом и внутренними испытаниями вот–вот исчезнет. Единственный отпечаток души — измученное тело, которое знает суету всех вещей, отсутствие Бога. Грех превращает жизнь в призрак. Грешу, следовательно, существую.
О грехе нет речи, потому что грех иррационален. Когда душа до извращения поражена грехом, она больше не определяется Логосом, источником ее мира и строя. Повторение греха порождает страсть, которая есть нравственное безумие в чистом виде. Когда апостол Павел говорит, что смерть есть воздаяние за грех, речь идет не о наказании, применяемом к грешнику извне, по Божьему приговору. Бог — не председатель трибунала. Речь идет просто о том факте, что смерть неотделима от всякого греха, рождающегося в нашем уме. Всякий грех несет в себе зародыш смерти. Прежде всего, грех есть разрушитель внутреннего существа; а потенциально — бытия в целом.
Не оттого ли отношения между людьми становятся предательскими, что изначальное греховное послание установило между ними ложные узы, в которых задыхается истина? Физическое насилие лишь красноречиво выражает факт взаимной ненависти. Оно совершается из страха перед истиной. Истина больше не передается, так как люди не хотят жить ею. Сначала, из ненависти к Богу, встать в позу жертвы, затем опереться в жизни на ложные основания и убивать других — такова неумолимая логика тех, кто добровольно отрезал себя от источника жизни. Даже во имя Бога такие люди укрепляются в Прометеевом безумии, в вызове формальной свободы, отрицая Слово Божие, которое одно может наставить нас и заложить основы нашей свободы.
Как ужасно это язычество иератического общества, лишающее имя Божие всякого содержания! Слово «Бог» начинает обозначать в нем волю к власти, становится религиозным символом террора. В конце концов, Бог может даже превратиться в понятие, а стало быть — в идола. Его имя может стать орудием истории, и это орудие люди уже не получают от Него, а выковывают сами и самовольно придают Ему. Святость уступает место героизму, и святым считается только воин.
Согласно этой логике, каждая группа заговорщиков может толковать Божию мысль, ибо войну ведет один Бог. Вера в Бога основывается на том, что Он сеет смерть среди чужих, и тем истинней Бог, чем больше этой смерти. Не человек ли–наместник Бога, как утверждает Коран? И, само собой, каждый приписывает это наместничество себе. Представляется нормальным, что каждый мнит себя предназначенным свыше для осуществления этой функции во временной жизни. Каждый считает, что наделен правом жизни и смерти. Следовательно, всякая война метафизична, и идти на смерть можно лишь религиозно, даже если в мирное время не считаешь себя верующим. На войне человек становится мистиком, в какие бы слова это ни облекалось. Если не верить в законность перехода воли Божией в волю человеческую, усомнишься и в себе как в толкователе судеб людских. Такое сомнение поведет к примиренчеству, а там и к рациональности, которая ставит Логос выше и вне собственного мнения рассуждающего. Такая рациональность учтет и существование другого.
Однако в описываемой нами логике важен такой пункт, как отсутствие другого. Или, если он кажется существующим, — так как с ним идет сражение, — то он может быть лишь случайным фактом, ибо мистика войны важнее, чем сама война. Другой не имеет исторического значения, ибо, если бы таковое имелось, он вошел бы в единство. В какой–то мере речь идет даже не о победе, ибо в Божием замысле наши уже победили. Победа — нечто вроде платоновской идеи, каково бы ни было ее эмпирическое выражение. Если оно не совпадает с вечным образцом, то измениться должна действительность. Основание для отлучения других — отождествление себя с целым, а если количественно ты все же не равен целому, то… тем хуже для фактов.
Для тех, кто держится этого взгляда, всегда существует священный союз, создаваемый Богом. Иначе у Бога не было бы постоянного наместника. Стало быть, данная историческая обстановка есть лишь знак метаисторической истины, которая Промыслом возложена на нас. На этой миссии основано настоящее, и она же обеспечивает будущее. Недочеты заставляют еще сильнее держаться за взращиваемый миф–миф, возвещающий другим конец. Когда душа одержима жаждой крови, вера уступает место идеологии. Слова из религиозного лексикона сохраняются, но изменяется их содержание. Они становятся символом исторической действительности или того смысла, который мы усматриваем в конкретной ситуации.
Именно мифологическое прочтение прошлого становится решеткой, разделяющей знание фактов и то знание, которое определяет действие. Поэтому и изгоняется другой из физического или нравственного мира. Если он не имеет права на жизнь сегодня, это потому, что его существование в прошлом было ошибкой. Его нельзя ни так перевоспитать, чтобы он отказался быть самим собой, ни с легкостью смести с земли живых. Зато можно, переделывая историю, прогнать его из обители мертвых. Не нужно ему принадлежать исторической памяти своего народа. Удалить его за пределы времени важнее, чем поразить отлучением теперь. Поскольку удобнее терпеть его в пространстве, прежде всего требуется сделать так, чтобы он попросил для себя статуса беженца в истории. Пусть он им подавится!
Однако жертва, хоть она уже не бунтует, еще не уничтожена до конца. Нельзя, чтобы большинство было судимо совестью меньшинства. Битва не закончена, пока меньшинство не отказалось от чтения своей истории. Идеология необходима затем, чтобы люди, принадлежащие к меньшинству, отказались от самих себя или, по крайней мере, свыклись с маской, которая надолго скроет лицо.
Идеология постулирует время для ее основания. Это выражение означает не просто исторический период, но ритм, нечто вроде Бергсоновой длительности, которая, если вы, из страха или из соображений выгоды, станете ее сообщниками, лишит вас вашей особенности и бросит вас в то, что будет выдано за истину. В этом утонченное и ужасное насилие, которое может обойтись и без оружия. Оружие, в конце концов, лишь символ отлучения, которому подвергается другой.
Несомненно, войну ведут боги. Земля лишь отражает безжалостность небес. Смерть столь чужда и враждебна нашей природе, что должна быть подчинена божественной причине. Отвергаемая человеком как последнее жало в его плоть и в его историю, она может быть основана только на воле Бога, Который вправе избирать себе наместников, каких Емуугодно. Вот почему учение о смерти не находит себе истинного места в религиях рока, в которых боги и богини подвержены человеческим страстям. Учение о смерти других мыслимо лишь в таком единобожии, в котором Бог не знает любви к другим, ведущей Его на смерть. Если Бог не приемлет смерти на Себя, чтобы сделать других участниками возникающего из нее воскресения, Он неукоснительно обрекает не своих на уничтожение. Бог, Который не знает внутреннего диалога с Самим Собой, тем более не знает диалога с язычниками и неверными. Еврейская чуткость допускает, что на вопрошания Иова дается подлинный ответ в том воздаянии, которое получает он за свои испытания. Но для того, кто осознает неизмеримое, ответ Иову несет только позднейшее единобожие, в котором открывается «Агнец, закланный прежде веков».
Хуже всего, когда человек основывает ложь своего сердца на Боге, на Боге, который решительно избирает себе наместников, чтобы сделать из них убийц. Это учение не знает античного рока, которому были подчинены боги и богини с человеческими страстями. Смерть других становится необходимой, когда Бог представляется всемогущим, Который гонит злого от Лица Своего и не принимает смерти на Себя. Единственный способ для Бога вступить в диалог с человеком — это отказаться от Своего всемогущества из бесконечного сострадания и уважения к свободе Своей твари. Тогда Бог возникает из Своей добровольной смерти в воскресении, восстанавливающем человека.
Когда христиане убивают во имя Христово, они «иу–действуют», в том смысле, что обращаются к Богу, отлучающему чужих, в духе 8–го и 9–го стихов 1 Зб–го псалма: «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!».
Отрицает такую позицию один Иисус Христос: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2,6–8).
Сколь далек христианский мир, со своим понятием о священных войнах против неверных, от этого воззрения! Я не буду останавливаться здесь на истории христианских народов, узаконивших насилие. Священные войны против «неверных» велись христианскими государями разных стран, в частности, Испании. Если крестовые походы не заимствовали из ислама всех элементов понятия «джихад», тем не менее верно, что права Божий — как у пилигримов Запада, так и в Византийской империи — защищались в походах, которые проповедовали мистики. Обращаясь к английскому народу, св. Бернард Клервоский говорил: «Земля дрожит, ибо Господь небесный утратил Свою землю, на которой Он явился среди людей (…) И сейчас, по грехам нашим, враг Креста поднимает там свою кощунственную голову и опустошает мечом землю святую, землю обетованную». Участие в крестовом походе означает, по св. Бернарду, спасение, прощение грехов и вечную славу. Он, вероятно, не задавался вопросом о том, была ли Палестина для мусульман святой землей, связанной с вознесением Пророка. При этом подходе Слово доказуемо мечом.
То же самое следует сказать и об исламе, который осуществлял завоевания во имя Божие и признавал за собой статус завоевателя. Христианский мир в форме империи был во многом подобен так называемому Дар эль Ислам, пространству, управляемому мусульманами, с немусульманской частью Дарэль–Гарб, где велась война во имя Божие, джихад. Ислам связан не с местом, а со Словом, и он узаконивает священную войну из желания принести Слово Божие в завоеванный край. Мусульманская религия в странах, покоренных мусульманами, предлагалась язычникам, если те соглашались ее принять, но не иудеям и не христианам.
Стало быть, нужно признать, что мусульманская священная война требует от воина духовной подготовки; она завершается великой внутренней битвой против страстей, которая называется джихад акбар. Здесь св. Бернард, сам того не зная, являет сходство с последователем ислама, ибо крестоносец, как и мусульманский воин, получает спасение в битве за Бога.
Позиция христианского Востока в этом вопросе ясна. Св. Иоанн Златоуст отлучал всякого, кто учил, что нужно убивать еретиков. Что до св. Василия Великого, он подвергал церковному наказанию воинов, принявших участие в войне. Каппадокийская Церковь, к которой он принадлежал, также как и Византийская, категорически отказывалась канонизировать солдат, погибших на войне.
Первые христиане думали преодолеть войну верой, молитвой и силой Божией. Но империя, хотя и ставшая христианской, не могла упразднить армию. Эта империя не была еще Царством Божиим. Ей нужно было защищаться от варваров. Свои победы и свою долговечность она понимала как защиту христианского дела. Крест становился орудием торжества в веке сем. Византийское богослужение полно проявлений этой идеологии, хотя одновременно в ней развивается духовность смирения и кротости.
Здесь не место спорить с понятием «справедливой войны», которое встречаем у бл. Августина и св. Фомы Аквинского. Думаю, что христианское понятие об этом нигде не было так извращено, как в Византии. Каждое утро все Православные Церкви мира поют: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на супротивныя даруя».
Конечно, у христианского Востока не было учения о войне. Он, однако, воспринял идею защитной войны, ведомой против турок или против «католических» армий, когда они вторгаются в православную страну, как то было в России. Нет здесь больше, правда, и пацифистких теорий, тем более, что с распадом Византийской империи Православные Церкви в большинстве своем оказались вне старых патриархатов и стали автокефальными Церквами, географическое пространство которых совпадает с соответствующими национальными регионами. У национальных Церквей есть националистическая жилка, и, как следствие, они более или менее открыто благословляют войны, предпринимаемые своими странами. В этом смешении жанров совесть не смущается войной как таковой.
Верно также, что византийцы никогда не освящали границ. Для них ойкумена включала христианские страны империи. Следовательно, нашествие варваров, если оно не получило отпора, означало в их глазах утеснение Церкви и воцарение бескультурья. Я понимаю ожесточенную волю спасти Константинополь, дорогой Богу и Богородице город, бывший предметом стольких притязаний вплоть до его падения в XV веке. Но как могли святые монахи, преосвященные епископы, неисчислимые свидетели прекраснейшей в мире литургии петь в акафисте Богородице, что она есть стена царства? Как эта Церковь, которая, в совершенно библейском единении, породила единственное известное мне в этом роде равновесие между богословием креста и богословием славы, — как могла она на протяжении многих веков и в самых чистых своих раздумьях смешивать дело Христово и дело империи, а затем и всех «православных царств»? Как могла она утверждать в богослужении, что крест — это царская держава? Эту атмосферу знал и Пророк ислама. Ее освятил, а затем превозмог Коран. Во время реформы Византию знали мало и плохо, но вся восточная интеллигенция была привлечена исламом, с которым знакомилась по первоисточникам.
Видение внутреннего мира, которому открыт мир как наше призвание, может установиться в Церкви лишь тогда, когда будет изгнан бес войны. Но как люди, движимые чистыми и благочестивыми намерениями, инквизиторы, могли зажечь столько костров? Как нацисты, вдохновленные представлением о новом и совершенном человеке, могли носить на поясах слова Исайи: «Gottmituns» (С нами Бог)? В этом одна из драм нашего исторического бытия. Ни один из этих вопросов не будет решен, ни шагу не будет сделано по пути мира, пока не пошатнутся библейские основы насилия. Заблуждение, на наш взгляд, не в истории, оно в богословии. Насилие узаконено, оно питается верой в то, что библейский Бог вел Израиль от победы к победе и подчинил ему все народы. Если православное христианство действительно верит в это, то нет никакого смысла подвергать сомнению богословие защитной войны у византийцев или крестоносцев.
Что говорит об этом Библия? Ветхий Завет приписывает Богу «руку великую», которую Он «явил перед Египтянами» (Исх. 14, 31). Господь поражает «всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота» (Исх. 12, 12). Господь же, сражаясь за Свой народ, вводит его в землю Ханаанскую, прогоняя оттуда «Хананеев и Хеттеев» и иные народы (Нав. 3, 10). Господь предает захватчикам Иерихон и его царя, внушая их вождю следующее проклятие: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его и на младенце своем поставит врата его» (Нав. 6, 25). О городе Гай Иисус Навин говорит: «Когда возьмете город, зажгите город огнем по слову Господа» (Нав. 8, 8).
В этом завоевании, предводительствуемом Богом, мы совершенно ясно видим разрушение и резню. Псалмы воспевают эти великие деяния. Давид говорит о врагах своего народа: «Как огнь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение» (Пс. 82,15–16). Согласно этому представлению, Сам Бог служит Израилю, устанавливающему гегемонию над чужой землей. Не Израиль воспринимает Божию мысль, но Сам Господь перенимает у него чисто человеческую жажду завоеваний и господства в союзе семитских племен.
Это совершенно чуждо вселюбящей природе Того, Кто есть Бог всех народов и Кто господствует над историей во всем ее течении. Если этот Бог действительно есть Бог Иисуса Христа — Тот, Чье имя, Чье присутствие, Чья истина — все любовь, — Он не поддерживал бы бойню, совершаемую Иисусом Навином.
Этому кровавому Богу противостоит образ Бога милосердного, Чей глас раздается из уст великих пророков, в частности, Иеремии, Осии, в Песне Песней. Евангельские интонации звучат и в тексте о браке между Господом и Его народом, и в песнях Исайи о Страждущем Рабе. Видя несомненную противоположность этих двух ликов Господа, Маркион в середине II века решил, что война, осуждение и кары, описанные в Библии, не могут быть делами благого Бога, Отца Иисуса Христа, что все это дела низшего божества, которое и есть подлинный бог евреев. Было очевидно, что Церковь, дабы спасти единство Писания, должна отвергнуть Маркионов дуализм. Византийская иконопись так проникнута идеей единства между Иеговой и Иисусом, что на нимбе, окружающем главу Христову, пишет слово О On — Сущий. Это имя, которым Семьдесят толковников перевели имя Господне, открытое Моисею в Богоявлении Неопалимой Купины.
Святоотеческая экзегеза Ветхого Завета в основе своей типологична. Отцы Церкви приняли такой подход, потому что Христос — единственный образ Божий. Многое в Библии они рассматривали как образы (типы) Христа или Креста. Так, Климент Римский, комментируя рассказ о блуднице Раав и лазутчиках, говорит, что багряная нить, спущенная блудницей из окна, есть образ пролитой крови Господней. Предание единодушно видит в воздетых руках крест. Византийская иконопись, чтение на всенощных отражают эту экзегезу. В чем же истинный смысл Откровения? Если верно, что Ветхий Завет есть, некоторым образом, икона Нового, то и Новый также есть образ, тип или прототип Ветхого, точно также, как св. Василий Великий смотрел на евхаристические хлеб и вино перед эпиклезисом как на образ плоти и крови Господних. Вот почему я приложил бы к реалиям Нового Завета скорее слово «типы», так как Евангелие уже открывает эсхатон.
Следовательно, типологическая экзегеза Отцов, принятая и литургией, тоже может скрывать исторический смысл Писания. Поэтому, в дополнение к ней, я предлагаю прочтение, которое можно назвать кенотическим. Это выражение происходит из Послания к Филлипийцам, где говорится о самоуничижении Слова — от Бога до человека, от человека до раба, от раба до мертвого тела на кресте. В этом кенозисе — добровольном уничижении — Христос не перестает быть Богом, божественность его природы не исчезает, просто она не проявляет себя. Она становится тайной, и божественное знание в Воплощенном Слове действенно лишь вместе с возрастанием в Нем человеческого начала. Синергия двух природ вдохновляет также Писание, которое есть Тело Христово.
По снисходительности Божией, а также в соответствии с уровнем культуры эпохи, менталитет которой был замутнен, Слово и истина скрываются порою глубоко под словами, под плотяным покровом Писания. Здесь вступает в действие то, что Запад именует личностью или субъективностью священного автора. Православные не признают этой субъективности. С их точки зрения, Иисус Навин есть прообраз Иисуса из Назарета. Он завоевывает не Ханаан, а мир, пораженный грехом, и не предает никого смерти, но принимает смерть на Себя. Все Божеское в Писании обретает человеческую форму а все человеческое носит в себе образ Божий.
В свете этого объяснения я отказываюсь приписывать войны, которые вел Израиль, воле Божией. Могущество Израиля не могло подготовить явление могущества Божия на Кресте. Иначе мы попадаем в плен морали средств, делая смерть орудием жизни и падение народов условием веры, подъема и процветания одного народа, будь то даже народ Божий. Ведь только Крест стал местом победы Божией и источником веры. Все то в Писании, что не согласно с тайной любви, скрывает Слово. По–настоящему звучит Слово лишь в любви, потому что только любовь есть Богоявление.
Ни условиями эпохи, ни идеей постепенного Откровения невозможно оправдать в глазах разгромленных народов ужасы войны, которую вел Иегова. Понятие постепенного Откровения ни в коем случае не может означать что–либо иное, кроме духовного созревания, внутреннего очищения, необходимых для восприятия Божественной красоты. От Бога Исхода, Бога Иисуса Навина, если понимать его как воина, нет никакого перехода к Богу Иисуса Христа. Чудовищный образ не может стать прекрасным.
Мне кажется, что идея о прогрессе в Откровении выросла из гегелевской диалектики. В еврейской мысли нет и следа подобной эволюции. Я не верю в то, что Библия в самом деле есть история спасения. Бог открывает Себя во времени, но Он не создается временем. История не есть создательница мысли Божией. Она представляет собой лишь рамку для Откровения, а затем Воплощения Слова. В ней вера становится доступной разумению. Но она никоим образом не может формулировать веру. Если история есть начало чисто человеческое, то начало Божеское входит в нее, не смешиваясь с ней. Поэтому Писание есть не излияние божественности во время, но тождество явлений Бога на протяжении времени. Единственное различие между Богоявлениями в том, что они не облачены в одинаковое великолепие, но, в силу педагогики или домостроительства любви Божией, в различной мере скрывают себя.
Если все действительно свершилось на Кресте, то окончательная истина Божия есть истина любви. Христос живет в Писании, которое диалектически скрывает и являет Его. Если Он — единственный носитель Откровения, то Он же, в Своей жизни и смерти, есть единственный толкователь Писания, единственная его система отсчета.
Вот почему страдания Ханаана и завоеванных народов–не от Бога. Напротив, Он всегда был на их стороне и никогда не поддерживал войска, поправшие Его имя. Когда Иисус Навин вел евреев в бой, Тот, Кто будет позже носить то же имя, был на стороне жертв, так же как Он был на стороне Исаака, когда Бог потребовал от Авраама принести сына в жертву. Господь открывается не в Своей грозной длани, но именно в слабости тех, кого раздавили войска Бога Саваофа. Под этим именем Израиль разумел собственную державу. Израиль был народом Божиим, но не Телом Господним. Реальность Тела Господня не могла открыться прежде внутри–троического кенозиса, без того самоуничижения, которое из любви совершил Иисус. Нужно было, чтобы в страдании Господь достиг совершенства Своей человеческой природы, чтобы было познано совершенство, чтобы открылась Его истинная природа. Это снисхождение Божие передается нам через таких «миротворцев», как слепцы, калеки и все обездоленные земли. Они — по преимуществу — суть носители дара Божия — непротивления злу.
Только исходя из этой слабости Божией можно понять учение Иисуса и Предания — бывшее до Августина единодушным: о непротивлении злу. Великий соблазнитель, видя кажущееся бессилие Иисуса на кресте, предлагает Ему сойти с креста. Величайшее искушение — верить в то, что мир можно изменить без Бога, что Богу можно навязать человеческие орудия, что в то мгновение, когда Господь вселенной оставляет мир, возвещая тем самым Свою смерть, человек занимает освободившееся место, чтобы возвести на царство справедливость.
Революция и контрреволюция — а обе суть явления Прометеева порядка — исходят из отсутствия Бога как Спасителя. Бердяев был прав, утверждая, что всякая революция есть мерзость; потому что она исходит из иллюзии, согласно которой, изгоняя людей и становясь на их место, утверждая иные принципы правления, она устанавливает справедливость.
Нужно, чтобы изменилось соотношение сил, чтобы вступили в действие новые социальные слои, новая динамика — тогда только творческое дыхание воодушевит бедных и заброшенных людей. Насилие объявляет себя единственным достойным ответом на невидимое насилие, осуществляемое угнетательскими и несправедливыми социальными системами. Существуют тиранические разрушительные общества, основанные на мятеже. Существуют структуры насилия, создающие обстановку, в которой исчезает человечность. Немалая часть человечества доведена до такого отчаяния, что насилия кажется ей единственным выходом. Те, кто, по причине цвета своей кожи, религиозной принадлежности, идеологической нейтральности не имеют права участвовать во власти или осуществлять общественные функции; те, кто лишен избирательного права, права на образование, на питание, на лекарства, на больничный уход, терпят несправедливость, которая сама по себе есть худшее из насилий.
Гражданская война, которая усложняется и возобновляется до бесконечности, идет по роковому кругу и кончается только голодом, показывает всю нелепость насилия.
На какой–то стадии социальной напряженности протест против несправедливости утрачивает смысл. Война, ставшая порядком общественной жизни, уже не позволяет задавать вопрос св. Фомы о бунте против тирана. Здесь налицо та спираль насилия, которую описал о. Элдер Камара как диалектику «несправедливость — бунт — подавление».
Когда все правительства, попав в неконтролируемую, совершенно иррациональную ситуацию, кажется, обречены на бессилие, мы выходим из той области, где применимо простое право. В этих условиях насилие — уже даже не средство. Когда ненависть, подозрительность, коррупция, фанатизм, гнет достигают пароксизма, вопрос выбора между политическим или иным решением становится излишним. Всякая политическая позиция диктуется расчетом, а на известном уровне общественной дезинтеграции всякая политика — политиканство.
Истинная политика мыслима, только если она исходит из внутренней речи. Если в этой внутренней речи мы благоволим к другому, то уже ставим себя по ту сторону средств. Я должен освободиться от замкнутого понятия группы и от привязанности к ней, чтобы обрести способность воспринять чужое лицо, в свете которого я смогу воспринять свое и по–настоящему войти в мир личности. В перспективе, направленной к концу, когда мы уже провидим общение любви, общество перестает быть просто эмпирической действительностью, которая вырастает из мира права и организации экономики. Подходить к вещам с точки зрения действенности — значит скромно пытаться навести в обществе порядок по удобным и временным формулам. Может быть, нам и невозможно ставить себе другую цель, особенно в третьем мире, где все так неустойчиво.
Однако политика не может находить оправдание внутри себя самой. Если человек — цель, то общество людей — не статистическая реальность, а общение личностей, которое, в конечном счете, мыслимо только тогда, когда все вместе обожены в Евхаристии.
Politeia vipoliteuma осуществляются лишь в эсхатологическом сообществе, которое полагает конец нынешнему статусу племен, народов и языков. Если смотреть на вещи духовно, границы между человеческими сообществами стремятся к исчезновению. При этом наше поведение не может быть продиктовано исключительно так называемой реальной политикой и в то же время определяться поиском Царства. Если Царство Божие представляется отраженным в царстве кесаря, это оттого, что гражданского общества в чистом виде не бывает. Такое общество должно быть, его требует евхарстическое общение, которое обнимает и одушевляет его, по слову Оригена: «Церковь есть космос космоса», — в том смысле, что сама Церковь — духовная вселенная, которая содержит в себе вселенную историческую, так же, как порядок делает справедливым и органическим то, чему недоставало лишь организации.
Отрицание войны было в первоначальной Церкви единодушным: доавгустиновское христианство отвергало применение насилия. Это единодушие ясно показывает, что антивоенная позиция согласна с учением и Преданием Церкви. Может показаться, что законность, как она понималась в империи, идущее от апостола Павла присоединение крах готапа (римскому миру) означает приятие воинства и войны. В действительности, после крещения Павлом Кор–нилия и тюремщика в Филлипах, вплоть до 170 г. нигде не упоминается о воинах–христианах. Неучастие христиан в защите Иерусалима в 70 г. и их бегство в Пеллу показывают, что они вовсе не были заинтересованы в судьбе этого города. Язычник Цельс около 178 г. увещевает христиан всеми силами помогать императору поддерживать справедливость, сражаться за нее и служить в армии. Он аргументирует это тем, что если император останется одиноким в своих усилиях, то обществу грозит беда: власть может попасть в руки беззаконников и варваров18. Из писаний Тертуллиана мы знаем, что в римской армии было значительное число воинов–христиан. Однако тот же Тертуллиан пишет, что, разоружив Петра, Господь разоружил всякого воина. Никакая одежда, говорит Тертуллиан, не законна, если незаконно то, к чему она обязывает [19]. В «Завещании Господа нашего Иисуса Христа» написано: «Пусть те, кто хочет креститься в Господа, воздержатся от воинской службы и от всякой общественной должности. Иначе их нельзя принимать».
Ориген, который, как и Тертуллиан, опирался на запрет Господень Петру убивать воина, говорит, что христиане не могут защищаться против своих врагов, не могут поражать человека, что они не должны более поднимать меч против какого–либо народа и обучаться военному делу. На аргумент Цельса он отвечает утверждением, что варвары, если их наставить Евангелию, подчинятся закону и нравы их смягчатся; тогда будут упразднены все языческие культы и воцарится христианство, ибо Слово тогда овладеет всеми душами.
Тот же тон мы находим у апостолов. Афинагор говорит об убийстве мириадов людей, об опустошении городов, о поджоге жителями своих домов, об истреблении целых народностей. Он утверждает, что никакое страдание в этой жизни не искупит таких грехов. Христиане, говорит он, не могут не страдать, видя, как человека предают смерти, даже за правое дело. Согласно Клименту Александрийскому, кто боится Бога, тот против войны.
Я цитирую эти тексты затем, чтобы показать, что первые христиане не только испытывали ужас перед войной и не считали ее законной, но и верили, что могут ее преодолеть, духовно победить. Такой позиции, утопична она или нет, нужно держаться просто потому, что в ней основание свидетельства, которое огнем Духа противостоит смерти. Смерть может приобрести такой размах, поселившись в плоти, в камне, в деревьях, в сознании человека, что всякий выбор лишится смысла, и единственным конкретно мыслимым выходом будет казаться убийство возможно большего числа людей из противного лагеря. А торжество такой политики провозглашает и обеспечивает после более или менее краткого перерыва возобновление вражды.
Когда на такую политику ни у кого нет управы, люди не просто преступают пределы своей идеологии, но делают ее ложной, отчуждая от изначальной и естественной ее цели–поддержания бытия. Когда воля к смерти становится наслаждением и правители государств ведут себя как вооруженные дети, о непротивлении уже нет помина. Учение о непротивлении должно быть действенным, его следует проповедовать как политическую теорию.
После двух последних мировых войн цивилизованное человечество поставило перед собой задачу: путем работы международных организаций противостоять агрессии и предотвращать конфликты. Кажется, некоторые страны, особенно в Западной Европе, благодаря более или менее тесному сотрудничеству, ушли от опасности вражды между собой в обозримом будущем. Если соседние страны достигнут высокого экономического и культурного развития, они обнаружат, что распри, приводившие их к противостоянию, значительно ослабели. Таков процесс гуманизации сообществ. Значит ли это, что всеобщее обогащение решает проблему войны? Ведь где богатство, там и власть, а всякая власть противоречит другой власти. Может быть, ключ к проблеме — в создании империи? Но возможна ли такая империя, которая гарантировала бы справедливость для всех народов, рас и религий?
Справедливость и мир неразделимы. Несправедливость ведет за собой отчаяние и раздражение, мятеж и стремление к разрушению. Она обличает волю к власти, которой движимы тиран и оккупант, и свойственную этой воле дискриминацию. Воля к власти порождает ложь, прикрывается ею в правовом государстве и утверждает как норму тот самый процесс «несправедливость — бунт — подавление». Ненависть, недоверие, фанатизм, расизм, угнетение — всем этим отмечен конец общественного диалога.
Всякая политика власти становится политиканством и исключает свидетельство. Если свободная или, по крайней мере, терпимая жизнь мне запрещена, значит, мне отказано в моем внутреннем бытии. Я могу свидетельствовать против этого творческим молчанием или мученичеством. Пусть я уничтожен общественно, но меня знает Бог и питает надежда на Царство. Общение святых осуществимо даже во время войны и гонений.
Мученик пребывает в мире с Богом вне политического тела. Никакая сила не может раздавить его, потому что он созерцает свет от лика Того, о Ком написано: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит» (Мф. 12,19–20).
Царство мира уготовано приходом Того, Кого литургия именует «Князем мира» (Ис. 9,6). А Павел говорит о Нем еще проникновеннее, еще интимнее: «Он есть мир наш» (Еф. 2,14). И далее, о том, что Он «убил вражду» (Еф. 2, 16). Здесь мы за пределами области юриспруденции, вне рамок Организации Объединенных Наций. Историческая же действительность, напротив, управляется либо силой, либо правом, и обе эти области чужды логике святости. Закон принуждает и употребляет силу. Мир, понимаемый как отсутствие войны, может быть частью политического мышления и политической этики, так как они отражают гуманистическую культуру. Политический человек стремится к такому политическому миру. Он будет осуществлять его здесь и теперь. Но он мыслит достаточно реалистически, чтобы понимать, что всеобщее разоружение немыслимо, а военная промышленность необходима в структуре великих держав.
Нет необходимости останавливаться на том, каким источником и коллективного, и индивидуального зла бывает страх. До самого конца истории люди будут порабощены этим страхом смерти. Насилие — неотъемлемая часть дела смерти. Ненасилие, понимаемое как простое неприменение силы, еще не есть победа над насилием. Ненасилие как смелость и преодоление себя — это уже не политическая позиция, но свидетельство.
Если, в существе их поведения, для святого и политика нет общей меры, тем не менее святой молится о том, чтобы мир, политический мир, установился на земле. Мир — нормальная среда, в которой развивается человек, мир — знак его победы над собственными вожделениями. И в том, что люди считают себя обязанными искать мирных разрешений конфликтов, заключается значительный нравственный прогресс.
Но желание сохранить мир любой ценой часто бывает признаком трусости. Человек не становится лучше от самого по себе факта переговоров о мире. Мир становится нравственной ценностью лишь постольку, поскольку он выражает истинное примирение меж двумя враждовавшими прежде странами. Здесь мы приближаемся к тому, что византийская литургия называет «свышним миром», то есть миром, пришедшим свыше. Призвав такой мир, литургия говорит далее «о мире всего мира». Из этого текста явствует, что во вселенной может воцариться глубокий мир лишь тогда, когда она обратится.
Мир как призыв Божий и как действительность, которая осуществится в Царстве, есть та Божественная среда, куда зовет нас Господь вопреки порочности земного существования. Такой взгляд требует он нас постоянных усилий, направленных против войны между людьми. Чтобы осуществить его как знак грядущего Царства, не думая об эффективности, а уповая на спасение, необходима евангельская кротость.
Когда страна обращается в пыль и люди ощущают себя зверьми, травимыми день и ночь, постоянно озабоченными тем, как выжить, единственным прибежищем человека становится Господь. Бытие, как бы невольно, переносится в план Царства, которое становится единственной почвой, не уходящей из–под ног. Вера тогда есть не только обличение вещей невидимых. Она тогда та «вещь», которую приобретают, чтобы избежать пули вольного стрелка. Та «вещь», которой вольный стрелок хочет спастись от осаждающих его знакомых лиц убитых им людей. Вот что говорит Максим Исповедник: «Если нерушимая мощь Царства дана смиренным и кротким, кто тогда будет настолько лишенным любви и желания божественных благ, чтобы не потянуться изо всех сил к смирению и кротости, дабы стать, насколько возможно человеку, печатью Царства Божия, неся в себе то, что по благодати дает образ, подобный образу Христа, великого Царя? […] Душа, в которую естественно влилась святость образа Божия, волею Его преобразуется в подобие Божие. […] Она делается осиянной обителью Святого Духа. […] Через нее всегда таинственно рождается Христос, воплощаясь в тех, кого Он спасает; Он творит рождающую Его душу Девою–Матерью» [20].
В ежедневном и тесном соприкосновении с плачущими Евангелие везде оборачивается состраданием, простосердечием, кротостью, слезным крещением. Терпение святых позволяет понять, что немало есть таких мужчин и женщин, которые не могут представить себе, что их ждет в ближайшем или отдаленном будущем, но в их унижении раскрывается величие Бога. Царство, которое внутри нас, становится уделом тех, кто никого не судит. Они не думают о том, что прочитали когда–то раньше о поведении других. Для того, кто пережил опыт бездны, которой нет имени, остается только жертвенная смерть, мученичество. Новое творение внутри нас, и мы знаем, что оно никак не относится к истории, к человеческим свершениям.
Эта позиция не ставит под вопрос вовлеченность христианина в политику в иных ситуациях. Но она позволяет лучше понять отказ от этой вовлечености ради Царства. Этот отказ бывает серьезным при независимости ума, отсутствии враждебности к чужому, понимании всех элементов преображения, которые присутствуют в каком–либо событии. Аполитичный человек не может быть свободным; он погружен в отсутствие, в нем происходит регресс. Только исходя из силы внутреннего сияния можно отказаться от использования силы. Именно в освобождающемся сознании совершается свидетельство кротких.
Этот Иисусов путь — уже описанный в первой песни о Страждущем Рабе — отражает поведение самого Господа, когда Он явился Илии на горе Хорив. Там встреча с Богом была не такова, как на Кармиле, во время убийства Бааловых пророков: Господь сказал Илии: «выйди и стань на горе перед лицем Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (3 Царств, 11–13). Этот тихий ветер есть Богоявление.
Недаром изо всех добродетелей, в которые облачена святость человеческая, Господь указал Своим ученикам на одну: «Возьмите иго Мое себе и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Эта добродетель, вместе с прочими, будет в нас плодом Духа (Гал. 2, 22–23).
Христианский народ, сердцем обращенный к святому Лику и видящий кенозис лика Божия, может веками, оставаясь верным абсолюту, не совершать громких дел, а просто передавать дальше сказанные ему слова, формы, в которые заключена его молитва. Неся крест Иисусов, покорствуя заповеди о любви, он будет свидетельствовать во мраке истории о вечной Пасхе.
Убивать — значит отрицать Бога
Жизнь наша — дар Божий. Бог нам ее дает, Бог у нас ее отнимает. Человек не имеет никакого права на свою жизнь, и ему не позволено посягать на нее. Только Бог обладает правом на жизнь человека.
Мы получаем жизнь от Бога. От Него же мы получаем окружающих нас людей. Они могут жить, как им угодно. Наша роль — щедро давать им советы, быть на их стороне, служить им, пытаться улучшить их судьбу и жизнь. Оказывая им эту помощь, мы должны тем самим стараться сделать нашу душу краше. У нас нет права их убивать, даже если они нас об этом просят, ибо сами они не вправе положить предел своей жизни. Эта жизнь не принадлежит им, просто она им вверена. Поэтому запрещен аборт: мать не имеет права на жизнь зародыша.
Никто не «обладает» больным, а стало быть, никто не может сократить или помочь сократить его дни, как бы сильно он ни страдал. Никто не имеет права и на мертвое тело. Даже если больной уже ничего не осознает, мы не можем подменять его собой, а если делаем это, то посягаем на тайну существования.
Наше тело — не предмет, которым мы можем распоряжаться по собственной воле. Оно — неотъемлемая часть нашей личности. Оно также не есть собственность правителей или судей; первые не вправе дурно с ним обращаться, вторые не вправе предавать его смерти. Из тела исходит человеческая речь. Кто приговаривает другого к смерти, тот обнаруживает полнейшее презрение к его человеческой природе, отказываясь вступить с ним в диалог.
Мы и другие, каждый со своим телом, должны вместе устремляться горе. Ведь Бог сам влечет нас с нашими телами к Себе. Именно Он связует нас. Тот, кто движется к высотам, может встретить другого, только если этот другой станет спутником по паломничеству. Если мы оба не тянемся к Господу, то наши отношения могут нарушиться, став отношениями угнетения или корысти. При таких отношениях угнетатель и угнетенный начинают смотреть друг на друга, как на вещь. Всякие истинные человеческие отношения осуществляются между двумя внутренними существами, а внутреннего мира нет там, где нет Бога. Существо в своей последней истине становится действительным только тогда, когда оно открыто своему Творцу, а значит, и другим существам. При такой открытости оно не говорит больше «я», а говорит «мы». Это касается также и тела. Ему нужно выйти за собственные пределы, освободиться от всякого рабства, чтобы стать способным понять и принять другого. Когда сходятся вместе «я», «ты» и божественный «Он», весь человек целиком и все другие люди оказываются направленными к Нему. Убийство же разбивает эту триаду.
Кто вытесняет другого, тот вытесняет сам себя и отрицает власть Божию над собой и над другим. Всякий грех есть отрицание Бога, и относится это отрицание к тому или иному качеству Бога — кротости, милосердию или любви. Убивать — значит отрицать Бога полностью. Это значит отрицать Его существование как Подателя жизни. Мы убиваем другого, ибо считаем, что он мешает нашим замыслам, интересам, страстям или нашей свободе и всему, что с ней связано. И мы воображаем, будто это решение укрепит нас, усилит наше слово, утвердит наш авторитет. В конечном счете, убивать — значит изолировать себя, чтобы навязать бытию свои цели и смотреть на себя, как на бога. Сознательно или бессознательно, мы желаем занять место Божие. При всяком преступлении заповедей мы отчасти заменяем Бога собой. Но когда доходит до убийства, мы занимаем Его место целиком.
В фильме о Жанне д'Арк мне понравилась сцена, в которой, разгромив англичан под Орлеаном, Жанна скорбит обо всей крови, пролитой в рядах противника. Хотя она убеждена, что предназначена свыше вести эту войну, Жанна не может вынести всей этой резни. Напрасно полководец объясняет ей, что не бывает войны без пролития крови. Жанна остается при своей собственной логике. Я заговорил об этом споре между святой девой и прагматичным солдатом только затем, чтобы признаться, что меня самого охватывает ужас всякий раз, когда я читаю: «Избави мя от кровей, Боже» в 50–м псалме. Я убежден, что этому искушению может подвергнуться всякий человек, по крайней мере, власть имущий.
В первоначальной Церкви всякий священник, который, хотя бы и невольно, становился причиной смерти человека, немедленно запрещался в служении. По некоторым канонам, также поступали со священником или епископом, которому случилось ударить человека. Отношения между людьми — это речь, иначе никаких отношений не существует. А всякая речь исходит от Логоса, о Котором говорит Евангелие от Иоанна, то есть из Слова Божия. Именно Оно связует нас. Без Него мы отрицаем существование свое собственное и наших братьев.
Это ставит проблему коллективных убийств. Когда народ принимается истреблять другой народ из страха, который тот ему внушает, это значит, что охваченные страхом убийцы воображают, будто смогут укрепиться в бытии, оставшись одни, вне всякого сожительства с теми, кого они убивают за то, что те — иные. Каин убивает своего брата Авеля, потому что тот — пастух, а у него самого другое занятие. Другой может быть не из нашей страны, принадлежать не к нашей расе, религии или партии, и за это он должен быть предан смерти. И так как мы не можем сделать так, чтобы его осудили за это по закону, мы убиваем его сами, без разбирательства, ибо всякое разбирательство — это уже диалог.
Можно сказать, что всякое истребление людей совершается во имя бога, живет ли этот бог на небесах или требует поклонения на земле. Таким образом, всякое массовое убийство «религиозно» — в том смысле, что расовая принадлежность или политическая догма сами по себе становятся формой религии. Религия тоже может быть понимаема или понимать самое себя так, будто она и ее приверженцы не могут впасть в заблуждение. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16, 2). Существует «литургия истребления», когда анафемы и приговоры провозглашаются во имя Бога. Те, кто их изрекает, убеждены, что Бог повелел Своим «избранным» убивать тех, кто не из их партии. Глубинная логика всякого массового кровопролития исходит из мнения, будто есть только один способ видения, который должен господствовать в мире.
Если во имя Бога убивать, то Бог становится идолом. Индивид, отдающий приказ о массовом убийстве, мнит себя наместником Бога, защитником святого народа, который одни зовут словом «итта», а другие словом «ekklesia». Когда применяется моральное или физическое насилие, святой народ превращается в социологическую группу. То, что было знамением Присутствия, становится местом пребывания абсолютной власти. Всякое иное место теперь представляется пустым. Человеческое сообщество, которое создавало единство этих групп, уничтожается, если одни отрицают других. Единство отрицается в корне. Все те, кто пытается его восстановить, заслуживают смерти. Единственной рациональностью, на которую мы опираемся в этой ситуации, становится смерть.
В странах, где менталитет народа не секулярен, люди, ведущие гражданскую войну, считают ее метафизической борьбой. В тех странах Третьего мира, где, как в Ливане, общество построено на конфессиях, всякая война, даже чужая, воспринимается как война религиозная. Если это прямая интервенция со стороны Запада, то ее называют крестовым походом. Мусульманский мир поныне не изжил моральной травмы, нанесенной крестовыми походами. Даже понимая рассудком, что западные государства движимы отнюдь не религиозными соображениями, мусульмане продолжают смотреть на Европу и ее культурное продолжение — Америку — как на христианские страны. Конфликт между Арменией и Азербайджаном, при том, что обе стороны–бывшие советские республики, воспринимался как конфликт с религиозным звучанием.
Как бы ни называли войну — выполнением цивилизаторской миссии или миротворческой операцией, она всегда на руку захватчику. Сознание захватчика нуждается в словах. Чтобы прикрыть насилие, всегда необходим миф. Война, даже современная, эта борьба богов. Что из того, что ее нарядили в новые имена? Особенно очевидно это на примере междоусобных войн в развивающихся странах. Мифологическое понимание различными сообществами своего прошлого и своего призвания не дает им анализировать факты и обусловливает их деятельность.
Мифологическое понимание своей природы определяет и такой взгляд на другого, неизбежным следствием которого должно быть его физическое или моральное вытеснение. Исчезновение другого включает исчезновение его истории, которая представляется заблуждением. Если сейчас невозможно стереть его с лица земли, населенной живыми, то можно, по крайней мере, фальсифицировать историю и заставить его исчезнуть из обители мертвых. Он не принадлежит больше коллективной памяти страны. Терпеть его физическое существование — еще куда ни шло, но непременно требуется, чтобы он отсутствовал на том параде богов, который называется историей. В такой ситуации основой идеологии становится желание смерти. Международная война по своей природе ничем не отличается от войны гражданской. Вражеская страна, конфессия или раса становятся чем–то закрытым, непроницаемым и должны исчезнуть. Изменяется лишь миф, которым пользуется смерть. Но и тут, и там отрицается самотождество другого. Надо создать новую историю, такую, как хочется. Отменить историю — таково требование истины, а истина по своей природе абсолютна. Истина — это особенность группы, ее длительность, то спасение, которое она принесет, когда окончится вражда.
Если люди чувствуют, что они унижены вместе с мертвыми единоплеменниками, то протестовать они могут только силой оружия. Оружие — это протест против несправедливости истории и надежда на правду, которая еще не пришла. Если свидетельство Креста ощущается как напрасное, надо распинать других. Их смерть докажет наше собственное бытие. Возможно, отношения между людьми разного закона не будет больше искажать ложное представление о сосуществовании. Людей не беспокоит, что убивают их, что убивают они. Истина плохо переносится, под ее весом опускаются плечи, а это потому, что мы не жили в кротком и мирном сиянии святости.
В гражданской войне есть утонченное насилие, которое глубоко растлевает ее участников. Человек в ней становится ряженым, укореняется в наихудшей лжи — во лжи сердечной, ибо анафемы провозглашает сердце. Гражданская война, всякая гражданская война — всегда преступление. Она управляется логикой вооруженных групп, «армий», которые существуют лишь в противостоянии другим вооруженным группам. Однако такая группа не может защищать общий интерес, потому что она изначально образована для того, чтобы уничтожить другую группу. В этом духе следует судить о войне, идущей в Ливане. Пока каждая группа, совершившая убийства, не раскается, не будет истинного покаяния перед родиной, то есть перед всем человечеством, которое она представляет. Бог восторжествует только в том случае, если каждый лагерь перед лицом отечества признает, что был причиной грехов другого лагеря и теперь сожалеет об этом. Вникая в эти проблемы, видишь, что нет ничего более ложного, чем распространенное у нас речение: «Прошлое Бог простит». Это неправда. Бог простит нас только тогда, когда каждый из нас признает, что поступает преступно, истребляя других или призывая к истреблению. Тот, у кого руки в крови, и тот, кто желал смерти, изгнания или подчинения другого, одинаково причастны этому греху истребления. Всякая жертва, кровь которой пролилась, невинна, к какому бы лагерю ни принадлежала, ибо сокрыта теперь в Боге, а Бог не желает, чтобы Его именем люди убивали друг друга. Бог один, когда есть на то Его воля, посылает смерть, но никто не вправе выдавать себя за Его представителя в деле смерти. В утлых хижинах Ливана над насилием торжествовал мир Божий, бесконечное прощение. Кто поддавался ненависти, тот чувствовал себя виновным. Мы, с нашим понятием о милости Божией, знали, что душители, может быть, просто несчастные, не знающие правды люди, которым однажды может открыться красота Божия. Когда зло сгущалось, мы чувствовали, что никто не принадлежит к партии Бога, что каждый по–своему стал убийцей, и мы теперь сможем жить, только если простим. Кто хочет оживить других, тот сам предается смерти. Поэтому истинный животворец — Христос. Взойдя добровольно на крест, он навсегда отменил всякое богословие, оправдывающее предание других смерти, всякое освящение военных походов, всякое отлучение людей, которое может создать гетто, всякое учение, узаконивающее месть, всякое распространение истины Божией принуждением, равно как и всякое применение оружия со ссылкой на Бога: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 51). Господь никому не давал повеления судить кого бы то ни было. Он один — Судия, Он, знающий подноготную человека. Он желает, чтобы человек был свободен, независимо от того, будут ли человеческие решения добрыми или дурными. Он дает расти и пшенице, и плевелам, велит солнцу восходить и дождю проливаться надо всеми без различия. Он раздает Свои дары всем и надеется, что каждый примет дарованное ему.
Я не вижу возможности убедить человека воспринять мирные нравы, если он не верит в Бога. Если Бога не существует, та я сам себе бог. Возрастающая волна убийств, которую мы наблюдаем почти везде, объясняется не чем иным, как самобоготворением, возведением в боги индивидуального или коллективного «я», которое осуществляют наши современники. Очевидно, что можно отпугнуть людей от преступности угрозой наказания. Для индивидов это, может быть, верно, но как быть, если наказания нет, как в случае этнических или конфессиональных войн, единственное логическое оправдание которых состоит в том, что их участники верят, будто «наш» бог желает ущемить «их» бога, то есть понимание Бога, принятое той или иной группой и выражаемое ею в своих действиях, отказывает в существовании другому пониманию, выражению и образу действий?
Плюралистическим обществом мы называем именно такое общество, которое признает различия, считает, что есть много понятий о едином Боге, поскольку Он может проявляться по–разному в одной и той же среде, когда она состоит из множества малых сообществ. Модное ныне понятие «воспитание в духе мира» не лишено двусмысленности, ибо может внушить мысль о согласии с предательством в некоторых регионах мира. Но идея остается плодотворной, она исходит из убеждения, что каждая страна должна иметь возможность сотрудничать с другими, что каждая этническая или религиозная группа, живущая в многоконфессиональной стране, имеет право на заблуждение и что отказ от заблуждения — это либо дар Божий, либо результат диалога. Это значит, что я могу указать тебе на заблуждение и что ты имеешь такое же право по отношению ко мне. Это единственный способ не превратить заблуждение в трагедию и быть в состоянии обсуждать его, признавая друг за другом право на жизнь. Из этого следует, что сосуществование не может быть основано на прагматизме. Единственная основа для совместной жизни — Бог.
Бог умер в нас, и мы сами стали богом. Поэтому мы считаем, что все позволено. Вернется ли истинный Бог? Я верю, что Евангелие, провозглашая: «Слава в вышних Богу, и на земле мир», — хотело сказать, что прославление Бога — условие, при котором мы сможем войти в царство мира. Слово «мир» — одно из имен Бога в христианстве или исламе. Когда же будет нам дано возлюбить в Боге мир?
Глава 6. АНТОЛОГИЯ РАЗДУМЬЯ НА ЗАРЕ
Надежда на освобождение человека
Веруя в то, что и миссия, и литургия — проявление того же Духа в Церкви, в какой мере мы можем считать освобождение человека в гражданском обществе делом Божиим? Чтобы это понятие стало предметом нашего религиозного размышления, оно должно соответствовать свободе детей Божиих, а развертывание его во времени должно касаться вечности. Нужно также, чтобы историческая жизнь Православия признала его как свое, иначе наши раздумья на эту тему будут пустыми.
Очевидно, что понятие об освобождении остается тесно связанным не только с социологическим опытом каждой из Церквей — но также и, может быть, еще более особенным образом в каждой Церкви — с их экклезиологией. Мы зависимы, хотя и в различной степени, от силы притяжения национальной истории, которая влечет либо к покорности, либо к нетерпению и мятежу. Должны мы считаться также с существующим представлением о Церкви как о слишком пустынном или, напротив, удушающе тесном пространстве. Возникает искушение попытаться создать пространство, более широкое и более способствующее освобождению, чем историческая Церковь. Если некая Церковь понимает себя как Corpus Christianum, притом что данное христианское общество отнюдь не отождествляет себя с Телом Христовым, нас будет соблазнять тварный мир, который станет рассматриваться как место спасения, поскольку в нем есть справедливость и творчество. Однако евангельская простота была и остается способной вызвать общественное действие широкого размаха. И евангельский Иисус всегда пребудет самой жизнью всякого движения за освобождение в христианской среде.
Обрисовать понятие об освобождении поможет один текст Николая Бердяева: «Человеческое существование имеет смысл лишь тогда, когда человек, личность перестает быть рабом мира, государства, нации, отвлеченного мышления, абстрактной идеи — и подчиняется непосредственно Богу Живому. И только после этого свободного внутреннего подчинения Богу, которое никогда не бывает «общим», человеческая личность может изнутри определить свое отношение к сверхличным ценностям и общим реальностям. Чтобы обрести свою общественную природу и свое общественное призвание, личность в своем существовании должна быть избавлена от всякого давления со стороны общества» [21].
Обращение по–прежнему приходит свыше, а внутренняя свобода, которую Отцы называют apatheia (бесстрастие) остается плодом Святого Духа. В этом смысле прав был Юрген Мольтман, когда писал: «Эсхил сказал, что в рабстве человек теряет половину своей добродетели, но не сказал, что человек обретает эту половину, когда свободен. Другими словами, если эксплуатация, гнет и отчуждение часто происходят от дурных условий жизни, то от лучших условий не обязательно происходит освобождение человека». Современный мир приучил нас к мысли, что несправедливость не есть какой–то неотменимый закон физики, а работу по освобождению человека должно предпринимать с надеждой на богочеловеческую синергию, действующую в людском сообществе. И все же главной и определяющей остается позиция молитвы и свидетельства, приносимого вместе с Отцами. В конечном счете, творец свободы — только Дух Господень.
Единство человеческого рода–конечная цель культуры и политики
Все, что проявилось в тайне домостроительства Сына, а также Святого Духа в Церкви, раскрывает внутритроическуюжизнь. Еще до начала мира Отец в тайне кенозиса видит перед Собой Сына. Отец уступает Сыну, ставит на свое место иное Лицо. То же самое делает Он по отношению к Духу. В этом отречении — перихорезис любви. Именно в это несказанное единство входит Церковь и каждый ее член. И это межличностное общение в Боге — источник богочеловеческого общения, в котором мы участвуем, совершая Евхаристию, и которое представляем миру как образец его единства.
Единство рода человеческого для нас не состоит в какой–то формально–юридической перегруппировке наций. Это не было бы так, даже если бы неисчислимый ряд революций и перестроек мог постоянно вести к более или менее длительному равновесию. Мы стремимся к истинному, межличностному единству, при котором общество не раздроблено на индивидуумов, погруженных порознь в свое ужасное одиночество. Это истинное единство — конечная цель политики и культуры, и осуществится оно в паруссии.
«Во Христе все оживут», — говорит нам о воскресении апостол Павел (IKop. 15, 22). И в Посланиях Иоанна, и в посланиях Павла, и у Отцов Церкви очевидно, что воскресение плоти связано не с бессмертием души, как мыслили его греки, а с восстановлением личности, которое и есть плод торжества Господня над смертью. Но если собственное наше воскресение посеяно в нас крещением и непрестанно поддерживается Евхаристией, то почему воскресение распространяется и на неверующих?
Мы не можем ответить на этот вопрос, возвращаясь к небиблейской идее бессмертия души, ища для этого воскресения естественного основания. Если личное воскресение дается человеку в конце времен, то он должен получить его залог, даже если пребывает вне Церкви. Силою воскресения человек имеет внутреннюю связь со Христом. Эта связь Христа с человечеством целиком основана на том факте, что Слово в воплощении приняло не только облик физического индивида, но и всеобщность человеческой природы. Иначе говоря, воскресение касается именно этой всеобщности.
Это заставляет вспомнить мысль о. Сергия Булгакова о том, что эсхатология, конец света и воскресение не являются как i ex machina (бог из машины), но приготовляются историей: «Эсхатология предполагает разрыв преемственности, transcensus; в этом состоит идея конца». Он думает, что и мир должен дозреть до своего конца. В мире совершается дело Христово. В нем есть и история, и эсхатология, и они взаимно обусловлены. Нельзя, считает этот великий богослов, останавливаться на «отдельных моментах исторической трагедии […], на вселенском крушении и разложении». Между Христом и человечеством — связь энергетического, общинного порядка: «Христос ведет свое человечество, несмотря на его сопротивление и враждебность, в которых проявляется свобода падшего человека» [22]. Таким образом, личное спасение человека вписано во всеобщее дело человечества — установление в мире Царства Христова. Второе пришествие Христа становится богочеловеческим действием, как стало таковым Его первое пришествие, когда Мария приняла волю Божью. Человек не только ждет, но и желает «пришествия дня Божия» (2 Пет. 3,12), приближает его святой жизнью и молитвой. Вполне законно воспринимать эту мысль апостола через понятие о синергии. Человек призывает пришествие Господне не только в плане личной чистоты, но и в том процессе очищения, который происходит между historia sacra (священной историей) и historia profana (мирской, неосвященной историей).
Евхаристия — источник свидетельства
Единственное наше обретение — свобода. Может быть, мы лучше поймем свободу, если поставим ее в связь с жизнью Церкви. Действительно, мы не можем рассматривать свободу саму по себе. Как пишет Поль Вергез, «свобода по определению неопределима, поскольку то, что определено, перестает быть свободным». Весь свой смысл свобода обретает в новой жизни во Христе. Об этой новой жизни возвещают миссия и литургия Церкви.
Для осуществления всякой миссии, для всякого суждения о вещах и идеях, для всякого глубокого прочтения человеческой действительности должно пребывать во Христе. Ибо если духовный судит обо всем (IKop. 2,15), то у него должно быть на то основание. Православие не может быть умственно скованным. Недостаточно много знать о Боге, чтобы свидетельствовать о Нем. Нужно знать Бога за пределами всякого слова и всякого рассуждения. «Всякое слово оспаривает другое слово, но какое слово может оспорить жизнь?» — говорит св. Григорий Палама. «Мы думаем даже, — продолжает он, — что невозможно понять самого себя способами различения, рассуждения и анализа; только суровым покаянием и действительным подвижничеством можно освободить свой ум от гордыни и зла» [23].
Иными словами, прежде всего важна здесь православная вера, опытно пережитая в общении верных, вместе со святыми всех времен, в нашем странническом пути к Богу. В расшатанном и разделенном мире с неустойчивой и неестественной культурой, в котором мы живем, безумию насилия и войны противостоит единственная непоколебимая истина — Евангелие Иисуса Христа. Однако речь не о том, чтобы бежать из разломанного мира, не о том, чтобы отвернуться от громады окружающей нас культуры, мечтая о немедленном наступлении мессианского царства. Речь об уверенности в том, что было вручено святым. Евангелие, это живое Слово, нужно проповедовать во всех положениях человеческой жизни. Мы сами пребываем в нем, через него судим обо всем, и речь наша становится пророческой.
В евхаристическом действии Церковь есть свидетельница, и она порождает свидетельство вне алтаря. Ведь между святилищем и вселенной нет разделяющей стены. Евхаристия–это точка, которой кончается путь падшего мира, и она же–точка, с которой начинается мир грядущий. Она — знак преображенного времени. И эта Евхаристия должна быть взята во всем ее богатстве и со всем, что ей причастно, и передана людям за пределами храма. Вечность протекает во времени, она есть смысл времени без его прерывистого характера. Если Евхаристическая Церковь — средоточие света, то мы можем воспринять всякий свет, пришедший в мир, рассеянный в нехристианском религиозном творчестве, в творческих областях науки и искусства, равно как и проповедуемую вне храма истину.
Вот как понимал встречу, сближение Церкви с историей людей св. Максим Исповедник: «Кто знает тайну Креста и Гроба, тот знает смысл (logos) вещей; кто посвящен в сокрытое значение Воскресения, тот знает цель, для которой изначально все создал Бог». Это значит, что Церковь — сердце мира, а мир движется к преображению. Так как между священным и профанным нет отношения противоположности, — ибо благодать и природа не чужды друг другу, — вся жизнь Божия пребывает в Теле Сына, Которое переносится Духом в таинства и во всю вселенную. Таким же образом связь между Церковью и вселенной, даже проявленная в истории, должна пониматься как связь внутренняя.
Церковь бывает объединением лишь случайно: Церковь есть общение. Именно как общение она становится Благой Вестью. Сокрытая во Христе и данная миру в святых Таинствах, она свободна от мира и от собственного бытия во времени, ибо ни история мира, ни наука ее отнюдь не исчерпывают. Потому и может христианин свидетельствовать о действенности Церкви, что он знает эту ее глубинную истину. Напротив, неверующий может увидеть в Церкви набор маргинальных или второстепенных ценностей, но не ее сущность. Вот почему когда христиане пускаются в социально–психологический анализ или в научную деятельность, дабы приправить их богословием либо набраться пущей язвительности, они всегда совершают нечто технически внешнее и никого не приводят к главному, к сердцу послания. Христос прославился в Своих учениках (Ин. 17,10). Это значит, что они участвуют в тайне Креста и Воскресения. Эта тайна хранит их, делает из них народ святой, царственное священство, людей, взятых в удел Божий. Смысл существования этого народа в том, чтобы быть иконой Бога Троицы, и также как икона, они причастны Божественному Прообразу. Христиане говорят, что их руки осязали Слово жизни. Возвещение об этом опыте живой любви, который содержится и символизируется таинством Церкви, вводит мир в троичное общение.
Литургия — сердце христианского бытия
Так или иначе, мы вновь приходим к мысли о литургии как о центре всего. Несмотря на некоторые, отмеченные сентиментальностью, искажения литургического благочестия в последние столетия, несмотря на множество прозаичных и плоских текстов, византийская литургия остается творением, превышающим всякое воображение. Она по преимуществу есть источник восстановления бытия, разделенного грехом и осаждаемого со всех сторон силами разъединения.
Современный человек ищет единства, надежды и красоты, в которых, на высшей ступени их проявления, и открывается вера. Литургия — это не что иное, как подтвержденная опытом вера в то, что Бог обитает в нас, и эта вера сообщается всеми всем, по закону евхаристического собрания, которое воплощает видение мира. Литургия делает нас всех вместе присутствующими при Присутствии, выводя за пределы сказанного и даже понятого слова, за пределы всех эстетических реалий, призванных в пространство и время этого действия.
Таким образом, Слово, прочтенное в собрании, становится знаком спасения, принесенного Христом, и этот знак раскрывается перед нами как насущная и вечно новая истина, и он обретет полное свое значение лишь в конце времен. Конечно, у слова есть педагогическая задача, но оно также–истина, как всякий подлинный знак, посланный человечеству, чье слово проституировано публицистикой и политической речью. Когда сказанное в тексте не совпадает с подразумеваемым, слово травмирует и даже сводит с ума.
Литургическое слово в простоте исповедания веры соединяет меня с верными всех времен. Догматика, богослужение освобождают меня от всякого чувственного волнения, не нарушая индивидуальности. Собрание принимает меня и переносит в насущную и длящуюся вечность, отраженную в бесконечном богатстве Предания, через общение с людьми, простыми и образованными, красивыми и безобразными, богатыми и бедными, и все они приносят покаяние, чтобы простить друг другу ограниченность и предрассудки и встретиться вокруг стола на общей Вечере.
Если слово оживлено пророческим дыханием, оно изгоняет торгующих из Храма и подчиняет неправедного канонической дисциплине. Евхаристическая община несовместима с угнетением, и в совершении таинств Церковь — судия. Если меня не оттолкнет мой же предательский поцелуй, я буду принят в собрание праведных, исцелен от моего греха, встречен братьями, допущен в общение святых, и цель моя отныне — вечность. Я не предоставлен более своим мечтаниям, меня уже не раздирает жажд а почестей, суета ума и тщеславие добродетелей, потому что богатство братьев помогло мне открыть мою нищету. Я могу теперь торжествовать над своей личной суетностью и коллективной гордыней, ибо Тело Христово созидает Он Сам.
В литургии красота переживает истинное превращение, и на нее нельзя больше смотреть как на чисто эстетическую реалию. В пении, а тем более в иконах, искусство становится причастным будущему веку, потому что оно представляет Господа во славе. Человек побеждает растерянность, которая охватывает современное искусство перед тупиком людского разъединения, и обретает целостность своего внутреннего образа, отражающего свет Воскресшего.
Я не знаю другой области человеческой деятельности, кроме литургии, где эрос воспринимался бы столь творчески, без разлада. Тело здесь пребывает в ожидании воскресения, его разлучило с душой зло. И душа, и тело омыты, окроплены, помазаны, освобождены от злого духа, оздоровлены. Тело стало евхаристическим, потому что оно вскормлено Телом и Кровью Христовыми и не знает более пределов. Благодаря этому дару тело человеческое получает залог вечной жизни. Оно утверждается как посредник между Богом и вселенной, искупление которой уже исполняется в нем. Хотя мы и принадлежим через грех к падшему миру, мы представляем все начала мира в этом продолжении Евхаристии. Это продолжение — живое жертвоприношение наших тел в их целомудрии и восстановление нашего существа в его целостности.
Христианство не умещается в истории
История для православных христиан интересна лишь тем, что в ней действует Дух Святой. Конечно, можно судить о значительном числе христиан и христианских общин потому поражению, которое потерпели их попытки изменить мир, но подобный суд подразумевает, что христианство приковано к истории. Однако христианство не умещается в истории: оно полностью совпадает с присутствием Христа и нашей жизнью с Ним, сокрытой в Отце.
Кто видит себя в свете Божием, кто отождествляет себя с этим светом, у того терпение больше и сопротивление тверже — ибо основание их глубже, — чем у того, кто хочет одолеть историю силой и оружием. Для последнего важно количество, важны средства к существованию, политика, ибо все это обеспечивает силу. Перед нами два различных мировоззрения, которые не могут прийти и никогда не придут к согласию.
Истинная проблема не в том, чтобы узнать, выживем мы или нет, она в том, сможем ли мы достичь состояния людей, опытно переживших в теле и душе действие божественной энергии, ибо иметь этот опыт — значит вновь обрести уверенность в бытии и святости человечества, которое все целиком призвано стать полем действия Божьего и местом обетованной встречи со светом.
Тот, кто облачился в белые одежды света, больше не страшится бытия. Он не унывает в дурные времена и ничем не тревожится, для него существует лишь свет, которым он одет. Вне этого света все умирает — времена, мысли, действия, все становится адом, которому, однако, не одолеть наследия, раз и навсегда переданного нам святыми. Это наследие–источник силы и доверия, обновления мира. Это — воскресение и Пасха Господня.
По ту сторону пространства и времени
Только Христос освобождает пространство и время от мучения. Пространство — это разделение, скорбь от того, что рядом нет друга, невозможность вездесущия, тяжесть еще не прославленного тела. Немногие люди ощущают этот род страдания, но они испытывают всю скорбь чужбины и насильственного изгнания, отрыва от близких. Однако в церкви–храме мы уже не живем в чистой горизонтальности:
Кровь Христова сближает нас (Еф. 2, 13), и рушится разделяющая стена.
Христианский храм символически являет Тело Христово, растущее из краеугольного камня. В праздник Воздвижения Креста крест, который держит священник, благословляет все четыре стороны света и собирает их вместе. Крест принимает нас в свое вертикальное и непрестанное восхождение ко Вседержителю, словно священное пространство храма становится отправной точкой непрерывного шествия. Христос рубцует в нас разрыв пространства. Мы знаем отныне, что поклонение Непорочному Агнцу совершается в любых условиях, и вера превозмогает все обстоятельства.
Одна из самых вдохновляющих черт литургического сознания — освобождение от ига времени с его смертностью и тоской. Ветхое «нет ничего нового под солнцем» побеждено пасхальным «теперь все новое». Новое не той новостью, какая приходит в круговращении времени, но обновленное тем, что в нас и вокруг нас причастно новому рождению в Духе Святом. Это надежда на воссоздание, воскресение, ибо время как таковое лишь приводит человека в ветхость и вовсе ничего не создает. Мы должны искупить дурное время, очистить его от зла, дав ворваться в него вечности — тому божественному качеству, которое не исходит от тварного, но, не разрушая его, как одно из измерений космоса, наполняет его той действенностью, которой то само по себе не обладает.
Таинство переносит нас от повторения к абсолютному творчеству. Новое творение во Христе принадлежит будущему веку, который разрывает храмовую завесу. По отношению к истории мы всегда живем в двух планах — исторической непрерывности и эсхатологического обрыва. В нас встречаются оба процесса — рост и распад. Истинное бытие заключено в вере и не сводимо к чистой исторической рациональности. Отсюда двойственный статус христианина в истории: он одновременно есть существо, вовлеченное в историю, согласно ее законам, и свидетель, отрицающий ту форму, которую принимает его вовлеченность.
Литургия без дерзновения становится противосвидетельством
Экклезиология, не соответствующая предмету, — источник заблуждений и непоследовательности в социальной практике (praxis). И напротив, общественный гнет делает невозможной полноценную вовлеченность в общественную жизнь. Может быть, постоянное литургическое прошение о мире всего мира выражает мечту об освободительном действии Церкви, возрожденной через Евхаристию, Церкви, которая желает не только торжества, но и приношения к «жертвеннику нищего», по слову св. Иоанна Златоуста. Проблема в том, что Восточная Церковь часто бывает заточена властями в алтаре. Если кажется, что Бог, через Церковь, надолго попускает жезлу нечестия тяготеть над судьбой праведных, те воздевают к Нему руки, вопия о беззаконии. И литургия без дерзновения станет противосвидетельством. Церковь, даже наименее формалистическая, будет стремиться придавать почти абсолютную ценность обрядам и формам. Однако пророческий дух, точно золотая нить, возникает то там, то здесь и выражает себя в истории — обычно через монаха или иерарха, порой через священника. А значит, молитва Церкви была и может быть производительницей плодотворного общественного действия.
Воплощение распространило Бога по всей вселенной
Движение за обновление в Церкви определяется своей отправной точной, открываемой им перспективой, питающими его вечной сущностью и основой, несомым им посланием; все его существо возрастает от освобождаемого им энтузиазма.
В начале такого движения перестраиваются ряды и нарастает возбуждение, его источники разливаются все обильнее и соединяют умы мыслью об обновлении. Возникает двойная необходимость: во–первых, необходимость черпать от Бога, Который нисходит к нам, присутствует среди нас в молитве, в слове и в очищении сердца; во–вторых, необходимость выразить нашу веру соответственно нашей эпохе. Эта необходимость не только открывается нам Богом, когда Он нисходит к нам, но и рождается из той действительности, которая перед нами. Бог приходит к нам не только сверху, но и из мира, перед которым мы стоим, от его дальнего горизонта.
Если человек не видит одного из этих двух измерений Божьего пути к нам, его представление об этом непрочно. Если он прибегает к своему Господу, не считаясь с пространствами этого мира и не заботясь о том, чтобы перенести туда своего Бога, то он чужд тайны воплощения, которое распространило Бога по всей вселенной. Если он начинает теряться в осаждающих его со всех сторон проблемах, не обращаясь к вдохновению Духа, он сворачивает с правого пути.
Противоположность между мирским и священным превзойдена
Эсхатологическое измерение в христианстве означает, что человек уже в этой жизни причастен славе Царства. Церковь стоит на том, что христианин по самому своему положению должен надеяться. А в надежде уже есть предвкушение тех духовных реальностей, на которые человек уповает. Мы получили залог Святого Духа. Мы видели свет истинный, поэтому вся земная действительность переживается нами в вере, а значит, она есть уже преображенная действительность. После воплощения Слова нет больше разделения между человеческим и Божеским. Бог вочеловечился, а человек стремится жить тою же жизнью, что и Бог. Нет больше жизни только земной. Век нынешний и век будущий не составляют двух в корне различных времен. Пришествие Христово уже охватывает всякую человеческую структуру изнутри. Христос осуществляет синтез тварного и нетварного.
Стало быть, неправильно говорить о противоположности между священным и мирским. Мирского, не освященного больше нет, потому что все подлежит действию Божественных энергий, которые оживляют все творение. Ничто не отделено от Бога, ничто не чуждо Богу. Все принято Им, все освящено, все принесено ему. В воскресенье в Церкви можно видеть хлеб и вино, положенные на жертвенник. Их материальность очевидна, но по молитве они становятся совершенно иными; от чувственного уровня они перенесены на уровень умопостигаемый, и означают теперь Царство. Духовность как область Духа Святого уже в этой жизни становится призванием и последним значением всей действительности.
Иными словами, восточное христианство не допускает разделения между благодатью и безблагодатной природой, к которой благодать прилагается как бы извне. Человек создан по образу и подобию Божию; поэтому мы смотрим на человека как на тварь с божественным устройством. Мы определяем его через Бога, живущего в нем, а не по его состоянию удаленности от Бога, вызванному падением. Человек принят в Божественное движение, начатое во Христе и непрестанно обновляющее его, пока он не будет погружен в глубины божественности.
Все это заставляет нас занять позицию, основанную на вовлеченности в земные проблемы. Сама эта вовлеченность основана на вере и вписана в путь, который позволяет нам обрести вечную жизнь. Мы — политики, чей ум направляется Богом, и цель нашей работы — ввести Церковь во славу Божию и дать человеку корни. Мы не отделяем национальных и общественных забот от нашего понятия о Боге, ибо единственный свет в человеческой истории — это Он и Его Слово. Надо, чтобы этот свет отразился в структуре этого мира и во всех, кого она охватывает.
Между Церковью и миром нет онтологического дуализма
В природе веры — соединять верующих с тем, что не от мира сего, с нездешней логикой, которая выше мира.
Церковь как евхаристическое собрание, как орудие и место спасения не получила такого света, который был бы направлен собственно на организацию мира. Церковь — вместилище откровения. Как, в силу исторических обстоятельств, она основала некогда школы, а затем, когда человечество выросло, должна была отдать их профессиональным педагогам, так ныне она призвана вместе со всеми людьми строить людской град. Но это не превращает ее в учреждение века сего. Она не станет ничем руководить, не будет распространять свой суверенитет, не породит никакой партии. Ее призвание — петь славу — растворится, исчезнет в труде, ее слово станет молчанием. Она придет в мир с голыми руками, взойдет на крест мира, так как не мнит себя больше прочной ладьей, но все также будет веровать в то, что ее Господь уймет грозящую бурю. Сознавая свою уязвимость, которая делает ее принадлежащей миру со всей его тревогой, ожидая спасения и для себя, Церковь смиренно станет служить человеку и употребит для этого тот язык и те средства, которые присущи человечеству.
Христианин знает, что он — посредник между Богом и миром, что ему поручено управление всем сотворенным, и политика тоже в его ведении. Труд можно богословски понимать как дело богочеловеческое, как участие в мудрости Божией, в воссоздании вселенной, как момент приношения в космической литургии. Это значит, что вселенская литургия служится вне священной ограды Церкви. Все это озарено не только светом творения, но и светом искупления. С тех пор как воплотилось Слово, весь мир действительно стал обителью Духа, и различие между мирским и священным, естественным и сверхъестественным сменилось единством богочеловеческой ипостаси. Таинство раздирает храмовую завесу, и мы погружаемся в беспредельное присутствие призывающего нас Христа. Стоя перед алтарем, мы знаем, что тайно образуем херувимов, но знаем и то, что мы возносим к алтарю небесному человеческие упования. Именно через труд человека очеловечивается и начинает преображаться по обетованию космос. Экономический и социальный строй — это медиана между строем космическим и строем небесным.
В этой перспективе Церковь есть открытая действительность, тайна космического общения, в которой принято и вознесено все человечество. Тело Господне в евхаристической трапезе есть также тело всего человечества. После Вознесения все человечество стало причастно жизни Христовой.
Фактически между Церковью и миром нет никакого онтологического дуализма. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3, 16). Область славы, в которую вошли ученики, сама вошла в мир с пришествием Иисуса. Церковь — это место, где явлена и узнана любовь Божия к миру, где призывается Имя Божие — Имя Отца. Но есть у Господа и другие способы присутствия, кроме Имени, и великое знамение Его присутствия — Церковь.
Понимаемая таким образом, Церковь не противостоит тварному миру. Церковь — икона того, чем призвано быть человечество. Человечество некоторым образом осуществляется в ней, по крайней мере, в миг совершения таинства. Благодаря тому, что Церковь получила, она стала сердцем человечества, «космосом в космосе», как назвал ее Ориген. Мир получает в Церкви откровение, обращенное к нему самому.
Наша задача — развитие целостного человека, потому что «человек един во всех людях», как говорит св. Григорий Нисский. Поэтому я должен быть везде, где человек. Я должен погрузиться в среду, где живет человек, т. е. в его историческую и общественную жизнь. Так я очеловечиваю вселенную, изгоняю из нее злого духа; через меня вселенная дорастает до своей вечной судьбы. Я сам оббжен соприкосновением с ней, ибо в космосе я получаю омывающую его славу Божию. Это сознательное и тихое присутствие свидетеля в мироздании — дело Церкви.
Итак, есть две области Христова действия: область алтаря, вертикальная и таинственная, и область мира, которую нельзя считать только горизонтальной или линейной. Ибо после Пятидесятницы ничего чисто временного и только естественного больше нет. Впрочем, никогда не было такой ограды, которая замыкала бы действие Пятидесятницы, так как есть «Свет истинный, Который просвещает всякого Человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9). Я не думаю, что историческое время сущностно отличается от времени церковного. Здесь и там знамения распознаются людьми, наделенными харизмой. С одной стороны, исторический анализ показывает в религиозном обществе столько же бедственного, сколько и в обществе гражданском; они долгое время вместе составляли христианское человечество. С другой стороны, Христос так же властен над миром, как и над Церковью; и вне пределов, где совершаются таинства, Его господство признается духовными людьми, которые судят обо всем в свете здешнем и в свете грядущем. Именно потому, что присутствие Христово в мире сокровенно, что Его победа там не возвещена, мы призваны явить это присутствие нашим участием в общем деле человечества, не забывая при этом о двусмысленности всего, что вне Евхаристии.
Признавая тесную связь между миром и Церковью, две группы греческих богословов, собравшиеся в Салониках в августе 1966г., вступили между собой в спор о природе этой связи.
Для одних отношение Церкви к миру есть, главным образом, отношение керигмы. В этом случае Церковь черпает все в Боге, ведет диалог только с Ним и передает это послание миру, приспосабливая к мирскому языку и менталитету. Часть этой группы считает, что так как творение «хорошо весьма», речь идет о том, чтобы крестить мир, освобождая его от «князя мира сего», призывая к жизни в Боге и воплощая эту жизнь. Напротив, для более консервативного крыла такая открытость миру неприемлема, ибо «ничто в мире не изъято из греха».
С точки зрения других, Церковь должна вести диалог не только с Богом, но и с миром. Мир для них — не только объект миссии, но и «одна из двух книг Откровения Божия». Иначе говоря, Церковь может кое–чему научиться от мира.
Примечательно заключение, принятое на этой встрече: «Линия, которой должно следовать православное богословие, чтобы встретиться с миром, историей и цивилизацией и помочь им, есть богословие харизм Святого Духа». Таким образом, дело человечества не понимается как секулярное и профанное. Для христианина это дело служения и творчества, вдохновляемое благодатью, в мире, пробужденном воскресением и Пятидесятницей.
Господь сказал о своих друзьях: «Мир возненавидел их, потому что они не от мира» (Ин. 17,14). Кто находит милость у власть имущих, те составляют неотъемлемую часть мира, они — нить в его ткани, плоть от плоти и кровь от крови мира и никого не беспокоят. Они охвачены совокупностью царящего порядка. Они находятся в совершенном согласии с ним, так как это приносит им почет, деньги и силу. Они служат страсти, которая в ходу среди людей и влияет на них. Что до малого стада, пасущегося в долинах будущего века, то его Учитель сказал о нем: «Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин. 17, 16). Они до конца пребудут в верности Евангелию. Горсть таковых будет свято стоять в истине до скончания веков.
Христианское общество и невозможно, и нежелательно
Христиане суть малая закваска в тесте общества, и они должны ею оставаться. Если они заявляют право на все, если считают себя лучшими или желают господствовать над другими, значит, закваска уже не способна поднять все тесто.
Думается, что христианское общество способно на все доброе и на все дурное, что присуще всякому человеческому начинанию. Мы не только не питаем никакой надежды на то, что христианское общество может устоять в справедливости и распространять ее, но даже не пытаемся способствовать его установлению, по крайней мере, в смысле коллективном, количественном или конфессиональном. Христианское общество, члены которого смыкают ряды для защиты своих прав, будучи равнодушны к правам других, противопоставляют себя другим, создают или расширяют союзы, чтобы сформировать вокруг себя национальное общество: такое христианское общество чуждо нашему представлению о новом человеке.
Христианин, который обновляется непрестанно, смотрит на Христа, а не на обмирщенные христианские ценности. Эти ценности вскормлены Христом, но теряя Его, они иссыхают; и свет Господень приходит ко мне через праведного и просветленного христианина, и приносит мне покой и кротость. Истинный христианин не дает охватить себя мстительному гневу, когда лукавые дела его общины подвергаются исторической или духовной критике, ибо он хочет, чтобы эта община стала Церковью. Если мы не делаем различия между Христом и нашей общиной, как она представлена в истории, ее укорением в стране, правами, которые она может иметь; если мы не делаем различия между миром Христовым в нас и общественной ролью, предназначенной нашей общине, — тогда мы составляем единое целое с мирским прахом. История показывает, что христианские общины, в своей земной реальности, вполне могут быть отделены от Христа, связаны с социологическими моделями, охвачены племенными рефлексами и совершенно закрыты для всякого слова истины.
Нам нужно пройти сквозь ад техники
Откровение всегда вызывает революцию в умственном и культурном строе, по крайней мере там, где этому не противится тирания или некие внешние условия. Откровение, связанное с личностью, ее смертью, с общиной любви, непременно должно вызвать цивилизационную динамику. Она принимает ту или иную форму, соответственно духу народа и эпохи, до того дня, когда, чтобы развиваться свободно, она отрывается от своих религиозних корней, делаясь общим достоянием. Логикой существования созданных вещей, провиденциальным замыслом о них требуется, чтобы вещи механизировались, рационализировались, стали податливыми, подчинились исследованию и опыту, чтобы они очеловечились самим фактом своего освобождения от церковной власти.
В христианском Откровении сотворенная вещь обладает собственной плотной реальностью, противопоставленной в вечности Самому Творцу. В средние века человек мог придавать веществу образ, любить вещество, воспевать его. Когда он смог выйти из–под власти его законов, ощутить его в идеально математической перспективе, вещество стало отвлеченным предметом, умственным созерцанием. Через него человек освободился от магии и предрассудка, встал на сторону собственной свободы. Конечно, дух науки мог исказиться Прометеевым искушением. Весьма сдержанная позиция по отношению к науке в церковной среде отчасти объясняется этим подводным камнем; казалось, что историческая или физическая действительность угрожает действительности Писания; самое Библию фундаменталистский рассудок, утопия христианского государства и христианской цивилизации превращали в вампира.
Эта огромная власть науки над умами породила антропоцентрическое понятие о бытии. Появилось реальное основание считать доступное человеку знание универсальным подходом к миру. Жизнь перестала быть заложницей тяжести вещества, которое стало прозрачным, дружественным, ибо прирученным.
Это новое тело человечества породило новую культуру, связанную с благосостоянием. Поскольку благосостояние мыслилось как общечеловеческое, культура обрела этическое измерение. Кроме того, культура означает служение всем людям, верующим и неверующим. Ныне мир неумолимо управляется техникой, которая стала новой формой творчества. Нам нужно пройти сквозь ад техники, держа наш дух во бдении, а сердце — в простоте детей Божиих. Ныне техника — единственное мыслимое средство, позволяющее человеку очеловечить свои отношения с миром, единственное средство освободить общество потребления и поддержать надежду в развивающихся странах. Зрелое человечество будет заниматься техникой без техницистической мистики; с помощью техники оно попытается стать на позицию всеобщего диалога.
Неверным было бы противопоставлять этому развитию сожаление об утраченных духовных ценностях. Подлинное понимание всегда находится по ту сторону всякого апокалиптического катастрофизма. Можно, конечно, оплакивать исчезновение «культуры символизма, внутреннего мира, теллуризма». Но это плата за справедливость, хлеб и достоинство. Ныне только справедливое распределение средств производства на международном уровне, только перемещение технологий и финансов в страны Южного полушария способны освободить эти страны от порабощения великими державами и забвения своей общинной сущности. Сегодня всякое знание, не поставленное на службу всему миру, не ставшее всеобщим, неприлично. Культура обладает евхаристическим смыслом лишь тогда, когда отказывается от себя самой и делает себя общением. Только так человек спасет ее от двусмысленности, эстетизма или воли к власти. Именно в общении святых я могу понять, что человек бесконечно превосходит природу, науку, материальное производство, художественное творчество.
Включиться в историю, а не претерпевать ее
На Балканах, на Ближнем Востоке или в России отправной точкой для включенности в историю было бесконечное сострадание ближнему, поддерживаемое понятием об Искупителе Богочеловеке и о человеке, призванном к обожению. В разных регионах православного мира, в различных условиях жизни произошла великая встреча религии с человечностью. Конечно, людям случалось смешивать православие и национальность, но это не имело значения, пока Церковь стояла на стороне гонимых. Была ли несправедливая структура государственной или нет, Церковь защищала всех, кто оказался жертвой несправедливости.
Эта позиция не была выработана идеологически, а, возможно, проистекала отчасти из того факта, что православное христианство исторически не было так затронуто индустриализацией, как западные страны, и верующие в значительной степени оставались в стороне от общественных проблем. То, что Владимир Вейдле сказал о России как о нации, у которой никогда не было единства со своим государством — бюрократией западного типа, — остается верным и для некоторых других традиционно православных стран. В сознании Церкви государство продолжало, как в Византии, заниматься делами века сего. Жизнь православного народа поддерживалась культурой, народными и крестьянскими традициями, а этой западной штукой по имени государство интересовалось лишь буржуазное общество, разрабатывавшее свою идеологию. Отсюда то обстоятельство, что православная про происхождению буржуазия тем более отделяла себя от Церкви, что, пройдя западную школу, не питала особого уважения к невежественным попам.
Эта дихотомия между государством и народным сознанием в немалой мере объясняет тот факт, что православные массы были далеки от политики и консервативны. Передовая общественная мысль стала делом буржуазии, уже оторвавшейся от Церкви и особенно презиравшей тот народный стиль, который виделся ей в историческом Православии.
Во всяком случае, вопреки традиционному консерватизму, в некоторых православных группах населения наблюдается освободительный дух, который может сочетаться с разными формами вовлеченности в политическую борьбу, вплоть до самых крайних. Верующие, затронутые этим веянием, свидетельствуют, что ощущают в Православии климат свободы. К активу этой свободы надо отнести послание о справедливости и о правах бедных, которое проповедовали Отцы Церкви. Быть может, самым значимым подвигом человеколюбия в Византии было освобождение святыми и набожными людьми своих рабов, что, впрочем, не раз предписано Библией.
Будучи жертвой политического положения, Церковь часто бывает вынуждена молчать, ее диалог с миром в этом вавилонском пленении сплошь да рядом исключается. Некоторые смельчаки пробуют пробивать стену молчания, противостоять террору, другие же чувствуют, как бессильны против террора, и оплакивают это. В таких условиях настоятельное требование — спасаться от лжи и не растлиться мудростью века сего. Великое облегчение для Церкви–источник радости и истины, который наполняет ее добротой и слезами.
Другая, более широкая сторона православного присутствия в мире, в жизни человека — это культура. Конечно, Православные Церкви очень часто исключались из жизни народов. К сожалению, мы как–то слишком скоро утешились, заранее полагая себя предназначенными для Царства Божия. Тот факт, что наше богословие эсхатологично, еще не означает, что мы — люди паруссии. Никто не может жить вторым пришествием Господним, если избегает постоянного события Духа во плоти мира!
Мы должны искать и разрабатывать стиль нашего присутствия в современности. Мы не должны непременно заимствовать те средства, которые в различном историческом контексте избирали другие Церкви. В Северном полушарии наш способ свидетельства будет не таков, как в Южном. Но мы нигде не будем отделены от истории. Иначе нам придется лишь переживать ее, а не творить.
Смерти подобно — мечтать о восстановлении православной империи в России и в странах Востока или о возрождении христианского национализма в Ливане. Там это было бы идеологией столь же профанной, столь же секулярной, как рушащаяся идеология коммунизма. Православного града не будет, пока не придет Царство. Наша задача — возводить град человеческий вместе со всеми народами, чтобы он, если будет на то воля Господня, по возможности утвердился в этом греховном мире.
Это никоим образом не означает политизации наших приходов. Епископы и священники не смогли бы занять место верующих, с полной ответственностью вовлеченных в мир. Во всяком случае, богословское и таинственное служение не наделяет их веданием о реальностях мира; магистр богословия не получает харизмы политического знания и умения. Значит, наблюдать мирские дела лучше предоставить открытым пророческому духу мирянам.
И все же вовлеченность в современность — дело не исключительно мирян, но всего народа Божия. В диалог с обществом, с учеными, с художниками должны вступить все христиане — и клирики, и миряне. Из научного или эстетического поиска исключает человека единственно монашеская жизнь; путем отрешения следуют аскеты. Жизнь пастыря, напротив, вся в тварном, вся в истории, но в истории, освобожденной Божиим призывом. Вовлеченность сердца и воли в дела мира с одной стороны, их бесстрастие, apatheia, с другой: таковы две постоянные величины нашего двойного присутствия в мире и в будущем веке.
Все это требует приложения этики к реальным условиям бытия. Политическая жизнь составляет сторону жизни нравственной. Перед лицом нынешних генетических экспериментов мы призваны выработать этику биологии. Мы не можем игнорировать возникающие науки и наступающую на нас технологию. Молчать при виде всего, что проделывают с живым существом, значит предавать Бога. Отдать мир агностикам и наслаждаться чистой совестью — такое же противо–свидетельство.
Да, мы странники, ищущие Вечного. Но шествие наше к Отцу, хотя и осуществляется, главным образом, в таинстве, все же неизбежно проходит через культуру и историю людей. Ибо таинство — это и присутствие Христа, и вместе с тем–история и культура; присутствие Христа — и открытость космосу. Евхаристия служится на жертвеннике вселенной. Через нее в мир входят Дух и свет.
Евангелие — не политика
Главная библейская реальность, свидетельство — определяет наше отношение к религиозному миру, к культуре и к политике. В современном мире мы сталкиваемся с идеологиями не только потому, что так уж устроен современный человек, но и потому, что всякая человеческая мысль платит более или менее откровенную дань идеологии.
Что говорит православие об идеологиях? Сам этот термин получил до сегодняшнего дня множество определений. До сих пор не существует общепринятого определения таких понятий, как «правая» и «левая» идеология. Термин «идеология» звучит то критически, то нейтрально. В уничижительном значении идеология есть ложная идея, оправдывающая чьи–то интересы и страсти; в нейтральном — оформление более или менее четкой позиции по отношению к общественной и политической действительности (Раймон Арон).
Таким образом, идеология есть целостная система ис–торико–политического истолкования мира, призванная, однако, давать указания к действию. Как говорил Карл Маркс, «мы должны заниматься историей людей, так как идеология почти вся целиком сводится к концепции этой истории, хотя бы и ошибочной или отвлеченной» [24]. Марксист Люсьен Гольдман вывел различение между идеологией, которая всегда частичка, и Weltanschauung (мировоззрением), т. е. целостным понятием о мире. Идеология есть такое понятие о мире, которое уводит от всеобщности. Оно ниже, чем диалектика. Во всех случаях идеология — это система идей, всегда социологически связанная с экономической или другой группировкой.
Если идеология есть частичное понятие о мире, то борьба, которую она ведет, качественно отличается от христианской борьбы. Христианство нельзя понимать как целостную систему истолкования мира. Оно просто ставит мир как природу и мир как историю в связь с Искупителем. Во всяком случае, христианство — не система, оно не несет в себе групповой или классовой этики. Христианство не предлагает даже философии истории. Иначе говоря, история не исчерпывает освящающего назначения Церкви. Для Церкви важен человек, независимо от его идеологической принадлежности. Предмет заботы Церкви — всякий человек. Она не должна отбрасывать то или иное общественно–политическое истолкование истории. Она возвещает Евангелие всей твари, именно евангельская жизнь в нас исправляет всякую идеологическую систему, и не потому, что мы заинтересованы в более полной идеологизации или в социально–философской критике идеологии, а просто потому, что для нас важно вкусить Бога живого и предложить Его в пищу миру.
По существу, христианство не спекулятивно, а становилось таковым лишь случайно. Все применяемые им догматические и этические формулы не создают связи между ним и идеологиями. И тем не менее возведенное в систему насилие, религиозный фанатизм интегристского характера или расизм должны быть обличены пророческим свидетельством. Во имя Бога и всечеловеческой свободы должны быть обличены все виды гнета и коллективного безумия. Может быть, поэтому красноречивым возражением против искажения человеческого облика политикой бывает лишь мученичество.
Не будучи политикой, Евангелие, тем не менее, обличает политическую ложь. Оно не просто молитва в безмолвии катакомб или надежда на преображение; оно возвещает гнев Божий, ибо если бы нынешняя Церковь метала громы, гнев Божий можно было бы понимать как свободу. Именно в виду смерти, в ожидании креста погубит Бог мудрость мудрых и отвергнет разум разумных (IKop. 1, 19). Об этом же сказано: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10, 39). К несчастью, христиане придумывают такие мудрствования, которые, даже в плане простой человеческой осторожности, приводят их к погибели.
Итак, не существует никакого «политического богословия». Тексты Писания в Средние века приводились, чтобы оправдать предание смерти еретиков. Нельзя понимать Царство Божие как приход бедняков к власти, ибо «князья народов властвуют над ними», а сам образ Царства несовместим с образом государства. Точно так же свобода народов, ради которой нужно лихорадочно действовать, неотождествима со свободой во Христе. Вовлеченный в гущу политики христианин всегда должен будет соблюдать некоторый зазор между собой и своим действием. В сложнейшую современную действительность он должен проникать с душой ребенка и с юмором античного мудреца.
Подводным камнем для вовлеченных в политику христиан по–прежнему остается культурный или политический гуманизм, некое упоенное нетерпение и забота о действенности. Однако в исторической ткани вера кажется бесполезной, недейственной. Кто желает коренного преобразования общества, того может искушать либо исторический метод, даже историцизм, который равносилен секуляризации человеческой общности, то есть отрыву от всякого духовного измерения, — либо политическое истолкование Евангелия, позволяющее стать на радикальные позиции, исходя из самой Библии. Не знаю, возможно ли материалистическое прочтение некоторых текстов Евангелия, но для меня очевидно, что Новый Завет этого не имел в виду.
Главный порок такого рода поисков заключается, как мне кажется, в весьма западном по духу желании очерчивать концепции, трезвонить о том, как жаждешь сплоченной и целостной организации общества, заставлять Слово Божие служить историческому структурированию людской среды.
Разве библейское дело — утверждение такой Прометеевой воли? Не предполагает ли такое богословие обмирщенной, секулярной организации общества? Всем ли странам подходит эта форма? Всякая попытка сплавить христианство с идеологией придает ему синкретический характер и отнимает у него всякий вкус Царства. Оно перестает быть солью земли. Напротив, если та или иная идеология содержит широкий гуманистический проект, то он сможет еще более укоренить нас в Евангелии, которое мы тогда прочтем новыми глазами и станем служить ему с радостью неофита.
Как учил Григорий Палама, начала всякого духовного обновления коренятся в том факте, что Бог есть свет мира. Великий богослов имел в виду, что Бог есть реальная вселенная, в которой и благодаря которой мы существуем; что политическая обстановка, при всей ее важности, вторична и лишь тогда обретает смысл, когда готовит путь Господу.
Таким образом, надо помнить о различии между вечностью и временем, Богом и Кесарем, ибо их различает Евангелие. Но время — это поле деятельности Промысла, а кесарь — служитель Бога. Иначе говоря, и время, и кесарь — путь Господу, и они могут стать нейтральными, только если перестанут быть этим путем.
Вечность не только проверяет время, но и наполняет его, а стало быть, и преобразует. Именно в пределах времени происходит Преображение, оно же Богоявление.
Поэтому евангельские требования должны быть утверждены в жизни наших общин. Прежде всего, христианское единство — не дело терминологии, оно осуществится не путем учреждения единого фронта, но через открытость личности и обретение ею евангельского духа.
Неверно было бы говорить, что мы не придаем значения количеству христиан и сохранению их как общины в той или иной стране. Но и количество, и сохранение общины для нас–прежде всего возможность воспринять излучение Христовой энергии преображения. В этом смысле никому не приходится защищать христиан или христианство.
Мне понятен практический взгляд на вещи и не чужд политический расчет. Могу допустить и законность мудрости, присущей времени. Но я настаиваю на том факте, что абсолютизировать время — это не по–христиански, а чрезмерная тревога о количестве может легко привести к истерии.
Думаю, что оппортунистический или внушенный страхом и пристрастиями политический выбор — от дьявола. Боюсь, как бы христиане сами себе не причинили зла. То, что грозит извне, изначально побеждено Христом и больше не должно устрашать. Если христианская душа страшится, значит, в ней нет предчувствия воскресения. Церкви должны все сильнее призывать свою паству надеяться, напоминать ей о том, что временное бытие объединено Богом, и Бог усовершенствует его.
Никто не может завоевать Церковь. Никакая власть не может заточить в тюрьму нашу веру, даже если будет располагать всеми тюрьмами мира. «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 9). Кто хочет воистину быть Христовыми, те — новая тварь, их добротой живет мир.
Мы должны всерьез понять, что во всяком политическом выборе главное — не христиане, а Христос. После Своего Воскресения и Вознесения воплощенное Слово Божие требует, чтобы мы подходили к земным проблемам с позиции «Воскресения–Вознесения». Конечно, такое поведение включает в себя антиномию, но оно необходимо и возможно.
Проблематика веры требует, чтобы мы не отгораживались ни от времени со всеми его соблазнами, ни от вечной истины со всем, к чему она нас зовет. Ели избегать политики во имя вечности, это будет искажением истины. Но и полное погружение в проблемы времени, карьеризм, макиавеллизм, страсть к наживе, ненависть к другим сообществам, произвол — все это есть отступничество.
Для нас и для той духовности, в свете которой мы смотрим на вещи, единственный ответ — в том духе Воскресения, который сделал так, что Христос вновь принял Свое Тело и вознес его во славе.
Истинная политика — управление городом через добродетели
Верующий не в проигрыше перед историей. Дурные времена распинают его, но не могут одолеть, ибо его ум не помрачен властью и не болен политикой. Он читал у Платона, у Владимира Соловьева, а также у таких авторов, как Аль Фарах и Шейх Яхъя бин Адди, что истинная политика — «архитектурное» выражение любви, а от любви приходит знание. Город и есть цивилизация, а она учит держать на привязи страсти, ибо истинная встреча между двумя людьми возможна лишь тогда, когда они сообща решат перейти с уровня страсти на уровень объединения и «архитектурного» творчества. Кто воспитан в соприкосновении с цивилизацией, тот обращает взгляд к другому и ждет ответного взгляда в надежде, что другой готов к тому подвигу, которого требует взгляд друг другу в глаза, отношения, ведущие к сотрудничеству.
Взгляд друг другу в глаза, положение лицом к лицу означает, что одно присутствие должно считаться с другим. Я рядом с тобой, ты — со мной, и это благодаря тем надеждам, которые мы несем в себе. Это и есть условие принадлежности к политической жизни. Аристотель определил человека как политическое животное. По–гречески это означает буквально «городское», гражданское. А город, согласно учителю Аристотеля, Платону, должен управляться философами, то есть теми, кто созерцает красоту. Городом правят мудрецы, а защищают его воины, получающие за это плату. А мудрость–это знание, обретаемое на крестном пути чистоты, достигают ее только чистые, занятые поиском истины. Истина открывается лишь в преображении и лишь мудрецам, которые очищаются и блюдут себя от всякой скверны.
Земное дело без справедливости или справедливое поведение без разума и понимания никого не научит управлять людьми, ибо ничего не дают «философии» — любомудрию. Пустой ритуализм, крестное знамение без распятия, христиане без Христа — это мир колдовства и шарлатанства. Испепеленные трупы, голодом и жаждой измученные дети, обескровленные люди — все это переполнит чашу Божьего гнева к Судному дню, и потеряет силу логика силы, применяемая распинателями. Мы впали в такую мерзость, подобной которой еще не бывало, будем же молиться о победе Бога и истины, чтобы расторгся греховный плен и вернулся к нам разум. Приведет ли нас этот позор к смирению, и увидим ли мы, как «евшие сладкое истаивают на улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу» (Плач. 4, 5)?Великое заблуждение берущих оружие прекрасно выражено в большевистском призыве 1918г.: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Те, кто говорил нам о свободе, привели нас к освобождению от нашей собственной жизни, и это с намерением осчастливить. Из креста они сделали орудие, к которому пригвождают бедных, одиноких, младенцев, старцев. Человеческую плоть отдают в пищу кресту. Они провозгласили: «Пусть возгорится огонь и разрушатся дома, пусть идут люди туда, где смогут найти кров. Это ничего, мы вернемся после великого пожара и на развалинах провозгласим свободу! Дома будут отстроены, из выжженной земли взойдут деревья, уста рабов воспоют свободу. Ничего, в Ливан снова будет послана помощь, и «цари Аравии и Савы принесут дары» (Пс. 71, 10). Наш народ согнется под игом рабства, желанного для христиан без Христа».
Многие в моей стране приучены верить, что могут путем зла прийти к добру. Они не понимают, что пролитая кровь и тюрьмы, куда они запирают людей, пятнают их самих, лишают их разума и суждения. От дурных средств к благородной цели нет дороги. Политика — не то, к чему они хотят прийти завтра. Политика бывает только сегодня. Политика выражается в том, как они обходятся с другими: можно быть либо распинателем — а стало быть, проклятым, — либо распинаемым, то есть любящим и готовым восстать из мертвых.
Православная Церковь в плену у имперской мистики
Государство господствует в этом мире, оно склонно к тотальности, к поляризации сил, особенно если ему случается сочинить себе философию, прикинуться системой, будто бы несущей спасение. В таких случаях государство начинает высоко мнить о себе, оно пыжится, как отвратительный идол.
Однако тот, чей кругозор пошире, смотрит на государство как на нечто объемлемое, содержимое, а не объемлющее, содержащее. Тогда государство, в сени Божиих крыл, может стать служителем человеческого достоинства; оно может стать организмом, который на длительное время необходим, но сам подлежит суду Господню, суду Владыки неба и земли и всякой власти во вселенной.
Каковы отношения Православной Церкви с национальным государством, с исторической жизнью православных народов? В сущности, это не имеет такого уж решающего значения, тем более, что православная вера исключает в Церкви само понятие власти. Если латинская Церковь говорит о власти, так это потому, что она подменила собою римское общество и римскую имперскую власть. Вот почему с образованием Священной Римской империи германской нации и с появлением современного национализма наблюдается двусторонняя борьба за власть. Конечно, церковное общество на Востоке — из–за империи, которая просуществовала до XV века, а позднее — из–за того, что оно находилось внутри православных царств, — не имело нужды в самоопределении по отношению к обществу мирскому. Этим объясняется и то, почему иерархия Церкви оставалась уязвимой перед политической властью. Православным представлялось также, что интерес истории Церкви заключается не столько в изучении исторического континуума, сколько в освещении смысла догматов и в постоянных проявлениях святости.
Стало быть, верно, что люди в Церкви часто бывают объектами манипуляций, ибо церковный «истеблишмент» поврежден еще со времен Константина: все происходит так, словно он не может обойтись без имперской мистики. Для православного сознания византийская империя продолжается в государствах всех времен. Покров Богородицы заменен у нас покровительством правительств. Фактически не только никто не защищает «униженных и оскорбленных» от тирании или произвола государства, но именно церковный аппарат и употребляется для создания апологии того режима, при котором он существует. Историческое православие — жертва иллюзии, будто государство–нация — это непременное обрамление жизни Церкви. Однако всякое общество, и государство–нация в том числе, принадлежит миру насилия и соглашательства, а следовательно — оно чуждо понятию истины, оно не поверяет себя истиной.
Здесь речь идет не о теоретической и сентиментальной верности Православию, но о правых делах, которые суть порука нашей внутренней свободы. Именно исходя из этой свободы в Духе Святом, православный мир будет услышан, когда он обратится к миру со словом освобождения.
Между Богом и Кесарем
Привычно думать, что христианство не интересуется так называемой politeuma, политикой, — так, словно последняя отдана во власть сатане, названному в Писании «князем мира сего». Если так смотреть, гражданская власть представляла бы собой область совершенно вне Божественного ведения, область полностью обмирщенную и управляемую человеческим разумом. Такое воззрение явилось источником лаицизма в политике. Фактически, причиной такой об–мирщенности власти была Французская революция, вдохновленная желанием предоставить равенство верующим всех религий. Однако разделение исторической действительности на две области — религиозную и политическую–не имеет смысла, если оно означает, что политика не подчинена Слову Божию и требованиям этики. Кесарь поражает злых мечом, а Церковь действует снисхождением. Государство принуждает, Церковь же призывает и увещевает. Итак, для нас, христиан, государство оправдано лишь в той мере, в какой оно послушно Слову. Отсюда необходимость пророческого слова перед лицом власти.
Мир не может быть независимым от Бога, потому что мир пребывает в Боге. В этом смысле законно утверждение, что христианский идеал — обладать миром ради веры. Если подданные, составляющие часть Церкви и часть страны, — те же самые люди, если человеческое сердце — то же самое, то различие проявляется в плане природы власти: власть государства принудительна, власть Церкви вручена ей свободно, через веру. «В религии нет принуждения», — говорит Коран (сура «Корова», 257). «Непринуждающие», духовные люди, познавшие катарсис, те, чьи сердца просвещены Богом, обрели истинное знание. Люди, обладающие опытом боговидения, ведут народ Божий к свету через свет. Поэтому они и поставлены пастырями в общине Нового Завета, где уже открывается Царство. В государстве же власть действует, поскольку существует зло; смысл и цель этой власти — прежде всего мир. Государство потому исполняет различные функции, что Царство еще не свершилось, а мир важен для того, чтобы утверждать в душах Евангелие. Но оно исполняет эти функции в том самом организме человечества, который призван стать Церковью последних времен.
Противоречие между тоталитаризмом государства и всевластием Бога заставляет нас понять слова Христа: «Будут гнать вас» (Лк. 21, 12). Другие же его слова: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22,21) — призывают нас покоряться государству, но не соглашаться с его обожествлением. Эти слова ставят нас в двойное подчинение, в чем нет противоречия, пока государство осознает себя служителем Бога в Его замыслах о мире. Вот почему верующий всегда был покорен государям, обращая их при этом в закон Божий; был мирен, однако не предавал себя их воле; был одновременно кроток и суров; смирялся — и бился головой о небо, пока Бог не услышит и земля не дрогнет.
Конечно, христианин — не анархист. Гражданская власть наделена в его глазах известной законностью, поскольку она от Бога (Рим. 13, 1). И все же верующий при этом не является ярым сторонником установленного порядка: евангельское свидетельство ставит этот порядок под вопрос. Поэтому христианин не непременно бывает покорен. Ради людей, живущих под обломками постоянно разрушаемого строя мира сего, он приспосабливается к резким переменам. Он понимает сложность возникающих ситуаций и старается направить их развитие в сторону большей справедливости, не будучи при этом одержим комплексами меньшинства, мечтаниями о теократической реставрации, догматической зависимостью от какого бы то ни было философского течения.
Верующие заключили соглашение с искренностью. У них нет вечного договора с какой бы то ни было формой правления: они всегда пребывают на уровне большей глубины, чем происходящее вокруг них. Потому они и побуждают мир двигаться вперед. Они свидетельствуют о том, что человечество не приемлет неизменности формы правления. Следовательно, они считают того, кто не пересматривает постоянно систем, хотя бы и революционных, реакционером, даже если это реакционер от революции. Как показывает история, системы подтачиваются теми же, кто их использует, а полезны для систем те, кто их критикует, побуждая их перерастать себя в движении к жизни бесконечной.
Любовь и власть несовместимы
Власть в Церкви немыслима, ибо принудительна. Речь идет не об авторитете иерархии, который не должен рассматриваться как власть. В латыни различаются значения слов auctoritas u potestas — авторитет нравственный и авторитет юридический. Единственное слово в Новом Завете для обозначения власти — exousia, т. е. сила, мощь. В конце Евангелия от Матфея Иисус говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18). Речь здесь вовсе не о мировом господстве, речь о силе, сокрушающей демонов и влекущей к себе духовной красотой. Та же мысль — в словах, сказанных воскресшим Иисусом Петру: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?.. Паси овец моих» (Ин. 20, 15–17). Иисус ставит апостола пастырем стада верных потому, что тот любит. Любовь — единственная сила, которую мы можем применять к людям. Ничто чуждое душе не может ее по–настоящему привязать к другой душе. Кроме любви, всякая связь будет посторонней и искусственной. Если ее и навяжет какой–нибудь языческий бог, она все равно останется посторонней.
Все домостроительство Нового Завета зиждется на свободе: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9,23). Мы выбираем Господа после того, как Он призвал нас, и Он делает нас членами Своего Тела.. Прежде приходит свобода ответить Богу, потом–дар «свободы славы детей Божиих», получив который, они «будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им» (Мк. 16, 18). Эта сила приходит к нам, чадам по сыноположению, оттого, что Бог посылает в сердца наши Духа Своего Сына, и Дух взывает в нас: «Авва Отче!». «Авва» — арамейское слово, так еврейские дети называли своих отцов. Апостол Павел так и говорит: «Ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий» (Гал. 4, 7). Эта мысль Павла продолжает мысль Иисуса, донесенную до нас евангелистом Иоанном: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 15). Приведенные в близость к Отцу, мы обладаем всем Его наследием и всем знанием.
Встает законный вопрос: а как же власть духовенства? Надо бы дать ему некоторое освещение, тем более что современная мусульманская апологетика представляет ислам как религию равенства, противопоставляя его Церкви, которая состоит из двух категорий верующих: Церкви учащей и Церкви учащейся, как говорит классическое католическое богословие. Есть, значит, те, кто повелевает, и те, кто повинуется. Здесь надо напомнить о том, что тот, кто учит, кто прославлен и поставлен в пастыри над стадом, получил это послушание от Святого Духа. Повиноваться должно, прежде всего, общине и духовному Преданию, которое она хранит. Апостол Петр так обращается к древним христианам: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (IПет. 5,2–3).
Стало быть, есть избрание от Духа. Есть гармонический порядок вещей. Все совершается в мирном подчинении. Тот, кто наделен харизмой и кого признает таковым община верующих, предназначен для дела, в котором он становится слугою всех. Это служение любви исключает понятия высших и низших, оно совершается внутри Церкви как Тела Христова, подобно тому как сам Христос пребывает в Слове, в таинствах и в сердцах братьев и сестер. Между ними нет степеней в чести, нет привилегий, есть лишь разделение функций внутри того же самого Тела, согласно уделенной каждому благодати.
Христианство изначально устанавливает фундаментальное различение между властью и любовью. Церковь — это организм любви, из которого юридическое начало, по самой сущности этого организма, исключено. Отступничество здесь, так сказать, нормально, ибо вера — свободное присоединение, а спасение — неотделимое от свободы — это ответ сердца на призыв Божий, на благодать. Можно быть исключенным из этого организма любви, которым является Церковь, если соблазнительным поведением нанесешь вред чистоте братьев или если, отказавшись от евангельского закона, исключишь себя сам.
В Церкви есть, конечно, каноническое право, но оно — не юридической природы. Нормы установлены для благой жизнедеятельности Церкви, но это нормы лишь указующие. В частности, к тому или иному мирянину либо священнику не может быть применено каноническое правило, если епископ рассудит иначе. Следовательно, каноническая норма всегда укоренена в учении. Она есть обобщенное выражение духовного принципа в церковной практике. Но она не создает автономного по отношению к Церкви поля деятельности.
Юриспруденция принадлежит к падшему миру. Древнеримская пословица хорошо говорит: «Что такое законы без нравственности, и что такое нравственность без законов?» И все же нравственность намного опережает гражданский закон. Превосходит его и основание нравственности — вера. Юриспруденция начинается вместе с грехом. Если, как учит апостол Павел, религиозный закон Моисея не оправдывает человека, но становится поводом ко греху, то христианин тщится превзойти его. Он устремляется в область благодати, при помощи которой становится носителем сострадания, кротости и божественного милосердия. В Нагорной проповеди написано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду» (Мф. 5, 21). Основное намерение Иисуса — перенести закон внутрь человека, чтобы жить в среде благодати. Речь не о том, чтобы улучшить закон, а о том, чтобы отбросить самую категорию законности. Чтобы распознать в лице другого человека, будь тот праведником или грешником, мужчиной или женщиной, источник нашего собственного великодушия.
Обоюдная зависимость между мужчиной и женщиной
Семья — естественное ядро Церкви, называемое «домашней Церковью». Она — словно место духовного жертвоприношения, место проявления любви по образу Троицы, в Которой каждое Божественное Лицо отдает Себя другому, ради другого, в акте вечной любви. Всякая любовь — принесение в жертву себя, чтобы жил другой: это вечная тайна Божия. Отец отдает Себя, и рождается Сын. Любовь отдает себя полностью и полностью же приемлется. Именно в этой динамике любви проявляется единство Бога. И семья, по образу Божественной жизни, есть жертвоприношение любви. Этим жертвоприношением она учреждена.
Можно изучать семью в социологической перспективе и в ее юридических аспектах. Но не эти элементы определяют наше воззрение на семью. Мы должны ознакомиться с ними, чтобы управлять семейной общиной в ее реальном контексте, сотрудничать при необходимости с различными инстанциями для оздоровления атмосферы, в которой живут супруги и дети. Но мы знаем, что основа семьи и ее проблемы не здесь: семья рождается из самой природы Божественной любви. Невозможно понять, что такое семья, если не учитывать этой Божественной энергии, которая принимает ее на себя и поддерживает.
Говорить о семье на языке закона — значит признавать свою принадлежность Ветхому Завету, оставаться на социально–юридической почве. Такой подход, вполне возможный в плане общественной рациональности, возвращает к воззрению на семью как на всякую иную общественную форму. Однако для христиан семья создается в таинстве брака, а значит — она христоцентрична и потому принадлежит к оббженному человечеству Спасителя.
Любопытно отметить, что слова, обозначающие семейную группу людей, почти не встречаются в Новом Завете, как, впрочем, не нашел я и в Коране названия, соответствующего этой реалии. Если христианское Писание представляет нам богословие брачной четы и этику отношений между детьми и родителями, то оно, кажется, не знает учения о семье как таковой. Это «упущение», на мой взгляд, объясняется тем первенством, которое Писание отдает отношениям межличностным.
Затрагивая понятие о власти в семье, надо исследовать два текста, всегда привлекающих внимание читателей апостола Павла: о покрытии головы (IKop. 11, 2–16) и об отношениях мужа и жены (Еф. 5, 21–33). Послание к Коринфянам начинает Павлово размышление, а Послание к Ефесянам, написанное в заключении, представляет нам его последний этап.
Первый текст не относится к браку, он касается поведения женщин в литургическом собрании. Аргумент Павла в пользу покрытия женских голов при богослужении зиждется на космологии и на антропологии; он исходит из не связанной с темой семьи иудейско–эллинистической спекуляции. В платонизме и в стоицизме Бог, действительно, был архетипом и космоса, и человека. У апостола «голова» — понятие христологического порядка; глава мужу — Бог. Это утверждение единовластия Отца и предсуществования Христа.
Составляет ли это отношение основание для отношений между мужчиной и женщиной? Говоря о брачной чете, Павел не использует больше образов головы и тела, а произносит слова «образ» и «слава». Муж — образ и слава Божия, а жена–слава мужа. Это антропологическая реальность: женщина предназначена для мужчины, а не наоборот. Здесь Павел следует второму рассказу книги Бытия о творении (Быт. 2, 21–25). Он усматривает некую аналогию между христологическим порядком и порядком творения, из чего никак не следует, что женщина не имеет непосредственной связи с Богом; эсхатологическое равенство очевидно. Итак, именно принимая во внимание порядок, в котором сотворены мужчина и женщина, и применив его к литургии, апостол предписывает женщинам покрывать голову.
В Церкви этот порядок превзойден, когда женщина и мужчина рассматриваются вместе, в Господе. Тогда утверждается взаимозависимость: ни мужа без жены, ни жены без мужа. В Нем исчезает подчинение и становится возможным общение. Следовательно, нужно признать, что говоря о литургической молитве, Павел считает существенным не совершенное равенство между мужчиной и женщиной в Господе, а тот порядок, который представляется ему свойственным человечеству. Историческая реальность Церкви включает некоторые почтение к различию природного назначения мужчины и женщины, хотя достоинство, дарованное им Господом, и превосходит это различие.
Если мы перейдем теперь к Посланию к Ефесянам, возникает непростой вопрос: что означает этот знаменитый отрывок, в котором идет речь о повиновении жены мужу, «потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Еф. 5, 23)? Заметим для начала, что эти указания Павел предваряет увещеванием «повиноваться друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). Мы сразу же введены в общину братьев и сестер, общину, которую учреждает и воссоздает Своей любовью Господь. Женщины призваны к повиновению мужьям — к повиновению свободному и ответственному; призыв этот должно понимать в том отношении взаимности, на котором основана в Церкви всякая связь любви.
Это обоюдное подчинение, проповедуемое Посланием, идет вразрез с духом патриархата, который часто приписывают Павлу. Речь идет о взаимном подчинении между мужем и женой. Свободное повиновение жены имеет смысл только в соотношении с любовью мужа. Павел не оговаривает юридической «исполнительной» власти мужчины. Он освещает все это сравнением: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь» (Еф. 5, 25). Христос назван здесь не затем, чтобы подтвердить естественный закон и обычаи. Нет, Он возлюбил Своих до смерти. Его отношение к Церкви составляет архетип отношений между супругами. Agape включает в себя и eros. Самоотдача вмещает и пол ради единства бытия. Именно в этом смысле супружеская любовь сильнее смерти и продолжается в вечной жизни, — так что единство мужа и жены становится знаком будущего века. В гомилии II века, называемой Вторым посланием св. Климента Римского, можно прочитать: «Когда мы встретимся в Царстве? Когда из двух вы сделаете одно, и внутреннее будет у вас как внешнее, и внешнее — как внутреннее, и когда мужа и жену сделаете единым».
Стало быть, единство Божества отражено в единстве брачной четы. Это учение совершенно ново в сопоставлении с учением раввинов, которые считали, что брак делают деньги, договор и половые отношения. Иудей благодарил Бога за то, что не создан язычником или женщиной. В новозаветных Писаниях, напротив, первенствует великое речение Павла: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 27–28).
Многие в истории Церкви думали иначе, и это достойно сокрушения. Весьма сожалел об этом один из великих Отцов Церкви св. Григорий Назианзин, который заметил, что законы для женщин сочиняют мужчины.
Св. Иоанн Златоуст учит, что норма для христиан — это когда брак во Христе духовен и определяется равным достоинством супругов. Он же говорит, что муж и жена «взаимно наставляют друг друга, взаимно увещевают, взаимно поддерживают».
Единственная власть, которая остается в семье, это власть Бога любви.
Православие определяется верой
Западная цивилизация, которой мы наследуем, внесла в наше сознание ту мысль, что Церковь — это, прежде всего, иерархическая структура, или общество христиан. Если так смотреть, миссионерство предстает чем–то вроде пересадки общества и культуры в чужую страну в форме, более или менее зараженной религиозным империализмом. А ведь речь идет не о том, чтобы предлагать чужестранным язычниками или нашим отступникам некую общую для нашей Церкви цивилизацию. Конечно, Византия некоторым образом продолжает жить в православии, и проповедь веры всегда будет содержать что–то греческое, сирийское или славянское. Но основополагающим становится тот факт, что если православием и проповедуется какое–то общество, то это общество бого–человеческое, не подлежащее никакому социально–историческому анализу.
На самом деле, никогда не было православной империи, да она и нежелательна, так как идет против духа народов.
Христиане не составляют народности и не определяются по народностям. Строго говоря, христианских этносов не бывает. Это значит, что христиане как народ Божий определяются именно по Богу. Они известны только тем, что принадлежат Христу, отчего и получили свое название в Антиохийской Церкви I века. Христиане составляют Ekklesia tou Theou–Церковь Божию. Они охватываются только Словом, Которое создает и собирает их как Тело Христово. Их можно рассматривать только как Евхаристию в полном смысле этого слова.
Всякая историческая критика Восточной Церкви ничего не значит для православных, потому что Восточная Церковь основала себя не как людское множество, но как православие. Значит, то, что находится вне Христовой истины и славы, не принадлежит Телу Христову. До нового времени термин «православная» никогда не прилагался к Церкви, но лишь к вере. Точно так же, когда о Церкви говорится «кафолическая», это не означает горизонтальной, количественной соборности, но отсылает к апостольскому Преданию. В этом — связь с воплощенным Христом, с таинственной жизнью, общение святых.
Миссия как предчувствие Царства
Троическая любовь, разлитая в страданиях мира, всегда остается любовью распятой, которую обретают лишь некоторые, а именно те, кто с бесконечным терпением противостоит «властям и начальствам» века сего. Миссия исполняется именно посреди неправды, в области зла и смерти. Если она примет на себя всю кровь праведников и скорбь погубленных, она окрестит Церковь и тех, кто идет на смерть в пасхальном свете. Ибо основная данность веры — сияющее торжество Христа над смертью и надо всем, что от смерти в личности и в обществе.
Однако Второе Пришествие не есть следствие неизбежного созревания истории, ее рациональной поступи. Оно наступит внезапно, как взрыв. Это хорошо понял собор в Чернике, близ Бухареста, в июне 1974 г.: «Миссия Церкви не может воздвигнуть или привести Царство. Она может лишь возвещать его приход, провозглашая воскресение и подавая знак о нем в таинствах. Миссия может дать предчувствие Царства, она не может построить его из социального и исторического материала».
Насущно необходимо, чтобы миссионерские усилия были поддержаны, ибо «миссия» означает спасение, истину и право всех народов внимать Евангелию.
Провозглашение святости
«Ощутимый для сердца Бог» всегда остается целью, к которой движется всякий христианин, будь то многоопытный интеллектуал или простолюдин. Несомненно, нужно знать извилистые тропы современного бытия. Но никакой свидетель, сколь бы тонок ни был его разум, не станет носителем жизни, если его сердце не будет обителью Пресвятой Троицы. Церковь никогда никого не тронула простой привлекательностью связного наставления. Евангелие благодатно лишь потому, что повсюду отражает преображенный и прославленный Лик Господень. «Един Свят» действует через святых. А святость образует то единство, которое свидетельствует о Нем. Это Церковь. До исполнения Паруссии Его послание провозглашается только через нее. Церковь, однако, есть носительница миссии лишь в той мере, в какой она есть икона. Она — Дева, порождающая в мир Того, кто станет миру Господом. Его принимают как Жениха, требующего любви. Человечество, созерцая распятого Победителя, отдается Ему как супруга и узнает, что Он — «Агнец, закланный прежде создания мира», что через Сына Голгофа стала проявлением вечной любви в самом лоне Троицы.
К православному богословию развития
Проблема развития еще не поставлена надлежащим образом в православном богословии. Понятие это столь подвижно, столь богато содержанием, что говорить о православном богословии развития преждевременно.
Трудность экуменического диалога о развитии заключается в том факте, что Западные Церкви в значительной части принадлежат северному полушарию. А Восточные Церкви — либо к посткоммунистическому миру, либо к той части мира, более или менее отмеченной воздействием социализма, которая начинается с юго–восточного Средиземноморья. В географическом пространстве католическая и реформированная Церковь развиваются совместно в гражданском обществе. Общественная деятельность ведется христианами, которые связаны с политической жизнью своих стран и обладают материальными средствами, чтобы приводить в действие программу взаимопомощи. В географическом пространстве православия, вне нескольких численно незначительных народностей, общественная деятельность закреплена за государственными, левыми или правыми, режимами.
Совместно содействовать развитию, поставленному на службу страждущему человечеству, сейчас невозможно на всех уровнях. Мы, православные, непременно будем отсутствовать в экономической инфрастуктуре этой работы. Может быть, это отсутствие определено Промыслом как возможность свидетельствовать о собственно духовных ценностях, которыми живет Восток и о которых он призван напомнить христианам.
Грубая реальность нашей исторической судьбы отбрасывает нас в богословском плане назад. С этой точки зрения, может быть, небесполезно вспомнить о том, что Восток в великое святоотеческое время ставил проблемы, тесно связанные с основным вопросом развития: проблемы, касающиеся экономики, нации, значения культуры и красоты.
Наряду с пророческим свидетельством монахов, свободных по отношению к государству, наряду со славянофильской мыслью XIX века, с русской религиозной философией, последние представители которой угасли в эмиграции, к богословскому смыслу истории, к общественным ценностям, к значению материи обращалась плеяда молодых греческих богословов. Напряженно переживался Церковью космический смысл Литургии. Если говорить о социальной философии, гражданские проблемы остро чувствует арабская православная молодежь. Великая драма русской религиозной философии состоит в том, что революция вспыхнула как раз в момент ее расцвета и не дала ей принести плод в своей родной стране. Но такие люди, как Булгаков, Бердяев, Струве, Франк и другие… представляют исключительный интерес для ответа на вопрос о нашем отношении к миру и противостоянии ему, потому что еще до обращения они прошли через опыт марксизма и конкретного анализа мира, и можно сказать, что социология ими пережита и преодолена.
Миссия и развитие не тождественны
Перед тем как очертить экклезиологические основания развития, мне хотелось бы высказать некоторые опасения. Прежде всего, если миссия понимается главным образом как совместная деятельность Церквей по развитию бедных народов и если акцентируется организация этой деятельности, то как бы она не стала простым церковным переизданием, только менее компетентным, программ Организации Объединенных Наций и других неправительственных организаций. Ибо в таком случае Церковь, вечно отзываясь, как эхо, на то, что создает секулярная культура, не только утратила бы оригинальность, но и могла бы в том или ином случае стать жертвой какого–либо из мирных планов, навязываемых международными интересами развивающимся странам. В таком церковном кругу могут, например, подумать, что одинаковая программа развития для Израиля и арабских стран разрешит, в конце концов, их конфликт. Как бы такое развитие, служа миру, не погубило справедливость.
Иначе говоря, если участие христиан в общем деле осуществляется без обращения к Богу, исключительно в гуманистическом духе, вне какого–либо целостного понятия о человеке и вселенной, истории и эсхатологии, то никакого богословского развития не будет. Всякое богословское размышление начинается с Бога, и всякое размышление о развитии, если оно хочет быть не только социологическим анализом, непременно должно следовать христианской антропологии и космологии.
Другой вопрос: не возникнет ли в миссионерском деле, поскольку оно связано с развитием, тенденции к бюрократизации и обезличиванию? И не заслонит ли тогда организация апостольский порыв и личную харизму? Наконец, не рискует ли миссия стать более широким и сложным делом, чем цивилизаторская задача, стоявшая перед миссией колониальной эпохи? Не следует ли, подобно профессору Ниссиотису, опасаться новой формы завоевания: «Миссии, хотя они и служат проповеди Слова, не могут избежать опасности считаться зараженными империалистическими, конфессиональными и национальными тенденциями» [25].
Считать развитие единственной или главной целью внешней миссии, а тем более — отождествлять миссию и развитие, — значит забывать о том, что действие Святого Духа совершенно свободно, что в этом действии экономика, общественность, образование суть дела вторичные и всецело подчиненные непосредственному делу евангелизации. Митрополит Макарий Московский в XVI веке говорил епископу–миссионеру: «Добейся сердечного доверия татар и приводи ко крещению лишь любовью, а не через иные соображения».
Миссионерство — это евангельская жизнь, проводимая в совершенной бедности, в кенозисе, в лишениях. Это Христово дело, создание нового человека: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2,47). В этом собрании, осуществляемом через Слово и Евхаристию, созидается Церковь и движется к своему предназначению мир. По своей природе Церковь сама определяет и направляет свою деятельность. Церковь по–прежнему связана с благовестием. Верховная власть Христа исполняется, главным образом, в литургической жизни Церкви. Присутствие Святого Духа проявляется в смирении, любви и обращении.
Религия — опиум для народа?
«Религия — опиум для народа». Эта мысль, высказанная в 1814 г. Гегелем в «Философии права» и повторенная Марксом, ставит перед нами вопрос. Она побуждает нас диалектически исследовать христианское дело, дабы приблизиться ко Христу и благодаря этому полюбить человека. Маркс, Энгельс и Ленин, так же, впрочем, как Ницше или Камю, обращаются к нам с трагическим вопрошанием. Мы можем воспринимать их мысль как мощное критическое средство очищения. Мы должны спокойно противостоять им, и через это противостояние мы надеемся обрести освобождение и восстановить Христово христианство.
Маркс понимает религию как идеологию, как продукт общества и государства, опирающийся на его структуры и интерпретирующий их. Для него религия этим и ограничивается. Он призывает уничтожить ее, чтобы осуществить счастье человека, доселе погруженного в иллюзии. Он ожидает ее исчезновения. Его мысль движется в рамках истории, чтобы не сказать — историцизма. Маркс — знаток в области материи социологии. Он не выходит за пределы этой науки, а если и выходит, то ради философии, которая абсолютизирует социологию. Вопрос о природе религии ставится, таким образом, исходя из социологии же.
Вопрос первый: не укоренена ли религия, ее различные стороны и направления, в человеческой душе гораздо глубже, чем утверждает Маркс? Не раскрывается ли в ней более широкий горизонт, чем он предполагает? Не можем ли мы допустить, без философских предисловий, что если связь между религией и обществом и существует, то она не исчерпывает христианства? Христианство ведь укоренено в его Основателе — Христе — и в верности Ему Его друзей. Тем самым оно выходит далеко за пределы круга истории и тесных рамок историцизма, которые навязывает ему Маркс. И если христианство воспринимается, прежде всего, как милосердие, то есть как мистический экстаз, превосходящий всякую конкретную ситуацию, это значит, что оно и само может определить себя и исследовать свою миссию. Оно не соглашается с теми социальными рамками, в которые вгоняет его критика.
Несомненно, марксистская мысль, движущаяся исключительно в историческом плане и только в этих рамках видящая проявление природы, избегает того, что христиане называют «тайной» и что я предварительно определяю как измерение глубины между Богом и нами. Действительно, Маркс этим не занимается, он равнодушен к тому, что относится к сущности вещей. Тем более не интересуется он религиозным существованием в достоверности глубоко пережитого духовного опыта, которое стремится к обожению и божественной любви, к глубинному уровню сознания. То шествие Бога и Его святых, к которому присоединяется религиозное сердце, когда оно открывается миру и берет на себя груз всей земли, — это сторона, которой марксистская критика не касается, так как не видит ее.
Энгельс в трактате «Анти–Дюринг» (1817) говорит, что христианство знает только одно равенство между людьми–равенство в первородном грехе. Потому мир — это прежде всего мир рабов и угнетенных. Отсюда Энгельс переходит к утверждению, что всякая религия лишь отражает в воображении, в человеческих мозгах влияние сил, которые управляют повседневным существованием людей. Согласно этой мысли, земные силы принимают обличье сил неземных. Объяснив, как воздействуют на человека общественные силы, подобные силам природы, и как, совпав друг с другом, божества образуют единого Бога, Энгельс обещает нам исчезновение религии, которая есть не что иное, как отражение сил, господствующих в буржуазном обществе.
Фундаментальная слабость теории Энгельса — недостаток научности воззрения на сравнительную историю религий. Эта позиция — несомненно, объяснимая обстановкой в немецком обществе XIX века, — привела его к царственному невежеству в чрезвычайно сложных вопросах, которые Энгельс чрезвычайно же упрощает. Ограничимся только одним примером: ни в Палестине, ни в Сирии перво–христианская община не была обществом рабов; с самого начала в нее входили господа, и среди них были люди из императорского дома. Переход от многобожия к единобожию также не был механической операцией. Нет никаких доказательств эволюции язычества по направлению к монотеизму; согласно Бергсону, происходило скорее очищение монотеизма мистикой.
Как бы то ни было, основное в марксистской мысли не заключается в ее философской позиции по отношению к религии. Маркса в его исследовании религии интересует, главным образом, столкновение религиозной морали и общества. С этой точки зрения наиболее значительна, несомненно, его критика социальных принципов христианства, в которых он видит оправдание древнего рабства и средневековых захватов и которые, по его мнению, связаны с угнетением пролетариата. Он отмечает также, что эти принципы провозглашают необходимость существования господствующего класса и класса угнетенного и обещают небесное воздаяние за всю здешнюю несправедливость. Отсюда проистекает постоянство несправедливости на земле. Он замечает, что социальные принципы христианства поощряют трусость, презрение к себе, покорность и унижение, которым противопоставляет смелость, самоуважение, гордость и дух независимости.
Ленин, с этой точки зрения, лишь дословно повторяет Маркса. Подхватывая слова учителя об «опиуме для народа», он утверждает, что сегодняшний сознательный рабочий, который сформировался на крупных промышленных предприятиях, с презрением отвергает религиозные притязания, предоставив небо «попам и лицемерным буржуям, чтобы посвятить себя борьбе за лучшее существование на земле».
Однако такая христианская мораль, какой ее представляет себе Маркс, не соответствует тому, что знают и наблюдают христиане. Это наглядно видно именно в том, что касается рабства. Конечно, Павел требует, чтобы рабы–христиане повиновались их господам, но для него гораздо важнее, чтобы они были связаны с Богом. Призвав их «бояться Бога», Павел уравновешивает свою мысль, говоря: «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах» (Кол. 4, 1). Наконец, он просит христианина по имени Филимон, чтобы тот принял беглого раба и не поступал с ним по римскому закону, требующему наказания. Апостол предписывает принять беглеца не как раба, но как любимого брата.
Для Павла, как нам представляется, самое важное было не в том, чтобы призвать рабов к мятежу: в то время, когда евангельское послание начинало распространяться в Римской империи, это вызвало бы лишь обоюдное ожесточение. Главное в том, что Павел осудил философское — платоновское и аристотелевское — обоснование рабства и расизма. Он призывал облечься в нового человека, «который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос» (Кол. 3, 10–11). Действительно, восточнохристианское общество хорошо осознало необходимость отмены рабства. С IX века византийские монастыри освободили всех рабов–христиан.
Независимо от исторического влияния христианства и от его ошибок, источником глубокого недоразумения по поводу христианской морали стали слова о покорности и терпении. В Послании Иакова читаем: «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели». (Иак. 5, 10–11). Однако в этом же Послании сказано: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто–нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы». (Иак. 2, 15–16). И еще: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак. 5, 1–4).
Эта пророческая традиция, которая начиналась в Ветхом Завете с Амоса и уже тогда имела широкий отклик, проявилась и в Самом Иисусе. Он занял ясную политическую позицию, говоря, например, об Ироде: «Пойдите, скажите этой лисице» (Лк. 13, 32). Он принял в число своих учеников участника тогдашнего сопротивления. Он метал громы и молнии против политической партии фарисеев, равно как и против живших в роскоши саддукеев, сотрудничавших с колониальной властью римлян. Он ублажил нищих, которых тогда называли «Божьими», и объявил богатым, что им будет труднее войти в Царство небесное, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Он был главой движения бедноты, которое само по себе было протестом.
Первые христиане установили в Иерусалиме настоящий коммунистический порядок: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». (Деян. 2, 44–45). Выражение «смотря по нужде каждого» вошло в словарь коммунистов («каждому по потребности»). Ленин позаимствовал стих из апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь» (2 Фес. 3, 10).
Бессильная покорность может быть жалкой, но сила без смирения — это агрессия, жестокость и несправедливость по отношению к роду людскому.
Если мы хотим идти к человеку, пребывающему среди несовершенств бытия, у нас нет иного пути, кроме любви. Мы не можем понять другого, если он не станет для нас всем, если мы не будем смотреть на него, как на все. Наше с ним совместное бытие зиждется на убеждении, что он дает нам все. Чтобы дойти до него, от нас требуется обнажиться, обеднеть вместо него. Перед его лицом мы просим милости. Только когда мы предстаем перед другим, ни на что не притязая, с пустыми руками, готовые слушать его и полные милосердия, только тогда мы — дар и провозвестие. Всякий человек — пустыня, если мы его избегаем, но если мы приходим к нему в поисках гостеприимства, то он — оазис.
В моем разумении, христианская мораль держится между справедливостью и милосердием, смирением и великодушием, кротостью и силой. Нельзя склоняться перед неправдой, нельзя и откладывать исполнение евангельских требований до греческих календ, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мр. 11, 12). Царство — внутри нас, а значит, оно не только грядет, но уже пришло, чтобы осуществиться сначала в пределах этой земли. Бог не здесь или там, не вверху или внизу. Он не обитает в надзвездной области. Материальная за–предельность мира, отличная от этого мира, не входит в христианские верования. Эсхатологические данные Откровения — эсхатологической по преимуществу книги в христианстве — не ограничивают для нас ни вселенную, ни историю, есть скорее преображение вселенной, новое качество, связанное с нашим усилием. Царство и в глубине, и в высоте, оно же — и в социализации. Именно новое человечество, которое мы зовем Церковью, готовит Христу невесту без порока. Даяние — всегда общественно, а не индивидуально.
Образ провозвестника христианства, который воплотили в жизнь и провозгласили святые пророки, очень, как видим, далек от той резиньяции, которую Маркс приписывает христианской морали. Мне бы хотелось, чтобы эксперты по марксизму разобрались, действительно ли мнение Маркса о Боге и вещах божественных создано его анализом религиозных нравов. Если это так, то атеизм Маркса не есть атеизм теоретический и абсолютный, но, в конечном своем виде, это взгляд на такую религию и такую мораль, которые уже отжили. Это значило бы, что марксизм, отбрасывая вместе с историческим злом и Бога, поддался искушению выплеснуть с водой и ребенка. В таком случае и он, так же как и историческая религия, есть опиум для народа.
Верующий обличает неправду и благословляет справедливость
Современный человек обременен экономическими и социальными проблемами. Обременен не так, как в прошлом, то есть не только как тот, кто голоден или в отчаянии. Эти проблемы ставят вопрос о ценности христианства и его деятельности в истории. Чем вызвано то поражение, которое числится за христианскими народами в социально–экономической области, — поражение, приведшее европейских и неевропейских революционных мыслителей к отказу от веры?
Проблема не в том, чтобы вырвать из Писания несколько стихов для оправдания социального итога христианства или обосновать теоретически то, что выполнили другие, исходя из другой точки зрения. Мы здесь не только для того, чтобы благословлять успехи, но чтобы вносить вклад в построение человечества, получая удары в грудь, но не прекращая возвышать пророческий голос против неправды, беззакония и гордыни. Наша задача в том, чтобы вместе с другими — к какой бы религии те ни принадлежали — найти практическое решение проблем бытия, оставаясь при этом чистыми, любящими и свободными от всякой ненависти, не забывая, что социальное здание служит человеческой личности и что нет в мире ценности превыше свободы.
Это значит, что всякая философия «милостыни», как ее называют, есть философия, которая презирает человека, ибо человек имеет право на блага этого мира. Здесь не место демонстрировать это, исходя из учения Отцов. Я сказал бы только, что мы — не сыны века сего, но чада Василия Великого, Златоуста и других святых, которые оставили нам наследство, не зависящее от доброй воли обладателей излишка к благодеянию, но основанное на праве тружеников жить. Это, естественно, должно повлечь за собой коренное изменение методов работы «благотворительных обществ» в Церкви. Ведь все эти методы ущемляют достоинство бедняка и унижают его, превращая в недееспособное и требующее покровительства существо.
Это предполагает также, что Церковь и все, чем она обладает, должны служить всякому человеку, не только верующему. Благодать милосердия обращает Церковь наружу. Последовательно осуществляемая, эта идея могла бы повлечь коренное изменение управления церковным имуществом и использования церковных денег. Конечно, Церковь как учреждение богочеловеческое ожидает Царства, которое проявляется через нее. Она не от мира сего. Ее принципы, ее мировоззрение не позволяют ей занимать политические позиции. Но ее члены — каждый в меру своей ответственности — разделяют жизнь других людей, своей страны, всякого творения, и заботятся о том, чтобы те не остались вне воздействия Христа.
С подлинно христианской точки зрения, люди всегда разделяются на рабов и свободных. При каждом строе есть свои рабы и свои свободные. Человек знает своего Господа или идолов, пролагает свой свободный путь или делается рабом. Коль скоро душа порабощена, нет существенной разницы между наемником реакционного или революционного строя. Сын свободы, напротив, при всяком строе лоялен к властям и намерен строить свою страну собственными средствами; в то же время он преступает пределы всякого установленного строя, открывая широкие перспективы благу человека, его достоинству, уникальности, подлинности. Он не имеет ничего общего с несвободой и несправедливостью господствующего строя, стереотипы которого не находят благословения в его глазах. Верующий обходит стороной все преходящее. Он сотрудничает с общественным строем, поддерживает его, чтобы быть полезнее человеку, чтобы лучше послужить миру, быть ближе к прогрессу. Словом, он уважает всякий строй и преступает его пределы в сторону лучшего.
Верующий обличает неправду и благословляет справедливость. Он стремится увенчать справедливость милосердием. Он не позволяет вселить в себя ненависть, не обращает внимания на ожесточение, всегда старается быть выше этого, что и заставляет его отвергать политическую мысль без порыва и обуржуазившуюся революцию. Верующий сам есть такая революция, которая не позволяет революциям потерять их душу.
Какова природа связи между Церковью и делом справедливости? Православные богословы, собравшись на Крите в марте 1975 г. с целью подготовить работу секции V Ассамблеи Вселенского Собора Церквей в Найроби — секции под названием «Структуры несправедливости и борьба за освобождение», — сочли термин «структуры» туманным и неопределенным. Документ гласит: «Поскольку структуры не суть существа, наделенные волей и свободой, их неуместно рассматривать как запятнанные грехом…» И далее: «Когда люди говорят, что структуры несправедливы, они хотят сказать, что способ устройства человеческих отношений не соответствует требованиям общества».
Фактически проблема поставлена экуменическими инстанциями неудачно. В самом деле, речь идет не о том, чтобы объективировать грех либо отрицать реальность зла в политической жизни, поскольку она связана с «властью тьмы». Противоположность греху — божественная жизнь, а грех есть то, что мешает этой жизни возрастать в нас. Стало быть, схемы господства, как и международные отношения, основанные на несправедливости и эксплуатации, должны быть проанализированы христианами с точки зрения их тяжести и тех искушений, которые они включают. Речь идет о том, чтобы, подобно новым самаритянам, разумно и сообща — так же сообща, мы участвуем в Евхаристии, — прийти на помощь людям, оставленным на всех путях истории; только так сохранит какой–то смысл обращенное к ним приглашение ни Вечерю Господню.
С тех пор как благодаря Христу история стала измерением космоса, преображение мира проходит через исторический процесс, даже если этот процесс — еще не последнее слово. Я безоговорочно подписываюсь под идеей Панайотиса Нелласа о том, что Церковь предпочитает внутреннюю плодоносность политической действительности — исходя из того, что христиане как общность и солидарно с другими людьми, ничего не абсолютизируя, работают на структуры, которые hie et nunc (здесь и теперь) считаются наиболее справедливыми. Само собою разумеется, что общественная борьба показывает нам относительность и ненадежность всех схем, которыми человек сковывает свое благородство. Само собою разумеется также, что социальный анализ не приводит с необходимостью к одним и тем же позициям и что множественность воззрений может существовать в одной Церкви, определяя разницу выбора. Собравшиеся на Крите богословы написали: «Первое свидетельство Церкви как исторической общности, живущей троической жизнью на земле, состоит скорее в том, чтобы быть знаком этой жизни, чем в том, чтобы преобразовывать несправедливые структуры в справедливые, либо критиковать несправедливые структуры, либо предписывать образцы структур более справедливых». Чтобы правильно истолковать этот отрывок, надо помнить, что призвание быть знаком троической жизни логически–но не хронологически — предшествует вовлеченности в борьбу за освобождение.
Ближний — наш брат
Есть насилие — слово, и есть насилие — дело. Слово с самого начала было делом. Ибо оно возбуждает и призывает, и проистекает оно из силы агрессии в нас, силы Каина — того Каина, который таится в каждом из нас. Каин — дитя греха, сын человека, изгнанного из рая. Вне рая человек порождает зло. Как говорит книга Бытия, того, кто был порожден непослушанием, охватило желание непослушания. Он ушел в поле, в пустыню, где никого не было, ни одного человека. Там он бросился на своего брата Авеля и убил его. И когда его спрашивали о брате, он отвечал: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт. 4,9).
Преступник одинок. Смысл нашего бытия — это, напротив, жизнь, которая циркулирует между нами и другими. Человек пребывает внутри этой циркуляции, этого обмена. Жизнь–взаимовыручка. Любовь — неусыпность, ее находят во внимании к другому. Первая степень этого внимания–покровительство. Именно этим взаимным неравнодушием создается человеческая семья в ее единстве. И Бог открывается как Отец этой семьи. Солидарность между людьми лишь выявляет это великое Божие отцовство.
Убийство, кроме того, есть способ самоизоляции от вселенной. Поэтому и говорит Бог: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4, 11). Любовь связывает нас со всей вселенной, со звездами над нашими головами, с холмами и долинами, с водой текущей. Вина, напротив, сжимает в комок. Это увядающая жизнь, при которой все вокруг нас стирается и съеживается. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4,12). Кто отнимает жизнь у другого человека, тот тем же ударом разрушает мир, великую вселенскую сплоченность между живым и неодушевленным, разумным и не имеющим сознания. Связь между человеком и миром может восстановиться, если человек вернется к Богу, Который в нем.
«Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду», а Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5,21–22). Убивающая рука — это рука, пришедшая во гнев. Она уже уничтожила бытие. Она пришла во гнев потому, что обоготворила себя, а обоготворила она себя потому, что изолировалась. Эта самозамкнутость — тайна, в которую мы не можем проникнуть.
Главная наша цель — не возгордиться, не отстранить никого от нашего общения жизни, не причинить зла ближнему и не вовлечь его тем в изоляцию, в опасное одиночество. Важно не только избегать гнева, но и не давать прийти во гнев другим. Речь, стало быть, о том, чтобы очиститься и избежать поведения, которое может спровоцировать другого. Никто не может предвидеть меру зла, которое он причинит другому, если не обуздает себя и не сдержит язык. Этот малый член обладает опаснейшим действием, через него сердце распространяет свое лицемерие. Коренится зло всегда в сердце. Очистим ли мы его, чтобы жить и оживлять других? Или его захлестнет ненависть, заставив язык оскорблять, а руку–убивать?
Чтобы не разгневаться, человек должен смотреть на другого как на брата, ведь на брата человек не гневается. Но это возможно только в случае, если прольется на человека благодать Божия, Божие милосердие. Ибо трудно нам разглядеть братство людей, это даже свыше сил человеческих. С точки зрения человеческой, только наша надежда — а скорее то, на что надеется в нас Бог, — способна привести нас к нему. Наше милосердие друг к другу — вот ключ ко всему великому.
Отсюда, однако, не следует, что кротким другие воздают кротостью и что добрые от каждого выслушивают любезности. Это еще одна тайна: почему праведного волокут на бойню, а злых обычный ход жизни приводит к закланию Непорочного Агнца. Вселенная очищается мучениками. Их кровь — новый призыв к невинности. Они уходят в Царство мира, которое блаженно и радостно предчувствовали на земле. Мученик говорит перед смертью: «Отдаю мою жизнь во искупление». Наша добровольно пролитая кровь может быть свидетельницей и спасительницей. Гнет вызывает бунт, но бунт ни при каких обстоятельствах не бывает творческим. Добровольно пролитая кровь, напротив, всегда свидетельствует об искуплении.
Лекарством человека не заставишь бросить оружие. На этом свете необходимы меры безопасности. Силе приходится противопоставлять силу. Небольшое насилие в этом греховном мире может преградить путь бблыпему насилию. Но главный вопрос остается: как преодолеть бесчеловечное в себе? Если мы приходим есть, пить, расти, обретать и строить во славу Божию, то как укротить таящегося в нас зверя, чтобы он не пожирал подобных нам людей? Это самая важная тема в раздираемом враждой мире. Нужно, чтобы человек согласился не быть одиноким на земле, согласился разговаривать с другими — такими, какие они есть, какими он их встречает на дорогах жизни. Вот первая и великая забота в обезумевшем мире. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя» (Лк. 9, 23). Именно так мы можем идти за этим великим Мучеником, Который возвел на крест свою любовь к другим и отвержение Себя. Отвергнуться себя — значит признать существование других, отвергнуть то ненавистное «я», которое спит в нас и которое гордыня пробуждает и заставляет бросаться на другого и рвать его. Когда же станет сердце обителью мира?
Огромна ответственность тех, кто использует евангельские заповеди как ораторский прием. Нельзя играть чувствами толпы и умывать руки, когда эти чувства порождают насилие. Горе ораторам ненависти: между их языком и пулей убийцы–прямая связь! Горе нам за нашу болтовню в гостиных и за то желание зла, которому мы тут и там даем вырваться: мы сеем в умах общение в непослушании, и оно делает нас ответственными за то зло, которое порождает! Зло всегда родит зло. Мы недостаточно следим за словами, которые произносим. Случайное чувство, выданное завистливым взглядом, болтливым языком способно стать кровью.
Всему этому противостоит общая сдержанность — путь к истинной деликатности, отказ от мести, безграничное смирение перед творением, перед всяким сотворенным существом. Поможем друг другу, чтобы вся страна была градом Божиим.
Ружье или крест
Проблема Бога начинается с вопроса: человеческое ли у Него лицо? Призван ли человек к тому, чтобы его взгляд и дыхание, пройдя через историю и сражения, стали Божественными? Те, кто отвечает утвердительно, ступают на путь примирения. А оно возможно только через страдание. Христианство становится делом воскресения, только если начинается с человека, омытого собственной кровью. Эта любовь делает его способным богословски смотреть на крест и, в то же время, переходить выше — туда, где радость и спасение человечества.
В этой перспективе больше нет вопроса о законности насилия, осуществляемого людьми во имя Бога. Возрастая и двигаясь к Богу, человек избирает ненасилие как выражение своей встречи с Богом, а это позиция силы. В своем глубинном значении и назначении, ненасилие есть дело тех, кто связует землю с небом, с Богом, в спасительном милосердии склоненным над миром. Великие воины ненасилия способны укротить злобу. Я соглашаюсь с их выбором так, словно открываю для себя любовь.
Но у свидетельства есть и другое лицо: сила, которую применяет рука и все тело. Человек может избрать силу этого тела как временное средство противостояния злу. Насилие, однако, не школа, и если оно входит в систему, то это худшее из растлений. Значит, его нужно искупить любовью.
Человек иногда — по зрелом размышлении и с глубоким сокрушением — может быть вынужденным прибегнуть к насилию, как тот, кто, покорствуя вере, готов умереть, зная, что этой смертью его прославит Бог. Никто не должен судить человека, если ему кажется, что орудием свидетельства порой бывает крест, а порой ружье. Насилие — такое действие, которое сказывается на личности; человек может пойти на него из святого места, где в пламенной молитве он беседовал со своим Богом. Тот, например, кто драматически пережил Сопротивление, освобождается от напыщенной лжи о героизме.
Предание Восточной Церкви утверждает ненасилие, даже если в том или ином случае она, в лице принадлежащих к ней людей, преступала эту заповедь. Православные святые одобрили позицию национального величия и достоинства, которая побудила народ Святой Руси сопротивляться татарам, а народ Румынии — феодалам. Церковь поддержала борьбу против турок в Османской империи, против сионизма — в Палестине. Везде она была едина со своим народом, убеждена в том, что он борется за правое дело.
Плоть и кровь — по–прежнему наша природа и наша дорога, путь человека, который движется от земли к Царству и в страданиях пытается сказать о радости. Наш путь к святости один — перевязывать другим раны и пребывать в союзе с теми, кто страждет.
Довольно масок — нужны лица
На любой войне каждая сторона убеждена в своей правоте. Потом, когда проходит вражда, меняются и речи. Все происходит так, словно мир — театральная сцена, где важна прежде всего роль, которую мы играем. Так, словно существует только та страна, которая кажется, а не та, которая есть. Словно для нас важно не лицо иметь, а постараться, чтобы другие узнали о нас только то, что мы хотим открыть.
Если мы откажемся от театра, от масок, то на какую истину нам ориентироваться? В этическом плане мы не можем не сказать, что тот, кто способствовал разрушению страны, не может управлять ею, ибо потерял всякое доверие. Людям надоели маски, они требуют лиц, требуют глаз, бесстрашно глядящих в глаза.
Страна должна преследовать всякого военного преступника, как взор Божий преследовал Каина. Новое поколение не согласится принять на себя ответственность за страну, не изгнав сперва оптовых торговцев смертью. Злому перед милосердием праведного останется лишь повторить то, что Каин сказал Богу: «От лица Твоего я скроюсь» (Быт. 4,14). Будем же зорки, чтобы избежать Божьего проклятия. Нельзя перевязывать рану, сначала не обработав, не продезинфицировав ее, иначе мы будем вынуждены открыть ее снова.
Освобождение Церкви
Церковь тем действеннее будет участвовать в освобождении, чем скорее освободится сама. Освободится от властолюбия иных клириков и мирян, от эгалитарного демократизма, при котором пренебрегают авторитетом Бога, Слова, святых канонов; освободится от эксплуатации своего богатства священниками и церковными функционерами, от отождествления с власть имущими, от опасности обуржуазиться, от елейности в словаре и в манерах, потому что все это превращает Церковь в тело — общественное тело, подчиненное закону смерти.
Дыхание пророчества
Обычно говорят, что христианство потерпело поражение, так как не смогло глубоко преобразовать общество. Услышав такой суд, мы должны прежде всего спросить, была ли целью христианства общественная реформа. Известно, что в пределах исторического времени Царство Божие вполне не осуществится, оно ожидается, оно в грядущем: «Гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20). Это последнее восклицание последней книги Библии показывает, что мы не ждем совершенства на этом свете. Истина христианства — надежда. Это взгляд на настоящее свыше, но это и настоящее, которое ждет преображения.
Христианство — малая закваска, которая поднимает все тесто. Это значит, что само оно — не тесто. Оно не претендует быть цивилизацией, оно — дыхание цивилизации. Цивилизация может потерять свое дыхание, надолго иссохнуть, покуда не обретет вновь своего духа. Когда дух возвращается в истомленное тело, снова появляются ее (цивилизации) художественные, общественные, политические достижения. То, что было камнем, становится статуей. Упорядочивается хаос. Творческие умы торжествуют над неопределенностью. Страсти находят основание в движении, в порыве благородной любви. Когда дух вновь утверждается на своей почве, он порождает в обществе то, что хочет породить. Общество становится чуть ближе к раю, но это ненадолго, пока его вновь не охватит растление. Тогда–то и появляется пророчество, но не в обычном смысле, а как постоянное превосхождение личностью самой себя. Всякий внутренний рост требует от нас усилия. Рост причастен горнему пламени, направляющему наши шаги ввысь.
Что верно для гражданского общества, верно и для общества религиозного. Как во всем человеческом, в нем есть то, что может прийти в упадок и исчезнуть. Писание видит Церковь славной супругой без пятна и порока. Этот образ родился в первом порыве чувства и относится он к тому, чем она должна стать. Однако между откровением и венцом славы лежит вся эта человеческая слабость, мешающая нам идти, потому что люди способны угасить в себе Духа и удалить пророчество. Тогда Церковь представляется старой брошенной женой. Внешне она не отличается от всякого иного сообщества. Некоторые даже могут быть лучше, чем она, так, словно Церковь тоже живет в мире без Бога. Это не удивительно, ибо человек вполне способен удалить из своей среды и божественность, и основанные на ней учреждения. В течение своей жизни огромное большинство верующих способно совершить отступничество, усвоить логику сатаны, попасть в преисподнюю и принять ее за небо.
Видя противоречивые стремления, проявляющиеся в обществе, управляемом только законом, апостол Иоанн говорит: «Испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4,1). Сатана, искушая человека, может явиться в виде ангела света. Многих это обманывает, потому что Слово не пустило в них корня. Когда истина вырвана из глубины сердца человека, он может принять за истину то, что в нем есть: страсть и лукавство. Церковь тогда перестает быть путем к совершенству и превращается в вихрь страстей, театр своеволия, средство уродования человека, орудие лжи. Исторически, практически она уже не закваска, поднимающая все тесто, а люди все также алчут вечной пищи и остаются голодными.
Несмотря ни на что, нам нельзя без Церкви. Христос, альфа и омега, начало и конец, может преобразить Свою Церковь, вернуть ее от суеты к сущности, от растления к святости. Он может даже преобразить в ней всю человеческую цивилизацию. Верующий не станет независимым от своей религиозной общины, в каком бы упадке она ни была. Это невозможно, потому что, в силу Промысла Божия, она рождает в Слове, Слово воскресает в ней, и Дух, казалось, угасший, возрождается. Так, возвращаясь к наследию Церкви, вновь обретая в ней свою жизнь, мы опять обретем способность к различению и сможем судить о том, исходит ли тот или иной дух, то или иное направление от Бога или нет.
История знала периоды обновления. Ничто не мешает будущему быть блистательнее и глубже всего, что было до сих пор. Свобода Святого Духа распространяется на все, и Он может вновь призвать святых, какие Ему нужны. Только они способны заставить нас опять поверить в наше воскресение и воскресить из мертвых цивилизацию.
Людям надоели красивые слова
Пора оставить церковнический стиль и начать говорить правду. Людям надоели красивые слова. Они ждут от Церкви, чтобы она стала действенной. Таково условие их возвращения к Церкви.
Кажется, все мы согласны применить ко Христу такие определения, как «бедный, простой среди простых». Но все ли мы согласимся, чтобы эти две добродетели — бедность и простота — нашли отражение в жизни Церкви? Что из того, что ты лирически проникновенно говоришь о бедности Господней, когда живешь ты в архиепископской резиденции, выстроенной по соседству с домами богачей, и следуешь их стилю жизни? Конечно, нигде не сказано, что духовность евангельской бедности требует, чтобы мы жили с самыми нищими и держались в стороне от других людей. Несчастные из среды крупной буржуазии — те же нищие, и им также требуются пастыри. Но все же нам кажется странным, что Церковь бедного Назарянина особо балует своих богатеньких детей. Высшее духовенство живет с ними в таком согласии, что «революция», к которой зовет нас Евангелие, «революция», полная любви и Христовой свободы, необходима ныне, как никогда.
Не в том ли назначение Церкви, чтобы из поколения в поколение продолжалась эта святая революция? И почему тогда только значительные лица допускаются к столу и в гостиные иерархов Церкви? Не следует ли приглашать также обездоленных, босых, людей с улицы, всех тех, кто пребывает в смертной тени и не знает хороших манер? Или они должны питаться крохами с господских столов? Ведь Отец Небесный не делает различия между юношей и зрелым человеком, между господином и рабом.
Люди, молодежь хотят говорить, самовыражаться. Они хотят высказать епископам заботы и обиды, желания и критические замечания. Что мешает им сделать это? Протокол, условности, правила приличия, церковнический жаргон, излишек внешнего почтения. Все те препятствия, которые воздвигает иерархия, чтобы заслониться от яростного ветра — от излияния Духа.
Слишком долго клерикальные круги возводили эти стены молчания, и о них разбивались верующие, молодежь. Слишком часто оттого, кто не епископ и не сильный мира, требуют только молчания. Того, у кого есть свое мнение, красиво поблагодарят, удушат в отеческих объятиях и даже не скажут, прав он или нет. Свидетели — опасны. Но если их не слушать, если не призывать их к свободному слову, из любви к правде они могут прийти к отрицанию Церкви.
Евангелие призывает к революции против социальной несправедливости, нравственной всеядности, пагубной реакционности. Именно при этом условии Церковь станет воистину Церковью глубин, Церковью движения, Церковью Божественной идеи в действии!
Это требует от нас борьбы против угнетателей и реакционеров, отхода от конфессионализма, провозглашения прав не только для нашей общины, но и для всех обездоленных–крестьян, безработных, учащихся.
Церкви, миру нужны сильные, свободные, правдивые слова — ведь Слово стало плотью. Надо, чтобы и наше слово, по примеру Сына Человеческого, вышло на улицу. Никто в Церкви — ни духовенство, ни миряне — не должен засыпать, пока все не исполнится и пока не появится на горизонте удивительной истории человечества Господь.
Консерватизм может стать преступным бездействием
Да, мы стоим на страже нерушимого Предания, но Бог посылает Своего Духа и обновляет лицо земли. Предание есть верность Духа Себе Самому, выраженная всегда в новых словах. «Единство Духа — в мировой взаимосвязи». Нельзя терять дерзновение детей Божиих, свободных в своем доме.
Христианский консерватизм должны уравновешивать новизна и смелость в пастырской работе, поиск наиболее адекватных форм литургики и каноники, способных донести дуновение Духа и лучше возвестить о грядущем Господе. Иначе консерватизм может превратиться в моральный террор, в небрежение и преступное бездействие.
Церковное учреждение должно отмереть
Всякий, кто занимается анализом христианства, должен ответить на вопрос, знает ли он, из какого исторического самосознания, из какого отношения к миру исходит его анализ. Ответ на этот вопрос определяет, что думает Церковь о себе самой, как понимает свою роль, а стало быть, — характер и ценность своей деятельности. Если Церковь ищет «силы и славы» на уровне мира сего, то это Церковь мирская; если истинная ее цель — слава Отчая, то она Христова. Поэтому подобает смотреть на Церковь, как всегда смотрели Отцы–Ефрем Сирин, Августин: Церковь есть собрание кающихся грешников. Кающихся более или менее всерьез.
В православии Церковь подвергалась искушению синагоги. Она стала смотреть на себя как на замкнутое сообщество. Она теперь состоит не из Евангелия, которое мы несем в мир, а из хранимых нами обрядов и обычаев, из привилегий, за которые мы боремся. Отсюда один шаг до конфессионализма.
Как увязать укорененность Церкви в миру, даже в политической структуре, с ее претензией быть предчувствием и преддверием Царства Божия, дыханием творящего Духа? Тем более — как донести послание этой Церкви до современного свободного сознания, которое отрицает групповую ограниченность — и племенную, клерикальную? Речь идет о духовном требовании, предшествующем экуменическому действию.
Церковь как учреждение во многих отношениях должна будет отмереть. Всякий новый взгляд несет с собой исчезновение или изменение старого. Речь идет не о введении новых форм, не об изменении порядка богослужения или одежды священника. Нам не нужно соблазняться стилем, внешним осовремениванием. Христианскому миру нужно преобразование самого религиозного бытия. Разве Церковь освобождается от требования быть Церковью, то есть самой жизнью мира?
Люди жаждут правды и вечности, а им дают крохи. Ибо предстоятели Церкви подвержены искушению пожертвовать подлинностью ради единства. Они мнят, будто мудрость–всегда синоним осторожности, и не видят, что она также включает дерзновение детей Божиих. Да, Церковь — хранительница преданий, но это не значит, что она должна оглохнуть к голосу Духа, Который в полной свободе говорит через смиренных — будь то богословы или миряне, мужчины, женщины, дети. Применение власти оправдано лишь тогда, когда оно подчиняется этой свободе. Одно из назначений власти — преобразовать народ Божий в общении с Богом. Роль власти в том, чтобы освящать Церковь и самой превращаться в любовь.
Если Церковь обратится к Господу, она преодолеет все препятствия, что стоят перед ней и перед человеком, ищущим себя самого. Пусть рухнет учреждение Церкви, укорененность в мирском и временном, чтобы воскресить Христа, погребенного под камнями бездушной религии. Тогда Церковь сможет вновь стать присутствием Господним среди страждущих, кто бы они ни были, христиане или нет. Тогда она вновь станет таинством любви, изгоняющей всякий страх, собранием тех, кто несет своего Бога по всем путям истории. Став настоящей, Церковь станет матерью настоящих людей. Все корыстное, суетное, лукавое, что есть в христианах, может исчезнуть в этом пламенном обновлении. Ответ на вопрос о Церкви будет и определением нового народа.
Возобновить провозвестие Слова
Современный человек верит в науку, разум и эволюцию. Нужно, чтобы между всем этим и Церковью установился диалог, который по многим темам уже начался. Встреча и поиск согласия непременно приводят к такой экзегетике и такому богословию, глубина которых превосходит видимое значение текстов. Это требует исторического и критического изучения Святого Писания, житий святых, богослужебных текстов. Это влечет за собой переоценку многого, различение между существенным и случайным, абсолютным и относительным, легендой и вечной истиной. Ибо только истина делает свободными. Она одна может явить собой Бога и обратиться к человеку.
Сейчас мы находимся на таком этапе диалога, когда речь идет о том, чтобы понять другого так, как он понимает сам себя, и выслушать его в простоте и чистоте сердечной, чтобы уловить, что в его откровении не подлежит изменению. Я не забываю о том, что некоторые умы более всего интересуются непосредственными вопросами собственного существования и сосуществования с другими. Ясно, что сначала нужно жить вместе, а уж потом возникает пламенное желание совместной жизни, любовь также требует знания всего, что в другом уникально и неповторимо, знания меры другого. Беззаветно любить другого — это значит и понимать его в том, что для него интимно. А что может быть интимнее сознания, что ты стоишь перед Богом? Понятие о другом в его оригинальности есть понятие богословское. Этого понятия невозможно избежать и тогда, когда речь идет о религиозной социологии. Что мы такое, каково наше конкретное поведение в общении с людьми? Это зависит от менталитета, от социальной психологии, которая обусловлена либо живой верой, либо верой, исчерпавшей себя. Между богословием и социологией находится область этики. Последняя может либо определяться богословием — вплоть до смешения с ним, либо зависеть от социологии. Где этика в своей основе является богословской, там она имеет два полюса. Тогда перед нами встает вопрос о пастырстве, который требует диалога.
Во всяком случае, никто не может избежать обстоятельств истории и тех требований, которые она предъявляет к нам. Если история и не определяется содержанием откровения, оно, тем не менее, освещает ее смысл. Невозможно избежать времени, так же как невозможно избежать речи. Я знаю, что в методе исторического анализа есть опасность релятивизма, неотделимого от мышления аллегориями. Но я знаю и то, что абсолют Бога выражается в человеческих словах. Только через человеческое приближаемся мы к Божественной мысли.
С этой точки зрения Священное Писание представляет собой поле, открытое для всех. Оно ждет нашего плуга–объективного чтения. В нем есть смысл, к которому мы должны стремиться, применяя для этого все средства научного исследования. Таким холодным чтением дополняется чтение с верой, которое, не нарушая буквы, выходит за ее пределы. Соглашаясь пригласить другого к этому чтению, мы со всей искренностью можем признать его нашим партнером по диалогу. Условие sine qua поп (непременное условие) — в том, чтобы к священным текстам подходили люди, подготовленные к этому, согласно общепринятым научным критериям.
Каковы, согласно такому подходу, посылки обсуждения различных тем — например, семьи или политики с христианской точки зрения? Прежде всего, следует учитывать тот факт, что этика Нового Завета глубоко укоренена в богословии. Новозаветные тексты — основа. Они святы для всех христиан. Они отличаются совершенной новизной по отношению к Ветхому Завету и гораздо свободнее от еврейских или греко–римских культурных наслоений, чем мысль святоотческого периода. Если и верно, что их можно понять лишь в связи с библейским контекстом, то сами они все же не зависят от него…
Если Евангелие как проявление вечного Слова Божия обращено ко всем векам, это значит, что оно обращается к тому человеку, с которым мы живем и чей образ мышления сильно отличается от господствовавшего в ту эпоху, когда оно записано. Поэтому должен явиться новый подход к возвещению Слова и способ изложения Евангелия в современном духе. Это, естественно, ставит проблему ценности высказываний и литературных жанров, использованных самим Божественным Откровением. Это также значит, что провозвестник веры, живущий в начале XXI века, должен по уровню научного образования принадлежать своему времени, иначе он будет спасать лишь себя самого.
Православие должно вернуться к источникам
Церковные общины нуждаются в постоянном богословском обновлении, которое позволяло бы им сверяться в своей обычной катехизаторской работе и в богослужебной практике с самими источниками веры. Фактически православие в целом должно вернуться к своим источникам, чтобы избежать общих мест, исчерпанных учебниками двух прошлых веков, в которых все заимствовано из западного богословия. С XII века православный мир питается западной схоластикой и сочинениями протестантов. Это сильно повлияло на наше понятие о Церкви, на наш подход к функциям предстоятелей, на нашу практику таинств. Патриарх бывает подвержен искушению стать региональным папой, подавив реальную власть синода, и рассматривать епископов как своих наместников, принимая без согласования с синодом решения по вопросам, в которых заинтересованы все епархии.
Литургии недостаточно, если нет трапезы Слова
Многие пастыри думают, что достойное и торжественное участие в служении литургии — естественная форма, которую тут же принимает обращение. Нет ничего более ошибочного. Мистагогия, или литургическая катехизация, всегда была условием участия в богослужении. Личное осознание открывшейся истины подтверждается необходимым фактом поклонения Отцу в Духе и истине. В «обществе», закон которого есть общение, разрушить феномен массовости можно, лишь призывая каждого члена этого «общества» к духовному бдению или к аскезе.
Как бы ни были непрочны условия православной жизни, нетерпимо, когда церковное сознание сплошь да рядом легко допускает, что священник может быть лишен дара слова. Так как Бог обращается к нам через книгу, которая начинается с Бытия, а заканчивается Апокалипсисом, воля Его в том, чтобы всегда проступать сквозь земное бытие и чтобы мы в Его творениях могли понимать и истолковывать Его Самого.
Однако очевидно, что одной области литургии недостаточно для познания всех глаголов жизни вечной. Нужна трапеза Слова. Она возможна при уединенном чтении, но и при чтении общем во время бдений, сосредоточенных вокруг нее. Почему бы не ввести другие формы еженедельных всенощных, не богослужебные, с чтением, прерываемым молитвами и песнопениями? Они с пользой заменили бы посещения семей, когда священник часто изрекает одни банальности.
Я убежден, что Восточные Церкви должны стать — ведь так и было в первом тысячелетии — библейскими общинами, где Писание так же живо, как и литургия. Мы, по своей лености, создали литургические гетто, чтобы убежать от мира и с эстетическим потребительством наслаждаться гимногра–фией. Однако литургия сама хочет быть актуализацией Слова. В период Соборов она была его истолкованием, а стало быть, ей не чуждо и полемическое измерение. Но теперь у нас иная проблематика. Есть другие формы заблуждений, не те, что у древних еретиков. Синкретизм, гностицизм, неопозивитизм, спиритизм так искажают сознание людей, а литургия не возражает против этого ни словом. Пастырство невозможно без обновленной литургии, в которой составилась бы современная молитвенная община.
Это обновление осуществимо лишь при глубокой верности Писанию и духу Отцов. Мы и здесь хотим их комментировать–похвальная и необходимая задача, но важно уметь применять их метод, мысля не как они, но в их духе, воспринимая Слово Божие в его разнообразии и богатстве, чтобы выйти навстречу человеку, такому, каков он есть, и ввести в него Божественную жизнь. Именно в этом усилии устанавливается истинная преемственность по отношению к Отцам. Господь говорил самаритянке о «воде живой», которая потечет из того, кто в Него уверует (Ин. 4, 13–14), словно ученик Иисусов сам становится вечным источником.
Но всякое размышление, сосредоточенное на Слове и домостроительстве Таинств, в значительной мере остается недостаточным, если оно не очищает путь для таинства брата, как говорит Иоанн Златоуст. Нельзя забывать, что миссия, переданная апостолами через Павла, состояла из двух требований: проповедовать Евангелие и делать сборы для иерусалимских христиан. Любить бедного, борясь и уча его бороться против его бедности, — неотъемлемая часть Евангелия Иисуса Христа. Церковь есть свидетельство любви для страждущих, для обездоленных. Мы должны систематически заботиться о бедных. Таким образом, Церковь предстает как триптих, состоящий из трех икон, которые суть: литургия, Писание и любовь к бедным.
Я думаю, что священник не есть и не должен быть как один из тех семи, посланных апостолами в Иерусалим, чтобы заниматься столами. Но в его послушание входит и забота–вместе с верующими — о нуждах братьев. Тот, кого мы покидаем, чувствует себя нелюбимым и легко становится жертвой волков.
Долой все виды конфессионального национализма
Взаимосмешение национализма и религиозности проистекает из той роли, которую играла Церковь во времена многочисленных освободительных войн. В этих войнах участвовали епископы, священники, монахи. Церкви довелось стать хранительницей языка и культуры, что позволило греку, русскому, болгарину, сербу почувствовать себя вполне православным, какова бы ни была глубина его веры.
Это православие, единство которого не только в вере, но также в его восточном духе, связанном с единым представлением о человеке, до сих пор не могло быть заменено ни только словом, рассеянным в мире, ни только свидетельством. Такой замены и не требовалось, так как для каждой Церкви важно было свидетельствовать на своей территории, взаимодействуя с национальной культурой и питая ее. Прочно укорененные в национальной почве, православные отлично умели оставаться самими собой.
Однако эта укорененность сделала много поколений православных заложниками существующей в их странах власти. Она развратила их представлением о некоем национальном превосходстве. Она побуждала их там, где они были в большинстве, становиться более или менее фундаменталистами, смешивая свою национальную принадлежность со своей Церковью, а горькие или гордые исторические воспоминания — с церковным сознанием. Единства в вере и литургии было, таким образом, недостаточно для того, чтобы сблизить людей практически. Напротив, многие православные зачастую мнят, будто один народ, принадлежащий к той же Церкви, чем–то выше, чем другой. Этим они поддерживают расовые предубеждения. Знакомясь ближе с другими, открывая для себя чужие обычаи и традиции, открывая, например, что литургические формы были плодом истории, — можно многое поправить. Именно взаимно обогащаясь и начиная понимать относительность некоторых привычных вещей, люди, возможно, поймут и то, что церковное сознание должно быть свободно от национального чувства.
Формально осудив филетизм, православие вновь побуждало к смешению этих чувств и самосознаний — церковного и национального. Верно, что свобода обретается через некоторое отвлечение от истории и культуры. Нет культуры, которая была бы привилегированной в историческом плане. Если христианство воспользовалось греческой философией, чтобы стать понятным в эллинистической среде, то в исламских странах ему придется усвоить понятия и чувства арабов. Все это требует пересмотра тех или иных литургических текстов, тех или иных обычаев. Иначе можно изменить вечному Слову.
Поместная Церковь составляет святой народ, призванный встретиться с Господом в паруссии. Его обитель — на небесах. Он не бывает орудием государства. Он поддерживает смелость, но не насилие. Он не может проповедовать отечественную войну, принимая все ее бедствия. Царство Божие не совпадает с государствами. Оно выше непрочных судеб народов.
Если некоторые православные народы — русские, грузины, греки — «совпадают» со своей Церковью, то у других это не так. Во многих странах православные в меньшинстве; так обстоит дело в Финляндии, в Западной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке. Здесь православные получили особую благодать: они не отождествляют Церковь и нацию. Поэтому они более свободны от того, что временно. Они чувствуют себя странниками.
Величие нации — победы, богатство, науки — ничто в очах Божиих. Униженные и оскорбленные народы любимы Богом в их культурном убожестве и историческом одиночестве. Если они будут приняты в общение любви, если великие народы скажут им, что они необходимы, то восстановленное таким образом единство возымеет силу, которая освятит всех.
Вхождение в культуру и уважение к инаковости
Как в плане учения, так и в плане пастырства, проблема нашего отношения к культуре ставится, исходя из богословской последовательности, из послушания вере. В евангельском послании есть космическое измерение; оно должно выходить за церковную ограду, облекаясь в те слова, которые присущи культурной сфере, где живут христиане. Уже в библейском и в литургическом слове есть такие слова, и если к Слову невозможно приступить, не представляя палестинской и греко–римской культурной среды, то сегодня невозможно проповедовать Слово, не учитывая среды, призванной его воспринять.
Может быть европейский или восточный, арабский или африканский способ говорить о православии: Евангелие всегда входит в культуру, воплощается в опыте и обычаях народа. Оно должно затронуть душу народа. Божественное содержание облачается в тот или иной наряд, чтобы стать конкретным. Никакое сознание не бывает совершенной целиной, в каждом всегда есть какое–то предварительное состояние ума. Поэтому библейский фундаментализм или литургический ригоризм, которым нет никакого дела до слушателей, грешат неверностью Евангелию.
Вот почему серьезный проповедник будет искать новых форм выражения. Он должен знать литературу, философию, социологию народа, к которому обращается. Чуткость к психологическим глубинам народа продиктует форму, которую надо придать христианскому посланию. Это может отразиться и на литургической жизни. Если словесные формы, жесты богослужения пришли из первого тысячелетия, то так ли уж они неприкосновенны? Могут ли они быть легко восприняты обмирщенным человеком XXI века? Так ли уж должны они сохранять свой архаический облик, и должны ли мы посвящать современного человека в реальность археологического порядка?
Пусть поймут меня правильно: речь не об aggiornamento, тем более не о приспособленчестве к духу века сего, не об ослаблении великого Предания, которое спасало нас веками. Я знаю, что на нашем пути есть такие подводные камни, как чрезмерное упрощение или духовное обеднение. Но разве не столь же опасно простое воспроизведение форм? Действительно ли спасают нас одни и те же слова, повторяемые на протяжении всей истории человечества? Я не настаиваю на систематической новизне. Моя единственная забота в том, чтобы Бог мог общаться сегодня с теми людьми, какие есть.
Спасаем ли мы божественное начало в человеке, вечное Евангелие, если обращаемся к Богу по–древнегречески, по–старославянски, по–сирийски, по–коптски, по–древне–армянски — на языках, совершенно непонятных для массы верующих? В этом плане было бы ложью сказать, что православные сильно отличаются от латинян до II Ватиканского собора. Разве Церковь — хранительница национального наследия? Не прав ли и сегодня апостол Павел, говоря: «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь» (IKop. 14,16). Хор механически твердит это «аминь», и все, кажется, довольны.
Ввиду борьбы, которую ведут народы, для свидетельства веры вновь обретают особое значение евангелизация и каноническая форма Церкви. Проблема национальностей, языков, религиозных меньшинств в мире — проблема, получившая замечательное решение в православной миссионерской работе, — остается средоточием освободительных движений современности. Восточная Церковь всегда входила в культуру народа, и вселенское православие хочет видеть себя обществом множества Церквей, из которых каждая пользуется языком своего народа. Однако ветхий человек вновь возникает в канонической жизни православия, особенно в диаспоре. В тот день, когда между православными христианами Востока наступит единство, когда крещение сделает свободными и мужчину, и женщину, и эллина, и варвара, когда каждого православного с теми же объятиями примут у таинственной трапезы, — только в тот день мы сможем явить миру должное единство в различии культур и харизм, дарованных народам. Тогда предлагаемый нами диалог с иными конфессиями и религиями обретет какой–то шанс быть продолженным. Тогда спасение, понимаемое как обожение человека, всего человека в преображенном космосе, спасение, предлагаемое Церковью, сможет быть принято, как поистине отвечающее всем чаяниям человеческим. Человечество страждет от духовного удушья, речь идет не о том, чтобы привлечь его конформизмом или синкретизмом невысокой пробы, но о том, чтобы поддержать его жизнь, приглашая его посетить спасенных людей.
Сказать так, значит, прежде всего, заявить, что если общение открывает нам, какие «кафоличные» глубины есть в Церкви и как важно «представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1,28), — то остается истиной, что каждый из нас должен родиться от духовного отцовства, что он должен следить за тем, чтобы новые знания или техника общения не заслонили всегдашних задач пастырства, его заботы о каждом больном и отверженном, о каждом человеке, который чувствует потребность, чтобы о нем помолились или просто любили его.
Может быть, в этом мире, заливающем людей информацией всякого рода, сплавляющем их в бесформенную и безликую массу, только Церковь Иисуса Христа остается способной выслушать жалобы каждого.
Приблизиться к людям сегодняшнего дня
Люди стали сегодня хозяевами техники, финансов, администрации и политики. Технократами создан целый мир. И так как у них нет времени возиться с молодыми людьми, они посылают их в университеты. Чему там учат? Математике, психологии, социологии, литературе и так далее? Анализу. Все университеты занимаются одним–единственным делом–анализом. Курсы лекций представляют лишь мнения, которые можно поворачивать во все стороны, читают их профессора, которые ни во что не верят или веры которых мы не знаем. Университет стал одним из символов общества, которое ест, пьет, раздувается и хочет расти до бесконечности. Но не хлебом единым жив человек.
Другой характеристикой современного человека можно считать то, что он вывел многие стороны жизни за пределы области нравственного. В числе этих сторон — половая жизнь. Он не обязательно более развращен, чем предыдущие поколения, но он не видит, что половой вопрос как целое стоит под знаком нравственности. Напротив, он ставит искренность и правдивость на вершину шкалы ценностей.
У современного человека тоже свой круг, своя литература и искусство. Мы должны узнать его самого по его проявлениям, полюбить его и выявить долю истины в поставленных им проблемах и брошенных им вызовах.
Чем живет человек? Во времена Достоевского он требовал свободы, а ему дали хлеб. Сегодня, когда за ним признали свободу, он говорит: «Вы дали мне ее, но я получил только скуку и бессмыслицу. Что я с ней делать буду, с этой свободой? Дайте мне к ней в придачу еще что–нибудь или дайте мне что–то внутрь. Не оставляйте меня пустым. Нет ли кого–нибудь, кто бы меня полюбил или кого бы я полюбил? Кто сделает меня самим собой?».
Эти вопрошания неотразимо доказывают, что нельзя откладывать последний вопрос о смысле до того дня, когда будут исчерпаны все возможности материального развития. Нельзя переносить на завтра поиск самого важного — духовного измерения. Дух вопиет в нас сегодня.
Я лично верю, что восточное христианское богословие достаточно высокоразвито и плодоносно, — когда обращает взор к Богу, — чтобы быть способным приблизиться к современному человеку. Великой духовной энергии, которая содержится в Православной Церкви, достаточно, чтобы осветить этого человека и сделать его открытым. Но это предполагает непрестанное размышление, утвержденное на Божественном основании, — что подтверждают строгие вопрошания наших современников. Это требует сплава Божественного учения и Божеской жизни в нас. Только если мы смеем поставить себя и наш образ жизни и свидетельства под вопрос, мы сможем стать впереди нашего времени с великой умственной честностью и во смирении сокрушенного сердца.
Чем и кем жив человек? Только тот, кто не отлагает на завтра духовных решений, может ответить на этот вопрос. Только тот, кто жив, — к какому бы поколению он ни принадлежал, — может явить что–то иное, чем скука и бессмыслица. Важно, что дети просят есть и что мы не должны оставлять их голодными. Всякий поиск начинается с неведомого Бога. Каково Его имя, каков Его лик? Бог открылся нам во Иисусе Христе. Окончательный смысл вещей — любовь.