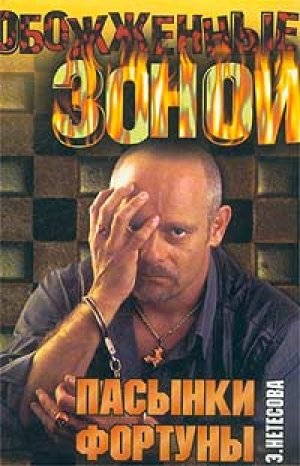
ГЛАВА 1
Кузьме всегда не везло. Может, потому даже из зоны вытолкали его взашей охранники, бросив вдогонку обшарпанный саквояж, и спешно закрыли дверки проходной, словно испугались, что этот чертов сын каким-то образом опять вернется в зону.
Кузьма оказался на свободе, сидя в сугробе по самую задницу. Он не враз сообразил, что в зоне ему больше делать нечего. И вытащив саквояж, в котором поместились все немудрящие пожитки, поплелся к воротам.
— Пустите, мать вашу!.. — заорал визгливым голосом и заколотил в кованое железо костистыми кулаками.
— Ты что, съехал вовсе? Шмаляй отсюда, козел вонючий! Не то так вкину, мало не покажется! — пригрозил охранник.
— Куда в ночь пойду? Иль не видишь, темно уже! До жилья живьем не доберусь нынче! Завтра, по светлу, уйду, — обещал Кузьма.
— Ишь, чего захотел. Не было мороки до утра говно нюхать! Отваливай. Чтоб тебя черти взяли! — пожелал охранник и закрыл глазок в дверке проходной.
Кузьма, оглядевшись, вздохнул. И потрусил к дороге, ведущей на волю… В вислоухой облезлой шапке, в длинной, до колен, телогрейке, в резиновых не по размеру сапогах, он был похож на пугало, сбежавшее с огорода от нерадивых хозяев.
Кузьма шел, оглядываясь по сторонам. Смотрел на волю, свалившуюся на него внезапно. Что делать с нею, как жить? Все зэки зоны мечтали о ней. А он давно забыл, какая она.
Щипал холод тело. Мороз забирался под телогрейку. Сковал сапоги, потом и ноги. Пришлось припустить рысью, чтобы не превратиться в сосульку.
Кузьма бежал вприпрыжку, зная, что к ночи мороз всегда усиливается. Он и не заметил верхового ветра, сорвавшегося с макушек сопок: тот лизнул сугробы жестким крылом, словно попробовал их на зуб, и, увидев одинокого мужика, рассмеялся в распадке ледяным голосом, собрался в комок и, разжавшись пружиной, рванулся к дороге.
Кузьма едва удержал шапку. И завязав ее под подбородком, помчался по дороге, стараясь обогнать просыпающуюся пургу. Она обещала быть жестокой. Кузьма знал, что продлится буран не меньше трех дней. Выжить в нем, будучи в пути, не удавалось никому. И не такие, как он, здоровые да сильные, замерзали насмерть. У Кузьмы и вовсе не было шансов. Он это понимал.
— Свобода! Хрен ей в сраку! Пофартило! А чем? Живой зэк лучше дохлого фрайера! Теперь скалятся мудаки, что выперли меня в пургу из зоны! Радуются падлы, коль сами не прикончили, пурга доканает! А за что? — взвыл Кузьма, еле удержавшись на ногах от очередного порыва ветра. И оглядевшись, заторопился в глушь тайги, где пурга, разбив нос о кроны деревьев, не сможет погубить его, отнять жизнь. В тайге, если очень захотеть, можно пережить любое ненастье…
Кузьма, едва оказавшись в чаще, облегченно вздохнул. Здесь было тихо и
много теплее, чем на обдуваемой бураном дороге.
Мужик усмехнулся. Устроился на пне. Перекуривал. Думал.
Он знал, что до ближайшего села ему надо протопать с десяток километров. Потому не торопился. Сломав несколько сухих веток с берез, разжег маленький костерок, накидал сверху хвойных лап и грелся дымом. Растирал занемевшие от мороза руки, лицо, прыгал вокруг костра, будто черт на пенсии, радовался тому, что жив и способен двигаться.
Он стучал кулаками по ногам и плечам, размахивал руками и вертелся у тепла, стараясь вобрать его в себя до капли, без остатка, на весь долгий путь.
Белесый дым, едва доплыв до края, смешивался с пургой.
Мужик, поскакав у костра до тех пор, пока не почувствовал прилив крови по всему телу, снова двинулся в путь.
Он решил идти тайгой вдоль дороги, не теряя ее из виду. Чтоб не сбиться, не заблудиться ненароком. Но на его беду над дорогой и тайгой стало быстро темнеть.
Кузьма знал: без костра он пропадет. А заготовить дрова на всю ночь без пилы и топора — не успеет. Идти в потемках — немудрено и заблудиться. Ждать рассвета, сидя на пеньке, все равно, что самому на себя наложить руки.
— Попух, как курва на разборке! — усмехнулся мужик. И выбрал из всех
зол — меньшее, решил идти, куда выведет ослепшая фортуна. Шаг за шагом, все дальше от зоны, где свирепые охранники, наверное, радовались, что не выжить в этой кутерьме ненастья одинокому зэку. Его они ненавидели давно и стойко. Точно так же относился к ним и Кузьма. Сколько раз он пытался бежать из зоны, сколько хитрости и коварства понадобилось ему, чтобы обвести охрану. Но… Его ловили. Овчарки. Их не проведешь. И порвав на зэке все, вплоть до родной шкуры, не раз грозили выпустить душу. Но… В последний момент ему удавалось выжить, и с дополнительным сроком за попытку к побегу его снова швыряли в зону. Кузьма никогда не обещал охране не пытаться бежать. И та не спускала с него глаз, не упускала случая пустить в ход кулаки даже без повода — на будущее, знала: оно себя ждать не заставит. И не ошибалась. Мужик и в зоне, и в бараке, и даже в бригаде, где работал, держался обособленно. Никому не раскрывал душу, хотя в ходке пробыл двадцать лет. Давно мог бы выйти на волю, если бы не добавочные сроки за побеги. Но, видно, корявой судьбе было угодно именно так.
Двадцать лет без нескольких дней… Немало. А Кузьме и теперь помнится суд над ним.
Ох и много же было народу в зале! Зеваки, свидетели, потерпевшие… Все негодовали. Молчал лишь Кузьма. Не воспользовался даже правом последнего слова. Ни о чем не просил суд, ничего не обещал. Не плакал. Хотя и было от чего.
Он не верил никому. Да и зачем? Если своя мать, взяв его за руку, отвела в детдом. Умолила, упросила, чтобы взяли сына.
Кузьма по малолетству так и не запомнил причину. Знал, что, кроме матери, не было у него ни одной родной души на всем свете. Мать, прощаясь с сыном, обещала вскоре вернуться, забрать его к себе. И мальчишка целыми днями простаивал у окна, ожидая ее. Но мать не возвращалась.
Вначале Кузьму уговаривали, потом начали ругать. А дальше и наказывать. На первых порах оставляли голодным. Потом ставили в угол на всю ночь. А когда убедились, что и это не поможет, били жестоко, зверски. И дети, и воспитатели. Но и это не помогло. Вот тогда пятилетнего мальчишку закрывали на целый день в темном подвале. Иногда забывали выпускать его даже на ночь.
Кузьма не плакал. Не просил прощения и не требовал, чтобы его выпустили наружу. Он ждал мать. Чужих не хотел знать и видеть. Может, потому легко переносил наказание, предпочитал одиночество в темноте драчливой детской своре, безжалостной и крикливой.
Лишь через три зимы, стерпевшись со своим положением, устав от ожидания, он начал понемногу вживаться, присматриваясь, выжидая подходящий момент для побега. И однажды ночью убежал из детдома, незаметно проскользнув мимо уснувшей старухи-сторо-жихи.
Старого дома на окраине города он не нашел. На том месте был построен стадион, где взрослые парни гоняли мяч по траве, не обращая ни малейшего внимания на одинокого мальчишку за забором.
Когда Кузьма насмелился и спросил у одного из них, куда подевался его дом вместе с матерью, тот ответил, что ничего не знает. А стадион здесь открылся два года назад.
Парня позвали играть дальше. А Кузьма побрел в город в надежде встретить мать на улице, напомнить ей об обещании, пожаловаться, как тяжело и плохо жилось ему в детском доме.
Он обошел много магазинов, базар, заглядывал во дворы больших домов и в окна. Но никого не встретил, нигде его не ждали.
Кузьма давно хотел есть. Но уже знал, что никто не даст ему и куска хлеба. А на улицах города, словно назло, торговки продавали пирожки и мороженое. Мальчишка мужественно проходил мимо, не рискуя попросить. Но голод к вечеру одолел. И приметив зазевавшуюся торговку, стащил с лотка кучку горячих пирожков, нырнул с ними в первую подворотню. Услышал крики погони, бросился со всех ног в раскрытые двери подвала и затаился в темноте. Погоня проскочила мимо. А Кузьма, выбежав из подвала, нахватал из брошенного без присмотра лотка еще с десяток пирожков и побежал на окраину города, в старый заброшенный дом. Здесь даже уцелела кособокая пружинная койка с постеленным на ней рваным одеялом. Пыльный стол, накрытый газетами. Мальчишка, проглотив половину пирожков, свернулся на койке в клубок и вскоре уснул.
Проснулся оттого, что кто-то дергал его за плечо, настырно вытаскивая из сна.
— Ты чей будешь? — услышал Кузьма строгий голос. И боясь возврата в детдом, ответил торопливо:
— Сам свой. Ничейный.
— Сирота что ль? — спросили из темноты.
Кузьма молчал, сжавшись от страха. Понимал: сознайся, вернут в детдом.
— Чего молчишь, как усрался? Иль глухой?
— Слышу, — отозвался недовольно, приготовившись удрать через выбитое окно, если его решат вернуть в приют.
— Чего тут канаешь? Иль дома нет?
— Нету, — выдохнул мальчишка.
— Давно беспризорничаешь? Кузьма не ответил.
— Хамовку стянул сам? Иль выпросил? Ну, что молчишь? — терял терпение человек.
— Мое дело, — выдохнул Кузьма.
— Тогда вали отсюда, гнида мокрожопая! — потерял терпение говоривший. И хотел ухватить мальчишку за шиворот. Тот вывернулся. И ответил глухо:
— Некуда мне уходить. Да и нет у меня никого.
— Откуда-то ты взялся?
— Откуда сбежал, вертаться нельзя. Лучше сдохну, чем опять в детдом, — проговорился невзначай.
— Приютская дрань! Только этого и не хватало! Давно смылся оттуда?
— Вчера.
— Чего слинял? Тыздили что ли? Кузьма согласно сопнул носом.
— Слабак в яйцах, коль сдачи дать не мог.
— Их много. Я один. Никто б не сдюжил против кодлы. Да еще воспитательницы. И все на меня. Жрать не давали. Держали в подвале. Я терпел сколько мог.
— А чего не скентовался ни с кем?
— Как теперь дышать вздумал?
А уже наутро отвел Кузьму ночной собеседник в самый оголтелый район города, к развалинам, рядом с барахолкой. Там передал мальчишку лысому круглому мужику и сказал Кузьме, уходя:
— Жаль мне тебя стало. Вот и привел сюда. Живи. Старайся. Может, и получится из тебя понт…
С того дня у мальчишки жизнь круто изменилась. С утра до ночи вместе с тремя такими же, как сам, пацанами начал постигать воровскую науку. Она оказалась нелегкой. Его быстро обучили грамоте. За шесть месяцев бегло читал вслух. Считал в уме со скоростью молнии. С первого взгляда отличал
золото от прочих металлов. Ценный мех не путал с дешевкой и подделкой. Учился драться. Благо было с кем.
Пацанов натравливали друг на друга, как бойцовских петухов. Синяки и ссадины заживать не успевали. А лысый все подбадривал:
— А ну, Кузьма, звездани Геньке, чтоб по жопу раскололся! Дальше сам развалится!
Уставать было нельзя. За это лишали жратвы. Из пацанов растили воров сильных, выносливых. А потому готовили их тщательно. Учили, для начала, как беззвучно залезть в карман, сумочку, как шмыгнуть в форточку квартиры. Что стоит брать, а на что не надо обращать внимание. Где нужно искать деньги и ценности. Как с ходу вырвать сумочку, ридикюль. Как отличить пархатого от голожопого. Как и чем можно напугать баб и девок и воспользоваться страхом. Как надо прижимать и трясти фраеров. Пацанов учили в деле. За ошибки и оплошки получали они зуботычины не только от лысого…
Весь навар, который снимали они за день с горожан, забирала у них «малина», не оставляя даже на конфеты.
Кузьма рано научился курить, ругаться, отчаянно дрался и слыл способным учеником.
Мальчишек воры никогда не отпускали на промысел одних. Всегда к ним цепляли опеку из двоих взрослых воров, которые в случае шухера выручали пацанов, спасая от погони, расправы толпы, приводов в милицию. Кузьме, как и другим, настрого запрещалось грабить старух и стариков, отнимать у них харчи и деньги. А если кто-то, позарившись на легкую добычу или по забывчивости, все же делал это, отнятое немедленно, возвращалось владельцу, а пацану всыпалось так, что уже Ю
до гроба помнил, чем старики отличаются от прочих и почему их надо обходить.
— Ты, курвин сын, вбей в тыкву, что и тебя на свет баба произвела. Старые — все родители. Средь них и наши — забытые. Не добавляй к их слабости и одиночеству горе потери. Им никто не поможет, не даст кусок. Самим его заработать трудно. Сил нет. Не торопи их умирать. Они и так жизни не рады. Усеки! Этого греха Бог не прощает и наказывает за него. Но не только тебя, паскудного! А всех нас! — били воры пацанов.
— Другим можно? А нам — нет? Почему? — недоумевали мальчишки.
— Они не воры — шпана, вам не ровня. Шестерки при фартовых и те файнее. Потому, когда мусора трамбуют их и мокрят, честные воры не вступаются. Говно всегда не в чести!
Тумаки, пинки, подзатыльники сыпались на головы за каждую промашку. Но… Умели и хвалить, а потом начали давать пацанам их долю. В настоящие дела их не брали. Берегли, учили, готовили тщательно, просчитывая все возможные ошибки. Устраивали учебное ограбление в своей хазе, наблюдали,
— Эй, Огрызок! Ты что ж, падла, перчатки не натянул? Секи! Лягавые живо тебя «на пианино» поиграть заставят! И накрылся. Отпечатки — улика! — влипала затрещина.
— Почему «маскарад» не нацепил? Харю твою узнают, повиснут на хвосте! Всех кентов засветишь в хазе! — били в другой раз.
— Почему «духи» забыл? — получал пинка за то, что, линяя с дела, не брызнул в хазе нашатырный спирт, отбивающий все запахи.
— Одна ампула. Раздави ее и крышка! Ни лягавый, ни пес запах твой не учуют. Овчарки, бывало, не по следу, по вони кентов накрывали. Потому что те про «духи» забывали. И шли в ходки, на «дальняк».
Кузьма старался запомнить все. Воры его уважали больше других пацанов. И хотя дали за малый рост и худобу кликуху — Огрызок, не материли грязно, как других мальчишек.
Пацан был удачлив. Умел вытащить из кармана кошелек так, что хозяин ничего не успевал почувствовать. Знал назубок всех богатых людей города, кто где из них живет, знал в лицо не только их самих, детей, но даже собак, их клички и слабости всякие. И этими его знаниями не раз пользовались воры. Огрызок в свою очередь учился у них.
— Ты, сучий выкидыш, не фрайеров — мусоров пасись. Они, падлы, хуже зверей. Первейшие враги фартовых. Замокрить лягавого никогда не западло. И хотя «законники» не мокрушничают, загробить мусора — всегда в честь. Заруби это себе на шнобеле. Не жалей лягавых псов! — учили Кузьму воры и показывали, как надо драться, учили работать с «пером», метать его, точно и быстро наносить удары, от которых не спасут врачи, не заштопают.
— В дело бухим не хиляй. Это верняк. За наваром только по тверезой. Когда куш сорвал, потом хоть жопой жри водяру. Но в своей хазе. Где и стены, и кенты, и сявки помогут.
Кузьма запоминал все. Он на слух умел отличить звон хрусталя от звона бокалов из тончайшего стекла. Звон золотых монет от серебряных. Блеск чистого бриллианта от александрита, сапфира от топаза. Знал цену всему. В тринадцать лет Кузьма понимал не меньше любого фартового. А считались с ним потому, что не плакал от затрещин и не обижался. Не держал зла на ударившего. Старался запомнить, чтобы в другой раз не быть битым. Он не огрызался с ворами. Наказание переносил молча. Но… Однажды сорвался. Тот день мальчишка запомнил навсегда.
Повезло ему с самого утра. Тряхнул гостя, приехавшего из заграницы. Тот всю войну в полицаях был. А когда немцы отступать стали, бросил дом, семью и с фрицами сбежал в Германию. Правду сказать, люди на него не обижались. Никого он не убил, не продал. Но властей испугался. Осмелился объявиться лишь через пять лет подданным чужого государства. Даже фамилию сменил и имя. Но куда от своих денешься? Власти им не интересовались. А вот Кузьма спер у него тугой кошелек с валютой. Напомнил гостю, где он находится. Тот и не спохватился поначалу. А потом крик поднял на весь магазин. Кто-то в дверях стал, чтоб всех людей проверить. А Кузьма нырнул под прилавок и в открытые двери склада выскочил. Словно и не было его в магазине.
В тот день он впервые напился, как настоящий вор. Его навар оказался самым жирным, и воры усадили пацана рядом, поили щедро.
Кузьма, осмелев, выпил одним духом стакан водки. Сам от себя такого не ожидал. А вскоре, окосев, кипишить начал, задирать фартовых.
— Замолкни, Огрызок, не то вломим! — пригрозили пацану.
Но Кузьма не унимался. Он распустил не только язык, а и кулаки. А утром проснулся на осклизлой лавке барахолки. Его выкинули из хазы. Насовсем. Значит, что-то утворил такое, чего не могли ему простить и вышибли, чтоб не замокрить, не брать грех на душу.
Кузьма трудно встал. Все тело черное от побоев. Видно, на сапоги его взяли. Но за что?
«Пойти узнать? А стоит ли? Небось подумали — откинулся. Коль живым нарисуюсь — доканают. Лучше не соваться в хазу самому», — решил мальчишка. Он сидел на лавке измятым, истерзанным, усталым комком. Он впервые понял, что не нужен никому, даже самому себе. И Кузьма почувствовал отвращение к жизни.
Пацан не мог пошевелить даже головой, болели спина и шея. И память отказала. За что его выбросили?
— Эй, Огрызок, глотай свой положняк и линяй из города. Да шустри, пока кенты не пронюхали, что ты одыбался. Не то живо пришьют, — вырос словно из-под земли пацан из «малины». И оставил рядом с Огрызком новенький саквояж с барахлом и гревом.
Кузьма, посчитав свою долю, сморщился. Не густо расплатились с ним воры. Но зато оставили дышать.
Он хотел узнать, что натворил он по бухой? Но спросить уже было некого. Генка исчез. Он сделал свое.
Кузьма уже знал: воры дважды не повторяют. И коль сказано линять — медлить нельзя. Он умылся у колонки и поплелся к вокзалу, решив уехать из Орла, куда глаза глядят.
Едва поставил ногу на подножку вагона, почувствовал резкий рывок. Саквояж вместе с вихрастым незнакомым пацаном нырнул под вагон. Огрызок бросился следом. Едва выскочил из-под вагона, поезд тронулся. Кузьму жаром обдало. Он нагнал воришку далеко за вокзалом. Слабоват тот оказался. Выдохся. Огрызок, свалив его на шпалы, не пожалел. Вымещал все зло и неудачи. Месил лицо и тело стиснутыми кулаками так, что воришка отмахнуться не успевал.
— Ах, ты, гад! За что убил? — услышал запоздало. И путейский рабочий, ухватив Кузьму за шиворот, оторвал от мальчишки, потерявшего сознание. Огрызка тут же сдала в милицию орущая толпа, оставив воришке саквояж Кузьмы, не поверив в то, что озверевший мальчишка — владелец саквояжа. В милиции тот сказал, что Кузьма хотел отнять у него саквояж, и если бы не люди, подоспевшие на помощь, убил бы и сбежал.
Кузьма не отвечал на вопросы милиционеров даже тогда, когда двое здоровенных лбов едва не измесили его в котлету.
Огрызок целый месяц провел в камере. За это время милиция узнала, что он сбежал из детдома. Обратно взять Кузьму отказались. Испугавшись, что ставший вором бывший детдомовец дурно повлияет на окружающих детей, отгородились от пацана барабанной формулировкой: мол, опозорил детский коллектив, носящий имя Ленина…
Милиция, прочитав этот отказ, не очень удивилась. И, вытащив Кузьму из камеры, наподдала напоследок авансом и вышвырнула за двери, сказав, что в другой раз, если попадется, отправит гулять на Колыму. Кузьма решил сыскать виновника беды и целую неделю разыскивал его по всему городу. Но пацан словно сквозь землю провалился.
Огрызок уже валился с ног. Голодный, без угла, избитый милицией и бедами, он решил вернуться к ворам. Пусть лучше они убьют. В одиночку без них жизни нет. Да и кому он нужен? А воры, может, простят.
— Возник, как падла! Нарисовался, мокрожопый! Чего ж сам не фартуешь, как грозился? Слаба кишка? — встретили его насмешкой.
— Бухой был. Что брехал, не помню. Облажался, как последний фрайер. Но с кайфом — завязал. Горя много, а греву — с хрен. Дурное нутро, коль водяра шилом вылезла, — он остановился на пороге. И тут же увидел своего обидчика — вихрастого пацана.
В момент все понял. «Малина» специально подослала его. Организовала и поимку. Вплоть до милиции.
— За что? — спросил он тихо. Ответ на свой вопрос он знал.
— Кайся, гнида! Грызи землю! Всяк за свое получает. И ты не на халяву схлопотал. За то, что «перо» на фартового поднял. Закон нарушил, выблядок! — гремел лысый толстый вор.
— Мокрите, коль виноват. Один дышать не могу, — признался честно.
— Ну что, кенты, как сговоримся с этим падлой? — спросил лысый у троих воров.
— На кого он хвост поднимал, пусть тот и трехнет. Так и будет.
— Вали в хазу до вечера. Там кенты решат, как быть с тобой… Кузьма сидел у окна, слушал разговоры фартовых, думал о своем. Вихрастый пацан держался подальше от Кузьмы на всякий случай. Он уже знал, что не всегда фартовые успевают на помощь вовремя. А Огрызок прошел у них хорошую школу.
Кузьма уже не злился на него. Понял, что вихрастого взяли взамен его, Огрызка. И учат. Но теперь уж осмотрительно, жестко, не выделяя, не хваля, лишь требуя и наказывая.
Поздней ночью вернувшиеся с дела кенты согласились оставить Кузьму, но не без условий, которые он обязан был выполнять.
Унизительными были они. «Но что делать, если никому, даже самому себе, перестал быть нужным?» — вспоминал Кузьма и зацепился ногой за корягу, утонувшую в сугробе. Как незаметно сбила она с ног! Не предупредив, не пощадив.
Да и кто жалел его, хоть когда-нибудь в этой жизни?
Кузьма с трудом выбрался из сугроба, отряхнулся от налипшего снега. И оглядевшись, правильно ли идет, не сбился ли он с пути, продолжал продираться сквозь ночь и пургу, так похожие на его жизнь… Лишь потом понял Кузьма, почему его оставили в «малине» и стали брать с собой на дела. Все было просто. Он сам согласился и винить особо было некого.
Огрызок знал законы «малины». Понял, что именно его, в случае провала дела, подсунут мусорам, чтобы сумели выйти сухими фартовые. Дважды сыпалась «малина» на делах. Оба раза ловила милиция Огрызка, прикрывавшего собою убегающих воров. Милиция гналась за пацаном, не видя в темноте, что нагоняет малолетку с пустыми руками и карманами, подкинутого на живца.
Огрызок, конечно, отбивался. А кто из нормальных людей добровольно согласится пойти в милицию? К тому ж, случись такое, Огрызком просто не заинтересовались бы, и продолжали бы погоню за ворами. В милиции его, конечно, колотили. Вламывали, как вору. А Кузька божился, что никогда им не был. Не видел и не знает фартовых.
Огрызка с неделю трясли, как грушу, следователи и опера. Но все без толку. Огрызок клялся всем на свете, что никогда, ни у кого, ничего не украл.
Промучившись с ним несколько дней и не добившись ничего, к нему в камеру подсадили «утку». Но Кузьму и на этот случай подготовили фартовые, и Огрызок не раскололся. Его выбросили из милиции под черный мат. Во второй раз Кузьме пришлось труднее. Два месяца просидел он в следственном изоляторе на хлебе и воде. А потом вбили в камеру к нему парнишку-ровесника. Желтолицего, изможденного как старика. Избитого и изодранного. Тот назвал кликуху пахана всех городских «малин». Сказал, что сам ворует вместе с кентами, мол, попутали лягавые в деле. И вкинув в дежурку, решили приморить его тут. Но кенты не бросят. Вытянут. Помогут слинять. А если Огрызок захочет, то и его с собой возьмут. Кузьма к тому времени не верил никому. И хотя так хотелось ему иметь настоящего кента, с кем без опаски всем на свете поделиться можно, удержался и в этот раз. Ничего не сказал о себе. Лишь то, о чем говорил следователю.
Вслух он восторгался, завидовал мальчишке. Но ни о себе, ни о фартовых словом не обмолвился.
Эта скрытность спасла его вторично. Кузьма знал, в третий раз из милиции его либо мертвым вынесут, либо увезут в ходку — на севера. Огрызок слышал, что воры, не принятые «в закон», на дальняках вкалывают за себя и за фартовых. Навар отдают паханам, чтобы вольготно дышали законники.
В лучшем случае, если повезет, «на пахоту» не посылали, определяли в шестерки, шныри, чтоб промышлял хамовку для фартовых, тряся Иванов или политических. Последние добром свое не отдавали. Вламывали шестеркам всей кодлой. Так что те после побоев с месяц, а то и больше на катушки встать не могли.
Шныри и сявки были лишь на ступень выше обиженников. И Кузьма, конечно, не хотел оказаться в зоне.
Он уже не раз обдумывал, куда ему слинять, приткнуться, исчезнуть из своей «малины». Боялся лишь того, что за откол фартовые распишут его где- нибудь в темном переулке.
Огрызок теперь стал осторожнее и не подставлял милиции себя за кентов. Держался рядом. Но однажды посмеялась судьба. Зашел он вместе с ворами в притон выпить, повеселиться вздумала «малина» после удачного дела. — Тебе, Огрызок, коль с водярой завязал, надо к шмарам подвалить.
Закадри какую-нибудь. Ну и пофлиртуй ночь. Уже пора тебе знать, чем девки
от нас отличаются. Зажми. Глядишь, мужик и проклюнется. Кентель подымив- хохотали фартовые.
На их смех, голоса из комнатенок, из-за ширм бабы вышли. Всякие. Крашеные, лохматые, навеселе, они вмиг облепили фартовых.
— Эй, Красавчик, пошли ко мне сегодня! — висла на фартовом шмара, мусоля его морковными губами.
— Нет! Тебя сегодня не хочу! Кралю закадрю на вечерок. У ней, падлы, сиськи с мой кентель!
— А этот чего сюда возник? — приметила задастая девка Огрызка.
— Наш он. Привели, чтоб мужиком стал!
— А какой молоденький! — обняла Кузьму за шею потная, узколицая девка и прижалась к Огрызку напудренным наспех носом. Тот вывернулся из цепких объятий.
— Видать, нецелованный! Свежак совсем! Ну иди ко мне, жеребенок мой. Я покажу тебе, где у теток хорек прячется, — пошла за Огрызком. Тот к стене прижался, обалдев от стыда. Баба ухватила его меж ног. И, хохоча, объявила: — Это маленькое дерево все в сучок вымахало. Ишь какой! С виду
— замухрышка! А зажмет, мало не покажется ни одной! Кто за него башли даст? Он за десяток мужиков управится, — держала Огрызка накрепко.
— Эй, Выдра! Не оторви утеху у пацана.
— Если не заплатите, возьму на талисман.
— Так он же тебя еще не зажал!
— Потому и держу, чтоб не отняли!
— Эй, Огрызок! Не ссы! Сам себе бабу выбери! Выдра— лярва старая! Ты помоложе кобылку оседлай!
— Не слушай их, кролик мой, все бабы в темноте, как кошки, одинаковы. Ни у одной нет золотых краев! — тащила Кузьму за перегородку. Тот, обалделый, растерялся. Но вскоре оказался в постели Выдры.
— Ну, что, вороненок желторотый? Чем я хуже других? Будешь моим хахалем? — приставала шмара.
— Отвали ты от него! Обкатала и ладно. Пусть Огрызок сам подколется к какой захочет! — вступился кто-то из фартовых.
С тех пор, что ни день, повадился Кузьма в притон к бабам. Что ни день новая шмара. Все веселые, ласковые, податливые. Они вскоре привыкли к Огрызку и признали его общим хахалем. Случалось, без навара обслуживали. С ними Кузьма быстро осмелел, повзрослел, заматерел, а в «малине» его стали считать первейшим кобелем.
— Эй, Огрызок, пока ты со шмарами кайфовал, мы два дела провернули. Ты ж без навара остался! Чем с бабьем рассчитаешься? Они ж на халяву долго не потерпят. Оторвут все хозяйство и вякнут, мол, без мудей родился. Докажи потом обратное! — звали кенты в дело.
И Кузьма согласился. Теперь у него появился свой понт. Он понял, без навара мужику дышать нечем.
Так и приклеился он к Сайке, белобрысой толстой девке, самой тихой и покорной из всех шмар. К ней он приходил едва ли не всякий день. А натешившись вдоволь упругим телом, возвращался к кентам. Те не могли не заметить, как изменился характер Огрызка. Он стал держаться увереннее, спокойнее, не срывался на крик. Долго из общака свой положняк не клянчил, как раньше, требовал коротко, веско. Не позволял вольностей и унизительного отношения к себе, не терпел насмешек. И, если не пускал в свою защиту кулаки, считаясь с фартовыми, то взглядом мог так осадить, что отбивал охоту у любого относиться к себе, как к пацану. Он сам себя считал мужиком. Это ему помогла понять Сайка.
Любил ли он ее? Да нет. Но существовала признательность, привязанность к бабе, искренне доверившейся Кузьме. Она была старше и опытнее его в постели. А в жизни ей не довелось пережить и сотой доли того, что вынес и перетерпел Огрызок. Она это чувствовала и по-своему жалела его. Он взрослел у нее под боком. Мужал. Она понимала, что их связь может в любую минуту оборваться на долгие годы или навсегда. А потому ласкала
Кузьку, забывая про сон, горячо и почти искренне. На годы вперед. Чтобы было что вспомнить в случае чего. Чтобы не отвернулся, не пожалел о деньгах и подарках. А коли случится беда, ее имя останется с ним повсюду. Она единственная в притоне ждала его и всегда радовалась приходу Огрызка. Для нее он был не просто хахалем.
Сайка знала — кто он, и боялась за Кузьму. Тот ничего не рассказывал ей о себе, не спрашивал ни о чем. И даже не знал ее родного имени. В тот вечер он пришел к ней как всегда. И завалившись в постель, забыл о кентах, «малине». Но под утро громкий стук в дверь сорвал с постели весь притон. Сюда со шмоном заявилась милиция.
Кузьма хотел выскочить в окно, но вовремя заметил, что дом оцеплен с собаками.
— Что за шухер? — открыла дверь притона бандерша.
— Волоки своих сучек вместе с клиентами! — рявкнул кряжистый старшина и, надавив плечом, оглядел заспанную пьяную Выдру.
— Ее клиент недавно смотался, — указал на дымившийся в пепельнице окурок молодому лейтенанту, заглянувшему через плечо.
— Может, тот самый?
— Нет, эта шмара у них спросом не пользуется. В тираж ей скоро. На подхватах работает. К ней разве лишь по бухой кто-нибудь подвалит.
— Но ведь вот ушел же кто-то, — не соглашался лейтенант.
— Пока темно было. А рассвело, удрал со страху, — хохотнул старшина и открыл другую дверь.
— Какую девочку хотите? — загородила дверь бандерша.
— Ты мне зубы не заговаривай, — отодвигал ее старшина.
— Какие зубы? Разве их у меня лечат? Ну, если тебе девочек уже не нужно, может, молодой человек найдет подходящее? — тараторила бандерша.
— Сгинь! Не мельтеши! Ведь предупреждал старую сводню! Все равно за свое! — злился старшина и сплюнул, увидев в постели рыхлой шмары комсомольского вожака города.
Когда, открыв третью дверь, увидел Кузьму, спешно натягивающего брюки, заметил ехидно:
— Что? Школу малолетних кобелей открыла? — повернулся к бандерше. И, подойдя вплотную к девке, спросил: — Слушай, Сайка, этот тип давно у тебя? Когда пришел? Во сколько?
— Вечером. В девять, — дрожала шмара.
— Собирайся! — прикрикнул на Огрызка. И ни слова не сказав, впихнул его в воронок и доставил в милицию.
Лишь там узнал Кузьма, что вечером кенты обчистили банк, и пока милиция приехала, фартовые исчезли из города, вероятно, на гастроли. Время было упущено. Найти законников теперь стало нереальным. А тут Кузьма подвернулся. Решили его тряхнуть, кто ж, как не он, знает, куда уехали фартовые?
Огрызок от удивления чуть дара речи не лишился. Два миллиона увели кенты! Вот это навар! Такого он еще не видел!
Кузьма сидел ошарашенный, словно язык проглотил от горя. Еще бы! Такой кусок упустил! Наверно, и доля была бы жирная. Уж отвалили бы кенты, если б взяли в дело. Но не повезло…
— Куда уехали воры? — спрашивал следователь, ерзая на стуле от нетерпения.
— Не знаю. Никаких воров не знаю! Меня у женщины взяли. О чем вы говорите?
— О том, что ты знаешь, куда делась «малина». Не могла она сбежать, не предупредив! Ведь твою долю они с собой прихватили, — напомнил следователь, демонстрируя Кузьме свою осведомленность.
— Доля? — растерялся на миг Огрызок. И тут же, взяв себя в руки, сказал: — Не знаю, о чем это вы?
— Я тебе про положняк говорю. Твой, кровный! Ведь и его «малина» прихватила, не подавилась. Такой куш сорвала и на твое лапу наложила. А ты выгораживаешь! Зачем? Кого? — улыбался следователь.
Огрызок играл в дурака.
— Мне никто ничего не должен. Уж если бы такое случилось, я бы свое вырвал! Будьте спокойны!
— Не смеши, Кузьма! Нам о тебе известно все. И давно. Тебя твои кенты высветили! На месте преступления, в банке, будто случайно был забыт твой саквояж. С которым тебя уже приводили в милицию. На ручке — отпечатки твоих пальцев. Их уже идентифицировала дактилоскопическая экспертиза. Тебе надо объяснять, что это значит? Да все просто! Тебя подставили твои же фартовые! Единственным виновником ограбления. И я имею право с этой уликой отдать тебя под суд! Ты соображаешь, что грозит за ограбление банка на два миллиона? Ни много ни мало — расстрел!
— Да как же я один такую прорву башлей спер бы и унес? Живым? Не замеченным и не задержанным сторожами? Вам никакой суд не поверит, — рассмеялся Кузьма.
— Как это незамеченным? Я же сказал — грабеж, значит, действие, сопряженное с насилием! Двое охранников убиты.
— Выходит, я их вырубил? Один — двоих? Мало деньги спер и вынес, охрану перебил, сумел спустить два миллиона за полночи! Я их что, Сайке в транду вбил? — начал злиться Кузьма.
— Веди себя прилично. Не в пригоне сидишь! Я помочь тебе хотел, дураку! Мозги промыть, чтоб понял, чем для тебя запахло! Завтра этим займется прокуратура. Ограбление — ее прерогатива и подследственность. Они с тобой спорить не станут. Продырявят башку и имени не спросят. Иль мало таких, как ты, на тот свет отправлено? Кому охота возиться с вами? Так хоть ты о себе подумай! Ведь восемнадцати лет нету! Вся жизнь впереди!
— Малолеток не расстреливают, — отмахнулся Кузьма.
— Ввиду особой дерзости и сверхсуммы, исключение из правила тебе обеспечено. Это и законом разрешено, — объяснил следователь.
— Это еще доказать надо, что я был в банке!
— А саквояж?
— А куда я деньги дел? Где основное доказательство моей вины?
— Все признаешь! И расколешься за милую душу! Ломанут тебя в прокуратуре пару раз! Все вспомнишь и подпишешь. У них — не у нас! Уговаривать некогда. Одумайся, пока не поздно. Иначе, крышка тебе!
— Я у своей девахи был. Меня там накрыли, не на банке, а на бабе. Другого не знаю! — стоял на своем Огрызок.
Следователь, недобро усмехнувшись, отправил Кузьму в камеру, забитую до отказа всяким сбродом.
Огрызок долго не мог уснуть. И ворочался с боку на бок на бетонном полу. Конечно, ему было над чем задуматься. Ведь «малина» оставила в банке саквояж не без умысла. Указала на него пальцем. Фартовые были уверены: милиция надыбает Кузьму. Сгребет без трепа. Не станет с ним много ботать и пустит под вышку, потому и положняк
Огрызка прихватили, мол, к чему жмуру башли? На том свете они — без понту. Там ни баб, ни водяры не имеется. Высчитали все. Но за что? Злился Огрызок, не находя покоя.
— Закопали, падлы! Живьем! Шакалы облезлые! Встретить бы мне вас нынче! Своими клешнями передавил бы!
— Чего тут возишься? Какая вошь жопу точит? — недовольно пробурчал старик, лежавший почти у параши. И, диво, Кузьма, сам не ожидая, рассказал ему все. Поверил в старость. А может, время пришло, лихая минута прижала. И старик, пожалев Кузькину молодость, завздыхал:
— Беда у тебя стряслась и впрямь сурьезная. Со всех концов куда ни кинь. Скажись властям, воры убьют. Смолчи — власти прикончут. Куда нонче голову прислонить тебе, бедолаге, и не придумать. Как ни раскинь, везде
едина погибель. Ладно б таких, как я, свое прожил. А тебя — жаль. За что эдак судьба милостями обходит? Но, думается, не стрельнут тебя, в тюрьму закинут! Это как Бог свят! У нынешних — ни ума, ни сердца в середке нет! Злоба единая! Оттого тем властям нет от люда веры! Им не люд, им — дармовые руки надобны! А потому правду они не ищут. Им она в помеху. А и вырваться тебе, голубчик, навряд ли повезет. Большую напраслину возвели на тебя. Да и на меня! И на всех! Иначе откуда столько мытарей и бедолаг на земле развелось? И все слезами умываются. Не от правды все. Молись, дитя горемычное. Другого у тебя выхода нет. Может, Господь увидит и простит… И Кузьма молился. Обращался к Богу, чтобы он увидел и защитил, не дал сойти с ума.
— Коль поможет творец, уйди от воров. Навовсе отступись. Ить заповедь Его ты нарушал, в кой говорено — не укради! Видно, за то наказан нынче. Коль отступишься от греха, в сердце своем обращаясь к Создателю, простит и непременно спасет, — тихо тронул Кузьму за плечо старик.
— А тебя почему Господь не видит? Меня учишь, а сам?
— Я уже отжил. Едино, где отойду. Потому не про себя прошу. Об детях печаль моя, но они безбожники! Упустил я их, проглядел. За то нынче крест несу. И молчать должен, что дурное семя на свет пустил. Не будет мне прощенья за такой грех, — всхлипнул старик и отвернулся от Огрызка, всерьез задумавшегося над советом и словами старика. Кузьма слышал, как, молясь во тьме камеры, просил человек у Господа кончины для себя. Но не от руки злодеев. А своей. От старости. Утром проснулся Огрызок, а сосед лежит мертвый. Ни тени боли или сожаления не омрачили. На лице застыла улыбка, светлая, прозрачная… Легко отошел. С радостью. Без сожалений. Верил — к Богу уходит. А как иначе? Ведь услышал молитву. Сжалился и забрал. Оборвал земные муки и страдания.
Кузьма искренне пожалел и позавидовал старику.
Самого Огрызка утром следующего дня привезли к следователю прокуратуры. Тот предъявил Кузьме обвинение в ограблении банка и распорядился отправить Кузьку в городскую тюрьму. Огрызок и рта не успел открыть, как оказался в одиночной камере верхнего третьего этажа, где обычно содержались приговоренные к смертной казни. Кузьма об этом слышал не раз.
— Хана! Попух, как падла! Да было бы за что! Ни навару, ни хрена не снял я с того дела, а загребли меня! — возмущался Огрызок.
В тюрьму он тогда попал впервые и, оглядев мрачные плесневые стены и потолок, маленькое зарешеченное окно, бетонный пол, железную шконку, прижатую к стене, затекшую «парашу», стоявшую у самой двери, испугался, что никогда уже не выйдет отсюда, не увидит воли, не встретится с Сайкой. Ему бы выспаться, пусть хоть на полу. Но сон не шел. И Кузьма всю ночь ходил по камере, измеряя ее вдоль и поперек тяжелыми шагами. Три в длину, два — в ширину. Не разбежишься… Огрызок думал, как вырваться из этой западни, но ничего путного в голову не приходило.
И вдруг тишину камеры нарушил дробный стук в стену. Кузьма прислушался. Эту азбуку перестукивания он знал хорошо. Фартовые обучили, вместе с грамотой, чтоб время не терять потом.
Кузьма узнал, что рядом с ним канает стопорило. Его взяли на «теплом» с поличным, когда снимал с убитой бабы украшения из рыжухи. Это у него восьмая судимость и живьем отсюда он не надеется выйти. Сообщил, что, видно, на днях его приговорят. Спросил; не слышно ли на воле про амнистию?
Кузьма отстучал ему, что амнистией не пахнет, мусора, как всегда, зверствуют, и коротко отстучал, кто он есть.
— За что попух? — услышал стук в стену. Огрызок отстучал, что сам не знает. Мол, влип, как
сявка на барахолке. Ни сном ни духом не облажался, а лягаши сулят вышку…
Их разговор услышали на втором этаже. Поддержали беседу. Посоветовали не ссать на мусоров, забить на них. Мол, прокуратура разберется. Там не все мудаки сидят. Есть и толковые.
Кузьме, переговорившему со всей тюрьмой, стало не так уж одиноко. От участия и поддержки он заметно повеселел, появилась надежда, что и с его делом разберутся.
Из переговоров с соседом он узнал, что из этой тюрьмы слиняли на волю многие фартовые. Надо только не зевать, не упустить свой шанс, советовал стопорило и признал, что лишь из одиночных камер этой тюряги никому не пофартило смыться. Потому что смертников караулит усиленная охрана… Если б не это, он давно бы отсюда смотался.
«Слинять! Ведь кому-то пофартило!» — вселилась надежда в душу Кузьмы и не давала ему покоя даже ночью.
Кузьма ощупал решетку на окне. Понял, крепкие прутья не одолеть голыми руками.
А наблюдавший за ним в глазок охранник, открыл дверь и, подойдя к Огрызку, влепил кулаком в ухо так, что тот пятками потолок достал.
— Размажу по стене, как гниду, коль еще примечу! — пригрозил уходя. Но этим не испугал, лишь раззадорил.
Огрызок внимательно присматривался к охране, вынашивал в душе самые кровавые планы. Он обдумывал, как ему сбежать на волю, когда его выведут на прогулку. Но даже там Огрызок был под охраной двоих конвоиров, вооруженных автоматами.
Когда его повезли на допрос, у Кузьмы сердце зашлось от волнения. Он не мог думать ни о чем, кроме как о побеге из тюрьмы, который спасет его от расстрела, подарит волю.
За короткий, в десяток минут, путь он прощупал всю машину. Но тщетно… Она словно целиком была отлита из брони. Огрызок чуть не плакал от досады.
В кабинет к следователю его вели под конвоем автоматчиков, подталкивающих Кузьму в спину, материвших на чем свет стоит.
— Да врежь ты этому суке, чтоб собственными яйцами подавился, мудозвон! Такое говно, а двоих убил! Дай ему в муди прикладом! Глядишь, до вечера сдохнет, курва! — советовал один конвоир второму.
— У! Лярва! Дали б козла! Уж я б сделал из тебя отбивную! Ни одна собака так бы не отделала! — грозился второй.
В кабинет следователя прокуратуры Кузьму не ввели — вбили.
Седой плотный человек лишь головой покачал укоризненно. И, бегло оглядев
обвиняемого, предложил присесть напротив.
Допрос шел трудно. Следователь, несмотря на вызывающий тон Огрызка, держался спокойно:
— Я и предполагал, что вы будете отрицать все. Но факты — вещь упрямая. На месте ограбления обнаружен саквояж с вашими отпечатками пальцев, — говорил следователь.
— Он и впрямь пропал у меня…
— Когда и где?
— В бане я его забыл.
— Когда?
— За день до того, как мусора замели.
— В какой бане?
— В городской! Она покуда одна! — смеялся Огрызок, ожидавший более трудных вопросов.
— Когда обнаружили пропажу?
— Сразу. Как из парной вышел.
— В чем же из бани пошли? — усмехнулся следователь.
— Так барахло не тронули. Оно осталось на вешалке.
— Что в саквояже было?
— Курево и хамовка.
— Почему не заявили о пропаже? — улыбался следователь одними губами.
— Да чего кипишить? Ценного не было, вот и не стал хай подымать.
— Может, все же вспомните получше, где оставили саквояж? Городская баня уже месяц как на ремонте. И не работает, — уточнил следователь.
— Значит, в парикмахерской или в магазине, — не растерялся Кузьма.
— Богатая фантазия! Тогда скажите, где именно? Место, время? — настаивал следователь.
Кузьма врал напропалую и всякий раз попадал впросак.
Он усиленно отрицал ограбление, свою связь с ворами, божился, что вовсе незнаком с ними.
— А на какие средства живете? Не работаете, не учитесь, нигде не прописаны. Кто вас содержит? Богатые родители? Их не имеете. Мать не поддерживает с вами связи. Живет отдельно с мужем и двумя детьми. Она много лет не видела и ничего не знает о вас. Да и встретитесь — не узнали бы друг друга. У нее хорошая семья. Дружная, работящая.
— Чтоб ей… — сорвалось с языка невольное, но вовремя себя остановил.
— Да, конечно, у вас закономерно сохранилось в памяти иное. Но что поделать? Годы были трудные, голодные. Вот и отдала в детдом, чтобы сберечь жизнь, не дать умереть от голода. А потом вторично замуж вышла. Ваш отец на войне погиб. Отчим не разрешил ей брать вас из приюта. Она хотела вернуться к вам. Но… Теперь у нее двое дочерей. Сестренки. Обе учатся. Знают о брате, — глянул на Кузьму. Тот равнодушно слушал. Эта тема его уже не волновала. Отболела. Отвык он от нее. И уже давно не вспоминал о матери.
— Кстати, вы не раз виделись. Но не узнали друг друга, — продолжил следователь, удивляясь самообладанию Кузьмы; ни один мускул не дрогнул у него на лице, ни одного вопроса не задал, не поинтересовался. Даже адрес не спросил.
— А ведь они ждут вас. Готовы принять.
— Поздно. Я уже не тот, и в детдом меня уже не отведешь. Не поверю в сказку о возврате в детство. Кого оттуда выперли, обратно не вернется. Да и к чему? Остыла память и сердце не болит. Пусть она спокойно дышит. Считает мертвым. Так лучше для всех. Не все прощается в этой жизни. И хотя память и сердце не болят, разум не потерял покуда. От дитя отказываются только раз в жизни. И А не верю, что стала она кому-то доброй матерью. Для такого сердце иметь надо…
— Она сохранила вам жизнь. За это разве обижаются? — удивился следователь.
— А кто ее о том просил? Сберечь жизнь и тут же сломать ее, судьбу, душу! Да я из-за нее никому не верю! Уж если она, мать, облажалась! Теперь ждет! Кого? Зачем? Я тогда в ней нуждался больше, чем в жизни! Не всякая сытость — радость! И плохо, что она того не поняла! Ну, да хватит о ней! Много чести!
Следователь радовался, что сумел разговорить Кузьму. Пусть не по теме. Но найден контакт. Слабая нить, но все же зацепа. Про себя отметил ум, живучесть парня, умение анализировать и делать верные выводы.
— Что ж, вам виднее, как поступать. И тут я не имею права вмешиваться в личное, пережитое. Но о конкретном, сегодняшнем, советую подумать. Вы отрицаете связь с ворами, а она — налицо. И если банк они ограбили — назовите, куда могли уехать. Опишите их. И я отпущу вас на волю, — пообещал следователь.
— Фалуешь в суки? Промазал! Я не фрайер! — взвился Огрызок.
— Тогда придется вернуться в тюрьму, пока не поумнеете, — недобро усмехнулся следователь и, вызвав конвой, сказал: — Пусть переведут в тамбур.
Кузьма не понял смысла сказанного, но внутри все оборвалось и похолодело. Конвоиры впихнули его в машину. И едва въехали во двор тюрьмы, передали распоряжение следователя охране. Та, ухмыляясь, погнала Огрызка не вверх, на третий этаж, а вниз — в подвал. И открыв решетчатую, как в зверинце, дверь камеры, втолкнула Кузьму прямо на кучу подростков.
— Эй ты! Полегче! Иль зенки тебе на лоб выдернуть, чтоб не перся буром на людей! — цыкнул плевком в лицо Кузьме прыщавый пацан. Огрызок бросился на него рычащим зверем, но был сбит с ног, и вонючая свора пацанов впилась в него сотней овчарок. Его не просто били. Его терзали. Через секунды на Огрызке не осталось и напоминания от одежды. Ее разнесли в мелкие клочья по камере. Кузьму щипали, кусали, били, втыкали в него стекло и гвозди, норовя по клочкам снять с него кожу.
Свора озверелых пацанов словно с цепи сорвалась. Заломила руки и, подтащив к параше, заставила есть из нее дерьмо. Огрызок выл от боли и беспомощности. Его скручивали, ломали, выворачивали. Охранники, глядя на это представление, хохотали, хватаясь за животы.
И тут словно второе дыхание проснулось у Кузьмы. Он вывернулся из лап своры, выхватил двоих самых задиристых пацанов и со всего размаху впечатал головами в решетчатую дверь. Кровь их брызнула во все стороны. А Кузьма хватал подростков за головы, горла, выворачивал руки и ноги, носился по их ребрам, круша ораву, вбивал их в пол, в стены, друг в друга. Он не слышал их испуганных криков. Троих головой воткнул в парашу и не давал им вылезти. Плюнувшему в лицо выбил двумя пальцами оба глаза. Наступил ему на живот и даже не вздрогнул, когда пацан задергался в конвульсиях. Он ловил их за ноги и бил головами об пол.
Свора пацанов сбилась в кучу, онемев от ужаса. По полу, потолку камеры текла кровь. А Огрызок, как обезумевший, только вошел во вкус. Вот он вырвал из кодлы того, кто совал его головой в парашу. И ухватив за ноги, едва не разодрал пацана пополам, но охранники подоспели. Скрутили, сбили, смяли, уволокли в одиночную камеру, где целую неделю тюремный врач лечил приступ буйного помешательства. Держал Кузьму на уколах и таблетках. У Огрызка отчаянно болела голова. Он ходил шатаясь. Не ел, не пил, лишился сна. Все тело, словно чужое, не слушалось его.
— Успокойтесь, Кузьма. Это скоро пройдет. Это состояние аффекта! Оно случается редко, но проявляется лишь в экстремальных ситуациях. Мы, медики, называем такой всплеск вспышкой задавленного достоинства. Такое с каждым может случиться. Постарайтесь выкинуть из памяти, забыть скорее.
— Силен же ты, прохвост! Пятерых пацанов на всю жизнь калеками оставил. А троих и вовсе загробил. Я б тебя за такое, не раздумывая, к стенке поставил и своими руками из автомата уложил, — сказал охранник, принесший обед.
Вскоре Кузьма услышал стук из соседней камеры. О нем — Огрызке — уже знала вся тюрьма. Его поздравляли и поддерживали, его хвалили и советовали держаться. Ему сообщили, что на воле запахло амнистией. От таких новостей Кузьме и впрямь легче стало. Впервые он уснул так, что разбудить целых двое суток не могли ни охрана, ни стук соседей по камере. Когда Огрызок проснулся, его вызвали на допрос к
следователю. Но уже не в прокуратуру. Следователь сам приехал в тюрьму. Потому что охрана, видевшая, слышавшая о расправе Кузьмы с пацанами, не хотела рисковать собой.
— Ему, гаду, терять нечего. Вышка обеспечена. Одним больше или меньше, даже этого паскуду только один раз расстреляют. Ну а нам какой смысл? Кто может гарантировать, что этот псих на нас не оторвется. Он — худой, а вон чего наворочал. Пусть следователь сам с ним разбирается, — заявили в спецчасти.
Кузьма, едва ступив на порог кабинета, побледнел, увидев следователя. И сказал осипшим голосом:
— Я выражаю вам недоверие и отказываюсь не только говорить, а и видеть вас, — повернулся лицом к ошарашенной от удивления охране и, не дожидаясь, пока она придет в себя, пошел в камеру.
На следующий день Огрызка вызвал новый следователь.
Он не давил, не вытягивал показаний, не пугал и ничего не обещал.
Допросил коротко, сухо. Кузьму это удивило и насторожило. И Огрызок решился на вопрос:
— Скажите, гражданин следователь, то верняк, что амнистия ожидается?
— Правда. Со дня на день. А вас с чего заинтересовала она? — глянул тот холодными, серыми глазами.
— Что ж, выходит, мне на нее уже не стоит надеяться? — спросил потерянно.
— Конечно, нет, — сказал сухо.
Кузьма, спотыкаясь, пошел к двери. Охраны за нею не оказалось. И Огрызок вмиг смекнул.
Юркнул во двор тюрьмы. Приметив машину, вывозившую с территории мусор, мигом слетел в контейнер и, затаив дыхание, ждал, когда его вывезут из зоны.
Ждать долго не пришлось.
Едва услышал скрежет ворот, закрываемых за машиной, подождал немного и выскочил из контейнера, облепленный очистками, выброшенными с кухни, кишками селедки, какой-то зловонной грязью.
Хорошо, что на улицах города уже темнело, и Огрызок отряхнулся и умылся у первой встречной колонки. Но проходившие мимо люди в ужасе отскакивали от вони, исходившей от Кузьмы.
Огрызок решил заскочить на миг к Сайке, показаться, мол, жив. Но не задерживаться на ночь, помня, что именно в притоне замела его милиция.
Кузьма заколотил в знакомую дверь. Ему открыла бандерша. И, узнав Кузьму, заблажила на весь свет, словно не Сайку, а ее, старую кикимору, собрался истискать соскучившимися руками.
— Отваливай прочь! Чтоб вони твоей тут не было. Всю репутацию моего дома обосрал. Из-за тебя, паскудника, приличные люди заходить перестали! Проваливай живо! Не то мои девки помогут. Яйцы вырвут и выкинут! Куска хлеба лишил моих бедняжек.
— Позови Сайку! — грубо потребовал Огрызок.
— Сейчас, — пообещала, ехидно ухмыльнувшись. И щелкнув ключом, исчезла на минуту. Вернулась бандерша с оравой баб.
Трезвые, злые, они набросились на Кузьму с бранью, винили его во всех несчастьях, свалившихся на притон.
— Всех ты отпугнул, задрыга мокрожопая! Никогда к нам лягавые не возникали. И только ты, выродок курвы, навел их на нас, приволок на хвосте! Сколько дней без клиентов сидим! Без кайфа! — орала Выдра.
— Гони, девки, мудака! По яйцам ему, по тыкве! — натравливала Ступа. Сайка, увидев Кузьму, нахмурилась, сказала коротко:
— Гад паршивый! Глаза б мои тебя не видели! Чтоб ты провалился! Огрызок, услышав такое, повернул прочь от притона. А вдогонку ему неслись брань, проклятия.
Кузьма решил навестить хазу, где до последнего времени жили фартовые. Он пробирался в район барахолки темными закоулками, стараясь не выходить на людные улицы, чтобы не видеть встречных.
В душе Кузьмы все кипело. Обида на Сайку сдавила горло. За что вот так предала, лажанула при всех! И прокляла! А он так спешил к ней, так рисковал…
— Все бабы — суки! До единой! — сжимал он кулаки. И решил ни к одной из них не прикипать. И никогда не спать дважды с одной и той же шмарой. Менять их всякий раз, оберегая от заразы саму душу.
Подойдя к хазе, осторожно обошел вокруг. Приметил свет в окне. И не увидев ничего подозрительного, выждав пяток минут, убедился, что никого не приволок на хвосте, вошел в дом. Двери за ним захлопнулись тут же, словно сами по себе. Огрызок не обратил на это внимания, зная, что сявки всегда видят, кого можно впустить, и не покидают свой пост ни днем, ни ночью. Они умеют бесшумно открыть и закрыть двери.
В темном коридоре, нащупав ручку входной двери, рванул на себя, ступил на порог и обомлел.
— Входите! Что так удивились? Иль не рады встрече? Иль других ожидали увидеть здесь? Садитесь, побеседуем теперь основательно, — предложил следователь прокуратуры, с которым Огрызок расстался в тюрьме с час назад.
Кузьма не мог говорить, будто лишился дара речи. Он оглядывался на углы хазы и все не мог понять, как высчитали его?
— Побег этот вам устроили мы. Знали, что воспользуетесь случаем. Теперь вы не можете отрицать свою связь с ворами. Многое нам уже известно. Но кое в чем поможете, для собственного блага.
— В суки не сфалуете! — рванулся к двери Кузьма, открыл ее ногой и тут же почувствовал холодный ствол, знакомо ткнувший в грудь.
— Зачем так грубо и бездумно? Вы мыслящий человек. Умеете анализировать. А потому не надо горячиться, — спокойно предложил следователь.
— Я отказываюсь отвечать, — заявил Огрызок резко.
— Я это предполагал. Но скажу сразу — будете вынуждены говорить. Сами станете проситься на допрос. Но смотрите, не опоздайте. Ваши показания нужны нам сегодня. И не только нам. Позже — они бессмысленны, потеряют всякую ценность. А вы упустите свой последний шанс. Потом горько о нем пожалеете. Кстати, воры вашей шайки оказались не столь щепетильны, как вы. И… Многое рассказали друг о друге. О вас…
— На понял берете, на арапа, — усмехнулся Огрызок.
— Ничуть. Вот факты: пахан вашей «малины», по кличке Чубчик, сумел достать поддельные документы и уехал вместе с бандой в Ростов. Там он был взят с шестью ворами. Деньги почти в целости изъяты. Воры успели потратить сто тысяч. И признали факт ограбления банка.
— Слава Богу, с меня хоть это снимите? — вздохнул Кузьма.
— Не спешите. Никто не объявил вам о том, что следствию известно о вашей непричастности к этому делу, — уточнил следователь.
— Если б так, я тоже был бы с ними!
— Это не обязательно. Следствию известно, что в ограблении участвовало более десяти человек. Взяты семеро. Вы — восьмой. Где остальные? Кто они?
— Я не законник. Не могу знать всех. Тем более — 4 фартовых. И знаете, в такие дела, как на банк, «малина» берет лишь фартовых. Остальные, вроде меня, шпаной считаются. И в серьезные дела нас не брали. Не доверяли. Чтоб не засыпали, не лажанули. Потому меня зря трясете. Только время теряете, — сказал Огрызок честно.
— В дело не возьмут. А вот для стремы и прикрытия, на живца, не брезгуют никем! Это сам Чубчик признал, — удивил Кузьму осведомленностью следователь. И добавил: — Кстати, он сказал, что выкидывал вас из «малины». За пьянство. Говорил, что после стакана водки — звереете. И даже на него с ножом бросались. Потом прощенья просили, как это у вас, землю грызли, что пить не будете.
«С чего бы Чубчик распизделся? На кой хрен он этой гниде все растрехал? Даже лажанул меня. А за что? Но если б не он, откуда этот следователь знает о той попойке? Там все свои были. Значит, не темнит, что попутали кентов», — подумал Кузьма.
— Валюту, которую вы украли у гостя из Германии, тоже вернули. В наших условиях нелегко ею воспользоваться. Не все украденное впрок, — заметил следователь.
Огрызок заерзал, словно ему под зад колючую проволоку подсунули.
— Коли так много знаете, зачем я нужен следствию? Ни добавить, ни убавить мне нечего, — не понимал Кузьма.
— Давайте вспомним всех, кого вы знали. Опишите их.
— Скажите, кого с паханом замели, тогда я скажу, — настаивал Огрызок. Следователь, порывшись в бумагах, прочел список задержанных воров.
— Вы больше меня знаете. Я одного из списка узнал. Пахана, — слукавил Кузьма. Он очень хотел узнать, кого замела прокуратура. И остался доволен своей сообразительностью, что так ловко провел следователя.
— Вы преждевременно радуетесь. Даже если следствием будет доказана ваша непричастность к ограблению банка, то остается кража валюты у подданного Германии. Тут уж не отвертеться. Есть потерпевшая сторона, имеются и свидетели…
— Кто? — удивился Огрызок.
— Бросьте заливать! Темнуху надо лепить красиво! — рассмеялся Кузьма в лицо следователю.
— А как вы считаете, откуда я знаю о валюте? Даже где и когда украли?
— не смутился следователь.
— Кто докажет, что я спер? Воры? Вы это фраерам скажите. Они, может, поверят. Но не я.
— Известно и другое. Ваш промысел на барахолке, квартирные кражи…
— Ну да! Если я тут возник — в воровской хазе, значит, вали все шишки. Хоть одна, да в цель. Так что ли? Да я и сюда пришел не к ворам, денег попросить. На хамовку. Ссужал мне иногда этот Чубчик! Под проценты. И теперь решил воспользоваться. Сам я лично никакого отношения к ворам не имею! Поиграли в жмурки, да баста! Не то далеко хиляем. Нужны вам воры — дыбайте. Я тут — крайний! Ни их, ни вас знать не хочу!
— А придется узнать! — позвал охрану следователь и велел увезти Кузьму в тюрьму.
…Кузьма уже не шел, еле плелся через сугробы. От дерева к дереву. Цепляясь за стволы и ветки отмороженными руками.
Сколько тепла осталось в его сердце? Хватит ли его на этот трудный путь через пургу? Выживет ли он в ней? Этого он и сам не знает. Да и кто из живых уверен, что именно случится с ним в следующий миг?
Машет пурга черными вороньими крыльями. Воет за целую волчью стаю, бьет и мучает за всю «малину» враз.
Кузьма выдернул ногу из сугроба. В нем сапог остался. Где его сыскать? Пошарил в снегу онемелой ладонью. Наткнулся на куст арамеи, впившийся в руку колючками. Боли не почувствовал. Да и какая это боль в сравнении с той, пережитой. А вот и сапог… Кузьма ухватился, вырвал его из снега. Вытряхнул набившиеся ледышки, сунул ногу и пошел вперед через ночь, тайгу.
Хочешь жить — умей крутиться. Не отдавай свою душу смерти даром. Борись за нее. Потому что она — твоя, единственная. Плохая иль хорошая, ее не выбирают. И муки в ней отмеряны всякому по силам его. Значит, так надо, чтоб и эту пургу одолеть. Да мало ль горя нахлебался. Вот и тогда… Охрана, скрутив Огрызка, вскоре доставила его в тюрьму, не забыв насовать в дежурной части за побег.
Носили его на сапогах три парня. Всех Кузьма запомнил накрепко, каждого, как родную маму, из миллионов отличил бы. И затаил на них лютую ненависть. Дал себе слово рассчитаться с ними при первой возможности.
Нет, его не сунули «в тамбур», не отправили в камеру смертников. Огрызка определили на втором этаже тюрьмы, где следователи милиции рядом с его камерой проводили допросы.
Днем и ночью постоянно оттуда доносились стоны, вопли, крики, мат. Не раз среди ночи подскакивал в ужасе от дикого человеческого воя, сопровождаемого хохотом милиции.
— И этот обосрался! То-то, гад! Будешь помнить, блядь паршивая, кто мы есть! А ну, влупи ему на всю катушку, чтоб всех чертей по именам вспомнил! — глумились над пытаемым.
От захлебывающегося болью воя дрожали даже стены тюрьмы.
Это была моральная пытка для тех, кто слышал крики. Случалось, иные
сходили с ума, не дождавшись суда. На этом этаже содержались политические. Их заставляли слушать «музыку», которая срывала с постели выживших и через много лет.
Никто, даже самые крепкие, не смогли привыкнуть к такому, никто не сумел остаться равнодушным. Никто не знал, когда его настигнет та же участь. Огрызок знал: там выбивали показания, угодные милиции. Знал: даже матерые мужики не выдерживали. Не всякую боль стерпеть можно. Есть предел возможного. Но где грань?
И сжигали на заднем дворе тюрьмы трупы умерших, замученных. Каждый день черный дым вился за решеткой. Когда настанет очередь следующего — не знал никто. Из кабинета милицейских следователей редко кому удалось выйти живым.
Миновать его, попавшим на этот этаж, почти не доводилось. Лишь тем, кем занялась прокуратура. Но и их ломала «музыка». И их нервы не были бесконечны и сдавали.
Почти два месяца пробыл Кузьма на втором этаже. И когда, казалось, вот- вот наступит предел терпению, а срыв может случиться в любую секунду, его вызвали к следователю, который объявил Огрызку об амнистии, пощадившей его несовершеннолетие.
Кузьма верил и не верил в услышанное. Он ущипнул себя за руку, убедился, что не спит. И, выхватив постановление из рук следователя, читал его, всхлипывая впервые в жизни.
Через час под насмешки охраны и пожелания «до скорой встречи» он вышел за ворота тюрьмы свободным.
Что там «малина», ее разборки и трамбовки! Жестокость воров в сравнении с милицейской выглядела детской забавой.
За время пребывания в тюрьме Огрызок не повзрослел, не возмужал — состарился…
Он шел в тот день счастливый, свободный. Радовался, что будет спать спокойно, не вскакивая под криками.
Кузьма шел к барахолке. Решив тряхнуть пару-тройку торгашей, потом набить пузо за все время пребывания в тюрьме. Но ему не повезло. На барахолке было безлюдно. Понедельник… Огрызок запамятовал, что этот день всегда был выходным для базаров и невезучим для воров.
— Кого ищешь, сынок? — внезапно окликнул его сторож барахолки, оглядев Кузьму с ног до головы.
— Забыл, что сегодня тут пусто. Хотел вот барахло свое сменить. Да не повезло, — ответил, не задумываясь.
— Ты хоть тюремный номер с рубахи сорви. Не то враз видать, откуда вышел. Небось, через весь город так-то шел?
Огрызок сконфузился, удивился наблюдательности человека, сорвал номер и, скомкав, сунул в карман, хотел уйти. Но старик придержал:
— На что злую память при себе таскать вздумал? Дай сожгу, чтоб не попадал больше в каталажку, — и протянул к Огрызку морщинистую, слабую ладонь.
— Зачем пустую барахолку сторожите? Кому она нужна? — отдал Огрызок номер.
Старик поджег тряпичку, хмыкнул неопределенно, ответил тихо:
— Ни люду, ни товару нет. Это верно. Но я не их сторожу. Это дело милиции. Моя забота — ряды, лавки, прилавки, забор, киоски. От повреждений их сберегаю. От фулюганов. Днем оно спокойно, а вечером — на дрова изрубить могут. Бывало уже такое. А казне накладно всяк раз чинить. Вот и поставили меня на охрану. Вместо пугалки. Сижу тут цельными днями. Свежим воздухом дышу. Какое ни на есть — жалованье имею. Мне его хватает. На шее детей не сижу и то ладно. Никому ни в обузу, — улыбнулся. И спросил:
— Ты тощий. А ну-ка, подхарчись малость. Кузьма согласно кивнул.
— Есть, завернутые в тряпицу хлеб, подико, хочешь? Ишь какой только теперь с тюрьмы выпущенный?
Не погребуй, — полез в сумку. И достав картошку, луковицу и селедку, предложил Кузьме.
— Ешь, голубчик. Оно не шибко что, но хоть червяка заморишь, в пузе теплей станет. Кузьма не заставил себя упрашивать. И лишь когда съел все подчистую, спохватился:
— А вы теперь-то как?
— Да я тут рядом живу. Не сумлевайся. Приспичит, схожу, — указал на покосившийся дом, смотревший на мир жалобно.
— Один живете? — вырвалось у Кузьмы удивленное.
— Конешно. Кому нынче старики надобны? Коротаю свое до смерти. Много ль мне осталось? На что молодым мороку вешать? Кто я теперь? Тень на погосте. Они нынче тяжко живут. Отделились. Давно ушли от меня. Но не забижаюсь. Навещают. Харчей дают. Подсобляют. Не вовсе бросили. Помнят про меня, — разговорился сторож.
— Откуда узнал, что на мне тюремный номер? — изменил тему разговора Огрызок. И старик, прищурившись, дробно рассмеялся:
— Да как не знать? Сам там побывал. Пять годов в обрат. Две зимы ни за что отмаялся. Не думал, что вживе выйду. Что своей кончиной отойду. Из-за ей, тюрьмы проклятой, дети покинули. Стыдятся и нынче. Хоть и молчат, не попрекают, ан сердцем чую, — умолк сторож ненадолго, а потом продолжил: — Вот тут в те годы стоял газетный киоск. Ну а ночью его обокрали. Забрали выручку. Все выгребли ворюги треклятые.
— Да какой там навар? Одна мелочь! Какой дурак на это клюнет? — не поверил Огрызок.
— Мальчата его тряхнули. На папиросы. Им больше — без надобности, руку набивали. Ну, меня вызвали. Ругать начали, как не доглядел, старый хрыч? А я хуже тебя вылепил, сорвалось. Возьми и скажи напрямки, мол, кому он надо? Нынче жрать нечего люду, подтирка — без надобности. Вот и не обращал вниманья на тот киоск. Меня чуть с говном не смешали за дурной язык. И как политического в тюрьму увезли. Чтоб наперед мозгов свой язык не высовывал, — горько выдохнул
сторож и продолжил: — Две зимы моей башкой гвозди и полу заколачивали. Озверелый там народ. Ироды окаянные! Ладно, тело, душу в говно измазали. Хорошо, сын мой старший вступился. Жалобу подал с прошеньем о помиловании. Сказал в ем, что с ума я вышел по старости. Два года по начальникам ходил. И все же вызволил меня. Не то бы сгнил в тюрьме. Иль впрямь свихнулся. Ты сидел на втором этаже этой тюрьмы? — спросил он Кузьму.
— Только сегодня оттуда.
— Сынок ты мой! Горемыка! Ну да чего же мы тут? Зачем здесь держу тебя? Небось, ждут дома?
— Нет у меня никого. Идти некуда, — признался Огрызок.
— Тогда иди ко мне. Вместях коротать будем. Вдвух оно и сиротство одолеть легче. Пошли, — позвал за собой.
Огрызок огляделся, войдя в убогий дом старика. Железная кровать укрыта фланелевым потрепанным одеялом; старый самодельный стол, сбитый из досок, чурбак вместо стула. Покосившаяся в углу печурка раззявила кривой рот. Лавка с ведрами воды. Нигде ни одной соринки. Недаром у порога стоял обшарпанный веник. Над столом, обрамленный чистым вышитым полотенцем, смотрел на Кузьму Христос.
Огрызок невольно перекрестился. И заговорил шепотом:
— А дети у вас верующие?
— Да что ты, сынок? Сплошь анчихристы. Даже внуков окрестить не дозволили. И те свихнутые растут. Брешут, что не от меня и отцов, а обезьяны их на свет произвели! И Бога не признают. А обезьяна, ты только глянь, — сущий черт! Где ж тут добру взяться, коль ее за место меня в сродственники признали? — качал старик головой сокрушенно.
Огрызок, невесело усмехнувшись, сказал:
— Мне б такое думать не грех. В детдоме жил. Без родственников. Может, они и вправду хуже обезьян. А уж вашим — стыдно…
— Да что ты, милок? Кой нынче стыд? Об нем запамятовали…
Сторож возился у печки. Гремел чайником, сковородками. Вскоре в топке затрещали, загорелись дрова. Старик готовил ужин.
Когда в доме стало тепло, они, поев, неспешно закурили.
— Ты давай, ложись. Вздремни после тюрьмы, дух переведи. А я — на пост пойду, — предложил сторож.
Кузьма, обрадованный предложением деда, вскоре уснул. Ему снилась Сайка. Она висла на шее, просила прощения у Кузьмы, божилась, что скучала и помнила всегда.
Огрызок, довольный, тискал ее, податливую, но не ласкал, как всегда. Обида даже во сне не прошла и давала знать о себе.
— Прости меня! — тянулась Сайка к Кузьме влажным ртом.
Но Огрызок отворачивался. А проснувшись, решил все же навестить притон.
— Ты уходишь? — спросил его сторож.
— Ненадолго, — ответил Кузьма. И, нырнув в сумерки, пошел знакомыми улицами.
Он не стал колотиться в дверь, чтоб не встречаться с бандершей. Огрызок подошел к окну Сайки, чтобы узнать, на месте ли она? Свободна ли? Или застрял у нее какой-нибудь клиент?
Кузьма подошел к занавешенному окну. Сайка не скучала. У нее собралась веселая компания. Слышались пьяные песни, хохот.
Огрызок хотел уйти. Но вот один голос показался ему очень знакомым. Кузьма прильнул вплотную к стеклу. И через тюль увидел лицо охранника, зверски избивавшего его в тюрьме. Двое других в обнимку с Выдрой и Ступой сидели на кровати.
Кузьма вцепился в подоконник и чуть не взвыл от досады. Его мучители, кровопийцы нашли здесь для себя приют и кайфовали, бухали со шмарами. У Огрызка в глазах потемнело. Он недолго раздумывал. Быстро взобрался на чердак притона, где баруха всегда имела про запас крепкое хмельное для фартовых. Отыскал ящики. Нашел спирт. Облил им чердак, подпалил его. И, быстро спустившись вниз, подпер снаружи дверь притона. Облил углы дома, подпалил со всех сторон. И, отскочив, наблюдал неподалеку за набиравшим силу огнем.
Через пяток минут пожар охватил весь дом. Он пожирал крышу, стены дома, где пьяные обитатели даже не подозревали о случившемся. Но вот в окнах погас свет. Звенькнув, вылетело разбитое стекло. Кто-то заорал пронзительным голосом, захлебываясь дымом, огнем, страхом.
Все боятся смерти. Кузьма наслаждался, слушая крики протрезвевших шмар и их хахалей.
Вот кто-то выскочил в окно, насмелившись. Одежда и волосы взялись ярким пламенем. Человек визжал, катался по земле. На него из окна еще кто-то вывалился.
Огрызок подскочил. Он вмиг узнал охранника. Тот глазам не поверил. Но не успел и рот открыть от удара дикой силы — в пах. Как недавно сам бил Кузьму. Огрызок и сам не знал, откуда у него взялись силы. Сорвав охранника с земли, зашвырнул его, воющего, в окно, в огонь. Второго головой о стену дома долбанул так, что у него что-то в черепе хрустнуло. И, прихватив за горло для надежности, тоже бросил в окно. Оттуда лишь крики о помощи раздавались. Выскочить не насмеливались. Но вот в окне показалась Сайка. Огонь уже прорвался в ее комнату. И шмара, заломив руки от отчаяния, молила о помощи.
Сайка задыхалась от жары и дыма. Другие уже потеряли сознание или ползали по полу средь бутылок, ища и не находя выход.
— Сдохни, сука! — крикнул ей Огрызок и пошел прочь от притона, уверенный, что дело сделано чисто и вскоре от притона не останется и воспоминаний.
Кузьма еще не успел шмыгнуть в проулок, как из темноты с воем выскочила пожарная машина и, ослепив светом фар, свернула к притону.
Огрызок остановился, глядя вслед. Он не услышал шороха милицейской машины, подъехавшей почти вплотную. Не услышал стука дверцы, приближающихся шагов.
Он взвыл от внезапной резкой боли. Кто-то, воспользовавшись темнотой, остался неувиденным. И закрутив руки Кузьме за спину, подвел к машине, сунул в нее головой, поддав пинка. Сказал грубое, циничное:
— Накрыли поджигателя блядей! Видно, его хрен нм не по кайфу был! Вот и подпалил. Кроме него, некому их перья поджечь. Сейчас мы из него выбьем, зачем он блядей поджарил? — смеялся милиционер.
Огрызок только теперь понял, что ему успели нацепить наручники, что попался он на деле. И выкрутиться будет нелегко. Хотя… Всегда придумать можно «липу», правду фартовые говорят лишь на том свете.
— За что бардак хотел спалить? — врезался сапог и ребро, едва Огрызка втащили в дежурную часть.
— Век свободы не видать, если я это устроил! К шмаре хилял. Увидел прокол и ходу. Видать, по бухой у них… Я при чем? Кой понт притон жечь? Разве они для того? Я думал, это вы его подпалили. Мне такое без понту! — отбрехивался Кузьма, напрягая воображение.
— Мы? Вот козел! Еще издеваешься?! Ты, сучье семя, блевотина гнилой жопы, не знаешь, для чего бардаки? Мы хазу вашу могли бы спалить! Но не притон, мать твою в сраку некому! Притоны мы оберегаем! — врезался кулак под дых.
Внезапно на столе дежурного запищала рация. И грубый голос заговорил:
— Я десятый! Вызываю дежурную часть милиции! Как слышите меня? Прием…
— Слышу! Как там у вас? Прием! — прикипел к рации один из милиционеров.
— Пожар погашен. Но вот инспектор хочет сказать пару слов…
— Дом был подожжен снаружи. Внутри все в порядке. Проводка ни при чем. Обитатели — тоже. Говорят, что видели поджигателя. Кто-то из бывших клиентов. Его из бардака выгнали. Вот он и решил за это отплатить. А так это или нет — не знаю.
— Скажите, все живы? Прием! — спросил дежурный.
— Один мертвый. Клиент. Зато все бляди живы! — послышался ответ.
— Поезжай, забери блядей сюда! А труп в морг отвези, утром узнаем, кем он был, — приказал дежурный водителю. И распорядился, чтобы Огрызка увели в камеру.
— Ненадолго! — крикнул вслед охране. И те втолкнули Кузьму в первую же подвернувшуюся камеру.
— Огрызок? Ты тут с хуя? — увидел Кузьма удивленного Чубчика и, стиснув кулаки, сказал зло — Все ты, падла!
— Вкиньте ему, кенты, чтоб мозги в жопе нашарил и вспомнил, как с фартовыми ботать надо! — приказал Чубчик.
Через минуту Кузьма уже ничего не видел и не слышал.
Лишь к утру его отлили водой, привели в себя, чтоб мог говорить, пусть и лежа.
Огрызок рассказал пахану все, что с ним случилось. Не кривил душой. О допросах и избиениях, о подстроенном побеге и трамбовке охраной. О втором этаже и внезапном освобождении по амнистии. Рассказал о поджоге и о том, как вновь оказался в лапах мусоров.
— Швах дело твое, Огрызок! Теперь тебе от ходки не слинять. Дальняк обеспечен. Это верняк! Но чтобы не загреметь под вышку, что хотел загробить охранников, вякай, будто из ревности облажался. Сам не знал, что делал. Сайку, мол, люблю! Не трехай, что клиентов в мурло увидел. Иначе крышка тебе! Слышь, мудило? Усеки в калгане. Ты не охране мстил! Сайку хотел проучить, попугать. А как все утворил — не помнишь, — успел сказать пахан, и в камеру вошли охранники, подхватили
огрызка, поволокли по коридору.
— Он? — услышал Кузьма вопрос дежурного.
— Да, — послышался ответ Сайки. И вонючий сапог ударил в лицо с размаху.
Девка завизжала в испуге. Ее вытолкали из кабинета. А Кузьму носили на сапогах четверо мордоворотов милиционеров.
Они избивали его, даже когда он перестал видеть, слышать, чувствовать боль. Они будто с цепи сорвались и перестали быть людьми.
Огрызок не знал, жив ли он, сколько пробыл без сознания. И где находится теперь?
— Одыбайся, Огрызок, откинуться успеешь, — тыкал его ногой в бок Чубчик.
Кузьма открыл глаза, огляделся.
Из черной пелены выплывали лица фартовых. Они скорее угадывались, как светлые капли в черном ту-м а не.
— Ну, давай! Разинь зенки, чертов козел! Заколебались уже с тобой! Шустро дыши! Настропали локаторы! — теребил пахан.
— Отвали! Сдыхаю, как падла, — выдавил Огрызок.
— Я тебе сдохну, курвин сын! А ну, скати гада еще разок!
Ведро воды упруго ударило в лицо. Вот точно как сейчас ошалелый буран до костей пробрал. Холодной рукой сдавил сердце. Нечем дышать. Ни зги не видно под ногами. Куда идет? К кому? Кто ждет его в кромешной канители? Кому он нужен? Смерти? Но и она лишь хохочет, кружит вокруг. Выматывает, отнимает даже желание выжить.
Стонут деревья, кланяясь пурге. Шелестят, звенят заледенелыми ветками обмороженные кусты, дымят холодной сединой пузатые сугробы.
Их так много намело. Куда как больше, чем несчастных в той камере.
— Не засветил я тебя. Слышь? Коль подыхаешь, верняк знай, не я заложил — сявка. Его замокрили лягавые на допросе! Раскололся. Не выдержал боли. Старый был кент. Мы отпустили ему подлянку — мертвому. И ты секи. Коль линяешь на тот свет, не держи на нас за душой. Никто не лажанулся! Не кляни нас на том свете! И прости, что не сберегли, — просил пахан.
Огрызок слышал и не понимал смысла сказанного.
«Какая обида? На кого? Сайка продала. При чем Чубчик? Сайка — лярва! Она так и не стала любовью, осталась в шмарах. Дешевка! А ведь поверил ей — во сне…»
Недолгим было следствие. Огрызок не признал умышленного убийства охранника, хотя все шмары валили его на очных ставках. Признал за собою лишь ревность, глупую, безумную. С этой статьей и появился на суде. Коротком, открытом.
Там валили на него все шишки. Обзывали грязно. Обвиняли во всех смертных грехах. Не репутацию, душу испоганили. Он навсегда разуверился и возненавидел баб.
Последним словом на процессе не воспользовался. И покорившись решению суда, поехал на Колыму отбывать свои десять лет, определенных приговором. Фартовые говорили, что Огрызку повезло. Мог получить вышку, ан выкарабкался, себе иль судьбе назло. Но выжил, чтобы снова умереть.
ГЛАВА 2
Кузьма давно потерял ориентиры и не мог понять, где тайга, а где дорога. Куда он идет и где находится? Кругом сплошное месиво из ветра и снега, исхлеставших его насквозь. Он уже не просто замерз, он терял сознание от холода и усталости. Его жизнь давно не стоила таких нечеловеческих усилий; чтоб выжить, нужна была цель, хотя бы смысл. Но ничего такого в ней не имелось, кроме мучений, горя, боли. А кто за это станет бороться, кто будет таким дорожить? Пока в теле держалось тепло, было и сознание. Оно не соглашалось на смерть. Когда и это стало покидать, человек и вовсе ослаб. Он падал в сугробы и медленно, неохотно вставал. Жизнь покидала. Пурга вымораживала, выматывала, убивала.
Огрызок устал бороться с нею. И если б не последняя капля сознания, давно смирился б со своею участью.
Вот опять упал в сугроб. Руки и ноги отказались слушаться.
— Господи! Помоги! — то ли крикнул, а может, прошептал… Просило лишь сердце, не окоченевшее окончательно.
Кузьма повернул голову. Уж так заломило шею, что боль пронизала череп и… увидел огонек слабый, дрожащий.
Мерещится… Откуда ему здесь взяться? Разве зверюга заблудилась, не хуже его? Но они одноглазыми не бывают. Такое случается лишь у людей. Особо в зоне иль в «малине». Там вышибить и оба глаза легче, чем два пальца обоссать. Чего проще? Но у людей глаза не горят в темноте. Даже у паханов и лягавых, вспомнил Кузьма. И, не веря собственным глазам, оторвал голову от сугроба последним усилием воли. Огонек не исчез.
Огрызок смотрел на него, затаив дыхание. И, собрав в комок остатки сил, пошел к нему напролом…
Огонек не исчезал. Он с каждым шагом становился отчетливее и ярче. Кузьма понял, что это ему не показалось. И, взревев от радости, сколько сил осталось, убегал из пурги — к жизни.
Костер или фонарь, свет в окне — ему было все равно. Там тепло… Кузьма переполз последний сугроб и увидел дом. Настоящий. Со светом лампы в окне, с дымом из трубы.
Пурга попыталась в последний раз свалить человека с ног. Но тот, подскочив к крыльцу, заколотился в дверь оголтело:
— Люди добрые! Спасите! — закричал леденеющим горлом.
Его голос был услышан. Чьи-то торопливые шаги протопали к двери, руки сняли с нее засов и, ничего не спрашивая, втащили Кузьму в дом.
— С чего ж это нелегкая носит душу в такую непогодь? Иль жизнь надоела? — вытряхивал Кузьму из заледенелых сапог и телогрейки костистый, бородатый лесник, казавшийся самим Берендеем в своем глухоманном царстве.
— Скидай с себя лохмотья! Живо! — скомандовал Кузьме, а сам принес таз, полный снега, и принялся оттирать гостя, даже не спросив, кто он, как тут оказался? Не узнал имя. Да и зачем лишняя морока? Лесник возвращал человека в жизнь.
Не скоро отошли обмороженные ноги и руки. Лицо нестерпимо горело от усилий лесника. Он оттирал Кузьму так, словно тот был не чужим, не. званным гостем, а своим, родным и долгожданным сыном.
— Теперь, кажись, все! — оглядев отдышавшегося, красного, как угли, мужика, сказал лесник. И достав из сундука свое сухое, чистое белье, сказал строго: — Влезай! Живо!
Всю ночь Кузьму трясло, как в лихорадке. То в жар, то в озноб бросало. Лесник отпаивал его малиновым чаем. Заставлял потеть. Он насыпал горчичный порошок в шерстяные носки и надел их Кузьме на ноги, укутал гостя в бараний тулуп, но так и не уговорил выпить водки. Огрызок отказался наотрез, боясь самого себя.
Дед поил его чаем с медом, облепихой. И все ждал, когда лоб Кузьмы покроется испариной. Но человек дрожал, будто и теперь лежал в сугробе.
— Кровь твою поморозило. Выпей! — настаивал лесник, но гость мотал головой, отказывался.
Уснул Огрызок лишь к утру, когда в окно заглянуло ненастное утро. Под вой пурги спал Кузьма, забыв обо всем, не слыша ничего вокруг. Огрызок даже на другой бок не повернулся. И проспал до полуночи. Лесник рассмеялся, когда взъерошенная голова гостя высунулась из тулупа:
— Ну и здоров ты дрыхнуть, дружок! Хоть до ветру сходи! Видать, давненько тебе спать по-человечески не доводилось.
— То верняк ты подметил. Не то спать, жить по-людски не привелось, — отозвался Кузьма. И, встав с постели, огляделся, ища свою одежонку, в какой в зимовье пришел.
— Чего шаришь? Одежа сохнет. Вон, у печки. Садись, как есть, поешь, что имею, — накрыл хозяин на стол и, подав ложку, только теперь спросил: — Кто же ты будешь, сынок?
У Кузьмы в тулупе, видно, не только тело, душа отошла, согрелась. И рассказал он человеку, спасшему его от смерти, все без утайки, как на духу, кто он и как тут очутился.
Лесник слушал, не перебивая. Лишь изредка вздыхал, качал головой, укоряя то ли Кузьму, то ли судьбу за синяки и шишки, полученные в жизни неведомо за что.
— Вот теперь и ты меня прогонишь. Как все. Иного для себя уже не жду, — опустил голову Огрызок виновато и добавил: — Наверное, знай, кто возник, не отворил бы мне…
— Я не вору помог, человеку подсобил выжить. То — дело Божье. Все мы под ним ходим. И зарекаться от тюрьмы и сумы никто не может. Одно хочу спросить, что делать нынче вознамерился? Чем займешься? — спросил хозяин гостя.
— Пока ничего не придумал.
— Мой совет тебе, хочешь — послушай, а нет — дело твое, только вертаться в Орел смысла нет. Там имя изгажено и слава дурная хвостом потащится. Надо на новом месте прижиться. Чтоб прошлым никто не попрекал, да не смотрела милиция в каждый след. Но и новое место с умом выбрать надо. Где люд понятливый, сердешный. Где таких, как ты, бедолаг — много. И всяк знает цену горю и спасенью. Не оттолкнет, а поможет, поддержит.
— Да разве есть на земле уголок такой? Где сыскать его — этот рай? Не верится, что имеются люди понятливые и добрые, — понурил голову Кузьма.
— Поезжай на Сахалин. К сыну моему старшему. Я ему отпишу. Он поможет. А пока поживи у меня. Туда нельзя без вызова, — ответил хозяин.
— На Сахалин? Там, как я слышал, одни зоны. А я свободный теперь. Зачем добровольно сунусь на каторгу?
— Эта каторга нынче не та! Свободный люд туда просится. На заработки. Да и с харчами там полегше. Живут вольготней. Не зря в месте том освободившиеся из зон не покидают Сахалин, а до конца на ем остаются. И мой сын — не тюремщик. А уж какой год там живет. Не жалуется. И на материк калачом не выманишь. Сахалинец теперь. Почти что коренной! — гордо задрал бороду лесник и добавил: — Северяне мы все. Весь род наш. Огрызок задумался.
Там отпетые воры про грех забывают. Зарабатывают по три жалованья в месяц. Семьи завели. Нормальными людьми стали. Детными. И тебе надо парнишонку заиметь. Там нынче вербованных баб понаехало полно. Авось и ты свою судьбу сыщешь, — уговаривал лесник.
Кузьма, поворочавшись пару ночей, согласился. И лесник вскоре отправил сыну письмо в далекую неведомую Оху, как назвал ее дед, столицу нефтяников.
Огрызок, ожидая ответа оттуда, никак не мог сидеть без дела на иждивении лесника. И вскоре, осмотревшись, переведя дух, стал выходить из зимовья. То дров нарубить, воды принести, снег от порога и окон откинуть, прочистить дорожку к сараю и бане, сбросить снег с крыши. Его об этом никто не просил, сам догадывался.
Кузьма уже знал, что в ту роковую пургу от зоны до зимовья прошел почти тридцать километров. И сверни немного — пропал бы от холода. Он сбился с пути. Свернул в сторону от дороги. А потому не вышел к поселку. Не случись на пути зимовья, до ближайшего жилья в этих местах не дойти потерявшему силы в пурге.
Много раз уходил Огрызок в бега. Но потому и ловили его, что не знал он местности и условий особых, колымских.
Огрызок только теперь, оказавшись на воле, осознал, почему так свирепо избивала охрана каждого беглеца.
Ему, Огрызку, доставалось больше всех, потому что убегал из зоны всякий раз, как только подворачивался случай. А искать зэка на лютом морозе, гоняясь за ним по глубокому снегу, кому приятно? Да и сбежавшему выжить тут нелегко.
Кузьма усмехнулся, вспомнив свой первый побег. Случилось это вскоре после прибытия Огрызка в зону. Попал он на свою беду не в барак к фартовым, а к воровской шушере — шпане. Которую не только законники на воле, а даже работяги в зоне презирали. Не считали их за людей. Их колотили по поводу и без него. Ими помыкали фартовые и начальство зоны. Все прочие сводили с ними счеты за неприятности, доставленные на воле.
Но и сама шушера была сродни своей репутации. Из барака, где отбывали сроки карманники, домушники и прочая перхоть, постоянно доносился шум драк, разборок, грязный мат. Здесь каждый день либо трамбовали, либо проигрывали друг друга в карты. Играли на деньги. Если таковых не оказывалось под рукой, рассчитывались барахлом. Не было его — резали пальцы или уши. Случалось, играли на жизнь. На свою иль сявки. А то и на свежака — недавно попавшего в барак. Вот так продули в рамса и Огрызка. Бугор барака выкупить не захотел. Не приглянулся ему Кузьма. Уж больно скандальным показался тот всем. И решили отделаться от Огрызка как можно скорее.
Кузьма, ничего не подозревая, мирно спал на своей шконке, не чуя беды, а она свалилась на него кодлой шпаны, соскучившейся по зрелищу. Уже целую неделю в бараке не пахло кровью, не слышалось воплей от мучений. И свора мужиков жадно ухватила его за руки, ноги, поволокла на судилище, где выигравший скажет о своем желании — какую именно смерть выберет для Огрызка. Желания Кузьмы на это никто не спрашивал. Его скрутили в спираль и положили у стола в ожидании решения.
Огрызок вмиг понял. Не зря же на его плече устроился жирный стопорило. Расселся, как на шконке. И Кузьма, повернув голову, хватил его зубами за вислый, жирный зад.
Стопорило от боли и неожиданности подскочил, выпустив скрученные руки Кузьмы. Заорал в ужасе, что проклятый новичок откусил яйца. А Огрызок, взметнувшись пружиной, опрокинул на пол четырехведерную парашу, вылив ее содержимое на проход, под ноги шпане, а сам, в чем был, вылетел из барака пулей.
Во дворе зоны было темно. Этим и воспользовался Кузьма. Он не почувствовал холодного дождя. И помчался к кухне, куда с воли каждый день доставляли харчи зэкам.
Лишь Огрызок видел, другие и не приметили, что именно тут на проволоку не подключается ток. А со сторожевой вышки темный дворик кухни почти не просматривается.
Кузьма, будь он в другом состоянии, может, и не одолел бы высоченный забор. Тут же, боясь погони и расправы, мигом… И, виляя тощим задом, помчался в марь, залег меж кочек. Отдышался лишь через час. А едва рассвет проклюнулся, нагнала Кузьму в распадке матерая сторожевая овчарка. Свалила, прижала к земле, карауля каждое дыхание. Коротким лаем сообщила погоне, где поймала беглеца.
Весь путь до самой зоны дубасили Огрызка охранники. Прикладами, пинками, кулаками. Им овчарки помогали. Ноги и задницу на ленты распустили.
Кузьму за тот побег два месяца в шизо продержали. На хлебе и воде, на бетонном полу, без глотка свежего воздуха.
Никто не спросил, с чего в бега ударился. Прибавили к основному сроку три дополнительных года…
Когда Кузьму вернули в барак, шпана удивилась. Живой! И выразила свое мнение однозначно:
— Говно не сдыхает. Со временем сильней воняет. Надо от него
И снова сели к столу играть на душу Кузьмы. Тот тоже не зевал. Во двор вышел. Рядом с бараком машина стояла. Водитель на несколько минут отлучился. Их хватило. Слил бензина пару ведер и подпалил шпану. Но и сам не сбежал. Попал в спецчасть на зубы оперов. Те с неделю трясли — зачем барак поджег. Огрызок не раскололся. И его снова впихнули к шпане… Сучня, прижившаяся в бараке, давно донесла о причине побега. Но администрации было наплевать на Кузьму. Она ждала, что блатные сломают новичка, и будет он, как все. Но не тут-то было.
Огрызок не смирился и затаил злобу на весь барак. И в первую же ночь, по возвращении из шизо, когда шпана уснула, подкинул уголь в печку и закрыл задвижку, когда едва перегоревшие куски антрацита еще лизали едкие синие огни.
Когда зэки, ошалев от головной боли, стали сваливаться мешками с верхних нар, Кузьма вернулся в барак с чердака и приоткрыл задвижку. Но было уже поздно. Пятеро не встали с нар. Угорели насмерть. А Огрызок, как ни в чем не бывало, уже обдумывал новый план мести. Благо, что шпана, перепившаяся в тот день, даже не вспомнила о печке. И лишь тюремный врач, оглядев трупы зэков, понятливо качал головой. Но, глянув на приоткрытую задвижку, не высказал вслух своего подозрения.
В другой раз вылил в чайник полную бутылку касторки, украденной в медпункте. И шпана, усевшись вечером у стола, спокойно выпила чай, не подозревая о подвохе.
Блатные вечером всегда веселились. Кого-то трамбовали, чифирили, играли в карты. И в этот раз решили сыграть- в рамса на новичка. Но… Подвели животы. А вскоре на параше тесно стало. Не хватало места всем желающим. Кто-то, не дождавшись, срать стал на засидевшихся. Выскакивали за дверь. Другие от параши на шаг не отходили. Едва дождались утра. Иные всю ночь не спали. В больничку к врачу скопом заявились. Тот и проговорился о пропаже касторки. Блатные смекнули. Обшмонали всю шконку Кузьмы. Забыв, что вор улик не оставляет, все же пригрозили утопить в параше. Но Кузьма не стал дожидаться выполнения обещанного и слинял на чердак, где обосновался окончательно. Еще не забыли блатные о касторке, не перестали болеть их животы, Огрызок уже придумывал новую месть.
То тертое стекло сыпал на матрацы, то, дождавшись, когда все уснут, открывал в лютую стужу двери барака настежь.
Порою его искали по всей зоне, чтобы избить за очередную пакость. Но никто из блатарей и предположить не мог, что окопался Огрызок неподалеку — над самой головой. Сознайся он сам, ему бы не поверили. В такую стужу даже в бараке выжить мудрено.
А Кузьма спал у самой печной трубы, хранившей тепло до утра. Обняв ее как шмару, Кузьма любил трубу за то, что все тепло свое до последней капли она отдавала ему одному.
Огрызок хорошо слышал каждый разговор в бараке и никогда не появлялся в нем, если ему грозила неприятность. Он был не просто осмотрительным, а и подлым, коварным до удивления мужиком.
Вот так однажды устроил он пытку всему бараку: в суровейшую пургу заткнул печную трубу старым тряпьем, закрыл изнутри дверь чердака, а сам вылез через отдушину, которую пробил для себя заранее.
Зэки утром затопили печь, чтобы хоть немного согреться, размять онемевшие от холода ноги и руки. Но не тут-то было…
Из печки повалил такой дым, что блатных, словно ветром сдуло из барака. До ночи откашляться не могли. И вытащив тряпье из трубы, долго недоумевали, как оно туда попало. Огрызка не заподозрили, он спал в ту ночь в бараке.
В другой раз, разыскав возле оперчасти пустую бутылку из-под шампанского, заткнул ею дыру в стене над головой бугра. Горло бутылки наружу выставил. И ждал пургу.
В тот вечер блатные избили до полусмерти проигравшегося майданщика. И когда охрана унесла его в больничку, решили сыграть на душу стопорилы. А тут внезапно вой послышался. Протяжный, долгий, со стоном и плачем. Бугор оглянулся. На нарах никто не спал. Но вой услышали все. Он шел откуда-то сверху и был похож на предсмертные стенанья.
Зэки всполошились. Удивлялся и Огрызок, хотя прекрасно знал, откуда этот стон… Начиналась пурга. Кузьма ждал, когда она наберет силу. Вот тогда в бараке не усидеть.
— Небось майданщик, падла, душу посеял. Вот и базлает теперь волком, — вздрагивал пахан.
А пурга будто подслушала. И взвыла диким зверем за стенами барака. Будто не один, а целая стая волков окружила барак — ждет, когда откроется дверь и можно будет броситься на добычу.
— Хреново, что зверюги к нам возникли. Жмура чуют. Не одного. Эти же хрена — не нарисуются, — вздрагивал пахан спиной, вытирая вспотевший лоб.
— Их бы охрана замокрила, — не согласился Огрызок.
— Охране забить на нас! Дрыхнут, как паскуды! Хоть всех нас в клочья разнесут, никто не покажется, — сплюнул пахан.
— Собаки брех бы подняли…
— Коль их самих из шкур не вытрясли. Они кто? Мы их ссым! Пред волком
— псина, что сявка перед паханом, — вскинулся бугор на миг, но тут же сник, услышав новые рулады.
— Ну! Мать твою! Заглохни! — закричал бугор, надеясь, что зверюги за бараком, услышав его рык, испугаются и замолчат. Но не тут-то было… Новые всхлипы перекрыли голос и повисли над головами зэков сплошным наказанием.
— Кенты! А ну! Шустрей! Откиньте зверюг от хазы! — потребовал бугор.
— Ты что? Съехал? С голыми граблями на зверя? Хиляй сам! Ты ж бугор! Проведи разборку за хазой! Тебя они должны ссать! Глядишь, слиняют.
— Кишка слаба у нашего бугра с волками ботать! Они с ним свою разборку учинят! Оторвут к едреной матери все на свете! Скажут, что таким был! — осмелел на свою голову стопорило.
Бугор встал, багровея лицом. И, не накинув на плечи телогрейку, вышел из барака с голыми руками. Обошел его вокруг. Не встретив никого, вернулся на свою шконку. Через минуту предложил сыграть в очко на голову стопорилы. Когда тот был проигран, бугор велел не убивать его, а выкинуть на всю ночь из барака — в пургу, чтоб вместо шестерки стремачил блатной барак от всяких неприятностей и сыскал бы того, кто воет за стеной, выворачивая душу наизнанку.
Стопорило вскоре вернулся в барак с бутылкой. Дыру в стене залепил снегом и все зэки поняли, кто мешал им отдыхать и причинил немало жутких минут. Бугор барака вмиг зыркнул на Кузьму недобрым взглядом. И смерив его с ног до головы, выдавил трудно:
— Кончать пора чувырлу! Слышь, кенты, козлятиной воняет! А ну! Займитесь им!
В этот раз шпане не повезло. Едва свора облепила Огрызка, охрана втолкнула в барак десяток новых зэков.
Слово за слово перекинулись. Пока знакомились, делились новостями, Огрызок сумел незаметно ускользнуть на чердак, чутко прислушиваясь к каждому слову, доносившемуся снизу.
Там о нем словно забыли. Но Кузьма знал, эта забывчивость — короткая. И ему надо держать ухо востро.
Огрызок, как и другие зэки зоны, имел несколько ножей, раскованных из гвоздей. Их спрятал на чердаке в разных местах и лишь два из них всегда держал при себе, не расставаясь с ними ни днем, ни ночью.
Фартовые научили Кузьму еще в детстве хорошо владеть «пером», но при этом всегда говорили, что его надо пускать в ход лишь в самом крайнем случае.
Когда над собственной душой повисла смерть по чьей-то прихоти. Запрещали законнику пускать нож в ход на своего. Карали всякого, кто нарушал запрет и не сумел отстоять себя кулаком.
Именно это сдерживало Огрызка от конечной расправы за все свои муки. Но чувствовал, терпению приходит конец. И когда руки уже тянулись к ножу, Кузьма вспоминал, как был он изгнан из «малины», и руки отказывались подчиниться помутившемуся разуму.
Конечно, он давно мог перейти в другой барак. Но не к фартовым. Туда он рожей не вышел, не дорос до той чести. А потому из шпановской своры мог перейти лишь к «иванам». Но этого он сам не хотел. Ведь у работяг надо было каждый день ходить на пахоту и вкалывать, давая, как все, по две-три нормы. А Кузьма и об одной представленья не имел. Считая для себя труд — западло. Знал, что по выходе на волю приткнется к какой-нибудь «малине». И со временем примут его фартовые «в закон». А если он выйдет на пахоту с работягами, фартовые никогда не признают Огрызка. Ибо воровской закон запрещает фартовым вкалывать, как фрайерам.
Кузьма хотел стать честным вором, а потому на пахоту не пошел. Жил как вся шпана барака. И хотя всем нутром ненавидел блатную кодлу, терпел, зная, что как ни длинны ходки, они все кончаются когда-то. Вот и в этот раз он думал отсидеться на чердаке, пока перхоть остынет, забудет о бутылке, а он тем временем учинит новую пакость.
Его за то и ненавидели, что не давал этот Огрызок никому дышать спокойно! И хотя его уже не раз проигрывали в карты, собирались замокрить, он чудом оставался жить и нередко Кузьму спасали случайности.
Он всегда жил, балансируя на лезвии бритвы. Одно неосторожное движение, и шпана могла бы разнести Огрызка в клочья. Но что-то мешало, сдерживало, оттягивало расправу.
Кузьма сбился со счету, сколько раз выкидывали его из барака. Не только за пакости, устроенные шпане.
Никто из блатных не мог смириться с мужиком, который, едва коснувшись головой тюфяка, вонял на весь барак. И когда ему грозили заткнуть задницу, сделать обиженником, Кузьма отвечал, ничуть не содрогнувшись:
— Кто осмелится, тот потом до погоста, яйцы не отмоет. Болезнь у меня такая с детства — шкура короткая. Едва глаза закрыл — жопа открылась. И наоборот… Я тому — не пахан. Что хаваю, тем греюсь. Не по кайфу — не нюхайте! Нечего мне в ваш общаг вложить, кроме тепла. Кому не лафово, пусть хиляет с хазы!
За эту вызывающую наглость били Огрызка почти каждый день. Но от хорячьей болезни не вылечили ни пинки, ни зуботычины, ни оплеухи.
— Это как ты в дело ходил со свистком в жопе? Тебя мусора из лягашки слышали. Кой козел пердуна в «малину» взял? — удивлялся бугор барака и поражался, слушая, как эта болезнь много раз выручала из беды не только его самого, а и «малину».
То в самом начале было. Спер я у барыги на толкучке мошну. Тугую, здоровенную. И только сунул ее за пазуху, тот чувырла накрыл меня за самый загривок! Поднял над головой, хотел с меня душу выбить. Оно и случилось, только с другого конца! — вспоминал Кузьма. В бараке стены дрогнули от хохота.
— Барыга чуть отдышался. А когда глаза открыл, я уже слинял. Его же, гада, до вечера блевотина прижимала! — хвалился Кузьма и рассказал шпане, как сунули его фартовые в форточку мехового склада.
— Все я оттуда вниз спустил. Но на радостях, что навар сумел снять, пузо расходилось. Я и отвел душу… Что там — нафталин, каким все стены склада провоняли? Он — духи! Утром, когда лягавые с собакой приехали на вызов, у ихней овчарки не то что нюх, мозги отключились. И три других след мой не взяли, не решились нагонять, чтоб вконец самим не накрыться.
Лягавые так и не доперли, кто меха спер и чем фартовые магазин облили, что до конца зимы в нем этот запах держался, — хохотал Огрызок. Не рассказал он лишь о том, что не спасала болезнь в тюрьме. Где не обращая внимания на вонь и возраст, била охрана Кузьму, выколачивая жизнь и душу. Но зачем о таком рассказывать? Всякий зэк прошел через такие муки. И лучше не будоражить вчерашнюю память. Она до гроба болеть станет. Огрызок спасался тем, что спал всегда чутко, вполуха. Как настоящий вор. А потому когда на него сонного хотели вывернуть парашу иль ведро воды, он успевал соскочить со шконки. Но грязные сырые сапоги не раз влипали в голову: не выдержавшие вони зэки будили Кузьму, выбрасывали из барака среди ночи.
Даже в шизо, куда вбивала его охрана, мужики поднимали кипеж, требуя убрать от них вонючку.
И охрана бросала Кузьму в одиночку, чтобы там на хлебе и воде избавился бы Огрызок от своей хвори. Но тот, едва покидал камеру, наверстывал упущенное с лихвой.
Огрызок отбывал свой срок в зоне, как и другие. Но однажды начальство решило запрячь шпану и отправить на работы в рудник, добывать золото. Часть шпаны пошла работать добровольно. Другие решили сачковать. А Огрызок сразу наотрез отказался. Да еще к в треп ударился: мол, пусть, начальство радуется, что он, Огрызок, осчастливил его своим пребыванием в зоне. Что пахать он не станет, потому что эта работа не по его профессии. А гнуть горб на фраеров — западло, нутро не позволяет.
Послушав демагогию Кузьмы, начальник зоны лишь кивнул на него охране. Те, скрутив Огрызка, поволокли в оперчасть и долго метелили, гоняли по всем углам за вредную агитацию зэков — бойкотировать распоряжение начальства зоны.
Его избили так, что, когда Огрызка вынесли во двор, овчарки в ужасе от него шарахнулись, взвыли не своими голосами.
Кузьму бросили возле овчарника и, облив несколькими ведрами воды, убедились — не шевелится мужик. Решили, что вышибли дух из Огрызка. И пошли доложить начальнику, чтобы тот сказал, как поступить с трупом. Когда охрана с лопатами вернулась, трупа на месте не оказалось. Ни Огрызка, ни овчарок…
Охранники от удивления онемели. Они искали Кузьму и собак в бараке, по всей зоне. Но тщетно… Ни голоса, ни улики не оставил зэк. Охранники звали собак, но и те не откликались. Не вернулись на зов.
— Да что ж он всех собак сожрал и смылся? Но как успел? — удивлялась охрана.
Начальник зоны, узнав о случившемся, вне себя от ярости прорычал:
— Всех на ноги! Сыскать гада! Своими руками пристрелю! Живьем возьмите!
И если бы не фортуна, изменчивая, как шмара, сбежал бы Огрызок из зоны с концами. В сознание его привели овчарки, тщательно вылизывавшие избитое тело. Они будто вымыли его. И Кузьма почувствовал, как внезапно отпустила, отступила боль.
Следом за сторожевыми он вылез под проволокой из зоны и, пригибаясь к самым кочкам, пошел марью к трассе, по которой, обгоняя одна другую, шли машины.
Овчарки играли, не обращая на Огрызка ни малейшего внимания. А вскоре, увлеченные молодой сучкой, умчались далеко в марь, забыв о зоне, тренере, зэках, нелегких обязанностях.
Кузьма зацепился за задний борт студебеккера, прыгнув к нему из обочины. Подтянулся и ввалился в кузов костистым мешком. Он перевел дух, прижавшись спиной к кабине, и думал, как будет выбираться из Магадана к своим.
Он радовался каждому километру, оставшемуся за
спиной. И мечтал, как удивятся фартовые, когда он возникнет в хазе, потребует хамовку, выпивон, принятия «в закон», чтоб честь по чести.
По слухам знал: слинять из колымской зоны все равно, что встать из жмуров.
А машина шла все дальше от зоны, от барака, озверелой охраны.
Кузьма радовался, что водитель торопится, едет без остановок. А потому не
заглядывал в кабину. Не знал, куда везут его.
Когда совсем стемнело, студебеккер, затормозив, остановился перед воротами, которые тут же раскрыли рот и проглотили машину вместе с Огрызком.
Кузьма не на шутку всполошился. И, высунув из кузова голову, оглядел громадный двор.
Он увидел зарешеченные окна зданий, яркий свет, множество людей, занятых своими делами. Ни на ком не было зэковской спецовки. И Кузьма, осмелев, выскочил из машины, уверенный, что его не заметили, а в толпе он всегда умел раствориться.
Огрызок внимательно проследил, куда направляется основной поток людей, и пошел следом.
— Эй, ты! Откуда свалился? — легла на его плечо рука тяжело, уверенно. Кузьма хотел вывернуться, сбежать. Но человек словно чутьем угадал. Стиснул плечо Огрызка так, что не пошевелиться. Вытащил из потока и подозвал двоих мужиков.
— Разберитесь с приблудным. Откуда он?
Те велели идти вперед, и вскоре Огрызок оказался в просторной теплой
комнате перед человеком в военном мундире.
Едва глянув на Кузьму, он разрешил сопровождающим уйти.
— Давно из зоны сбежали? — спросил тихо.
— Я освободился, — ляпнул Кузьма, не подумав.
— Ваши документы? Покажите их, — потребовал человек. Огрызок заерзал, не находя убедительного ответа.
Тогда человек назвал все данные Огрызка. Даже год рождения, особые приметы. И добавил:
— О вас оповестили всех вокруг и разыскивают, как опасного преступника, — человек поднял телефонную трубку.
— Не звоните! Меня убивали! Оставьте здесь! Я буду вкалывать, как последний сявка! Только дайте жить! Не возвращайте в тюрьму! Добьют меня там! С живого шкуру снимали! Пощадите хоть нынче! Как мужик мужика! Сил больше нет! Приморите тут! Дайте одыбаться! Ведь загробят в зоне!
— За что сел? Какая статья! — перебил человек, нервничая. Кузьма назвал. У мужика глаза из орбит полезли. Дыхание перехватило.
— Ты что? Очертенел? На алмазном прииске решил остаться с такой статьей? Да где это видано? У нас — своя государственная казна в цехах! Тебя пожалеть, чтоб самому на нары загреметь? Чего не доставало! — он набрал номер.
И вскоре за Огрызком приехал из зоны крытый воронок.
Когда Кузьму привезли в зону, начальник распорядился не выпускать его из штрафного изолятора. А вскоре за побег ему добавили пять лет.
— Эй, Огрызок! Сучий потрох! Ты живой, падла? — встретили в бараке. Вечером, когда он рассказал о побеге, шпана удивилась:
— Темнишь, козел! Овчарки живьем не выпустят! Они, паскуды, сгрызут с костями любого! И ты — не особый!
— Не, кенты! Не темнит Огрызок. Верняк лепит! Как мама родная! — внезапно вступился за Кузьму майданщик и продолжил: — У псов гон начался. Случки! Они, хоть и зверюги, а про кайф помнят! И не Огрызка они лизали. Он им на хер сдался. Паскуды с него говно слизывали. Все псы дерьмо человечье уважают. Хоть от охраны иль от зэков — без булды любое хавают. А Огрызок при трамбовке всегда обсирается. Мы его за это из барака выбиваем, а псы — на волю выпустили за кайф, какой с него на халяву сорвали. Когда они дерьма нахаваются, у них мозги отшибает, только про случки озабоченные. О пахоте ни в зуб ногой. Потому не трандел Огрызок! Пофартило падле! И тогда — в меховом магазине и теперь — в тюряге. Да
только козлу товар не по рогам! Он, сука, и свободу просрал. Слинять не сумел! Мне б такое! Хрен бы накрыли! — позавидовал короткому счастью Кузьмы.
В третий раз Огрызок сбежал с рудника, куда только для этого согласился пойти работать. Потом из больницы — в нижнем белье. Его быстро поймали. Вместе с исподним собственную шкуру с него овчарки снимали.
Огрызок не успокаивался. Сумел уйти в бега прямо из-под носа охраны, заставившей его рыть могилу самому себе.
Те так бы и проскочили мимо озерка, в каком окопался Огрызок, дыша через лопух. Да собаки почуяли. Брех подняли. Огрызка и выудили. Только было решили его убить, увидели сигнальную ракету над зоной.
— Забросать гада некогда! А он, мудак, пристреленный сбежит! Гони его в зону! Что там стряслось? — погнали охранники Кузьму бегом обратно в барак.
В зоне взбунтовались фартовые. Им не по кайфу пришлась хамовка, от которой у многих началась цинга.
Огрызок и тогда воспользовался случаем. И улучив момент самой свирепой свалки, сбежал из зоны. В тот раз его искали целую неделю. А он в поселке объявился. Среди ночи. Обобрал бабу-пекариху. Харчами целый рюкзак набил. И содрав с нее валенки, теплую кофту, все деньги, ушел в ночь, обозвав бабу так грязно, что она тут же к властям за защитой обратилась. Когда Кузьму поймали, тут же опознала его. И плюнув в самое лицо зловонной слюной, вылила на него столько мата, что услышь такое блатной барак, до конца года животами со смеху маялся б.
И уж совсем было решил начальник зоны избавиться от Огрызка. Да снова повезло Кузьме. На смену старому прибыл новый начальник зоны. Он не орал. Не грозил Кузьме прищемить в дверях яйцы. Даже не говорил с ним. Отправил на рудник бригадирствовать над шпаной. Кузьме не поверилось в услышанное.
— Не то что шкурой, головой ответишь, коль норму не сделаете или кто- нибудь смоется из твоих в бега. Заруби это себе на носу! — предупредила охрана.
Кузьма вначале не воспринял всерьез новых обязанностей, свалившихся снежным комом на голову. Он не представлял, что ему обломилось. Радость иль беда?..
— Блатные поначалу решили, что ссучился я, раз мне от начальства лафа вышла. Да только грех темнить — в суки меня не фаловал никто, — рассказывал Кузьма леснику, выстругивавшему топорище.
— Ты и оттель сбежал? — усмехнувшись, спросил хозяин.
— Не-е, как фарт перепал над шпаной бугрить, завязал я с побегами. Хотя и не по своей воле, — признался Огрызок.
— Отчего же так-то? — удивлялся лесник.
— Усек: как слиняю, мужики за меня ответ держать станут. А у иных сроки к звонку подошли. Вот они и пригрозили: коль волю ихнюю оттяну, они мне душу, вместе с костылями, из жопы выдернут. И на погосте достанут.
— Сурьезный народ, — покачал головой старик.
— А тут, как во зло, в первый же месяц я положняк получил. Зарплату! Да такую, что сон посеял. Жадность одолела. Прибарахлился, как пахан. Курева, колбасы в ларьке купил. Даже конфет кулек. Ночью их хавал. Под подушкой, чтоб не скалилась шпана. Я ж их с детства недобрал, этих сладостей. Ну и еще злей стал на пахоте. Сам тачку гонял вприскочку. Чтоб побольше навару снять. И верняк! Вдвое больше прежнего! Там и зачеты мне пошли. Чем выше выработка, тем меньше срок. Я и усирался от стараний. В день за три зачетных дня выходить стало. Мне и счет завели. Да только не в козу корм, — сознался Огрызок и понурил голову.
— А что ж стряслось? — изумился хозяин.
— С фартовыми заелся. Они возникли за наваром. Тряхнуть нас вздумали, поприжать, а мы и возникли! Всяк вспомнил, как вламывать приходится. А потому, ни за хрен собачий, кто кровное отдаст? Ну и сцепились. Вначале базарили. Они нам — про долю, мы их по фене во все адреса. Там и до трамбовки доперло. Сцепились так, что охрана брандспойтами разливала. Меня за костыли оттаскивали от фартового. Он, падла, мое барахло зацепил. Я и впился ему в плечо. Жевалками. Со зла. А расцепить их не смог. Видно, от лютости клыки заклинило. Били так, что мозги чуть не вылетели. А зубы
— ни хрена! Свело насмерть! Что ж, свое всегда жаль. Всей кодлой сковырнуть меня пытались. А я как очумел! Вроде бородавки повис и хана на том. Фартовый от боли чуть не свихнулся. Грозился зенки выколоть. Но как меня достать? Я ж — сзади! Пером решили жевалки мне открыть. Не тут-то было. Покуда врач укол не сделал. Тогда я отвалился. За это меня на фартовой разборке вздумали пришить. А еще за то, что навар зажилил, пожлобился. За то, что шпану на трамбовку подбил. Ну и возникли ночью в нашем бараке. Меня за тыкву и со шконки. Мол, выметайся, пидер, шустрей! Я — хвост поднял. Попер буром на законных. Ну и схлопотал. Как фраеру вломили. Да так, что не только имя, кликуху просрал, — признался Кузьма.
Лесник головой качал, вздыхал тяжело, сокрушался. Ругал воров.
— Три месяца я в больничке провалялся. Весь в бинтах, в гипсе. Едва не окочурился. Но все ж отдышался. И снова вкалывать стал. А фартовые опять возникли. Звери проклятые! — вспоминал Огрызок.
— Звери?! Да что ты, Кузя?! Где ты серед зверья такой грех видел? На то только люд способен! Где ты слыхал, чтоб зверюга дитенка своего бросил иль подкинул в чужую берлогу?
— Есть такая — кукушка, — не согласился Кузьма и добавил: — Я свою, что родила меня, так зову!
— Выродок она из рода бабьего, как и кукушка. Но птица — не зверь! Серед них педерастов нет! Могут порвать, отлупить. Но без мук. В говне не топят друг дружку. Берлоги и дупла не жгут, не ломают. На то люди гораздые. Зверь нынче — чище человеков и добрей! — вступился лесник за тайгу. И добавил: — Зверь — добро помнит. Коль вырастил его, он уже человеков не тронет. С добром к нам живет. Ни за что ни про что не набросится. Это точно. А вот люди! То срамно сказать, кусок с горла норовят вырвать, кой не заработали. Да разве это мужики?
— Что ж, я тоже воровал. Иначе сдох бы!
— Ты по малолетству в грех впал. По неразуменью. Путних людей рядом не оказалось, чтоб обогрели. Помочь надо было тебе. Да вишь ты, в годину лютую заскорузли души.
— Тепло, говорите? Я его никогда не знал.
— Оттого дикой ты, как крапива. Весь на ожогах. Кто б ни прикоснулся
— кусаешь. Оттого, что нет в твоем сердце веры. Застуженное оно у тебя. Хворое. С таким жить тяжко самому. И другим радости не дашь. Это точно. Теперь единое тебя выправить сумеет — семья. Да и то, если сумеешь обзавестись детьми.
— Не-ет, только не это! Упустил. Прошло мое. Да и к чему? Не дай им, Господи, такую горбатую судьбу! Они и мертвого меня проклянут, что на свет пустил. Зачем плодить бедолаг? Я о детях и не думаю, — признался Кузьма. И, помолчав, добавил горько: — Не гожусь в отцы!
— Не зарекайся, Кузьма. Не говори лишнего. Такое только Богу ведомо. А я много прожил и кой-чего видел, — сказал лесник, улыбаясь. И поделился:
— Вот так же, как ты, пришел в пургу человек. Тоже с тюрьмы.
Только ты освободился, а он — сбежал. Года три назад это случилось. Не лучше тех твоих мучителей. Вор он был. Да еще какой! Сущий дьявол! Чубчиком его звали. Серед ворья — бандит. Его в тюрьме не то что люди, собаки боялись. Это я, как на духу, говорю, — не заметил лесник побледневшего лица Кузьмы, изменившегося до неузнаваемости: он весь собрался в комок, слушал. — Так вот тот, когда заявился, враз меня за горло. Давай, говорит, дед, деньги, одежу, документы, не то зашибу. Я бы, может, отдал. Но на ту минуту в доме оказался медвежонок. Я его выпестовал. Из пожара унес. Он и нынче наведывается. Выращенный человеком, поздней других в берлогу ложится. Так вот этот у меня в тот год под печкой зимовал. Шум услыхал иль чужой запах не понравился, только встал он за спиной гостя, да как прихватил за голову, заломал, что гнилушку. Свалил с ног. Всего измял. Того гляди, порвет насмерть. За меня вступился. А гость уже не своим голосом блажит, чтоб выручили его. Ну, угомонил я зверя. А гость встал и на коленки передо мной. Мол, прости, отец, виноват. Горе вынудило. И уйти не могу — в пурге сдохну. И остаться не дашь… О себе сказал мало. Ну, да я не любопытный. Но и выгнать его сердце не дозволило. Велел ему на печи устроиться. А сам на топчане лег. К утру мой гость согрелся. Накормил я его. Куда ж деваться? За окном пурга! Я грех на душу брать не стал. Тот едва отлежался, в окно смотрит. Ну и признался, что беглый. С зоны сорвался, так сказал. Теперь и сам подумай, во что я вляпался. С одной стороны — власти. Они с нас подписку взяли, чтоб о беглых сообщать. В случае укрывательства либо помощи — сами в тюрьму… А с другой — человек! Выкинь с избы — грех перед Богом до самой смерти. И решил я, будь как будет! И ничего Чубчику не сказал.
— А как узнали, что Чубчиком зовут?
— Его искали. Описали в точности. И рассказали много пакостей. Ну да только он успел уйти. Теперь неподалеку в поселке живет.
У Огрызка дыхание перехватило. Пахан живет! На воле! Неподалеку! Надо свидеться. И заелозил по лавке.
«Этот с дури нигде не приморится. Значит, нашел себе грев. Приклеился и канает. Не иначе кучеряво дышит. Надо его тряхнуть. Пусть должок вспомнит. Мою долю. Ведь там, в лягашке, обещал вернуть положняк, как только нарисуюсь на воле! Вот и сниму свое. На халяву что ли пахал я в «малине»? С пацанов! А вмиг в ходку — никакого подсоса не дали! Сам, небось, не морился! А мне вламывать пришлось», — вспомнил Огрызок не без обиды. И спросил лесника: — А что? Его в поселке лягавые не нашмонали? Как оставили дышать на воле беглого?
— Он конца пурги не стал дожидаться. Ушел на третий день с утра. Ничего не сказал. Как появился, так и исчез. С тем я его не видел. А вот шубейку мою, не выдержала натура, спер, анчихрист. И валенки. Совсем новые. Сам их свалял. Из харчей лишь краюху хлеба да горсть махорки. Ну, да Бог с ним. Когда ж ко мне власти пришли искать беглого, я, ничего не ответив, показал пустую избу. Про медведя они знали, все же под печку глянули. Напоил я их чаем и наслушался о своем госте всякого. Ну, думаю, коль словят, оставят Чубчика безволосым, как пить дать. Боялся лишь, что, увидев на нем мое тряпье, засадят в тюрьму, рядом с беглым, чтоб не помогал впредь, не нарушал закон, не молчал о виденном.
— Так как его в поселке жить оставили? Иль не знают о нем? — допытывался Огрызок.
— От них никто не скроется. Это уж точно. А про Чубчика я раньше узнал, чем в другой раз увиделись. Он, каналья, хитрей всех в свете оказался. А может и впрямь после того, как я его с избы в пургу не выкинул, сам сердце у себя отыскал. И снова в человеки вернулся. Потому судьба пощадила его.
— А как ему удалось на воле остаться? — терял терпение Огрызок, ругая про себя стариковскую болтливость.
— Господь его увидел. И направил его от меня не той дорогой, что от зон к Магадану идет, а выработками, дорогами лесорубов, какие меж собой короткими путями связали поселки наши. Он и шпарил по ней, зная, что милиция на машине не проедет там. А люди в такую пургу по домам сидят. Кому охота подыхать от холода?
— Его не нагнали?
— Что ты, милый? Он же, почитай, на целые сутки раньше властей ушел. А дороги тутошние знал, потому как привелось ему их прокладывать. Заключенные, сам знаешь, Колыме — хозяева. Вот он и попер без оглядки. Мужик здоровый. Это даже мой медведь знает. Но не доходя до поселка, хорошо что светло еще было, разглядел впереди себя сугроб. Ничего особого в нем небыло. Таких на Колыме — прорва. Но из того сапоги торчали. Наполовину. Ну, а Чубчик — вор! Ухватился, мол, не пропадать же добру! И дернул. А из сапог ноги выскочили. Чубчик — мужик бывалый, но и у него все, что на макухе уцелело, дыбом встало.
— Это с хрена ли? — не поверил Кузьма.
— Так ноги те — бабьи оказались…
— Мало ли он их видел? Сколько повыдергивал из жоп, у меня столько волос не сыщется, — хмыкнул Огрызок.
— То до тюрьмы. А тут дело другое. Себя недавнего вспомнил. Решил судьбу не гневить. И в благодарность за свое спасенье выкопать бабу. Ну, скажу тебе, чуть руки он не отморозил, покуда вырвал ее из снега.
— Чё толку? Дохлая баба, как крапленые купюры! Одна видимость, — отмахнулся Кузьма.
— Еще живая! Верней, не дал ей помереть. Успел. Кой-как, где волоком, на плечах — приволок ее в поселок. И к дому, где она жила. А баба ноги не могла двигать. Языком еле ворочала. Позвала к себе. Он — ни в какую не хотел. Та уломала. На то они бесовки, бабы. Он зашел на минуту, — усмехнулся старик.
— А милиция? — удивился Огрызок.
— Ай, да, запамятовал! Власти его сыскали вскоре. Но… Чубчик и сам чуть не рехнулся. Не просто бабу — участкового уполномоченного милиции от верной погибели спас… Так-то вот!
Огрызок онемел от удивления: Чубчик спас лягавую!
— Туфта! Чистейшая липа! Прикнокать мог! Это верняк! Но спасти мусориху? Такое по бухой не сочинишь. Лафо берешь на понял? — хохотал Кузьма.
— Мне, старому, грех брехать! Да и к чему? Она мне — не родня, он — тоже!
— Чубчик дал дышать лягавой? Нет, это «липа», «утка» чистейшей воды!
— не верилось Огрызку.
— Когда он ее с сугроба вызволял, у нее на лбу печати не было. Не знал. Она потом сказала, где и кем работает. Да ты ее недавно видел. Помнишь, баба приходила? О тебе спросила. Я и ответил: ослобонившийся. У нас ведь погранзона, всяк человек на учете. И она о каждом знать должна. Работа такая — беспокойная, тяжкая, — вздохнул лесник и добавил: — Ты еще спросил, что за баба, стоит ли к ней подвалить? Я и ответил, что она — мужняя. Сурьезная женщина. Шалостев себе не дозволяет.
— Что? — поперхнулся Огрызок глотком воздуха, помотав головой и откашлявшись, переспросил: — Она — жена Чубчика?
— Самая что ни на есть, — подтвердил хозяин догадку Кузьмы.
«Мать твою в сраку, если фартовые баб заимели, куда ж «малины» смотрят? Иль закон посеяли? Пахан в откол слинял! И все у него в ажуре? Никто его ни на разборку, ни на сход не выволок! Это что ж творится? А с кого я теперь свою долю сниму? Он же ее, верняк, прожопил? Выходит, я на халяву ходку тянул? Ну уж хрен в зубы!» — думал Огрызок, мусоля изжеванную папиросу.
— А ты знал Чубчика, как я погляжу? — спросил лесник улыбчиво.
— Давно. Много лет с тех пор прошло. Целая ходка. Это все равно, что десять жизней на воле прожить. Теперь, коль доведется увидеться, не узнаем друг друга, — ответил Кузьма.
— Его и впрямь не признаешь. Даже меня сумленье взяло, когда свиделись. Тряпье мое вернул. С извиненьем. И напомнил про себя, гостя из пурги. Век бы не подумал, что так меняется человек. Вот тогда мы с ним и поговорили. По-людски. Без страху и помех. Много он про себя поведал.
— Пофартило ему, гниде недобитой! Знал, кому трехал, баки заливал! Да ежли он, сука, флиртует с лягавой, дышать ему недолго! Это мое слово!
— побагровел Огрызок.
— Это ты что вздумал? Я тебя от погибели принял, держу в доме, как человека, а ты грех затеваешь? Иль свое запамятовал? Мало горя выпало? Либо судьбина не изломала вконец? С чего лютуешь? Еле отдышался, а уж чьей-то погибели желаешь? А кто такой? Уж не за то ли Господь наказал, что сердце, как псиный хвост, репьями заросло? Нет бы радовался, что уцелел в пургу, выжил, дай еще, чтоб другие мучились, жили по-твоему? Указка засратая! Я об тебе сына просил. Жизнь твою хотел наладить. Да только верно сказывают — горбатого могила исправит. А коль так — уходи с моего дома! На вовсе! Чтоб нога твоя мой порог не переступила больше! Ни знать, ни видеть не желаю! Вон отсель! Пес шелудивый! — разошелся, вскипел старик.
Огрызок уже и сам пожалел о сказанном. Но лесник не хотел слушать извинений. Негодовал громко, буйно. И о примирении думать не желал.
— В моей избе, при иконах богопротивное нес! Кары не боялся, греха! Заплевал свое спасенье! Кто ты есть после всего, как не отродье сатаны? Ступай живей от меня! — торопил собиравшегося Кузьму.
Тот не заставил долго ждать. Вскочил в сапоги и, ухватив саквояж из угла, ушел из зимовья, забыв поблагодарить деда за приют и заботу. Огрызок вышел на трассу и увидел вдали сверкающий огнями поселок. В сумерках он виделся особо приветливым, добрым, словно взятым взаймы у детского сна. Кузьма торопился. Пока шел тайгой, холод казался терпимым. Здесь же, на трассе, мороз как озверел. Вокруг ни ветерка, ни дуновенья. И лютая стужа взяла в тиски единственное, что посмело бросить ей вызов — человеческую жизнь…
Кузьма шел ровным размашистым шагом. До поселка — километров шесть. Их легко одолеть. В тайге много труднее пришлось. Приходилось на ходу ориентироваться. Шел на шум редких машин, проходивших по трассе, на запах соляра, бензина — с дороги. Шел еле угадываемыми тропами, в которых и лесникам немудрено заблудиться, запутаться.
Огрызок теперь ускорил шаги и почти бежал по трассе. Мороз гнал его в шею все быстрее. Грозил живьем сковать. А Кузьме хотелось жить. Он бежал вприскочку, чтоб не замерзли вконец онемевшие колени. Мороз давно подошел к пятидесяти градусам и изо рта человека вырывающийся пар тут же смерзался в мелкие ледяные иголки, падал на грудь. Он отряхивал сверкающие искры, а они налипали вновь тонким слоем.
Огрызок был не новичком на Колыме и знал, что таким убранством север награждает лишь тех, кого решил навсегда оставить в своем сердце, лишить жизни.
— Ну уж хрен в зубы! Я хоть и Огрызок, но на халяву откидываться не стану! — крикнул он темнеющему небу, погрозив маленьким жестким кулаком. Было всего три часа дня. Кузьма знал, что в полярную ночь, а она была теперь в полном разгаре, темнота наступает рано и скоро.
До поселка оставалось не более трех километров. И Кузьма спешил изо всех сил. Он был уверен, что там живо оыщет Чубчика, найдет у него пристанище, тепло.
Да пусть только попробует выкинуть меня из хазы! Я ему напомню, кто он есть! Не просто приморюсь, а перекантую зиму. И лягавую под жопу налажу, чтоб фартовому мозги не сушила. Файно задышим. А весной, чуть теплее станет, махнем в гастроль. На материк! Тряхнем кубышки на рыжуху! Без дел вовсе прокисли. Да и Чубчику теперь не до выбора, кентов не густо. Сел на подсос, коль к лягавой приклеился. Теперь он на мослы встанет, чтоб я фартовым не вякнул, как он нынче дышит. Его, задрыгу, пронюхают кенты и вмиг пришьют. За честь обосранную. Замокрят в честь «малины». Он-то про все должен думать. А коль дышать хочет, фертом завертится вокруг меня, падла!» — думал Кузьма.
Эти розовые мечты помогали Огрызку шагать по трассе, осиливая холод, сгустившуюся над головой темноту. Она в минуту скрыла из виду обочины и весь путь до поселка.
Две машины прошли мимо Огрызка, не пожелав подвезти человека, проскочили на скорости.
— Чтоб вам накрыться, не дохиляв до хазы, мандавошки! — заорал Кузьма и почувствовал резкую боль в пояснице.
Она сковала мужика, согнула в коромысло среди трассы. Ноги вмиг отказались слушаться, задрожали, ослабли, того и гляди — подкосят тело. А на пустой дороге в лютый мороз и не у таких, как Кузьма, отнимала жизнь и силы колымская трасса.
— Сучий потрох! — ухватился за спину Огрызок, вспомнив недобрыми словами рудник, где, проработав много лет, получил вместе со свободой хронический радикулит, обострявшийся всегда некстати.
В глазах, будто от костра, заметались искры. Боль, навалившаяся неожиданно, не отпускала. А до поселка — рукой подать. Там свой… Вот только как до него дойти?
Но неужели надо было столько перенести и перемучиться, выйти на волю, чтобы сдохнуть паршивым псом не в деле, на трассе? Даже не свидевшись ни с кем, не порадовавшись долгожданной воле?
Кузьма силился сделать шаг. Но боль сковала все тело и свалила в снег. Не сумевшему удержаться — встать на ноги всегда труднее. Огрызок царапал жесткий снег, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, подтянуться и встать. Надо идти, двигаться. Нельзя валяться на трассе. Ведь недалеко осталось. Надо пересилить боль. Он пытался уговорить, заставить, перебороть самого себя. И, ругаясь отборно, барахтался в снегу больным беспомощным комом, теряющим на борьбу за жизнь — тепло, каплю за каплей.
Он уже понял, что на ноги ему не удастся встать. Не хватит сил. И попытался ползти. Пусть медленно, но надежно. Другого выхода нет. Кузьма прополз немного. Почувствовал усталость. Поясница уже не болела. Она перестала чувствовать холод.
Огрызок не помнил, сколько он полз и отдыхал. Когда глянул вперед — не увидел огней поселка и, на свое счастье, вспомнил, что ближе к полуночи везде по Колыме отключают свет.
Мужик закричал, зовя на помощь хоть кого-нибудь. Ведь до жилья рукой подать. А на холоде всякий звук издалека слышен.
Кузьма замер. Он ждал помощи со стороны поселка. Но оттуда никто не поспешил на его зов. Странный, шелестящий звук услышал сзади. И оглянулся, всмотрелся в темноту — на дорогу. Мелькнуло что-то черное, большое.
— Помогите! — заорал Кузьма во всю глотку, надеясь на сострадание.
— Чего вопишь? Все еще не добрался? Аника-воин! Чего валяешься серед пути? — усмехался лесник, неведомо как оказавшийся рядом.
— Дед, спина сдала. Сорвал я ее в зоне, на руднике. Помоги добраться. Помираю, — просил Огрызок.
— Помочь тебе? Чтоб за доброе злом получить? Нет! Меня ты уже проучил. Не всякому помогать надо. А тебя, может, и впрямь зря с тюрьмы выпустили. Не здоровье ты там оставил, а душу вместе с совестью. Потому не выпускает тебя на волю трасса. Она всякого нутром чует. И я ей не судья, наперекор не пойду, — ответил твердо.
— Хрен с тобой, старый козел! Да только секи, не пахан ты мне, чтоб судить, нужен я жизни иль нет. Ты — не Бог! И кто знает, что тебя ждет за то, что в беде бросаешь, может, сам в зимовье не вернешься. За свое ответишь. Ты мне — не судья. Я сдохну — ладно. Но и тебе не будет покоя.
С того света достану гнилушку, — пообещал Кузьма и, не ожидая помощи от старика, пополз дальше.
Дед, сделав шаг, нагнал его. Ухватил за шиворот. Сдернул со снега.
Кузьма, захлебнувшись болью, заблажил скрипуче:
— Чтоб ты усрался через хавальник, старая параша! Иль зенки посеял? Ослеп? Спина прихватила! А ты, как пахан на сходке! Вместе с тряпьем душу вымаешь!
— А я и не знал, что она у тебя в загривке. Чего лаешься? На ногах стоишь. Шагай теперь на своих, — подтолкнул слегка.
Огрызок сделал шаг. В пояснице заныло, заскрипело застуженно.
— Будет дурить. Идти надо. Не стой, что кикимора в сугробе! Шевелись!
— резко дернул дед Кузьму. И только теперь Огрызок приметил, что лесник идет на лыжах.
Кузьма, закусив губы, делал шаг за шагом, боясь выпустить из вида старика.
— Далеко еще до поселка?
— Да рядом. Чхни — собаки забрешут. В сотне шагов, — ответил лесник. Но Кузьма, сколько ни вглядывался, не видел домов.
— А ты знаешь, где Чубчик канает?
— Как не знать? Его весь Север уважает. Всяк наслышан о нем.
— Мне покажешь?
— Конешно! Доставлю, как есть! — хохотнул лесник в ночь.
— Дед! А с чего ты ночью в поселок сорвался? — не сдержал любопытства Огрызок.
— Значит, надо мне, — отозвался лесник недовольно. Старый Силантий, конечно, неспроста ушел в ночь из зимовья.
Едва за Кузьмой захлопнул дверь, сомненья одолели:
«А не поспешил ли гневаться? Выгнал человека из избы, как собаку! Мало ль что сбрехнул? От слов до дела — путь долгий. А гость из пурги, с зоны освободился. У него ни душа, ни сердце не успели оттаять. Вон как много перенес, бедолага. А и я других не лучше. С избы подналадил, грех на душу принял. Теперь он, конечно, к Чубчику заявится. Больно злой на всех. И уже навряд ли доброй будет та встреча, коль не свидевшись, грозился Кузьма загубить Чубчика за старые грехи. Тот ни сном ни духом гостя не ожидает. А этот лютым зверем завалится. По дороге, намерзшись, вовсе озвереет. Зло на Чубчике сгонит. А кто в том виноват? Зачем я про него Кузьме сболтнул? Коль так приключилось, мне все исправить надо. Не то горя хлебну за
свой язык неудержный. Сколько раз себе зарок давал. Ан нет, подводит старость болтливая! Теперь вот вставай, беги в поселок, опереди, удержи беду. Отведи от семьи», — встал лесник на лыжи, прикидывая, успеет иль нет опередить Огрызка.
Лесник издалека услышал крик о помощи. Узнал и голос своего гостя. Подумал, что на Кузьму напали волки. Такое на Колымской трассе случалось нередко. Тем более, что теперь у волков — свадьбы. Об осторожности и страхе не знали волчьи стаи. Нарвись они на одинокого путника — разнесли бы в клочья…
— Далеко ль до поселка? — дернул Огрызок за рукав старика.
— Скоро будем, — отвечал Силантий уверенно и шел спокойно, придерживая выбивающегося из последних сил Кузьму.
Силантий еще тогда, в первый день знакомства, удивился, как добрался Кузьма живым до его зимовья? Ни пурга, ни мороз, ни звери не убили. Сохранил Господь. Значит, нужна для чего-то на земле эта жизнь. Неспроста дошел. И не болел. А вот теперь еле ноги передвигает. Доконал холод. Ну да Колыма со всякого выжившего свою плату возьмет. Не жизнью, так здоровьем. А уж в памяти до смерти жить останется. И во снах покою не даст. От нее ни отогреться, ни уехать. Она — как клеймо, самой судьбой поставленное. Она пройдет по жизни рядом — плечо в плечо. Как зэк с соседней шконки. В пидерке и робе заключенного. Ее не прогнать никогда.
— А ты к кому в поселок вздумал? Иль родня там завелась? — спросил старика Огрызок.
— Тебе-то что до того? У нас с тобой пути разные. Как звериные тропки в тайге. Тебе моего пути не ведать, — бурчал лесник, не оглядываясь.
— Сколько еще до поселка? — мучительно кусал губы Кузьма.
— Меньше спрашивай — скорее дойдешь. Жить захочешь— доползешь. Мне тебя не уговаривать. Коль из зоны вышел, выживешь! Шевелись шибче! Скорей придем, — ответил дед.
Огрызок чувствовал, что силы вот-вот оставят его. Холод заметно возрос и сковал не только тело, саму душу.
— Не могу дальше. Дай передохну. Мочи нет! — взмолился Кузьма.
— Чего раскис, как баба? А еще Чубчика грозился лысым сделать! Чего ж отстал? Кишка трещину дала? Слабак стал? Иль только на язык вострый? — рассмеялся старик.
Кузьма заскрипел зубами, собрал в комок остаток сил и пошел следом за лесником шаг в шаг, стараясь не отставать.
— Занозливый ты, Кузьма! Злой человек! Нет добра в душе твоей. Нет сердца. Потому живешь коряво. Как зверь среди людей. И все тебя чураются. Неспроста такое. Не с добра!
— А я что? Как ко мне, так и сам! Уж так получается. Иначе не умею.
— Зазря живешь. Как блоха в заду собачьем. Сама в говно влезла, а пса за это грызет. Своей вины не чует. И о благодарности за тепло даже не помышляет, — усмехался Силантий.
— Не с твоей жопы греюсь! — огрызнулся Кузьма и, сделав шаг в сторону, пошел по дороге сам, без помощи лесника.
— Уйми гонор, Огрызок! До поселка еще с километр идти. Чего вывернулся? Вот доставлю, тогда показывай свой норов. Нынче самому — не дойти. На гоноре не доберешься. Гнилое от него подсобленье. А сказал тебе правду. Характер твой — тебе враг. Меняй его. Иначе сгинешь.
— Хватит вставлять фитиль. Свои мозги имею, — шел Кузьма, петляя по дороге.
— Ну вот мы и пришли. Слава тебе, Господи! — 'остановился Силантий на секунду, размашисто перекрестился и, ухватив Огрызка за плечо, резко свернул с трассы на укатанную санями и машинами боковую дорогу, которую Кузьма и не разглядел в темноте.
— Отсюда до дома Чубчика рукой подать. Но опрежь слово дай, что ничего не утворишь в семье и доме его. Иначе, знай, стреляю я без осечки и промахов. Нагнать тебя всегда сумею. Отыщу из-под земли. Но тогда — не уйдешь, не вырвешься. Дважды тебя от смерти спасал. Не плюй в мои руки за доброе. И помни. Я не только спасать могу!
— Не грози, дед! Я не фраер. Всего уже отбоялся. А и для Чубчика не держу на сердце зла. Остыло оно. Не от твоих угроз, конечно. Рудники выстудили. Все разом. Тебе по старости бояться нечего. Мне тоже! И свою смерть сотни раз пережил. Устал ее ссать. И ты — не пугай. Припоздал ты с этим на целых двадцать лет. Они как двадцать жизней! И каждая — сродни погосту! А потому я уже свое отзвонил. Веди к Чубчику. Коль ты помог в лихую минуту, он и вовсе не бросит меня, — повеселел Кузьма, завидев стройную улицу поселка, почувствовав близость жилья.
Внезапно из-за забора послышался хриплый лай собаки. Пес принюхивался к людям со двора, рычал зло.
— Угомонись, чего серчаешь? Иди спать, бес лохматый! Ступай в конуру, не гневись, — журил пса старик.
Кузьма позавидовал:
«Ишь, кобелю дворовому теплое слово нашел. И тот понял, послушался. По почему ко мне иначе? Всегда с униженьем. Все только обозвать, обложить матом, как говном по уши, норовят. Неужели старик прав?» — впервые шевельнулось в мозгу Огрызка сомненье.
Он шел, стараясь чутьем угадать дом Чубчика. Он должен отличаться от прочих, иметь свое лицо, так казалось…
Но лесник свернул к обычному дому. Открыл калитку. И предложил тихо: «Входи».
ГЛАВА 3
На стук в окно дернулась занавеска.
— Сашок! Гость к тебе! Из старых знакомцев! — крикнул лесник. Огрызок слышал, как громыхал засовом Чубчик. Он появился в дверном проеме заспанный, злой.
— Где ты подобрал его? — спросил лесника недовольно.
— В пургу пришел. Сам, как и ты, — ответил Силантий.
— Чего? В бегах?! — вмиг проснулся Чубчик и хотел было закрыть дверь перед носом гостей.
— Освободился я, — успел ответить Огрызок.
— Тогда входи, — пропустил Кузьму в коридор: — Зайди, Силантий, — пригласил Чубчик лесника. Но тот отказался.
Чубчик, потоптавшись, закрыл дверь за Огрызком. И, едва тот вошел, спросил:
— Давно из зоны?
Кузьма, не решаясь присесть без приглашения, коротко рассказал, как освободился, как нашел Чубчика.
Хозяин стоял перед ним, готовый в любой момент вышибить гостя из дома.
— Ты уже третий тут возникаешь. Все не без подлянок. Всяк норовил с меня сорвать. Вот и я дал зарок: никого больше не принимать, чтобы мозги не сушили. Завязал я с вами. Секешь, Огрызок?
Кузьма отлепился от стены не без труда. Ноги подкашивались. Того и гляди, рухнет на пол, в ноги бывшему пахану. А тот сгребет в охапку, вышвырнет из дома — в снег мордой. Собери потом в комок это усталое тело, отказавшееся повиноваться.
— Давай, похавай и отваливай, — внезапно предложил Чубчик, указав на табуретку возле стола.
Огрызок хотел отказаться. Зачем тянуть время? Пахан хорош в «малине». Отколовшийся от фарта, уже не законник — фраер. И с ним трехать — западло. Но ноги предательски дрожали. Огрызок почувствовал, что не сможет сделать ни шага — ни к двери, ни к столу.
— Чего стоишь? — глянул хозяин удивленно. — ; Сейчас, — ухватился за стену Огрызок.
Чубчик оторвал его, посадил на табурет. Ни о чем не спросил. Стянул с того сапоги и телогрейку. Определил сушиться на печке. Накормив, налил стакан водки:
— Хлопни. За волю, за встречу, да старайся скорее одыбаться. У нас без здоровья не выжить. Сам знаешь, — предложил Кузьме. Тот и хотел бы, да желудок словно свело.
— Не смогу. Да и куда мне? Идти надо. Ехать. Ноги без водяры не слушаются. Тут же вовсе в отказ пойдут. Как доберусь на материк? — отказался от угощения впервые в жизни.
— Куда похиляешь? Лезь на печку. Канай. Когда одыбаешься, потрехаем, — предложил Чубчик.
Огрызок даже ушам не поверил. Ему не надо уходить на холод — в непроглядную ночь. Чубчик оставляет его у себя. Пусть и на время. Но как нужно именно теперь перевести дух.
«Хорошо, что дед лишнего не вякнул, с чем я сюда возник. Не то шмалял бы я теперь пехом до Магадана. А добрался б иль нет, кто знает?» — подумал Кузьма, засыпая на теплой лежанке.
Проснулся он от ломоты, крутившей все тело. Еле сдержал стон. Вспомнил, где находится. Услышал стук входной двери, голоса:
— У нас гость, Валюха! — узнал Кузьма голос Чубчика.
— Кто? — послышалось недовольное.
— Старый знакомый мой.
— Опять? Ну что ты за человек, Сашка? Ведь обещал мне никого не принимать из прежних. Иль мало горя от них видел?
— Да тише ты, разбудишь. Не кричи, дуреха. Он чуть живой средь ночи пришел. Привел его Силантий. Освободившийся, не сбежавший, — говорил Чубчик тихо.
Огрызок увидел, как приоткрылась занавеска, отгородившая лежанку от кухни. Но прикинулся спящим.
— Я его видела у Силантия, — послышалось приглушенное.
— Давай поешь. А я тебя вот о чем попрошу, — заговорил хозяин еле слышно и продолжил: — Оставить надо его на прииске. Если сумею убедить. Ну, а не согласится, воля его.
— Зачем он тебе? — послышался вопрос женщины.
— Должок у меня перед ним имеется.
— И много?
— Да не в деньгах он. Его доля не в моих руках, сама понимаешь. Тут о другом трехаю, что деньгами не оплатить. Но тебе это понять трудно.
— Отчего же?
— Он в моей «малине» с детства был. И «пахал» на нас — с пацанов. Мы его всему учили. Как воровать. Другого он и не умел. Но когда-то сумел украсть у себя жизнь. Того никто не приметил. Ни мы, ни он. Все так жили. Одним днем. Удачей. На нее надеялись. А она — подводить умеет. Вот и его. Замели. Взяли мальчишкой. Теперь уже мужик. А жизни — не было. В том и моя вина. Я своей судьбе горб выровнял. А он — сумеет ли? Ни сил, ни здоровья не осталось. Ему не больше сорока, а глянешь — старше старика.
— А у него своей головы не было? — прервала женщина.
— Эх, Валюха, да если б голова росла правильно. А то ведь с вывернутыми мозгами жили. Глазами — в задницу. Под ногами — не видели. Да что говорить, иль забыла, сколько со мной хлебнула? — слушал и не верил своим ушам Кузьма.
— Так что ты с ним решил?
— Пока ничего. Ни о чем не говорили, — признался Чубчик.
— Сашка, подумай. Может, лучше будет, если дашь ему денег, да пусть едет на все четыре?
— Оно и так можно. Но случись что с ним, себя упрекать буду, что послушал тебя. Может, и меня судьба уберегла, чтоб я ему помог?
— А если он захочет вернуться к своим?
— У него никого нет.
— Не думаю. Тот, кто столько просидел на Колыме, по новой сюда влететь не захочет, — шептал Чубчик и заглянул на лежанку. Приметил, что Кузьма проснулся: — Давно очухался? — спросил гостя.
— Когда хозяйка прихиляла, — не смог соврать пахану.
— Слезай, Огрызок! Больше суток дрыхнешь. Я уже смену отмолотил. Жена с работы пришла. А ты, как пахан, до ветра не высунулся! — смеялся хозяин, вытаскивая гостя с лежанки.
После горячей бани, ужина, когда Валентина ушла в спальню, Чубчик с Огрызком разговорились.
Кузьма рассказал бывшему пахану о своих горестях. Тот, выслушав, о себе заговорил:
— Я ведь тоже не с добра тут приклеился. Вначале думал холода пережить. Временно примориться. А потом решился испробовать себя. Получилось. И вроде неплохо.
— А как тебя на воле оставили? — спросил Огрызок.
— Я ж не просто с зоны слинял. От вышки смылся. Кенты в бузе двоих охранников замокрили. Ну, а когда разборку учинили, я на себя грех взял. Меня и приговорили в расход.
— Они не знали, что паханы не мокрят? — удивился Огрызок.
— Кому нужно узнавать? Виновный есть, признался сам… Так оно всем проще. Думалось мне, в лучшем случае — дополнительным сроком отделаюсь. Ведь кенты охрану не с куража пришили. За дело. Долю взяли, а законников из шизо не выпустили. Когда ж мне трехнули, что утром расстреляют и приказ о том уже подписан, я и смотался. Ночью. В пургу. Сначала к Силантию попал. Потом на Валюху наткнулся. На дороге. За несло ее. Села отдохнуть. Ну да вытащил. Не зная, кто она — в поселок приволок на плечах. Хотел смыться, пока не накрыли. Завел ее в дом, сам — в дверь. Она меня за загривок. И кричит: «Стой, дурак!» Я вначале от удивленья опешил. А Валюха все смекнула. Ведь я в лагерной робе был. Если б освобожденный, с чего от бабы на рысях? Ну и говорит мне: «Не суй нос из дома, чтоб ненароком не пропал в пурге. Потом разберемся». Я, дурень, изворачивался, туфту нес. А Валюха вернулась с работы и говорит, что ищут меня по всей Колыме. Приметы известны доподлинно. Ну и вздумал я ночью сорваться. От всех разом. А спал — на печке. И едва хозяйка уснула, я сквозняк дал. Едва за поселок — меня и накрыли. Не зря Валька предупреждала — не высовываться. Привели в милицию. А тут и моя хозяйка при полной форме. Я чуть с ума не сошел. Глазам не верил. Неужель лягавую с того света вытащил? Даже горько стало. А тут ферт какой-то заявился, видно, из органов. В военном клифте. И ботает: мол, этот гусь, так обо мне трехал, жизнь спас Валентине, когда она из командировки возвращалась. А коль так — под вышку — нельзя. К тому ж рапорт послали начальству, чтоб за спасенье участковой меня помиловали…
Чубчик вздохнул и признался откровенно:
— Не верилось мне тогда. И уж совсем приготовился вернуться в зону, а тут — телефон зазвенел. Сообщили, что за спасение участковой я помилован, а документы уже отправлены властям. Меня в зону возвращать не стоит. И если имеется возможность — принять работать на прииск с выплатой пособия и предоставлением места в общежитии. Я туда бегом. А Валька — за руку! Куда, мол, срываешься? Вернись домой! Ну как тут быть? А Валентина и говорит: «Нельзя тебе враз на прииск. Поговорим давал вначале. А уж потом
— решай сам». Вернулся я. А Валюха и говорит мне:
«Не держу тебя. Но и беды твоей не желаю. Потому предупредить должна. Нельзя тебе сразу на работу. Присмотрись. Выбери, что по душе. А уж потом решайся. Да пусть минует тебя золотая лихорадка, какою на прииске иные переболели. Особо те, кто с зоны пришел. Многие туда опять вернулись…»
— «Это почему же?» — не понял я тогда. «Да потому, что золото свою силу над людьми имеет. И мало кто способен устоять, относиться к нему спокойно. Едва увидят, руки дрожат. А золото слабых чует, словно нарочно в руки им попадается, как искушение. И не выдерживают. Пытаются украсть, вынести. А за это — опять сроки. И немалые… Потому, прежде чем на прииск пойти, сто раз подумай. Все взвесь. Стоит ли? Сумеешь ли устоять? Не суешься ли головой в петлю? Ведь укравший золото на прииске — не просто вор. Он — государственный преступник. И сроки им дают — максимальные: на всю катушку… А иных к исключительной…» Послушал я ее и смешно мне стало. Может, и дрожат колени у фраеров, не видавших рыжухи в глаза, а я ее столько имел, что тому прииску позавидовать да покраснеть со стыда. Сам помнишь, что мы имели? — хохотнул Чубчик.
Огрызок согласно головой кивнул.
— Да только зря я духарился. Не миновало лихо и меня. Едва увидел рыжуху — не то что руки, душа задрожала, как будто лажанутый на разборку попал. Гляжу на рыжуху, а она, падла, точно просится — возьми меня, — усмехнулся Чубчик.
— Еще бы! Сколько мы его тыздили! — понятливо поддержал Огрызок.
— Но чую при том, что наблюдают за мной. Хотя каждый работой занят. Ту первую смену я всю жизнь помню. Сущим наказаньем стала она, — признался хозяин.
— Мне такое не грозит. В руднике столько отпахал, что все черти меня
в мурло запомнили. Сколько рыжухи намыли — вагоны! Мне б ее на сто жизней хватило бы! Бухать и не пробухать. Спокойно к ней дышу. Но тоже не сразу. После трамбовки охраны совсем к ней поостыл, — сознался Кузьма.
— Тебя отучали силой. К тому ж годы на руднике провел. А я после трассы на прииск попал. Мы ж дорогу прокладывали. Сколько кентов на ней загнулось! И каких! Под автоматами приморили пахать. А тут — рыжуха! После стольких лет! Права была Валюха! К концу смены я сам не свой стал.
Психовать начал. А баба будто знала, пришла на прииск посмотреть. Увидела меня. И не спускала глаз до конца работы. Уговорила к ней пойти. Я и сам не знаю, как доплелся. Состояние такое, словно в тот день целый общак продул.
— Я поначалу не спал! Все вскакивал, думал, как можно с рудника рыжуху тырить и нычить где-нибудь… Но путное в колчан не шибануло, — признался Огрызок.
— А я весь месяц под Валькиным надзором вкалывал. Она мне и волю, и жизнь сберегла.
— У всякого свой кайф, скажу тебе. Когда я на волю вышел, не знал, куда податься. А судьба к твоему берегу прибила. Может, так надо? — глянул Кузьма на пахана.
— Давай, попробуй тут прижиться. Народ неплохой. Условия нормальные. Заработки как нигде в другом месте. Но чур! С кента и — баста! И в «малину» — ни ногой! Прознаю — ходули своими руками вырву! Либо они, либо я! Заруби себе это насмерть!
— Ты, Чубчик, не наезжай, не грозись! Я уж — пуганый. И помни, гость
— не обязанник. Всегда смыться может, коль хозяин надоест. Ты в «малине» паханил. Я на руднике бугрил. Отвык от угроз. Разве что с охраной засрался. От своих падлюк паскудства не терпел. И тебе не дозволю «на понял» брать. Я еще сам не решил, идти мне на прииск или нет, а ты уже возникаешь, хвост поднял.
— Не лезь в бутылку! Ты тут не первый из «малины». Я ж не с дури зарекся никого из прошлого своего— в дом не пускать! Накололся уже — дважды! Больше не хочу. Потому предупредил.
Огрызок тон сбавил. Но обиду затаил.
— Дай ксивы мне! Покажу на прииске. Коль возьмут — твой кайф. А нет — не взыщи. Тут я — не пахан! — предупредил Чубчик и, взяв документы Кузьмы, утром пошел на работу.
Огрызок с печки не слезал. Набирался тепла впрок. Кто знает, как повернется к нему судьба? Так хоть теперь, коль выпало счастье, нужно заранее отоспаться, отогреться и отъесться. Когда еще такое обломится? Спал Огрызок, свернувшись в комок, поджав острые колени к самому подбородку. Отпустила боль. И человек, не веря в сказку, по старой привычке сворачивался в клубок, чтобы дольше сохранить тепло в теле. Ему снился рудник. Громадные горы отмытой земли, шурфы-пробники и целые пропасти отвальной породы.
Огрызок толкал свою тележку по деревянному настилу. Она застряла в грязи, съехала и соскочила вбок. Он пытался ее вытащить. Но не мог. Тележка полна неотмытой породы. Ее нельзя выгружать. Но как выволочь из грязи, если никто не хочет помочь? Лишь молодой охранник, уставший наблюдать за Кузьмой, сорвал с плеча автомат, прицелился.
Кузьма рванул телегу, она выскочила из глины и поволокла за собою Огрызка
— в обрыв… Этим кончали многие.
Кричал Кузьма, сжавшись в клубок. Лоб мокрый, а сердце — в ледышку. Жив и умер… Вот так каждую ночь, пока и впрямь не сжалится над ним смерть…
Хозяйка, приоткрыв занавеску, понятливо вздохнула. Свой — Сашка — тоже ночами баламутит. Теперь уже реже. И все ж не раз просыпалась от его стонов, криков.
Это Колыма. Это она кричит в человеческих снах — нечеловеческими голосами. Она и те, кто открыл ее и заставил жить для смерти. Жить, чтобы убивать. Поодиночке и сотнями. Чем больше, тем лучше. На то она — Колыма…
Кузьма проснулся оттого что во сне сам себе прокусил губу. Чертыхнулся зло на дурной сон. И услышал, как хлопнула входная дверь. С порога брякнуло знакомо:
— Эй, Валюха! Чья очередь сегодня меня в задницу целовать? Получку принес! Целехонькую, как девку нетронутую! Гони бутылку на стол! — и, подойдя к печке, открыл занавеску, загрохотал, как когда-то на разборке:
— Слухай сюда, Огрызок, потрох лысой шмары, чтоб тебя черти кочережками три жизни подряд в жопу целовали. Завтра ты, хварья гнилая, хиляешь на прииск. В моей кодле станешь вкалывать! Усек! Я опять твой пахан. И, как ни крутись, не отвертеться тебе от меня!
— Взяли! — обрадовалась хозяйка.
— А куда им деваться? Вначале шнобелями закрутили, когда статью увидели, по какой ходку тянул. Ну, а я не вытерпел. И кулаками по столу… Кадровик окуляры с перепугу на яйцы уронил. А когда в себя пришел, ответил: «И не такое говно, как этот Кузьма, в твоей бригаде работает. Берем. Куда деваться? Лучшего искать негде…» И оформил, гад! Все честь по чести! Так что с тебя магарыч! Раскошеливайся, Кузьма! С завтрашнего дня ты приисковик! Рыжуху не то что руками, жопой увидишь — на ней сидеть будешь. И не почешешься! Хоть жри его, хоть грызи, никто не законопатит! Все в казну пойдет! Ну да не канай! Мы вкалываем, хватает на прожитье! И даже на выпивон! Секи, Кузьма! На Колыме выживают свободные! Зэки лишь дотягивают до воли! Сам знаешь — не все! Те, кто загремел на Колыму вторично, до воли не додышит…
— Это ты кончай! Я всяких видел. И по три ходки на Колыме иные оттянули. Другие — в местах пострашнее Колымы. В Воркуте, к примеру. И живы…
— Может и есть места страшнее наших. Хорошо, что нам с тобою не довелось в них побывать. С меня хватило моего, — вмиг сник, посерьезнел Чубчик. И, отдав жене зарплату, сел к столу, долго молча курил… Огрызок сидел рядом. Спиною к раскаленной плите. От нее несло жаром. Но Кузьма его не чувствовал. Вспоминалась пурга. Нет, не та, в которую выперли его из зоны на свободу. Была другая — первая, самая страшная, едва не ставшая последней…
Кузьма тогда сбежал из зоны. В нижнем белье: не успел одеться. От расправы ушел. В себя его привели сторожевые псы. Вырвали из сугроба за исподнее. Все в клочья разнесли по снегу. Охрана потешалась, глядя на собачью забаву, как окровавленные лоскуты хлопьями летели с Огрызка. Он понял, что его настигли, лишь когда здоровенный кобель сдавил клыками пах.
Кузьма заорал оглашенно под громкий смех охраны, науськивающей озверевших собак на человека.
Его гнали в зону голого и босого — по глубокому снегу. Каждый шаг был отмечен кровью и муками.
Трижды стреляла в него охрана. Пугала, хохоча до колик, видя, как падает лицом в снег человек, умоляя смерть прийти скорее. Но она не торопилась, наблюдала издали, когда вычерпает мужик отмерянные судьбою муки. Сколько раз он проклял свое рожденье на свет и ту, которая, дав жизнь, отреклась от него — еще ребенка.
Утром, чуть свет, Чубчик разбудил Огрызка, велел вставать шустрее. Перекусив на скорую руку, вышли из дома.
— Заруби себе в мозги, на работе, на улице, везде — за домом, не смей меня звать Чубчиком! Имя у меня имеется человечье! Сашкой зови! И сам дыши без кликухи. Не в ходу они тут. Забыты. В зоне остались. И чтоб даже случайно не сорвалось. Язык до самой жопы выдеру. Скажу — таким родился. И паханом не базлай. Завязано с этим. Секи, Кузьма!
— Заметано, — согласился Огрызок, не без удивления качая головой. Чубчик провел Кузьму через проходную, сказав охране, что новичку пропуск выпишут сегодня, к обеду. А чтобы время даром не шло, пусть вкалывает, к делу приноравливается.
Огрызок было приуныл. Прииск ничем не отличался от рудника. Та же колючая проволока вокруг территории, вооруженная охрана и везде сигнальные лампы, прожекторы, пропускные, проходные — с дежурными вахтерами, чьи лица были ничуть не лучше, чем у тюремной охраны. Их глаза обшаривали, казалось, даже изнутри каждого входящего. Они сверлили саму душу ледяным недоверием. Люди иль чучела? Словно ничто живое не трогало их.
«Мать твою, ровно опять в зону подзалетел неведомо за что! Как ты тут выдерживаешь? Глянь, хари какие вокруг! Где их выкопали? На каком погосте?» — изумлялся Огрызок.
— Пропуск будет на руках к обеду! Он в моей бригаде станет работать!
— сказал Чубчик последнему вахтеру.
— Веди! Туда впускаю! Но обратно без пропуска — не выпущу! — хохотнул мужик козлино, и Сашка с Кузьмой вошли в раздевалку, где переодевшись в робы, отправились в карьер.
— Нам вниз опускаться. Мы — подземщики! Здесь — старье пыхтит, — повел бригадир Кузьму в сторону от карьера: — Говоришь, на зону похоже, на рудник, где недавно вкалывал? А чего ты ожидал? Прииски, рудники — это ж валюта! Вот и охраняют. Иль забыл ювелирные, банки? Где ты видел их без охраны? Так они — тьфу, в сравненье с прииском! К тому ж их только поначалу замечаешь. Потом привыкаешь и плевать тебе на них. Много смотрел на парашу в бараке? Вот так и этих держи — не выше, — усмехался Чубчик, входя в длинный подземный тоннель, ведущий к выработкам.
Кузьма издали увидел бригаду Чубчика. Мужики не ждали появления бригадира и занимались делом. Гудел транспортер, поднимая вверх рассыпающиеся комья земли. Вот в одном сверкнул искрой самородок. Сашка выхватил его, очистил от земли.
Кусок золота, величиной с грецкий орех, смотрелся игрушкой на широкой ладони. Бригадир обтер его о штаны.
— Хорош, черт! Таких бы камушков побольше, да не всегда везет! — сунул самородок в железный ящик. И, позвав мужиков, предложил познакомиться с Кузьмой.
— Ну куда ты его приволок, Саша? Ведь это же заморыш. Кости и кожа! А нам мужики нужны! Этот же меньше кайла, порожнюю лопату не осилит! Что он делать будет? — оглядел Кузьму рослый плечистый Тарас.
— Он в твоих нахлебниках не останется, — поморщился Чубчик и поставил Кузьму к транспортеру.
— Не оплошай, кент! — то ли попросил, то ли потребовал.
Кузьма взялся за работу со злобой, с остервененьем. Лопата звенела в руках, словно она, а не Тарас, обозвала недомерком, засомневалась в способностях мужика.
Шелестела бесконечная лента транспортера, унося вверх на промывку золотоносный грунт.
Огрызок не разгибался. Час, второй, третий… Его не дозвались на перекур. Едва проглотив обед, снова взялся за лопату.
Ничего не видел, кроме земли, пахнущей своей, особой жизнью. Ее он и перекидывал на ленту транспортера, даже не вглядываясь в сверкающие блестки золота.
Огрызок не слышал, как Чубчик сходил в контору прииска за пропуском для него. Взял талон на питание в столовой, направление в общежитие. Лишь когда бригадир, сдавив плечо, сказал короткое: «Шабаш!» — Кузьма разогнулся, поставил лопату на место и медленно пошел к выходу следом за Чубчиком.
Бригадир оказался прав. Возвращаясь со смены, Огрызок не только не замечал охрану, он не видел землю под ногами. Она раскачивалась, крутилась, как живая.
Огрызок шагал рядом с Чубчиком. Тот до самого дома молчал. Лишь когда сели ужинать, спросил:
— Ну, что, Кузьма, легко быть вольным? Понял, почем она, свобода наша? Я от нее поначалу волком выл. Не кентов, себя боялся, чтобы не сорваться и, плюнув на все, дать сквозняк с прииска, на все четыре, пока жив.
— Чего ж не слинял? — удивился Огрызок.
— Прирос я к Колыме! К месту этому Валюха стала сильнее всего. Сильней холодов и пурги. Она от них сердце мое отогрела. Она везде со мной. И под землей, и на земле — жизнь полюбить научила. Видеть в ней радости, какие деньгами не купишь, заботу — постоянную, беспокойство за меня, дурака. Она меня, если хочешь знать, любит…
— А ты-то как же? На лягавую клюнул? Иль шмар нету? Нормальное бабье перевелось? Ведь с этой на материке не покажешься! Свои пришьют!
— Дурак ты, Кузьма! Вот на работе ты — мужик! Глянуть любо, пока молчишь! А открыл хавальник и хана! Гнилой потрох! Да ведь когда я ее из сугроба выгреб, она в обычном барахле была. Думал, насмерть замерзла. А когда сумел ее отходить да ожила баба на моих руках, дороже ее никого не стало. Будто кровная. Мне ж, сам знаешь, оживлять не доводилось никогда. Раз в жизни такое испытаешь и чувствуешь себя человеком. Плевать мне, где она работает! Я и сегодня помню, как в той пурге, в стуже, задышала моя Валюха. Сколько я бился над ней! Сам чуть не сдох! От страха и холода… А когда она глаза открыла, я от радости, как старик, плакал. Тогда понял, что сама судьба мне шанс подарила! Но тебе, дураку, того не понять! Я в тот день не то что общак, свой кентель был готов отдать, чтоб она ожила. И никогда не пожалел, что остался тут. Не всегда Колыма — смерть! Умеет и она одарить счастьем, если очень захотеть вырвать его у Колымы и никогда не отпускать от сердца!
Чубчик глянул на Кузьму. Хотел увидеть понимание. Но Огрызок спал, привалившись к стене.
Сашка бережно раздел его, перенес на теплую лежанку, приложил валиком, чтоб не свалился сонный Огрызок с печки и долго говорил в эту ночь с женой.
— Да оставь ты его в доме. Человек он тихий, незаметный. Пусть живет. В общежитии народ чужой. А здесь он быстрее сердцем отойдет. Глядишь, выровняется, в себя поверит. Пощади его.
— Мороки тебе, Валюха, прибавится. Стирка, готовка, уборка. И так устаешь. Из нас помощники неважные, — говорил Чубчик.
— О чем ты, Сашок? Меня ты спас от физической смерти. Неизбежной. Его
— из моральной вытащи. Это тоже спасенье. А жизнь от него, как от тепла, зависит. Сирота он. И у судьбы, как вдовец на погосте. Пусть поживет. А там видно будет, — предложила женщина.
Кузьма всю неделю работал, не поднимая головы. Сам себя подгонял и уговаривал. Даже когда руки переставали слушаться, Огрызок, сцепив зубы, приказывал себе.
Он ни с кем не общался. Лишь с Александром. Да и то немного. Валила усталость, о которой знал лишь бригадир.
Огрызок, как подарка, ждал выходного. В этот день он проспал до обеда. Когда слез с печки, увидел хозяйку, занятую стиркой. Здесь же и его рубашки лежали. Чубчик во дворе рубил дрова.
Кузьме неловко стало. А Валентина усадила за стол. Накормила, напоила чаем. Уговаривала отдохнуть.
Огрызок, заглянув в пустые ведра, принес воды, сложил нарубленные дрова в сарае. Вместе с Чубчиком в магазин сходил — за продуктами. А вечерком к бригадиру в гости Тарас пришел. Поначалу о всякой всячине говорили. Но потом мужик не выдержал, к Огрызку подсел:
— Обижаешься на меня, Кузьма? — спросил в упор.
— С хрена ли загуляли? Ты мне кто? — неподдельно удивился Огрызок.
— Не слепой. Вижу. Не разговариваешь, не здороваешься со мной.
— Отвали! Я со всеми одинаков. Не до брехов мне. Да и говорить не о чем. Ни с тобой, ни с другими. Я сам по себе.
— Если не обижаешься, давай выпьем! — достал из кармана бутылку.
— Не пью, — тут же отвернулся Огрызок.
— Ты че? Больной? — задохнулся удивлением Тарас.
— Не пью и все тут! — не стал врать Кузьма.
— Брезгуешь? Иль за человека меня не считаешь? — покраснели скулы гостя.
— Да иди ты в задницу! — кончилось терпение у Кузьмы.
— Ну что ж! Посмотрим, кто в жопе останется, — встал Тарас и заторопился уйти.
Чубчик и Огрызок не придали значения сказанному и со вздохом облегченья закрыли дверь за гостем.
Следующая неделя прошла без перемен. Только вот мужики из бригады стали сторониться Кузьмы. Обедали отдельно от Чубчика и Огрызка. Это не ускользнуло от внимания бригадира и, возвращаясь с работы, он как-то предупредил:
— Будь настороже, Кузьма, что-то задумали падлюки! Не иначе, как пакость. Стерегись…
Огрызок даже предположить не мог, за что и чем накажут его члены бригады. Но шли дни и ничего не случалось.
И в ту смену, как обычно, поставил лопату рядом с кирками, домой собрался уходить, следом за Чубчиком. Случайно сунулся в карман брезентовой куртки, которую не надевал во время работы. Папиросу искал. Может, завалялась? И наткнулся на какой-то камешек. Вытащил, глянул и обомлел. Золотой самородок… Сам по себе или по случайности он не мог оказаться в робе. И Кузьма остановился оцепенело:
— Саш! Погоди! Застопорись! — показал кусочек золота. Чубчик понял все без слов.
Не сунься Огрызок в карман, охрана нашла бы золото. И тогда не миновать Огрызку возвращения в зону. Кто поверит, что самородок был специально подброшен ему? Бывшему вору! Тут несудимому не доверяют. Огрызок мог за такое поплатиться жизнью.
Чубчик остановился среди тоннеля, загородив собою и свет, и выход. Бригада подошла вплотную:
— В чем дело? За чем задержка? — послышались вопросы.
— А ну! Поворачивай оглобли обратно, — рыкнул бригадир, и Огрызок вмиг вспомнил фартовые разборки.
Чубчик попер буром.
— Живо! Падлы! Линяй с тоннеля! Разборка будет! — давил на мужиков.
— Смена кончилась! Баста!
— Чего из-под нас потребовалось? — послышался голос Тараса.
— Хиляй в обрат! Не доводи до греха! А ты, пидер, захлопни свою парашу! С тобой особо потрехаю! — отшвырнул от стены Тараса и выдавил из тоннеля.
— Что случилось, Сань? — спрашивали мужики бригадира, пятясь спинами. Когда в нижний карьер ввалилась вся бригада, Чубчик подошел к Тарасу. Резко, неожиданно сунул кулаком по печени. Громадный мужик скрутился, согнулся в коромысло. Заорал истошно:
— За что?
— Ты чего, с ума сошел?
— Захлебнитесь, потрохи! Не то покажу, кто вы есть! Козлы вонючие! С завтрашнего дня — ищите себе другого бригадира! Я на вас всех положил с прибором! Ни одного мудака Не возьму с собой! Кузьма, хиляй сюда шустро! Огрызок подошел вплотную.
— За что решили его вернуть в зону? Кому он поперек жопы встал? — рычал Чубчик, загораживая собой выход из карьера.
— С чего взял? Кому он нужен?
— Зачем в зону? Ты что, Саш?
— Кто из вас, падлы недобитые, подкинул ему в робу рыжуху? — показал самородок.
— Тарас, наверное. Кто еще? Он Кузьму обсирал. И нам вякал про него, — не выдержал самый старший из бригады, Анисим. Тарас стоял у стены, схватившись за печень.
— Кузьма, вруби засранцу! И чтобы он, и все блядво, на три жизни вперед помнило, как платят за лажу! — велел Чубчик. И Огрызок не стал ломаться. Куда пропала усталость и болячки? Он вмиг забыл обо всем. Тарас не успевал отмахиваться. Огрызок вламывал ему, не жалея. Громадный мужик несуразной ступой пытался достать Кузьму, поддеть на кулак или сапог. Но ничего не получалось.
— Вмажь ему, Кузя, по мудям! — поддержал Анисим.
— Эй, Тарас, ты ж говорил, что Кузька подружка Сашки с зоны! Чего ж с лидером не сладишь? — подзадорил Петро.
У Чубчика кулаки захрустели. Но сдержался. Не поспешил на помощь Кузьме. Смолчал. Хотя в груди все кипело.
— Кончай, мужики, мордобой! Давай тихо поговорим, — предложил Яков, самый основательный из мужиков бригады.
Но Огрызок только вошел во вкус.
— Остынь, Кузьма!
— Оставь на завтра!
Уговаривали, пытались остановить Огрызка мужики. Но тот не слышал. И махался б еще долго. Но Тарас, не выдержав удара головой в солнечное сплетение, рухнул на землю, застонав.
Кузьма бросился на горло. Но Чубчик подоспел. Оторвал от Тараса, сказав злое:
— Этого мудака ни на шаг! Чтоб ни слова о нем, ни духу его не было! От дня сегодняшнего он для меня подохший!
— Зря так, Саш! Он, может, и говно, но в работе равных ему — мало.
— Не стоит психовать, бригадир! Кузьма душу отвел. Вломил Тараске. И хватит! Чего не бывает? Помирятся мужики. Зачем выгонять? Он хоть и сволочь, но мы его уже знаем. Нового возьмешь, может, в сто раз хуже будет.
— С Тараской мы не первый день. Он на работу злой, как волк. Другого из-под палки не заставишь, — вступились мужики.
— Да чего вы его уламываете? Я сам с ним работать не буду! Меня любая бригада с потрохами возьмет. Пусть попробует найти замену, — отдышался Тарас.
— Отваливай! Но врубись! В новой бригаде я трехну, за что тебя вышиб! И не только в бригаде! Пусть прииск знает, что ты за падла!
— Да кто поверит? Иль забыл, откуда ты? — усмехался Тарас криво.
— Далеко же вы зашли. Теперь и впрямь вместе не поладить, — сокрушенно качал головой Анисим.
…На следующий день Тарас не вышел на работу с бригадой Чубчика. Мужики отнеслись к этому по-разному. И, словно забыв о причине, обвинили в случившемся Кузьму.
— Все до него путем шло. Больше всех зарабатывали. Склок не было. Никто не уходил из бригады. Теперь же началось. На хрен он нужен, этот Кузьма. Вернуть бы Тараску. А новичка — на крышу. Пусть там вкалывает… На верхнем карьере.
Чубчик поначалу не прислушивался к этой болтовне. Обрывал предложенья о примирении с Тараской. И ни разу ни в чем не упрекнул Кузьму. Огрызок поневоле стал замечать, что бригада злится на Чубчика. Мужики уже чаще стали срываться на крик, открытую грубость.
Кузьма, понимая, что снова пришелся не ко двору, вздумал уйти из бригады. И вечером, дома, сказал об этом Чубчику.
— Сломался, схлюздился! Так я и знал. А не много ль чести уступать фраерам? Ты — зону перенес. Там тебя что — на руках носили? Иль все ладили меж собой? Думаешь, в другом месте Тараски не сыщутся? Тут — нас двое. Там — один будешь. Ни понять, ни вступиться некому станет. Куда прешь? Одумайся!
— Тебе из-за меня морока…
— Уладится. Успокоятся. Забудут, — отмахнулся Сашка. Огрызок уже совсем поверил в то, что время сгладит. Но…
Ушел Чубчик в контору. Сверить показатели решил. Всего на десяток минут отлучился. Огрызок и не заметил его ухода. Как и прежде, не разгибаясь, загружал транспортер. И вдруг услышал посторонний шум. Едва успел увидеть громадный пласт породы, валившийся на него. Огрызок так и не успел понять, что произошло. Пласт
земли, отвалившись складкой, рухнул на Кузьму, смешав воедино крик человека, шум и свист перегоревшего транспортера, голоса мужиков бригады, испугавшихся внезапного обвала.
Кузьма очнулся в белой палате. В окно заглядывало солнце и синий-синий край неба.
«Где это я?» — хотел повернуться, но не смог. В голове все звенело, будто в ней, как в пустой кубышке, каталась пара забытых маленьких самородков. Ни рукой, ни ногой — не пошевелить, даже жутко стало.
«Наверно, сдох! Совсем откинул копыта, коль себе не пахан. А тут и вовсе неплохо! Ни чертей, ни котлов, ни баб! Видать, за муки в жизни Бог пожалел. И определил, как надо было жить. Вот только почему мослы не двигаются? Как же я без них?» — испугался Кузьма и спросил тихо, робко: — Эй! Есть тут кто иль нет?
— Имеемся! Как же? Не один здесь канаешь, — услыхал в ответ сиплое.
— Оклемался? А мы уж думали, что концы отдашь скоро! — рассмеялось с другой стороны.
— Где я? — все еще сомневался Огрызок.
— В Магадане! В больнице! В костоправной палате приморился! Я уж тут три недели, а ты раньше был.
— Болтали, что в реанимации тебя месяц держали. Уж совсем хотели на покой списать. А ты дышать стал самостоятельно. Живуч, как сволочь! — похвалил сосед, хрипло смеясь.
— У меня руки, ноги — целы? — спросил Кузьма.
— Все на месте! Не сомневайся! Просто ты в гипсе весь. Покорежило тебя, весь в переломах, как кобель после драки. Где так ухайдокало?
— Не помню, кажется, под обвал угораздило…
— Ничего! Соберут по кускам, сошьют, заштопают и обратно выбросят в зону.
— В зону? За что?! — вырвался крик.
— А ты разве вольный? — удивился сосед.
— Конечно.
— Тогда и вовсе лафа! Может, инвалидом признают. Зэков в таком положении иногда домой отпускают. Чтоб сам себя кормил, как сможет. И не рассчитывал на пособие по увечью.
— Слушай, сосед, а ты с какого поселка? — спросил Кузьму. Тот сделал вид, что не расслышал.
«Как жить теперь? Сможет ли работать на прииске? А если нет — куда податься?» От всяких мыслей, переживаний разболелась голова. Кузьма понимал, что бригада Чубчика никогда не возьмет к себе его, ущербного мужика. Вспоминал, за что ценили они Тараса.
«Куда податься? В Оху? К сыну Силантия? Но и там убогие не нужны. Из «малины» и тем более выкинут. Сразу надо было туда линять, после зоны. А то остался, как говно в жопе! Ни взад, ни вперед». Огрызок вздохнул тяжело, устало.
«В карманники — ходули нужны резвые. В домушники— сила. Где это взять? В налетчики? Да куда там! Самого, попадись баба покрепше — сиськой задушит. Держать меня никто не станет. Нет обязанников. Любая «малина» мне откажет. А может, все ж попытаться? Ведь надо дышать, раз оклемался», — думал Огрызок.
Через неделю Кузьма уже мог поворачивать голову, видеть соседей по палате.
Поначалу он не раз жалел, что смерть снова отступила и, словно в насмешку, оставила его в живых. Но с каждым днем, чувствуя себя все
лучше, размышлял о будущем не столь мрачно, как поначалу. И услышал внезапное:
— Меня во второй раз ни за что в Воркуту кинули. Давали мы концерт для комиссии, которая наш участок трассы принимать приехала. Меня бугор заставил быть ведущим. Ну, вроде главного брехуна. Я и отмочил, как последний потрох, — рассказывал сосед по койке. Огрызок поневоле прислушался. — Вот так я вывалился на сцену, как хварья на именинах, и трехаю: «Мол, граждане зэки, сейчас перед вами, засранцами, выступит хор! И не какой-нибудь. А передовиков! Какие страну вперед к коммунизму толкают! А вы, падлы, все норовите ее взад оттянуть!» Ну, зэки в хохот. Понравилось. Комиссия молчит. Не удалось мне рассмешить ее, как бугор велел, — с досадой сопнул сосед и продолжил: — Я все свои мозги наизнанку вывернул. Ну, думаю, не подведи, не покрасней за отродье свое — моя Одесса! И объявил: «Песня про то, как кореш Буденный брал на гоп-стоп батьку Махно!» Уж не знаю, как оно там у них, но меня точно за жопу взяли! — жаловался сосед другому и говорил: — Меня падлюки охранники так оттрамбовали, что я забыл, кто кого на гоп-стоп взял! И больше советской Власти — ни на хрен не верю. За инкассатора мне червонец дали! А за Махно иль Буденного, какие меня в зенки не зырили, — четвертной отвалили! Так они не усекли, кому с них я моральный урон принес. С тех пор — завязал с политикой! Едва от ней живой остался! — сокрушался сосед.
— Дурак ты, мудозвон! На что в концерт попер, рыло твое неумытое! Да еще при комиссии! Я — совсем ни про что! Слова не сказал. Оторвал кусок от газеты. Задницу вытереть. И все! Тут меня и накрыли с поличным! На том клоке газеты Сталин был! За его оскверненье у меня не то что жопу, голову чуть не оторвали. А ведь слова не сказал! И враз в расход приговорили. Аблакат вступился. Не то б крышка! С тех пор прежде чем по тяжкой сяду, сто раз по сторонам огляжусь и газету проверю. Нет ли на ней того, кого моя задница не достойна?
Огрызок, отсидев в зоне много лет, слышал всякое. Но вот такое — впервые… Выходит, что на свете были люди, куда как несчастнее его. Совсем ни за что в ходке парились.
— Так вот теперь, когда на волю вышел, предложили на прииске работу. На драге. А я — уперся рогами. Не согласился. И вкалываю сам. Старателем. На отвалах. Что намою, то — мое. И видал я всех… Газеты ко мне не приходят годами. Да и на что? Пользы от них никакой. Одна морока. Летом — лопухом заменю. Зимой — старой газетой. Попользовался — закопал. Да поглубже. Чтоб не нашли. Чтоб по новой не упекли.
— Я после того случая тоже поумнел. И понял, почему в Одессе советскую власть не любят. Не понимает она нашего юмора. Не умеет смеяться. И не терпит хохочущих.
— А ты кем в Одессе был? — спросил его Огрызок. Сосед усмехнулся по-колымски, одними глазами.
И ответил:
Когда медсестра пришла сделать уколы, Огрызок заметил на плече одессита татуировку. Колымский берег и нависший над ним финач.
«Стопорило», — узнал Кузьма без лишних объяснений и обрадовался: — А в Одессу когда махнешь? — спросил соседа.
— На катушки встану и — сквозняк. Мне Колыма не по кайфу.
— А сюда как загремел?
— С прииска. На баланде ходули не удержали. Свалился вниз. Оно, случись такое раньше, живьем засыпали бы землей. Теперь
— шалишь. Лечить пришлось.
— И много еще осталось от срока?
— Списали за непригодность. А так бы еще пять зим париться.
— Вот я и предлагаю. Плюнь на все. Давай ко мне — в старатели! Башли заколотишь и мотай в Одессу. Когда в клифте что-то шелестит, ноги надежней держат. Ты послушай меня. Всего зиму повкалываешь, а пять — в потолок поплевывая жить будешь, — уговаривал одессита второй сосед.
Кузьма слушал их, думая о том, как вернется на прииск. Возьмет расчет. Заберет барахло у Чубчика и поедет в Оху, к сыну Силантия. «В городе — не в поселке. Что-то сыщется для меня. А не найду — не пропаду. Коль дед говорит, что в Охе судимых много, живы и фартовые. Без них, как без воды, ни один город не проживет. Приморюсь и я. Найдут дело. Без хамовки и хазы не останусь», — размышлял Огрызок. И все придумывал, что скажет он на прощанье Чубчику.
«Уж все гаду вылеплю! Отведу душу! Когда я тут подыхал, он даже не нарисовался ни разу. Не спросил — живой иль окочурился, имею хамовку иль нет? Будто за жмура принял. Но хрен тебе в зубы! Оклемался. И дышу! Не на халяву в «малине» был! Тебе б в обвал влететь, не одыбался б», — мысленно говорил с бывшим паханом.
— Да сколько звать? Пришли к тебе. Иль оглох? — дернул Кузьму одессит и указал глазами на дверь.
Огрызок глянул, икнул от неожиданности, сжался в комок. В дверях при полной форме стояла Валентина.
Заметив замешательство, женщина и сама не решилась сразу пройти к койке Кузьмы.
— Вот, по делам приехала. По работе. И тебя решила навестить, — словно оправдывалась за внезапный визит.
— Я тут кое-что привезла из дома. Как ни говори, домашнее всегда лучше. Ведь верно, Кузьма? — несмело подошла к табуретке возле койки. Открыв сумку, стала вытаскивать из нее свертки, банки. Загрузила всю тумбочку. И только потом, спохватившись, спросила:
— Как чувствуешь себя?
Кузьма отмахнулся, дав знать, что все у него в порядке.
— А у Сашки из-за тебя неприятности были большие. Сказали, что обвал случился по вине бригады и самого бригадира. Не досмотрели. Выбрали пласт снизу. А верхний от тяжести собственной рухнул. Бригада неделю простояла. Пока отремонтировали электросеть, транспортер, расчистили обвальную породу — выработки не было. Мало в тот месяц получили. Пришлось и Тараса вернуть. Теперь все наладилось. Как и раньше работают.
— Это хорошо, — вставил Кузьма.
— Что хорошего? Целый месяц Сашку таскали, зачем тебя на прииск взял? Все нервы измотали. Придирались ко всему. И к технике безопасности, и к твоей биографии, к вашим личным отношениям. Даже спрашивали, почему ты не в общежитии, а в нашем доме проживал без прописки. Короче, натерпелись мы вдоволь, — выдохнула Валентина. И, прищурившись, спросила: — Куда после больницы пойдешь?
— Земля большая. Места хватит. Приткнусь где-нибудь, — ответил Огрызок.
— Вот и молодец. Правильно! Я тебе твои вещи привезла, расчет, чтоб не мотаться впустую. Время всем дорого! И тебе! Тут вот письмо от Сашки. Будет время — прочтешь! — она не спешила отдавать заклеенный конверт: — Ты меня правильно пойми. Сашка еще непрочно на ногах стоит. Самому нередко помогаю. Чуть не туда — сорвется. А этого нельзя. Ошибаться поздно. Не просто судьбой, жизнью может поплатиться. А мне бы этого не хотелось. Вот и держу его изо всех сил. Порою тоже нервы сдают, устаю. Но виду не показываю. Держусь. А легко мне, бабе? Ты — умный, добрый, поймешь и не осудишь. Семья не должна жить одним днем и в постоянном страхе. А я все время боялась, чтоб не увел ты от меня Сашку. Навсегда. В прошлое, — призналась женщина тихо.
«В прошлое, как в рожденье — возврата не бывает. От него, как на сдачу медяками, память. От нее — не оторвешь и ты, сколько ни держи. А в ней и я жить останусь. Тебе — страхом. Ему — укором. Дважды я поверил в него. И лажанулся оба раза. Не на ту карту ставку делал. Но ход не вернуть. Не денег жаль. Их можно нажить. А вот годы… Их не повернешь. Особо, когда веры нет. И никого рядом. Снова один. Как в той пурге. А может это к лучшему. Ведь гнилая клюка не опора, видимость. Потому жалеть не о чем. Большее потеряно. И в том я сам виноват», — подумал Огрызок.
— Не обижайся на Сашку, Кузьма. Он очень переживает. Но чем поможет?
— Не нужно грева. Я сам, как всегда. А он пусть не дергается. Жизнь, она, как общак. Хороша, пока не делится. На ходки. Пусть всегда вольным дышит. И забудет все. Передай ему, я забыл… Все. Пусть спит спокойно.
— Кузьма, ты не представляешь, сколько он пережил, когда случился тот обвал… Сашка сюда — в больницу по десятку раз на день звонил. О тебе узнавал. И сегодня сам хотел приехать. Но приболел. Простыл. В баню я его с утра отправила. Завтра — снова на работу. Трудно ему. За все три года ни одного дня в отпуске. Устал. А тут еще этот обвал… У всех такое случается. Но Сашку измучили. С бригадиров снять хотели. Но он же, ты знаешь, не смог бы в работе подчиняться кому-то. А значит, пришлось бы уходить. Но куда? Хорошо, что утряслось.
Огрызок слушал и не слышал бабу.
«Теперь ну их всех! Прокантуюсь без фраеров! Не нужен мне их положняк. Сорвусь на материк. И падла буду, если хоть раз дам дышать отколовшемуся! И башли свои, и положняк, уж хрен, не стану отдавать в общак. Сыт по горло. В «малине» бухтели — все башли в общак. Нет доли у пацанов. О! Если бы тогда я знал, что ждет!» — снова подумал Огрызок.
Он даже не заметил, не увидел, как ушла Валентина. Он не простился с нею, простив ей и Чубчику, не сказал спасибо за короткую передышку, за тепло у их семейного очага…
Она ушла… Лишь свертки на тумбочке напоминали о ее посещении, да письмо Чубчика, которое женщина положила сверху. Сегодня Огрызку не захотелось читать его. Он смотрел в потолок, стараясь отвлечься от невёселых мыслей. Он понимал, что снова стал лишним, чужим и ненужным, что у чужого очага тепло не греет…
«Да дьявол с ними! Ну чем он мне обязан? Чего я к нему прилепился? Ведь вот сама судьба оторвала от него — обвалом. Значит, пора завязывать. Не туда попер. Менять «малину» — самое время пришло. А то, вишь, заделался в честняги-работяги. Ну, а фортуна по калгану огрела. За дурь! Со всех сторон разом. Но ей-богу! Обвал
легче пережить, чем эту пакость, какую Чубчик подложил. Сам не возник. Бабу прислал, препадлина! Прикрылся юбкой! Эх ты! Сучий хвост! Чтоб тебе всю жизнь из параши хавать!» — пожелал Огрызок Чубчику.
— И кто эта лягавая тебе приходится? — внезапно спросил одессит.
— Никто. Никем. Да и в гробу я их всех видел! — ответил Огрызок зло.
— Никто? А жратвы на целую «малину» приволокла! Это за какие крендели?
— За то, что при мужике ее оставил. Не разлучил их. Она и довольна до усеру. Она, пусть и мусориха, но сначала — баба! И без мужика, как общак без рыжухи, дышать не сможет! — нашелся Огрызок.
— Ас чего лягавая прощенья у тебя просила, иль лажанулась? — прищурился стопорило.
— Не она. За мужика пришлось ей…
— Она у вас за бандершу иль за шмару? — подсел одессит.
— Что я свой хрен на помойке поднял, чтоб с лягавой мазаться? Покуда себя за паскуду не держу! — фыркнул Кузьма.
— А за что ходку тянул?
Огрызок ответил — назвал статью, срок. Рассказал о незадачливых побегах.
Старатель слушал, выпучив глаза. А стопорило улыбался:
— Слушай, Кузьма! А куда теперь ты собираешься приклеиться?
— Да черт меня знает! Если катушки в норме, к своим похиляю. Коль не пофартит с ними, надо прилепиться к тихушникам.
— Вот гнида. Иль не знаешь, что тихушники — братья черта? И дышат по ходкам чаще других? Я имел с одним дело. У нас в Одессе народ веселый. Потому жмурятся реже, чем в других местах. Ну и отходят кайфово. Вот и Пачка, похоже, на тот свет отправился по бухой. Со шмары его сняли. Она,
дура, думала, что он уснул, а кент — копыта откинул! Как файный мужик, на бляди! Ну, не будем лажать девочку. Ее вскоре утешили, успокоили. А Пачку, как и полагалось, хоронили с почестями! Всеми, какие полагались. И поместили его в центре кладбища. Чтоб городским жмурам скучно не было. Пачка и на том свете в паханах остался, — рассказывал стопорило.
— С чего ты взял, что жмур в буграх у покойных фраеров? — не поверил Огрызок.
— А ты не суй свой шнобель в парашу, пока тебя за шиворот не взяли, — оборвал Кузьму стопорило и продолжил рассказ.
— Ну, пришел сороковой день и решили помянуть пахана фартовые Одессы. Бухнули. И на кладбище прихиляли. Я тоже Пачку знал. Уважал его. Пропустил стопарь, чтоб на том свете имел он баб по десятку на день. И хмельного! Столько, сколько воды в нашем море! Чтобы тряс на том свете жмуров, не боясь лягавых и ходок! Чтоб черти завидовали его навару! И вдруг приметил, что земля на могиле его после похорон перекапывалась. Указал фартовым. Те сявок свистнули. Подняли Пачку. А он — голый, как падла, будто его только со шмары сняли. Помешали кайф поймать. Стали барахло искать. Может, под голову в спешке притырил? Но ни барахла, ни шмары. Даже зубы золотые сняли у него. Будто в уплату за развлеченье. Кенты тогда долго смеялись, что пахан не теряется. И решили найти ту блядешку, какая зубы Пачки понесла менять на водяру. Ну я и надыбал паскуду. Он ювелиру их отдал в работу. Накрыл я его враз, — умолк одессит.
— И что с ним стало? — спросил старатель.
— А ничего! Кайфует в стремачах теперь. На шухере. Чтоб кто другой из его шоблы не лажанулся…
Кузьма усмехнулся. До старателя не дошло. Огрызок вмиг понял. Тихушника фартовые живьем закопали в могилу пахана. В вечные стремачи — на шухер. Всем тихушникам в науку…
Стопорило, увидев, что Кузьма уже двигает ногами, подбадривал Огрызка. И все успокаивал:
— Ты не гонорись сразу. Катушки пусть привыкают к жизни помалу. Не перегружай. Тебе пофартило, что они двигаются. Вот когда почувствуешь — способен от мусоров слинять, можно из больницы смываться.
— А ты чего сквозняк не дашь? — удивлялся Огрызок, замечая, что одессит вполне здоров и прочно держится на ногах.
— Успею. Не часто отдых обламывается, — отвечал стопорило. А через пару недель, когда Кузьма уже ходил но палате, держась за стены, предложил:
— Слушай, Огрызок, а не податься ли нам с тобой в Одессу? Там с тебя хворь и плесень шутя стряхнем!
Огрызок даже не раздумывал. И теперь старался из всех сил поскорее стать на ноги.
Но через пару дней одессита навестил хмурый пожилой мужик. Вместе с ним он вышел во двор больницы, а через час вернулся расстроенный, злой. Всю ночь не спал, ворочался с боку на бок. Несколько раз он вставал, курил у окна. А утром, когда старатель вышел из палаты, подошел к Огрызку:
— Мне пока не надо в Одессу. Время не пришло. Давай, если есть охота, приморимся в старателях. На время. На сезон. А осенью махнем в Одессу. Огрызок задумался. В старатели? Но для этого можно обойтись и без напарника. Правда, нужно знать продуктивные площади. А он, Огрызок, сам не сможет определиться. Вдобавок, вон — старатель: тоже покалечился, потому что в одиночку работал.
Огрызок, прежде чем согласиться, несколько дней все обдумывал. Он понимал, что неспроста одессит решил уйти в старатели, не случайно отложил возвращенье в Одессу. Но о причине молчал. Кузьме не пришлась по душе эта скрытность. «Коли стопорила решил скентоваться, игра должна идти в открытую, как и положено. А если молчит, дела его — хреновы. Зачем же связывать себя с тем, под кем задница горит? Иль мало потеряно на Чубчике?» — думал Кузьма.
— Замели моих кентов. Троих. Накрыли у барухи. Пусть шухер уляжется. Лягавые посеют мозги. И мы возникнем. А пока на дно залечь стоит. Но не без понта. С наваром, — подморгнул одессит, подойдя к Кузьме. И спросил: — Ты тут кентов имеешь?
Огрызок сразу вспомнил Чубчика. Но решил смолчать о нем. Да и какой понт с отколовшегося?
— Нет никого, — вздохнул тихо.
— Ладно. Сами пронюхаем, где и как втереться сможем, — не расстроился стопорило. И через пару недель оба выписались из больницы. Старатель, по простоте душевной, рассказал соседям по палате о возможностях площадей. Он работал в одиночку пять лет. Имел опыт. И сказал, что лучше всего идти следом за госпромыслом. «У них в отвалах больше половины золота остается», — признал откровенно.
— Я такие самородки находил, что сам удивлялся, как их просмотрели? А все потому, что не старатели они. Идут буром по участку.
Он поверил, что Кузьма с одесситом обязательно найдут его. И, объединившись, начнут работать вместе.
Едва Огрызок с одесситом вышли за ворота больницы, обещание забылось…
— Генька, — так назвал себя одессит уже в палатке, расположившись вместе с Кузьмой у заброшенных отвалов, отработанных зэками десяток лет назад.
Огрызок хорошо помнил это место. И не стал препираться, когда новый кореш предложил ему проверить старые выработки.
— Зэки тут пахали. А под охраной, это в Одессе всякий пацан сообразит, мужики не стараются. Берут лишь то, что сверху лежит. Промыв первые три лотка, Генька убедился в собственной правоте, а Кузьма осмотрел отвалы, промыл несколько лотков породы. И, довольный, вернулся в палатку.
— Ну, как твой улов? — показал стопорило намытое им золото. Оно сверкало на ладони блестками.
Кузьма вытащил два маленьких самородка и золотой песок, завернутый в носовой платок бережно.
— Давай, ссыпай! Вместе вкалываем, — посоветовал Генька. Но Кузьма не спешил объединять золото.
Одессит рассмеялся. И предупредил:
— Жадность — фраера губит…
Огрызок не придал значения старой фартовой пословице и решил по-своему:
— Дышать вместе, а навар — врозь…
Каждые два дня к ним наведывался представитель прииска в сопровождении милиционера и забирал намытое золото, скрупулезно взвешивая каждую песчинку. Запись в ведомости подписывалась всеми.
Представитель прииска, крепкий седой человек, относился с подозрением к старателям. Особо к тем, кто промышлял золото в паре либо поодиночке, чурался артелей. И говорил, что на месте государства он запретил бы такой промысел, потому что среди этих одиночек развелось ворье и жулики. При этом он пристально сверлил колючим взглядом обоих старателей.
— Что-то мало вы сегодня сдали. На этой площади впятеро намыв больше. Иль сачковали, либо украли, — сказал он как-то Огрызку и Геньке.
Вот тут-то и сдало терпенье Кузьмы:
— А ты, боров, сам повкалывай! Скинь с себя барахло и полезай на промывку. Тебе, падла, протрястись полезно! Чего возникаешь? Без тебя тошно! — зашелся Огрызок в брани.
Генька стоял молча. Ждал, чем закончится свара, вспыхнувшая внезапно. Накричавшись досыта, обложив друг друга грязным матом, люди не скоро успокоились. И если Кузьма пригрозил проверяющему выдернуть в другой раз ноги из задницы, тот пообещал законопатить Кузьму до конца жизни в зону за оскорбление должностного лица.
Кузьма в этот день вернулся в палатку раньше обычного. И заметил, как Генька поспешно закрыл банку с вареньем, запихал ее подальше от глаз
Кузьмы. У Огрызка впервые шевельнулось подозрение. И он решил проверить напарника этой ночью.
Кузьма все дни удивлялся тому, что одессит сдает вдвое, а то и втрое меньше золота, чем сам Огрызок. Объясняя приемщику невезением, бедностью пласта, собственным недомоганием. Но Кузьму не провести. И хотя работали они врозь, Огрызок видел — Генька не сачковал. Порою не перекуривал. Лишь иногда ходил в палатку, как говорил, чифирнуть.
Ночью, когда одессит уснул, Огрызок выволок банку из-под палатки. Сунул в нее ложку. Крутнул и достал из варенья три самородка.
— Надыбал, гад? — проснулся Генька, заметив в руках Кузьмы свою заначку.
— Ты что? Под вышку захотел? — удивился Огрызок.
— А ты? Иль в Одессе с голыми яйцами решил нарисоваться? Не желаешь хамовки, девочек? Иль решил, что мне себя деть некуда и я сюда на халяву приперся? Так врубись, чокнутый, без навара у нас ты — никто!
Огрызок смотрел на стопорилу, а тот хохотал ему в лицо:
— Кузьма! Да ты ж больной, если подумал, что я «на дне» без навара останусь. Да я бы давно тут всех лис подраздел бы, если б нашмонал рыжуху! Я ж не дурак цепляться с приемщиком. Пусть себе лопочет. Доказать не сможет. На обыск — не имеет права. А и не надыбал бы никогда.
— Да как ты его вывезешь? — изумился Кузьма.
— Как видишь. Золото, как шмара, всюду вылезет. А вот в варенье — нет. Не зазвенит. Верняк. Покуда рыжуху не выковырнешь из банки, молчать будет. Потому я не дергаюсь. Знаю, никто не допрет. Все досмотры и проверки пройдут сухо. Нигде не засвечусь, — смеялся Генька.
— Мать твою… А мне молчал?
— Ты ж сознательный. Свой навар хотел сорвать, в одиночку. К тому же после твоей трепотни с приемщиком тебя, как липку, трясти станут при проверке. Оторвется еще на тебе этот бугай, попомни мое слово! Уладь с ним. Не то горя не оберешься.
Огрызок отмахнулся, ответив, что не станет шестерить перед всякой падлой. Но заначки для себя решил делать уже со следующего дня. Когда вечером сдавал золото, сделал вид, что не заметил удивленья приемщика. На его вопрос, отчего так мало намыл, ответил, что площадь оскудела, либо зэки тут работали усердно.
За неделю Огрызок загрузил целую банку. И пусть в ней был лишь золотой песок, но на него, как сказал напарник, в Одессе можно устроиться с шиком.
Кузьме вскоре понравилось иметь подкожную рыжуху и теперь по вечерам он любил послушать Геньку о том, как можно дышать в Одессе, имея башли.
— Ну, что твой Орел или Оха, куда ты лыжи вострил? Там же даже приличного кабака нет! А вот в Одессе! Все имеется! Хочешь девочку? Плати! Домой привезут! Бухнуть желаешь? Плати! Доставят! На твой вкус! И все изысканно, красиво! Не то что в твоих деревнях.
— Не заливай! Ты лучше трехни, почему в свою Одессу нос не суешь? В делах рыжухи можно столько взять, за всю жизнь, сколько ни копайся, не намоешь. Но отчего-то не торопишься в Одессу. Ковыряешься здесь, как последний фраер! — не выдержал Огрызок насмешки.
Генька на минуту умолк. Глянул на Кузьму так, что Огрызок теперь и без наколки узнал бы в нем стопорилу.
— Не нарывайся, кент! Я не уважаю тех, кто хвост на меня поднимает! Не зарывайся, — взял себя в руки одессит.
А через некоторое время, совсем успокоившись, ответил на вопрос:
— Я ботал, что мои кенты засыпались. И до осени мне не стоит возникать. Но… Осень уже наступает… И скоро я вернусь.
Огрызок тщательно готовился в путь вместе с Генькой.
Одесса… Они все лето жили жаркой мечтой, единственным теплом в холодном, неприветливом крае, о котором в Одессе знали лишь единицы. Теплое море, красивые женщины, рестораны — лучшие на земле! Город — мечта, город — музыка… Скоро ты станешь явью. Не все же в жизни муки.
— Вставай, Кузьма! — услышал Огрызок среди ночи. Он трудно стряхнул с себя сон, непонимающе огляделся и услышал совсем рядом, прямо за палаткой, жуткий вой, похожий на стон.
— Волки! Костер! Огонь нужно разжечь! — торопился Генька. Кузьма опередил. Выскочив в темноту, он фыркнул, зарычал голосом росомахи. Это единственное ухищрение, какое приобрел на Колыме, не раз пригодившееся в побегах.
Кузьма знал наверняка — волки убегут. Но ненадолго. Испугавшись крика, они не почуют запаха врага. Но за то время надо успеть разжечь костер. Тогда волки не подойдут близко. Хотя бы до ночи следующего дня. А там — придется дежурить, чтоб не стать добычей.
— Взвыли волки — жди холодов. Со дня на день полетят белые мухи. Снег укроет землю. Значит, кончится старательский сезон.
Генька уже развел костер и не вздрагивал от каждого шороха в темноте, зная, что ни один зверь не бросается на добычу при свете.
— Теперь не отвяжутся. Пока не смоемся, стремачить будут. Это как два пальца… Давай срываться по светлу. Покуда не накрыли зверюги! Средь ночи от них линять — швах дело! Накроют и схавают! — предложил Огрызок. Генька согласился. Но когда пошел на отвал за совками, лопатами, нарвался на золото и застрял. Кузьма звал его, надрывая глотку. Но у одессита дрожали руки. Три крупных самородка подряд. Повезло и подоспевшему Кузьме. Такого удачного дня у них не было с самого начала сезона. Они собирали золото голыми руками. Прямо из-под ног. И как раньше его не видели? Куда ни глянь! Всюду горят звездами мелкие и крупные самородки. Генька и Кузьма одурели от радости. Колыма будто решила вознаградить их напоследок за все мытарства разом. И покрылась золотым потом россыпей. Какой отъезд, о времени и страхе забыли. Глаза не видят ничего, кроме золота. Оно открылось! Его так много!
До вечера даже не присели. Почему-то не появился и приемщик. Не омрачил радость старателей. А и они о нем забыли.
— Так сколько лет можно дышать на эту заначку? — кивнул Огрызок на кучку золота.
У Геньки в глазах огни загорелись:
— До смерти хватит! — вырвалось невольное.
У Кузьмы дух перехватило. Он забыл о наступающей ночи. Он мечтал. Он смотрел на золото, которое светилось ярче костра. И в надвигающихся сумерках казалось жаром, взятым взаймы у самого солнца. Огрызок, глядя па него, блаженно улыбался.
Генька будто чифира перебрал: ходил вокруг золота пьяным чертом. Он не мог оторвать от него ошалелого взгляда. Все мысли и планы закрутились вокруг него и он грезил наяву.
— О, Одесса! Только ты, моя проказница, достойна этого дара Колымы! Только тебе он принадлежит, моя смуглянка! Моя шалунья! Я твой, а ты моя! Теперь я никуда от тебя не смоюсь! Тебе принесу, как сердце свое, как тоску и печаль по тебе на чужбине! Ты только моя! Я куплю тебя целиком! — пела, рычала душа Геньки и вдруг обалделый взгляд его уперся в лицо Кузьмы.
Синие обветренные губы Огрызка, будто издеваясь, кривились, точно в пьяном бреду, шепча одно слово:
«Что? Вот с этим замухрышкой, чувырлой, пугалом долить добычу? Этого козла тащить в Одессу? Да это ж всем блядям на смех! Я что, сам не смогу управиться? Разве бывает у нас излишек золота? Иль я больной, что разучился самостоятельно распоряжаться рыжухой? Зачем Одессе сушеный колымский таракан, какой не сможет порадовать ни одну из девчонок? Что знает он об Одессе — заморыш из деревни, огрызок старой шмары? Он не знает цену рыжухе, а уж Одессе и подавно! Почему я должен тащить его с собой? Вместе нашли? Ну мне, что с того? Звери вместе охотятся, а жрут только сильные. Слабые не могут дышать. Они лишь помеха!» — сверкнем молнией шальная мысль. И не отдавая себе отчета,
Генька рыком бросился на Кузьму. Свалил его на землю словно гнилушку, и жадные пальцы нащупали горло.
Огрызок никак не ожидал этого и дергался, скорее
от удивленья, чем от страха. Испугаться он не успел. Забыл, что Генька прежде всего — стопорила.
Кузьма извивался, как уж, пытаясь достать одессита ногами или руками. Но тот навалился на Огрызка тяжко.
У Кузьмы глаза полезли из орбит. На шее — хлесткая петля из пальцев. Нет воздуха. В глазах темно. В голове свист и звон. Все тело ослабло, онемело. Куда девались силы? Перед глазами крутится в черном небе яркая звезда. Единственная, как жизнь. А, может, смерть? Почему она моргает? Кому? А, может, плачет? Но по ком? Нет, не звезда? Это кучка золота горит. Она виновата. Подаренная Колымой в радость, она отнимает жизнь. Единственную, как звезда. Колымские дары — радости не приносят. Это знает каждый магаданский зэк.
Золото никому не подарило жизнь. Лишь отнимало, укорачивало. Нашедший его никогда не был счастлив. Оно умело превращать человека в зверя. Сколько жизней унесло оно, сколько слез из-за него пролито — не счесть! И все же ищут его, радуются ему — как счастью, запоздало понимая, что нашли — горе.
Золото… Его неспроста считают дьявольским, металлом смерти… А жить хочется! Ведь сколько золота лежит у костра! С ним в Одессе, в любой «малине» паханить до смерти можно. Хотя можно и без фарта, жить спокойно. Но где она — жизнь?
Генька уже сцепил пальцы рук. Одно усилие… Огрызок почти готов. Лишь для надежности довести до конца. Чтоб не очухался! Ведь стольких довелось вот так прикнокать! Молча, без слов: они лишние в этом деле. Уходящего не бранят, не упрекают.
Генька нагнулся над Кузьмой в последнем усилии и вдруг почувствовал резкий толчок в плечо. Потом кто-то жилистый, лохматый вцепился в горло вонючей пастью.
Генька впился руками в шерсть. Рванул от себя из всех сил, забрыкался, замахал руками.
Но не отбиться, не прогнать, не одолеть. Глухой рык подбирается к горлу. Стопорило в ужасе…
Волк смотрит в глаза — не мигая. Сама смерть. Шерсть — дыбом, глаза горят. Ему не нужно золота, ему нужна жизнь. И не меньше… Стопорило понял: ему не уйти от погибели. От зверя голыми руками не отмахнуться. Да и какие руки сравнятся с клыками матерого голодного зверя.
— Золото! Его так много нашли сегодня! Неужель награда перед смертью, неужели так и пропадет, недоставшись ему? — вскакивает стопорило на четвереньки и успевает заметить, что волк не один. Вокруг — стая. Она ждет. От одного отбиться можно. Но не от стаи, замершей в тихом восторге ожидания жратвы — первой добычи.
— Ты, пидер, на Одессу залупаешься? Падла! Я ж тебя замокрю! На меня, стопорилу, хвост поднял, хер собачий! — зарычал Генька, не давая отчета сказанному.
Волк, слегка припав на передние, приготовился к прыжку. И вдруг рядом взвыло диким голосом. Протяжным, вытягивающим душу, морозящим до костей. Это был крик росомахи. Его единственного боялись волки. И, заслышав, бросились наутек, поджав хвосты и уши. С росомахой никому не хотелось померяться силой. Ее коварство и клыки, ее силу хорошо знали многие звери
и обходили стороной, покидая логова и добычу, никогда не решаясь вступать с нею в схватку.
Стая уходила без оглядки, понимая, что после росомахи ей нечем будет поживиться. А чтобы не стать дополненьем к ужину, надо успеть удрать подальше.
Лишь мелкие комья земли зашелестели под десятками волчьих лап, да затрещали кусты багульника, выдавшего— куда убежала стая. Генька лежал, обхватив руками голову, воткнувшись лицом в землю. Он боялся дышать. Он ждал смерти. Которая вот-вот разнесет его в куски. Он не мог думать ни о чем. Где голова, где сердце? На месте ли они? Все мокро. И в штанах, и на спине. Словно он, стопорило, мигом превратился в большую тюремную парашу. От которой не только стае, самому стало тошно.
— Ты что, усрался, падла? Выходит, слабак, сучье говно! Вставай на катушки, паскуда! И хиляй вон! Пока я тебя не угробил, козла вонючего, — стоял рядом Кузьма.
В руке его — крепко сжатый топор.
— Отваливай, пропадлина! Чтоб тебе волки до смерти татуировки на яйцах ставили! Будь ты проклят! Чтоб мне век свободы не видал! — говорил Огрызок хриплым голосом.
Генька хотел встать на ноги. Но Кузьма пригрозил:
— Раком сматывайся. Сгребай барахло и пиздуй от меня — на все четыре. И заруби — возникнешь, пришибу!
…. А рыжуха? — спросил ядовито стопорило.
Кузьма поднял топор:
— Вякни еще! И хана! Уноси себя, падла! И радуйся, что жив, Одесса недобитая! Шмаляй к своим блядям! — швырнул рюкзак на спину, и дав сапогом в задницу, рыкнул:
— Линяй, прокунда! Чтоб ты накрылся до утра!
Генька понял — уговоры не помогут. Просьбы не будут услышаны. Умолять, упрашивать — только раздражать. Да и сам, окажись на месте Кузьмы, поступил бы и того хуже. Живым не отпустил бы. Не поверил бы. А этот — дурак… Не знает меру подлости.
«Но куда идти? Без палатки, без топора — не нарубить дрова для костра. Это ж уйти на верную смерть! А он, гад, еще и рыжуху зажилил», — подумал стопорило.
— Чего резину тянешь? Линяй! Не то вломлю для шустрости!
— Мокри! Куда хилять? В жмуры? Так файней здесь, чем там! — кивнул Генька в темноту, откуда послышался истошный волчий вой.
— А мне до фени!
— Секу!
— И не уламывай. Не мылься. Ботаю, сгинь, как триппер! — рявкнул Огрызок.
— Куда? — взвыл Генька просяще, испуганно, услышав треск в кустах, совсем неподалеку.
Кузьма подкинул в тлеющие угли сухие ветки. Они затрещали, взялись огнем. Пламя высветило кусты багульника, из которых выглядывали волчьи морды. Звери вернулись на звук человечьих голосов и запах живой добычи. Кузьма, набросав в костер сухих веток, рубил дерево на дрова. Торопился. Видел, стая смыкает кольцом и окружает палатку и костер все теснее. Стопорило в ужасе оглядывался по сторонам. Вздрагивал от каждого шороха. Огрызок подбросил дров в огонь. Пошел к палатке. И, накинув на плечи телогрейку, сказал жестко:
— Я не сявка тебе! Дышать захочешь, отобьешься! А я — спать пойду. Стремачить тебя — мне без понту! Сам свою вонючку паси! — и, прихватив топор, полез на елку, лохматую, густую. Там, устроившись под хвойными лапами, решил дождаться утра. Когда волки, поняв бесполезность, сами уйдут от елки. О напарнике Кузьма не думал.
Генька тем временем решил последовать примеру Огрызка. Да и как без дров поддержать огонь?
Подтянувшись, он взобрался повыше и сел под самыми ногами Кузьмы. Костер угасал. Волки, окружив ель, расселись, разлеглись под деревом, высматривая, принюхиваясь к запаху людей, надеясь, что холод иль сон свалят их с дерева. И тогда…
Скулят, повизгивают голодные волчицы. А тут еще этот запах живой крови. Держит стаю, словно в капкане, не отпускает ни на шаг. Но запах — не кровь. Им сыт не будешь. А добыча, как назло, слишком высоко забралась. Ни согнать, ни достать, ни сожрать невозможно.
Генька устроился на прочной лапе, прижался спиной к стволу. Кузьма расположился сразу на двух лапах ели. И на всякий случай, сняв веревку с брюк, привязал себя к стволу, чтобы, задремав, не свалиться. Костер еще не погас. Но волки уже не боялись огня. Словно знали: не решатся люди подойти к нему. А уж коли насмелятся, не минуют зубов вожака.
— Слушай, Огрызок, мать твою, ну почему тот зверюга не на тебя, а на меня кинулся? Почему к тебе не подступились волки? Ведь ты лежал, валялся, а я стоял? — спросил стопорило.
— Иди в хварью! Зверюги больше твоего мозги имеют. Секут, кому на свете мало дышать осталось. С того и начинают. Ты, пидер, их клыков не минешь. Разнесут в клочья. Не сегодня, так завтра. У них в «малине» своя разборка. Падлу за версту узнают, хоть и звери.
— Жадность меня подвела! Будь я проклят! Больше не лажанусь, кент! Век свободы не видать, если фраернусь на чем! Не поминай! Кто старое вспомянет, тому — глаз вон! Давай дышать, как раньше!
Огрызок молчал. Но не сидеть же здесь до утра. Ведь примерзнуть можно. Или свалиться. Кузьма не отвечал.
— Гоноришься? Западло со мною быть? Но по одному не уцелеть! Застопорят зверюги. Давай слиняем отсюда имеете. Уж потом разберемся, — предлагал Генька.
Огрызок словно не слышал.
— Фраер ты, Кузька! Как в «малине» дышал, коль такой смурной? У нас в Одессе кенты сговорчивей.
— Захлопнись ты, гнида, со своей Одессой! Не то заеду по кентелю ходулей, похиляешь волкам про Одессу трандеть!
Генька втянул голову в плечи. Понимал — перебирать нельзя. Но и сидеть, как пидеру на жердочке, не хотелось. Затекли ноги. Немела мерзнущая спина.
Но, глянув вниз, понимал: об удобстве думать не время. Под елкой собралось почти три десятка волков. Им Генька — на один зуб. Пикнуть не успеет. Сожрут вмиг.
Но сидеть молча одессит не умел. И, едва поменяв позу, заговорил снова.
— Вот когда я своим — скажу, как от зверюг на елке приморился, до уссачки вся. Одесса хохотать станет. А главное, проверят, не откушены ль муди? Без них никак не можно возвращаться. Там, на Дерибасовской, скажу тебе, такие девочки по вечерам гуляют, что и голова, и головка закружится.
— Конечно, пойду. Теперь уж и «клубничка» подросла, пока я в ходке парился. Не девочки — цимес! — причмокнул Генька. На этот звук волчица внизу зубами клацнула. Взвыла просяще. — Во, стерва, меня у целой Одессы отнять хочет! Старая паскуда!
— Ты не вякай много! Держись. Не то эта старая лишит радости твоих блядешек и разнесет по кочкам всю твою вонищу! — предупредил Огрызок и добавил: — Силы береги. До утра их много потребуется. Не раскидывай, дурак, на ветер. Второй раз спасать тебя не стану.
Генька пытался молчать, но не удавалось. Вся его натура противилась тишине. И он снова заговорил:
— Однажды мы банк взяли. У себя в Одессе. В тишине. Молча. Как и полагалось. Хороший навар сняли. И слиняли бы без шухеру, если б не Угрюмый. Он, падла, через шнобель усрался. Как чхнул, все овчарки пришмаляли. И накрыли… Не всех, конечно. Многие успели на сквозняк. А нас троих — за задницы. Чтоб не чхали, покуда не смылись. Так вот Угрюмому в камере нос отхреначили. За провал. Чтоб шнобель затыкал, прежде чем в дело срываться.
— Падлы! Вы ж его пометили, как «мухой». Куда ж с таким мурлом нарисуется? Всякий лягавый узнает. А дышать как? — возмутился Огрызок.
— Его разборка выперла с «малины». Он с ходки слинял. Через год. А потом я с ним увиделся. Здесь уже, на Колыме. Но ему пришили — хрен усекешь, что не родной. У какого-то грузина лишнее отсобачили, а Угрюмому приштопали. Так он теперь не то что чхать, дышать боится, когда в дело ходит. Потому что лопух. А я знаю, где можно трехать, где нет.
— Заткнулся б, — не выдержал Кузьма.
— Слушай, я тут в смолу сел. Не то что прилип, кажись, насмерть примерз, — пожаловался Генька.
— Теперь не дергайся. До утра терпи.
— Так я со шкурой гут останусь!
— Ну и хрен с тобой. Нарастет, — начал злиться Кузьма.
Костер внизу давно погас. И волки, чтобы согреться, играли друг с другом, иные лежали рядом, бок о бок, положив морду на голову иль шею собрата. Они не теряли надежду. Изредка, задрав морды, смотрели вверх па людей. Поскуливали и не уходили.
— Вот если б мы с тобой вот так из ходки смылись. Хрен бы к нам охрана прихиляла. Вон сколько сявок внизу. Разнесли бы и псов, и лягавых. Всех схавали б. Глядишь, нас пасти не стали б, — мечтал Генька вслух. Ночь выдалась на редкость глухая и холодная. Кузьма завязал потуже на груди узел веревки и даже посапывал. А Генька, чтобы не задремать, нес всякую околесицу, вспоминал прошлое.
Кузьма вначале слушал его, а потом уснул, забыв о полках, о Геньке. Стопорило не сразу приметил, что Огрызок спит. Но даже это не остановило его болтовни.
— Ты знаешь, Кузьма, когда-то в зоне мы считали самым страшным наказанием — отсидку в шизо. Да ты, наверное, сам не раз побывал в нем. Параша под шнобелем, кенты вповалку на цементном полу. За весь день — пайка хлеба и кружка кипятка. Ни глотка свежего воздуха. Баланда — раз в неделю. Так вот теперь я бы с руками и ногами туда запросился! Это ж рай! Лежи себе — сколько хочешь! И ни одна падла ничего не вякнет, ни снизу, ни сбоку. То-то и оно, что человек, попадая в ситуацию, всегда сравнивает ее с прежней, которую считал самой страшной. А, оказывается, бывает и хуже! Как теперь! Вот и пойми, где предел человечьих возможностей, где конец страданий? Наверное, все решает усталость. Она отмеряет силы. А кончились они и ничто не мило. Слышь? Даже рыжуха без понту. Как мне теперь? Что в ней, коль не жизнь, а смерть мою ж тут зверюги. И я — один. Никому не нужен. Ни себе, пи тебе. Лишь волкам. От них не откупиться ничем…
Генька глянул вниз. Приметил, что волков под елью стало меньше. Да и те, застрявшие, уже не лежали на земле. Стояли, прислушивались, принюхивались.
Одессит вскоре услышал далекое мурлыканье оленей. Была ль это упряжка или табун, кто знает? Но вскоре и остальные волки, оглядев елку, взвыв напоследок, убежали на голоса оленей.
Генька, увидев, что под елкой не осталось ни одного зверя, толкнул Кузьму.
— Эй, Огрызок! Зверюги слиняли! Оленей почуяли. Давай и мы вниз. Может, не вернется стая сегодня.
Оба мужика не слезли, свалились с елки. И враз принялись за дрова и костер. Разожгли его, небольшой, но жаркий. Вырубили по рогатине на всякий случай и запаслись дровами до утра, вскипятили чайник, поели. И, решив не рисковать, не пошли спать в палатку, остались у костра, дежуря попеременно.
Под утро, когда блеклый серый рассвет проклюнул небо, к костру вернулись лишь трое старых волков. Видно, им не досталось добычи. Впалые бока их обвисли. Звери смотрели на людей, но не решались подойти ближе, напасть. Видели, понимали: жратва им здесь не обломится. Силы неравные. Волки, осознавая собственную старость, никогда не кинутся в единоборство, очертя голову, даже при самом жестком приступе голода. Звери всегда умеют ценить собственную жизнь выше сытости пуза.
Волки залегли поблизости от палатки — в кустах багульника, карауля человеческую неосторожность или неосведомленность. Но время шло, а люди от костра не отходили.
— Слушай, Огрызок! Давай сегодня же слиняем отсюда в поселок. Оставаться больше нельзя. Новая стая припрется — горя не собрать! — предложил Генька.
— А ты мне кто? Пахан иль бугор? Чего тут хавало открыл? Теперь светло! Хиляй — на все четыре. Я тебе не сявка! Впристяжку не сорвусь. Шуруй налегке! Рыжуху я себе беру. Как ночью трехал. Обязанником ты, мне без понта. Считай — откупился. Никто не держит тебя — срывайся, — ответил Кузьма.
— Ты что? Рехнулся? Меня без доли оставляешь? — не поверилось в услышанное стопориле.
Кузьма глянул на него исподлобья. Ухватился за рогатину.
— Что ж, хрен с тобой! Подавись ты моим положняком, — сник одессит и уже не говорил об уходе. Взял лоток, лопату, молча собрался на отвал. И в это время услышал шум со стороны дороги, ведущей к поселку.
Генька глянул и онемел. Из машин выскочили солдаты. Рассыпавшиеся в цепь, с автоматами наизготовку, они спешили к палатке.
— Огрызок! Глянь, падла! Облава! Видать, кенты с зоны смылись! Шмонают кузнечики всех! — сказал хрипло стопорило.
Следом за солдатами шли трое мужчин в штатском. Спешили, перескакивая с кочки на кочку, огибали кусты.
У Геньки все внутри оборвалось. И только Кузьма не успел испугаться, спокойно сидел у костра, прикопав для надежности рыжуху толстым слоем пепла.
— Встать! — заорал на него офицер, подоспевший с цепью.
— Иди в жопу! Чего тебе из-под меня потребовалось? — не встал Огрызок.
К этому времени подошли трое в штатском. В одном из них Кузьма узнал милиционера, постоянного сопровождающего представителя прииска.
— Он самый! — сказал милиционер, кивнув на Кузьму одному из попутчиков.
— Взять его! — приказал тот солдатам. И Огрызка тут же сбили с ног, нацепили наручники.
— Проверить палатку!
— За что? — изумлялся Огрызок, не понимая происходящего.
— Ишь, наивность! Он не знает! — возмутился милиционер и добавил злобно: — А кто грозился представителю прииска убийством и осуществил угрозу?
— Чего? Да вы съехали с катушек! Зачем мне его убивать? — не верилось Кузьме в услышанное.
— Знамо за что! Золотишко вам, гадам, мозги сушит! Отняли золото, человека убили. И думали, что никто не вспомнит, чем грозился ему, за что сидел?
— Да я всю ночь на елке сидел. От волков там канал. Целая стая тут была! — оправдывался Огрызок.
— Вы вечером отлучались из палатки вместе с напарником? — внезапно обратился человек, огорошивший Кузьму, к одесситу.
Стопорило, слышавший весь разговор, сделал вид, что вспоминает. И, глянув на Кузьму, ответил:
— Напарник отлучался. До утра его не было. А когда вернулся — под утро, вон у костра в пепел что-то закопал, когда вас увидел. Огрызок кинулся к одесситу. Но его тут же сбили с ног.
Из пепла выкопали золото. И сложив его аккуратно в портфель, трое мужиков остались побеседовать с одесситом. А Кузьму солдаты погнали к машине, подталкивая прикладами автоматов и кулаками.
Огрызок не понимал, сон это или явь. Он шел спотыкаясь, падая. Кто-то из солдат нес его саквояж, время от времени тузя им Кузьму по спине:
— Поторапливайся, шваль!
Огрызок ждал, что Геньку вместе с ним повезут в машине в тюрьму. Но нет. Трое мужиков, вернувшись от палатки, влезли в кузов, крикнули водителю:
— Пошел! — и машина, взяв с места на скорости, миновав поселок, направилась в Магадан.
— Чтоб тебе живьем не выбраться в свою Одессу! Чтоб тебя зверье разнесло средь бела дня! Будь ты проклят, козел! — стонала душа Огрызка при виде уходящей из-под колес свободы.
Огрызка везли в Магадан под охраной десятка солдат, как отпетого убийцу. И Кузьма, помня прошлое, уже ни на что не надеялся. Клял Геньку, знакомство и встречу со стопорилой, отплатившем ему, Кузьме, черной неблагодарностью за все доброе.
«Пусть бы волки, еще вчера, схавали тебя, гада, вместе с рыжухой! Зачем я вмешался, не дал им разборку довести до конца, чтоб самому снова загреметь в ходку? И опять ни за что».
Его втолкнули в одиночную камеру. Саквояж с вещами оставил у себя на время следователь для тщательной проверки.
Огрызок, не успевший порадоваться свободе, упал на шконку, утешив себя тем, что нет в камере волков, не клацают они зубами под шконкой, не надо ему привязывать себя веревкой к стволу, чтоб не свалиться с дерева. А уж если в знаменитых одесских «малинах» пригрелись такие, как Генька, то кой понт от фарта? Лучше век фраером кантоваться.
«Ну для чего я дышу? Уж лучше б под обвалом накрылся, чем по липе в ходку греметь. Да файно, если в зону! Могут и в расход пустить за рыжуху», — вспомнилось предупрежденье Чубчика и вмиг пропал сон…
Кузьма ворочался с боку на бок. Все обдумывал, что предпринять? Камеру он давно проверил. Шанса на побег отсюда ему не оставили.
Все решетки и прутья были прочными, надежно закреплены, заварены. Перестучавшись с соседями, понял, что тюрьма охраняется очень строго. Есть свой овчарник. И линять отсюда уже пять лет никому не удавалось. Кузьме хотелось курить. Но все папиросы остались в палатке и теперь ими воспользуется Генька. От этой мысли Огрызка со шконки будто ветром сдуло. Стало до слез обидно. Ведь мог ногой долбануть по башке. И слетел бы тот стопорило к волкам на ужин в одну секунду.
— Ну, почему пожалел? Зачем оставил дышать падлу? Теперь бы не приморили, не припутали. А нынче свидетеля на свою беду оставил, — саданул себя по колену так, что подскочил от боли.
— Эй, мудило! Следователь вызывает! — гаркнул внезапно охранник от двери.
Кузьма, войдя в кабинет, решил не отвечать на вопросы следователя. Не ждал для себя ничего, кроме провокаций, крика, оскорблений. Следователь, указав рукой на стул, предложил Кузьме присесть и спросил внезапно:
— Когда вы ушли от Чубчика?
— Обвал меня выкурил. Сам бы не умотался, — а про себя подумал: «Пронюхал, гад! Ну только при чем здесь Чубчик? Он — откольник! Это любая собака в Сеймчане подтвердит. К чему он про него завелся, задрыга?»
А следователь, глянув на Кузьму, сделал запись в протоколе допроса и попросил — не потребовал:
— Расскажите, как познакомились с одесситом, откуда взялось золото у костра, как вы провели ту, последнюю ночь?
Огрызок рассказал все. О золоте и волках, о том, как чудом остался жив в ту ночь, как по дури спас своего врага от неминучей смерти.
— Это верно, грозил я приемщику ноги с жопы вырвать. Но и он в долгу не остался. Обещал в тюрягу законопатить до самой смерти. Но все треп! Не мокрушничал я никогда. И если бы умел — угробил бы Геньку, чтоб не оставлять свидетеля и врага. Он, пропадлина, обвел вас вокруг параши. Он рыжуху умыкнул, какую в варенье притырил. Свою и мою — ее там хватает. А чтобы поверили, вякнул вам о той, что в пепле была. Глаза ею втер. Отмазался, по-нашему. Теперь — в Одессе рассекает. По Дерибасовской. А проверяющего, век свободы не видать, если темню, ни он, ни я в глаза не видели.
— На елке сидели? Но чем это можно доказать?
— Там еще веревка моя осталась. От штанов. Я ей портки подвязывал, чтоб не спадали. А тут сгодилась — к стволу прикипелся. Так и просидел ночь, как баруха на чужом наваре, — забылся Кузьма.
Следователь улыбнулся и спросил:
— А куда вы собирались податься после той ночи? Неужели все-таки в Одессу?
— Нет. В Одессу я не мылился. Хотел смотаться с Колымы, а уж там, на материке, определиться.
— А почему не на прииск?
— Боюсь я его. После обвала страх появился. Не смогу под землей вкалывать, — сознался Кузьма.
— Ну, а в Оху? Там, как говорит Силантий, без доли в жизни не остались бы.
Огрызок вспотел. Он и не подозревал, что следователь знает и о старике.
— Здоровье подвело. Да и кому нужны калеки. А я из больницы чуть живой вышел. От такого навару нет, а насмешки мне — западло.
— Скажите, Кузьма, а вот если вас отпустили бы на волю, куда б подались?
— В кабак! Нажрался б до усеру! Я уже два месяца хлеба живого во рту не держал! И курево! Его я своими руками заработал. В саквояже — две пачки папирос. Хоть их верните мне!
— Конечно, конечно, — пообещал следователь.
— Я знаю, не видеть мне больше воли! А все оттого что надо на кого-то повесить убийство приемщика. И никому нет дела до того, что я не угрохал его. И не могу темнить, будто мой напарник, хоть он и стопорило и паскуда, замокрил фраера! Зачем? Чтоб оттянуть время? Да мы не видели его два дня! Зато нас накрыли тут же. Потому что судимые! Кого ж еще подозревать? И если, расстреляв меня, лет через пять найдете настоящего убийцу, вас, отправивших меня на тот свет, судить за ошибку будет некому. Потому что ваша биография — чиста. А совесть… Ее никому не видно. Вы и сами о ней не вспоминаете. Ни к чему. За нее вам зарплату не платят. А вот жизнями за ошибки рассчитываться мы уже привыкли. Потому не верим вам. И я, и все, кто хоть раз побывал в ходке, — внезапно для себя разговорился Огрызок. И устыдившись собственной болтливости, умолк так же внезапно, как разоткровенничался.
— Вы не во всем правы. Если бы было так просто отправить человека под расстрел, не проверялись бы десятки версий.
— А чего эти проверки стоят? — отмахнулся Кузьма и добавил: — Теперь очные ставки с Генькой начнете проводить. Все это старо. Он отмоется…
— Не надо, Кузьма. Не с кем ставки проводить. Нет вашего напарника. Нет в живых…
— Волки? — спросил Огрызок. И добавил, смеясь: — Все ж достали пидера! Так ему и надо.
— Не знаю пока. Одно налицо. Его гибель и приемщика, как две капли воды, похожи друг на друга.
— Да кто ж стопорилу замокрить сумеет?
— Не знаю, — удивленно качал головою следователь.
— А рыжуху тоже увели? — полюбопытствовал Кузьма.
— Золота нет.
— Но ведь меня там уже не было!
— Знаю! Потому и сказал вам о случившемся, — признался следователь.
— Ну, ваш приемщик всегда рисовался с мусорами. Один не шлялся. А вот Геньку никто не пас, — вырвалось у Кузьмы.
— Все это мы уже обдумали. Но в том-то и дело, что именно в тот день приемщик один работал. Правда, был вооружен. Но оружием то ли не успел, то ли не думал воспользоваться. Значит, смерть его в любом случае была внезапной, как и у Геннадия. Имел рогатину, топор, опыт наконец. И не защитился. Значит, кто-то из знакомых. Старых. От кого не ждал беды.
— Да кто к нему прихиляет? Сколько мы с ним вкалывали вместе, ни одна харя не возникла! — вспомнил Огрызок. И спросил: — А почему вы про Чубчика спросили? Откуда узнали о нем?
— Письмо его в вашем саквояже нашли. Заклеенное. Видно, не читал. А зря! Там для вас много полезного. Если бы прочли, не пошли в старатели. Мы с Александром говорили о вас. И с Валентиной. Хорошая семья. О вас хорошо отозвались. Грудью защищали вас. Оба. Готовы в дом принять обратно. В семью. Насовсем. Па правах младшего брата. Под расписку — на поруки. Нынче такое отношение к чужому — редкость. Письмо мы изучили, провели работу по нему. Теперь вы его заберите. Нам оно уже не нужно. А вам может пригодиться. Завтра, при одном условии, мы отпускаем вас на волю. Хотя… Вы знаете за собою вину
— подготовка к хищению золота. Она была. И, естественно, такое не должно оставаться без наказания. Но, учитывая чистосердечное признание и раскаяние, мы поверим вам. И я, лично от себя, попросил бы вас помочь нам в этом запутанном деле с двумя убийствами. Так сказать, пониманьем за пониманье ответить, — предложил следователь.
— А как? Чем я помогу? — растерялся Огрызок, не сразу сообразив, что от него хотят.
— Если я попрошу вернуться туда, откуда вас взяли?
— Э-э, пет! Туда сам хиляй. Ишь, чего выдумал, приморить заживо! Сам волкам сраку подставь и посмотри, что от нее к утру останется? Я всю ночь на елке канал.
— Так нет. Не в палатке жить. В отвале вам землянку устроим. И дрова будут. Продуктами обеспечим.
— А кого на хвост прицепите?
— Навещать будем. А жить и работать одному придется.
— Так пока землянку устроите, снег ляжет. Кой дурак-старатель в такое время вкалывает?
— До зимы еще недели три. А землянку и прочее за пару дней сделаем. Долго вы там не задержитесь.
— На живца меня хотите? — прищурился Кузьма.
— Услуга за услугу, — не отвел глаза следователь.
— Почему ж меня посылаете?
— Вы — вне подозрений. Свой! Другому не поверят. А нам убийцу найти надо.
— Так ведь и меня ухлопать могут, — то ли согласился, то ли отказывался Огрызок.
— Нет. Мы следить будем.
— А если откажусь?
— Не договоримся — дело ваше в суд пойдет. За попытку хищения и вывоза золота. Не скрою, срок по этой статье предусмотрен немалый. Кстати, судимость не первая. Так что смотрите, решайте сами.
— Если сговоримся, дадите бумагу, что я свободный?
— Отправляясь, получите на руки все свои документы, словно ничего не было, — пообещал следователь. И Кузьма, поверив ему, согласился рискнуть. Через три дня его на машине отвезли на прежнее место. Вернули весь инструмент, документы, саквояж с вещами и, проинструктировав на все случаи жизни, следователь сказал:
— Вздумаешь сбежать — найдем. Ну, а чтобы спокойнее жилось — возьмите нож. В ход его лишь в крайнем случае пустите. Когда другого выхода не будет.
— Заметано, — ответил Огрызок, не оглядываясь, и пошел к землянке.
В этот день он не ходил на отвал. Топил печурку, наслаждался свободой, теплом и одиночеством. Когда стемнело, Кузьма зажег свечу и, вспомнив о письме Чубчика, достал его: «Не злись на меня, Кузьма. Хотя я сам понимаю, что лажанулся перед тобой, как последняя сволочь. Но это — в прошлом. Им я и сам наказан. За все. Разом! Ведь отколовшись от фарта и кентов, навсегда завязав с этим, я никогда не уйду от памяти. Она — мое наказанье, хуже любого клейма. А потому, даже теперь, ночами, во снах, я все еще остаюсь фартовым. Хожу в дела, линяю от лягавых, махаюсь с кентами на разборках, канаю по ходкам от холода на шконках. Сколько раз во сне мокрили меня, и я ожмурял кого-то! Просыпался, как малахольный! В ужасе, что это случится наяву. Сколько раз я видел во сне свою могилу и стопорилу, прикончившего лишь за то, что отвалил от фарта! Черные сны, они, как прошлое — тенью идут за мною всюду следом. Но не только они, есть кое-что пострашнее. Имея семью, я уже никогда не стану отцом. Опоздал. Да и неспособен, не должен им стать. Променяв все на навары, живу без права на собственное продолженье. Как пахан без пацанов, «малина» без общака. Неспособным назвали врачи. Недостойным — сам себя. Горько это осознать. Но ведь фортуна — не баруха, ей не стемнишь. Да и чему я научил бы сына? Фарту? Кто смог бы назвать отцом вора? Нет, Кузьма! Доли и навары, куши и барыши мы снимаем с самих себя. И платим слишком высокую цену за всякую прошлую удачу. Они нам костью в глотке до гроба стоят. Не всяк в том признается, не каждому дано понять, за что судьбою наказан. А сказать это самому себе никто не насмелился. Все оттого что, осознав прожитое, дальше жить не хочется. Ибо и в завтрашнем дне прощенья не жди за прошлое.
Ты сейчас скалишься? Мол, свихнулся Чубчик. Мозги поморозил? Либо чифиру перебрал! Нет, Кузьма! Я в полном ажуре. Я как тот фраер, что после болезни тяжкой думает: для чего ж дышать остался? И жил ли до выздоровленья? Я б многое нынче отдал, чтоб начать заново, стерев, выдрав, вытравив из себя память прошлого. Поймешь ли ты меня? Я не фалую тебя в откол. Не зову! Я там, на трассе, понял, что такое — пахота, когда нас, законников, заставили прокладывать Колымку. На пятидесятиградусном, с ветром, по пояс в снегу или в болоте. Без жратвы. Под автоматами и матом охраны — мы гибли пачками, платя за всякую удачу и навар — единственным — жизнями.
Нас, подыхающих, не хоронили, оставляли на хамовку зверью и подгоняли, чтоб шустрили для тех, кого пригонят в зоны завтра, после нас. Сколько раз слезла кожа с ладоней, а кровь намерзала на кирках и ломах — того не счесть! Сколько раз обмораживались и простывали! Казалось, смерть была бы более мягким приговором, чем такая жизнь. Да что я тебе говорю? Ты и сам все это испытал. И пойми, я устал от всего! Ведь, уходя в ходку, мы всякий раз линяем из жизни. А она не бесконечна, а до смешного коротка. Мы поздно это понимаем. А и доперев, не сознаемся, что дышим впустую. Что сняв навар с кого-то, сперли у себя…
Такое признают, лишь когда в изголовье стремачит последнее — надгробный крест. Вот тогда мы колемся, если есть кому из своих. И я такое слышал… Видно, потому, что перед смертью человеку хочется очиститься. Чтобы на тот свет вернуться прежним, без прошлого, без черных слов.
Не скалься, Кузьма! Я не сказал еще главного. Мне сама судьба подарила Валентину. И неизвестно, кто кого из нас спасал, удержал в этой жизни. Но то, что не оттолкнула, не отвернулась, приняла не за башли, назвала своим не за удачу, разглядела во мне остатки человеческого и сумела понять, хотя и баба, не побрезговала и нынче мучается без упрека, на такое шмары не способны.
Я — не подарок! И тогда вытащил из сугроба не для спасенья. Обшмонал. Искал башли. На дорогу. Надыбал сотенную, слинять хотел. Да Силантий вспомнился некстати. На халяву меня спас. Вернулся и я. За свое спасенье отплатить судьбе добром решил. Она за это наградила сторицей. И я, теперь уж под шабаш, дышу человеком. Знаю, что нужен. А такое мужику, как сердце, необходимо. Но тебе это — не усечь. А когда допрет, хрен воротишь годы. Помни, Кузьма, всякий фартовый, прежде чем врезать дуба, все понимает. Но… Поздно…
Теперь ты вольный, Кузьма. Колыма живым оставила. Видно, не без понту. Кончай в Огрызках мориться. Расти в мужика. А чтоб прошлое не мучило — дыши с мозгами! Файнее — по имени. Каким нарекли. Впрочем, у всякого своя судьба. За прошлое — не держи на меня булыжник за пазухой. С меня и за тебя судьба сняла свой навар. И не раз… Если будет нужда во мне — возникай. Где нашарить — учить не надо. Я при Колыме навечно. В добровольных стремачах кантуюсь. Без приговоров. И дай мне, Господи, забыть о них! И тебе…»
Кузьма несколько раз перечитал письмо. Все думал, вспоминал, вздыхал… И вдруг явно представил, как перед самым освобождением разговорились мужики барака о жизни.
Огрызку казалось, что всю бригаду он знает, как свои пять пальцев. Но в тот вечер раскрылось в них то человеческое тепло, которое прятали они друг от друга усиленно, чтобы не раздражать, легче перенести беду без воспоминаний о воле. А они нахлынули вместе с письмами из дома.
— Мои пишут, что картоха уродилась хорошая. В зиму корову купят. С молоком заживут. И меня собираются встретить только своими харчами. Ничего купленного в сельмаге! Нешто такое бывает? Дожить бы, — мечтал один из мужиков.
— А у меня дочка учителкой стала! Детей пошла грамоте обучать. Первый год. Грамотная! Институт одолела. Не то, что мы, темнота! — поделился другой.
— Мне крестный пишет, что нашу хибару, где мы с матерью жили, снесли, взамен ее квартиру дали двухкомнатную. С горячей и холодной водой, с паровым отоплением, с ванной и газом! И мать теперь при полном комфорте живет! Только меня, дурака, не хватает ей. Все плачет…
— Тебя еще и крестили? Чем? Небось, дубиной по башке? — посмеялся кто-то с нар.
— Иди ты в задницу! Я — не ты! Сюда влип по доносу. Человеком жил! За все годы никого не обидел. С самого детства. Не зря меня повитуха на пряники выманила, — рассмеялся человек, работавший до зоны прорабом на стройке.
— Как это — на пряники повитуха выманила? — не понял Кузьма.
— Да просто. Я родился в самый лютый холод. Больницы не работали. Мать дома меня рожала. Без врача. А я, как на грех, не головой к свету, подобно другим, боком развернулся. И хоть плачь, не хотел на свет вылезать. Тогда повитуха, бабка, которая меня принимала, разложила на табуретке всякое угощенье понемногу, поставила перед тем местом, откуда я вылезти должен, и давай выманивать. Но я не дурак. Затих и все тут.
— Бутылку забыли выставить? — грохнул кто-то.
— А я — непьющий! Потому на бутылку не полез. Бабка игрушки положила. Без толку! Тогда соседка принесла пряники. Положила их бабка и позвала меня: «Выходи, голубок, чайку с пряничками отведаешь». И помогло! Ожил, развернулся, как положено, и мигом выскочил. Так эти пряники я и теперь уважаю. Глазированные, на меду, они цветами, летом пахнут даже среди
зимы. Их мне мать напечет своими руками, когда с Колымы домой вернусь, — вздохнул человек.
Домой… О возвращении к семьям, детям мечтали втихаря все зэки зоны. Каждого ждали и любили. Всем писали письма, слали посылки. И только Кузьму никто не ждал. Он даже самому себе не был нужен.
Будто по ошибке появившийся на свет, он в тот вечер долго слушал тех, с кем многие годы работал на прииске.
— Интересно, а на что блядей выманивают на свет? — захохотал здоровенный рыжий литовец, которого в бараке все звали Полторабатька.
— Уж не знаю, на что сучек выманивают, а вот мне повитуха точно судьбу определила. Все угадала. Даже Колыму. Но сказала, что вернусь и успею нажить троих детей. А старость доживу в мире и покое, — говорил прораб…
Но не угадала повитуха. Умер человек. От цинги. Не дождалась его мать. Не увидела внуков.
Кузьма от цинги чудом спасся. Пил мочу свою, как научили его фартовые, пережившие на Колыме не одну ходку. Они помогли ему дожить до воли. «А для чего? Кому я в радость? Ведь ни кола, ни двора! Никто не ждет! Зачем я выживаю?» — не раз давался диву Огрызок.
— Вот и теперь… Стопорилу кто-то грохнул. А уж как мечтал об Одессе, — подскочил Огрызок, услышав какую-то возню за землянкой. Кузьма держал дверь на крючке и выглянул в оконце. В кромешной темноте увидел сверкнувшие глаза волка. Тот, почувствовав близость человека, отскочил от землянки. Ждал или караулил кого-то в глухой ночи…
ГЛАВА 4
Кузьма знал: волки обычно не подходят к человеческому жилью по осени, когда могут нагнать добычу. Лишь по жестоким холодам, доведенные до отчаянья голодом, стаи забывают об осторожности. Но и тогда не решаются объявляться столь явно. Обкладывают в кольцо лишь старого или больного человека или зверя, которому на земле мало осталось жить. Звери особо остро чувствуют запах близкой смерти и убирают слабого. «Видно, недолго дышать осталось, коль зверюги пасти начали», — дрогнул Кузьма сердцем и выглянул в оконце.
Волчьих глаз он не увидел. Зато услышал какое-то странное шуршание. Словно за стенами землянки решил поселиться по соседству кто-то из обитателей Колымы и усердно роет себе берлогу или логово. Кузьма затаил дыханье, прислушался. Но нет, наверное, показалось. В отвале ни звука. Глухая, черная тишина, как в могиле, наваливалась на землянку. И Огрызок вспомнил разговор со следователем перед самым отъездом сюда.
— Помните, Кузьма, убийца тот не заявится к вам сразу — в первые дни. Он подождет, пока наберете золота. С пустыми руками вы ему не нужны. Это подтвердили два прежних случая. Кстати, не исключено, что вы его знаете, может, вместе отбывали срок в зоне.
— А чего ж овчарок на след не пустите? — удивился Кузьма.
— Сколько раз пытались! Бесполезно! Хитер, как бестия.
— Сами следы видели?
— Нет! На месте убийства полнейшая имитация нападений волчьих стай. И мы бы поверили безоговорочно. Но… А куда делось золото? Его не оказалось. Кстати, не осталось даже тех банок с вареньем. Все до единой будто сквозь землю провалились.
— Да, зверью рыжуха без понта, это — верняк.
У них покуда ни «малин», ни общака не водится, — усмехнулся Огрызок.
— Получается, что кто-то за вами постоянно следил. И знал все. Даже о заначках, — насторожился следователь.
Кузьма задумался. И спросил напрямую:
— А из зон не линял какой-нибудь мокрушник? Иль на волю кто из них вышел?
— В бегах на сегодня шестеро преступников числятся. Четверо, по всем подсчетам, не смогли бы добраться сюда. Далековато. А вот двое — вполне реально…
— Кто они?
— Один по кличке Красавчик. Вор в законе. Из той зоны, где вы отбывали срок. Второй, Баркас, тоже вор в законе, но стал им уже в зоне. О Красавчике дошли сведения, что он задержан. Его не сегодня-завтра доставят из Хабаровска. Он ли это — увидим. А вот Баркас нигде не обнаружен. По отзывам администрации — свирепый человек, на все способный. И на убийство.
— Если он в законе, то уже не мокрушник. Это честным ворам — западло. Они фартовые! Стремачить не станут никого. И ожмурять за навар не будут. Зачем засвечивать самого себя? Да и грех на душу взять не захотят…
— О чем вы, Кузьма? Да если б фартовые боялись греха, в зонах не творился бы беспредел! Нынешние законники — не те, что раньше! О каком грехе и чести? Они ничего не признают! И убивают, и насилуют, и фискалят!
— Ну уж, кончай трандеть! — подскочил Огрызок, вспыхнув от возмущения.
— Думайте, где находитесь! А врать мне ни к чему! Одно общее дело делаем! Я не настраиваю вас специально. Но у меня масса подтверждений сказанному. Не приведись вам убедиться в том. Но и тем более помочь должны, чтобы не позорили свои ж «малины» и законы. Да и тех, оставшихся могикан, не порочили. Кстати, тот самый Баркас в зоне педерастией увлекался. Имел подружек среди обиженников.
— Ну и что? А кто пидермонов миновал, просидев в ходке годы? Это не западло! — вступился Кузьма за законника.
— Он у пахана подружку увел. За это поножовщина началась. И если бы не сбежал, прирезали б его законники.
— Обычное дело! Такое чуть не каждую неделю случалось в бараке. Обиженников на всех не хватает. Вот и махаются из-за каждой жопы. Она на воле — говно, а в зоне — кайф, — отмахнулся Огрызок.
Вернувшись на отвал, Кузьма бегло оглядел место, где еще совсем недавно жил в палатке вместе с Генькой.
Заметил, что с елки исчезла веревка, которой Огрызок привязывался в стволу.
«Кто ее снял? Уж конечно не одессит. Возможно следователь, а может…» По совести признаться, Кузьма не верил в убийство приемщика и стопорилы. Считал эту версию следователя бредовой фантазией трусливого человека. И был больше чем уверен, что обоих разорвали волки, и все тут. А золото взяли те, кто первыми обнаружили человечьи останки. Не захотелось им возвращать рыжуху, вот и подкинули темнуху. Не зря ж Кузьма спросил у следователя:
— А если ко мне никто не возникнет, отпустите на волю или в зону кинете?
— Вы свое выполните. И через три недели расстанемся навсегда, — пообещал тот твердо.
Огрызок уже ложился спать, когда вновь услышал какой-то шорох. Словно кто-то делал подкоп в землянку Кузьмы, рассчитывал погреться на халяву. Но через минуту все стихло, угомонилось, замерло.
Кузьма спал чутко. Слышал всякий звук и шорох снаружи, каждый голос. Вот лиса мышкует на отвале. А это — целая стая волков за зайцем гонится. Настигла. Косой от их зубов человечьим дитем кричит — отпугивает. Но от стаи любой крик — не защита. Сожрали вместе с костями, не оставив ни шерстинки, ни голоса.
Зима скоро… Роет в отвале нору огневка. Торопится. Скоро белые мухи полетят. Скует землю холодом, тогда уж не вырыть нору. А без нее в стужу попробуй выжить.
Там, подальше от отвалов, в сотне метров олений вожак отбивается от вожака волчьей стаи. Табун защищает. Каждую важенку. Волки не могут подступиться. Табун в кольцо сомкнулся — рога выставил. А вожаки меж
собой силами меряются. То волк взвоет, то вожак табуна хоркает сердито. Знать, задел клыками серый рогатого.
Совсем рядом синичка сонно вскрикнула. Кто ее потревожил?
Птица эта осторожная. Ее ни звери, ни птахи не обижают. Видно, жалеют за малый рост, неприметную окраску и слабый голос — нежный, грустный, лишь иногда озорной.
«Кто вспугнул? Человек? Лишь его боится эта птаха. Иные ей не страшны», — прислушивался Кузьма, подойдя к оконцу. Но ни шагов, ни дыхания человека не различил в ночи.
Огрызок до утра несколько раз вскакивал с топчана. Слушал ночь. Но она минула спокойно.
Огрызок сам себе не хотел сознаваться, что боится умирать от руки убийцы, как сам считал, придуманного следователем. Но подсознание не хотело подчиняться голосу разума, и вздрагивал он от каждого шороха и шелеста. Утром Кузьма проснулся поздно, с тяжелой, словно с похмелья, головой. Вскрыв банку тушенки, проглотил ее не разогрев. Решил сначала обойти то место, где, по словам следователя, был убит одессит Генька. «Посмотрю сам, как накрылся стопорило. Небось, файнее допру, кто его замокрил. Иначе пахать на отвале замучаюсь, от всякого хорька ссу. Да и на хрен та рыжуха, за какую медяки дают, как пацану», — вспомнил Огрызок и побрел туда, где еще недавно стояла палатка.
Кузьма вырубил для уверенности рогатину и, не выпуская из рук ее и топор, оглядывал место недавней стоянки, как придирчивый хозяин, помнящий каждую мелочь.
Вот тут стояла палатка. Следы от кольев совсем затоптаны. Сколько людей здесь побывало — не счесть! И собаки… Когтями рвали мох от ярости и бессилия. Волки этого не сделают в том месте, где стерегут добычу. Да и следы от когтей не звериные. Мелкие, слабые. Около ели тоже все утоптано. У костра побывали многие. «Но стопорила замокрен между костром и елкой, посередине, так вякал следователь. Но что он в этом волокет?» — усмехнулся Огрызок и пошел к кустам багульника, окружавшим поляну.
Тут тоже побывали. Но Огрызок всматривался в каждую ветку, каждый сучок. «Мусора и есть мусора! Вам только блядей шарить по притонам! Мокрушника взять — слабо!» — ругался Огрызок, вглядываясь в грубый почерк работы следствия.
И хотя расследованием убийств и хищением золота занимается прокуратура, это Кузьма знал, но убедился, что и она не поверила милиции в ее версию и, видимо, повела расследование совсем иначе, не согласовывая и не доверяя своих планов милиции, способной лишь испортить весь ход следствия.
Прокуратура не имеет служебных собак. На знакомство с местом происшествия не приезжает полным составом. Не носится по месту происшествия, как сявка на шухере. Не теряет по кустам форменных пуговиц. И никогда не приезжают следователи на ознакомление с местом происшествия в мундирах. Не заведено у них такое. Стараются остаться незаметными. Так легче в работе… И главное, это знали все воры: прокуратурские предпочитают носить обувь на сплошной подошве. Милиция — на обрезном каблуке. Следы, оставленные ею, были похожи па следы зэков, обутых в форменные ботинки с каблуком. Отличие, конечно, было. Но о нем знал далеко не каждый работник милиции. Разницу можно было увидеть лишь на сырой земле, где отпечатки следов обуви видны были четко.
Здесь, около багульника, рос мох. На нем все следы приглушены. Вот тут опять прошла милиция. Окурок папиросы «Беломорканал». Зэки их не курят. Лишь через три-четыре месяца после зоны привыкают к ним освободившиеся. Иные до конца жизни курят махорку, скручивая ее в газетные клочки аккуратно и докуривая до самой плешки, пока губы не обожжет. Здесь же папироса наполовину брошена.
«А это что?» — нагнулся Огрызок под куст. Там что-то яркое сверкнуло.
Кузьма поднял расческу. Обычную пластмассовую, с недостающими зубцами. Огрызок повернул расческу. И вздрогнул. На красной пластмассе прочел нацарапанное гвоздем — Баркас… И сразу стало неуютно и холодно. Кузьма спрятал расческу в боковой карман. Вернулся в землянку. Уж как не хотелось ему поверить в правоту следователя об убийствах. Но теперь сомнения отпали. Отчего-то дрожь пошла по всему телу. Мелкая, противная, как навязчивая болезнь, от которой не так-то просто избавиться.
С час сидел у печурки, клацая зубами. Все себя успокаивал, убеждал: «Ну, поработал кент. Снял свой навар. И уж давно дал сквозняк на материк. Рыжухи у него навалом. Если пофартит смыться, до конца жизни королем дышать станет. Какой дурак, сняв навар, останется тут? Для чего? Ждать, пока лягавые за жопу возьмут? Тем более старательский сезон окончен. Дышать негде. А зима вот-вот. Окочуриться на морозе с рыжухой дюже паскудно. Теперь, верно, валяется где-нибудь на пляже — кверху воронкой! Вокруг шалавы всякие вьются стаями. Они денежных мужиков за версту чуют. Вмиг отогреют. В ресторанах, в жарких постелях. За рыжуху любую закадрит», — усмехнулся Огрызок, позавидовав удаче зэка, которого никогда в лицо не видел и ничего не слышал о нем в зоне: — «Рыжуха всюду тропинку пробьет. Простыл его след. Напрасно здесь его ищут. Лягавые всегда опаздывают. Вот и здесь. Все вытоптали, а расческу так и не нашли. Хотя попади она им в руки, что изменилось бы? Поймать фартового на Колыме не так-то просто. К тому ж, видать, тертый ферт, коль сумел Геньку за- мокрить, стопорилу! Теперь за себя и за него — рассекает море, пропадлина! А меня тут приморили. Что сявку на параше», — думал Кузьма, собираясь на отвал.
В этот день он работал часа три. Не больше. До сумерек надо было многое успеть — наносить воды, нарубить дров побольше. И Кузьма, управившись, сварил суп из концентратов, кашу.
«Вот черт! Совсем забыл, что я опять на свободе! Могу есть, спать сколько захочу. И ни одна вошь меня не точит. Никто за рыжухой не прихиляет. Не ботнет, много иль мало намыл! И никакая лярва рядом не ноет про Одессу». Кузьма, нагрев воды, помылся из тазика и сам себя стал потчевать, приговаривая ласково:
— Кушай, свинота, рыло паскудное! Жри хоть задницей эти концы в
сраку. Их добровольно даже голодные волки хавать отказались бы, чтоб требухи не испортить. Ну, а ты не гордый. Жри! В зоне и такого не видал даже по праздникам. Говном давился. Это чуть лучше пахнет. Трескай! Другие и тому были б до беспамятства рады! Вот, заварки чая полно. Чифира на бригаду заделать можно! Отчего ж не смастрячить, — он заварил в банке крутое пойло и, сделав глоток, прилег на топчан.
В голове легкое круженье появилось. Кузьма ловил кайф, как вдруг услышал, что кто-то скребется в оконце.
Огрызок приподнял голову и увидел в стекле лицо Геньки. Одессит усмехался, злобно оскалив зубы. Лицо белее снега. Подбородок трясется то ли от радости, то ли от страха. Вот он поманил Огрызка пальцем. А, может, дверь попросил открыть.
У Кузьмы волосы дыбом встали. Хотел обматерить недавнего напарника, но слова застряли в зубах, их не протолкнуть, не выплюнуть. Язык будто разучился говорить. Сухим сучком во рту дрыном встал. Хотел показать стопориле отмерянное по локоть, но руки не слушались, повисли, как плети. Огрызок замычал, захрипел несусветное. Генька исчез, захохотав так громко, что его смех еще долго слышался в землянке.
Кузьма сунулся головой в ведро с водою. Пришел в себя. Глянул в окно. Там пусто. Никого…
«Отвык от чифира. Перебрал. Не иначе. Вот и привиделось всякое», — матюгнулся Огрызок. И снова услышал шуршанье за стеной. Он грохнул кулаком по бревну, шорох прекратился, и через десяток минут Огрызок спал крепким сном.
Утром Кузьма припер колом дверь землянки, пошел на отвал. Промывал породу, ковырялся в отвале и чувствовал, будто кто-то следит за каждым его шагом и движением.
Огрызок резко огляделся. Но нет. Вокруг никого. Все пусто. Но ощущение слежки не исчезло. Кузьма оглядывался исподволь. Но ничего подозрительного. Даже одинокие волки не шмыгали за кустами багульника поодаль.
Ни тени, ни звука вокруг. Казалось, что в большой Колыме единственной человеческой теплинкой остался один Кузьма. Никто не навещал и не интересовался им. Все разом забыли. И человек, будто отбывая срок, к которому сам себя приговорил, молча, без жалоб, влачил свой крест, добывая золото, давно не нужное ему.
Кому он копил эти блестящие крупицы, кого хотел порадовать? Он работал, чтоб не сойти с ума от безделья, собственной незначимости.
В обед Огрызок пошел к землянке, чтобы пропихнуть в себя банку тушенки и, запив ее горячим чаем, снова взяться за работу до самых сумерек. У землянки он остановился удивленно. Кол, которым припер дверь, валялся рядом.
Кузьма хорошо помнил, что он плотно подогнал его под дверь. Знал, что никакой зверь не смог бы вышибить его.
Неприятный осадок от увиденного вконец испортил и без того нерадужное настроение. Когда вошел в землянку, понял, тут кто-то побывал. Со стола исчезла банка тушенки, поубавилось махорки в мешочке над печкой, недоставало двух пачек чаю.
Кузьма заглянул под топчан. Там никого. В землянке пусто. Ни записки с извиненьем, ничего взамен взятого.
— Ограбили, как последнего фраера! Меня! Кто сам любого возьмет на
гоп-стоп! Ну, нашмонаю щипача! Кентель в жопу воткну! — рявкнул так, что стены землянки дрогнули. И, взбешенный открытой насмешкой и хамством вора, решил поймать его, выследить, пусть на это потребуется вся ночь… Кузьма двинул дверь плечом, вывалился наружу злее волка и, суча кулаками, разглядывал землю возле землянки. На ней, высохшей от холодов, ничего не разглядел. И, забыв об обеде, насыпал около порога слой сырой земли и пошел на отвал, даже не оглянувшись.
Вернулся в сумерках. Сразу увидел, что в землянку никто не входил. Кузьма, управившись с водой и дровами, теперь сам прислушивался, когда зашуршит за стеной? Уж он найдет, как снять навар с непрошеного соседа за откровенный грабеж.
«Кто б ты ни был, Баркас или Красавчик, вломлю так, на катушки не поднимешься до конца! Я покажу, как меня чистить!» — грозил Огрызок неведомому вору.
В этот вечер он раньше обычного погасил свечу и тихо сидел у двери, прислушиваясь к голосам и звукам, ожидая шагов человечьих. Но напрасно… «Ничего, на банке тушенки долго не продышишь. Нарисуешься. А я тебя тут и накрою!» — не торопился покидать землянку Огрызок.
Ему не хотелось идти сегодня на отвалы. Ненастная дождливая погода, начавшаяся с ночи, усиливалась пронизывающим ветром, крепчавшим с каждой минутой.
Кузьма прильнул к оконцу. Унылая серость мари навевала тоску. И ему так хотелось поскорее покинуть эти места, забыть их, выбросить из памяти. Ведь есть на земле другие края, с городами, веселыми людьми. Где-то сыщется место и для него…
Огрызок глянул в сторону ели, где когда-то спасался от волков. Ему показалось, что там промелькнул человек. Кузьма мигом выскочил из землянки, погнался за тем, кого считал вором. И решил проучить того так, чтобы до конца жизни отбить охоту трясти его, Огрызка.
Он не шел, не бежал — скакал через кочки оленем так, что дух захватывало. Он мчался, подгоняемый злобой и местью. Боялся упустить из вида. Человек не сразу услышал, что его заметили и нагоняют. Когда он понял, было уже поздно. Огрызок находился в десятке метров.
Мужик сиганул в сторону багульника и запетлял меж кустов зайцем. Он был моложе и крепче Кузьмы. Но, увидев ярость в лице нагонявшего, понял: того нынче не одолеть.
— Стой, падла! Застопори, козел! Не слиняешь, паскуда! Накрою! Тогда замокрю без жали! — орал Кузьма.
Но человек убегал. Вот он споткнулся о корень сосны, упал плашмя. Заорал от боли, сжался в комок. Кузьма налетел на него.
— Уйди, Кузьма! Дурак ты! — услышал Огрызок, едва съездил ворюге кулаком по физиономии.
— Откуда знаешь, кто я?
— Давай отсюда быстрей! Нам нельзя быть рядом.
— Кончай трандеть, Баркас! Деваться тебе некуда! Уж я с тебя, курвы, шкуру сниму, как пить дать! — схватил за ворот и, сдавив в ком вместе с одеждой, тряхнул так, что у пойманного искры из глаз посыпались.
— Огрызок, сволочь, тварь! — вырывался мужик.
— Я тебе, чувырло подлое, зенки вышибу в сраку за тушенку и чай. Махорку располовинил, еще и говняешь, мудило облезлое! — тянулся к горлу Кузьма.
— Я — не Баркас! Я твоя охрана! — едва успел защититься мужик.
— Чего? — разжались пальцы Кузьмы.
— Охрана твоя!
— Хороша охрана, что чистит и трясет мою хамовку!
— Свое кончилось.
— Чего ж, не спрося, увел?
— Нельзя нам видеться. Так приказано. Вместе быть запрещено! — вырвался мужик из-под Кузьмы.
— Кем запрещено?
— Следствием. Кем еще? Уходи! Не ломай их планов.
— Стой! Не темни, гнида! Я тебя сличу! — поймал мужика резко. И, достав из кармана расческу, глянул на волосы, застрявшие в ней, и на голову мужика. Они были точь-в-точь.
— Охрана, ботаешь? А это что? — показал расческу. Пойманный смотрел непонимающе, удивленно.
— Твоя?
Мужик полез в карман. Достал из него мелкозубую железную расческу, показал Огрызку.
— У меня своя. Больше полжизни ею пользуюсь. Пластмассу не признаю. От нее лысеют быстро. А у нас край холодный. Лысым да плешивым тяжело приходится. И у меня на расческе волос не остается. Кстати, дай мне эту находку, я ее следователю передам, — протянул он руку.
— Иди-ка ты, — все еще не верил Кузьма. И спросил: — Если ты и впрямь охрана, зачем линял от меня? Почему прячешься?
— Когда увидел твою перекошенную морду, думал, меня вместо тушенки сожрешь. Хуже волчьей! Ну и свиреп Огрызок! А прячусь, чтоб Баркас нас вместе не приметил. Он может меня знать. Так вот, чтобы не спугнуть его.
— Хреновый с тебя стремач. Уж не знаю, кто ты есть, но шестерка с тебя, как из катяха пуля! Слабак! Если я тебя сшиб, как будешь махаться с Баркасом? Он вон каких лбов уложил! Тебя кинет через кентель и готов! — рассмеялся Кузьма.
Мужика слова Огрызка задели за живое.
— Я знал, кто ты есть! Иначе не успел бы пикнуть, — ответил ледяным, суровым тоном, заметно побледнев.
— Ветра в поле мы с тобой стремачим. Слинял Баркас. Как два пальца…
— Молчи. Тут он. Не повезло ему уйти. Обложили со всех сторон. Как зверя. Не исчезнет. Иди к себе. Быстро. И не ищи меня. Я у тебя под боком. Но о том молчок. Уходи, — не попросил, приказал жестко. И не дожидаясь, когда уйдет Огрызок, пошел через кусты напролом. Прочь от Кузьмы. И вскоре словно испарился. Ни человека, ни шагов.
Кузьма шел к землянке, сетуя, что не узнал даже имени, не спросил, где живет, не предложил продуктов.
«Эх, совсем озверел, хмырь болотный. Скоро от человечьего языка вовсе отвыкну. Забыл, как самому приходилось. А ведь надо бы помочь. Но как?»— думал Огрызок. И вспомнил уверенность человека в словах о Баркасе: — «Может, видел его? Да вякнуть стопорится, ждет, когда тот, паскуда, выйдет на меня».
На ночь Огрызок закинул дверь на крючок. Долго сидел у печки, раздумывая. Ему так надоело быть наживкой в руках следователя Тихомирова, которого он невзлюбил с самого начала. И, обдумав, решил поутру слинять на материк, пока жив, покуда Баркас не прикончил его.
«Уж если Геньку замокрил, от меня и копыт не оставит. Что толку от фраеров? На них надежа, как на худую одежу. Сорвусь посветлу, пока хватятся, далеко буду. Ксивы при мне, малость рыжухи имеется, продышу покуда. Следчие мне не хевра, не кенты!» — решил Кузьма. И, покидав в саквояж вонючее барахлишко, сунул гуда несколько банок тушенки, горсть оставшихся сухарей, последнюю пачку махорки.
«Коль поймают, вякну, что больше, чем на две недели, не фаловался», — успокоил себя Огрызок.
Он, может, не ждал бы утра: его сдерживали волки, появлявшиеся здесь по ночам. Их на кулак не подцепишь. А и воровской феней «на понял» не возьмешь. Не смыслит в ней зверь. Потому боялся Кузьма высовываться по ночам из землянки. И если б не волчьи стаи, сегодня сбежал бы с Колымы. Огрызок, наевшись от пуза, лег спать в хорошем настроении. Около двери, у самого порога, стоял наготове саквояж. Кузьма подмаргивал ему. А потом и уснул: тихо, как уставший путник, положив под щеку ладонь. Сюда, в землянку, не доносились голоса снаружи, не слышался вой волков. Ничто не могло нарушить сон. И человек, решившийся на уход, уставший от страха и бед, спокойно спал. Он уже простился с отвалом, землянкой. И душой был далеко от этих унылых опостылевших мест. Он давно и прочно ненавидел их.
Уйти отсюда, стать по-настоящему свободным человеком, спокойно спать — к этому Огрызок стремился всей своей сутью.
Он спал, открыв в блаженной улыбке рот. Смачный храп вырывался из горла Кузьмы, оглушал землянку.
Может это, а скорее, отступившая усталость, подарили в ту ночь глубокий сон, помешавший услышать пургу, разыгравшуюся снаружи.
Она сорвалась с неба назло мечте человека и за считанные часы не просто
выбелила землю снегом, а намела целые сугробы, утопив в них отвал и землянку, деревья и кочки, занесла, заморозила ручьи и речки. Никого не пощадила. И под утро, увидев плоды своих трудов, взвыла от радости.
Удалось ей загнать в ловушки всех живых. Вон человек — век из своей норы не вылезет теперь. Дверь землянки наружу открывалась. Попробуй ее отвори, коль сугробом подперла ее пурга.
Самому нынче не спастись. Заживо занесла непогодь. А и помочь некому. Кто откопает? Кому нужен? От смерти или от жизни. Теперь и крючок ни к чему. Сугроб лучше любого запора. Надежней сотни сторожей. Его лопатой не сдвинешь, а уж слабым человечьим рукам справиться с ним и вовсе не под силу. Не то что дверь подпер сугроб, а и на крышу землянки навалился плечом. Словно прикорнул на ней на время зимы. Или спрятал человечье жилье от зверей и врагов. От всех разом.
Словно спутала плутовка зима мужика с медведем, который по неопытности иль по старости забыл, что по холодам ему пора залечь в спячку — в берлогу до самой весны.
Кузьма проснулся внезапно от оглохшей тишины, поселившейся в каждом углу землянки. Темнота удивила. В оконце не пробился ни одни луч света. Огрызок чиркнул спичкой. Увидел окно, занесенное снегом. Не поверил глазам. Снял крючок с двери. Попытался открыть, но дверь даже не дрогнула.
Кузьма похолодел от ужаса. Он понял, что оказался в плену у Колымы надолго, быть может — навсегда.
— Эх, старое чувырло! Ночи сдрейфил, зверюг и темноты! Теперь канай, как в могиле. Нет бы слинять во время! Забил бы хрен на Тихомирова, гулял бы себе на воле. А нынче ожмуришься, как последний фраер. И ни единая падла тебя не вспомнит! — ругал себя Огрызок, беспомощно суча кулаками. Побегав по землянке, он лег на топчан. Но сон не шел к нему. Мозг словно воспалился. И вдруг вспомнил, заколотился в стену, за которой всегда шуршало.
— Эй, ты! Ходячая параша. Все дрыхнешь? Черт тебя в задницу раздери! А ну! Выкапывай меня из снега! Иль не видишь, что и до ветру выйти не могу. Я не фаловался пахать на вас до погибели! Сдыхайте сами! Хиляй наружу! Да выколупывай меня шустрей! Не то, когда выберусь да встречу, ходули вырву из жопы — спички вставлю взамен, — грозился Кузьма отчаянно.
Но за стеной никто не отозвался. Ни шороха, ни звука не услышал Огрызок в ответ.
— Шлангом прикидываешься? Мумусу себе корчишь? Коль ты в мои стремачи подрядился, давай, вкалывай! Не то разворочаю стену, мурло на жопу поверну паскуде вонючей! Шустри, пропадлина! — орал Огрызок, злясь на тишину. И прислушивался. Ждал ответа. Не уловив ни звука, принимался базлать с новой силой.
Уж чего только не наобещал он своему соседу. Как ни грозил ему. Бранил последними словами, исчерпал всю феню. Обещал с живого шкуру снять. Раскидать его по кускам зверюгам. Но и это не подействовало. И тогда, обессилев вконец, Огрызок умолк, решив обдумать, как выкрутиться самому из внезапной беды, свалившейся на его голову вместе с пургой. Огрызок готов был отметелить самого себя за то, что так бездумно оставил снаружи лопату и топор, пилу и кайло. Теперь бы они пригодились. А голыми руками не одолеть напасть.
Кузьма зажег огарок свечи, огляделся по углам. Нет, ничего не осталось в зимовье, что помогло бы вырваться наружу.
Он только теперь осознал все. Охапка дров, чайник воды да несколько банок тушенки. На них долго не протянешь.
«Как быть?» — озирался Кузьма и чувствовал, как знакомый холод страха вновь леденит душу.
Ничего не осталось в землянке. Даже ведро с водой выставлял наружу. Единственный нож. Но здесь он так же беспомощен и бесполезен, как жизнь…
За стеной ни шороха. А Кузьме невтерпеж. Так хочется перекинуться словом. Пусть отматерит сосед, но хоть почувствовать рядом живую душу.
— Эй ты, козел долбанный. Вякни что-нибудь! — просил Огрызок. Но в ответ ни слова: — Чего ссышь? Пас никто не услышит. Никому мы не надобны! Ни одна «малина» не достанет! Ботай что-нибудь. Ну хоть бы про жисть засратую трехай. Ведь по вашей указке приморился я тут, как на погосте! — и самому стало страшно от жуткой правды, высказанной невзначай.
Огрызок прислушивался к звукам до звона в голове. Но за стеной все было тихо.
Знай бы Кузьма, что его сосед, не желая больше брать харчи у Огрызка, вечером уехал в Магадан, сошел бы с ума от горя. Тот успел уйти от пурги. И, пройдя до трассы, вскоре остановил машину, проголосовав у обочины. Он намеревался вернуться утром.
Огрызок о том и не подозревал. Он верил, что сосед, сказавшись охраной, обязательно пробьется к нему, вытащит, поможет. Но тот был далеко. Кузьма, выплеснув всю ярость на огложенную стену землянки, снова лег на топчан.
«А может, пурга его доконала? Или размазал его Баркас? Но если б так, давно б ко мне возник, паскуда. А что, коль зверюги схавали козла? Вот
дела! Стремачил фартового, а сам влип на зубы волчьи», — передернуло Кузьму.
Огрызок попытался растопить печку, но трубу, видно, тоже занесло и дым пошел в землянку.
«Мать твою! Вот непруха прицепилась, куда ни сунься, всюду дерьмо!» — злился Огрызок. И, съев банку тушенки, глотнул воды из чайника. Достал пачку махорки из собранного в путь саквояжа. Закурил. На душе потеплело: «А что если выдавить стекло в окне? Это и вода, и выход наружу. Вот только не пролезть мне в него. Маловато. Не проскользну. А и снег растопить не на чем. Трубу забило. Сосульки иль снег жрать не будешь». Кузьма решил настрогать лучин. Они дадут пусть неяркий, но свет и хоть какое-то тепло. Ведь не замерзать же заживо. И Огрызок, ловко орудуя ножом, вскоре зажег лучину, она трещала, освещая темные углы, отстреливала смолистые искры. От лучины шло едва ощутимое тепло.
Огрызок убеждал себя, что через пару дней его придут спасать, обязательно откопают. Не дадут пропасть. Ведь он здесь оказался не по своей воле, а по просьбе Тихомирова…
«Пару дней перекантуюсь! И не такое видывал. Зато когда нарисуется следчий, я с него за муки свой навар сорву!» — мечтал Огрызок. Он укрылся телогрейкой. И, глядя на догорающую лучину, вскоре уснул. Сколько он спал и сам не знал. Счет времени был давно потерян. Общение с внешним миром оборвалось. Пока была еда и лучины, Огрызок не унывал. Он ждал и верил в чудо спасенья. Но едва кончилась последняя банка тушенки, забеспокоился.
Да и то сказать правду, тянул, сколько мог. Не распуская пузо. И воду из
чайника цедил по глотку. Кузьма и сам не заметил, как понемногу начал слабеть. Постоянное недоедание и холод быстро подточили силы. Огрызок старался их беречь, а они таяли. Сколько времени прошло с момента невольного заточения, Кузьма не знал. Лишь дрожащие ноги подсказали, что прошло немало времени. И мужик уже не вставал с топчана. Да и к чему? Для чего, если ни еды, ни воды, ни спичек не осталось. Лишь крохи тепла, которые так трудно сберечь под старой замусоленной телогрейкой.
Просыпаясь, он удивлялся, что все еще жив. И проклинал судьбу свою за то, что, выпустив на волю, поставила на пути западню.
Он проваливался в сон. Временами. Видел себя на морском пляже, о котором так много мечтал и рассказывал Генька. Вот только чужое солнце не грело Огрызка. Ветер леденил тело. И вода в море казалась студенной. Кузьма жалел потраченных денег и времени. А просыпаясь, все хотел вернуться обратно в сон. И возвращался. В холодный барак на обледенелую шконку, на рудник, пронизанный ветром. В неволю. Но там он жил. Ожиданьем и надеждой. Не был одинок. Он верил во что-то. Здесь у него и этого не осталось. Кузьма понял, что о нем забыли. Его предали и бросили. Впрочем, так случалось в жизни Огрызка всегда.
Прошло еще время. Другой бы давно забыл родное имя. Кузьма еще дышал. Плохо различая, где он и что с ним, он потерял грань между сном и явью. А потому не понял случившегося, не поверил в реальность и лишь приподнял голову на яркий свет, брызнувший из отворившейся двери.
— Живой, мудило? — спросил незнакомый мужик, стоя на пороге.
Кузьма подумал, что видит хороший сон и поспешил к пего вернуться. Но тут же услышал:
— Ты что? Съехал на колган? Тыква отказала вконец? Я тебя живо на катушки поставлю! Иль на халяву я тут мудохался, выкапывал тебя? А ну, шустри, вскакивай на мослы! — тряхнул гость за плечо настырно. Огрызок глаза вылупил. Понес несусветное про нечистую силу со свиным рылом. Гость долго не слушал, схватил Кузьму за шиворот, тряхнул, выволок из землянки, воткнул головой в снег, чтобы мозги на место встали. И, выдернув из сугроба за загривок, впихнул обратно в землянку.
Вскоре и печь согрелась. Гость нарубил полный угол дров. Принес снега, растопил его, вскипятил чайник. Выйдя из землянки, собрал с куста шиповника горсть уцелевших ягод, заложил их в кипяток, потом тряхнул рябину. Подобрав несколько гроздей, тоже в чайник бросил.
— Похавать у тебя не водится? — оглядел землянку. И развязав рюкзак, достал несколько сухарей, махорку, спички: — Мурло отмой. И за печкой следи, чтоб не погасла. Сухари хавай. Я скоро буду, — пообещал и ушел, словно приснился.
Только цепочка следов осталась от него. Кто он? Даже имени не назвал. Вырвал из могилы, не ожидая благодарности.
Огрызок, нацедив настой из чайника, за сухари схватился. Размачивал их, ел жадно. Запихивал в рот каждую крошку, упавшую на стол ненароком. А через пару часов, когда поверивший в свое спасенье Кузьма уже поел все сухари, напившись настоя, сидел умытым у печки, в землянку вернулся гость.
— Во, дышим! Глянь сюда! Какую зверюгу замокрил! Рогатого! В сугробе припутал! Саданул пером и готов! Пойду остальное перенесу. Чтоб было что хавать, — сбросил половину лосиной туши. И, оглядев Кузьму, скомандовал: — Не канай падлой! Заделай мясо! — а сам ушел, торопясь, чтобы волки не сожрали остатки туши.
Кузьма, пыхтя, разрезал мясо на куски. Мыл его. Складывал в котелок, поднял на печку и распалил ее докрасна.
Пока мясо варилось, Огрызок едва выволок из снега лопату и кайло. Только тут он удивился. Чем же гость откопал землянку? И, оглядев узкий проход, понял, что снег пробивался ножом, широким и длинным, как у бойцов на бойне. Но чтобы орудовать им, нужна недюжинная сила. «Вон какие глыбы снега вырезал да выворачивал. С таким лучше не залупаться. Норовист, гад. Тыкву в задницу шутя вгонит», — дрогнул Огрызок. И понял, что наведался к нему не иначе, как фартовый. Кузьма вернулся в землянку. Там уже одуряющий запах мяса кружил голову. Мужик сглотнул слюну, глянул в кипящий котелок. Трудно ждать. Но что поделаешь?
Кружилась голова. Дрожали руки, ноги. Но вернувшийся гость не хотел замечать человечью слабость.
— Хиляй сюда! — позвал Кузьму. И отстегнув от пояса фляжку, подал Огрызку.
— Не пью! — отвернулся тот.
— Мудак! Это не водяра. Водись она у меня, не носил бы на поясе. На груди берег бы, чтоб грела нутро! Тут кровь лосиная. Теплая еще. Пей, хмырь болотный. Она силы вернет.
Огрызок жадно вцепился во фляжку. Пил густую солоноватую кровь. Торопился.
— Не спеши! Твое это! Я уже — от пуза! Тут тебе, чтоб добро не пропало! — смеялся гость. И, выложив сварившееся мясо на стол, заложил в котелок новую порцию: — Хавай, паскуда! Чтоб в пару дней на ходулях держался крепко. И похиляем отсюда! Покуда живы!
— Куда? — спросил Огрызок.
— На волю! К своим! Вот только дельце одно провернем. А там ищи ветра в поле, — хохотал уверенно. И, глянув на Кузьму, удивленно уставившегося на него, продолжил: — Иль не слышал про меня? Баркас я! Слинял из тюряги! Давно бы на материк смылся, да дело имею. Оно и приморило меня здесь. Кой с кем рассчитаться надо. Угольками калеными, а уж потом срываться но холодку. Усек?
— А кто должник? — полюбопытствовал Кузьма.
— Да есть один фраер! В зоне вместе кантовались. Кентом своим его держал. Отмазывал от лягавых. Гревом делился. Он раньше меня на волю смылся. Обещал в «малину» взять. Чтоб честь по чести. Я ему слинять помог. А он, пидер, мозги просрал. Слово забыл. И опаскудил честь фартовую. В «малину» не возник. Застрял, как падла, здесь, на Колыме!
Женился на лягавой! Секешь, Огрызок? Законников облажал! Не просто фраернулся!
— По мне хрен с ним! Лишь бы своих не закладывал, не высвечивал «малины», — отмахнулся Кузьма, сообразив, о ком идет речь.
— В том-то и дело: высветил! И расколол. Да не одного! Ссучился, падлюка! Меня накрыть хотел! Но не обломилась лафа! От меня он нигде не денется! Надыбаю и в руднике! Прикнокаю за все.
Огрызок, засомневавшись, головой качал.
— Я не один из зоны смылся. Ну и к нему. А он… Лягавых натравил!
— Чубчик не такой, — не поверил Кузьма.
— И ты его знаешь?
— Я в его «малине» с пацанов дышал. Как маму родную, пахана знаю. Натемнили тебе на него! Липа все! Не сука он! — распалился Кузьма.
— Красавчика накрыли с его помощью. Только Чубчик знал, куда тот хиляет. И вывел мусоров на след. Они и попутали. Размазали кента в ментовке.
— Откуда знаешь? — не поверил Огрызок.
— Я уже четыре раза в Магадане был. Виделся с ворами. Они и трекнули: мол, крышка Красавчику, угробили лягавые.
— Ты что? Обязанником ему был?
— Да! Его последнее слово передали мне — найти Чубчика, зажился, падла, на свете.
— Может, Красавчик сам фраернулся? — не верил Огрызок.
— С хрена ли? Слинявший с ходки зла не принесет. Ему и надо-то было скорее на материк. И почти слинял, да попутали, — вздохнул гость.
— А что ты с Чубчика хочешь?
— Не я, ты его загробишь! Усек? Но так, чтоб знал за что.
— Я? Нет, не могу! Чубчик — мой пахан. Да и я не мокрушник. Не доводилось мне! Нет! Да и с чего?
— Захлопнись, гнида! Иль валяешь в дурку? Так секи, со мной цирк не пройдет. Я тебя не на халяву из сугроба выгреб. Обязанник ты мне! Допер? И не отмажешься вовек, — глянул в глаза Огрызка жестко, зло.
— А самому слабо справиться? — не выдержал Кузьма.
— Мне к нему тропинки заказаны. Пасут мусора за всяким кустом. Пытался его накрыть. Чуть не влип.
— Линял бы на материк без приключений. Себе спокойнее. Пока не схомутали по-новой в зону.
— Чубчик, падла, и тут сработал. Раньше я мог смотаться. Но теперь — нет. Обложили, как волка в логове. Капканами. А я на халяву не желаю сдыхать. Так и кружили нынче — кто кого объегорит. Он с лягавой кодлой, а я — один…
Огрызок сидел, понурив голову. Кусок мяса в горло не лез. Ему не надо объяснять, кто такой — обязанник. Этого он опасался всю свою жизнь. В зоне устерегся. А тут, на воле, влип… Он знал, что за свое спасенье он стал верным и послушным псом Баркаса. До самой смерти. Фартовые даром не спасают. Знал, что отказаться не имеет права. А по законам «малины» он теперь должен делать все, что прикажет Баркас. Откажись, и тот убьет Огрызка на месте, казнит самой мучительной, долгой смертью. И никто не вступится за него.
Огрызок вспомнил о следователе. И отматерил его в душе за то, что не пришел на помощь. Забыл. Видно, поверил, что сбежал Баркас на материк. И, забрав соседа, даже не предупредил Кузьму, что оставляет на отвалах одного.
— За мной уже давно охотятся. Пасут не только мусора. Не один Чубчик меня подвел. Твоего напарника тоже пришлось пришить не с добра. А ведь не хотел я его гробить. Вынудил, гад! Пришлось потрафить. Но уж и говно он был редкое! Проигрался в рамса под чистую. Все продул. А средь ночи решил на меня с пером наехать. Жаль стало проигранной рыжухи. О колгане не вспомнил, который в обязанники заложил. Я ему и напомнил. Чтоб и в жмурах не забывал, не проссывал мозги.
— Ты его тоже на Чубчика фаловал? — спросил Кузьма.
— Не только! Коль башку проиграл, обязан был выполнять мое слово! А коль вздумал избавиться, я ему помог.
— А почему ты проверяющего угрохал?
— Этот гад пушку не хотел подарить. Раздумывал долго. А мне ждать некогда. Уговаривать не умею. Ломанул по черепку и гуляй, Вася! Пушку взял и сквозняк дал. Кружил всюду.
— А чего к Чубчику враз не заявился?
— У тебя с колганом непорядок, ты придурок иль прикидываешься? Да ведь к Чубчику на прииск попасть не всяк может.
— А почему на прииск? Он же, как я слышал, в поселке живет. И его менты не пасут.
— Своя лягашка под боком! — прервал Баркас и продолжил: — Придти туда можно. Да остаться незамеченным нельзя. Враз засекут. А и смыться оттуда тяжко. Сам же Чубчик из дома ни на шаг. Один никуда нос не высовывает. А уж сколько сил положил, чтоб из хазы его вытащить, — проговорился Баркас.
— Отчего ж враз не на меня, на Геньку вышел? Чего не нарисовался к нам, когда в палатке оба канали?
— Он — фартовый. К тому же тебя замели в тот день, когда я вас приметил.
— А замели из-за тебя. Твое на меня повесили. Жмура проверяющего. Не тебя, меня сгребли! — вспомнил Огрызок. И вмиг решил, что ничем не обязан он Баркасу. Наоборот, тот ему — за передышку от погони.
— Два дня даю тебе. А дальше — срываемся. Долго тянуть не станем. Уложи Чубчика и валяй на все четыре. А нет — тебя не станет. Как и стопорилы. Некому будет помочь. И слинять не пофартит. Всюду достану, — пообещал, улыбаясь, Баркас.
Огрызок молчал. Он понимал, что сегодня нет у него сил постоять за себя. Но ведь именно из-за Баркаса перенес он кучу неприятностей. Оказался здесь и чуть не сдох из-за него.
Вспоминая пережитое, Кузьма чувствовал, как приливает к сердцу злоба, лютая, черная.
Да, Баркас помог. Но для чего? Чтоб вместо себя сунуть на верную смерть. Если он, Огрызок, убьет Чубчика, его приговорят к расстрелу, либо дадут такой срок, что о свободе и мечтать разучишься. Но главное, как убить? Ведь Чубчик одним пальцем его, Кузьму, размажет в карьере. Да и не сможет он на пахана поднять руку. А значит, Баркас все равно убьет его, Огрызка. Гость сидел у печки и, казалось, дремал. Кузьма осторожно встал, пошел к столу.
— Чего ты шаришь там, задрыга? — увидел в руке Кузьмы нож. И в один прыжок оказавшись рядом, вырвал его из рук Огрызка: — Балуешь?!
— Мяса хотел отрезать, — соврал Кузьма. Баркас вывернул куски мяса на стол.
— Хавай! А перо не тронь!
Кузьма едва сдерживался. И поневоле ловил себя на том, что прислушивается к звукам за стеной.
Несколько раз ему показалось, что кто-то стукнул в стену плечом. Но ни крика, ни голоса не донеслось.
Кузьма, наевшись досыта, улегся на топчане, решив обдумать, как поступить теперь со своим гостем. А тот, долго не раздумывая, нарубил еловых лап, набросал их на полу землянки толстым слоем, подкинул в печку побольше дров и улегся ближе к теплу. Вскоре его разморило. Расслабился Баркас, общенья захотел. И заговорил через губу, с ленцой:
— Вот ты, Огрызок, знаешь, отчего тебе не фартит? Оттого что дергаешься, нет надежных кентов. Приморился ты в «малине» Чубчика. А он — падла! Тебя из-за этого в закон не возьмут долго. Потому что пахан твой — ломанутый. А кто знает, какой фортель ты отколешь?
— Я сам не с каждым в дело пойду. Не пацан. Секу, с кем кентоваться. В зоне не опаскудился. На воле и подавно. А вот ты — фраернулся не раз. Закон фартовый нарушил. Законник не должен мокрить без нужды. А ты двоих ни за хрен угрохал. Особо Геньку! Пусть он и говно, но не тебе с ним разборку чинить. У него свой пахан был. Да и со мной — не по фартовому… Геньку ты угробил, а попутали меня. Значит, не я, а ты мне должник. И за то, что выкопал, ни хрена я тебе не должен.
— Чего? — послышался рев от печки. И Баркас, раскорячась, вскочил с пола: — Ты туг чего ботал? — надавил кулаком на грудь Кузьмы.
Огрызок хотел ответить злое, едкое. Но нестерпимая боль отняла всякое желание к разговору.
— Еще раз такое вякнешь, размажу по стене, как мандавошку! Доперло до тебя, козел? — тряхнул Кузьму так, что у того чуть зубы не выскочили: — Я тебе не дам скурвиться! Не мечтай! Вот мое слово выполни, дальше к кому хочешь хиляй. И без того не мечтай дышать.
— Мне б самому до утра не сдохнуть, — закашлялся Огрызок.
— О! Такие, как ты, долго небо коптят!
Кузьма в ту ночь долго слушал рассказы Баркаса о крутых удачных делах, дерзких «малинах», верных кентах.
Не скрыл гость, как горько пришлось ему в ходке. Рассказал, сколько терпел от охраны, оперативников, от пахана барака.
— Я влип в барак, где враз четыре пахана «малин» тянули ходки. Оно с одним не все кентуются, тут же и вовсе дело швах. Что ни день — разборки, трамбовки, никакого покоя. Опера из барака не выметаются, пасут паханов. Надоело мне с ними. Ну и наехал однажды под кайфом. Чифирнул малость. Ботал я, что не вижу паханов. Что они, как шмары, выкручиваются перед законниками, набивают себе цену. А сами говно! — хохотнул Баркас.
— Как же тебя дышать оставили? — удивился Огрызок.
— Сам не допер. Но отделали так, что враз поверил — настоящими файными паханами на воле были. С тех пор прежде, чем наехать на кого, думаю, останется ли целой моя шея?
Кузьма долго не решался спросить Баркаса о золоте. А тут осмелился.
— Где ж ты рыжуху держишь, какую у жмуров забрал?
— Тебе, падла, что за дело до нее? Чего это твоя жопа за чужой навар болит? Иль другой заботы нет? О колгане печалься! — ответил зло.
— Мне твой навар без понту. Это верняк. А спросил потому, что обидно, если б рыжуха вдурью пропала. Мы с Генькой в последний раз ее нашмонали много. Как никогда.
— Много нашли? Разве это много? Ты хоть раз ювелирки брал? Иль тебя в те дела кенты не прихватывали? Вот там рыжуха! С ней мороки нет! Готовая! А эту еще сплавить сумей! Чтоб в ментовку не загреметь! Нынче зубодеры ссут ее брать. Потому что их самих лягавые всякий день трясут. Да и ювелиры- разные попадаются. Вот был у нас один цыган. Долго с ним «малина» кентовалась. Сплавляли ему рыжуху целых восемь зим. Все как по маслу шло. Но… Попутали его мусора. Сгребли в ментовку вместе с табором. Тряхнули. Он и поплыл. До самой жопы раскололся. И всех нас заложил. Вместе с паханом. Теперь с цыганами дел не имеем. А вот паскуды
— ростовщики! Эти все хватают. Но… Промысловой рыжухи ссут. Предпочитают ювелирную. С ней, мол, без мороки. В кубышке сколь хошь лежит.
— Как будто на этих все заклинило! — усмехнулся Кузьма. И разговорился о прошлом, вспомнил свою «малину»: — Мои кенты с зубодерами дел не имели. Ростовщиков не уламывали и никогда не доверяли им. А рыжуха у них водилась всякая. И промысловая…
— Откуда? Не темни! В то время с промысла стянуть рыжуху не мог никто! Прииски и рудники файней тюряг охранялись. Чуть что — маслину в лоб, либо на куски! — не поверил Баркас.
— Старатели всегда были. И в те времена. И тоже хавать хотели, дышать файно любили. С ними и контачили фартовые. За навар. Оптом брали.
— А провозили как? — сомневался Баркас.
— По всякому.
— Не транди! Отсюда только самолет. А в порту всех насквозь проверят. Чуть где звякнет, вмиг за жопу! Конечно, возникали иные, кто думал глотать рыжуху. Но сколько ее в пузе провезешь? Пробовали морем. Но и там прямо на причале установили пищалки. И лягавые через них каждого прибывшего прогоняют. Говорят, Красавчик на том попух. Едино теперь с рыбаками скрываться надо. Но и те фраера. Раньше за башли брались хоть черта в ад доставить. Потом доперло до них, что к ним на керосинки не простые ваньки возникают, а те, кому средь фраеров не по кайфу на материк срываться. И стали заламывать… Да так, что фартовые им вламывали не раз. А те, едва к берегу прихиляли, высвечивали законников. И теперь нет ладу. Кто намыливается к рыбакам либо в мусорягу влетит, либо без навара останется, — говорил Баркас.
— Да, с рыбаками — файно! Они, где ботнешь, там и выкинут, не заходя
в порт. Но средь них тоже всякие… Хотя и этот путь — не последний. Есть шанс без них вырваться с Колымы, — сказал Кузьма.
— На катушках? Много ль на них прохиляешь? Я уже сколько прорывался и все мимо. Стремачат менты-суки, на каждом бздехе. То на зону нарвался. То на прииск. Всюду охрана с собаками. Едва слинял. И тут нельзя мне дышать долго. Приморят. Так бы зиму прокантовал, хрен с ним. А по весне — сквозняк.
— Как же ты с прииска Чубчика сорваться решил? — удивился Огрызок.
— Туда допрем, а дальше без мороки. На любой самосвал и ходу.
— Я уже пробовал. Он меня и подвез. На алмазный… Там — за кентель и в кутузку. Так и не слинял.
— Надо фраера за жабры брать. Чтоб доставил куда надо.
— Что же ты не смотался? — удивился Кузьма.
— Пока Чубчик дышит, не слиняю! Доперло?
— Заметано, — невесело согласился Огрызок, понимая, что не сегодня, так завтра заставит его Баркас идти на прииск.
— Нынче отсыпайся, как падла. Завтра, чуть свет, похиляем, — подтвердил догадку гость. И добавил: — В пару дней успеть надо… Огрызок крутился на топчане. Да и было от чего. Убить Чубчика? Но за что? Он высветил блатных? А кто это может подтвердить? Лягавые здесь накрывают фартовых без всякой помощи. Вот и их с Баркасом по следам на снегу любой попутает. Ума не надо. А как о том вякнешь Баркасу? Он и укажет на трассу: мол, до нее допрем, а дальше — с ветром, на попутке. Уж этот сумеет обломать любого водителя. Но вот Чубчик…
Кузьма даже вспотел от ужаса, представив себе, как подкрадется он к пахану сзади и быстро, торопливо воткнет нож в спину.
«Иначе самого размажет Баркас. Ему это, как два пальца… Но Чубчик… К этому попробуй подойти бесшумно. Он не то что шаги, дыханье всякого слышит за версту. Да и убей его, самого в расход пустят. Уже менты…» Огрызка от таких мыслей бросало то в жар, то в холод.
Чубчик… На него у Кузьмы не было обид. Огрызок думал лишь о том, как быть, как выкрутиться.
Он понимал, что не сможет убить Чубчика, но и самому не хотелось сдыхать ни за понюшку.
«Генька, видно, враз отмазался мокрить Чубчика. За то и пришил его Баркас. А теперь темнуху порет, мол, проигрался… Стал бы стопорило резаться в рамса с тем, у кого рыжухи было меньше, чем у самого. Да еще среди ночи… Да одессит эту рыжуху свою никогда на кон не поставил бы», — обдумывал Огрызок. Он приподнялся на локте, чтобы взглянуть на Баркаса. Спит ли он?
Тот лежал, отвернувшись спиной к Кузьме. И у Огрызка мелькнула шальная мысль. Он тихо соскользнул с топчана, схватил топор, стоявший у двери. И только хотел замахнуться, как упал на пол, сбитый гостем.
— И ты, гнида, туда же?! — жесткая петля из пальцев перекрыла дыхание. Огрызок увидел последний отблеск огня в печурке, перекошенное лицо Баркаса и тьму землянки, которую всегда считал могилой, хотя уже наступил рассвет…
Кузьма не сразу понял, что случилось. Куда-то исчезла тяжесть, лишь звон в ушах да боль в горле — саднящая, тяжелая — напомнила о случившемся. Огрызок оглянулся по сторонам. Все та же землянка. Кто-то махался в дверях. Кто с кем? Не понять. И мелькнувшая догадка вмиг сорвала с пола. Кузьма вцепился в Баркаса намертво. Так, как тот минуту назад.
— Меня мокрить? Сдохни сам! — рвалось из глотки Кузьмы хриплое.
— Отвали, сука! Стукач гнилой! Лидер вонючий! Я тебя из-под земли достану, ментовская шлюха! — вырвался Баркас, сбивая, срывая, молотя Огрызка пудовыми кулаками. Кузьма изворачивался и вдруг рухнул вместе с затихшим Баркасом на пол.
— Кузьма! Где ты?
Огрызок выбрался из-под грузного обессилевшего тела.
— Отойди! — услышал бренчанье наручников. Вот они защелкнулись на руках Баркаса.
— Что ж так долго не было тебя? — то ли упрекнул, то ли отругал Огрызок.
— Прости. Дела задержали. Но ведь и не опоздал.
— На самую малость, — подтвердил Кузьма.
А вскоре ехал попутной машиной в Магадан. Теперь ничто не могло помешать, ему махнуть на материк — стать совсем свободным. Кузьма даже не слышал, что несет на него Баркас.
Сосед Кузьмы сел в кабину. Продрог. А эти двое остались в кузове. Теперь уж опасаться было нечего. Баркас в наручниках — не сбежит. Для Кузьмы он не опасен. Сам Огрызок не станет сводить счеты с беспомощным. Но Баркас нарывался:
— Схлестнулся с мусорами, шваль паскудная, но нищтяк. Покуда приговор, о тебе, падла, весь фартовый Север будет знать как о стукаче. Не я, другие достанут. И размажут, как маму родную. Без разборок. В куски пустят. Я всем отстучу в камере. Нигде тебе дышать не дадут. Секи, пидер!
— грозил до хрипоты.
Кузьма вначале отбрехивался. Посылал Баркаса по всем падежам. А потом надоело. Умолк, перестал замечать и слушать. А машина шла, минуя поселки, зоны, прииски.
Баркас, наверное, тоже у стал материться. Умолк, задумался. Смотрел на уходящие километры воли.
Огрызок понимал: будь у него хоть малейший шанс па побег, он, не сморгнув глазом, тут же убил бы Кузьму. Но не повезло. Даже «пушку» выбил у него сосед. О ней, больше чем о рыжухе, жалел Баркас.
Машина шла по колымской трассе, оставляя за собой хвост снежной пыли, крутившейся поземкой.
— Слушай, Огрызок, давай слиняем вдвоем. Всего-то долов — сними браслетки. И оба на воле. Хочешь, вместе фартовать станем. Не решишься — в разные стороны разбежимся. Забудем прошлое. Ведь помогать должны друг другу. По закону нашему. Помоги. И я стану твоим обязанником. Всякое твое слово — законом станет мне.
— Век свободы не видать. Как на духу ботаю. Ну что лягавый? Мало от них натерпелись? Слиняем и все тут. В гастроль смоемся. Иль на дно заляжем, как вякнешь. Фалуйся. Не тяни резинку. Чего мы тут ботаем? Время дорого. Давай, сними браслетки, — развернулся к Кузьме, прося или приказывая освободить руки. Он был уверен, что уговорил Огрызка, но тот не двигался с места.
— Гоноришься? Иль ссышь? Чего ломаешься, как пидер? Сними браслетки, мать твою…
— Снимут. Не дергайся, — отвернулся Кузьма.
— Пока места глухие. Тут слиняем — верняк! Шустри, покуда транспорт еле волокется. Минуем тайгу, там дорога ровная, без заносов. До самого Магадана на скоростях. Упустим лафу, — умолял Баркас Огрызка.
Тот отвернулся. И вдруг увидел, как за задний борт машины ухватился мужик, выскочивший из-за снежного завала.
Он быстро подтянулся, перемахнул через борт. И ввалившись в кузов, сказал, оглядевшись:
— Подбросите малость. Не то чуть дуба не врезал. Колотун дикий. А мне тут неподалеку, — и спросил, глянув на Огрызка: — Далеко ль шмаляем?
— В Магадан, — ответил Кузьма.
— На волю хиляете?
— Этот хмырь — на волю, а меня — в тюрягу, — встрял Баркас.
— А чего не смоешься?
— Браслетки приморили.
— Дай их сюда, — подошел мужик, не оглядываясь на Огрызка.
Кузьма вмиг вскочил. И не успел попутчик взяться за наручники, отбросил его Огрызок к заднему борту, пригрозив:
— Клянусь мамой, шевельнешь клешней, жабры вырву! Допер?
На шум в кузове водитель оглянулся. Не заметил ничего. Но все ж решил притормозить на всякий случай.
Мужик, едва очухавшись после удара о борт, тут же услышал и, выскочив из кузова, растворился в заносах на обочине.
— Лягавым потрафить хочешь? Ништяк! Долго не подышишь. Я тебя, гада, из-под земли надыбаю! — пригрозил Баркас, едва машина снова тронулась в путь.
Кузьма сидел, прижавшись спиной к борту, и стучал зубами от холода.
— Теперь ты вовсе лажанулся. Этот тип из фартовых. С тюряги слинял. А ты его, как фраера, бортанул. Ладно я! Этот, считай, на воле. Тебя запомнил, как падлу. Не упустит, коль доведется свидеться. Пощекочет бока пером. И за меня… Даром не спустит, — грозил Баркас.
— Мне этот мудак магарыч даст за то, что не дал ему засветиться. Коль увидели б, пристопорили б. И прямиком в зону, добавив срок за побег. Теперь он сам допер, как мог влипнуть из-за тебя. Коль повезло ему слинять с зоны — пусть гуляет своим ходом. А не сует кентель под машину. Я не помеха ему. И не дам из-за тебя другому влипнуть в тюрягу, — ответил Огрызок зло.
Внезапно машина затормозила. Из дверцы высунулся тот, кто назвал себя соседом Кузьмы.
Он заглянул в кузов, обошел машину и спросил Огрызка, не видел ли он кого по дороге? Кузьма пожал плечами.
— Значит, показалось. Ну что ж, тем лучше. Полезай в кабину, отогрейся. Я здесь проеду, — вскочил в кузов. И, сев на место Огрызка, крикнул водителю: — Поехали!
Оставшийся путь Кузьма курил задиристую махорку, слушал шофера, который оказался уроженцем Колымы.
— Я, считай, чуть ли не первым родился в этих местах. Всю колымскую трассу лучше собственной хавиры знаю. А все оттого что с мальчишек сюда бегали. Кто за ягодой — девки наши. А мы, мужики, серьезным делом занимались. Хоть и от роду по шесть, семь зим было.
— Каким же делом? — предположил свое Огрызок и продолжил: — Небось, беглых высвечивали?
— У тебя что, крыша поехала? Мы покойников хоронили. Тех, кто померли на трассе. Охрана тем не занималась. А зэкам план надо было выполнять. Норму по ихнему. Потому не до могил. Иные так-то и оставались у обочин, либо в яме рядом с трассой. Сколько тут люду полегло — не счесть. Мы, пацаны, с детства покойных не пугались. Знали, средь них и свои могли оказаться, сродственники. К тому ж охрана взрослых гоняла за сердоболье. А нас нет. Не воспрещала хоронить.
— А живым помогали? Иль только жмуров не боялись? — перебил Кузьма.
— И зэкам, когда их на трассу вели. Хлеб им совали, лук, чеснок, что было, всем делились. Знали, от тюрьмы да от сумы — никто не зарекается. Слава Богу, меня покуда миловала эта чаша, — перекрестился шофер.
— Ты эту самую чашу давно пережил. В детстве. Когда, пожалев первого зэка, схоронил его. Он же тебе, верно, поныне снится? — спросил Огрызок.
— Откуда знаешь? — удивился водитель.
— Да глянь на себя. В годы не вошел, в тюряге не канал, а виски белые, — подметил Кузьма.
— На Колыме жить — горе ведрами пить. Так наши деды говорили. Тут знаешь как случается: едешь в рейс, а вот вернешься ль домой, никогда не знаешь.
— Это почему? — удивился Огрызок.
— Всякое бывает, — посерел лицом человек и, помолчав, продолжил: — Трасса каждому из нас поворачивается то матерью, то ведьмой. И меня не обошла крещеньем своим. Возвращался я с грузом из номерной зоны. Дело было в середине зимы. Мороз за пятьдесят перевалил. Я на газ жму. Чтоб скорее до места добраться. Мне в Сусумане разгрузиться надо было. А потом домой. Глядь, на обочине двое мужиков голосуют. Подвезти просят. Пожалел их, затормозил. А они нож к горлу. Выкатывайся из кабины. Я — ни в какую. Они выволокли. Отмолотили. Бросили средь дороги. Сами в машину и ходу. Я два часа валялся на трассе без сознания. Хорошо, что на мое счастье вахтовая машина шла на прииск. Подобрали. Сообщили в милицию о случившемся. Стала искать машину вся колымская шоферня. Задержали вскоре. Оказались те двое беглыми из зоны. Так они, сучьи выродки, удивились не тому, что их поймали, а что я живой остался. Обещали по выходу меня доканать. А скажи — за что? С тех пор я никого не жалею. И не беру в машину попутчиков. Настоящие люди, которые в зоны по ошибке попали, все умерли. А за их счет выжило говно…
— Вот это да! Выходит, и я?
— А ты при чем? О тебе сопровождающий как о свободном говорил.
— Недавно таким стал. А мог и вовсе воли не увидеть. И тоже из-за всяких попутчиков, подкидышей судьбы, мать их, суку, волки ели, — оглянулся назад, туда, где прижавшись спиной к кабине, сидел Баркас.
— Нафискалил на тебя этот тип?
— Да нет. Хуже. Но теперь уж, думаю, клешни его подрубят. Но кончатся ли мои беды, кто знает… Вся жизнь, как у черта под хвостом идет. Ни передышки, ни радости, — пожаловался Огрызок.
— Знаешь, это у всех так. В жизни, как в природе. Бывает своя зима с холодами, вьюгами. Они не тело, сердце убивают. А потом, глядишь, наступает оттепель. Дальше — вовсе тепло. Значит, передышка. Чтоб передохнуть от бед да сил набраться. Эти перемены никого не минули…
«Это где же мне передохнуть довелось да согреться? На шконке? Или на руднике, где яйцы в сосульку смерзались? Кто и когда пощадил меня? Один Силантий. Да Чубчик на прииске и то ненадолго. Даже не наведался в больницу. Где это тепло? В могиле, верно, получу. Враз за все; одна смерть пожалеет. За всех живых. Обогреет и успокоит. Видно, оттого что всю судьбину одна она в попутчицы мне досталась», — думал Огрызок невесело.
— Знаешь, Кузьма, человек всегда жизнью недоволен. И только когда становится нестерпимо, вспоминает, что совсем недавно счастливым был, но не понял, не почувствовал, не оценил. Бог и дает человеку испытаний сверх его возможностей и сил. Проверяет дух и веру. Не всякий выдерживает. Ропщут, ломаются. Забывая, что за каждое лишение, перенесенное достойно, Господь награждает милостью.»
— Верно, Бог меня не видел. А все оттого что- ростом с сучок, а и рожей в мартышку удался. Вот и не узнал во мне мужика человечьего. У меня от пинков да подзатыльников что рожа, что жопа — красными были. Порой сам сомневался, что не бананом сделан, — усмехнулся Огрызок.
Водитель, впервые столкнувшись с такой откровенностью, хохотал до слез.
— Ну, уморил! Сам себя в мартышки произвел! Впервой такое слышу! Знать, дельный мужик! Путевый!
А не везло, потому что не с теми жил, не в того верил. Проснись и одумайся! Авось, еще не поздно! — посоветовал водитель, затормозив у ворот тюрьмы.
Кузьма выскочил из кабины, но сопровождающий сказал:
— Погодите немного. Дадите показания на допросе. Это от силы два дня займет. Заодно устроят вашу судьбу, чтоб не скитаться без крова и работы, к тому ж и денег ни гроша. Так что погодите здесь, — указал на распахнувшиеся двери тюрьмы.
— Под забором буду жить, но туда — ни шагу! — уперся Огрызок.
Милиция заберет, как бродягу. Тогда уж без уговоров, ни на день, два сюда привезут. Давайте без комедий, — слегка подтолкнул Кузьму к проходной.
Тот вошел неохотно. Сдал документы на временное хранение. И, едва вошел во двор, увидел, как из машины вытаскивают охранники Баркаса. Тот от холода не мог стоять на ногах. Лицо, посиневшее от мороза, казалось сплошной маской. Губы не шевелились. Каждое движение причиняло боль. Баркас едва сдерживал слезы и крик. Он не мог переставлять ноги. Его волокла охрана, матеря на чем свет стоит.
Когда Баркаса тащили мимо Огрызка, тот, разодрав непослушные губы, выдавил:
— Век свободы не видать, если к ночи из тебя жмура не нарисую… Кузьма оглянулся на закрывающиеся ворота. В них мелькнуло удивленное лицо шофера, он перекрестил Огрызка, широко, размашисто. И Кузьма, запомнив номер машины, решил по выходу из тюрьмы найти этого человека.
Огрызка привели в камеру, где трое заросших мужиков тихо переговаривались между собой, занимаясь всяк своим делом.
Один ловил вшей в исподнем белье. Второй давил клопов на стене, философствуя, что эти твари даже в тюряге по три человечьих века живут, не жалуясь на баланду. Им все равно чью жопу грызть: вора или священника. Для них не существует побудок и отбоев, начальства и охраны. А потому именно они — старожилы и хозяева тюрьмы.
Третий, наблюдая за ними, копался в кудлатой голове почернелой заскорузлой пятерней и блаженствовал. Завидев новенького, мужики оживились:
— Как на воле? Слыхать ли про амнистию? Имеется ли махорка? Облепив Кузьму со всех сторон, курили жадно. Исподволь выспрашивая, за что влип, надолго ли? Кто будет сам? Из воров иль дураков, не мент ли часом? Где и на чем попался?
Огрызок отвечал уклончиво. Спросил в свою очередь, на чем попухли? Узнал, что все трое — не фартовые. Политические. И к блатным никакого отношения не имеют.
Кузьма облегченно вздохнул. И, устроившись на нарах, решил, что пару дней здесь он протерпит.
Сколько спал — не знал. Проснулся от толчка в бок.
Мужики заставляли проглотить ужин: зажмурясь, не глядя и не нюхая. Кузьма выхлебал баланду, съел хлеб. И хотел снова отвернуться к стене, но вдруг до его слуха долетел стук из соседней камеры.
Какой-то Вася Хлыст сообщал тюремной братии, всем блатным и фраерам, что в какую-то из камер сегодня привели стукача по кличке Огрызок. И с ним, падлой, надо поступить по закону фартовых — замокрить, как ментовскую суку, не щадя. Кто его укроет или пригреет, будет караться одинаково с фискалом.
Вася Хлыст добросовестно отстучал особые приметы Кузьмы: «Рост и внешность — сродни старой шмары, волос на голове, как у телушки на макушке, походка лидерская — вихлястая, голос кастрата, которому старуха- повитуха, принимая на свет, вместо пуповины яйцы откусила. Тощий и малорослый, как хрен мужичий после десятка ходок: высохший без дела. Пасть кривая и вонючая, как хорячья жопа. Зенки крысиные, уши ослиные, ходули кривые. Выдает себя за фартового. На самом деле не имеет к ним никакого отношения. В законе не был. Весь треп его — темнуха и липа. Если он находится в камере блатных — пришить его немедля. Кто с этим не справится в одиночку, пусть тому сосед поможет. До ночи того стукача размазать надо непременно…»
Огрызка от злобы трясти стало. Когда оглянулся на мужиков, понял, что в азбуке перестукиваний они не соображают. И, воспользовавшись этим, Кузьма отстучал дерзкое:
«Ты, Вася, что за хмырь, с какого хрена сорвался? Кто такой, чтоб обо мне судить без пахана и разборки? Иль закон фартовый просрала твоя тыква? Иль дышать твоей вонючке надоело? Как ты посмел, не видя, паскудить меня? Не выслушав, ботать слово? Ты кто есть? Пахан тюряги? Но кто держит мудака, не знающего закона? За меня есть кому сказать — на воле. И скрутить твою гнилую тыкву — сыщется кому. Иль просрал, кто такой Чубчик? Держишь Баркаса? Его, падлу, давно угрохать надо. Но не в тюряге тишком. В зоне на сходе законников. Чтоб и приговор, и казнь — по всем фартовым правилам прошли. Ты прикрыл мокрушника. Он не уйдет от суда фартовых Одессы. Уж я расстараюсь надыбать их на воле. Баркас замокрил их кента за рыжуху, какую мы с ним намыли. Кого ты прикрыл? Если фартовый — допри тыквой, кто есть Баркас? А если фраер — отвали и захлопнись! Не то на воле пасть до мудей распущу…» Огрызок ждал, что ответит ему Вася Хлыст, но тот отмолчался. И до самого утра никто ни разу не стукнул в стену.
Едва Огрызок проснулся, его вызвали на допрос к следователю. Тихомиров, завидев Кузьму, разулыбался. И поздравил с успехом.
— Опасного преступника помогли задержать. Да вы и на себе испытали, что за тип этот Баркас.
— Не только о нем. Но и о вас узнал! Чуть не сдох я там в пургу! И пи кто не возник, сухаря не дал. Бросили, забыли, как собаку. От голода и холода едва не накрылся. А меня снова в тюрягу. Теперь за что?
— Надо выяснить некоторые детали.
— Какие?
— Где золото, которое Баркас отнял у вашего напарника и проверяющего?
— А я откуда знаю? Я ему не мама родная! Мне он в таком колоться не станет. Не для того зажилил, чтоб трепаться о том. Он взял — его и трясите, — обрубил Огрызок зло.
— Непременно. Да только в ваших интересах скорее золото найти.
— Это почему? Я его брал? Какое мне дело до рыжухи? Вы — следователь, вот и колите виновного. А с меня хватит. Сыт всеми по горло. Выпускайте меня. Не имеете права держать ни за что в тюряге!
— Пока не найдем золото, выпустить вас не могу, — насупился Тихомиров. И предложил: — Вспомните или подумайте, куда Баркас мог его спрятать?
— г Да что ж вы самого о том не спросите? Он прятал, пусть и покажет свою заначку, — терял терпенье Кузьма.
— Некого спрашивать. Умер он сегодня ночью, — развел руками Тихомиров.
— Как умер? Сам? — не поверил Огрызок в услышанное.
— Следов насилия на теле нет. Да и откуда им взяться? Он в одиночной был. Ни одной живой души рядом. Помочь умереть — некому. А сами на себя такие люди руки не накладывают. Это многолетняя практика подтверждает. Паталогоанатом сказал, что причиной смерти стало жестокое переохлаждение.
— Видно, в машине его прохватило. Вчера. Колотун был знатный, — подтвердил Огрызок, приуныв.
Нет, ему не стало жаль Баркаса. Невольно поблагодарил судьбу за то, что его самого вовремя отправили в кабину. Не пощади его сосед, может, тоже до утра бы не дожил.
— Скажите, что он намеревался сделать? Куда хотел податься? Выходил ли из землянки? — спрашивал Тихомиров.
— Такой разве расколется? Он и меня размазать хотел. Да помешали, ваш человек не дал. А уж о золоте он мне и не вякнул бы. Не стали мы с ним кентами. Да и не было его у него, — говорил Огрызок, напряженно думая о своем.
— Надо найти золото, Кузьма! Во что бы то ни стало, — просил следователь.
— А чем помогу?
— Вы — ближе к фартовым. Многое знаете. Если не найдем золото, это провал! Меня с работы выкинут, — признался Тихомиров.
— А я думал, для вас главное — найти убийцу. Все остальное — мелочи…
— Наивный человек! Убийц у нас — половина Колымы. Одним больше или меньше, невелика разница. Ну, не поймали. Ну, осталась бы на счету висячка — нераскрытым преступлением. За это не выгоняют. Не лишают званий. А вот золото — это валюта. За него меня не просто с работы, а и посадить могут. А потому притормозили тебя. Обмозгуй. Помоги. Нет другого выхода!
— Придется снова на карьер вернуться, — то ли проговорился, то ли предложил Кузьма.
— Конечно. Ведь при себе у него ничего не было. Я его карманы лично наизнанку вывернул. В них пусто, — признался следователь.
— Если без темнухи, я и сам не допру, где дыбать рыжуху надо. Тем более ту, которую фартовый притырил. В том нам лишь один человек помочь сумеет. Но вот заковыка — согласится ли? А уж у него и чутье и знанье. Он, падла, рыжуху за версту не то что в земле, в чужой сраке почует, — сказал Огрызок. И добавил: — Уж если Чубчик не нашмонает, нам и подавно не обломится Баркасову нычку найти.
— Чубчик? Знакомая кличка! — вспомнил Тихомиров и засомневался: — Одно препятствие, станет ли он мне помогать?
— Вам — нет! Это верняк. Я его попрошу меня выручить. Может, сфалую… Но… Уж после этого — ни на шаг в тюрягу! — поставил условие Кузьма.
— Само собой! Кто ж тебя держать станет! — пообещал следователь. Он о многом промолчал тогда. Он торопил Огрызка, боясь, как бы тот не передумал. Он очень переживал за результат.
Когда Огрызок стукнул в окно знакомого дома, у него у самого внутри что- то дрогнуло. Как встретит Чубчик? Поможет ли или пошлет Кузьму подальше, хлопнув дверью перед самым носом.
— Кузьма? — Чубчик стоял в проеме двери такой, словно только вчера расстался с Огрызком — Где так долго пропадал? Заблудился? Вали в дом, — открыл дверь нараспашку.
«И это его я должен был замокрить», — вспомнилось Кузьме. Огрызок не стал тянуть. И быстро рассказал, как и зачем он здесь объявился.
Александр слушал, не перебивая. Когда Кузьма выложил просьбу, ответил, не кривя душой и не ломаясь:
— Попробую помочь. Собачонку только с собой прихватим. Она и ночью искать умеет. Мне такое не дано…
А через день Кузьма с Александром и Тихомиров с оперативником уже сидели в землянке, куда никак не предполагал вернуться Огрызок.
Александр внимательно оглядел унылую местность. Из рассказа Кузьмы он уже знал, что где произошло, и теперь будто сверял свои впечатления. Он отпустил с поводка маленькую лохматую собачонку, залившуюся в сугробах звонким лаем, и приказал ей строго:
— Ищи! Выручай, Баруха!
Псина металась искрой вокруг землянки. Нюхала снег, раздирала его лапами, но не знала, не давала сигнал.
Чубчик внимательно разглядывал следы на снегу, оставленные Баркасом. Словно по заказу в эти дни не было снега. И следы виднелись так, словно человек только что прошел здесь.
Чубчик шел рядом со следами Баркаса, ни на миг не выпуская их из виду. Вот здесь фартовый срубил лапы у ели. Сложил в кучу. Подрубил еще и вернулся в землянку. А тут сухостойную березу свалил. Изрубил на дрова. Тоже без задержек.
«Где он мог затырить рыжуху?» — оглядывал Чубчик кусты багульника, занесенные снегом. И пытался поставить себя на место Баркаса: «Ну, конечно ж, вот в том сугробе! Но к нему нет следов! И все ж надо проверить».
Собака носилась вокруг Сашки, старательно тыкалась мордой в снег, но тут же отскакивала с рыком, боясь или не желая брать след. Чубчик присел на корточки, внимательно разглядывал отпечатки обуви, оставленные Баркасом, что-то поднял. Крутнул головой досадливо, вернулся в землянку, сел к печке, матерясь:
— Тертый был козел. Знал я его. Он на Чукотке ходку тянул. Кое-чему научился. Носил не сапоги, а волчьи унты, подшитые сыромятной шкурой. Она не берет в себя запах человека и несколько месяцев подряд держит волчью вонь, которая собак отпугивает. Не берут они такой след. Шарахаются, как от чумы. А унты эти, едва попав на сырость, воняют несносно. За версту. Волки по таким следам никогда не станут нагонять человека. Он и воспользовался этим. Либо отнял, либо купил их у какого-нибудь охотника. А может, на заказ сшили. Хотя… Откуда у мудака башли? Пришил кого-то. Это ему как два пальца обоссать, — закурил Чубчик.
Следователь с оперативником тоже не сидели сложа руки, искали золото за землянкой, в противоположной стороне от Чубчика. Они уже поставили на дыбы все сугробы. Каждую подозрительную корягу, высунувшую из снега черную макушку, обыскивали, как воровку на проходной прииска. Замерзшие усталые люди остервенело искали золото даже на дне родника. Но тщетно.
Огрызок первым вернулся в землянку, едва начало темнеть. Он опасался волков. И позвал за собой Чубчика.
— Схавал, что ли, этот тип рыжуху? — развел он руками в недоумении. Чубчик сидел молча у печки, грел руки, ждал, когда вскипит чайник.
— Я на три дня отпросился с работы. Дальше задерживаться не могу. Еще два дня. Но уже сегодня не допру, где эту рыжуху дыбать? — признался тихо.
— Она — моя воля. Без нее не отпустят с тюряги. Заметут, им козел потребуется. Баркас накрылся. Меня вместо него подставят. Пошлют под вышку. Хотя знают, не тыздил я рыжуху, — всхлипнул Кузьма ненароком. И встал, чтобы сложить дрова у стены аккуратной стопкой, а не грудой, как это сделал Баркас.
Полено к полену выкладывал. Надежно и подбористо получалось. Освобождалось и место для ночлега, которого должно было хватить на всех.
— А ведь Баркас тебя хотел замокрить. Какие-то счеты имел, — обронил Огрызок.
Чубчик усмехнулся:
— Уж если кто и лажанулся в прошлом, так это он! Я его не то что размазать, на куски обязан был пустить, хмыря вонючего! Да не пофартило мне вышибить из паскуды душу! — у него заходили желваки на лице. Кузьма сел передохнуть.
— Ты подбери поленья. Не сиди, свесив яйцы. А я покуда похавать соображу, — поторопил Чубчик. И Огрызок послушно принялся за дело.
— Уж так фортуне в голову взбрело сунуть в один барак зоны враз четверых паханов воровских «малин» Сам допрешь, что лафы оттого не было ни фартовым, ни нам. Всяк хотел бугрить по-своему. И других презирал. Законники тоже не могли сразу четверых слушать. Кого-то одного надо было. И тут верх взять мог самый файный пахан. Кто силой и мозгами отличится, у кого уважение средь фартовых больше. И тут надо правду вякнуть, всех нас обошел Тарантул, ростовский пахан. Ему не подыгрывали. Все честь по чести прошло. И я на сходе согласился с тем. Признал его паханом и над собой,
хотя до того не раз мы с ним махались. И только вернулись со схода, отдал я ему в общак свою долю. А утром хватился пахан — нет общака. Кто мог спереть? В бараке все свои, законники. Не могли… А кто другой посмеет? Ну и подняли мы шпановскую хазу на дыбы. Шмонали каждого. И надыбали у Баркаса. Выволокли на сход. Замокрить решили. Он же, паскуда, жить хотел. Ну и тяпнул меня клыками за руку, когда я его в ноги пахану бросил. Я ему звезданул. Так что жевалки в жопу вогнал. А он как завопит на весь сход: «Фартовые! Кенты! Это Чубчик принудил меня общак спереть! Фаловал с зоны вдвоем слинять! А теперь размазать хочет до вашего решения, чтоб ничего не узнали!»
Сашка задрожал от ярости, вспомнив ту минуту и продолжил:
— На том сходе не его, меня чуть не ожмурили. Но одыбался. А вскоре нас погнали трассу дожить. И я с Баркасом в одной бригаде оказался. Так опера нас поставили. И понятно: ждал я свой кайф, чтоб расквитаться с гадом за лажу.
— Сашка, пахан, глянь сюда! Чево это тут? — указал Огрызок на пузатый инкассаторский мешочек, аккуратно заложенный поленьями.
Чубчик выхватил его. Рассмеялся весело:
— Это воля твоя, Кузьма! А тяжела, как судьбина фартовая, эта рыжуха!
— развязал мешок и заглянул внутрь.
Поставив мешок на стол, вышел из землянки и крикнул:
— Эй! Мужики! Валяйте в хазу! Нашлась бабкина пропажа в дедовых штанах!
Тихомиров, ввалившись в землянку, сразу к золоту кинулся. Обнял мешочек. Словно в нем не золото, его судьба и жизнь лежали. Долго не выпускал его из рук. Он не мог говорить, ни о чем не спросил. Радовался по-своему долгожданной находке.
— Подписывай волю! Кранты! Не должник я тебе! Отваливайте от меня! — осмелел Огрызок.
Тихомиров и оперативник даже не слушали Кузьму. Слишком дорогой была находка, очень большой была радость.
— Сегодня уж заночуем. А завтра утром в Магадан. К вечеру доберемся, — глянул следователь на Огрызка.
Кузьма, враз отмерив по локоть руку, помахал перед следователем:
— Кранты! Завязал с вами! Не попутчики, не кенты вы мне! Приморите по новой в тюряге, докажи потом, что не фраер!
— Не придержим, не тормозну! Расчет получишь. Устроим тебя на работу, в общежитие, и иди своей дорогой. Несколько дней в гостинице поживешь, пока все уладим. Номер оплатим, выдадим суточные, — сыпал следователь обещанья.
— Не надо ему Магадан. Заберу Кузьму на прииск. Насовсем, — обрубил Чубчик.
— Нет, Сань, в карьер, под землю, меня теперь и калачом не заманишь. Сыт по горло. А и с мужиками твоими скентоваться не смогу, — заупрямился Огрызок.
— Да погоди, кореш, не под землю фалую. Есть на прииске работа, будто специально для тебя ее придумали. Бракер по золоту. Не надорвешь шею. Не замерзнешь. И денежно! — улыбался Чубчик.
— Во зажрались, фраера! В рыжухе закопались! Еще и выбирай, — вырвалось у Огрызка.
— Если понадобится наше ходатайство либо звонок, мы — всегда пожалуйста! — откликнулся Тихомиров с готовностью.
— Тогда может, мы не будем ждать утра? Пойдем на трассу? — предложил оперативник следователю.
— Ну уж не гоношитесь здесь! Не пущу! Хватит с меня горя! Ночуйте! А завтра отваливайте, по утру! — вскочил Огрызок.
Чубчик удивленно оглянулся на Кузьму.
— Приморили меня по тюрягам. Доканали до нитки. Покуда не увижу, что сели в машину, покою не будет. Надоело за чужие грехи свою башку
подставлять. Мало ль что может случиться в ночи? И снова я за то ответчик? Кончайте дергаться! Ни хрена не станет с вас, — переночуйте! — решительно закрыл дверь Кузьма.
— Ох и потрепало же тебя, кент, — сочувственно качал головой Чубчик. Кузьма решительно стоял у двери. Маленький, ершистый, усталый человек. Он так боялся упустить свободу, которой все не мог воспользоваться. Ее слишком часто и незаслуженно отнимали у него.
Тихомирову, глядя на Кузьму, неловко стало. Понял все, сказанное и невысказанное. Он опустил голову и послушно снял с себя шапку и куртку.
— Спать, так спать. Вот только чайку бы на ночь… Согревшись окончательно, мужчины разговорились.
Каждому свое вспомнилось, наболевшее. Но Огрызок, перебив оперативника, спросил:
— Так трехни, Сань, что у тебя на трассе с Баркасом стряслось? Чубчика будто током ударило. Передернулся весь.
— Наверное, мы мешаем? — предложил Тихомиров вслух.
— Ничуть. Дело прошлое. А вспоминать хоть и не по кайфу, да забывать нельзя, — закурил Александр и, немного помолчав, заговорил: — Начальство зоны в тот год почти полностью заменилось. И новое не захотело держать фартовых. Всех на пахоту погнали. На Колымку… Даже пахана из барака вытряхнули. А уж фраерню подчистую вымели из зоны. И, разбив на бригады, каждой свой участок отвели. Хоть сдыхай, а вкалывай и норму выдай. Да такую, что в глазах рябило, — матюгнулся Чубчик и продолжал: — Я до того дня, кроме фомки и пера, ни хрена в руках не держал. А тут охранник лом вручил и давит: мол, вкалывай. Я не знал, что мне с ломом делать, за что его взять. Чую, штука увесистая. Ни один колган ее не выдержит. А вот как в работе применить, представленья не имел. Но пригляделся. Увидел, как работяги пашут. Ну и решил согреться. А лом — хрясь и пополам… От мороза. Охрана не без бреха второй всучила, пригрозив, если сломаю, живьем закопать у обочины. Я б и рад принять за шутку, да только видел, как они одного фраера за кипеж долбанули кайлом. В темя… Враз накрылся. Ну и мне дергаться не хотелось. Вламывал до обеда, пока в глазах не зарябило с непривычки. Не помню, как мордой в снег сунулся. Не знаю, сколько я провалялся. А тут охранник. Ну и спрашивает мужиков, чего это я развалился. Те хайла открыть не успели, как Баркас брякнул: «Чифирнул, гад!» Охранник и поверил. Взъелся. Автомат сорвал с плеча. А я слова вякнуть не могу. К охраннику мужики кинулись. Схватили за руки. Но тот успел. Прошил мне обе ноги. Когда узнал, что Баркас темнуху подпустил, бросил меня в машину, отправим в зону, в больничку. Я в ней целый месяц валялся. Вышел и снова на трассу. В тот же день с Баркасом нюх в нюх столкнулись. Хотел я его за жабры взять, да момент не выпадал. Тот хмырь будто чувствовал. И едва я к нему начну подходить, он, гнида, за чью-то спину шмыгает, мурло свиное! Так целый день. А под вечер пурга поднялась. Машины из зоны за нами не пришли. Никто из шоферюг в буран не рискнул даже за ворота выехать. А на трассе не только работать, дышать, на катушках удержаться невозможно стало. Охранники растерялись. Не знают, что делать. Вести нас в зону — рисково. Половина сбежит, другие в пути накроются от холода. Вот тогда я предложил единственное, чтобы фартовых от погибели сберечь, — поставить снеголовушки. С подветренной стороны, за ними можно ненастье переждать. Поставили одну — понравилось. В затишье дух перевели. За другие взялись. К ночи целый круг получился. С надежными высокими стенами. Даже костер в середине разожгли. Греемся вповалку. Где зэк, где охрана — не понять. Не до того. Выжить бы. И тут я вспомнил о Баркасе. Где ни ищу, нет его. Словно провалился мудак.
— В бега ударился? — спросил Тихомиров.
— Не просто слинял, автомат охранника с собой прихватил и сухой паек
целый рюкзак. Всю ночь с овчарками искали его охранники. Один насмерть замерз. А когда Баркаса накрыли и приволокли, он, сука, вякнул, что слинял от моей расправы, вроде я грозил шкуру с него снять, и указал на нож, который я всегда носил за голенищем. Не окажись его — не поверили б блядище. Тут улика налицо. Ну и вломили мне. За все разом. Забыли, что слинял-то не я, а Баркас. Все шишки на кентель мне посыпались. И за замерзшего и за небитого Баркаса. Покуда не вырвался из круга да заорал: «А рюкзак с пайком тоже я спиздил или он?» Вот тут до них дошло. Принялись за Баркаса. А он, сволочь, свалился на снег, сжался в ком и катается. Орет благим матом, будто его режут. Тут фартовые не выдержали. Вздумали его тряхнуть. За меня. Он и тут меня обосрал. Вякнул, что я к его жопе прикипаюсь давно. Законнику такое западло. А Баркас аж заходится, визжит, что я ему дышать за это не даю. Пристаю все время. Будто лидеры в зоне перевелись. Зачем мне его уламывать? Любого обиженника за пайку хлеба уволок бы к себе на шконку. Но все же разборки не миновали. Вот там я эту парашу и расколол до самой жопы. И так его оттрамбовал, думал до конца жизни ему хватит, — качнул головой Чубчик. И продолжил: — Думали фраера, что откинется Баркас. Кровью кашлял. Чуть чхнет, в портках мокро. Держать свою вонь разучился. Он у нас на чердаке за это канал. В хазу дышать не взяли. Но к весне наладилось у него. И он опять хвост поднимать начал, наезжать на мужиков. И на меня косяка давил. Приноравливался, с какого бока мне насрать.
— Во, курва, мать его — сучья дрючила! Да что он, три жизни дышать хотел? — удивился Огрызок.
— А за что он так ненавидел тебя? — спросил оперативник.
— Да у него обид на меня накопилось — полная параша. Одна другой злее. Ну, первая за то, что я на сходе отказался принять его в законные воры.
— Ас хрена ль такое? — спросил Кузьма.
— Он на воле, до ходки, мокрушничал. На заказ. За башли. Это — западло фартовым. С грязными граблями, сам знаешь, в честные воры не берут. А он, козел паршивый, сам трехал, с какого навара дышал. Ну, а мне, как пахану, было не по кайфу считать кентом пропадлину. Кроме того, тот вонючка в дела ходил бухой, из-за чего сам горел и кенты влипали. Со шмарами невежлив был. И бесчестен. В расплате… И, главное, наруку нечист. Своих облапошивал. На общак. Доля не устраивала. Я все это на сходе трехнул. Свидетелей указал, кентов. Они подтвердили. И бортанулся Баркас. Но грызня у нас с ним началась еще раньше, — усмехнулся Чубчик. И, допив чай, заговорил: — Из всех блатарей, из шпановской кодлы, этот хмырила самым наглым слыл. Было — приклеится к какому-нибудь мужику и с месяц доит его на пайку: в очко обставляет. Пока тот с ног не свалится. Он — к другому прикипит. И сосет. За вечер, случалось, по пять- шесть паек сгребал. Добро бы хавал. Так нет, сплавлял за башли. И кому? Торгашам в соседний барак. Я, когда раскусил такое дело, тряхнул гнуса знатно. Все башли забрал и отдал бугру шпановской хазы. Велел ему присматривать за жлобом. И чуть что — мозги через трамбовку вправлять. Чтоб не жирел на чужом горбу. Думал, отучил его. Да хрен там! Он через неделю в рамса на интерес срезался. А я припутал. Ну и сорвался. Допекло! Так от м уд охал, что в больничку влетел, задрыга. Меня за эту трамбовку в шизо на неделю кинули. Трехнул, грязная свинья, что я его на барахло тряхнул. Охрана и начальство поверили. Подраздели меня. Но когда он из больнички нарисовался, я его из шкуры вытряхнул. Три месяца он ею на шконке обрастал. И едва на мослы встал, в бега ударился. Чтоб его на кентель не укоротили, боялся. Но перед тем не забыл меня обосратъ, — умолк на время Чубчик. Подбросив в печку дрова, продолжил: — Вякнул и нашем бараке, что я на воле семью имею. Двоих детей. И постоянно посылаю им башли не только из своей доли, а [рясу шпану и работяг. То, что беру якобы на общак, отправляю домой. Ты знаешь, что бывает за такое. Законник, а тем более пахан, не должен иметь семью, детей. Это по закону. А уж содержать их за счет общака и вовсе западло. За такое перо в бок получали без трепа. Этот же шкурой поклялся, что видел, как я башли через онеров отправлял переводом. Я в тот день на трассе был. И нюхом не знал, что навалил на меня мудак, — схватился за махорку Чубчик.
— Как же ты его дышать оставил? — удивился Огрызок.
— Сколько раз угробить хотел. Да все не состоялось, будто сам черт ему родным братом был и берег от моих рук, — вздохнул Александр.
— Правда, в тот раз для меня пролетело без трамбовки. Кенты отмазали, доказали липу. Но когда того
хварью накрыла охрана, он вякнул, что ударился в бега не своей волей. Я его под пером отправил из зоны, чтобы он передал башли, мой должок, по адресу. И снова вместо него меня охрана измесила.
— Ну, а ты чего молчал? — не выдержал оперативник.
— Я в законе был тогда. И ботать с мусорами, охраной считал для себя западло. Ждал, когда оборвется шанс сорвать за свое сполна.
— Хоть удалось проучить? — не выдержал Тихомиров, сочувственно вздохнув.
— Припутал я его однажды на темной дорожке, когда нашу бригаду с трассы опять машина не взяла. Развезло дороги от дождей. Застрял грузовик на полпути. Мы и остались на мари, как чирьи на чужой сраке. По самые муди в грязи. Ни присесть, ни прилечь негде. Расчистили мы уже впотьмах участок будущей трассы, стоки пробили — водоотводы; коряги, пни повыдрали, порубили их, развели костер на пятачке. Все зэки равнять участок взялись, чтобы было где дух перевести ночью. А Баркас заложил грабли в портки и в карманный биллиард наяривает. Тут я его и припутал. Сгреб за тыкву и сунул в яму, из которой корягу выволокли. Для надежности сдавил кентель, чтоб не скумекал, не успел оклематься. И решил живьем жабу закопать. Уже совсем закидал его. Думал, задохнулся кобель вонючий. А охрана услышала, как кто-то с земли воет. И выкопала. Считай, из могилы. С того дня меж нами что ни день — черная кошка бегала. Минуты передышки не выпадало, — невесело рассмеялся Сашка.
— Да тут любое терпенье лопнет, — согласился Тихомиров. И спросил: — А как же он с другими ладил?
— Со всеми не перегавкаешься, тем более в зоне. Мужики в ней тертые. Не каждый на хвосте соль потерпит. Баркас такое понимал. Да и не хотелось ему связываться с мелкотой. Ему лестно — самого пахана лажать. Он оттого кайфовал, стерва. Ну и среди своей шпаны в бараке хвастался, задрыга, что ни с кем-нибудь, с Чубчиком заелся, и лажает, и гадит мне на каждом шагу. Это его самолюбию льстило. Других развлечений не имел. А и общаться с Баркасом зэки брезговали. Он же без паскудства дышать не мог. Сдыхал, если кому не поднасрал за день. Такое нутро гнилое было у него, — умолк Чубчик и, помешав в печке горящие головешки, долго смотрел в огонь.
— А как вы расстались с ним? — спросил Тихомиров.
— Да не до того было. Времени на прощанье не хватило у меня. Шустрил. Лишний шухер только помешал бы. Линял без копоти. И больше всего опасался Баркаса. Сдавалось, ссучился он, скурвился у оперов. Хоть и не засек на том, но нутро подсказывало.
— Саша, а зачем вот так рисковал, в пургу сбежал? Ведь никакой надежды не было на жизнь. Мог замерзнуть, заблудиться. Что толкнуло на побег? — тихо и участливо спросил Тихомиров.
— Шары на жизнь, конечно, было мало. Но и оставаться в зоне — равно смерти. В бегах — как фортуна. В зоне давно б откинул копыта. На трассе. В ту зиму. Разве мало там полегло? Зимой я пять раз ноги обмораживал. Шкура с них чулками сползала. Заживать не успевали. Да и где там, если в снегу по пояс, либо в замерзающей грязи. Колена так разносило — в брюки не лезли. Каждый шаг — адская боль. Жратва — вспомнить гадко. Всех мышей и лягушек похавали. Живьем. Баландой сыт не будешь. Роба — одна на три зимы. А ее и на три месяца не хватало. Какие там рукавицы. У меня ладони и теперь не зажили. Сколько шкуры оставил на ломах — не счесть! Вот и решился. Уж если б поймали меня тогда, себя бы пером проколол, но под запретку не вернулся, — сказал Чубчик. И не других убеждал, а открыл свое, потаенное…
ГЛАВА 5
Утром все четверо вышли на трассу ловить попутную машину. Еще в землянке договорились, что Огрызок с Чубчиком поедут в Сеймчан на прииск, а Тихомиров с оперативником в Магадан. Как только Кузьма устроится, даст телеграмму с заверенной подписью, где укажет спой адрес, куда ему вышлют расчет.
Документы Огрызок держал при себе и радовался, что наконец-то он завяжет с милицией.
— Спасибо вам, ребята. Не просто в работе помогли, а и мозги нам прополоскали, глаза на многое открыли, заставили пересмотреть и передумать немало. Я после наших рассказов сам всю ночь уснуть не мог. Будто в нашем бараке на шконке ночевал рядом с Баркасом, под охраной. И, честно говоря, не уверен, что выдержал бы эти испытания адом. Какие амнистии и реабилитации могут искупить пережитое? А достоинство? Его вернуть еще сложнее. Но без него нельзя жить. Трудно даже на миг представить себя в вашей шкуре. Но такие встряски нужны юристам. Я имею в виду эти мужские разговоры, сродни вчерашнему. Тогда не будет следственных ошибок, и люди быстрее научатся отличать Баркасов из всех прочих. Сложно то, что освобождая людей, мы никогда не излечим их память. И дело тут не в том — виновный иль невинный отбывает в зоне срок. Важно, чтобы наказание не стало расправой, карой, перенести которую не в состоянии ни одна живая душа. Но для такого нужно изменить не только законы, а куда как больше. Вот это — главное! Изменить отношение к человеку. Не затыкать им прорехи наших ошибок, амбиций, властолюбия! Не устилать жизнями тысяч людей — дороги. Ведь как бы ни нуждался Север в колымской трассе, она не стоила стольких жертв. И не должна была стать плахой. Обидно, что из всего доброго мы умеем сделать зло. Но надо перешагнуть, уйти от беспредела, иначе и не назовешь то, что сегодня происходит. И если это отношение к людям укоренится в массах, мы не сможем выжить, мы погибнем. Все. От собственной жестокости. Как племя каннибалов.
Огрызок, плохо разбираясь в сказанном, толкнул в бок Чубчика, указывая на
машину, показавшуюся вдали.
Старая полуторка остановилась послушно.
— Полезайте в кабину! — предложил Тихомиров Александру и Кузьме. Но Чубчик отказался. Указав на брезент, валявшийся в кузове большой кучей, ответил, что не замерзнут они с Кузьмой. И, перескочив через борт машины, втянул Огрызка в кузов, крикнул:
— Давай! Отваливай, кореш!
Машина, прохрипев что-то в ответ, взяла с места рысью. Кузьма, устроившись рядом с Чубчиком в кузове, молчал блаженно.
— Валюха нас ждет. Она говорила мне о вашем разговоре в больнице. Ты прости бабу. Они слабее нас. Терять боятся. И слабостью своей, того не понимая, очень дороги нам. Когда я вижу, как переживает за меня, боится, начинаю понимать, что нужен ей. Тебе чудно? Но погоди, кент, к тебе, может, тоже тепло придет.
— Кому я нужен, — отмахнулся Кузьма.
— То не тебе судить. Фортуна тоже баба. Не все злится. Случается и ей радовать. Авось и тебе подкинет бабу! Их на прииске полно стало. Даже одиночки имеются! Я в сваты пойду! — хохотал Чубчик, слегка хлопнув Кузьму по плечу, спросил: — Доверишь? Возьмешь в сваты? Потом кумом буду! И вдруг заметил, как исказилось лицо Огрызка. Глаза уставились на зашевелившийся брезент.
Чубчик вмиг сорвал брезент, отбросил его в сторону. И перед ним, осклабясь гнилозубо, сидел, съежившись, костистый желтолицый зэк. Он оглядел неожиданных попутчиков.
— Зоська? — узнал мужика Чубчик: — Слинял с зоны? Один?
— Да, — неуверенно ответил беглец.
— Куда отваливаешь?
— На материк хиляю.
— К кому?
— Без хазы. Сам. Кенты отказались в «малину» сунуть.
— За что?
— Долю в общак не давал.
— Трандишь, паскуда! От кого накол имеешь? Трехай! Ко мне хилял, гад?
— Зачем ты мне усрался? Пусть мудаки рискуют кителем, у меня он один! И не докапывайся! Не одному тебе дышать охота! — ответил зэк занозисто.
— Дышать? Это тебе дышать надо? Скольких из-за тебя «малины» не дождались? Сколько кентов в рамсу продул, паскуда? Много за их души огреб? Хватит на поминки?
— То было. Завязал! Дышал без жмуров. Клянусь!
— Ты мне не заливай, задрыга! Кого послали ожмурить?
— Чубчик, кент, век свободы не видать, от всех сквозняк дал! — божился Зоська.
Не лепи темнуху, зараза! Троих я накрыл! У себя! Вякнули: мол, четвертый будет. Так это — ты! — прихватил за шею, сдавил так, что зэк взвизгнул:
— Не мори. Чубчик!
— Колись, падла! Кто послал? — не отпускал Зоську.
— Чтоб мне сдохнуть, никто! — шипел, извиваясь, мужик.
— Выброшу гада на ходу! Зверюгам на ужин. И костей никто не соберет, — пригрозил Сашка.
— Отвали! Я не к тебе! Я сам, пусти, задрыга! — извивался мужик.
— Кого убрать собрался?
— Сам хиляю! От всех, — хрипел Зоська.
Чубчик легко сорвал мужика за шиворот. Поднял над бортом. Спросил зло:
— Так не расколешься?
— К тебе послали! Жаба! Меня прикончишь, другие будут. Кому-то повезет. Накинут и на твой кентель деревянный картуз!
— Гуляй, хорек, червяк с погоста! — Чубчик швырнул мужика за борт машины. Тот, отлетев в снег, вскочил на ноги. И, погрозив вслед машине кулаком, прыгнул на обочину — в заносы, ожидать следующую попутку.
— Когда нас с Баркасом везли в тюрягу, тоже какой-то фраер в попутчики клеился. Намылился с Баркаса браслетки снять. Я и бортанул его, — вспомнил Огрызок.
— Где, примерно, зацепился тот тип? — насторожился Чубчик.
— На половине пути. Вот этой дороги.
— Мурло запомнил?
— Кто знает, мало видел. Не из наших кентов. Похоже, что фартовый. Да мало ль их с зон срывается? Зима, сам секешь, самое время, когда слинять можно. Помнишь, в эту пору пачками смываются. Кому-то, случается, везет. Чаще накрывают, — отмахнулся Огрызок и спросил: — А кто этот Жаба?
— Пахан у блатарей. Я его на разборке лажанул однажды. Пришлось его вытащить к нам, чтоб не вякали, будто фартовые беспредел чинят и судят скрытно. Там вывернули наизнанку. Мудак тот весь заработок своей шпаны забирал. И вякал, будто мы, фартовые, того требуем, гребем все, не оставляя на ларек. Ну, раз проскочило, второй. Потом и взяли за жабры! При бригадирах шпаны, буграх других бараков. Колонулся. Да и куда бы делся, прокунда? Божился, что никого трясти не станет без слова законников. Но я ему не верил. Скользкий хмырь. И однажды ночью пришел к нам дедок из его барака. Совсем гнилой пенек, из работяг, их всего трое приморилось в блатной хазе. И ботает, что Жаба все теплое барахло у него отнял и пригрозил: если пожалуется, в параше утопит. Я Жабу и всадил в нее на ночь. В нашей хазе. Присмирел, козел. Но злобу затаил. И теперь, как видишь, помнит, — рассмеялся Сашка так, словно не он, совсем недавно, выкинул из машины Зоську.
— Выходит, все время ты с оглядкой дышишь? Нет тебе кайфа на воле? Кенты забыться не дают?
— Вначале психовал. За Валюху боялся. Но она свое дело знает. А и я пасть не разеваю. Всегда на стреме. Да и чутье выручает.
— Ни хрена себе! Ты что ж думаешь, Зоська не доберется к тебе теперь? Он же не ожмурился.
— Зоська не возникнет. Засвеченный. За свою шкуру ссать станет. Кентель у него и впрямь один. Смоется, если повезет, на материк. И заляжет на дно. Но сообщит в зону, что дело сорвалось. И снова жди гостей. Они не промедлят. Скучать и забыться не дадут, — отмахнулся Чубчик.
— Я б на твоем месте давно смотался с Колымы. На хрен с судьбой в рамса резаться? Когда-то и проиграть можно, проколоться. Не лучше ли от всех подальше?
— Потому и дышу тут! Чем дальше, тем опаснее. Здесь я на виду. Но и они в наколе. Знаю, кто когда слинял, освободился. Кого в гости ждать. И с чем! Лучше все знать, чем жить, трясясь всякий день. Да и привык уже.
— Меня тоже фаловали пришить тебя. Баркас поймал на обязанниках. В землянке, — признался Огрызок.
— Фалуют многих меня пришить. Не только за откол, семью, а главное — за Валюху! Уж чего не ботают. Вроде я фискалом стал, ментов в кентах держу, башли за засвеченных получаю! Липа все это, Кузьма! Вон двое недавно наведались. Освободились. На прииске вкалывают. Верней собак меня берегут. Хоть и не обязанники. Фартовые! Сами все усекли. Так-то… — вздохнул Чубчик и, глянув за борт машины, сказал: — Еще два километра и мы дома!
А вскоре, свернув с трассы, машина помчалась к поселку, жившему своими обычными будничными забоями и не ждавшему, казалось, никого из гостей. Полуторка затормозила у дома Чубчика. И едва Сашка с Кузьмой выскочили из кузова, машина дала малый ход, развернулась и заспешила к трассе. Кузьма огляделся. Нет, он и не мечтал вернуться сюда, жить и работать постоянно, вблизи от зон, под боком памяти. Но устроиться самому, иначе, уехать на материк — не удалось, а, может, не повезло. Не по судьбе ему было оторваться от Колымы. И Кузьма, тяжело вздохнув, покорился своей участи.
— Не тужи! Не расстраивайся! Не кляни судьбу! Колыма, она не только наказаньем, а и радостью стать умеет. Если очень захотеть, она и счастье подарит. Нам есть что помнить! Есть за что ее любить! — Сашка подтолкнул Кузьму в дом.
— Встречай, хозяйка! За день управились! Все в ажуре! Смотри, кого привез! Новый житель поселка! Теперь я его от себя не отпущу! — улыбался Чубчик.
Вечером все трое сидели на кухне, обсуждая будущее Огрызка.
— Я его бракером хочу пристроить. На прииске!
— Да что ты?! — удивилась, вспыхнула женщина, покраснела от возмущенья.
— Чего? Не дергайся! Я тоже вором был! Не чета Огрызку! Банки тряс, ювелирные, меховые магазины чистил! Стольники не пачками, мешками считал! Рыжуху имел! Да столько, что прииск за год не намывает этого. И все ж завязал! — начал злиться Сашка.
Глаза его из синих белесыми стали, скулы заходили, лицо побледнело. Кузьма узнал в нем того, прежнего Чубчика, своего пахана.
— Не кипишись, кент, остынь, — предложил тихо, помня, что в таком состоянии пахан слишком опасен. Много нехорошего может натворить, что трудно будет исправить.
— Огрызок даже в законе не был! Не успела «малина» принять! Да и воровал немного! Его быстро замели! Он не столько жил, сколько мучился в ходке. Не столько он виноват, сколько я ему судьбу искалечил. Я из него лепил вора. Я и запрещу! Если ты мне веришь, почему в Кузьме засомневалась? Он не тебя, меня лажать не станет. Секи про то! — кипел Чубчик, уговаривая Валентину походатайствовать за Кузьму. Та сидела, уронив голову на руки.
— Ну, чего ты боишься? Вон в землянке сам Кузьма рыжуху надыбал. Инкассаторский мешок. И даже не предложил мне, а значит, не подумал стыздить оттуда хоть сколько-нибудь. А ведь мы вдвоем были. Никто не мешал. Вот после того решил я его в бракеры…
Валентина глянула на Кузьму. Огрызок понимал, что не враз, не скоро растает в ее душе ледок страха и недоверия. Годы потребуются, может, и вся жизнь.
Слишком разными были их судьбы, убеждения. По-разному выживали.
— Тебе виднее, Сашок. Но и ты, Кузенька, не подведи нас, — попросила по-девчоночьи беспомощно и наивно.
— Не воровать, что ли? А для кого? Я же не в «малине»! Себе — хватит заработка. Одному так даже с избытком. Не понял, о чем просишь. Я о фарте и не думал. А за ходку — отвык. Разучился. Я же в зоне вкалывал. На руднике. С тачкой. Ни до чего было. Кой там фарт, от фени отвык, — рассмеялся Кузьма.
Женщина облегченно вздохнула:
— Жизнь покажет, — ответила уклончиво.
— Сашка! Открой! — стукнул кто-то в окно. Молодая женщина вся в пушистом инее влетела в дом, волоча за собой тяжеленную сумку.
— А ну, соседи! Давайте сюда ведро! Мать картошку передала мне с машиной. Целых два мешка! Настоящей. Не сушеной. И лук! Я вам немного отсыпала. Ешьте!
— Это Ксения, соседка наша. Познакомься! Начальник почты! — подтолкнул Кузьму Чубчик.
— Огрызок, — подал руку Кузьма. Баба рот открыла от удивления: никогда, хотя несколько лет на почте работает, не слышала такого имени. Чубчик рассмеялся так, что в углах дома отдалось эхом.
— Кузьма он, Ксеня! Просто в детстве его так за худобу дразнили. Вот и привык.
Огрызок, ухватившись за руку, не выпускал ее из своей цепкой ладони. То ли растерялся или от смущенья не знал, что дальше делать полагалось. Со шмарой все понятнее и проще, тут же не до смеха.
Не хотелось опозориться, показаться неучтивым, не воспитанным, и Кузьма, подведя женщину к своей табуретке, предложил галантно:
— Откинь сраку на минуту. Подыши с нами! У соседки челюсть отвисла:
— Саш, ты откуда выкопал такого гостя? — Ксения оглянулась на Валентину.
— Не суди строго. Это скоро у него пройдет. От растерянности все. От незнанья. Отвык он от женского пола. Сколько лет в глаза не видел. Понятно, смутился, — вступилась хозяйка.
Кузьма понял, что сделал что-то не так. Но что именно? Как исправить? Этого он не знал и, краснея, стоял у стены.
— Ну что ты тут прикипелся, как к вышке приговоренный? Угости гостью чаем, — предложил Чубчик, подтолкнув Кузьму и наблюдая за ним искоса. Сашка нарочно заставлял Огрызка поухаживать за соседкой. Решил скорее расшевелить, растормозить, встряхнуть мужика. Может, где-то и лажанется на первых порах. Это не беда…
Чубчик сам через такое прошел. Случалось и спотыкался. Но… Именно женщины помогают мужикам скорее всего обрести самих себя, вспомнить, зачем на свет рождены, забыть все плохое, что было в дне вчерашнем. Кузьма, пыхтя от усердия, налил чай по чашкам, носил по одной, чтоб не разлить. От избыточного рвения ходил осторожно, боясь зацепить костлявым боком край стола или табуретку.
Чубчик насыпал из кулька конфеты в вазу. Передал Огрызку, чтобы тот на стол поставил. Кузьма водрузил ее посередине. Вернулся за пряниками. Женщины пили чай, весело переговаривались. А Чубчик около печки учил Огрызка:
— С женщиной надо обращаться, как с цветком. Хрупким и нежным. А не держать ее за парашу, в которую любую нужду справить можно. Заруби про это.
— А я что? — удивился Кузьма.
— Забудь феню, когда перед тобой женщина! Как мужик мужику советую. Неважно, кто она для тебя. Она — продолженье жизни. И потому, если любить не можешь, уважать должен!
— Заметано, — еще больше растерялся Огрызок и решил не выходить на кухню, пока соседка не уйдет.
Но… Валентина будто подшутить вздумала. Вошла и попросила, обращаясь к обоим мужикам:
— Помогите Ксене дров нарубить. Она только вернулась с работы. В доме холодно. И ни полена дров. Сходите к ней.
Чубчик тут же Огрызку подморгнул:
— Не упускай свой шанс, Огрызок! Покажи, что ты мужик, Кузьма! Что и тебя мужичьим жизнь не обделила!
Огрызок опешил от внезапного предложения. Он и не думал, и не мечтал так быстро клеиться к бабе, которую впервые в глаза увидел.
— Шмаляй, пока не передумала. Она одиночка! Путевая! — шептал на ухо Чубчик.
Огрызок топтался, не решаясь выйти на кухню.
— Саш, так ты поможешь мне? — заглянула Ксения за перегородку.
— Я бы с радостью! Да вот Кузьма просит уступить. Очень хочет помочь тебе. Говорит, соскучился по делам домашним. Разреши ему. Пусть разомнется, вспомнит ремесло мужичье. А то совсем застоялся без дела. Загрузи его малость. Пусть вспомнит, что такое работа по дому! — смеялся Александр, подталкивая Кузьму к бабе.
Огрызок вышел следом за нею на дрожащих от неловкости ногах и все время оглядывался на дом Чубчика, словно искал благовидный повод для отказа от поручения и просьбы.
Ксения шла, не оглядываясь. Едва выпорхнула за калитку, тут же в свою вошла. Оставила открытой для Кузьмы. Тот предусмотрительно закинул ее на крючок. Пошел к сараю, туда, где лежали сваленные в кучу напиленные чурбаки.
Ксения вынесла топор, подала молча Огрызку и тут же вернулась в дом. Кузьма не стал терять время и взялся за дело. Поленья разлетались, слегка охнув, кувыркнувшись через голову. А Кузьма рубил их, коротко взмахивая топором.
Чурбак за чурбаком рассекал на поленья. Ровные, белые, они грудой лежали на снегу. Огрызок не сразу вспомнил, что в доме холодно. И подумал: верно, пора затопить печь. Чего это мамзель не возникает за дровами? Может, мне надо их принести? А правильно ли это? Хотя… Чубчик приносит. Прямо в избу. Значит, и ему надо поторопиться. Он нагрузил поленьев на руку чуть ли не до макушки. Войдя в дом, спросил коротко:
— Куда их всунуть?
Ксения показала — к печке. И попросила робко:
— Кузьма, если можно, на растопку нарубите щепок. Огрызок понял. Порубил поленья на лучины. Принес охапку. И снова во двор. Опять за дрова взялся.
Он ловил себя на мысли, что совсем разучился говорить с бабой. Отвык. И оттого чувствовал себя неловко.
«Да и о чем с ней трехать? Про зону? Про кентов? Что интересного ей расскажу? Про Баркаса? Иль про волков? Так они как две капли воды. Хоть он был человеком, а эти — звери навроде меня, непутнего. А ей, бабе, разве интересно про такое? Ей про нежности подавай, про цветы, про любовь. А что я в этом понимаю?
Отродясь таких разговоров не вел. Ни с кем. Со шмарой оно все понятно и просто. Бухнули, похавали на скорую руку и в постель. Там разговор короткий. И ума не надо. Ни один мужик не оплошает. Если к тому ж на столе недопитая бутылка стоит. Ее в короткой передышке допить можно. Но это со шмарой. Тут же… Вон Чубчик про баб как наловчился заливать. И слабые они, и цветки… Вот бы шмары его теперь послушали. Со смеху поусирались бы. Это они слабые? За ночь по «малине» через себя пропустят. И хоть бы хрен. Попробовал бы сильный Чубчик десяток швалей уделать, натянуть каждую? Тогда бы понял, кто слабый пол. Шмара за ночь ящик водяры выжрет и наутро — ни в одном глазу. Будто не кувыркалась всю ночь с фартовыми. Попробовал бы Сашка так набухаться! К утру от него одни бы яйца остались. Вот тебе и сильный пол! А эта чем файнее? Тем, что не в притоне? Что соседка Чубчика? Да все они, лярвы, одинаковые. Ни у одной нет золотых краев. Тем и отличаются, что у одной и сиськи, и жопа ни в какую парашу не влезут. А у другой нет ни хрена. Зато нутро одинаковое», — убеждал себя Огрызок не робеть, не теряться перед Ксенией. Он не сразу заметил, что во дворе уже совсем темно стало. И чурбаки еле видны. Кузьма вздрогнул от неожиданности, когда услышал голос Ксеньи:
— Кузьма! На сегодня хватит. Остальное потом успеется. Зайдите в дом. Отдохните, — она открыла дверь.
Огрызок оглянулся. Спохватился, что скоро ночь на дворе. И, быстро откидав от крыльца поленья, пообещал женщине прийти завтра. Сделав вид, что не расслышал приглашения, заторопился к дому Чубчика.
— Ну, как дела? — встретил Сашка.
— На завтра еще осталось. Темно стало. Не видно ни хрена.
— И это все? — удивился Александр.
— Ты ж просил ей помочь. Я и помогал.
— Она тебя в дом не звала?
— Не знаю. Я не ждал. Да и не по мне она. Слишком красивая. Мне бы попроще. Оно надежнее.
— Ну и лопух… Да ладно. Может, оно так вернее, не навязываться сразу. Пусть сама тобой заинтересуется, — согласился Чубчик.
Наутро Александр велел Кузьме привести себя в порядок. Умыться, побриться. И ждать, когда он придет за Огрызком.
Сашка пришел за Кузьмой лишь к обеду.
— Пошли. Возьми ксивы. Сегодня все уладим, а завтра на работу, — объявил с порога.
До самого вечера Кузьма мотался по кабинетам. Устал так, будто две смены с тачкой на руднике отработал. Оброс справками, направлениями. Получил спецовку — целый ворох, и с раскалывающейся головой возвращался в дом. Он шел, не оглядываясь по сторонам, опустив голову, как вдруг услышал:
— А вы ко мне не зайдете?
Огрызок даже не подумал, что кто-то может обратиться к нему. И не оглянулся. Да вдруг услышал:
— Кузьма, здравствуйте!
Ксения стояла у калитки. Два ведра воды плескались у ног. Она смотрела на Огрызка и улыбалась, как давно знакомому, доброму соседу. Он кивнул в ответ.
— Устали? Уже с работы?
— Завтра — первый день. Нынче оформился.
— Может, зайдете? Кстати, спасибо вам за помощь, — она открыла калитку, приглашая Кузьму войти.
«Пожрать бы надо», — подумал, входя во двор. Но не решился говорить о том вслух: — Дай ведра! — взял их из рук и внес в дом, не ожидая, пока приглашение повторится.
Он молча взял топор и так же, не сказав ни слова, пошел рубить дрова, обдумывая свое:
«Завтра надо устроиться в общаге. Говорили, что в комнате со мной какой- то хмырь дышать будет. Тоже, мол, одинокий человек. Видать, из зэков. Может, старый кент? Что ж, сдышимся. Общага — не зона, не барак. Можно скентоваться. Лишь бы не прикипались ко мне всякие», — думал Кузьма. Он и сам не заметил, как порубил все чурбаки, сложил поленья. И только собрался уйти, Ксения из дверей вышла. Встала на крыльце в одном платье, в дом зовет.
— Теперь где помощь нужна? — хмыкнул Огрызок и, оббив снег с сапог, вошел в дом следом, оглядываясь по сторонам.
— Давайте поужинаем вместе! — "хозяйка пригласила к столу.
Огрызок хотел отказаться. Но, глянув на накрытый пол, обомлел и прикусил язык.
Ксения постаралась. Кузьма ел, забыв обо всех наставлениях Чубчика:
— Не торопись, не чавкай, не суй нос в тарелку. Ешь ложкой и вилкой. Не лезь в миску руками.
Кузьма впервые за много лет дорвался до еды. Ее было полно. Стол ломился от салатов, мяса, рыбы, сала. Посередине на большом блюде стоял пирог — румяный, пышный.
Огрызок забыл о Ксении. И, обтерев руки о штаны, ухватил из миски кусок мяса.
Он впился в него зубами и зажмурился от блаженства. Он кусал мясо, рвал и глотал, не жуя. По губам, подбородку стекал жир. Кузьма его не замечал. Он не ел — жрал, чавкая, давясь, повизгивая от восторга. Он дрожал, как голодный пес, и никак не мог поверить в то, что никто не отнимет у него еду.
Жареная картошка, соленые грибы, красная икра, сметана исчезали с тарелок.
— Может, выпить хотите? — робко предложила Ксения, с удивлением глядя на гостя, и показала бутылку водки, боясь, как бы Кузьма не проглотил ее вместе с посудиной.
— Нет, не употребляю! — отмахнулся Огрызок и отломил кусок пирога. На колени ему закапало варенье.
— Ой, блядь! — вскрикнул от неожиданности и, отложив пирог, растерянно глянул на хозяйку. Только тут он понял, что дал маху, погорячился и напугал бабу, а может, оттолкнул от себя и, пытаясь сгладить впечатление о собственной дикости, спросил:
— Грабли где помыть можно? Ксения показала на рукомойник.
Кузьма вымыл руки, очистился от варенья и попросил, заикаясь:
— Прости меня. Совсем уж озверел…
— Да ешь, Кузьма! Ешь! Для тебя готовила! Это хорошо, что тебе понравилось! Что не ломаешься, с аппетитом ешь, это для меня дороже любого спасибо и похвалы! Сердце радуется, глядя на это.
— А ты чего не жрешь? Чего стоишь, как усралась? Ксения покраснела. Удивленно уставилась на гостя.
Хотела что-то ответить. Но увидела, как тот с жадностью уплетает рыбу, заедая ее сладким пирогом. И слова поперек горла встали. Не решилась сказать. Промолчала. Что-то поняла сердцем.
А Огрызок ел торопливо, будто боялся, что чудесное видение исчезнет, как сон.
— Пельмени будете? — предложила Ксения.
— Валяй!
Женщина принесла полную миску дымящихся пельменей. Огрызок их руками хватал. Но не одолел больше десятка. Живот не вместил. Вздохнув горько, оглядел оставшееся на столе с откровенным сожалением. И сказал:
— Жаль, что пуза про запас не имею! А свое не без дна оказалось. Ну и нахавался! За всю ходку душу отвел! Файней ресторана любого! Аж в брюхе кипит. Будто там кенты навар поделить не могут.
— А вы к нам на время? Иль постоянно тут остановились? — спросила Ксения.
— Насовсем хочу. А как получится — не знаю. Я уже работал тут. Под землей. В Сашкиной бригаде. Да засыпало обвалом. В больнице лежал. Решил вернуться. Но уж не под землю, пусть там фраера пашут, а на крыше! Не могу без свежего воздуха дышать…
— Кем берут?
— Контролером по золоту.
— Серьезная должность. Вы что-нибудь заканчивали, учились по этой профессии?
— Ага! Институт гоп-стоп!
— Это геологический? Факультет подземных изысканий?
— На что мне под землю? Мне и на ней туго приходилось. Десять зим учился. А два червонца — специализировался в академии, — невесело усмехнулся Кузьма.
— Так долго? Где же это?
— Да тут, неподалеку, — отмахнулся Огрызок.
— Значит, это вы Колыму открыли, доказали, что она не только тюрьма, а и сокровищница, государственная копилка?
Кузьма рот от удивления открыл. Он такого и не предполагал.
— Оно, конечно, без нас — ни шагу. Особо где копилки. Мы их нюхом чуем.
— С таким опытом, видно, без ошибок определяете, умеете отличить чистое золото от подделок?
— Это без булды! — рассмеялся Огрызок.
— А я сколько здесь живу, ничего в нем не понимаю. И не видела, какое оно, — призналась Ксения.
— Оно и файно, что не видела. Ни глаза, ни сердце не опалила, судьбу не сожгла, — вырвалось у Огрызка наболевшее.
— Почему? — не поняла баба.
— Всяк, кто его увидит, прикипает душой. А потом болеть начинает. Потому что тянет к рыжухе. Она злую силу имеет над каждым. И, сверкнув однажды, ослепляет навек. Сжигает чистоту в сердце. Отнимает все. Взамен оставляет горе.
— И вас не обошло? — спросила тихо.
— И меня. Но я оторвался, завязал. Убедил себя, что рыжуха вовсе не ценность. Ржавчина земли, слезы зэков. Потому такая тяжелая и холодная.
— Вы сидели?
— Отбывал, — поправил Огрызок и уточнил: — Тянул ходку. Вором был. Не столько стянул, сколько потерял. Попал в зону пацаном, а вышел, сама видишь, сущий пердун. Все рыжуха. Она наказала. Уж не верил, что на волю выберусь, — глянул на Ксению. Та смотрела на Кузьму жалостливо.
— Вы ешьте, — поставила перед ним пирог.
— Нет. Больше брюхо не принимает. Набил я его, как общак, до отказу. Рад бы еще похавать, да некуда! — хлопнул себя по тугому животу. И встав из-за стола, поблагодарил хозяйку за угощенье: — Знатная баруха из тебя бы получилась. Немножко настропалилась бы — и смак! Варганишь жратву, как для паханов. А я даже не фартовый! Обычный вор! Да и с тем завязано! Ксения ничего не поняла. Увидела, что Кузьма встал, собирается уйти. Поблагодарила его за дрова, за помощь. И, открыв дверь, проводила на крыльцо.
Вскоре она забыла о Кузьме. Да и зачем он был нужен ей? В возрасте, бывший зэк, да и страшненький, как старая мартышка. О нем, как о мужике, всерьез думать — смешно. Да еще ей — на нее в поселке красивые парни заглядываются.
Кузьма утром на работу вышел. Вместе с Сашкой шел по улице, тихо переговариваясь:
— Я сегодня в общагу переберусь. Вечером. Не могу больше у тебя мориться. Да и пора на свои катушки встать. Ты уж пойми меня, — предупредил заранее Кузьма.
— Как знаешь. Я не гоню. Если захочешь, вернешься к нам. Места хватит…
Кузьма вздохнул трудно:
— Валюхе с тобой одним управиться нелегко. С двоими и вовсе измотается…
Она не жаловалась. Но силы свои тебе надо попробовать. Об одном прошу, не подведи нас. Поручились мы за тебя. Оба. Слово дали. Опаскудишься, не приведись того, всем расхлебывать придется. И ответ держать.
— Не ссы! С фартом я завязал. Не лажанусь теперь, — ответил уверенно. Кузьма в тот день, не разгибаясь, проверял золото на состав. Песок и самородки. Взвешивал каждую крупицу тщательно. Словно не в казну отдавал, а для себя, на свой положняк старался.
Сортировал самородки. Каждый замерял, взвешивал, записывал в журнал и складывал в ящички. Песок проверял на содержание шлака, чистоту промывки, стандартность крупиц.
За работой пропустил обед. А золото все поступало.
К вечеру, сдав его по журналу, вспомнил, что не ел. И направился в столовую.
Толстая горластая повариха, завидев Кузьму, заорала:
— Тебе чего, замухрышка недоношенный? Чего топчешься? Обед давно закончился. А ужин не готов!
— Я пропустил обед. Забыл.
— А я при чем? Отдельно никого не кормим. Жди ужина!
— Куда обед мой дела, ходячая параша? Сожрала, лярва? Ишь, сраку отхарчила на чужой хамовке! А ну! Мечи обед! Не то я из тебя жратву состряпаю! — заглянул Кузьма в дверь кухни.
— Глянь на него! Эта мокрожопая блоха еще хайло тут разевает! Где тебе жратву возьму? Высру, что ли? — орала повариха.
— Кипишиться вздумала? Гони хамовку! Мать твою! Не то в котле базлать будешь! — пригрозил Кузьма.
— Бабы, гляньте, чей-то хрен из штанов вывалился! Жрать захотел, не дождавшись конца смены! — зашлась смехом повариха. На ее голос влетели девки из подсобки. На Кузьму уставились.
— А ну, девки, лови его! Он грозится меня в котел всадить жопой! Давай глянем, чего эта грозилка стоит, — ринулась повариха к Огрызку. Кузьма ничего не успел сообразить, как оказался в руках бабы. Она стиснула его, как гнилой качан.
— Ну, что, засранец, попух, признавайся? Кузьма вырывался из рук бабы, но та цепко держала его и смеялась во все горло:
— Девки! А он — мужик! Все сиськи мне исщипал, говнюк! Давайте его накормим от пуза! Чтоб не терял свое. Этот не дарма жрет! С ним в сугробе не замерзнешь! Эй, ты, окурок, чего тебе пожрать дать? Говори!
Огрызка усадили прямо на кухне. Три бабы, хохоча, обслуживали его.
— Ну, держись, окурок, если ты еще и жрать умеешь, мы тебя и вовсе не выпустим.
— Иль мало вам мужиков на прииске? — удивился Огрызок.
— Э-э, совсем дурак! Мужья — только кормильцы, а для утехи — полюбовников иметь надо. Или мы тебе не по нраву? Смотри, сколько нас! — подбоченилась повариха.
— Вас много, а я один. Со всеми не справлюсь. Вы меня сначала накормите, а уж потом трехайте, чья очередь меня сегодня греть! — осмелел Огрызок.
Кузьма ел, не оглядываясь, не обрашая внимания на женщин. А они носили ему то борщ, то котлеты, то солянку и все шутили:
— Лопай, мелюзга!
— Ешь, сморчок, поправляйся! Не то тебя из-за табуретки не видать.
Когда Огрызок наелся, бабы всучили ему полный кулек пирожков. И повариха, уже посерьезнев, сказала:
— Сразу видать, что ты из зоны недавно. Я тоже сидела. Восемь лет. Уж сколько с того дня прошло, а все забыть не могу. Зону и голод. Даже теперь во сне пугаюсь, что воля мне приснилась. И хлеб… Ты не серчай, что я тебя отделала. Такое нутро у меня поганое. Даже зона не изменила. А ты, как есть захочешь, прибегай. Всегда накормим. И днем, и ночью! Это лишь мы поймем, кто через зону прошел. И зла не держи на меня. В ужин приходи, — она ушла на кухню, оставив Кузьму наедине с девчатами, рассматривавшими новичка через улыбчивый прищур.
— Как звать тебя?
— Сколько лет?
— Где живешь и с кем?
— Где работаешь?
Кузьма едва успевал отвечать им. И сам не терялся:
— Колись, кто с вас одиночки? — оглядел поварих: — Всего-то двое? Маловато для меня! Даже нынче! А уж когда отъемся и вовсе худо!
— Ты попробуй с ними справиться, — хохотнула замужняя.
— Ой, бабы! Бригадиры идут на ужин! А мы тут болтаем! Скорее на кухню! Но ты, новенький, не забывай нас! Мы не всегда мегеры! Авось, еще снюхаемся! — убежала, хохоча, синеглазая бледнолицая подсобница, так похожая на цветок, прихваченный внезапным жестоким холодом Колымы.
В этот вечер Кузьма перенес свой облезлый саквояж в общежитие. Поставил его под койку, которую посчитал незанятой и пошел в душ.
Когда вернулся, в комнате уже сидел сосед. Познакомились. Иван Самойлов оказался человеком замкнутым. Перебросившись несколькими фразами, снова взялся за газету.
Кузьма лег на койку, хотел уснуть. Но в дверь постучали и кто-то, просунув худую руку, попросил передать кулек для новичка.
Огрызок развернул его и сразу понял: повариха о нем вспомнила, и мысленно поблагодарил женщину за доброе.
— Вы давно знакомы с Катериной? — внезапно спросил Самойлов.
— Да нет. Вот только сегодня увиделись, — не смог соврать Огрызок.
— Говорят, сидела она в зоне особого режима. Едва не расстреляли ее. Вам бы от нее подальше, — посоветовал тихо.
— Это почему?
— Ну, знаете, у нас зря не осудят. А эта восемь лет в зоне была! Неспроста, наверное. Ее и сегодня все мужики обходят. Сколько лет в столовой работает и одна. Не рискуют даже близко подходить. Говорят, что Катерина из политических.
— А где она живет? — поинтересовался Кузьма.
У соседа глаза совсем круглыми стали: от удивленья или от возмущения.
— Меня подобные женщины не интересуют, — сосед отвернулся от Кузьмы и снова воткнулся в газету.
Кузьма предложил Самойлову поесть, но тот наотрез отказался, сославшись на то, что очень плотно поужинал.
Огрызок не стал его уговаривать. И, расположившись за столом, ел за обе
щеки мясо и хлеб, которые передала для него повариха.
Он решил утром зайти на кухню и рассчитаться с Катериной, чтобы не
платила баба за него из собственного кармана
Но… Повариха и слышать не захотела о расчете:
— Ничего ты мне не должен! Не выдумывай. Ешь, выбирайся из беды. А когда на ноги крепче станешь, помоги тому, кто только из зоны… Пусть и ему немного теплее на воле будет. Пусть поверит, что не в волчьей стае, к людям вернулся. Этим ты и рассчитаешься, — улыбнулась повариха.
— Где живешь, Катерина? Можно ли зайти к тебе? — спросил Кузьма.
— Мой порог никому не заказан. Но… Приходить ко мне не стоит, — ответила, посуровев.
— Это с чего? Мужик ходули вырвет?
— Одиночка я. Некому за меня бока измять. Но беда не в том, заморыш. Я — из политических. Потому хоть и на воле, а все срок отбываю. Под присмотром. И глаз с меня не спускают всякие гады. Зачем тебе под подозрение попадать, неприятности иметь из-за меня? — огляделась баба по сторонам с опаской.
— А мне ни терять, ни бояться нечего. Где живешь? — настырно добивался Кузьма.
Повариха указала на домишко, прилепившийся к кухне, и добавила:
— Не добавляй себе горя…
Но Кузьму весь день разбирало любопытство.
«Почему ее боятся? С чего она сама себя пугается? Или впрямь даже на Колыме мужики перевелись? Ну чего мне опасаться? Баба она и есть баба! Другого ничего. Пойду!» — он решительно нахлобучил шапку и вышел на улицу, не дожидаясь темноты. Катерина искренне удивилась:
— Смотри-ка! Эдакий задохлик, а не испугался ко мне заявиться! Ты что же, башкой своей не дорожишь или форс дороже шкуры? — изумилась баба.
— Наверное, устал дергаться. Да и чего мне тебя пугаться? Бабы!
— Не просто бабы, шут гороховый! О себе надо думать. Ведь за мной хвост издалека тянется. Верно, до могилы не избавлюсь от него.
— С чего это на тебя говно такое приморилось? — сел к столу Огрызок, куда ему указала хозяйка.
Катерина поставила перед Кузьмой картошку, селедку, хлеб. И предложила:
— Ешь, что имеется. Дома у меня скудно. Зато от души. И чаем напою. С малиной.
— Так с чего тебя политической прозвали? — спросил Огрызок.
— И не говори, Кузьма! Срамотища, кому ни брехни! Ну какая с меня политическая, если я совсем неграмотная? А все китайцы! Если б не они, жила б и поныне я в своей деревне на Смоленщине. Знаешь, как ее имечко — Березняки!
— Так за что тебя оттуда под жопу выперли? — напомнил Огрызок.
— Да китайцы к нам в деревню приехали. Опыт перенимать со скотника. А я на ту пору в доярках была. В лучших считалась. Молока мои коровы больше всех давали, — невесело усмехнулась баба.
Кузьма глянул на громадные груди Катерины, выпиравшие из-под халата двумя тугими мешками, и согласно головой кивнул. Поверил в сказанное.
— А тут, понимаешь ты, загвоздка вышла. Моя Липка телиться вздумала. Корова. Все зимой отелились, как положено. А Липка огулялась поздней других. Потому телилась только в марте.
— Не врублюсь я что-то! А при чем китайцы и политика? Корова телится, а им какое дело? — начал сомневаться Огрызок в искренности Катерины.
— Да слушай ты! Я все по порядку болтаю! И не сбивай! — цыкнула женщина: — Так вот китайцы за опытом приехали. А я первой была. Средь доярок. Ну, они ко мне. А тут корова тужится. Липка. Телок уже копыта показал. А они с вопросами. Телка принять мешают. Я уже их в жопу послать хотела. Да председатель мне кулаком погрозил за их спинами. Я отвечаю ихнему переводчику, самой на душе тошно. Чего пристали? Тут еще с районной газеты какой-то прыщик прицепился. Все вокруг вертится. Фотографирует. То китайцев, то меня с коровой. Отелиться не дает. А тут телок ждать устал, пока эта орава уйдет со скотника. Да как вывалится! Здоровенький, лобастый бычок. Ну вылитый председатель колхоза! Я хотела его в телятник отнести.
— Кого? Председателя? — не понял Кузьма.
— Чумной! Бычка! Но, как на грех, из — за китайцев замоталась и ничего не приготовила, во что телка завернуть.
— А зачем его заворачивать?
— Ну, он же склизкий рождается. Телков всегда заворачиваем в тряпку или в мешок, несем на телятник. Там их обтираем досуха. Чтоб не простыл
да шкурка не склеилась. Тут же ничего под руками не оказалось, — сокрушенно пожала плечами Катерина.
— Так ты его китайцем вытерла или председателем? — рассмеялся Кузьма.
— Дурак! Я его в подол хотела. А председатель заголяться не велел при чужих. Кулаками сучит за спинами. Ну, что мне делать? Сорвала я знамя, какое болталось у меня над головой, оно первой по надоям давалось, завернула в него бычка и понесла на телятник. Ждать больше нельзя было. Думала, помогут дотащить, ить бычок тяжеленький. Да куда там! У председателя глаза, гляжу, на лоб лезут. Будто и его приспичило отелиться в одночасье. Тот, что с районной газетки, рот до яиц уронил. Только потом я поняла — почему. Китайцы в ладоши захлопали вслед мне. И больше я с ними не виделась. Вечером меня забрали. Из дома. Завернули в воронок. И только я видела свои Березняки, — вздохнула баба.
— Постой! А где политика? — спохватился Кузьма.
— В пизде! — не выдержала баба. И сев к столу, обхватила руками голову, заплакала навзрыд, с криком, болью.
Огрызок не на шутку испугался. Он никогда еще не видел, чтобы так отчаянно плакали люди по своей судьбе.
— Остынь, Катерина! Ну, кончай! Завязывай! — дрогнул голосом Кузьма, почувствовав, как дрожат под его руками плечи бабы: — Ну, будет тебе выть! Жива ведь! Могло хуже приключиться. В зонах, оно, всякое бывает! Тут же — воля! — тряхнул хозяйку.
— Эх ты, безмозглый! Где эта воля? Да я ее с того дня, как забрали, в глаза не видела! В отпуск не пускают. В Магадан за тряпками — и то в ментовке доложись. Письма проверяют. И даже избу мою трясут. Вроде и она, как я, неблагонадежная. На кухне рядом со стукачкой работаю. Куда ни сунься, везде меня врагом народа обсирают.
— А за что? — вылупился Огрызок.
— За то, что в присутствии иностранцев знамя передовика опаскудила, надругалась над государственной святыней, так мне брехали, отправляя на Колыму, — хлюпнула баба, давясь слезами.
— И сколько тебе осталось ссыльных зим отбывать?
— Да я уже и не спрашиваю. Видать, до гробовой доски застряла здесь.
— В деревне кто-нибудь остался?
Померли. И тятька, и маманя. Обе сестры уехали со Смоленщины. Со страху. Иль от голода. Места наши скудные. Кормиться тяжко. Вот и братья в Белоруссию подались. Там хоть и не густо, но легше детву на ноги поднять.
— А у самой семья была?
— Сосватали меня. За своего, деревенского. Гармонистом был. На тракторе работал. Он уже и дом для нас отстроил. Да только не мне его обживать довелось. Порушили мою судьбу вражины треклятые! Всю радость отняли. А уж чем кому я помешала — никак в толк не возьму. Работала, словно проклятая, с утра до ночи. Не отдыхая, не разгибаясь. И в колхозе, и дома. С самого малолетства. Даже на посиделки не ходила. Все в деревне
— не хуже меня. С хозяйством не отдохнешь. До стари так выматывались, что смерти не боялись. Она одна давала роздых, разом, за всю жизнь.
— А тут чего же хахаля не заведешь? Катерина воздухом подавилась. Щеки пунцовыми пятнами взялись:
— Очумел? Иль вовсе паскудный? Ты что, съехал с колес? Мало мне горя в жизни выпало, чтобы еще сучкой стать? Мне оно надо? Иль у тебя, паршивый козел, на уме только бабьи юбки? Ах, засранец!
— Да ни кипиши, остынь! Чего ж мужней не стала? Об этом трехаю!
— Кому нужна теперь? Покуда молодой была — о семье думала. Теперь бы вот одно — дали б изверги уехать мне отсюда на Смоленщину. В деревню свою. Дожить бы там до стари. Чтоб не в чужой земле помереть. Эта Колыма много отняла. Молодость и здоровье, силу и жизнь. Не хочу тут загибаться, чтоб колымские бураны смеялись над моим погостом долгими зимами. Там, на
Смоленщине, у меня родные. Хоть навестят, повоют над могилой, пожалеют. А тут таких, как я, тьма, целая пропасть.
— Неужель тебе в мужики никто не предлагался? Ведь ты вон какая! Возле тебя, как рядом с печкой, не застынешь, не проголодаешься. А и добрая. Хоть зону прошла — сердце не поморозила. Чужую беду чуять не разучилась. И жалеть… Хоть саму никто не обогрел, не защитил в бабьей беде, не понял. А ты все ж и осталась чистой и простой. Кто ж обходит и боится тебя? Такие мудаки, как мой сосед в общаге? Или как я? А куда нам до тебя. Видно, даже Колыма всякого по-своему метит. У одного молодость и жизнь, у другого душу заберет и сердце. Как знать, без чего труднее оставаться? — задумчиво говорил Огрызок.
— Мужика любить надо. А я уж не сумею. Отлюбила свое. С пустой душой не смогла бы жить вместе. Да и чураются меня. Все! Оно и к лучшему. Не нужен никто.
— Озвереешь тут одна.
— Ни хрена со мной не сделается. Раз уж зону одолела, теперь ничто не страшно. Я ж в камере-одиночке почти полгода просидела. И не свихнулась. Хотя молодая была. Сама себе песни пела, чтобы мозги не поехали. Вот и дожила до прииска. Теперь уж и не знаю, чего от судьбы ждать, каких испытаний. Но если конец мне тут настанет, сдохну не малахольной.
— А что если я к тебе приходить стану? — спросил Кузьма.
— Ну, тебе можно! Едино на мужика ты не похож. Разговоров о тебе всерьез никто не заведет. Вот только стукачи досужие травить тебя станут. Всякие гадости устраивать начнут. Или принудят докладаться, о чем мы с тобой треплемся, чем занимаемся.
— Да кончай травить! — рассмеялся Огрызок, не поверив бабе.
В этот вечер Кузьма допоздна засиделся у Катерины. Говорили. Каждый своим наболевшим поделился, словно камень с сердца снял, душу очистил.
— А мой гармонист уже помер. На тракторе реку переезжал. Перевернулся, упал. А вылезти из кабины не смог. Двоих малых ребят осиротил. Женился он на другой. В тот же год, как мать ему велела. Но не любил. Так брат мне прописал. Уже второй сын у него родился, а в кабине трактора мою фотокарточку держал. Прямо перед глазами. И жену, нередко ошибался, моим именем называл. Так-то оно. Вот и остались теперь на родине одни могилы. Тех, кто меня любил, кого я и поныне забыть не могу, — горестная складка у губ пролегла тенями.
Сколько пережила и переплакала баба в своей кособокой, щелястой, серой, как горе, избе! Здесь она болела. Примерзала к железной койке, никто не пришел, боясь взвалить на свои плечи чужой горб несчастий. Тут она металась в жару. Но ни одна живая душа не подала ей и глотка воды. Хотя фельдшер прииска жила через дом от Катерины.
В этом доме она угасала. И ничья нога не переступила порога избы, боясь, что самого затравят, как зверя.
Она кормила весь прииск. Но ее спутницей, на все годы, осталось одиночество. Его в этом доме никто не нарушал. Кузьма медленно, внимательно оглядел домишко.
Потрескавшаяся печь, словно устав от времени, стояла, перекосившись, на одной ноге. Доски в полу рассохлись. Потолок прогнулся и протекал. Углы отсырели. И темные пятна грибка ползли по стенам к самому потолку. Из рам, просвечивающихся насквозь, несло холодом.
И хотя хозяйка старалась поддерживать порядок, не все умели и осиливали бабьи руки. Не все она могла успеть и справиться.
— Я в выходной приду к тебе. В избе кой-чего попробую помочь.
— Да ладно. Ни к чему, — отмахнулась Катерина и поставила перед Кузьмой чай: — Пей, задохлик! Небось, замерз ты у меня? Зато уж больше не придешь. В мою клетуху нынче даже мышь не заскочит. И ты не болтай много. Зачем тебе ко мне шляться? Впустую не припираются. А от меня тебе проку нет. И быть не может.
— А что? Без навара — непруха? А я дыбаю его? Я за навар два червонца отсидел! Достало по самый котелок. Теперь уж не до жиру. На положняке приморился. Как последний фраер.
— А что в ремонтах домов смыслишь? — удивилась Катерина.
— Я из ходок много раз линял. Ну, только не до конца. Не везло мне. И ловили, как падлу на параше. Снова в зону запихивали. С месячишко в шизо отдыхал, а потом за прыть блошиную, чтоб больше с зоны не смывался, охрана засовывала меня в рабочие хоздвора. Ты в такую жопу не влетала? — спросил Огрызок.
— Нет. А что это?
— Ну, смотря как кому повезет. После первого побега я с месяц лагерные сралки чистил. С ломом и кайлом. Но меня оттуда выперли за норов.
— За что? — не поняла Катерина.
— Ну я, ты допри, после каждого клозета приходил в оперчасть, чтоб проверили мою работу. Перед тем все сапоги в говне отделывал. От них слоями отваливалось. И все на пол — у оперов. За день параша получалась. Меня молотили и опять в шизо. Ну вот и решили кинуть на ремонт барака. Хотел я смыться, но охрана стоит, зенки выпучив. Пришлось пахать. Целых два месяца. Не все, но кой-что знаю, — похвалился Огрызок.
— Я не зову, — отмахнулась Катерина и добавила: — Пока мы с тобой говорили, под окнами трое прошло. Все слушают, что за гость у меня? О чем говорим? Зачем ко мне пожаловал? Раньше тоже проверяли. Но только по разу на ночь. А нынче у них под хвостом запекло. Загоношились, гады. Забегали, ищейки проклятые! Закрутились! Уж очень удивительно им, что у меня гость объявился! Теперь смотри! Сторожким стань. Неровен час, камень из-за угла получишь. Иль побьют. Они на все способные.
— Кто?
— Полтинники. Те, кто чекистам за полсотни фискалят про меня!
— Не может быть, чтобы такие на прииске прижились! Им бы тут горлянку живо вырвали! — не поверил Огрызок.
— Кто?! Да ладно тебе, Кузьма, чего прикидываешься? Иль не знаешь, что именно тут, на прииске, каждый третий — сексот. Они помимо северных льгот еще одну надбавку получают. От органов… И служат им, как псы!
— Погоди! Дай гляну! — выскочил Огрызок из избы наружу.
Шел крупный снег. Его хлопья летели с неба мохнатыми парашютами. Их было так много, что Кузьма в секунды начал замерзать. Он свернул за угол дома, туда, куда светили окна. И отчетливо увидел следы на снегу. Их еще не занесло снегом. Ветер дул с обратной стороны и следы виднелись четко, будто человек только что прошел здесь, под окном.
«Права баба! Но что от нее теперь надо? Срок оттянула. Все потеряла. Кому она нужна, кому опасна? Какому хорьку надо стремачить? Чего от нее хотят?» — недоумевал Огрызок и, посмотрев, куда ведут следы, направился в избу, дрожа от холода.
Но не успел выйти из-за угла, как перед глазами мелькнуло что-то черное. Обрушилось на голову. Больше Огрызок ничего не увидел, не почувствовал и не запомнил.
Очнулся он на своей постели. Сосед сидел за столом и читал под настольной лампой газету. Кузьма чувствовал жуткую боль в висках. Пытался вспомнить, что с ним случилось. Но в памяти словно провал получился.
«Но откуда эта боль? С кем я махался? Ведь не бухал, точно! Но кто же раскроил тыкву? Где и за что?»
Кузьма хотел встать, но перед глазами искры замельтешили. Все поплыло, как в тумане. Огрызок повалился в постель со стоном.
— Пей воду! — подал стакан сосед. И наклонившись к самому лицу, добавил: — Ну что? Измолотили, как последнего кобеля. Было бы за кого так мучиться…
И вмиг все вспомнилось… Пушистый снег, следы на снегу под окном и серый кривобокий угол хаты.
— Сволочи! Скоты безрогие! Твари проклятые! Чтоб вы все передохли! — распахнулась дверь и в комнату влетела заплаканная растрепанная Катерина — Какая блядь тебя побила? Кто? Мурло запомнил? Скажи? — склонилась над Огрызком сердобольной горой.
— Не видел. Не успел заметить, — ответил он тихо.
— Бедный мой заморыш! Головка луковая! Сколько хоть их было? Ну припомни хоть что-нибудь! — умоляла Кузьму. Но тот лишь головой качал отрицательно. — Все равно узнаю, какой пидер мою блоху душил! Яйцы с требухой вырву хорькам, мандавошкам лохмоногим! Жизни не дам, башки снесу! — грозила баба неведомо кому, заливаясь слезами.
Она ощупала голову Огрызка. Обтерла его лицо мокрым полотенцем, положила на лоб. Вскоре принесла какие-то таблетки, заставила выпить. И сидела рядом, не отходя ни на шаг, не обращая внимания на соседа Кузьмы, уже не раз просившего женщину освободить комнату.
— Мне отдохнуть надо. Завтра на работу! Идите домой. Я помогу Кузьме, если потребуется, — обращался он к поварихе. Но та будто не слышала, она ворковала над Огрызком:
— Кикимора ты моя засратая, мышонок неумытый, ососок заброшенный, ну за что страдать тебе привелось? И зачем ты без меня во двор выскочил? На что тебе болеть, лягушонок мой мокрожопый? Как больно мне, что так получилось! Ну потерпи малость, сучок ты мой обгорелый. Вот наладишься, и я тебя ни на шаг от себя не отпущу. Никому не отдам, — обещала баба. Кузьма плакал. Тихо, неслышно, молча…
Никогда, никто не говорил ему таких нежных, таких добрых слов. Даже от
матери слышать не привелось. Эти слова согрели сердце, растопили весь лед с души, очистили и ободрили. «Значит, и я кому-то дорог и нужен. Выходит, не совсем уж пропащий и никчемный. Пусть хоть хорек, но ведь своим называет, жалеет. Любить обещается. Значит, надо очухаться. Надо жить», — шмыгал носом Кузьма, вытирая мокроту со щек.
— Попей чайку, чертенок мой копченый. Еще глоток, ну, вот хорошо! Теперь ложись на подушку удобнее и постарайся уснуть. Мне скоро на работу. Но я в обед забегу, проведаю тебя. И поесть принесу! Ты смотри, никуды ни шагу нынче. Лежи, оклемайся. Мазурик ты мой недоношенный. Уж погоди, поправься только, я тебя никому в обиду не дам! — обещала Катерина, гладя лицо, голову, плечи Огрызка. И тот млел под ее руками. Он боялся спугнуть, прервать этот щедрый поток, лившийся из самого сердца бабы только для него.
Катерина просидела у постели Кузьмы до самого утра, пока не пришло ей время идти на работу.
Она встала, оглядела Кузьму и, перепоручив его соседу, тихо вышла. Кузьма, обвязав голову полотенцем, вскоре встал. И хотя в висках ломило, решил не валяться в постели. Оделся, умылся и, проглотив стакан чаю, пошел на работу.
До обеда боль еще давала знать о себе. В голове звенело на все голоса. А потом отвлекся, забылся и боль растаяла, отпустила совсем. И Кузьма самостоятельно пошел на обед.
Катерина от удивления уронила в бак с чаем половник с кашей.
— Голубчик ты мой! Встал на ноженьки! Лапушка облезлая! Ну, садись, покормлю гаденыша! — носилась она вокруг Кузьмы.
Приисковые мужики от зависти или удивления молчали. И лишь Чубчик, вошедший в столовую и услышавший воркование поварихи, подошел к столу Кузьмы, сел рядом:
— Ну что? Приклеился уже? А я-то думал тебя за Ксению сосватать.
— Не нужен я ей. Не хочу, чтоб надо мной баба паханила. Она мне на весь век чужой бы осталась. Из жалости за меня бы пошла. Потом попреков по самое горло не обобраться. Ничему не радовался б. А эта — своя! — глянул на Катерину и потеплел лицом.
Когда она вышла на кухню, Сашка спросил тихо:
— Ты хоть знаешь, кто она?
— Знаю! Ни за хер собачий в зону влипла! Да еще тут над ней всякая шваль изголяется! Пусть хоть один мудак попробует о ней гнилое вякнуть, своими клешнями замокрю! — пригрозил неведомо кому на всю столовую.
— Может, оно и так! Но тебе зачем тыкву в парашу совать? Когда фартовые кентовались с политическими? Оставь ее! Баб хватает! Покуда дышишь, советую как пахан!
— Отвали! Ботаю тебе — моя она! И никому не отдам! — вспомнилась Огрызку Катерина у постели.
За те слова, те минуты он готов был отдать за нее свою жизнь без остатка.
— Сворковались, — послышалось за соседним столом. Кузьма оглянулся. Глаза в глаза встретился с Самойловым. Тот усмехался криво.
Кузьма и сам не помнит, как все произошло. Миска с горячим супом повисла на макушке соседа. Тот растерялся на миг. Вскочил. Кинулся к Кузьме. Но обедающие мужики быстро растащили, не дав драке завязаться.
— Остыньте! Мать вашу! Чего сбесились два полудурка! Иль не поделили чего? Живо жрать! Кто вякнет, я быстро хайло закрою! — рявкнул Чубчик, бледнея. И отшвырнув Кузьму, силой усадил за стол Самойлова: —Дальше Колымы мест нет. Зато после нее приговаривают к «вышке». Кому этого захотелось — валяйте! Но после обеда! Не то я вам обоим, не дожидаясь, колганы раскрою! Доперли, стервозы, козлы вонючие?
— Это за что меня поливаешь? — не выдержал Огрызок.
— Заткнись, кент! Не заводи! — глянул Чубчик знакомо, и Кузьме сразу перечить расхотелось.
Сашка ел молча. Дождавшись, пока Самойлов и Кузьма пообедают, вместе с ними вышел из столовой.
— А ну, валяй оба за угол! — потребовал жестко. И, взяв Кузьму за шиворот, Ивана — за плечо, повернул их за столовую: — Теперь махайтесь! Ну! Что стоите? Или злобу с обедом схавали? — ждал Чубчик. И, помолчав, сказал: — Кишка тонка? Так вот, если узнаю, что кто-нибудь из вас в общаге поднимет кипеж, тому со мною дело иметь придется! Я ни одного не оставлю дышать, клянусь свободой!
Самойлов ничего не ответил, лишь оглядел Огрызка пристально, вприщур, словно прицелился. Кузьма не заметил тот взгляд и ответил, как на духу:
— Мне своего говна хватает, чтоб об чужое мараться. Но будет вякать лишнее, получит, как падла! Мало не покажется!
— Хиляй, Огрызок, на пахоту. И сам не залупайся! — глянул вслед Кузьме Чубчик. Повернувшись к Самойлову, заговорил тихо: — А тебе, фраер, вот что брякну. Если ты, мурло овечье, разинешь свой хлебальник и начнешь Кузьму полоскать, я тебя так отмудохаю, родная мама не узнает. Секи про то! Паяльник не разевай! Не то дышать разучишься. Я сумею кислород тебе перекрыть! Запомнил, падлюка? — прихватил внезапно за горло. И подержав немного, отбросил в сторону задыхающегося мужика, обтер руки снегом, вышел из-за угла и направился к прииску.
Огрызок за работой и не приметил, как наступил вечер. Сдав золото по журналу, решил сходить на ужин, а уж потом к Катерине. «Ведь завтра выходной», — радовался мужик заранее.
— Я тебя подожду. Домой вместе похиляем, — предупредил Катерину. Та благодарно глянула на Кузьму. Кивнула согласно.
Огрызок ел, не прислушиваясь к разговорам за столом. Он о своем думал. Да и было о чем…
Едва последний рабочий встал из-за стола, повариха закрыла дверь столовой и, приказав девчатам навести порядок, позвала Кузьму:
— Пошли, воробушка!
Весь вечер, без просьб и подсказов, Кузьма носил воду, рубил дрова, убирал во дворе. Закрепил калитку и забор. Навесил замок. И закрыл вход во двор от любопытных и случайных глаз. Он подмел на крыльце. И даже успел обить наружнюю дверь досками, изнутри утеплил одеялом. До глубокой ночи, пока Катерина стирала его белье, Кузьма замазывал и заклеивал окна. Он старался так, будто решил остаться в этой избе до конца жизни.
— Сверчок ты мой заугольный, все копаешься, работаешь, сядь, отдохни. Приди в себя, — предлагала Катерина. Но Кузьма не соглашался. Слишком осиротело жилье без мужичьих рук, слишком одряхлело. — Пенек ты мой болотный, или не о чем нам поговорить, что и не присядешь?
— Ну чего завелась, тесто перекисшее? Радоваться должна, даром хлеб не извожу. Потрехать мы с тобой всегда успеем, — он шпаклевал щель в стене.
— Вот уж не думала, что найдется хозяин и на мою избу. Возьмется за нее, не погребовав ни мною, ни ею, — улыбалась баба, подходя к Кузьме, изредка гладя спину, плечи Огрызка.
Кузьма от такого отношения таял. И только теперь начал понимать Чубчика. «Слабые бабы. Это верно! Вот и у этой вся изба раскорячилась. Потому что одна жила. Немощная в мужицком деле. Но как сильна! И все они, видать, такие, заразы», — улыбался сам себе Кузьма, забив последнюю щель в стене.
— Ну, вот теперь мы будем греть избу, а не улицу! — улыбнулся Катерине. Та, вспотевшая над корытом, еле разогнулась.
Огрызок помог ей управиться на кухне, отговорил готовить ужин. И заставил бабу отдохнуть от всего.
— Хватит на сегодня! Завязывай! На дворе ночь. А твоим делам — конца нет. Фартовые и те отдыхают.
— Где?
— В зонах, — вздохнул Огрызок.
— Я тоже там наотдыхалась. Так, что и в гробу не выпрямлюсь теперь, — вспомнила баба.
— А где пахала?
— Поначалу трассу вели. Чтоб ей пусто было! Вымотала, выжала она нас. Другие бабы были тощими. Из интеллигенток. Руки аж просвечивались. И их пригнали на Колымку. Конвоиры изголялись. Именно им, задохлым, совали в руки ломы и кирки. И орали: «Въябывай, шлендра, блядво сушеное! Не то вломлю тебе по черепу, всю политику в пизду вгоню!» Бабы те горькими слезами полили трассу растреклятую. Долбили мерзлую землю, лед, скальный грунт. Мерзли, мокли, надрывались. И умирали… Была у нас одна. Художница. Глухонемая. Так и ее за политику посадили. Она на картине, где парад нарисовала, изобразила: будто люди все идут не мимо мавзолея, а в храм, какой поблизости стоит. И в руках народа плакаты, где было написано: «Боже, Царя храни!»
— Ну и что? — не понял Кузьма.
— Мне тоже! А власти ее законопатили. Сказав, что эта художница, падла, призывает народ к сверженью власти Советов и возврату царя! За это ее и упекли. Даже стрелять хотели. Но война помешала. Забыли о ней. Целых две зимы сидела в подвале какой-то тюрьмы. Одна. Чудом жива осталась. И когда о ней вспомнили, хотели убить, а винтовка пули не пустила. Отсырела, видать. Тут воронок зэков отвозил на станцию. Ее и всунули. Чтоб не возиться с нею больше. Так знаешь, что с ней стало?
— Какое мне дело до чужой бабы?! — осерчал Огрызок.
— Да не злись. Из этой художницы, какую наши органы врагом народа обозвали, заграница лауреата сделала. За ту самую картину. И назвала ее «Крестный ход». Большие деньги заплатили, не зная, что баба, родившая картину, на Колыме сидит. Они, не русские, поняли, что нарисовано, а свои не доперли. Когда хватились, наша художница от чахотки померла. Так и не узнав, не поняв, что стала известной миру. Нам на память от нее свои картины остались. Колымские. Их она зарисовками звала. Всех нас жить оставила. А сама ушла, ничего себе не пожелав. Схоронили мы нашу бабочку. Помня доброе, в изголовье крест поставили. С именем… По ней ее иностранцы и нашли. Чужие они, едри их мать, а по художнице, будто по своей плакали. Жалели, что умерла безвременно, в неволе.
— А свои как?
— Кто? Конвой? Иль начальник зоны? Да ему, борову, хоть ссы в глаза. Когда узнал, кого держал на трассе, знаешь, что вякнул пидер?
— Что?
— Жаль. Не то послал бы ее свою квартиру отремонтировать, чтоб она ее сверху до низу картинами измалевала. Уж очень я их уважаю. Особо где пляжи с голым бабьем. Смотришь и чувствуешь себя на юге, начальником гарема. Уж очень я такое искусство люблю. С ним колымские зимы короче кажутся. Жаль, что не знал про ту художницу. Ну да ништяк. Она в моей зоне не последняя…
— Во падла! Яйца б ему вырвать и в пасть запихать! Сучий выблевок! Затычка шмары! — ругался Огрызок.
— А у меня от нее, сердешной, тоже осталась память, — достала Катерина лист бумаги, завернутый в чистое новое полотенце.
— Глянь сюда! — позвала Кузьму.
Огрызок распрямил лист и увидел картину. Несколько женщин хоронили умершую. Все, как одна, в робах зэчек. Даже покойная в спецовочных сапогах, громадными носками задрались они из гроба. Сама умершая едва приметна. Лишь лицо радостное, улыбающееся. Совсем непохожее на лица хоронивших женщин. Они держали в руках ломы, кирки. И плакали… Улыбалась лишь мертвая. Она отмучилась, ушла от всех. От зла и непонимания. От неволи и горя. От своих и чужих. Она была и не была. О ней кто-то уронил слезу на снег. И прожег сугроб. Из него подснежник поднялся. Повернулся к людям удивленно. Не понял, почему средь них все наоборот — смеются мертвые и плачут живые. В изголовье могилы, вместо креста, стоит, раскинув руки, женщина. Так похожая лицом на Катерину.
Весь мир бы обняла. Да ноги застряли в сугробе. Висят сосульки на платке, на телогрейке. Того гляди, замерзнет сердце бабье. Где уж свет обнять? Не угодить бы в могилу…
— Бедная моя, снежинка не растаявшая колымская! Хоть одна радость от Колымы — тебя мне подсунула, — прижался головой к теплому боку бабы расчувствовавшийся Огрызок.
Внезапный звон оторвал его от женщины. Кузьме показалось, что зазвенело в голове. Но нет. Когда разогнулся, увидел разбитое стекло в окне, булыжник, валяющийся на полу.
Бледная, трясущаяся Катерина испуганно смотрела на Кузьму. Огрызок метнулся из дома, матерясь по-черному.
— Кузьма, не выходи! — повисло за плечами стоном. Но мужика уже невозможно было остановить. Он в
прыжок оказался у калитки. Не открывая, перемахнул ее. Помчался к тому месту, откуда могли швырнуть булыжник. Огрызок и сам не подозревал, что именно сегодня, сейчас разбудили в нем этим случаем прежнего вора, умевшего постоять за себя и на воле, и в зоне. Он быстро заметил убегающего. Тот тенью бежал вдоль забора. Не оглядывался. Кузьма что было сил ускорил бег и нагнал мужика.
— Стой, падла!
Бегущий запетлял по дороге зайцем. Огрызок рассвирепел. Откуда прыть взялась? Догнал. Сшиб с ног одним ударом. И повернув к себе лицом, узнал Самойлова.
— Паскуда вонючая! Ты что к ней имеешь? Клеился?
— Нет, — едва выдавил Иван.
— Чего прикипелся?
— Тебя оттуда выкуривал.
— С хуя?
Чтоб ты, дурак, в ходку не гремел. Тебе помочь хотел. Оставь ее. Пока не завяз по горло. Потом поздно будет. Как мужика предупреждаю. Органы следить станут. Тогда хана! Возьмут под колпак в два счета.
— Ты откуда знаешь? — не поверил Кузьма Самойлову.
— Тебя уже сегодня искали в общаге. Ихние. Я сказал, что не знаю, где ты — не докладываешься. Они ушли. А я сюда! Знал, что ты за мной погонишься. Полезешь морду бить. Ну и черт с тобой. Лишь бы не засветился у Катерины.
— Липу подкинул! На кой я сдался органам? Любой мудак знает, зачем к бабам ходят. С ними про политику не бают. Один навар. Едва под одеяло — разговоров нет! Колись, чего пасешь меня? И не темни, — надавил на Самойлова так, что у того глаза округлились.
— Не веришь? Хрен с тобой! Больше не стану вытаскивать. Пусть они тебя схомутают. Тогда вспомнишь.
— А зачем окно разбил?
— Стекло — хер с ним. Заменит. Зато жизнь цела. Ее не вставишь по- новой. Хотел я через калитку войти. Да она закрытой оказалась.
— С чего б тебе вздумалось выручать меня? — сомневался Кузьма.
— Чтоб Чубчик не подумал, что я тебе подлянку эту устроил. Хотел я сегодня мудомойку организовать тебе. Да чекисты все мои планы сорвали.
— Лады. Вскакивай на ходули. Проверю я твой треп. Но если темнуха окажется, дышать не будешь!
— Не ходи к поварихе, Кузьма! Не появляйся там! — услышал Огрызок голос соседа. Но не оглянулся, заспешил к дому.
Кузьма решил проверить Самойлова. И прежде чем войти в избу, осторожно обошел ее со всех сторон.
Приметил, что разбитое стекло Катерина уже загородила фанерой и теперь ждала его, выглядывая в окно тревожно.
«Бедная моя кентуха! Еще и переспать с тобой не успели, а уж сколько соли промеж нами судьба насыпала. И все отговаривают от тебя. И кенты, и враги! Да что за доля такая проклятая? Почему нельзя жить с той, какая сердцу мила стала? Пусть ты и большая, и толстая, как колымский сугроб, я против тебя и впрямь мышонок, даже не знаю, сколько лет тебе. Мне все равно. Ты самая родная на земле. Несчастья ждут с тобой? Но и без тебя я не был счастлив», — вспомнил Огрызок и перелез через забор.
— Ну что? Поймал кого?
— Да нет. Никого не захватил. Словно передохли все. Ни одной живой души на улице. Все спят.
— А булыжник как попал?
— Конечно, не сам, кто-то бросил. Но я докопаюсь, — пообещал Кузьма. И предложил Катерине: — Давай без света посидим. Вот тут, у окна. Может, засветится паскуда.
Катерина молча головой кивнула. Погасила свет. В избе стало темно и тихо.
— Аж жуть берет, — не выдержала баба и призналась: — Знаешь, я в зоне так привыкла к свету по ночам, что и теперь его не выключаю. Без него уснуть не могу.
— Ничего, привыкнешь. Я тебя отучу от зоны, — подошел Кузьма к Катерине, сидевшей у окна. И уверенно, спокойно полез к ней за пазуху.
Та вздрогнула, замерла. Огрызок расстегнул кофту на груди бабы. Закопался лицом. А вскоре требовательно, настырно, повел ее к койке. Катерина шла, робея. Ноги не слушались. Жег стыд. Разве гак вот думалась ей первая брачная ночь? Не жена — любовница, грех подумать! Ну да о чем теперь? Весна ушла. Она не вечна! И баба по годам — осталась в девках. Кузьма не спешил овладеть Катериной. Он ласкал ее неумело, забыто. Он хотел, чтобы она сама откликнулась на его желание, чтобы не пришлось ее обламывать, заставлять, не просто пожалеть, а полюбить его, Кузьму. Он долго целовал ее, гладил, обнимал, ему не верилось, что вот так запросто, без денег, не насильно, отдается ему баба — сама. И Огрызок перестал сомневаться в себе и в ней.
Кузьма заснул лишь под утро глубоким сном. Ему виделось, что попал он на разборку. Большую, фартовую. И кенты, хмурые и злые, решили ожмурить Огрызка. За все разом. И прежде всего за то, что он не просто подженился, а связался с политической, которые для законников всегда были западло.
«Скурвился Огрызок, значит, угрохать его надо! Чего тут долго трехать? На перо взять и хана!»
«Перо для заразы — в честь! Живьем в землю! И крышка!» «Все херня! Я ботаю! Вздернуть ту блядь, с какой Огрызок схлестнулся. А потом этого хмыря на ремни пустить под прутьями», — предложил Баркас, улыбавшийся как живой.
Он ухватил Кузьму за плечи и подвел к широкой железной лавке. Толкнул на нее. Прижал, привязывать начал.
У Огрызка в голове зазвенело, он проснулся от ужаса и тут же услыхал шаги на чердаке.
Кузьма в секунду вскочил в портки. Накинул на себя телогрейку и выскочил из избы, полез на чердак по ветхой гнилой лестнице. Двое мужиков ничуть не смутились, увидев Огрызка.
— Что надо здесь? Во, чумной! Электропроводку проверяем. Ежемесячно. Дом старый. Не приведись искры. Да еще ночью. Заживо сгорите. Не то что сбежать, понять ничего не успеете.
— Ты нам магарыч должен. Глянь, какая тут проводка! Сплошные сопли. Мы новые провода провели. А ты как с дури! Голиком вывалился!
— Почему не предупредили?
— Стучали, никто не открыл.
— А как вошли во двор?
— Да просто! Калитка открыта, через нее, как и все люди ходят, — ответили мужики, удивившись вопросу хозяина.
Едва они закончили работу и ушли со двора, Кузьма заспешил к Чубчику. Тот выслушал внимательно. О Самойлове и монтерах, о калитке. Слушал, о чем-то напряженно думал. С ответом не торопился.
— Пойми, пахан, мне от нее не слинять. Это заметано. Моя она. С ней до гроба!
— Это ты ей вякай! Тут не баба виной. А статья… За политику она ходку тянула. Такое одним сроком не отмыть. Чекисты ее до гроба пасти станут. Вместе с нею и тебя. Измотают, жизни не дадут. Это верняк! Оттого мы с политическими не кентуемся! Мы, воры, мозги никому не засирали.
— И она ни при чем, — рассказал Огрызок Чубчику, как стала повариха политической, за что ее осудили.
Сашка поначалу не поверил:
— Все они отмазываются, трехают, что зря в ходку влипли. А кто вякнет, будто за дело погорел? Верно срок влепили. Ты таких раздолбаев встречал? Нет! И я не знаю! Твоя такая же, — отмахнулся Чубчик.
— Она совсем неграмотная! А политические все интеллигенты. Грамотные. Оттого у них мозги набекрень, что переучились. Моя даже расписаться не умеет. В городе ни разу не была. Кроме коров, ничего не знала. Сгребли, она даже не поняла — за что?
— Ладно, кончай на жаль давить. Ты дыши, будто ничего не доперло до тебя. И никуда не лезь. Ни с кем, ни о чем не вякай. Я сам разберусь: стемнил Самойлов либо верняк сботал. Если надо будет, надыбаю тебя сам, — пообещал коротко Сашка.
Вскоре Кузьма ушел. Следом за ним вышел из дома Чубчик. Свернув к общежитию, шел, не оглядываясь. Торопился. Что-то обеспокоило человека. И оглянувшись по фартовой привычке, не приволок ли за собой кого-нибудь на хвосте, нырнул в общежитие.
Кузьма, подойдя к избе, оглядел калитку. Нет, замок на ней не сломан. Словно хозяйской рукой был открыт, ключом. Петля на месте. Никаких следов лома иль ножа. Чисто сработано. Внаглую.
«А может, Катерина вставала ночью? Иль под утро?» — засомневался Кузьма. Но женщина искренне удивилась этому вопросу.
ГЛАВА 6
Чубчик вошел в комнату без стука, неслышно, как привидение. Увидев Самойлова, не поздоровался. Сел напротив, без приглашения.
— Ты что же эго слово мое просрал? Или посеял мозги? Иль не тебе, козел, велел я оставить Огрызка в покое? Кто вякнул не прикипаться к нему? Что имеешь к кенту? — проявились у него пятна злости на скулах.
— Я ж ему сказал. Всю правду!
— Правду? — удар в челюсть был неожиданным. Резкий, сильный, он откинул Самойлова спиной в стену: — Колись! Кто тебя послал? Зачем? — сдавил Чубчик Ивана так, что тому свет с овчинку показался: — Кто велел размазать Огрызка? — не отпускал Чубчик мужика из цепких рук.
— Никто! Сам я!
Сашка схватил мужика за грудки, поднял над головой, с силой швырнул на пол
— Размажу гниду! Ботай! — наступил ногой на горло. Самойлов задергался. Чубчик отошел к столу. Иван к двери рванулся с воем: — Куда, профура, навострился? А ну, приморись! — оторвал от двери и, дав пинка, велел не дергаться: — Так кто тебя купил?
— Отстань! Сказал уже…
— Ты меня за пацана держишь?
Самойлов в стул вдавился, когда Чубчик уселся напротив.
— Какой мудак, будь он из органов или обычным фраером, станет у тебя, гнуса, про Огрызка спрашивать? Если из органов, они и не возникли б тут. Узнали б у вахтера по телефону. На месте Кузьма или нет его в общаге. Им и минуты много, чтобы узнать и нашмонать кого им надо. О том все знают. И ты, паскуда, не без мозгов. Тоже о том наслышан. Зачем липу подкинул? За что Кузьму угрохать хотел?
Самойлов сжался в комок.
— За столовку пакостил, задрыга? — грохнул по столу кулаком Сашка.
— Думай, как хочешь, — отвернулся Самойлов.
— Я думать не стану. А тебе придется. Если через неделю не смотаешься с прииска, пеняй на себя! — встал резко, неожиданно. И, подойдя к двери, добавил: — А коли хайло вздумаешь открыть, смотри! — вышел в коридор неслышно.
Чубчик не пошел домой. Он внимательно следил за крыльцом общежития, решив проверить свое предположение. Он готов был простоять тут всю ночь. Но не прошло и получаса, как Самойлов вышел на крыльцо. Огляделся кругом. И, нырнув на боковую безлюдную улочку, пошел торопливо на окраину поселка, озираясь, оглядываясь. Чубчик шел за ним почти по пятам.
Иван подошёл к поссовету. Поглазел на киноафишу. Краем глаза смотрел на дорогу, не идет ли кто за ним следом. Чубчик спрятался за открытой дверью калитки. И в щель меж досок наблюдал за Самойловым. Тот, потоптавшись, резво юркнул за угол. Туда, где отгороженный звуконепроницаемой стеной от всех посторонних, расположился заправила госбезопасности прииска.
Чубчик понял все. Он мигом забрался на чердак поссовета. И, подойдя к печной трубе, отапливающей кабинеты органов безопасности, затаил дыхание. Прислушался. Но ни звука не уловил.
«Вот, черт! Даже тут они сумели предусмотреть все! Да неужели они и меня, фартового, проведут? Быть такого не может!» — рещил Сашка и огляделся. И вдруг услышал, как хлопнула входная дверь. Чубчик снова прижался ухом к трубе. Но сколько ни вслушивался, ничего не мог понять. Глухой голос комиссара гасился в стенах. И слова не разобрать. Чубчик, раздосадованный, слез с чердака. Спрятался в угольном сарае напротив. И ждал, когда выйдет Самойлов.
Внезапно в кабинете комиссара открылась форточка. И Сашка четко услышал:
— Вам не враждовать, дружить с ними надо. Врагу кто доверит? А вот приятелю — другое дело! Задушевные разговоры и есть суть. А вы что? Какие сведения принесли? Смешно! Зачем этот булыжник? Контру убрать хотели? Кто просил? Вы тем булыжником в нас кинули. Пальцем указали. Нет? Ну что ж!
Больше не лезьте с самодеятельностью. А то и впрямь снесут вам голову ненароком. Нет! Александра опасайтесь. Я с его женой переговорю. Женщина умная. Она сумеет укротить мужа. Но и вы впредь будьте осмотрительнее. На прииске немало горячих голов. Не всяк вам в глаза скажет! Вы бойтесь тех, кто молчит. От них что угодно ждать можно.
Чубчик понял все. Он выскочил из сарая и, не мешкая ни минуты, направился к Огрызку.
Войдя в избу поварихи, ахнул. Кузьма ремонтировал полы. Он перебирал доски: заменил подгнившие новыми. Подгоняя их плотно одну к другой. Прибивал к сваям намертво.
Катерина возилась на кухне. Изредка смотрела, как выравнивается пол. Доска к доске. Все оструганные, белые.
— Приморили кента? — рассмеялся Сашка, войдя в избу. И сняв куртку, принялся помогать Огрызку. Улучив момент, когда Катерина вышла в кладовку, сказал тихо:
— Отныне с фраером, какой в общаге с тобой дышал вместе, не трехать ни о чем. Стукач он. Я его засек. Паскуда эта к тебе приставлен. Для задушевного трепа. Расколоть тебя вздумал. Стерегись. Не оставайся с ним наедине. И с другими про политику — не трехай.
— На хрен она мне сдалась? Что я в ней смыслю? — удивился Кузьма.
— Может, другие попытаются тебя на эти разговоры вытянуть. Молчи, линяй от всех. Так оно файней будет. Катерину предупреди. Но не сшибай с катушек. Знай, ей до конца ссылки всего год остался. Стерпите, — предупредил Чубчик.
— Заметано, — согласился Кузьма, обрадовавшись, что через год вместе с бабой уедет с Колымы навсегда…
— Куда?
— Да хоть к ней на Смоленщину. В деревню. Там, баба ботает, народ смирный, сердешный, все трудяги. Дышат открыто друг перед другом. Не таясь, не подличая.
— Бывал я там — на гастролях, — усмехнулся Чубчик и продолжил: — Беднота в том Смоленске беспросветная! Голодуха! Народ там злой. Перебиваются с хлеба на воду. И, что отвратно, ни в одной хате спереть нечего. В любую возникни — зенкам зацепиться не за что. Ну хоть ты им червонец оставь! Многие даже хазы не запирают. Прятать нечего. Как ты там приморишься — не пойму!
— Какая ни на есть, а своя эта земля Катерине. Небось, не сдохнем. Прокормимся! Руки при нас, — вздохнул Кузьма и выдал сокровенное: — Только бы дожить, только б вырваться нам отсюда!
Чубчик вздрогнул сердцем. Не первый день знал он Огрызка. Казалось, изучил лучше себя. Но вот этот стон… Он выдал все страдания, выплеснул наболевшее и пережитое. Сашка еще и теперь чувствовал свою вину перед Кузьмой за прошлое. Именно потому, стараясь ее загладить, пытался помочь Огрызку.
— В следующий выходной потолок надо закрепить, — указал Кузьма и добавил: — Я потому сказал тебе, что в общагу не покажусь. Некогда мне.
— Всюду стукачей стерегись. Ведь и я не из всякой беды сумею выдернуть, — предупредил Чубчик.
Кузьма знал: Сашка впустую слов не говорит, и стал подозрительным. Он отворачивался от каждого, кто пытался заговорить с ним. Старательно избегал всяких общений. И только дома отводил душу с Катериной. Ее он провожал и встречал с работы. Она одна заменила ему всех. Ей он доверял всего себя. И женщина не могла нарадоваться на Кузьму.
За месяц, какой ни есть худой и маленький, поставил избу на ноги. Целиком отремонтировал, обновил, выпрямил и выровнял. Не просто пол и потолок, стены обил вагонкой. Покрыл их лаком. Заменил рамы в окнах. И чтобы никто не бил стекла, повесил ставни. Крепкие, глухие. Снаружи железом их обил. Покрыл крышу избы черепицей. Навел порядок на чердаке.
Сам смастерил новую лестницу. Но входную дверь на чердак забил наглухо. Сделал новый вход — из сарая. Чтоб никто чужой не мог попасть на крышу незамеченным.
Другой на месте Огрызка отходил бы от зоны: отдыхал, вернувшись с работы, валялся на диване, который купил Кузьма с первой зарплаты. Но не лежалось! И он все время был чем-то занят.
Не дожидаясь весны, выкопал в избе подвал. Небольшой, но удобный. Едва в магазин поселка привезли картошку, Катерина в подвал три мешка засыпала. Все мужа хвалила. Тот и рад стараться. Обещал весной во дворе свой колодезь выкопать, чтобы не ходить к соседям, не просить водовоза.
— Ну и что с того, если меньше года остается здесь жить? И это время по-людски дышать надо, — говорил бабе.
Казалось, поселок привык к Огрызку. Смирился с ним, видя трудолюбие и покладистость. Никто не задевал, зная нелюдимость и скрытность человеческую. Да и сам понемногу, в тишине, душою отходить начал. Не озирался на громкие голоса. Не вздрагивал дома от каждого голоса с улицы. Вот и в эту зарплату, едва получив, решил Катерине купить обнову — валенки с калошами. Чтоб не морозила она ноги в резиновых сапогах, в которых из зоны в поселок приехала.
Вернулся домой с покупкой. И вдруг шум услыхал, доносившийся от столовой. Кузьма выглянул. Увидел Катерину, отбивающуюся от троих мужиков. Подвыпившие, они взяли ее в кольцо, хватали за груди, зад, смеясь, горланили:
— Что твой хорек? Разве может он с тобой справиться? Ты, баба, попробуй, кто такой — настоящий мужик! Какого с ночи до вечера транда будет помнить! Пошли за угол! Чего тебе терять?
У Кузьмы в глазах потемнело. Он кинулся к мужикам, даже не подумав, что их трое.
Первого, самого наглого, вмиг на кулак подцепил в челюсть. Да так, что кровь изо рта брызнула. Далеко отлетел мужик, грохнувшись спиной об лед. Второго — в пах. Глаза закатил. Вмиг отрезвел. Л третий из-за пояса нож выхватил, на Кузьму кинулся:
— Пригрелись гады всякие на нашей шее? Срань свою прячете? У, контра недобитая! Давить вас всех надо!
Кузьма двинул ему по печени. Мужик, согнувшись ненадолго, еще больше рассвирепел. Глаза совсем красными стали:
— Нас, работяг, всякая шушера на кулак берет? Ты нам сапоги вылизывать будешь, гнида недобитая! Политическая блядь! Всех вас перебить надо!
Кузьма, мигом оценив ситуацию, взял мужика за кентель.
Катерина пыталась утащить Кузьму домой. Но Огрызок цыкнул на бабу, велел в избу убираться.
Тут толпа собираться начала. И, не узнав, в чем дело, принялась стравливать мужиков. Подзадоривала.
Огрызок понимал, что ничего хорошего ожидать не приходится. Толпа поддержит своих, вспыхнет не драка, а побоище. И во всем виновным окажется он, Кузьма. Но оставить мужиков с поддержкой толпы, а самому уйти, означало — дать повод и на завтра приставать к Катерине любому желающему.
— Да чё ты трясешься? Вмажь этому говну по соплям! Чтоб знал, как задевать наших! Ишь, приехало сюда всякое ворье! — провоцировали мужиков из толпы.
Кузьма по голосу узнал Самойлова. И, отыскав его в толпе, бросился к нему напролом. Но кто-то опередил Огрызка. Откинул ударом на лед. Кузьма еще не успел вскочить на ноги, как услышал:
— Кенты! Нашего молотят! — и двое озверелых мужиков врезались в толпу, круша, разбрасывая, калеча каждого попавшегося под руку. Толпа, на миг оцепенев и поредев слегка, сбилась в кучу. И, ощетинясь, поперла на фартовых. Крик, брань, стоны, хруст — взметнулись искрами во все стороны.
— Бей воров!
— Гони их из поселка!
— Убить их, убить! — перекрывали друг друга голоса. На вытоптанном снегу перед столовой алели пятна
крови. Орали, пытаясь успокоить своих отцов и мужей, женщины и дети. Иных выволакивали из побоища с разбитыми до неузнаваемости лицами, с выбитыми зубами. Других волокли — сами идти не могли. Кто с кем дерется и за что, невозможно было разобрать! Бабы плакали, унося домой искалеченных мужиков.
У одного перебили позвоночник. Не то что идти — встать не может. Второму обе ноги переломали в драке. Третьему вышибли глаз. Старые и молодые — все в крови и синяках, они никак не могли успокоиться и дрались зло, с остервенением, не глядя, кого бьют, лишь бы кулаки кого-то доставали. Милицейский свисток, как холодный дождь, тут же парализовал драку. Все на секунду оцепенели, замерли. И поспешно попытались улизнуть подальше от столовой.
— Всем на месте быть! — послышались голоса оперативников.
— Что случилось? — подошли к толпе, вмиг указавшей на Кузьму.
— Зачем же ты так? — глянула на него с укоризной Валентина. Огрызок стоял, понурив голову. Но в это время подоспела Катерина. Она рассказала все. И оперативники, вырвав у толпы троих виновников драки, повели их в милицию, закрутив им руки за спины. Самойлов, проходя мимо Кузьмы, обронил, словно невзначай:
— Не сойдет это тебе даром…
Кузьма, словно кто подкинул его, подскочил к Ивану, кулак сработал сам — в висок. Мужик упал, толпа загудела.
Валентина едва успела оглянуться, заметила здоровенного парнягу, замахнувшегося на Огрызка колом из забора. Кузьма пружиной отскочил. Кол сшиб с ног машиниста драги. И снова толпа раскололась на две части. Теперь уж между собой стали выяснять отношения. Правоту доказывали кулаками.
— Иди домой! — строго приказала Кузьме Валентина и предупредила: — Приведи себя в порядок и зайди в милицию. Разобраться надо. — Но, подумав, предложила: — Лучше я сама зайду. Попозже.
Кузьма умылся, переоделся. Глянул на себя в зеркало. Да, без синяков и его не оставили. Такого фингала под глазом он давно не имел. «Стареть начал. Раньше меня никто не успевал на кулак взять. А тут вон как изрисовали…» И тут же вспомнил об обнове для жены. Достал валенки, заставил Катерину примерить их. И услышал злые голоса во дворе. Когда выглянул из двери, глазам не поверил: Валентина, сшибив с ног громадного мужика, гасила горящий угол избы.
Кузьма схватил первую же попавшую под руки тряпку, сшиб пламя. Дико, по- звериному, кинулся на мужика. Вдавил пальцы в глаза. И, если б не Валентина… Сшибла Огрызка с поджигателя. И велела Кузьме быстро прийти в милицию. Сама повела пойманного в отделение.
Неделю гудел поселок. Всех виновных отправила милиция в воронке в Магадан. Но жители никак не могли смириться с тем, что четверым мужикам предстоит суд, а фартовые — сухими из воды вышли. И Катерина ходит в жертвах… Ей вслед не одно злое пожелание было послано. Ее проклинали, ругали на все лады. А она словно не слышала. Ходила по поселку, подняв голову, и никого вокруг себя не видела и не замечала.
Кузьма, после случившегося, обнес избу крепким забором из металлических прутьев. Такие не только человеку, трактору не согнуть. На концах — острые пики. Высота забора такая, что и здоровенному мужику рукой не достать. Меж прутьев — мыши не проскочить. Й ворота повесил железные. Их бульдозер не сдвинет.
Поселковые, глядя на это, злились и завидовали:
— Во, живучая мразь! Окопались у нас под боком! И смотрите! От нас отгородились! Вроде они — люди, а мы — говно!
Кузьма даже колючую проволоку натянул, чтобы ни одна пакость не вздумала без приглашения в дом войти. Вроде сам себя в зону заточил, предпочел добровольную неволю общению с вольными.
Он ни одного дня не сидел без дела. И едва пригрело солнце, вместе с Катериной оштукатурил избу, побелил ее и взялся за колодезь. К ночи кирка и лом со звоном выпадали из рук. Но Огрызок ни на день не оставлял задуманное. И после работы до глубокой темноты долбил мерзлый грунт. Углублял яму сантиметр за сантиметром. Без перекуров, без отдыха. Пот заливал глаза и шею, стекал по спине. Но Кузьма был упрям. Он сам себя заставлял и торопил.
«Пусть полгода! Хоть неделю! Все равно свой колодец выдолблю! Не буду и в этом зависеть от соседей! Мужик я или нет?» — вгрызался лом в мерзлый грунт с визгом, брызгая ледяными искрами в лицо.
Катерина устала отговаривать, упрашивать, чтобы отдохнул. Кузьма был неумолим, настырен. Он даже в темноте копал колодезь.
Однажды увесистый булыжник, перелетев через забор, упал рядом. Огрызок оглянулся. Но не увидел бросившего. И продолжал свое.
— Кузьма! Иди ужинать! — вышла на крыльцо Катерина. Огрызок отмахнулся. Он не любил, когда ему мешали.
— Эй, кент! За какие бабки нанялся? — внезапно услышал он из-за забора. И, приглядевшись, узнал пахана своего барака.
— Хиляй сюда, потрох! — услышал требовательное. И ноги послушно потащили Огрызка к забору.
— Притырь меня на неделю…
— В бегах? — ахнул Кузьма. Пахан едва приметно кивнул головой.
— Ко мне нельзя! — решительно загородил калитку Огрызок.
— С чего это?
— Под колпаком сижу. Пасут меня.
— Кто? Лягавые? Ты ж отзвонил свое! Иль попух на чем?
— Да не менты стремачат. Чекисты, мать их суку! — выдавил Кузьма.
— Чекисты? — глаза пахана округлились: — А чем ты им не потрафил? Иль по бухой оттыздил кого из их кодлы?
— Да нет. Не я! Моя баба! Ссыльная она, — отвернулся Кузьма.
— Подженился, потрох? То-то, гляжу, вламываешь тут. Ну только на хрен тебе приключения на задницу? Иль обычных шмар нету? Вольных?
— При чем я? Ты-то чего сюда прихилял, зачем? Прииск тут. Ментов прорва! Смывайся шустрей!
— Ты меня не дави! Не бери «на понял». Мне линять некуда. «Залечь» надо. Устрой, — не попросил, потребовал пахан.
— Тогда к Чубчику надо. Он сообразит.
— Хазу забей мне. А у кого — твои дела, — ответил фартовый.
Сашка, едва услышав о беглеце, на Огрызка с бранью набросился. И наотрез отказался помогать пахану. Кузьме, открыв дверь, сказал вдогонку:
— Не ввязывайся в дерьмо. Покуда не засветился — отмажься от пахана. Но фартовый будто услышал сказанное Чубчиком. И потребовал:
— Примори, слышь, Огрызок? Иначе и тебе не сдобровать.
Кузьма повел его к фартовым, вступившимся за него у столовой. Те приняли пахана легко, с радостью приютив у себя в комнатенке старого дома. Огрызок вздохнул с облегчением. Вернулся домой, стараясь забыть о фартовом. Но утром, едва собрался идти на работу, в избу вошли двое оперативников из милиции. Предъявили ордер на обыск. И через час, обшарив каждый угол, поставив все на дыбы, забрали Кузьму в отделение милиции. Оперативники ничего не говорили. Ни о чем не спрашивали. Не сказали, что ищут. Они работали молча. И уводя Кузьму из дома, надели ему наручники. По пути в милицию, оперативники подталкивали Огрызка в спину. Торопили. Не отвечали на его вопросы. Когда втолкнули в камеру, обронили скупо:
— Волка, сколько ни корми, все в лес смотрит. Так и ты. Вором был, им и остался.
Три дня просидел Кузьма в полнейшей неизвестности, не зная, за что его взяли, в чем подозревают, что случилось в поселке?
Его никто не навещал. Ни голоса, ни звука не просочилось в камеру снаружи и, казалось, жизнь за ее стенами умерла навсегда.
На четвертый день в камеру втолкнули мужика, которого Огрызок никогда не видел в поселке. И хотя жителей его он знал плохо, сразу подумал, что человек этот не местный. Он назвался вором, бежавшим из зоны вместе с Капелланом, паханом барака фартовых.
— Вдвоем мы смылись. Капеллан сюда подался. А меня не взял. Велел оторваться от него. Мол, врозь линять проще. Если уж накроют, то одного, второй на воле останется. Вырвется, пока с припутанным разберутся. Видно, хотел кого-то на башли тряхнуть. Я и смылся от него. Но накрыли. На дороге. А тут, слышу, сберкассу ночью вычистили. Кто ж, как не Капеллан? Он, падла! Не мог подождать, пока я сорвусь! Конечно, не один тряхнул кассу! С наводкой! — глянул на Кузьму многозначительно.
Огрызок вскипел. Но виду не подал. Ответил, как сплюнул:
— Ни кассы, ни Капеллана не знаю. Не до них. Если и смылся пахан, с чего ко мне возникнет? Я не был в законе Ему — не кент…
— Ему не до жиру! Выбора нет. Тебя он знает, — не поверил мужик. Огрызок усмехнулся:
— Знал… То было в зоне. Теперь баста. Завязал я с фартом. Откололся. Пашу, как фраер. Мне — не западло. Я не законник, «малине» не обязанник. И Капеллану — не сявка…
Кузьма недоверчиво присматривался к соседу. Ничего не говорил ему. А про себя выводы делал:
«Неделю назад из зоны сорвался, а мурло будто вчера скоблил. Где побриться успел? А и клешни не побиты, не мечены рудником. Ни царапины на них, ни ссадины. Ногти вон какие вычищенные. Я в жизни таких иметь не буду, как у бабы», — подметил Кузьма, исподволь разглядывая человека.
— А чего ты пахана не принял? — спросил тот внезапно.
— Да я и не видел его.
— Темнишь, он к тебе хилял. Капеллан тропку не сеет.
— Может, и хотел нарисоваться, но не пришлось, — ответил Кузьма и решил осторожно вытянуть из соседа все, что тому было известно: — А Капеллана накрыли на кассе? Сколько он спер?
— Кто его знает, я от ментов слышал про все. Они не очень при мне болтали. Трясли за душу, где, мол, с паханом встретиться хотели? Знать, не накрыли пока Но приступают! Тут смыться — не обломится.
— То-то у меня всю избу на уши поставили, — выдохнул Огрызок и добавил — Выходит, бабки шарили.
— Капеллана, — подсказал сосед.
— Мою избу без ментов есть кому стремачить, — отмахнулся Кузьма и, сделав вид, что разговор ему не интересен, отвернулся к стене. Задумался: «Как ни крути, выходит, Чубчик засветил. Вякнул своей лягавой, что просил я его о пахане. Иначе с чего меня замели, даже мосле обыска, ведь ничего не надыбали. Но знают: виделся с фартовым. Начнут давить, куда его справил? Что же мне теперь светит?» — задумался Огрызок, вспоминая все статьи уголовного кодекса. «У себя я его не оставил. Значит, укрывательство не пришьют. В дело не ходил с ним. Обыск подтвердил… Отвел к фартовым? Ну так это попробуй, докажи! Остается одно — не сообщил о нем в ментовку! Не засветил законника. Но и что попробуй пришей, значит, вместе со мной Чубчика
за задницу надо брать. Он тоже знал. Но если б засветил, не успел бы Капеллан тряхнуть кассу. Это уж верняк. Но тогда зачем меня приморили?» — не понимал Огрызок.
— Огрызок! На выход! — послышалось от дверей. Кузьма вошел в кабинет следователя спокойно. Едва
присел, вопросы посыпались. Один другого каверзнее. Кузьма стоял на своем. Никого не видел. Ничего не знает, ни с кем не общался. С зоной связи не держит.
— Одумайтесь, Кузьма! Человек, которого вы укрыли, рецидивист. Его найдем. Самое большее — через пару дней. Но тогда… Скажите лучше сами, где вы его спрятали? — настаивал следователь.
— Не видел я его, — стоял на своем Кузьма. Его вернули в камеру, под злое напутствие:
— Не выпущу, пока не скажешь! Хоть сдохни в камере… Кузьма остановился на пороге. Оглянулся на следователя и ответил:
— Хватаете кто ближе? Козла нашли?
Огрызку не дали договорить накипевшее за эти дни. А вскоре вызвали на допрос соседа. Он вернулся, матерясь во всю глотку. Проклинал Капеллана и следователя:
— Пришьют чужой хвост к жопе, впалят добавочный червонец и загорай на Колыме до смерти за всякую падлу! Охота мне была тянуть еще одну ходку ни за хрен!
— Все равно за побег добавят! — успокаивал его Кузьма.
— За побег столько не пришьют, сколько за кассу прибавят, — стонал мужик.
— А ты не знал, куда намылился? Я за бега, считай, столько же тянул, сколько за свое получил. И никому на уши не вешал. Как тебя накрыли? Где? Тебя когда привели сюда? Меня на три дня раньше! Чего на жаль давишь? Не мог же ты, линяя в Магадан, здесь кассу взять! Темнишь, сосед! Все лажа! На ходу дела не делают. Да еще такие! Их проворачивают без таких, как мы с тобой! Не высвечиваясь. И Капеллан — не дурак! Он и тебя, и меня пришил бы враз, сорви свой куш с кассы. Это как два пальца обоссать!
— Конечно, такой зажилил бы положняк! Он теперь на воле. А вот мы? Так ты-то знаешь, где он? Вякни! — просил сосед.
— Ни в зуб ногой! Клянусь мамой! — соврал Огрызок, понимая, выведи он милицию на фартовых, Капеллан его из-под земли достанет, сведет счеты. «Промолчи — с Чубчиком дело иметь придется. Уж если ему фартовые промолчали о пахане, значит, жирную долю им отвалил Капеллан. Либо вместе в деле были. И теперь сбежали с Колымы. Подальше от всех зон, чтобы задышать своей «малиной». Пусть и маленькой, но наглой», — размышлял Кузьма.
Он не верил соседу. Уж очень словоохотливый мужик оказался. Хотя… Всяких хватает в «малинах». Но этот знает многих. Вот только одно смущает. Вроде знает Капеллана не один год, в «малине» его был, а Огрызок от пахана барака никогда не слышал о Моските, как назвал себя сосед. Хотя вместе с Капелланом не одну зиму кантовались в бараке и вечерами пахан любил тряхнуть былым — вспомнить кентов, жаркие, удачливые дела. Огрызок помнил те вечера. Не раз и сам, лежа на шконке, перебирал в памяти прошлое. Москит? Нет, никогда он не слыхал такой кликухи. «Выходит, «наседку» мне подкинули менты? Но что узнать хотят, что вытянуть? Может, подозревают и меня в ограблении кассы? Ведь вон следователь прямо с этого начал. Если они не поймают пахана, вполне могут на меня его дело повесить. Докажи, что не воровал, этим падлам! Хотя почему обязательно я — крайний? В поселке фартовые имеются! Почему их не трясут?» — злился Огрызок, пытаясь заглушить в себе и другой голос: «Вот накрыли тебя, а Катерина и не навестит! Небось, и рада случаю отвязаться. А зачем ты ей теперь? Хата отремонтирована, все в порядке в самой избе. Доживет год и смотается на свою Смоленщину одна. Даже не спросит, где Кузьма, куда его дели? За все дни корки хлеба не передала. Эх! Бабы! Все вы одинаковы! Покуда рядом — своя! Стоит жареному петуху в сраку клюнуть, гут же имя забываете, кого недавно обещались любить до гроба».
— Выходи, Кузьма! — крикнул охранник, внезапно появившись в дверях. Огрызок удивленно глянул на него:
«По имени назвал! С чего б на пса блажь нашла? В какое говно носом воткнуть теперь вздумали?» — он поплелся к двери, еле волоча ноги.
Только теперь заметил, что Москита нет в камере. Увели, покуда он дремал. «Ну, да и хрен с ним!» — вышел Кузьма в коридор и тут же увидел Катерину. Она бросилась к нему со всех ног:
— Пузырек ты мой паршивый! Бедный мой чувырло! Глянь, как исхудал! Совсем измучили тебя ироды! Извели мою кикимору! — схватила мужика в тугие, потные объятия.
— Да подождите вы! Минуту погодите здесь! Чего налетели? Дайте пройти. Сейчас разберутся! — придержали Катерину у двери следователя.
— И я с ним! — орала баба, не выпуская из рук Кузьму, вцепившись в него намертво.
Из глаз Катерины рекой текли слезы.
— Входи! — впустил Кузьму в кабинет охранник и, став стеной перед Катериной, не впустил ее с Огрызком. Цыкнув на бабу, велел замолчать.
— Ну и жена у вас! Настоящая политическая! Какой скандал подняла в Магадане! Москву телеграммами засыпала. Справедливости искала за тридевять земель. А мы ее тут нашли! Поймали Капеллана. Сами! Он и подтвердил, что не имел встречи с вами. Это все. Больше вы нас не интересуете. Идите домой. Ошибка? Нет! Это проверка на моральную зрелость была! Вот если б вы его укрыли, помогали скрыться, тогда — другое дело! Может, и не удержались бы помочь. Но… Нас дезинформировали. Все источники — Александр, Катерина и сам Капеллан не подтвердили факта помощи беглецу! На ваше счастье, Кузьма! Считайте, что отдохнули у нас от работы! Эти дни вам будут оплачены прииском. Ну, а недоразумение — забудьте! — вернул документы следователь, заставив Кузьму расписаться в постановлении о прекращении против него, Огрызка, уголовного дела.
— Можно идти?
— Конечно, — кивнул следователь.
Кузьма, резко толкнув дверь, вышел в коридор. Молча подошел к Катерине, протянувшей к нему обе руки.
— Пошли домой, кентуха! — выдохнул, словно стряхнул с плеч тяжелый колымский сугроб.
Едва они вошли в дом, кто-то в окно постучал. Кузьма открыл, в избу вошел Чубчик.
— Катерина, у меня к твоему кенту разговор имеется. Слиняй ненадолго, — попросил он бабу.
Едва она вышла в кладовую, Чубчик рассказал Кузьме обо всем, что произошло:
— Пасли тебя. Огрызок. Не иначе как Самойлов, пропадлина. Он и засек, как ты с Капелланом говорил. Средь ночи чекистов на уши поднял. Те — ко мне. А я у фартовых был. Куда ты пахана сунул. Ну и дал им взъебку. За гостеприимство и радушие Капеллана выкинул. Напомнил, что здесь не зона, а прииск, где я — бугор. Ну и трехнул, чтоб шевелился шустрей и шмалял без оглядки, чтоб мужиков не подводил. Он вымелся. А по пути не удержался. Завернул в сберкассу. Там на кассиршу рявкнул. Она деньги инкассаторам готовила. Старая баба. Струхнула. Он бабки сгреб. И пока баба опомнилась, сиганул в машину, которая почту в Магадан отвозит и, если б не сопровождающий, слинял бы потрох. Но тот его в боковое зеркало приметил. Водителю сказал свернуть к милиции. Подъехали. Пока менты доперли, Капеллан смылся. Неделю его пасли по городу. Нашмонали в порту. Вместе с башлями взяли. Тебя он отмазал, а со мною встретиться обещал. Считает, что я его засветил.
— А Москит? Он откуда?
— Утка. Из чекистов. Ловил тебя на дурака. Но мимо. Так и сказал, что прокол, Самойлов, дескать, опять спиздел. Личные счеты с тобой сводил. Но ты секи, Огрызок, он еще не раз попытается отыграться на тебе. Кончай с ним залупаться. Неровен час припутает накрепко. И тогда за все разом с тобой расквитается. Не впустую ботаю. Не кентуйся с беглыми, коль семью завел, дыши тихо. Для тебя любой риск может стать последним. За все разделаются. С тобой и с бабой! Допер? То-то! Ты и она — до гроба на мушке у чекистов. Потому что политические теперь вы оба. С обоими и счеты будут сводить. Не иначе.
— Я в политике не застрял!
— А живешь с кем? То-то и оно! Теперь, хочешь иль нет, всего жди. Не зря предупреждал. И вот что секи. С Самойловым не махайся. Не покажи виду, что знаешь, кто он. Пока тебе стукач известен, ты знаешь, как защититься. Но если его заменят, с новой сукой никто не познакомит. Вот тогда стерегись. От любого жди паскудства. А потому береги Ваньку! Не плюй ему в мурло! Не сворачивай шнобель на сраку. Пылинки с него сдувай. Потому что он хоть и говно, но известное. На умную, тонкую подлость он не способен. Ума не хватает. А от глупостей тебя даже Катерина убережет… Когда Сашка ушел, Огрызок еще долго обдумывал сказанное им и для себя решил придерживаться советов Чубчика.
Одна Катерина, возясь у печки с кастрюлями и сковородками, долго не могла выбрать время, чтобы рассказать Кузьме обо всем, что произошло в его отсутствие.
Лишь поздним вечером, искупав Огрызка, накормив его, присела тихо рядом на диване, пользуясь сумраком, вытирала мокрые щеки, рассказывала:
— Я ведь не знала, куда ты подевался, воробушко мой. Ждала до вечера, все в избе прибирала. Не поняла, почему такой бардак у нас? А когда ты и к ночи не вернулся, тут уж я в общежитие пошла. Глянула, нет в комнате. Только мужик какой-то газету читал. Спросила о тебе, он, как в жопу ужаленный, подскочил до потолка и заорал: «С ворами дел не имею! Я — честный человек и нечего о блатных спрашивать! Может, его убили! Откуда знаю? В милиции спрашивайте!» Обложила я того малахольного матом со всех сторон. Рассказала ему и о нем самом, и обо всех его родственниках. Пообещала яйцы через уши вырвать, если этот мудак еще раз о тебе хоть одно плохое слово скажет. И пошла не в милицию, а к чекистам.
— Зачем тебя к ним понесло? — изумился Кузьма.
— Да как же? Это ж их проделки! Они, никто другой, на всей моей судьбе соль сыпят. Они не тебе, мне решили напакостить. Убрать мужа от меня! Отнять, отвернуть, чтобы сбежал, уехал, отказался, а я опять одна осталась бы! Кому надо из-за бабы горе мыкать да из неприятности в беду попадать? Ну, раз, другой, третий, потом надоест. Человек устает от горя. А тебе мало на долю выпало? Только из зоны и снова в камеру! Да было бы за что. Ни в чем не виноватого сгребли! От меня отняли! Ну я и устроила им тарарам! Влетела к ихнему старшему. Он, боров кастрированный, чай с булкой пил. Я как грохнула по столу кулаком: «Вертай мне мово Огрызка! Не то всю рожу издеру! Так отмудохаю, родные откажутся!» Он, гад, на кнопку нажал. Двое мордоворотов пришли. Он им на меня кивнул: «Заберите в камеру. Когда в себя придет, отпустите». Они и бросили в кутузку! И сами в нее заперлись. Давай меня заламывать, да раком ставить. Тут до меня дошло! Вскочила я с иола! Да как понесла обоих. Одного в пол чуть не втоптала, другого в стену влепила. Много бы из них котлет намесила, но к ним подмога подоспела. Вырвали тех кобелей из моих рук и разом в больницу увезли. А меня уже без похотей пятеро чекистов били. Думала, насмерть угрохают. Я уже на ногах не стояла, а они все швыряли меня то в угол, то в дверь, то в стену, то в пол. Со всего маху, как тряпку. Поднимут от пола и швыряют. Да головой, да мордой. Ни одного живого места не оставили. Я — в крик. Они — злее. Я тогда ополоумела. Поняла: один у них выход — убить меня. И не себя мне стало жаль, а тебя, чума ты моя ходячая. Как подумала, что не свидимся, горько стало. Да так в грудях сдавило, словно до смерти и вовсе немного ждать. Ну, была не была! Рванулась я от стены, да как кинулась на амбала, какой у двери стоял. Отшвырнула под ноги извергов, какие меня измолотили, и в коридор, оттуда на улицу. Домой заскочила, схватила паспорт и деньги, все, что были, в Магадан рванула.
— Как же досталось тебе, бедолага моя родная! — трясла Кузьму запоздавшая злоба.
— Когда я наружу выскочила — глядь, орава чекистов ко мне в избу направляется. Я от них закоулками. И на дорогу. Только остановила машину, оглянулась, чекисты бегут. Говорю шоферу: «Жми, братишка! На все педали. Да пошибче! Спаси от смерти, от разбойников!» Он и помчал без оглядки. Я ему по дороге все рассказала. И про тебя, и про себя, впервой чужому человеку доверилась. Сердцем почуяла — поймет. И не просчиталась. Он не то что копейки с меня не взял, а привез куда надо. В прокуратуру. К следователю Кравцову. Его весь Север знает. Все зэки. Потому что он за свою справедливость сидел. Целых десять лет. К нему меня шофер привел. Прямо в кабинет. Показал на меня и просит: «Игорь Павлович, еще одну горемыку к тебе привез. На дороге подобрал. У прииска. Глянь, что утворили чекисты с нею! Помоги! Такое, что она мне рассказала, не всяк мужик вытерпит. А она — женщина. Кроме тебя, ни понять, ни помочь ей никто не сможет». А тот ответил: «Не беспокойся, конечно, приму». Но когда на меня глянул, аж с лица сменился весь. Врача вызвал в кабинет. Тот мне уколы, таблетки, промыванья, перевязки делал. И больничный на неделю дал. А вечером меня Кравцов принял. Я ему все рассказала. О себе и тебе. О чекистах-мучителях. Он слушал, что-то себе на бумагу писал. Когда я все ему выложила, он ничего мне не сказал, только спросил, где я остановилась. Я и ответила: «А нигде! Сразу с машины — к вам! В Магадане никого нет».
«Понимаете, в один день мы ничего не успеем. А уезжать вам на прииск без результата никак нельзя. К тому же справка о медицинском освидетельствовании будет готова лишь завтра утром». И посоветовал остаться в городе до полной победы. Я ему сказала, не беспокойтесь, если надо — дождусь. Вот тут на стульчике в коридоре спать буду, если разрешите. Только отдайте мне моего Кузеньку. Тот Игорь Павлович головой качает. Позвонил по телефону кому-то. Глядь, опять тот водитель приехал. Кравцов ему и говорит: «Возьми к себе свою попутчицу на несколько дней. Пусть у тебя поживет. С нею в один день не успеть. Завтра к девяти доставь ее в прокуратуру, сюда». Шофер, Федей его зовут, и говорит мне: мол, надо в Москву написать телеграмму. Чтоб и оттуда приисковым чекистам дали чертей. Мы с ним и поехали на почту. Десять телеграмм послали в Москву. В прокуратуру Союза, всем властям — самым большим! И даже туда, кому прокуратура подчиняется. Откуда амнистии идут.
— В Верховный Совет? — удивился Огрызок.
— Ну да! Ихнему председателю, — подтвердила Катерина — А утром я приехала к Кравцову. Тот уже про меня и про тебя запросы в архив сделал. И заключение у медиков на меня взял. Наши дела из архива ему на другой день принесли. Их он два дня изучал. С выписками. И все по-культурному ругался. Кретинами да дегенераторами называл. По-нашему, видать, при мне не решался высказаться. Когда все проверил, велел мне у Федора пожить пару дней. Мол, у него, Кравцова, нет больше ко мне вопросов. Я опять засомневалась. И снова на почту. Опять телеграммы разослала. Злые. Мол, пока вы там не шевелитесь, человека убить могут. Ни за что! Зачем же вы — власти, коль людям не помогаете? И через день меня Игорь Павлович к себе вызвал. Мол, не лезь, куда не надо. Разберемся на месте. А понадобится помощь Москвы, так на столе телефон стоит. Связь круглосуточная. В минуты соединят. Ну, а я ему в ответ: «Да не Москва, сдалась бы она мне! Пусть Кузьку вернут живого и здорового! Тогда я ни в Москву, ни в Магадан не покажусь». А сама реву от страха. А вдруг убили тебя, лягушонка моего? Прошу Кравцова, мол, позвони, узнай, живой ли мой сверчок? А он и отвечает, что если что случится, ответят чекисты своими головами. Я как взвыла: «Зачем их головы? Мне Кузю надо! А этим потом хоть яйцы с корнем вырвите! Это уж ваше дело. Но сначала мне помогите!» — «А я что делаю? Чем занимаюсь? Ждите и не мешайте!» — приказал Игорь Павлович. Ох и строгий человек! — вспомнилось Катерине. — Ну, а еще через день вызывает и говорит: «Теперь все в порядке. Возвращайтесь в поселок. Придите в милицию и вам отдадут вашего мужа. Но через пару месяцев мы встретимся вновь. Не в Магадане. У вас!»
— Я и онемела, — призналась баба. И, вздохнув, продолжила: — Послала я его в задницу! Сказав, что не хочу больше битой быть. Ни чекистами, ни милицией. А прокуратура с добром еще никого за всю жизнь не навещала. «Значит, не желаете нас видеть? — опять спросил Игорь Павлович и добавил:
— А зря! Может, даже доведется вас порадовать. И не только вас. А и других». Ну, я и ответила, что у меня через полгода ссылка кончается, уедем на Смоленщину и не нужна нам амнистия. Она, как северная весна, всегда приходит запоздало. Когда ее уже ждать некому… «Вы дождетесь. Потому что теперь вы снова вдвоем с Кузьмой. Друг другу поддержка и опора. Да еще какая надежная! Верная!» Тут я вспомнила, спасибо ему сказала. За тебя и себя. В гости звала, как человека, не как следователя. А он смеется. И говорит мне: «Не до гостей, Катерина, не до отдыха! Пока льются бабьи слезы по земле нашей, не до сна нам. Ведь вот такие, как ты, жить и выжить нам помогали. И даже Колыму выстоять и пересилить. Верностью своей и ожиданием. Смелостью и терпением давно лучшую долю заслужили. Да видишь ли, не всем по вкусу это. Не перевелись еще звери средь людей, кому и вы — бабы, помехой стали. И вам, вместо цветов, сегодня кресты еще ставят в изголовье. Потому нам не до отдыха. Езжай. И будь счастлива!»
Я и приехала. Федор доставил. Он тоже сидел на Колыме. Реабилитирован недавно. Три года назад. А ехать стало не к кому. Жена не дождалась. Дети отказались от него. Мать умерла. Отец тоже в тюрьме сидел. Заморили или расстреляли где-то на Печоре. Даже могилу его не смогли показать человеку. Вот и женился в другой раз. На такой же, как сам. Она — бывшая актриса. В театре работала. Настучали на нее завистники. Оболгали бабу. Двоих детей осиротили. Живут нынче в Магадане. В Москву калачом не выманишь. Боятся. И прежде всего людей, которые им жизни покалечили, — вытерла Катерина лицо фартуком и продолжила, всхлипнув: — Мне всегда казалось, что моя судьбина самая полынная. А как послушала Федора и его жену, поняла, что их жизнь страшней моей. Это — мученье. А ведь живут. Заставили себя устоять на ноженьках и не попадать в грязь. Так и одюжили горечко, держась за руку. Порозь ни в жисть такое не осилить.
— Ну и что в ментовке трехнули, когда ты возникла с ним? — напомнил Кузьма.
— Я же под вечер прикатила. И враз к лягавым. Но с наглой харей. Уже не боясь никого. Дверь кулаком открыла и говорю: «Где Кузьма?! Почему его еще не отпустили домой? Или ждете, чтоб я вам холку до крови намылила? А ну, подайте моего сморчка! Не то я из вас таких пельменей настряпаю, все волки на Колыме передохнут от отравы такой!» Тут дежурный мусор ко мне кинулся и орет: «Вы где находитесь?» А я ему в ответ: «В поганой лягашке!» Он глаза, как жаба, выпучил от удивления и спрашивает: «С какого праздника напилась, дура?» Ну, тут я не выдержала: «Сам ханыга! А ну, веди к начальнику своему! Главному лягавому! Чтоб он сдох, зараза! Под его нюхом что творят, почему не видит? Но ничего, скоро вы свое получите из Магадана. От Кравцова! Он вам покажет, где на Колыме есть зона бывших сотрудников органов! Там запляшете, гады!» Он хотел было дать мне в ухо. Но когда услышал фамилию Кравцова, так и раскорячился. Враз из лягавого в человека захотел вылезти. И спрашивает мол, откуда знаю о Кравцове? Я и ответила, что только что от него вернулась, из Магадана, — рассмеялась Катерина: — Что тут было! Лягавый вокруг меня на одной ноге заходил. Чаю предложил. С пряниками! Ну, а я и ответила: не для того в Магадан моталась, чтоб, вернувшись, чаи распивать в ментовке. Кузьму выпускайте и все тут.
Кузьма смеялся, хватаясь за живот:
— Чай, падла, предлагал! Видать, крепко их за яйцы Кравцов держит!
— Так вот, не оказалось на ту минуту начальника на месте. Он на алмазный завод уезжал. А без него тебя никто не имел права отпустить. Даже следователь. «На это распоряженье нужно сверху. Я вашего Кузьму не забирал, не арестовывал. Я получил указание. Кто мне его дал, тот пусть и отменит свое. И выпускает, если сочтет нужным. А мне с вами, гражданка, говорить не о чем». Ну, терпенье мое, чую я, кончается! И пошла сама в кабинет начальника мусоров. А лягавый, что в дежурных стоял, зазевался. Не увидел. Я в кабинет. А там секретарша сидит. Размалеванная в красках, как параша дерьмом. Юбка выше колен и все титьки на улице. Глянула на нее, совестно стало. Она и без вопроса сказала, что начальника на месте нет. А я и подумала: понятно, чем он занимается, когда у себя в ментовке бывает. С такой секретаршей о какой работе брехать? У ней жопа так обтянута юбкой, что сесть по-человечьи не может. И подумалось тогда — кто ж это над нами поставлен, что за власть? На мордобоях — с бабами, на работе — с потаскухами… Кому мы кланяемся, кого боимся? Но, что ни говори, утра мне ждать пришлось, — вздохнула баба: — Пришла я домой. Впотьмах на крыльцо еле взобралась. Ноги, руки еще и теперь болят после того дня. Все тело будто не мое. Вошла в избу. Пока печь затопила, нагрела хату, воды принесла, пыль везде протерла, вроде расходилась немного. Сколько себя ни уговаривала, не хочу спать и все тут. Уж и прилегла с закрытыми глазами — бесполезно. Так вот до самого утра. Все боялась за тебя. Живой ли? Уж пусть бы ты отказался от меня, уехал бы на материк сам, только бы не умер. Только бы жил, — вырвался стон, и Катерина умолкла, пытаясь проглотить, продавить жесткий комок слез, сдавивших горло.
— А утром как утряслось? — спросил Кузьма.
— Все быстро прошло. Едва я на порог, меня к начальнику. Тот мне давай морали вычитывать! Срамить! Ну, я ему все выложила, кто он есть, кто чекисты! На хрен им даром хлеб жрать, если они считают за работу — подглядывать и следить за одинокой бабой. Восемь лет… И это — люди! Они меня со свету сживали. А спроси — за что. Ведь я им до вчерашнего дня ни одного плохого слова не сказала. Впервой душу отвела. Теперь пусть знают, что это они сами меня такой вот сделали. Если за то надо считать политической — хрен с ними. Но Кравцов говорил, что быть политической — это вовсе не плохо. Я и сказала: конечно, лучше, чем ментом. Понял начальник все. Показал следователю какую-то бумагу, что из Магадана получил. И велел тебя отпустить… Дальше ты все сам знаешь, килька моя засратая, — погладила заросшую щеку Огрызка Катерина.
А наутро, провожая жену на работу, он сказал ей:
— Что-то у меня на душе тошно. Вроде предчувствие какое-то. Недоброе. Не знаю, чего ждать, откуда, но все же будь настороже.
Катерина в ответ лишь рассмеялась. И, потрепав Огрызка по кудлатой голове, ответила, что это у него от камеры отстатнее. Не обвыкся дома после ментовки и сердце стонет, всего пугается, не слышит разума, никому не верит.
Кузьма согласился, может, права баба. Но сердце целый день ныло непонятно отчего.
Выходя с прииска, через проходную, Огрызок решил, не заглядывая домой, сразу пойти в столовую. И, забрав Катерину, вернуться вместе. Кузьма расположился в дальнем углу столовой. Ждал конца ужина. Основной поток людей уже схлынул, и теперь остались запоздавшие, либо те, кому спешить было некуда. Они ели медленно, переговаривались меж собой. Искали партнеров на преферанс либо домино.
Долгими вечерами этим людям некуда было деть время. И потому нередко, сбиваясь в случайные компании, в разгаре выпивок вспыхивали драки. Кто кому из-за чего навешал, отчего, за что подрались, наутро никто не мог вспомнить. Мирила подравшихся все та же бутылка.
А выпивали на прииске все, в каждом доме, почти в любой семье. Исключение не понималось. Его воспринимали, как пренебрежение к окружающим, как вызов, как личное тяжкое оскорбление.
На прииске обозвать, послать друг друга туда, откуда на свет появляются, давно никого не обижало. На все эти выходки никто не обращал внимания. Здесь обращались друг с другом так, что ни один зверь не смирился бы с таким отношением и, с воем набросившись, разнес в клочья обидчика. Не только мужики, а и женщины, свалив все на глушь и заброшенки, забыли о гордости и давно не обращали ни малейшего внимания на оскорбления, мат, похабщину в их присутствии.
Но если кто-то отказался разделить бутылку, отверг угощение, он немедленно считался кровным врагом, не своим мужиком. А — задрыгой, жлобом, лидером. Ему отказывали в понимании. Его переставали уважать и считать за мужика. Его высмеивали открыто, ища повод для драк. Провоцировали на скандалы. И выставляли на посмешище. Поселок считал их отбросами.
Ссылки на болезни не воспринимались. Люди с прииска считали, что любую болезнь, какая бы она ни была, можно вылечить только бутылкой и ничем иным.
Здесь уважали крепких выпивох, кто мог винтом из горла, одним духом, высадить бутылку спирта и, занюхав ее хлебом, потребовать спирта еще. Тут в фаворе были те, кто за вечер мог вылакать спиртного больше других и, не свалившись под стол, добраться домой на своих ногах, не вырубившись по пути. Их считали мужиками. Знакомством, а тем более дружбой с ними хвалились напропалую. Такого было за честь пригласить в компанию. С ними хотели знаться все приисковые. Не удивительно было потому, что Огрызка поселок сразу невзлюбил. — Не пьет? Может, только за свои, а на халяву и ведро выжрет? — не
верили поселковые алкаши.
И, получив от Кузьмы несколько жестких, отказов, начали открыто презирать его.
Не раз, встречаясь в темных закоулках, вызывали его на драку. Получали достойный отпор. Но вскоре забывали. И задирали Кузьму снова. Но уже сворой. Тот не раз раскидывал подвыпившие кодлы. И хотя из таких драк выходил потрепанным, на сближение ни с кем не шел. Никогда, ни к кому не обращался за помощью, ни у кого не одалживал до получки. Обходился своими силами, рассчитывая только на себя, на свои силы.
Это бесило и удивляло поселковую публику. И если бы не Чубчик, которого не просто узнали здесь, а и боялись, Огрызку давно не дали бы жизни на прииске.
Но Сашка не мог находиться рядом с Кузьмой постоянно. И, улучив момент, когда Чубчика не было поблизости, пьянь приставала к Кузьме по поводу и без него.
Может, потому, устав отмахиваться от приисковой перхоти, Огрызок всегда старался остаться незаметным и выбирал самые укромные, самые темные углы. Вот и теперь тихо пил чай, думая о своем, он даже не прислушивался к разговорам за столами. Они не интересовали Кузьму. Он заметил, словно сквозь дрему, вошедшего в столовую Самойлова. Иван даже не оглянулся на Кузьму, они никогда не здоровались. И Огрызок, помня совет Чубчика, решил не замечать стукача.
Кузьма вздохнул, увидев, что за столами остались трое мужиков. Они допивали чай и сбивались «на козла».
Еще минут двадцать и, забрав Катерину из столовой, уведет ее домой. За ночь он отдохнет рядом с нею. А скоро, всего через полгода, они уедут отсюда навсегда.
Кузьма под диктовку Катерины написал об этом письма братьям и сестрам бабы. Теперь они ответов ожидали. Как-то откликнется родня? Обрадуется или отмолчится?
— Нет, они у меня добрые. Все до единого. Конечно, всплакнут, сыскалась я. Небось, думали, что померла. Поди, не знали, как поминать: за здравие иль за упокой? Нынче все съедутся. Ведь мы в тятину избу воротимся. Как она там? Видно, состарилась? Ну да отладим. В ней нам до конца вековать, — мечтала баба, считая дни. Скоро уж месяц минет, как послали письма Ответов на них до сих пор не пришло.
Кузьма уже и ждать устал. Но Катерина не переживала:
— Далеко от Смоленска до Колымы. Даже поезда к нам не добрались. Пока туда дойдут письма, месяц надо. Братья эти письма всем соседям и знакомым покажут, хвастаться станут радостью своей, что жива их сестра, не загинула на Колыме, а даже замуж вышла за хорошего человека, непьющего, работящего и доброго. Значит, не пропащая их Катерина, коль и там, в ссылке, по-людски живет. Других не хуже…
Огрызок улыбался немудрящему бабьему счастью. Как ему не понять ее? Ведь вон какая она!
Вдруг раздался шум. Он глянул и обомлел:
— А ну, давай, давай! Выкладай на стол все, чего в сумку напихала, воровка проклятая! — кричали вокруг Катерины мужики.
— Прошу вас быть понятыми! — громче всех орал Самойлов, вытаскивая из сумки Катерины головки чеснока, лука, кусок мяса.
У поварихи рот открыт — от страха или удивления — не понять.
— Милицию сюда! Живей зовите! Пусть сами увидят, своими глазами. На месте преступленья поймали! За руку! Это сколько витаминов, стерва, украла у рабочего класса?! — громче всех орал Самойлов.
— Мы их выведем на чистую воду! — орали понятые. Девки из кухни смотрели на мужиков, прячась за перегородку. Какая-то решилась, позвала милицию, повинуясь окрику Самойлова.
Кузьму, едва он подскочил, откинули к стене, как пособника. Двери в столовую открыли настежь. На шум толпа сбежалась.
— Не брала я этого! — выла повариха, заламывая руки.
— Из твоей сумки вытащили! Мы все это видели! И на суде подтвердим, как один. Помнишь, ты рабочий контроль вызывала? Сама — сука! — пытался кто-то из мужиков достать лицо Катерины, та защищалась.
— Геть ворюгу из столовой! Взашей банду жуликов! — срывали одежду с Катерины нахальные мужичьи руки.
— Ишь, сколько жиру набралась на наших шеях! — дергали, щипали ее тело — дрожащее, потное.
— Отвали! — орал Кузьма, вырываясь из рук, заломивших его собственные руки чуть ли не к затылку.
— Бей гадов, чтоб другим в науку было!
— Гони их по улице, братва, как псов бешеных!
— Не дозволим воровать у себя всяким проходимцам! — орала толпа. Кузьму под шумок безнаказанно терзали поселковые алкаши. Пользуясь тем, что руки мужика успели связать и сваленный на пол он не может отбиться от кучи пьяниц, били кодлой, вымещая на нем все свои обиды и претензии. Когда еще такой случай представится?
Оперативники, войдя в столовую, не спешили остановить расправу, разогнать толпу.
Они расспрашивали понятых, составляли протокол. И даже не оглядывались на свирепствующую толпу, глумившуюся над Катериной.
— В куски ее, блядищу, порвать надо, ишь, тендер нагуляла! Тут и моя получка имеется, — гнусил прыщавый алкаш, вцепившись в бабью задницу.
— А буфера какие! С мою голову! — примерялся к поварихе здоровенный рыжий детина, силясь разодрать сцепленные ноги бабы.
— Господи, помоги! — взвыла Катерина на всю столовую, почувствовав, как быстро тают ее силы, а свора лишь входит в азарт.
— Мы сами управимся! — открыл гнилозубый вонючий рот прыщавый ханыга и расстегнул штаны.
Кузьма отбивался ногами и головой. От ударов, сыпавшихся на него, темнело в глазах.
«Где Катерина? Что с нею?» — не мог увидеть женщину. И, услышав ее вопль, прогнулся, вывернулся, стальною пружиной вскочил. Веревки лопнули. Оставив на руках кровавый след. Кузьма был страшен. Лицо перекосило, глаза горели безумным огнем. Забыв обо всём, он ринулся на обидчиков. Удар… Изо рта алкаша кроваво вывернулась челюсть. Он упал у стены с диким криком.
Удар… Нет глаза у рыжего детины.
Удар… Прыщавый алкаш захлебывается кровью, схватился за печень. Удар… Посыпались бисером зубы на грязный пол, и алкаш свалился под ноги понятых.
Удар… Беспомощно повисла голова пьянчуги, требовавшего смерти Катерины. Удар… И занесенная рука, хрустнув в локте, повисла плетью. Ханыга вмиг протрезвел:
— Мать твою! А как теперь налить себе смогу? — спросил неведомо кого. Орава мужиков пытается осадить, схватить Огрызка, но чем больше их, тем сильнее и чаще сыпятся точно поставленные удары, тем гуще и громче стон. Вон и Самойлов отлетел под стол, глаза закатил. Не то что кричать, дышать не может. Больно. За пах обеими руками держится. Весь посинел… Понятым не до бумаг. Испугались. Кузьма уже в полушаге. Вон как всех крошит. И им не миновать. Защититься? Но как? Огрызок каждого достает. Даже бульдозериста, самого громадного мужика поселка, одним ударом свернул в штопор.
Оперативники к Кузьме бросились. С наручниками. Оба отлетели. Зубами в стену.
Поздно спохватились, упустили свой момент. Теперь самим бы отдышаться. А в Кузьму словно бес вселился. Удары сыплет направо и налево. Никого не обходя вниманием, каждого награждая.
Поредела, поутихла приисковая кодла. Уж не до драки, скорей бы ноги унести из столовой, покуда живы. Да как проскользнуть, как сбежать? Ведь вон Кузьма! Пена изо рта его бежит. Повисла клочьями на подбородке. Сбесился! Кой теперь с него спрос? Хоть убьет иль покалечит, едино ему все… Его уже никто не остановит, не угомонит, никого живым отсюда не выпустит, хоть на колени перед ним упади.
Катерина, зажавшись в угол, с ужасом смотрит на Кузьму. Не то что остановить его, дышать громко боится. Плачет баба, дрожа не телом, сердцем своим. И вдруг вспомнила, выскочила из столовой… Чубчик бежал по улице, не оглядываясь по сторонам. Вихрем влетел в столовую.
— Кончай, кент! — встал перед Кузьмой. Тот онемело, невидяще уставился на Сашку. Лицо исказила жуткая гримаса боли и горя.
— Огрызок! Стопорись, падла! Вяжи махаться! — заорал Чубчик, и Кузьма услышал.
Он уронил окровавленные руки. Огляделся по сторонам, словно ища кого-то.
— Дома Катерина. Тебя ждет, — Сашка взял тихо за плечо и повел к выходу из столовой.
Кузьма молча озирался по сторонам. В глазах вспыхивали отблески недавнего безумия. Едва перешагнув через порог дома и увидев Катерину, упал на пол: скрутил новый жестокий приступ. Сашка едва удерживал Огрызка. Он бился об пол всем телом. И в это время в избу без стука вошли оперативники.
— Зачем возникли? — рассвирепел Чубчик, едва удерживая Кузьму.
— Он вор! Он учинил драку!
— Ищите провокатора! И сюда — ни шагу! Я сам, я разберусь, как с ним управлюсь! — пообещал Чубчик.
Оперативники топтались в нерешительности. Им велено было доставить Кузьму в отделение. Но как? Они видели и понимали: что не милиция, а врач нужен человеку. Но этого им никто не приказал.
Лишь через час Огрызку полегчало. Он лежал на диване. Маленький, серый, слабый человек.
Он увидел Катерину, сидевшую рядом с ним.
— Ты здесь, моя кентуха! — улыбнулся ей устало. И спросил тихо: — Мне все приснилось или нет? Как я дома оказался?
— Саша был с нами.
— А где он?
— На почту пошел. Отправит телеграмму и вернется к нам.
— Какую телеграмму? Кому? — не понял Кузьма.
— Кравцову. Ему! Я позвала его, чтоб помог правду сыскать скорее. Чтоб доложить до нее, если она есть.
— Ты веришь в нее? Милая моя дуреха! Все лажа! Все брехня! Правда лишь Колыма! Она одна! Ее не придумали. Она есть! Она — живет! Все остальное для нее дышит… И ты не верь! Никому, — сказал он, засыпая. Проснулся Огрызок глубокой ночью от звуков чужих голосов. Прислушался. Кто-то в прихожей уговаривал Катерину:
— Зачем вам осложнения? К чему все это? Мы сами разберемся… Обещаю забыть недоразумение. Вы гоже не во всем правы. Умейте остановиться на разумном. Не отправляйте телеграмму. Заберите ее с почты. Даю слово, никто вашу семью и пальцем не тронет, — просил кто-то незнакомым голосом.
— Я с мужем посоветуюсь…
— Зачем ему напоминать? Пусть он скорее забудет случившееся. Это поможет Кузьме скорее на ноги встать. К чему лишние неприятности? Давайте все забудем. Тем более, что вам уезжать отсюда насовсем. Если захотите. А нет — останетесь. Вас никто не гонит. Отзовите, заберите телеграмму. И заживем мы с вами в мире и согласии…
Кузьма не выдержал и заставил себя встать. Он почувствовал жуткую слабость во всем теле. Но приказал себе одеться и появиться перед пришедшим человекам.
— Что вам нужно? — вышел он из комнаты к моложавому круглолицему мужику, топтавшемуся у порога.
Тот поздоровался. И, опасливо косясь на Огрызка, ответил:
— Убеждаю вашу жену пойти на компромисс, на соглашение, обоюдное. Хочу уладить недоразумение.
— А вы кто будете? — вспомнил Огрызок уроки вежливости, с большим трудом дававшиеся ему с детства в «малине».
— Я — сотрудник органов безопасности.
— Ну что ж, подобные разговоры не ведутся у порога. Присядьте. Попробуем побеседовать, — предложил Кузьма.
Катерина, слушая его, от удивления рот открыла. Будто не ее замухрышка, а большой начальник стоял перед нею, у кого за плечами не один институт остался.
— Как я понимаю, хотите избежать огласки случившегося? И не допустить разбирательства областной, а потом и союзной прокуратур? Ведь тогда все тайное станет явным? Не так ли? — глянул на гостя в упор.
Тот ожидал всякого. Матерщину, скандал, но только не такой холодный логичный анализ. И был сбит с толку. Он был наслышан о Кузьме как о типичном уголовнике, не способном связать правильно между собой и двух слов без мата. Здесь же даже ему неловко стало. Ситуация оказалась совсем иной. Он хотел представить себя в роли благодетеля, миротворца, заботчика. Это могло пройти с Катериной. Кузьма оказался вовсе не простаком и намекнул на Москву, видимо, не случайно.
— Поскольку вы нас навестили, давайте говорить начистоту, — предложил Кузьма и спросил: — Кто по вашей указке подложил в сумку Катерины продукты?
— Теперь это не имеет значения, кто именно спровоцировал воровство. Мы никому не поручаем таких трюков. Это самодеятельность общественности, за которую мы ответственности не несем, — ответил гость.
— Вы уходите от ответа. Я не поверю, что личность не установлена. А ведь я предложил разговор начистоту. К сожалению, он у нас не получается, — развел руками Огрызок.
— Считаю излишним называть имя. Для чего оно? Свести счеты? Но я не за тем здесь. Я предлагаю мир. К чему новые стычки? — спросил гость.
— Дело в том, что меня и Катерину обвинили в воровстве. Оклеветали. Тот шутник обязан извиниться перед нами точно так же, при всем поселке, как сумел опозорить нас. Помимо всего, что вы предлагаете, существует понятие чести собственного имени. Верните его нам! — потребовал Огрызок и продолжил: — Иначе я сам о том позабочусь. Нам с женой с этим именем надо жить не один год. И, будьте уверены, я сумею его защитить.
— Перед кем и от кого вы хотите защититься? Перед поселком? Вы собираетесь уезжать. А оставшиеся полгода — сама жизнь докажет, что вы правы.
— Ну уж, хрен вам в зубы! — не сдержался Огрызок: — Если виновный не будет наказан вами, это сделают другие. Но вместе с провокаторами и вы ответите! Как организаторы! Понятно? — хлопнул по столу кулаком.
— Что вам это даст?
— А то, что всякая шпана языки прикусит, не будет шептаться за плечами, не посмеет изголяться над моей бабой! Прижмут им хвосты! И вас, всех до единого, как зачинщиков, даже с Колымы под сраку метлой выкинут. Быть может, в зону! Тогда поймете, чего имя стоит! — терял самообладание Кузьма.
— Я предлагаю более нужное вам! — нахмурился гость. И, глянув на Катерину, продолжил: — Для отъезда вам понадобятся деньги. Чтобы увеличить заработок, мы можем обратиться к руководству прииска и вам с женой разрешат старательские работы.
— Ну на хер эти пряники! Законопатить нас живьем решили? Тут за сраный чеснок не отчихаемся. А за рыжуху и продохнуть не дадут. Каждый день и нас, и хату трясти станут. От сук в сортир не сходишь спокойно. Каждый бздех посчитают. Нет! Не согласен! А вот Катерине пусть подмену сделают. Нельзя ей вкалывать как ломовой. Пусть стукачка пашет. По неделе.
— Договорились! — обрадовался гость.
— И еще! Я знаю, кто устроил нам с бабой то воровство! Увижу его около дома или столовой хоть раз, башку оторву! И не только ему, а любому! Хватит! Завязал я с «малиной» навсегда! Кончайте пасти и Катюху.
— Согласен, — кивнул гость.
— И еще, кто доложил вам, что линять мы с женой решили отсюда?
— Письма вам пришли с материка, А мы корреспонденцию проверяем. Да и вы посылали… Так что не секрет, что в дорогу готовитесь.
— От вас, как от параши, сколько ни крутись, не отвяжешься, — сморщился Кузьма брезгливо.
— Нет, Кузьма. Я не прощу им! Не будет согласья меж нами! Пусть все остается, как есть. Не заберу телеграмму! Пусть их нынче изломают, как меня — в столовке! Не смогу забыть. Прости, дуру окаянную! Но и теперь сердце болит. Баба я! Нельзя всю жизнь меня мучить. Ты как знаешь. А я по-своему! Уходи отсюда вместе с этим! Коль так скоро и легко простил. Так и я тебе нужна. Да разве может промежду нами мир быть после всего? Где ты видел, чтоб собака с волком одну упряжку тянули, да еще в согласии? Иль память тебе отшибло? Так я жива, напомню все. И никому не прощу, — заплакала Катерина навзрыд.
— Прости. Ты права, — опустил голову Огрызок. И сказал гостю коротко:
— Считай трепом нашу договоренность. Ничего у нас с тобой не состоялось. Права баба! Жизнь начинаем с имени. Его и будем беречь. Уж какое ни на есть, свое. Поганить не дадим. Прощай, — указал гостю на дверь: — Забудь, кентуха! Хотелось покоя. Устал я, — он пошел закрыть калитку.
— Жаль. Честное слово, жаль мне вас, — сказал гость, выйдя на улицу. И, свернув в закоулок, исчез из вида.
Кузьма решил сходить на почту за письмами и заодно узнать, отправлена ли телеграмма Катерины Кравцову.
Ксения встретила Кузьму как старого знакомого.
— Телеграмму отправим. И уведомление получите обязательно. Нам было велено подождать немного. Мы и задержали. А теперь пойдет, — она пригласила в кабинет. Но Огрызок, оглядевшись по сторонам, заметил кривую усмешку на лице сотрудников почты. И не решился войти. Словно кто- то придержал на пороге.
— Мне сказали, что нам письма пришли. Дайте их мне, — попросил Ксению. Та отрицательно головой замотала:
— Катерине адресованы. Пусть она и придет за ними. Кузьма удивился. Хотел выругать бабу. Но вовремя сдержался.
— Чего ж не заглянешь на огонек? Или Катерина весь свет в окне закрыла? — спросила Ксения, смеясь.
— А что? Дрова кончились?
— Загляну как-нибудь, — пообещал неопределенно и тут же вышел в дверь. Вечером, когда Катерина пришла за письмами, бабы с почты встретили ее недвусмысленными ухмылками:
— На материк он с ней поедет! Гляди, губищи раскатала! Да этот кобель покуда всех одиночек не обкатает, шагу отсюда не сделает. В Смоленск он настроился! Во, дура, поверила!
— Это вы о ком? — спросила Катерина.
— О тебе! О ком еще? Твой кобель сегодня тут объявился! Как кот на масленицу облизывался, глядючи на Ксению. В гости набивался, бесстыжий пес!
— Брешете вы все! — не поверила Катерина.
— Зачем нам это? Спроси Ксению, как твой паршивец возле нее мылился, свиданку назначал ей, в помощники подряжался! Шустряк! — хохотали бабы во все горло.
— Где письма? — спросила Катерина, давясь слезами.
— Возьми. Только о другом тебе писать придется родственникам своим!
— Мужа нашла! Смех да и только! У него таких жен до Москвы раком не переставить! — смеялись до слез.
— Уведомление на телеграмму есть? — дрогнули руки Катерины.
— Будет — принесут. Или тот кобель, когда Ксюшу придет провожать домой, заодно уведомленье прихватит для тебя!
Катерины только и хватило, чтобы спокойно выйти за дверь, не подав вида, что дышать нечем стало. По улице шла торопясь, чтоб никто не приметил слез на глазах. И все обдумывала: «Конечно, куда мне до Ксении? Она молодая, грамотная, начальник… Одинокая опять же. У нее все в порядке. Чекисты если и ходят за ней, то по другой причине, чем за мной. У нее и зарплата, и дом — не сравнить с моими. И отец с матерью, тоже говорят, в начальниках. То-то он хотел с чекистами уладиться, чтоб все тишком да гладко кончить. Понятно! Потом и к Ксенье подвалить. Отдохнуть после зоны, а там… Что я ему? Ишь, как он баки заливать умеет! Будто начальник. В Ксюшины мужики готовится, гад! Не иначе! Ладно ж! Поменяю я твою колоду! Смешаю карты потаскухе! Работягой, трезвенником прикидывался! Верней барбоса ходил. А в душе — хуже змея. Так мне дуре и надо!» — кляла себя баба на чем свет стоит. Она даже о письмах забыла, которые так долго ждали они с Кузьмой.
Домой баба вошла, собрав в себе все силы, чтобы не разреветься во весь голос.
— Получила письма? — улыбался Кузьма.
— Конечно. Но тебе, как я понимаю, они ни к чему, — выдохнула Катерина.
— Не допер! Почему? — изумился Огрызок искренне.
— Тебе Ксения нужна! Ты ей свиданки назначаешь? Хвостом крутишь, кобель?
— Какая Ксения? Ты что, бухнула?
— Почтарка старшая! Мне на почте сказали, как ты к ней мылился, сучий сын!
— Опомнись, дура! Она приглашала меня. Но не для того! Дров нарубить!
— Иди, руби, крутись у ней в ногах, подзаборник! Под каждую юбку влезть норовишь! Хорек вонючий! — орала баба.
Кузьма встал. Оглядел бабу сурово. Подошел к порогу. Оделся, обулся. И, не сказав ни слова, ушел из дома, не оглядываясь.
Катерина на диван упала. Выла в подушку до темноты. От обиды на всех и прежде всего на Кузьму. Она ждала, что он вернется хотя бы к ночи. Но напрасно. Огрызок не пришел.
Баба не спала до утра. Все выглядывала в окно, не появится ли у калитки знакомая тощая фигура. Но напрасно. Огрызок не пришел на завтрак. Катерина ждала его на обед. Выглядывала в зал. Но Кузьмы не было. Не пришел он и на ужин. Повариха и вовсе покой потеряла.
«Может, он уже дома ждет меня с работы? — мечтала баба, торопливо убирая со столов грязную посуду: — Вот бы заявился! Все б ему простила, лишь бы как прежде», — » мечталось ей.
Девки-подсобницы ни о чем не спрашивали, не видя Огрызка, перемигивались, усмехались злорадно.
Катерина приметила. И, едва закончив с уборкой, домой бегом бросилась. Но и там — пусто и холодно. Никто не ждал ее, не сказал знакомо:
— Садись хавать, кентуха моя!
Баба долго сидела одна в темноте, не включая свет. Как опостылело все, как пусто и одиноко стало ей в избе!
Сколько она просидела так, сама не знала. Чтобы хоть как-то отвлечься, взялась за уборку, но все валилось из рук.
Но вот калитка стукнула. Катерина мигом к окну прилипла. Но нет, не Кузьма, почтальонша принесла уведомление на телеграмму. Получил ее Кравцов. Лично. Но… Зачем теперь Катерине его помощь и защита? Она потеряла большее. И тут ей никто не поможет. Баба взялась белить печь. Давно собиралась. Но руки будто чужие. «Верно, у Ксении гостюет? Разговоры всякие заводит. Клеится к ней. А может, дрова рубит. Во дворе. Чтоб все видели, что бросил он меня, новую себе завел. Молодую, начальницу. Та, небось, рада. Мужик работящий. Не пьет. А что с рожи корявый, это ничего, ночью все равно ни хрена не видно. Зато ее он на руках носить станет. Она ему — не в обузу, не то, что я, — совсем приуныла Катерина: — Теперь мне в поселке и вовсе проходу не станет. Всякое говно в морду смеяться будет. Уж лучше б я одна жила. Доскрипела б этот год да уехала. А то и домой поторопилась написать, — вспомнила Катерина о письмах и достала из кармана измятые конверты. «Дорогая наша Катюша! Очень рады весточке, которую получили от тебя нежданно-негаданно. Жива! Слава Богу! Да еще замужем. Одно непонятно. Почему на своей фамилии осталась? Или на Колыме не регистрируют замужества? Нет загсов? Или ты не захотела мужнюю фамилию принять? Кто он у тебя? Кем работает? Сколько ему лет? Откуда родом? Почему о нем ничего не написала? Небось, думала, что письмо не дойдет? Получили! Есть ли дети у вас? Сколько уже вместе живете? Когда думаете вернуться? Мы к вашему возвращенью приведем в порядок дом. Он еще ничего. Жить можно. А там — хозяин его до ума доведет. Катюха! Вся деревня тебя ждет. Вместе с Кузьмой! Он, случайно, не механизатор? Очень нужны в деревне трактористы. У них и заработки хорошие. И натурой на каждый трудодень дают. Не хуже начальства живут. Так что приезжайте! Ждем!» — прочла Катерина письмо сестры. В другом письме писал брат: «Поздравляем вас обоих! Уж и не знали, где искать, куда обращаться. А ты сама объявилась. И не одна! Не буду много спрашивать. О нас напишу. Вернулись мы в свою деревню. Не потому, что в городе места не нашлось или не прижились. Трудно было нам, к земле потянуло. На хозяйство свое. Надоело на базаре харчи покупать. Все, что зарабатывали, то и проедали. Поняли, толку нет и назад вернулись. Отстроились. У всех свои дома. И вам поможем новый дом поставить. С огородом и садом, сараем для скотины. Мы уже прочно на ногах стоим. Детей взрастили. Мой старший — Юрка, уже на втором курсе института учится. В Москве! Юристом будет. Уж очень серьезный вырос! Готовый прокурор. Средний — на врача. В Орле поступил учиться. А младшая не хочет из деревни. После семилетки поступила в техникум. На ветврача. Тоже дело нужное.
А у вас есть дети? Коли имеете, пришли фотографию. И свою с Кузьмой. Если есть у вас ателье. Может, и не водится их на Колыме? Ну и ладно. Главное, чтобы приехали. Мы вас ждать будем. Я вам уже сад посадил возле отцовского дома. Молодых яблонь полтора десятка да вишни столько же. Пусть вам после Колымы наш сад согреет душу цветом. Ждем, родные вы наши! Очень ждем!»
У Катерины на душе все перемешалось. Светлое и черное. Их ждут вдвоем, а он ушел…
Баба не могла найти себе места.
«Нет, надо в общежитие сходить. Вернуть домой заморыша, — решилась баба, но засомневалась: — А вдруг он у Ксении?»
Наскоро умывшись, чтобы слез не было видно, накинула на голову цветастый платок, сунула ноги в валенки и пошла к общежитию. Комната оказалась закрытой на ключ. А вахтер внизу ответил бабе, что Кузьма в общежитии не появлялся. Давно его здесь никто не видел. Катерина насмелилась сходить к Чубчику. Спросить об Огрызке. Уж если у Ксении — навсегда о нем забыть.
Баба робко постучала в окно. Когда на пороге появилась Валентина, спросила, заикаясь:
— Кузьма не у вас, часом?
— У нас, — ответила она холодно, смерив Катерину злым взглядом.
— Можно его позвать? — попросила та, опустив голову.
— Если согласится, — пошла в дом — не позвав, не оглянувшись на повариху. Та ждала у крыльца, краснея от стыда за свою бабью слабость. Огрызок не спешил выходить. Когда он появился в дверях, Катерина уже уходить решила.
— Чего хочешь? — спросил коротко, холодно.
— Воротись домой, Кузьма, — попросила, всхлипнув.
— Нет. Не приду. Не жди, — ответил, как отрубил.
— За что так наказываешь, Кузьма? Ну, баба я! Слабая, как и все! Брехнула лишку, что ж теперь? Виновата! С покаянных плеч голову не секут…
— Э-э, нет, Катерина, я и теперь думаю, хорошо, что ты не на материке, тут раскололась, какая есть! С душком баба! Коль здесь выгнала, чего ж мне там ждать, если б я от тебя был зависим? Уж поизголялась бы вдоволь! Лафово — не дошло до отъезда. Не дождалась! А меня фортуна пожалела. Не дала лажануться!
— Мне на почте сказали, что ты подле Ксении крутился. Меня и взяла досада. Дала волю дурному языку, он мозги опередил. Прости меня! — просила баба.
— Я не параша, какая всякому подставится, любую задницу примет. Себя не потерял. А коль трепач твой без мозгов пашет, дыши с тем, кто все стерпит. Хиляй, бабонька! Я хоть и Огрызок, но мужик. Званье помню. И не дам себя поливать никому, — он хотел уже вернуться в дом.
— Кузьма! За дело наказал бы, не стало бы обидно. Я люблю тебя, лягушонок! Оттого все приключилось. Приревновала, дура. Но даже если не воротишься, до гроба тебя одного любить стану. И когда уеду… У меня в этой судьбине ты один солнышком останешься. Радостью моей единственной.
За все горести наградой. За всю жизнь, за Колыму. Не ругай меня. Не поминай
лихом, — Катерина повернула от порога и пошла к калитке усталой медведицей, вздыхая, не оглядываясь.
Весть о том, что Кузьма ушел от поварихи, быстро облетела весь поселок.
— Видать, не выдержал! Гнул спину на лошадь, как батрак. И не угодил толстожопой лярве!
— Ей бы за него зубами держаться! Ишь, как повезло! Не пил, не шлялся. Вламывал за троих. И на работе, и дома и не угодил! Да его у ней с руками отхватят! — судили Катерину бабы на всех перекрестках.
Никто из них не знал причину. Ее лишь предполагали. А уж поселковая фантазия была безудержной.
— Да у нее в Магадане хахаль имеется. На грузовике работает. Он ее, бесстыжий, к самому дому привез. Кузьма и накрыл их, застал на горячем. Вот и сбежал!
— Да ей целой зоны зэков мало будет! Куда Кузьме с такой сладить? — соглашались пересудницы.
Теперь поселковые бабы стали особо приветливо здороваться с Кузьмой. Каждой хотелось утешить мужика. Ведь холостой теперь, можно приручать по новой. Авось повезет! И звали напропалую в гости. Просили по хозяйству помочь. Кузьма, ссылаясь то на занятость, то на усталость, отказывался от назойливых предложений.
— И чего к тебе бабы липнут? Как мухи на говно. Проходу нет! У них, сучек, у всех разом течка началась? — недоумевал Чубчик. И, оглянувшись на очередную вздыхательницу Огрызка, бросал коротко: — Пшла вон!
Но и это не останавливало.
— У тебя, что, штаны расстегнуты? Чего они бесятся? Вроде ничего путнего и нет, а бабы по тебе сохнут, — смеялся Сашка.
— Не по мне… Катерине насолить хотят.
Но на следующий день и Кузьма не выдержал, хохотал до слез, когда худенькая прозрачная приемщица, работавшая рядом с Огрызком, через перегородку, вдруг запела дребезжащим, как оторванная фанера на ветру, голосом:
Хочу мужа, хочу мужа, Хочу мужа я!
Принца, герцога, барона Или короля…
А без мужа злая стужа будет жизнь моя,
хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я!
Кузьма давно замечал ее взгляды. Она теперь постоянно приглашала Огрызка отобедать с нею. И выкладывала на стол пирожки, котлеты, блины и оладьи. Но дальше обедов дело не шло.
Кузьма упорно не заглядывал в столовую, стараясь не вспоминать и не видеть Катерину. Не интересовался ни одной женщиной. И когда в семье Чубчика в шутку пытались обратить внимание Кузьмы на какую-нибудь из женщин, Огрызок враз залезал на печку и отмалчивался. Боялся, что ненароком оброненное слово может больно обидеть Валентину. А этого ему не хотелось.
Для себя Огрызок решил поработать на прииске до лета. А по теплу уехать с Колымы. На материк. Осесть в какой-нибудь деревеньке, что подальше от чужих глаз в лесу прячется. И жить там до старости. Забыв все и всех. «Хорошо, если б в такой вот деревухе не водились менты и фартовые. Чтоб дышать можно спокойно, не дергаясь. Хавать свое, что вырастишь. Как и все. И без баб, без попреков, без ругачек дожить до старости, излечить душу от Колымы… Может, есть такое чудо в свете? Может, повезет, надыбаю свое», — представлял Кузьма свою деревню совсем маленькую, дворов на тридцать. Над крышами — синий дымок идет. Стены изб белые-белые, как бабьи бока. Под окнами цветы. А вокруг домов сады. Весенние, цветущие. Небольшие. Но теплые, радостные, как юность, которую проглядел он в своей судьбе.
Он прикидывал, во что ему обойдется покупка дома, приобретение хозяйства, скотины. И сверял свои подсчеты с вкладом, который ему завели еще в зоне. Хвалил себя, что не показал его Катерине, не признался. Отдавал лишь половину зарплаты. Хотел перевести вклад на нее, когда приедут в Смоленск. Было бы на что жить… Хотел сюрприз сделать бабе. Сорвалось. Жалел ли Кузьма о ней? Он и сам не знал. Первые дни трудно было. Обламывал себя. Ругал, убеждал. И получалось. Хотя… Два раза едва не оказался в избе у поварихи. С работы возвращался. Вечером. Свернул по привычке. Почти к калитке пришел. Сам себя выругал. За шиворот оттащил. Не просто ушел. Сбежал.
Поверил ли он ей, когда пришла она к Чубчику, просила Кузьму вернуться? Может, и поверил бы. Да слишком часто в прошлом обманывали и смеялись над ним люди. Ни за что. Очень часто подводили. Даже кенты. Рисковали не своей, его жизнью. И он устал доверять. Но независимо от него Катерина продолжала жить в его сердце и памяти. В тот первый день, покинув повариху, он пришел к Сашке. Сел в углу на кухне обиженным сверчком.
На вопросы Чубчика отмалчивался. Хмуро смотрел в пол. А потом спросил, решившись:
— Лежанка на печке свободная? Я покантуюсь на ней?
— Давай, — закинула одеяло на лежанку Валентина. И, накормив Огрызка, ни о чем не спрашивала.
На второй день после работы, уже за ужином, Кузьма сам все рассказал. И добавил от себя коротко:
— Меня всегда отовсюду гнали. Такая судьба паршивая получилась. Я не дергаюсь. Значит, не нужен стал.
Кузьма даже ушам не поверил, когда на проходной прииска Самойлов сказал ему, нагнав у ворот:
— Кончай серчать. Возвращайся в общагу. За шахматами скоротаем вечер. Чего по чужим углам слоняться? Загляни, может стерпимся?
Кузьма и уши развесил. Хотел навестить. Да Чубчик вовремя спросил, куда это, мол, Огрызок, навострился? Когда узнал, зашелся матом. Отборным, фартовым. И, схватив Огрызка за шиворот, как был тот в телогрейке и шапке, на лежанку забросил мигом. Кузьма враз забыл о приглашении. А сосед через пару дней опять подвалил. Предложил вскладчину вечер скоротать. В друзья набиваться начал. Кузьма от него еле отбился. Сослался на усталость.
На другой день словно выследил, перехватил на дороге. И, прицепившись репейником, обещая рассказать новость, звал в общежитие.
— Для меня вся новость — получка и аванс. Другое не интересует, — вырвал Огрызок локоть.
— А зря! Новость эта твоей бывшей мамзели касается. Знаешь, что она теперь не работает в столовой? В пекарню ее перевели. Теперь она там вкалывает. Упирается за троих! Одна!
— Почему? — удивился Кузьма.
— В столовой подралась! Да не с кем-нибудь из посетителей! Девку- подсобницу измолотила. Вломила ей по голове каталкой и пробила черепок. Чуть насмерть не уложила. Еле спасли. Теперь та деваха в суд на Катьку подать хочет. За драку, за оскорбленье, за травму.
— Ас чего подрались?
— Заподозрила в стукачестве. Ну, Ленку! Самую молодую из подсобниц. Вроде она ей чеснок, лук и мясо и сумку подкинула. Ленка и назвала повариху дурой безмозглой, сказала, что не зря от нее мужик сбежал. Катерина и сбесилась. И тебя, и девок облила грязью. Каталкой кого достала, тех и несла по кочкам и болотам. Пока ее не схватили. Увели в больницу. Уколов ей вломили. Успокоилась. Хотела на работу вернуться. А подсобницы все, как одна, на рога встали, отказались работать с Катериной наотрез. И предупредили, если она заявится, они покинут столовую.
Пришлось срочно другого повара искать. Нашли… А с Катькой три дня мучились. Не знали, куда ее воткнуть. Все отказывались работать с нею.
— С чего бы? — не поверил Огрызок.
— Наслышались, что случилось в столовой, и не хотели даже рядом с нею находиться. Девчонку чуть не убила. А за что? Мало подозревать, поймать надо, тогда и говори. Теперь вот и на пекарне проблема. С Катериной в смену никто работать не согласился. Так и осталась одна.
— Ну и дела! Не везет бабе, — вздохнул Огрызок.
— Это ты о ком? О Катерине? Иль о Ленке? Так с Катериной — все! Кравцову милиция сообщила о драке в столовой. И теперь он, конечно, не приедет. Хорошо, если дура штрафом отделается. Но ведь могут и посадить. Кто позволит наших девок на работе калечить? Если будет суд, я от имени общественности выступлю. Попрошу наказать строго! Чтоб другим неповадно было! — зашелся Самойлов.
Он уже представил себя за трибуной на сцене клуба. В зале все поселковые собрались. Весь Сеймчан. От старого до малого. Дыхание затаили. Его, Ивана Самойлова, слушают. Слова боятся пропустить. А он стоит перед ними в темно-синем костюме, в голубой рубашке. Синий галстук в белую горошину. Волосы аккуратно уложены, как и подобает выступающему. Самойлов держит речь. Он обвиняет дикость и отсталость чуждых элементов, не оценивших чуткость рабочего класса, не посмотревшего на прежние ошибки и приютившего в своей семье человека, которого искренне хотели исправить, направив на путь истины и добра…
— Иди ты на хер! — услышал Иван внезапно и осекся на полуслове: Огрызок уходил, матерясь.
Об услышанном рассказал Сашке и Валентине. Те подтвердили, что Иван не соврал. А Валентина добавила, что судья намерен провести в клубе поселка показательный процесс.
— Посадят Катерину, это верняк! Показательные процессы гладко не кончались. Это самые свирепые приговоры. Самые тяжкие обвинения, — сказал Чубчик.
Эти процессы были сродни фартовым сходкам, где все сводили счеты с одним и никогда его не щадили. Приговоры предусматривали не просто наказание. А мучительную, порою непосильную расправу.
— Выходит, Катерина последние дни на воле ходит? — спросил Кузьма. Чубчик смолчал, не повернулся язык. Валентина согласно кивнула головой.
— И когда ж суд хотят устроить?
— Недели через две. Не больше…
— У нее через два месяца кончается ссылка, — вспомнил Огрызок.
— О чем ты, Кузьма? Кто попал на Колыму, тот уж никогда отсюда не выберется, — грустно вздохнула Валентина.
— Забудь о ней, кент! — положил руку на плечо Чубчик. И посоветовал:
— Встряхнись, оглядись! Ведь вот она, жизнь! В ней выстаивают лишь сильные. Слабый — гибнет! А баба? Что она без мужика? Да еще здесь. Вот пусть и получает, дура! Я, может, тоже не подарок для своей. Но не бросается! Держится за семью! И меня ценит. Не унижает! Заставила в себя поверить. А ведь я — не ты! Со мною Валюхе крепко досталось! Все выдержала. И не отказалась, не выгнала! А эта?! Что она из-за тебя хлебнула? Что пережила? Забудь дуру! Не стоит она твоего сердца! Как мужик мужику тебе признаюсь…
Огрызок и хотел забыть. Он обходил стороной дом Катерины и не оглядывался на знакомые окна. Он пытался забыть ее имя, лицо, добрые, ласковые руки, улыбку, те слова, сказанные у дома Чубчика. Хотел… Но она стала сниться. И все звала. А он не шел.
Эта неделя на работе выдалась такой напряженной, что Кузьма забыл не только о Катерине, а даже собственное имя.
На отвалы вышли старательские артели. И работы навалилось столько, что Кузьма уходил с прииска очень поздно. Еле добравшись до дома, валился на лежанку, забыв об ужине. Сил не хватало, чтобы умыться. Началась весна. Тепло растопило снега. С весной пришли новые заботы.
Но вот внезапно, идя на работу, остановился на проходной, увидев броское объявление!
Завтра состоится показательный процесс.
ГЛАВА 7
Кузьма не собирался идти на суд над Катериной. Он не любил сборищ, ненавидел ликование толпы, похожее на пир стаи. Он не терпел вида загнанных в угол, обессилевших жертв. Он не признавал закона большинства над одним. Он ненавидел правоту толпы и «малин». Он не раз испытывал все это на собственной шкуре.
Кузьма всегда презирал сборища. Дерущиеся, пьющие, орущие, требующие, они все имели одну суть, одну основу. Они орали от пустоты в желудке и голове, пытаясь звоном наполнить свободное место. Не все это понимали. Кузьма всегда считал толпу бездельницей и дурой. Многолика? Тем хуже. Огрызок предпочитал громким голосам тихие дела. После которых ни в голове, ни в животе пустого места не оставалось.
Процесс был назначен на выходной день, чтобы собрать побольше народу в зале. И с утра около клуба начала собираться толпа.
Огрызок не знал, куда себя деть. Он не любил рыбалку, а потому отказался пойти с Чубчиком на утренний клев. Лежать целый день на печке не мог и слонялся по двору, ища себе дело. Но двор был давно и тщательно выметен. Крыльцо вымыто. Калитка покрашена, ограда подновлена.
Кузьма сел перекурить на крыльце, когда услышал рев толпы, донесшийся от клуба. Понял, вот-вот начнется суд.
В клубе никто и не приметил появление Огрызка. В зале собралось столько поселковых, что не только стоять, дышать было негде.
Кузьма понемногу проталкивался вперед. Он не хотел быть стиснутым, словно кент в трамбовке, и пробивался. Кто-то из баб заметил его и, подвинувшись, дал место рядом.
Председательствующий суда, оглядев переполненный клуб, начал заседание. Кузьма не слушал протокольное начало. Оно всегда и всюду было одинаковым. Огрызок смотрел на Катерину.
Женщина сидела к нему спиной. Но по всему было видно, что она спокойна и не ждет для себя от этого процесса ничего страшного. Она видела, что выездная комиссия суда приехала из Магадана на обычной служебной машине. Без воронка и охраны. Значит, заставят ее уплатить штраф, на том все дело кончится.
Так думали и поселковые. И только припоздавший Огрызок увидел примчавшуюся «кутузку», подрулившую за угол клуба, и двух милиционеров, не захотевших войти в клуб сразу, ожидавших оглашения приговора на улице. Кузьма увидел его со двора Сашкиного дома. Понял, суд над Катериной, его результат уже предрешен. В клубе будет разыгран процесс, рассчитанный на публику. А основное решение давно было принято. Задолго до суда… Огрызок увидел ликующие рожи подсобниц из столовой. Вон и Ленка, та, которую огрела каталкой Катерина.
Кузьма еще вчера видел ее. Поздно вечером с работы шел. Мимо столовой. Вдруг из-за угла шепот услышал. Оглянулся. Увидел Ленку с парнем, так похожим на Самойлова. Тот юбку девке чуть ни на макушку задрал. Облапил свойски привычно, девка не отбивалась. Повизгивала. Чуть не на уши вставала.
А теперь всю голову перевязала. Глаза закатывает, будто умирает. Ее поддерживают подружки-подсобницы. Такие же потаскухи, как и Ленка. Государственный обвинитель, равнодушно оглядев собравшихся, откровенно зевал. Судья, разложив все бумажки по местам, предоставил слово потерпевшей стороне, Ленке.
Та, одернув юбку, словно только что из рук мужичьих выскочила, пошла к сцене, держась за голову, стоная на весь зал.
— Бедная девка, чуть не убила тебя стерва, — прошамкала старуха с передних рядов.
— Течка замучила сучку! Не допрыгала за углом! — сорвалось у Огрызка с языка невольное. И, хохотнув, добавил: — Вчера на рогах до ночи стояла. А теперь голова болит! Ну и профура!
Зал взорвался мужским смехом. Судья постучал карандашом по столу, пообещав удалить мешающего.
Ленка, не узнав по голосу Кузьму, окинула зал злым взглядом, вспыхнула, вмиг стонать перестала. Начала рассказывать о драке в столовой.
— Катерина всегда к нам придиралась. Мы терпели все, считались с ее возрастом. Она даже материла нас! — выдавила Ленка слезу, всхлипнув.
— Биографию рассказывала! — снова встрял Огрызок.
— Кто хулиганит? — перекрывая смех, спросил судья.
— А когда от нее сбежал сожитель, повариха как сбесилась! На всех кидаться начала! И на меня! Вроде я в том виновата, что с нею сам черт не уживется! — вставила Ленка шпильку Катерине.
Огрызок будто на окурке сидел. Ждал своего момента. Он не любил слушать, как треплют его имя, и решил отомстить.
— Повариха говорила, что я вложила ей в сумку чеснок и мясо. На самом деле она ко всем ревновала своего сожителя. И когда я ей о том в глаза сказала, она схватила каталку и ударила меня по голове. Когда у нее стали отнимать каталку, она и других подсобниц избила. Если бы не вступились рабочие, посетители наши, повариха поубивала бы нас. Она даже грозила, что достанет всех из-под земли! — схватилась Ленка за голову и снова застонала на весь зал: — Я прошу суд наказать преступницу! Она должна была учить нас поварскому делу, передавать опыт, растить смену. А Катерина только материла нас, ничего не объясняла, не показывала. Держала нас на побегушках, как уборщиц. И мы все отказались работать с нею. Она не оценила доверия поселка, который, не глядя на ее прошлое, дал растить молодую смену. Она осталась вчерашней, той — из зоны. А потому, считаю, ее опять туда вернуть надо. Как неисправившуюся! Пусть она там живет и работает среди равных себе. Таких же уголовниц!
— Прошу не подменять суд! И не переходить за рамки дозволенного! — осек потерпевшую председательствующий.
Ленка, смутившись, бегом к своему месту вернулась. Забыв о болезни. После нее в суде допросили остальных подсобниц. Они почти дословно повторили показания Ленки, не добавив к сказанному ни слова. Потом выступали свидетели, разнимавшие, очевидцы, сочувствовавшие. Все клеймили повариху. Никто не пожалел ее, не нашел для Катерины ни одного доброго слова. Будто не о бабе, о лютом звере шла речь. Наизнанку бабу вывернули. Всю подноготную наружу вытащили. И Катерина поняла. Опустила голову. Плакала тихо, неслышно. Прощалась с волей, короткой, как сон. Она боялась оглянуться.
«А вдруг нет его в зале, померещилось на миг? И снова одна… Помочь не сумеет. Но хоть пожалеет молча. Как глупо все получилось, — вздыхала баба. — Сама себе навредила дурной башкой. Всю жизнь из-за этого мучилась. А ничему не научило прошлое. Будь в тот день Кузьма рядом, не сорвалась бы», — думала Катерина.
Поселковый люд, накаленный услышанным, гудел злобно:
— В зону ее, суку! — требовали громко.
— До смерти там продержать!
— Кто хочет что-нибудь добавить к сказанному? — спросил судья, оглядев зал.
Желающих вступиться за бабу не было. И тогда встал со своего стула обвинитель, приготовившись просить срок для Катерины, откашлялся.
— Я скажу! — внезапно встал со своего места Огрызок и, насторожив весь зал, встал перед собравшимися: — Сегодня все вы дружно пришли судить Катерину. Одиночку. Неграмотную беззащитную бабу! Прибывшую к вам из зоны, чтобы хоть немного согреть рядом с вами сердце свое и душу. Увидеть людей добрых и понятливых. А главное — справедливых.
— Вы по сути! Биография подсудимой известна! — хотел прервать судья, но Кузьма его не услышал.
— Обвинителей и судей за свою жизнь повидали мы все. И помимо процессов. Кому из собравшихся не причиняли боль клеветники и сплетники? Вряд ли сыщется такой средь вас!
— Это ты верно сказал, — согласился кто-то вслух.
— Вы все пришли судить. А многим ли из вас причинила горе эта баба? Кого оставила голодным, кого обделила, у кого отняла из рук кусок хлеба? Кого обидела ни за что?
Зал молчал.
— Все годы эта женщина работала на кухне, не зная отпусков, праздников и даже выходных. Так продолжалось восемь лет. Ответьте мне, кто из вас вынес бы такую каторгу? Кому из вас подарком показалась бы работа с пяти утра до десяти вечера? Да ни в одной зоне так не вкалывают! Уж я это знаю доподлинно! Там отдых в сравнении с ее волей. Вы не накажете, а наградите ее! Но я не о том хочу сказать, — едва сумел перекрыть смех Огрызок: — Тут говорили, что я сбежал от Катерины. Не выдержал, дескать, ее характера! Брехня все это!
— Говорите по сути! — терял терпение судья.
— Ну, а теперь по сути! Коль так просите! — усмехнулся Кузьма и заговорил, словно все эти дни готовился к предстоящему процессу: — Сегодня мы говорим о факте, намеренно забывая или не желая вспоминать его предысторию. Ведь случившееся, как бы тут ни пытались его исказить, ни в коей мере не связано со мной. И рассматривать последний случай, без начального, не просто недопустимо, а и незаконно. И если мы сегодня смолчим об этом, завтра любого из вас может постичь участь Катерины. Сегодняшним процессом кому-то на руку скрыть, спрятать уголовное преступление, совершенное не без умысла, с целью ложных подтасовок, привлечь к ответственности Катерину! — выдохнул Кузьма и оглядел притихшего судью, обвинителя, заседателей, собравшихся в зале: — За неделю до драки, а это многим из вас известно, в сумку поварихе были подложены продукты. Ни до того дня, ни потом разговоров о — нехватке продуктов в столовой не было. Никто не подозревал Катерину в воровстве. Подложенного она не заметила потому, что в сумке лежали продукты, купленные в магазине. Их в столовой не бывает. И все же странно, что именно тогда, когда кто-то из подсобниц совершил преступление, в столовой тут же появился рабочий контроль наготове с понятыми, — глянул Кузьма на Катерину, слушавшую его, затаив дыхание. — Как была в тот день избита повариха, имеется медицинское освидетельствование, подтвердившее совершение насилия и телесных повреждений, причиненных женщине. Эти документы находятся в прокуратуре Магадана. Но кому-то не по нраву придать огласке случившееся, и расследование затянуто. Естественно, Катерина, зная о подлости подсобницы, могла подозревать любую из троих. Не удивлюсь, если все они участвовали в этом. Они своими допросами такое подтвердили.
— Врешь ты все! Воры вы! Вместе со своей Катериной! — выкрикнула Ленка с места.
— Подсобницы, видевшие в тот день все, забыли, что вместе с поваром работают не первый год. Никто из них не заступился за бабу. Ни словом, ни пальцем не пошевелил. Даже в зонах, среди шпаны, не видел таких пакостных, подлых, грязных людей. Вот кого из поселка гнать надо! Им мало было подвести повариху под статью! Они мечтают вернуть ее в зону! Молодая смена оголтелых негодяек! Да вам и в зоне места не нашлось бы! Против вас зверь — человек, а стая — общество! Это вас укрыли, спрятали от суда и ответственности! Вас и тех, кто заказал такую пакость! Вас и тех, кто изголялся над бабой в столовой, едва не убив повариху за ваш подлог! Вас не судить, казнить надо! — сорвался Кузьма.
— Все понятно, — хотел прервать обвинитель. Но Кузьма продолжал: — Не Катерина, а подсобницы и те, кто подстроил проверку, учинил расправу, должны сейчас отвечать перед судом. Виновным и половины зала не хватило б! Они и сейчас здесь. Почти все! Почему же не Катерина, а они требуют ее наказания? За что она названа преступницей? Иль вам, собравшимся здесь, как на зрелище, мало было видеть ее истерзанную в тот день в столовой? Почему никто из вас тогда не вступился за нее? Не потребовал правды для
Катерины? Или у каждого эта правда — своя? — откашлялся Огрызок: — Я был судим. Но никогда не признавал победой расправу со слабым и невиновным. И это — не суд! Судилище! И каждый из вас это понимает!
— Во чешет! Ну и Кузьма!
— А чё? Правду-матку!
— А говорили — разбежались они, как два катяха в луже! Где же это?
— Так их, судейских! Руби, Кузьма!
— Оно и верно! Нынче Катерину, завтра другого также за штаны сгребут! Уж коль судить, так чтоб все по правде, как перед Богом! — откашлялся в первом ряду старик, приисковый сторож.
— Молодчага, Кузьма! Нехай доследуют! — увидел Огрызок лесника Силантия.
— Я понимаю, вы приехали сюда с готовым решением. И что бы мы здесь ни говорили — прокурор знает, сколько просить, судья — сколько дать. Но и вы, и мы понимаем, что и этот процесс заказан кем-то… Ничто случайным не бывает. Одно хочу добавить: в случае обвинительного приговора найдется кому сыскать начало.
— Это ваше право! — ответил судья и добавил холодно: — Идите на место. Диктовать суду, а тем более угрожать, не позволено никому. Не забывайтесь!
— Я не грожу! Куда мне? Но предупредить обязан. Этой грамотности многих обучили — ошибки юристов, — пошел Кузьма к своему месту.
— Ну что? Есть еще свидетели? — поинтересовался судья у секретаря.
— Да! Самойлов! — заглянула та в список.
Иван пробирался, расталкивая поселковых локтями. Он встал перед залом слегка помятый, но гордый, что и о нем не забыли. Пусть в последнюю очередь, но он скажет свое слово. Чтоб знали все — он, Иван, не из последних в поселке.
Самойлов достал из кармана исписанные листы бумаги. Хотел прочесть все, что подготовил для суда.
Но председательствующий, заметив, что в руках свидетеля написанного не меньше чем на час, поспешил прервать чтение:
— Свидетель Самойлов! Здесь не собрание — суд! Ответьте на вопросы… Иван сразу сник! Из гордого мужика превратился в мальчишку, запутавшегося на втором вопросе:
— Как вы оказались в столовой в рабочее время? Вас кто-либо послал или вы самовольно оставили прииск? — задал вопрос народный заседатель. Самойлов растерялся. Он не знал, что ответить. А второй заседатель уже свой вопрос задал:
— Свидетель Самойлов, в каких отношениях вы находитесь с потерпевшей? Иван открыл рот, но слова застряли в горле. Мужики, стоявшие вдоль стен, недвусмысленно усмехались.
— Да что там, Ванька, колись! Давно уж не секрет!
— Обучает, — хихикнул кто-то ехидно.
— Половым работам, — уточнили громче.
— Клевета это все! — нашелся Иван и, собравшись с духом, выпалил: — Ничего меня не связывает с потерпевшей. Я даже имени ее не знал!
— Как это не знал?! Ах ты, брехло! — вскочила с места Ленка. Лицо подсобницы побледнело: — Паскуда! Ну, приди еще раз! Всю морду исцарапаю!
— пригрозила на весь клуб. И, вспыхнув маковым цветом, заспешила к выходу, роняя слезы.
— Потерпевшая! Прошу, остановитесь! Вернитесь немедленно! — потребовал судья.
Подсобница остановилась.
— Сюда пройдите, — попросил заседатель Ленку и спросил — Этот свидетель вас убедил спровоцировать драку?
Подсобница молча кивнула головой, исподлобья глянув на Ивана.
— Да врет она все! Ни о чем не просил.
— И чеснок, и лук, и мясо он сказал мне всунуть Катерине! Не верите?! Вон, девчонки знают. Скажут, — указала суду на подружек.
— Он говорил вам, зачем это нужно?
— Конечно! Он с Кузьмой в контрах! Говорил, что эта семейка ему поперек горла стоит. Не считается с ним, унижает, высмеивает. А тут еще Кузьма ему вломил. По яйцам, — прикрыла рот девка, испугавшись собственной откровенности.
В зале уже не смех, хохот стоял, вперемежку с матом:
— Выходит, не только эта дура, а все мы влипли? На поводу у долбодуя шли!
— Значит, этот прохвост все накрутил?
— Да ладно вам! Суд разберется! А вот Ленку жаль. Провел ее, гад, как последнюю дуру! Нельзя такое даром спустить, — гудел кто-то из мужиков.
— Ништяк, выпутается! Хорошо, что не совсем в дерьме увязла… Коротко посовещавшись с заседателями, судья объявил, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, дело по обвинению Катерины возвращается на дополнительное расследование.
Собравшиеся в клубе, впервые за последние недели, вздохнули с облегчением. И выходили — одни смеясь, перебрасываясь шутками, другие — матеря Самойлова с его бабьей кодлой, за пакости, устроенные поварихе, за то, что всему поселку загадили мозги.
Ленка с подружками, забыв извиниться перед Катериной, быстрее всех помчалась к общежитию.
Самойлов все еще пытался оправдаться перед судьей, убеждал его, что с подсобницей едва знаком.
Катерина, встав со скамьи, поискала глазами Кузьму. И, не найдя, заспешила к выходу. Люди понятливо пропустили ее, уступили дорогу на волю.
— Эх, бабы! Зачем с вами счеты сводить, с бедолагами? Ведь вы — начало наше. Слабое, зато самое дорогое, как счастье, если оно есть, — вздохнул лесник Силантий.
Огрызок ожидал, когда из клуба выйдет Самойлов, и нетерпеливо оглядывался на каждого выходившего.
Катерина была уверена, что только ее может ждать Кузьма, забыв о людях, сгребла мужика в охапку, зацеловала, залила слезами. И ухватив на руки, понесла домой хозяина, не испросив на то ни его согласия, ни разрешения. Она несла Огрызка, не обращая внимания на смех и реплики поселковых.
— Эй, Катька! Не урони мужика! Не то подберут и не сыщешь! На него уже облава идет, бабья!
— Катерина! Не потеряй сокровище!
— Гляньте! Бабы! Кузьму тащут! Насиловать! А ну, налетай, спасай мужика!
Катерина уже к избе повернула, когда увидела черный воронок, вынырнувший из-за угла клуба. Он выскочил на дорогу и помчался в Магадан. Пекариха вмиг все поняла. Ослабли руки, выпустили Огрызка. Баба смотрела вслед воронку, бледнея. Внезапно она развернулась, заспешила к клубу. Ей так хотелось увидеть заседателей. Тех двоих людей, казавшихся такими же, как поселковые.
Но судейская машина, обогнав воронок, уже была далеко от поселка…
— Спаси вас Бог, добрые люди, — крестясь, шептала женщина. Кузьма решил не спешить и пожить у Катерины до окончания дела, до ее отъезда на материк.
«Еще раз влипнет дура в какую-нибудь историю, больше не выпутается», — подумал Огрызок, входя в избу следом за Катериной.
Он молча затопил печь, принес воды. Смотрел, как основательно управляется Катерина у печки.
— Я даже рада, что пекарихой меня сделали. День работаю, другой отдыхаю. Хоть успеваю дух перевести. Получка, как и в столовке. Ничего не прогадала и не потеряла. Только спокойнее стало мне. Никого вокруг. Одна, сама управляюсь.
— Трудно там одной? — перебил Кузьма.
— Замес делать тяжко. Вручную крутить приходится муку в чанах. По началу даже кишки болели. И руки сдавали. Но теперь уж привыкла. Справляюсь быстрей,
чем поначалу. Хлеб ко времени сдаю. И никто не обижается на вкус.
— Мне тоже твой хлеб понравился, — похвалил Огрызок.
— А знаешь, Кузьма, я все думала, что стану делать, когда в деревню вернусь? Ведь у нас в Березняках столовки нету. Все сами себе готовят. Так испокон веку водилось. Вот и сумленье брало, как без дела останусь, без работы? Ить оно одним хозяйством не прожить. Надо обувку, одежу купить. А на что? В колхозе заработки малые. На них надежи нет. По пять копеек на трудодень дают. А пенсия придет — не наплачешься. Всего восемь рублей на месяц. Тех денег на хлеб не хватит. А уж про сахар, масло — с головы выкинь. На базар в старости всякий день не наездишься. Об ней зараз надо думать, чтоб потом палец не сосать. Вот нынче все само собой решилось. Пекарихой стану. Оно и в деревне нынче дело нужное. Как ты, присоветуешь? — глянула баба на Огрызка испытующе, не без сомнения и страха: «А что как отвык, передумал, не поедет с нею?» — колотилось внутри, заледенело.
— Клёво придумала! В тепле всегда. Жопу, как другие, морозить не станешь. И главное, всегда с хлебом. Есть он — уже дышишь. Не пропадешь. «Чего-то он только про меня говорит, ровно сам уезжать не собирается? Нешто и впрямь остыло все ко мне?» — испугалась баба и, протянув письма родни, предложила: — Почитай! Там и тебе пишут.
— Потом. Не торопи, — отмахнулся Огрызок, не взял письма.
— Ты чего это? — обиделась Катерина.
— Не гони взашей. Тогда и спрашивать не надо было б. Не все так быстро проходит, не все забывается. Было вчерашнее… Оно не отошло. Его с души не смоешь, не выкинешь. И я над собой не волен, — признался Кузьма. Катерина головой поникла.
— Если сумею пересилить себя — все наладится. Ну, а нет — сама поедешь. Одна. Провожу тебя на материк. Но… Ты в одну сторону, а я в другую. Разъедемся.
— Зачем же так, Кузьма? — ахнула баба.
— Мужик я, Катерина! Уж какой ни на есть, а мужик! И не дам никому лажать себя! Не битые судьбой, может, легче такое прощают. А у битых память имеется. Оттого со мной труднее. Я ведь тех слов твоих до гроба не забуду. И не знаю, сумею ли простить их и как раньше — поверить тебе!
— А как же теперь будем? — Испугалась баба, понимая, что Огрызок в любую минуту может уйти от нее.
Кузьма понял ее опасенья и ответил:
— Я не уйду, пока ты не станешь вольной. Не оставлю. Но в тот день, когда из ссыльной признают свободной, не взыщи. Мне за тебя не век дергаться. А теперь вместе, чтоб поселковые не смеялись, не цеплялись к тебе. Для них мы — поладили меж собой. Но для себя — помни… Катерина хотела что-то ответить, но в эту минуту, щелкнув, включилось радио. И взволнованный срывающийся голос диктора прииска объявил:
— Внимание! Всем жителям поселка! Сегодня ночью из номерной зоны, находящейся в семи километрах от Сеймчана, сбежала группа опасных преступников! Вооруженные уголовники были судимы за убийства и грабежи! Просьба ко всем жителям! До поимки преступников никому не отлучаться из Сеймчана! Не ходить на реку, марь, в лес! Не отпускайте из дома детей без присмотра старших! Отлучась, проверьте, закрыт ли дом! Не впускайте в жилье незнакомых. Не укрывайте, не кормите, не помогайте преступникам скрыться! В случае появления незнакомых людей возле ваших жилищ — немедленно сообщите в милицию! Пока преступников разыскивают, в поселке будут проводить проверку документов работники органов внутренних дел. Просим всех жителей соблюдать осторожность. Будьте бдительны!
У Катерины из рук со звоном вывалилась миска.
— Чего трепыхаешься? Я тоже сколько раз линял! И про меня трепали б не лучшее! Смылись не потому, что урки. Оттого, что в зоне хуже, чем в аду. Ни жить, ни сдохнуть не дают. Сама знаешь, чего полохаешься? Нам не сбежавших, вольных сторониться впору. Иль забыла? Не трясись! Мы никому из кентов не нужны. Дыши спокойно! — усмехнулся Огрызок и выключил радио, повторявшее объявление в третий раз.
«Кому-то пофартило сорваться! Пусть бы их фортуна сберегла от ментов и собак», — пожелал Кузьма молча.
Утром он, как ни в чем ни бывало, пошел на работу. И вскоре его окликнули свои, приисковые.
— Кузьма! Слыхал? Ленку утром из столовой увезли.
— Кто?
— Милиция!
— Куда?
— В Магадан! Не иначе как делом Катерины занялись вплотную. Прямо с кухни! В чем была! Переодеться не дали. В воронок сунули и ходу!
— Не то взяли! Не ее надо было хватать! — отмахнулся Огрызок. И забыл об услышанном.
К обеду по прииску слух пошел, что из поселка, неведомо как, исчез Самойлов. Он не пришел на работу, не было его и в общежитии. Вахтер сказал, что не видел Ивана ни днем, ни вечером. Не появлялся он и в столовой. Сколько ни искали его собаки с милицией, ни в Сеймчане, ни в окрестностях не нашли его.
Кто-то из приисковых указал на Чубчика: мол, слышали, как грозил он Самойлову расправой. Но Сашка, так уж повезло, был на рыбалке не один. Вернулся ночью с мужиками и, поделив рыбу на всех поровну, тут же пошел на работу. А утром, когда Самойлова хватились, Чубчик еще был на прииске.
— Наверное, уголовники убили его. Те, какие с тюрьмы сбежали. Им едино кого уложить, — судачили бабы.
— Объявится! Дерьмо не сдыхает! Оно по весне махрово цветет! — отмахнулся Огрызок. Но вечером после работы и его вызвали в милицию. Спрашивали, где был, чем занимался вечером и ночью. Кузьма вмиг смекнул, куда клонят, и ответил презрительно:
— С бабой своей мирился!
— Как?
— В постели! Как еще? На третьей палке все забыл! Простил совсем! Теперь все заново! Будто и не было ничего промеж нами худого!
— А из дома никуда не выходил?
— Вы что? Иль мою Катерину не видели давно? От нее разве сбежишь? — рассмеялся откровенно. И спросил — А почему спрашиваете?
— Самойлов исчез. Совсем! Словно испарился. Нигде найти не можем.
— Я при чем?
— Отношения у вас были сложными…
— Кто их засрал, того и колите! Тут без них не обошлось! Понятно? А меня, на хрен дергать. Я — не мокрушник! И Ваньку с самого суда не видел. Да и с чего мне его гробить? Не он главная падла. А до тех и мне не достать! Он же, хорек, сам вляпался! Небось, его там притырили! И держат, чтоб не замокрили дурака
нечаянно. Кто-нибудь из поселка. Вы у них там поспрошайте, куда они своего стукача занычили! Мне он без понту'
Самойлова нашли лишь на четвертый день. Случайно. Полезли девчонки из общежития белье на чердаке повесить. И только свет включили — заорали, завизжали, вниз по лестнице кувырком скатились.
А через десяток минут милиция поселка вынесла с чердака тело покойного. Самойлова вытащили из петли. После осмотра и заключения патологоанатома, Ивана без огласки, без торжеств тихо закопала на кладбище коммунальная служба Сеймчана вместе с работниками поссовета, не расщедрившимися даже на венок для покойного.
Об Иване уже через неделю забыли в поселке. Едва перестала искать его милиция, никто о нем не вспоминал.
Вернувшаяся через неделю из Магадана Ленка молча выслушала известие о смерти Самойлова. Она не плакала, не сожалела, не навестила могилу. Она не обронила ни слова. Изменившаяся до неузнаваемости девчонка потеряла былую беззаботность. Она стала молчаливой, постоянно боялась темноты и одиночества. Отработав две недели, уехала из Сеймчана навсегда, не оставив адреса подружкам. И до самого отъезда ходила, опустив голову, не замечая никого.
Никто из подсобниц, как ни старались девчонки, так и не узнал, где она была все эти дни.
О деле, возбужденном против Катерины, коротко напомнил следователь, приехавший в Сеймчан ознакомить пекариху с постановлением о прекращении против нее уголовного преследования.
Катерина вздохнула, когда за следователем закрылась дверь. И, уронив невольную слезу, подумала, что уж теперь ей не станут мешать, дадут выйти на волю без волнений и помех. Что никто уже не потревожит ее семью, хлебнувшую горя через край.
Поселковые и впрямь перестали задевать Катерину и смеяться над ней. В Сеймчане теперь было не до них. Жители видели, как встревожена милиция. Днем и ночью охраняя поселок, она не сводила глаз с окрестностей, следила за каждой машиной, случайно затормозившей у поселка. К ней тут же подбегали милиционеры, осматривали, обыскивали, расспрашивали водителя, не просились к нему в кузов попутчиками сбежавшие уголовники. Но ни их след, ни самих беглецов, не удавалось взять.
Поселковые к предупреждениям милиции относились всерьез лишь первые две недели. А потом устали бояться. И понемногу избавлялись от страха. Огрызок, как и Чубчик, не придавал значения услышанному. Помнил свое. И смеялся молча, видя усилия милиции:
«С крыши съехали! Кой козел попрет в поселок, почуяв лягавый дух? Кенты его за версту чуют…»
И верно, никто не нарушал покой поселка, не взорвал ночную тишину испуганный, душераздирающий крик. Кузьма теперь полюбил сидеть вечером после работы на крыльце дома, помечтать о предстоящем отъезде. Он уже не за горами…
Огрызок улыбался наступающим белым ночам. Он знал: уехав, не увидит больше утра и в два, и в три часа ночи, когда видно не только всякий камушек, спичку под ногами, а даже газету читать можно. Было бы желание…
Катерина теперь вся в заботах об отъезде. Себе платья, кофты, юбки шьет. Кузьме целый чемодан рубах и трусов нашила. Портки всякие накупила. Чтоб не знал он с этим нужды в деревне, не бедствовал. Огрызок даже шутил над бабой:
— На что столько барахла запасаешь? Ладно, ты баба! А мне к чему столько тряпок? Жопа одна, а трусов — полчемодана! Мне их и за три жизни не переносить!
— Запас карман не точит, — отвечала баба и принималась шить новое исподнее.
Кузьма давно простил ей глупое. И, примирившись, прочел письма родни. Ему приятно было, что его своим признали. Родным. И не ожидая от него никакого проку, предложили помощь и поддержку во всем. Не задали лишних обидных вопросов, не унизили.
Катерина даже плакала, когда Огрызок прочел ей свое письмо. Она гордилась Кузьмой и не скрывала этого. И не ждала семья для себя новых потрясений, но внезапно на прииск приехала ревизия из Москвы.
Уже на третий день обнаружила она недостачу золота. И пошли проверки снизу доверху.
Забрали журналы и у Огрызка. Но интересовались не столько записями, сколько биографией Кузьмы. Всю перелистали вместе с уголовным делом. От корки до корки. Огрызок быстро смекнул, откуда ветер дует, и держался настороже, чтобы не ляпнуть ненароком лишнее. Не дать повода «схомутать» себя. А ревизия шелестела документами, спрашивая директора прииска не без умысла, с намеками.
— Зачем воров на работу взяли? Чтобы за их счет себе согреться под шумок? Иль обучаетесь у них умению? Или чтоб было на кого свалить? А как иначе, если недостача налицо? Должны быть и виновные! Хищением такое квалифицируется! Не иначе! А золото — это государственная казна! С ней шутить никому не позволено! — сдвигая брови, хмурились ревизоры в военных мундирах.
В один день за воротами прииска оказались все, кто был судим и даже не по воровской статье.
Кузьма, не раздумывая долго, пошел в подручные к Катерине. Но и с него, и со всех судимых ранее была взята подписка о невыезде.
Тяжело переживала случившееся семья Сашки. Однажды вечером, придя на пекарню, Чубчик попросил Огрызка зайти к нему после работы. Тот не заставил себя ждать.
Сашка сидел хмурый. Перед ним стояла пепельница, переполненная окурками,
он молча кивнул на табуретку напротив.
Валентина налила чай, осталась с мужиками на кухне.
— Хреновы наши дела, Кузьма! Придется самим защищаться в этот раз. Не сумели тебя с Катериной скрутить, решили на всех разом отыграться чекисты. Пора дать по рукам, — сказал задумчиво.
— С Катериной они явно промахнулись. Особо на этом процессе все наружу полезло. Не только мы, весь поселок понял, кто затевает козни, — встряла Валентина.
— Да разве это суд? Я петлю влез. Либо загнали такие не жмурятся от стыда. Его у них — не нашмонаешь. Он мог весь Сеймчан перевешать, не пёрнув. Иль я его не знал? И оттого, что сорвалось у него с ними, что раскололи по самую жопу на суде, Ванька не переживал. Он и дальше бы не отцепился. Хоть и засветился, как падла! — вырвалось у Огрызка, и он продолжил: — Просто никто этим не занялся. Не то бы тряхнули за все разом. И за него, и за нас…
— А ты что, не знаешь о записке, какую у него в носке нашли? — удивился Чубчик.
— Не слышал, — удивился Кузьма.
— Ну как же. Он ее не случайно так хитро спрятал, что только в морге и наткнулись. А написал хорек вот что: «Вы изувечили всю мою жизнь. Обещали многое, не сделали ничего. Теперь грозитесь со мной расправиться за позор перед людьми. Но опозорен — я! Не подсылайте никого ко мне! Я знаю, если вы решили, все равно избавитесь от меня. Вы не оставите в покое. А потому ухожу сам, без вашей помощи. Вы не только судьбу искалечили — жизнь отняли у меня, имя! Жаль, что ничего уже не могу исправить, вернуть обратно. Но когда-нибудь за все ответите! И за меня! Будьте прокляты, изверги!»
— Выходит, сам ожмурился? — удивился Кузьма.
и теперь не поверю, что Самойлов добровольно в его или уже жмуром повесили. Сам Ванька — козел,
— Они потребовали эту записку! Но милиция не отдала. Вот и подняли хвост чекисты. Торопятся всех лажануть, чтоб не прислушивались к показаниям, — говорил Сашка.
— Кравцова найти надо. Он разберется. Со всеми, — продолжила женщина.
— Звонила Катюха. В командировке он был. Говорили, через неделю вернется. Но после того не узнавали…
— Поторопись, Кузьма. Сегодня он как воздух нужен. Всем! Допер? Чуть опоздаем, не докажем ничего. Ведь у этих руки цепкие! — предупредил Чубчик.
А утром, едва открылась почта, Кузьма вместе с Катериной заказали разговор с Магаданом.
Кравцов оказался на месте. Катерина напомнила о себе и передала трубку Кузьме. Тот пытался говорить спокойно, убеждал, доказывая необходимость срочного вмешательства.
— Я и так буду в Сеймчане в начале недели. Не опоздаю. А вы все, что рассказали мне, изложите в заявлении, — посоветовал Кравцов. На этом связь с Магаданом внезапно оборвалась.
Весь вечер Чубчик и Огрызок сочиняли заявление в прокуратуру Магадана. Оно получилось пространным, почти на всю тетрадь. Валентина, перечитав его, половину текста вычеркнула. Оставшееся посоветовала переписать. Сашка трудился всю ночь. Он усиливал доказательства, приводил новые доводы. Писал о Кузьме, Катерине, о себе. Он просил помощи и вмешательства прокуратуры впервые в своей жизни. Он понимал: не сегодня, так завтра всех их могут арестовать. И тогда доказать невиновность будет труднее.
Кузьма тоже знал, что возвращение в зону и ему, и Чубчику не сулит ничего хорошего.
Свои же фартовые в первые дни соберут сходку и учинят разборку с обоими. За семьи. За баб — ментовку и политическую! За то, что засыпались не в деле, а по дури, не прибрав к рукам рыжуху. За то, что облажали званье и закон воров. За то, что пахали, как иваны.
Чубчик утром отправил заявление в Магадан, не дожидаясь приезда Кравцова. Заявление послал с обратным телеграфным уведомлением. И решил ждать. Он предпринял все. И теперь сидел дома, не высовываясь никуда, не показываясь даже во дворе.
Но прибежавшая на обед Валентина разрыдалась у порога:
— За вами скоро приедут. Увезут в Магадан. Следствие будет проводиться не в Сеймчане! — всхлипывая, сказала она.
— Что же, кто кого, — ответил Сашка спокойно и пошел предупредить кентов, чтоб собрались в дорогу.
— А может, слиняем, пахан?
— Не дергайтесь! Наши клешни не замазаны. Дышите спокойно. Пусть падлы палки гнут. Сами и облажаются. Посмотрим, кто парашу будет греть, — процедил сквозь зубы Чубчик.
А вечером всех уволенных с прииска забрала милиция. Собрав их в следственный изолятор, оперативник предупредил, что утром за ними придет машина и всех увезут в Магадан для расследования дела о хищении золота с прииска.
В эту ночь в изоляторе никто не спал. Растерявшиеся люди уже давно не верили в справедливость, закон. Они устали от следственных ошибок и оскалов судьбы. Они лежали на нарах, тихо переговаривались, ждали утра и команды:
— Бегом! В машину! Загружайтесь!
…Ночь казалась бесконечной. За долгие часы каждый задержанный не раз в памяти прокрутил всю свою жизнь. Вздыхал и Огрызок. Он повернулся лицом к стене, чтоб никого не слышать и не видеть. А перед глазами все стояла Катерина. Странно, запомнился последний миг. Руки бабьи по локти в тесте. Округлившиеся от удивления глаза, раскрывшийся в немом крике рот. Она ничего не успела сообразить, не спросила ни о чем. Но когда Кузьма
оглянулся, успела вымыть руки, снять фартук и уже переобувалась. Она не плакала, как обычно. Значит, что-то надумала. «Не станет сидеть сложа руки. Но лишь бы не понесло ее к чекистам», — беспокоился Кузьма. Сашка смотрел в потолок. Вздыхал тяжело. Не успел пожить на воле, а уже снова в клетку попал. Да самое обидное, что в этот раз совсем ни за что. И кому он помешал? Кому дорогу перешел? Чекистам? Так ведь за Огрызка и то не всегда вступался. Конечно, всему виной та записка Самойлова. И ее не Чубчик в прокуратуру передал. А менты! Даже они устали от беспредела…
Молча курили фартовые. Им и вовсе невдомек, за что их сгребли сегодня, кому они не пофартили? Теперь, не видя за собой вины, корят молча Чубчика, что оставил их на прииске, не посоветовал линять на материк — в «малину». Удержал от кентов и фарта. «А вот теперь все влипли ни за что», — горевали мужики.
Никто из них и не заметил, как тихо звенькнув, открылся глазок. Потом щелкнул ключ и человек не в милицейской, а в прокурорской форме, сказал непривычно тихим голосом:
— Здравствуйте. Идите по домам. Задержаться прошу Кузьму и Александра.
Он провел их в кабинет, где Игорь Павлович Кравцов вместе с тремя другими работниками прокуратуры допрашивали ревизора, закончившего проверку прииска.
— Так в чем вы подозреваете бракера, если он принял по весу от участка добычи и сдал тем же весом приемке? Все эти данные — в журналах! Провели сверку сдачи, бракера, приемки — все совпало! За что же оклеветали человека? — не заметил Кравцов Огрызка и Чубчика.
— А Сашку за что? Он, даже если бы и захотел, не смог бы пронести! — подал голос Кузьма.
— Подождите здесь, пусть освободится! — Кузьму и Сашку увели в соседний пустой кабинет. Но через тонкую стенку донеслось негодующее:
— Вы — ревизор и не превышайте своих полномочий!
— Я только рекомендовал! А уж исполнять никого не заставлял!
— Ваше дело — объективная проверка! Все остальное — забота следствия! Существует закон! И он один для всех написан! А нарушать его никому не дозволено! — кипел Кравцов и, отправляя ревизора из кабинета, добавил: — Потрудитесь в ближайшие два дня предъявить нам акт ревизии…
Когда ревизор ушел и Кравцову сказали, что Кузьма и Сашка ждут приема, Игорь Павлович попросил их подождать и продолжил разговор со своими коллегами, не подозревая о плохой звукоизоляции.
— И все же я считаю, что директор прииска правильно наказан! Нельзя же в конце концов подпускать к добыче и переработке золота воров! Это все равно, что козла поставить стеречь капусту! — послышался голос.
— Я тоже так считаю! Ну как ворюга сможет спокойно мимо золота пройти и не украсть его? Да это абсурд! Конечно, не исключено, что дирекция, прикрываясь такими кадрами: мол, лучших взять негде, — львиную долю золота, под шумок, прибрала к своим рукам. Но и в этом случае судимых за воровство держать на прииске — это все равно, что тушить окурок о пороховую бочку!
— Вы оба неправы. Наберитесь немного терпения. И выслушайте. Я работаю на Колыме двадцать восемь лет. Плюс десять лет заключения. Знаю по собственному опыту, что может произойти и что исключено. Так вот знайте: никогда, ни один из бывших воров не станет красть золото с прииска, рудника. Это проверено много раз. Суть в том, что все воры, хотят они того или нет, убеждены, уверены в постоянной слежке за собой со стороны окружающих. Они лучше нас с вами понимают, что при самой незначительной нехватке именно на них будет возложена вина за воровство. Этот комплекс называем мы болезнью памяти. Им страдают все, кто воровал ранее, а теперь работает на добыче золота. Вор, решившийся работать, навсегда порвал с прошлым. Как только он взял в руки рабочий инструмент, а не фомку, не лапу, он выбывает из закона и становится отколовшимся, подвергает себя риску быть убитым фартовыми за нарушение закона, по которому вор не должен вкалывать. Именно о них мы говорим! Отколовшиеся воры вверяют нам не просто свои судьбы, но и жизни. И никогда не крадут, тем более там, где работают. Кстати, сами воры, на воле, никогда не воруют там, где живут. Дань берут с родственников и спекулянтов, с торгашей, но других не трогают. Они знают, кто чем дышит. Так вот те, о ком мы с вами говорим, не унесли с прииска ни крупицы. В этом я убежден. Добавлю вам по секрету, мне искренне жаль этих мужиков еще и потому, что, работая на прииске в постоянном напряжении, они не только часто болеют, а и живут намного меньше других. Их убивают нервы…
— Ну да! Ходить рядом с золотом и не стащить его! Конечно, ни один не выдержит такого испытания!
— Это уже легче! Но неверно! Бывшие фартовые страдают от недоверия, они не только сами не крадут, но и следят за вольными, чтобы те не воровали. Вольные, не прошедшие испытание зонами и разборками, лишениями и голодом, не имеют сдерживающего фактора, как у тех, кто побывал в заключении. И никогда, ни за какие соблазны, за горы золота не захочет вернуться туда обратно. Каждый вор знает: нехватка, по чьей бы вине она ни произошла, в первую очередь сыграет на его судьбе. Именно потому бывшим ворам можно спокойно доверять работу на прииске в любой должности. Они не только сами не украдут, не дадут другим, но и определят качество золота, пробу узнают без лабораторий.
— У золота еще и качество есть?
— Оно подразделяется на промышленное, медицинское, монетное, ювелирное, смотря по зашлаковке, цвету и прочему.
— Я всегда считал, что самое лучшее — червонное золото…
— Не прав! Золото самой высшей пробы, так называемое три девятки, применяется у нас в оборонке — приборостроении. Но его метят изотопами. И это золото легко определить.
— Как я теперь понимаю, директор прииска — не простак!
— Кстати, он из репрессированных! Это его в числе первых реабилитировал мой предшественник! — рассмеялся Кравцов. И добавил: — Именно потому не допускаю и мысли о его причастности к нехватке или, как ревизоры называют, утечке золота. Сделаем повторную проверку! Я подозреваю, что директор, как бывший политический, тоже не без колпака у органов. И если б он где-то оступился, давно бы его упекли. Тут же не исключена и подтасовка нехватки, — предположил Кравцов.
— А зачем он чекистам нужен?
— В том-то и дело, что не нужен. Иначе к чему весь сыр-бор? Мешает он им. Как лишний свидетель. Милиция по недоразумению вначале ему о предсмертной записке Самойлова сказала. Думая, что прииск виноват. Ну, а директор, мужик тертый, вмиг смекнул. Подсказал, кому адресовано, и добавил, что таких Самойловых на прииске — десятки… Этот разговор с милицией слышал начальник отдела кадров. Через десяток минут о телефонном разговоре узнали и чекисты.
— Да, этот Кравцов и впрямь не зря средь нас, зэков, ходку тянул, — ерзнул на стуле Сашка.
— Ну так что? Понимаете теперь, почему я не спешил сюда ехать? Пусть все семена дадут свои всходы! А теперь пригласите обоих задержанных! — попросил Кравцов.
Когда Чубчик с Огрызком вошли в кабинет, Игорь Павлович, поздоровавшись, предложил им присесть, извинился за задержку с приездом.
Разговор сразу завязался легко и просто. Кравцов спросил у Кузьмы, как он оказался на прииске, как справляется с работой. Думают ли остаться в поселке иль уедут на материк?
— Может и приклеились бы. Бабки получаем неплохие. Хватает. На старость стоило б зашибить. Да фраера не дают дышать. Линять придется, как только у бабы ссылка кончится, — ответил Кузьма.
— А вы как решили? — спросил Сашку.
— Нам уезжать некуда! И здесь оставаться невозможно стало. Совсем довели. Обидно, что сами знают — не воровали мы, и все ж ради куража измываются. За такое в зонах не щадят, дышать не дают. Черт знает, что творится. В любой тюряге закона больше, чем на воле. Там, кто лажанулся, сход живо разберется. Тут — будто придурки кругом…
Кравцов расспрашивал Чубчика о работе, о бригаде, взаимоотношениях с начальством. Поинтересовался, чем занимается в выходные, с кем общается.
— Саш, скажите, вы данные по добыче золота каждый день знаете? Или вам говорят в конце недели, месяца? — спросил Кравцов.
— Мы подаем наверх породу. А уж сколько с нее намоют, мы не можем знать. Не одни мы под землей. Больше двух десятков бригад. Добычу поровну теперь делим. На всех. Так оно лучше. Потому что сегодня у меня хорошие пласты, а завтра — ни хрена. А хавать каждый день надо. Вот и решили так
— все, как в «малине». Кубышка — казне, а бабки — на всех кентов.
— Бывали случаи, чтобы проходная задержала кого-то из вашей бригады с золотишком?
— Кому дышать наскучило? Он же и до проходной дохилять бы не успел.
— Это почему? Как бы ты узнал? — удивился Кравцов.
— Мы прежде проходной в душевые приходим, чтоб рожи отмыть. А у нашей банщицы собачонка имеется. Белая, лохматая. И маленькая, как рукавица. Барухой ее зовем. И знаете за что? Она, стерва, золото лучше приборов чует. От природы это у нее. Не иначе, как у пахана колымского в шапке родилась. Пытались лажануть, колчедан ей подсовывали. Да хрен там, даже не нюхала, лярва! А рыжуху — за версту! Так вот эта падла всех шмонает. И теперь. В гардеробной.
— Значит, ловила с поличным кого-то? — рассмеялся Кравцов.
— Ну да! Конечно! — согласился Сашка.
— И кого же?
У Кравцова очки упали с носа.
— Часы мне жена подарила. Из рыжухи! Так эта стерва выволокла их из портков, пока я мылся. И притащила, сука, на контроль вахте. Прямо за браслет. Я когда из душевой вывалился, глядь — пропажа! Кипеж поднял. А Баруха на меня бросается. Контролеров привела, лахудра! И не только меня опаскудила. А и других с кольцами. Хорошо, что магазин подтвердил покупку. С тех пор рыжуху на работу никто не надевает. Баруха отучила! Но суть не в ней. Хотя теперь на прииске целая свора барбосок, все дети Барухи, ею обучены. Как в «малине». Они ни на что не клюют. Их никто не уломает. Засветят любого. Проверяли. И как появились эти шалавы, нам на прииске дышать легче стало, знаем, есть кому шмонать и стремачить. Никого не пропустит необнюханным.
— А кто научил ее в золоте разбираться? Охрана прииска? — поинтересовался Кравцов.
— Да нет! Гардеробщица душевой. У нее мужик из наших. Бывший. Ну и работал на приемке. Самому шмонать каждого совестно и не позволялось. А боялся, чтобы не подвел кто-нибудь. Вот и вырастил себе Баруху в кенты. Сам давно уж умер, а она «пашет». Как пахан. Всех в зубах держит. От начальства до дворника. Ее за честность особо харчат, чтоб из чужих рук не хавала, не отравилась ненароком.
— А случалось, что ловила она кого-нибудь? — поинтересовался Кравцов.
— При мне, на моей памяти, нет. Но, как слышал, года за полтора до меня, припутала. С песочком…
— Ну, а если вы захотели бы пронести, сумели б?
— Не захотел бы в зону. Иль под вышку.
— А если бы речь шла не о вас. О вольном? Или управленце, кто минует душевую? Сумели б пронести?
— Я в их шкуру не влезал.
— Ну, а если бы напакостить кто-то вздумал вам, как он сумел бы унести золото с прииска? — уточнил вопрос Кравцов.
Сашка задумался, перебирал все варианты.
— Да чего там голову сушить? При транспортировке. Кто машины сопровождает? Чекисты!
— Да, но ящики опечатаны! Ты что? И каждый мешочек под пломбой! — отверг Сашка догадку Кузьмы.
— А я тебе докажу, что из мешочка можно! — стоял на своем Огрызок. И добавил: — Шприц в ход пустить и все тут.
— Каждый мешок прошивается! — осек его Чубчик и добавил: — Короче, до момента транспортировки — ручаюсь! Но и она принимает и сдает грамм в грамм.
Игорь Павлович еще долго говорил с Огрызком о Самойлове, Катерине, о работе. И, прощаясь с ними вечером, попросил не рассказывать о разговоре с ним никому.
Сказал Кравцов, что завтра оба могут выйти работать на прииск. Но Кузьма сразу отказался:
— Мне до отъезда раз плюнуть осталось. Не хочу нервы мотать. Добью свое в пекарне. Так спокойнее и мне, и Катерине.
Игорь Павлович лишь плечами пожал. Мол, ваше дело…
Весь день прокуратура проверяла документацию прииска по добыче и сдаче золота. А Кравцов обошел весь прииск. Побывал во всех бригадах. Разговаривал с людьми, присматривался к работе. Встретился с двумя мужиками, с которыми вместе отбывал срок в зоне. Не торопился увидеться с директором.
Сеймчан, узнав о приезде Кравцова, замер. Наслышаны были люди о следователе, которого все зэки называли колымским дьяволом. Слышали: если появился Игорь Павлович, чья-то голова летит с плеч. Весь Север знал, что не было у Кравцова нераскрытых преступлений. Знали, что выезжая в командировки по делам следствия, работает даже ночами. Ни сил, ни времени не жалеет. А знаний и опыта ему не занимать. Всем коллегам Кравцова известно, что на расследование самого сложного дела ему хватало не более десяти дней. Другие с подобными мучились месяцами.
Поздним вечером, когда Кравцов вернулся в гостиницу, кто-то из коллег спросил его:
— Вы когда-нибудь раньше бывали в этих местах?
— Доводилось. Правда, не в нынешнем качестве, зэком… Мало что с тех пор тут изменилось. Прииск и методы работы прежние. А ведь столько лет прошло, — задумался Кравцов, вспомнив что-то свое.
— Игорь Павлович, а Сеймчан вам памятен чем-нибудь? — тормошили его коллеги.
— Он не исключение. Памятен, конечно. Событиями, людьми, которые остались здесь навсегда. Сторожами нашей памяти, — вздохнул Кравцов и продолжил: — Неподалеку от Сеймчана есть номерная зона. В ней испокон веку содержались две категории заключенных — воры и политические. Я в этой зоне три зимы отбыл… И был средь воров один пахан. Со странной кличкой. В то время он четвертый срок отбывал. Редкий тип. Силен, как медведь, хитер настолько, что сама хитрость против него — дитя. Жесток — на удивление. Он долгое время держал в руках всю эту зону. И боялись его не только зэки, а и начальство. Он сам решал, когда ему на волю выйти. Но если кто-нибудь другой решался сбежать на волю, не спросив у пахана, считай, сам на себя руки наложил. Умел расправляться фартовый. Хотя сходы редко собирались. Он больше всех на свете ненавидел политических. А потому можете представить себе, как доставалось нашему брату в этой зоне. Что там климат, условия, питание и начальство? Все это мелочь в сравнении с властью пахана! Он был хозяином наших заработков, желудков и жизней! Да, да! — подтвердил Кравцов, увидев удивление на лицах своих коллег. — Он не терпел политических не потому, что они ему зло причинили, а оттого, что не укладывались в схему его понимания и занимались, как считал, бездельем, мороча голову себе и другим. А потому он не позволял политическим болеть. За невыполнение нормы отбирал пайку и оставлял без баланды, порой на всю неделю. Он отбирал посылки из дома, все теплое белье. И даже одеяла и матрацы у тех, кто пытался отстоять себя. Он выбивал зубы, это считалось самым легким наказанием…
— Ничего себе! — выдохнул кто-то.
— Обычно он наказывал нашего брата тем, что вгонял провинившегося в парашу. На всю ночь. Не позволял присесть. Даже на край. Зато каждый час этот человек должен был кукарекать. Если он забывал, его молотили. Начинал возмущаться — вытаскивали из параши и привязывали к столбу на несколько часов. Оно хоть зимой, хоть летом — страшная пытка. То мороз, то комары одолевали любого. И однажды я не выдержал, вступился за одного, — вспомнилось Кравцову. Он глотнул кофе и продолжил: — Подошел я к столбу белым днем и отвязал своего соседа от столба. Он зарплату отдавать не хотел фартовым. Детям домой высылал ее. Ну, а тут и с него потребовали
— жизнь или кошелек… Только я его отвязал, ко мне блатные подступили. Сразу пятеро. И на сапоги взяли. Я до того времени умел драться. Но никогда не мог себя заставить нанести удар в лицо. Тут же, когда впервые почувствовал, что меня банально убить хотят, забыл о рыцарских правилах и озверел по-настоящему. Тогда я на себе испытал состояние аффекта, — усмехнулся Игорь Павлович: — Уж не помню, как произошло, но вломил я им. И ворвался в барак к фартовым. К пахану бросился. Видно, решил разом со всеми разделаться.
— А остальные политические где были? Наблюдали молча?
— До того момента. А тут мне повезло пахана с ног сбить. Видно, он от удивленья не устоял. Так вот здесь и вломились политические. Наворочали шороху блатным. Да так, что целый месяц после той стычки мы спокойно жили. Никто нас не трогал. Но это затишье оборвалось.
Администрация покидала в шизо самых сильных мужиков из нашего барака, и воры не промедлили. С меня чуть шкуру не сняли. А когда освободили меня из зоны и восстановили в должности, в числе первых попало дело этого пахана. Он, сбежав из зоны, сумел добраться до Якутска и там ограбил ювелирный магазин. Не один он был. Не обошлось и без убийства. Сторожа убрали. И все ж поймали. Привезли в Магадан, доставили ко мне на допрос. А он и говорит: жаль, мол, что в зоне не успел размазать тебя! Теперь ты со мной калеными сочтешься. Не упустишь свою лафу! И знаете, я поддерживал обвинение. В суде. Попросил ему срок, а не вышку, как пахан ожидал. И в процессе доказал, что убийство сторожа совершено не им, а сообщниками, проходившими по делу. Сам пахан, а это я знал по зоне, никогда не душил никого. Он предпочитал не марать руки о жмуров. Эту грязную работу за него выполняли другие. А если и приходилось ему защищаться, отмахивался только ножом. Им он владел лучше, чем ложкой. Сторож был банально задушен.
— Не пойму, зачем таких живыми оставлять? Да еще садиста? В зоне он скольким людям жизни укоротил, а вы его оставили? Какой в том смысл? Сегодня он не убивал, но, вернувшись в зону, что натворит?
— Вы знаете, как англичане уничтожали крыс на судне? Они ловили десяток крыс, запускали в железную бочку. И не давали есть. Голодные крысы начинали есть друг друга. И в итоге через три недели в бочке оставалась одна крыса. Ее выпускали. И она выгоняла с судна всех оставшихся крыс. До единой. Оставалась сама хозяйкой всех трюмов, кухни. И ее на судне берегли, как члена экипажа. Ее никто не обижал. На нее даже довольствие выделялось, — рассмеялся Кравцов и пояснил: — Як чему об этом говорю? С преступностью надо бороться руками самих преступников. Как сделали это во Франции. Сюрте! Слыхали? Сыскная полиция, состоящая из бывших уголовников. Результат их работы потрясающий! За полгода они выловили всех преступников. Поймали воров. И очистили Париж от уголовщины!
— Да кто ж у нас возьмет уголовников в прокуратуру? — рассмеялись коллеги.
— А я кем был, когда отбывал в зоне? Меня не товарищем, гражданином Кравцовым звали! Но это по бумагам. А в глаза постоянно — враг народа! Это клеймо похлеще воровского! Если тем срок, нашему брату вышку давали! А знаете, сколько юристов на Колыме сроки отбывали? Сколько умерло — не счесть! Так вот того пахана, когда вернулся в зону, будто подменили, пальцем политических не трогал. И своим кентам запретил. Ну, а торгашей, спекулянтов, работяг не оставил и покое. Тряс, как липку…
— Короче, каким он был, таким остался?
— Да нет. Не совсем так. Что-то переломилось в нем. Поздновато, конечно. Но уже не издевается над мужиками в зоне.
— Он и теперь срок отбывает?
— Да. Седьмая судимость. За побег добавили. Но и теперь в бегах, уже не один. С фартовыми ушел из зоны. Администрация сменилась. Заставила воров работать. Они отказались, в столовой перестали кормить законников по распоряжению начальства. Буза не прошла. Тряхнуть работяг не получилось. Охрана не дала, отбросила. А жить охота. Сбежали… Уже две недели, как на воле. Конечно, промышляют, фартуют, как они говорят. На материк им не прорваться, пограничники и милиция предупреждены. Идут облавы. Но… Сколько крови прольет этот Капеллан, пока его поймают? А ведь все началось в его судьбе с юридической ошибки. Не случись ее, одним вором было бы меньше… Мальчишкой его взяли. Подростком. Убегая из ограбленной квартиры от милиции, воры ненароком обронили, а может, выбросили кожаный кошелек. Пустым он был. Мальчишка поднял. Ему понравилась вещица. Стоял и разглядывал среди улицы. Даже не заметил милицию и подоспевшего хозяина. Тот вмиг за кошелек. Милиция мальчишке — в ухо. Так и не сумел доказать невиновность. Хотя воры отрицали знакомство с ним. Не поверили судьи. И несмотря что пацан, впаяли срок, как взрослому. С теми ворами его и в зону отправили. На исправление и воспитание. Фартовые оправдали надежды. И через десять лет подкинули такого вора на волю, что многие «малины» дрогнули. Уж он милицию не раз крошил. За все сразу. И за свое, пацановское. Да и кто бы из нас сумел выдержать и устоять в его возрасте и положении?
— А сколько раз он вам в руки попадал? Сколько раз вы его дело вели?
— Пока что однажды. Но, кажется, скоро с ним снова увижусь. Сердцем чую, — усмехнулся Кравцов.
— Не опасаетесь этой встречи, Игорь Павлович, честно?
— Нет. Капеллан неприятен мне. За прошлое. Слишком памятен мне этот тип. Но наше с ним положение — неравное. Он — в бегах. А когда будет взят под стражу, тут уж вовсе не до сведения счетов.
— А почему мы так много о нем говорим? Ведь приехали совсем по другому делу. Уж лучше об этом поразмыслим, хоть не впустую. Времени у нас маловато. А воспоминания отложим на будущее, — предложил самый пожилой из следственной группы Евгений Иванович Игнатьев.
— Я не случайно заговорил о Капеллане. И наше нынешнее дело, хотим мы того или нет, впрямую с ним связано. Не удивляйтесь! Нехватка золота — дело рук Капеллана. И ни при чем тут чекисты, бывшие воры, прочие приисковые работники!
Следственная группа онемела от удивления. Кравцов не раз поражал их своими внезапными выводами. Но нынче… Все юристы считали, что золото с прииска украдено самими добытчиками, либо произошла ошибка при подсчетах, либо чекисты, не рассчитывая на повторную проверку, подкинули липовую нехватку.
— А тут — Капеллан!
Евгений Иванович Игнатьев первым оправился от шока и спросил шутливо:
— Ваш Капеллан, надеюсь, ходит на двух ногах, как и все мы, грешные. И несмотря на званье пахана и несчастное детство, летать, оставаясь при этом незамеченным, не научился. Единственный довод в пользу его причастности к хищению, это его побег из зоны. Но и он не доказательство. Вор в бегах наоборот старается залечь на дно, на год иль два, пока его искать перестанут. Тут же — с корабля на бал! И не куда-нибудь, а враз на прииск! Это, мой друг, абсурд!
— Но Игорь Павлович, как я понял, лишь предполагает, а не утверждает!
— Зачем мы говорим, пусть сам Кравцов продолжит. Может, у него есть веские доказательства? Ведь не из пустого же сделаны эти выводы? Верно, Игорь Павлович?
— Конечно, не из предположений! Я слишком хорошо знаю человека, о котором говорю. А потому прошу вас всех без исключения с наступлением сумерек никуда не отлучаться за пределы поселка. Это слишком серьезно. Капеллан, зная, что дело пошло ко мне, будет стараться всячески помешать следствию. Это он умеет делать.
— Ну, а доказательства есть?
— Имеются. Я его почерк знаю. Не раз на него сегодня наткнулся. Удивился живучести, изворотливости пахана. Трижды побывал на прииске, минуя все проверки, без единственного документа! Так надо суметь! — закрыл не без спешки форточку в окне Кравцов. И продолжил — Грузчиком приезжал. С продуктовой машиной. Прямо на территорию прииска. В табачный ларек. Потом дважды в продовольственный магазин. Ящики, мешки носил исправно.
— А золото? — открыл рот Игнатьев.
— Рядом с магазином, вплотную, особый цех по подготовке к отправке золота в Магадан. Там каждый человек на виду. Но люди остаются людьми. И при всей их внешней строгости, имеют свои слабости. На них и рассчитывал Капеллан. Ведь когда в магазин привозят товар, сгружают на глазах мешки, ящики, всякие пакеты шуршащие, да еще в ярких упаковках, женщины с ума сходят. И закрой ты их хоть на семь замков, они все равно через щели просочатся. То же самое случилось и здесь. Женщины не выдержали, вышли из цеха. Капеллан был не единственным грузчиком. Пришел в цех, пригласил остальных женщин в магазин. Сказал, что привез им импортное барахло. Оно так и было. Бабы толпой в магазин кинулись. Он их еще и поторопил. Задержался на минуту. Этого ему хватило. Пяти килограммов золота как не бывало. Но пропажи хватились не сразу, лишь на следующий день. И никто не подумал, не заподозрил весельчаков-грузчиков, щедро угостивших конфетами. А когда пересчитали, взвесили золото, обвинили участок сдачи. Мол, обсчитались. Заработались. Но те свои журналы проверили. Никакой ошибки не нашли. И кто-то сообщил чекистам о случившемся. Тут все и завертелось. О грузчиках вспомнили лишь сегодня. Да и то вскользь, мимоходом. Они и сегодня вне всяких подозрений.
— А почему ты думаешь, что это был Капеллан?
— Нашел машину. Поговорил с водителем. Спросил о грузчиках, напомнил тот день. Он не копался долго в памяти. Подарок показал. Я его у него выменял. На зажигалку, — рассмеялся Игорь Павлович и достал из кармана пиджака финку с наборной рукояткой, на которой зелеными пластмассовыми кубиками было набрано одно слово — Капеллан. — Я эту финку слишком хорошо помню. Ни с какой не спутаю. Два часа меня под нею держал Капеллан.
— Но как же беглец, вор, мог сделать такой подарок? Ведь с финками, как с головой, фартовые не расстаются!
— Тут случай особый. По воровскому обычаю Капеллан обязан был дать водителю его долю — положняк, но тот ничего не знал. А потому Капеллан отдал то, что шоферу понравилось. Выполнил обычай.
— А как они познакомились?
— Капеллан его выследил. Именно тот водитель всегда приезжал на прииск и его не проверяли. Он никогда не заходил в цехи. А грузчики — всегда разные. Людей не хватает, брал тех, кто соглашался заработать. Почти всегда это были свои же, поселковые. И этих он взял прямо с трассы. Принял за сеймчанцев.
— А как они выехали с прииска непроверенными? Ведь машина была пустой?
— Нет, к сожалению! Тарных ящиков полный кузов увезли от магазина.
— А кто был с Капелланом? — спросил Игнатьев.
— Слишком многого хотите, мой друг, от одного дня! — допил кофе Кравцов и долго разглядывал под настольной лампой финач Капеллана.
— А как вышел на тех девчат, на магазин и водителя? — поинтересовался Игнатьев.
— Понаблюдал с территории. Вот и весь секрет, — ответил Игорь Павлович.
— Откуда знаете, что на прииске он три раза побывал?
— Водитель сказал, да и продавец. К тому же не забывайте, Капеллану тоже осмотреться пришлось. Узнать все.
— Игорь Павлович, вы сказали, что не раз натолкнулись на следы Капеллана. Значит, финка не единственное доказательство?
— Нет, конечно. Он спрашивал у женщин цеха, где работает бригада Чубчика. Назвал его своим корешем. Те сказали, что попасть к Сашке нелегко. Работает он не на поверхности. И к нему ни родственников, ни корешей не пустят. Тогда он узнавал у дворника прииска, в какую смену работает Александр. Но старик попался дотошный. Из тех, кто сам спрашивать любит, а отвечать — не спешит. Он и давай сыпать: «А зачем тебе бригадир? Кем ему приходишься? Почему не дома узнаешь, а сюда пришел? Кем здесь на прииске работаешь?» Капеллан понял, что старик вот- вот о документах
спросит. И поспешил уйти. Но дворнику запомнился Это и понятно. Личность неординарная. Есть в ней что-то звериное, жестокое. Как печать, — вспомнилось Кравцову.
— И все же, я думаю, удалось ему уехать на материк. При золоте он сумел миновать кордоны. Ведь уже столько дней прошло и ниоткуда сообщений о Капеллане не поступает, — сказал Евгений Иванович.
— Теперь о нем с материка услышим. Там его возьмут. На золоте попадется.
— Э-э, нет! С таким запасом он не скоро выплывет. Заляжет на дно. Здесь его обкладывать — это как ветер в поле ловить. На прииске ему больше делать нечего. Сливки снял. А свести счеты он всегда успеет. И необязательно своими руками. Пришлет обязанника иль какого-нибудь кента из новой «малины». Тем более он не любитель черной работы. Да и Чубчик ему в лапы просто так не дастся. Стережется Капеллана. К тому ж и пахану нынче жить хочется. А Чубчик в случае опасности не только постоять за себя сумеет, а и уложить. Ведь тоже не всегда бригадирствовал на прииске. В зоне много лет в паханах ходил. Конечно, полной уверенности нет. Может, и проскользнули сбежавшие на материк. Они умеют просачиваться по трое, четверо, под видом рыбаков, геологов, охотников. Капеллан постарается уйти. Но сомневаюсь, что ему это удалось, — задумчиво говорил Игорь Павлович.
Тем временем Кузьма и Катерина, справившись с последней выпечкой, сдали хлеб магазину и убирали пекарню, готовя ее для работы другой смене. Завтра отдых. Можно будет выспаться. Не вскакивать с постели ни свет ни заря и, прогнав остатки сна стаканом холодного чая, выталкивать самих себя за шиворот на работу.
Выходной… Кузьма уже распланировал этот день целиком. Выспаться. Потом печь истопить, согреть избу. Поесть. И сходить в баню. Хорошенько пропариться. По пути из бани зайти в магазин. Набрать харчей. И весь вечер гонять чаи с вареньем, изгонять простуду.
Прохватило Огрызка сквозняком в пекарне. Теперь кашель мучал. Долгий, больной. Конечно, предлагала Катерина бутылку водки купить, но Кузьма отказался взять ее даже на компрессы.
Кузьма подмел пол пекарни. Баба мыла формы. Складывала в стопку
вытряхнутые мешки из-под муки. Огрызок сел за стол подсчитать количество выпеченного хлеба. Все совпало, до единой буханки. Катерина сворачивала халаты и колпаки — домой, на стирку. Кузьма уже переодевался. Нагнулся надеть сапоги и услышал тихое, как шелест ветра:
— Эй, кент, потрехать надо, линяй за угол шустро.
Кузьма родным ушам не поверил. Подумал, что мерещится. Тем более, и на пороге ни души. Никого, кроме Катерины.
— Приморился, как падла, вот и чудится всякая мура, — решил Огрызок. И натянув на плечи телогрейку, ждал, пока баба оденется.
— Ты, кореш, чего резину тянешь? Катись за угол, — послышался голос снова.
Эти слова услышала Катерина. Закатав на ходу рукава, выскочила из пекарни, прикрикнув:
— Что там за блядь приперлась моего мужика за угол звать? А ну! Покажись, стерва! — выскочила наружу пыхтящей горой и увидела двоих мужиков, прижавшихся к стене пекарни — Опять ссать на стенку вздумали, кобели треклятые! Иль другого места не нашли, сучьи дети? Чтоб вам яйцы оторвало! Пошли вон отсюда, козлы вонючие! Все стены сгноили! Иль не видите — пекарня тут, а не отхожка! Подбирайте портки живее и вон отсюда!
— Она взялась за метлу.
— Захлопнись, дура!
— Позови Кузьму, — потребовали настойчиво, мрачно.
— Зачем он вам сдался? Чего от него хотите, алкаши проклятые? Он не пьет. И не водится со всяким говном! Нечего ему с вами делать!
— Не вопи, шалава! Позови Огрызка!
— Я тебе позову! — схватилась Катерина за лопату, подпиравшую дверь пекарни.
Но Кузьма опередил ее. Вышел на голоса. Увидел бывших кентов из зоны и, оглянувшись на бабу, сказал:
— Иди домой. Я скоро буду.
— В пекарне тебя дождусь! Вместе домой пойдем. Ты с этими не задерживайся, — Катерина оглядела непрошеных гостей злым взглядом. Кузьма дождался, пока баба ушла. Подошел к кентам вплотную:
— Чего из-под меня надо? — спросил хмуро, не здороваясь.
— Пахан прислал. Капеллан. Дай ему свои ксивы на время. Слинять надо. Обратно их тебе через пару недель нарисуют. Верняк! Не за халяву. Навар получишь. Выручай, кент. На материк прорваться надо. Без ксив — невпротык! Лягавые заметут. Шмонают, падлюки, всех подряд.
— Ксивы дать не могу.
— Почему? — подступил желтолицый пучеглазый головастик.
— Они в ментовке. По делу. Рыжуху на прииске кто-то стыздил. Нас вымели. Все на мушке сидим. Под распиской о невыезде. Дело крутит Кравцов. А мы все под колпаком. Сам хочу на материк слинять. Да лягавые за горлянку приморили. Каждого стремачат.
— Давно следчий возник?
— Вчера.
— Один?
— Не знаю.
— Пронюхай. И где приморился? Ночью мы к тебе нарисуемся, — пообещали кенты. И, оглядевшись по сторонам, не следит ли кто за ними, скрылись в кустарнике.
Катерина и виду не подала, что слышала весь разговор. Она вовремя отпрянула от стенки, успела присесть к столу. Ждала, когда сам Кузьма обо всем расскажет. Но он молчал. Настроение его испортилось. И вместо того, чтобы пойти домой, свернул к Чубчику, а Катерину отправил одну.
— Слушай, пахан, хоть пару дней не высовывайся из хазы. Капеллан, падла, пасется рядом. Уж не знаю, на что ему Кравцов сдался, но без ксив он смыться не может. От меня отвалит, к тебе прикипится.
— Не ссы, Огрызок! У меня с ним свои счеты! Старые! Куда тому Кравцову с его кодлой. Мне от Капеллана ни к чему линять. Должок с него сорву! За треп! — усмехнулся Чубчик криво и предупредил — Ты отваливай
теперь домой. А я через час возникну. Гостей подожду. Вытрясу из них, где тог Капеллан приморился. Уж я с его шкуры кредиток настригу! Всем кентам до гроба хватит! — смеялся он каким-то чужим глухим смехом. Кузьма пытался отговорить Чубчика. Предлагал сказать о Капеллане Кравцову. Но Сашка ни о чем и слушать не хотел.
— Я завязал с кентами и «малинами». Но стукачом и сукою не стал! На это меня родная баба не подбила! Я откололся сам! Отшился от фарта! Но кентов засвечивать не стану! Они — сами по себе! У меня к ним ничего нет! А кто должен мне — сам сорву! Вместе с тыквой! Хиляй, Огрызок, я скоро буду!
Кузьма, вернувшись домой, все искал, чем ему заняться. Но ничего не получалось. Все сыпалось из рук.
Свалив все на усталость, Огрызок лег на диван, хотел уснуть хоть ненадолго. Но сон не шел.
Катерина тщетно пыталась растормошить Кузьму. Она просила его поужинать
вместе. Но Огрызок отказался. Его трясло, как в лихорадке, и мужик не
понимал, что с ним происходит.
Встал он, лишь когда в окно постучал Чубчик.
ГЛАВА 8
Сашка вошел в избу, огляделся по углам:
— Никого?
— Не возникли покуда…
— Что ж, мы не гордые! Можем подождать, — сел к столу на кухне. И глянув на Катерину, занятую стряпней, впервые похвалил бабу: — Во многом не везло тебе, Кузьма! Но вот бабой фортуна не обошла! Она тебе за все разом! Ровно не долю, не положняк, а весь общак снял с судьбы! За все ходки и дальняки! Добрая у тебя баба! Она и мать, и сестра, и жена твоя! За всех кентов в подарок от судьбы. Держись ее, Огрызок! Как за жизнь… Кузьма своим умом не верил и удивленно смотрел на Сашку:
— Чего хлебальник открыл? Верняк трехаю! Не будь Катерины, хило пришлось бы тебе. Да хоть и я… Гоношился, выламывался, а куда без Валюхи? Когда с прииска вышвырнули, я чуть не рехнулся. А баба успокоила. Заставила все дела дома переделать. И все радовалась, благодарила судьбу за передышку, подаренную мне. Ни разу не попрекнула, что без заработка сижу, за прошлое не укорила, какое и нынче отрыгается. Наградил Бог наших баб терпеньем. А мы за это должны его благодарить.
Катерина лепила пельмени, прислушивалась к разговору, не вмешиваясь в него.
— Знаешь, мне сегодня смешной сон снился. Обычно я их не помню, а этот в память врезался. Вроде как пришел я к леснику Силантию, дров на зиму заготовить
вздумал. А старик и говорит: «Привяжи коней. Им до ночи ждать придется. А деревья вали ровные, какие на доски гожие». Удивился я и отвечаю, что доски мне ни к чему, за дровами приехал. А дед и скажи: «Без надобности теперь тебе дрова, Сашок! Без проку! Вали, какие сказал. На деревянный костюм себе. Руби березы, чтоб гроб твой светлым да звонким был. Чтоб была в нем белизна молодости и слеза грусти. Чтоб седина ствола с зеленью кудрей дружилась. Чтоб меньше сучков было — ровные деревья вали…» Удивился я и спрашиваю, мол, неужели, скопычусь скоро? А Силантий в отпет: «А ты, поглянь сюда! Видишь, твой проводник сидит. Уже наготове. Поджидает. Поведет тебя сегодня. Об руку…» И указывает на мальчонку лет семи-восьми. Эдакий весь белый. И одежда на нем как снег. Глянул я на него, уж больно не похож он на детвору нашенскую. Озорства, улыбки нет в лице. И спрашиваю Силантия, кто ж этот пацан? Не доводилось никогда раньше видеть его. Неужель он — моя смерть? Силантий головой кивнул согласно. И рассмеялся так грустно: «У каждого, Сашок, своя смерть! Ее не человек себе выбирает, а Бог назначает. Тебе, как прощенному, чистого отрока в поводыри прислал. Ты, небось, думал, что и к тебе смерть-старуха приплетется? Нет, Саня! Старухи к тем, у кого грехов много, кто не каялся. Не омыл слезами и муками свое прошлое…» — «Силантий! А почему мне так рано умереть надо? Иль не нужным стал я на свете? Или шутишь надо мной по-злому?» Старик головой кивает: «Торопись, Сашок! Немного времени у тебя в запасе. Сказываю, не дожить тебе до рассвета завтрашнего дня. Не увидеть солнца над головой. Готовы кони, поводырь на месте, спеши и ты…» Оглянулся я. И обалдел. Вместо старой клячи, на которой приехал к Силантию, тройка лошадей стоит запряженная. Кони, один к одному, черней ночи. Все в цветах бумажных. Разозлился я, срывать их начал. Топтать ногами. Все выкинул. И начал деревья рубить. Себе приказываю — на дрова, а валю такие, что сердце кровью обливается. Ровнехонькие, белые, как дед советовал. Они под топором человечьими голосами смеялись. И хотел я их пожалеть, да остановиться не мог, пока топор сам из рук не выскочил. Тут же пацан подошел. Белый. Глянул на деревья, какие я срубил, и говорит: «Теперь все готово! Жди, когда я приду за тобой…» Проснулся я в холодном поту. Никогда такого за мной не водилось. Огляделся — все в порядке, в своем доме. На работе сегодня все одно к другому клеилось. И с чего такая чертовщина привиделась, понять не могу…
„Катерина, слушая Сашкин сон, рот передником заткнула. Крестилась истово, молитву шептала. Чубчик, заметив это, рассмеялся:
— Погоди, Катерина, на тот свет меня спроваживать. Еще не утро. И я не успел гроб себе приготовить. Не верится. Не постучал ко мне в окно пацан-проводник…
В эту минуту стук в окно раздался. Тихий, робкий. И голос:
— Огрызок, открой!
Кузьма глянул на Чубчика. Тот жестом приказал ему оставаться на месте. Сам в коридор вышел. Снял засов. Впустил кого-то. И спросил глухо:
— Где пахан?
— Недалеко. Рядом, ждет.
— Давай сюда его, падлу! — приказал Чубчик. Вскоре за окном громыхнули шаги второго человека.
Мелькнула лохматая тень. И голос Капеллана послышался у самой двери:
— Чего надо, подтирка лягавая, стукач вонючий? Иль дышать устал?
— Тебя, падлу, стремачу! Беспредельщик гнилой, паскуда! — шагнул к нему Чубчик.
Кузьма выскочил из избы:
— Кончай разборку, кенты! Не время и не место! Не дергайтесь! Потом потрехаете!
— Сгинь, Огрызок, линяй, хмырь, гнида недорезанная! И ты — сука! — шагнул к Кузьме Головастик.
Огрызок резко поддел его кулаком в подбородок. Фартовый отлетел, ударившись спиной в забор, застонал. Изо рта кровь хлынула.
— Кентов трамбовать? На моих хвост подняли, козлы? — взвыл Капеллан, но Чубчик отшвырнул пахана кулаком в висок:
— Твои в зоне были! Я тебе, задрыга, душу вытрясу за суку! Ты меня пас, курва задолбанная? Я сам тебя надыбал бы! Гнида облезлая!
— Тебе сходом давно запрет вышел на жизнь! За все разом! За лягавую и стукачество, за откол, за пахоту! За то, что закон и званье свое облажал. Я сам вызвался ожмурить тебя, паскуду! Не то бы давно уж слинял отсюда!
— Вот тебе за суку! — поддел Чубчик Капеллана на кулак «в солнышко».
— Паханы! Кончай махаться! Не то место! Фраера возникнут! — пытался охладить законников Кузьма.
— Хрен вам в зубы! Попались, мудаки! — кинулся к дерущимся Головастик.
Катерина, выглянув в окно, набросила на плечи платок и, как была босиком, кинулась через сарай за угол избы. Бегом помчалась к Валентине.
— Держи парашу! Эй, кенты, живей стерву толстожопую стопори! К лягавым хиляет! Нас засветит, — заметил бабу вынырнувший из-за угла Жаба.
Трое воров бросились за Катериной, выхватив из-за голенищ и поясов ножи. Но пекариха закричала во все горло, резким, пронзительным голосом.
— Люди! Помогите! Наших убивают! Бандиты!
На ее крик зашлись истошным лаем собаки, с грохотом открывались двери, окна. Поселковый люд выскакивал во дворы, на улицу.
— Где бьют? Кого?
— Что случилось? Кто кричал? — оглядывались вокруг, не понимая, кто звал на помощь.
Но завидев мчавшуюся Катерину и догоняющих ее мужиков, бросились на помощь женщине, нагнали, сшибли с ног ее преследователей. И, повалив на землю, колотили нещадно. Хотя и не знали, что причинили они бабе. Та бежала, не оглядываясь…
Сеймчанцы не выпускали пойманных воров. Те пытались вывернуться, сбежать. Но их держали крепко. Толпа людей взяла в плотное кольцо и не спускала с них глаз.
За каждую попытку к бегству отвешивала щедрые тумаки и зуботычины. Их волокли в милицию.
Капеллан был уверен, что законники давно убили Катерину и теперь стремачат за углом драку. Чтобы в случае появления кого постороннего крикнуть — атас!
Чубчик не оглянулся на Катерину, он дрался с Капелланом на кулаках. Пускал в ход ноги, голову. Материл пахана по-черному. Говорил, что заставит его, гада, землю грызть у своих ног.
Капеллан, почернев с лица, сквозь зубы проклинал Чубчика. За то, что тот помешал сбежать с зоны. Высветил, заложил своей лягавой. За дополнительный срок, который получил он при поимке. Он пару раз зацепил Чубчика на кулак. Но сбить с ног не удалось. И едва покачнувшись, Сашка снова бросался на Капеллана, не давая ему отдохнуть, опомниться, прийти в себя.
Чубчик изматывал Капеллана. Сыпал один за другим удары на его голову, тело. Валил с ног, но не пользовался беспомощностью, ожидал, когда встанет на ноги, чтобы нанести следующий удар.
Капеллан кипел от ярости. Он никак не мог достать Чубчика всерьез. Тот был словно заговорен.
— Дрожи, падла! Меня не приморишь, кишка тонка! За мной «малина», вся зона! Ты приговорен сходкой! Продался? Хана тебе! — Капеллан нырнул от Сашкиного кулака вниз, поймал из рукава рубахи нож, внезапно выпрямился и… рассмеялся.
Чубчик не сразу понял. Увидел наборную рукоять, торчавшую из груди, залитую кровью рубаху. Выдернул из-за пояса нож, с которым не разлучался на рыбалке. Взмахнул им коротко, резко. Но так и не увидел ничего… Попал или промазал?
Нож пробил горло Капеллана насквозь. Из него фонтаном кровь хлестала. На пыль и траву. На первую росу.
— Чубчик! Сашка! — кинулся Кузьма к пахану. Но было поздно… Руки Сашки, измазанные кровью, еще совсем теплые, разжались. Впервые совсем беспомощно.
— Пахан! Мать твою в суку! Чего развалился? Хиляем! — подскочили кенты к Капеллану. Но, увидев пробитое насквозь горло, поняли: не слышит их фартовый. Ушел от них. Один. Не предупредив никого.
— Линяем, — спохватились фартовые.
— Стоять! — послышалось громкое со всех сторон.
— Ну, падла, Огрызок, прощайся с тыквой! Засветила, навела твоя шмара! Обоих замокрим! — пригрозил Жаба.
Кузьма стоял на коленях перед мертвым Чубчиком. Ему не верилось… Он смотрел в спокойное, слегка побледневшее лицо того, с кем совсем недавно говорил о жизни. И вдруг невольно вспомнил Сашкин сон… Кузьма глянул на небо. Белая ночь. Она смотрела в лица живых и мертвых одинаково холодно и бездушно. Что ей жизнь или смерть? Кого-то не стало, кто-то появился на свет…
Бежит Валентина к дому Кузьмы. Еще не видела мертвого мужа, никто не успел ей сказать ничего, само сердце бабье беду почуяло. Кричит на весь свет. Болит нестерпимо. Его не проведешь, не обманешь.
— Саша! — остановилась перед телом. Упала на колени. Обняла Чубчика. Взвыла на весь свет: — Что ж ты, Кузьма, не уберег его? — укорила Огрызка. И спросила жестко: — Кто его убил?
Огрызок молча указал на Капеллана. Женщина оглянулась, увидела мертвого пахана. И процедила сквозь зубы зло:
— Будь он проклят!..
Восьмерых беглецов из зоны, не мешкая ни минуты, затолкали в следственный изолятор оперативники милиции. Поставили усиленную охрану со всех сторон. Сашку и Капеллана увезли со двора онемевшего от горя Кузьмы. Он сидел на крыльце, смотрел на пятна крови и хотел теперь одного: чтобы все случившееся оказалось лишь страшным сном…
— Кузька! Родной! Жив! Слава Богу! — ворвалась во двор запыхавшаяся, растрепанная Катерина. За нею едва успевал Кравцов. Он уже услышал о смерти паханов и решил, не медля, выяснить у Кузьмы все обстоятельства случившегося.
— Только не теперь, — замотал головой Огрызок, и Игорь Павлович увидел слезы, брызнувшие из его глаз.
Кузьма пытался скрыть их, остановить, но они позорно текли по щекам, не желая слышать голос разума.
— Чего вы ко мне пришли? Хиляйте к Капеллану. Покуда санитары морга у него не сожгли барахло. Там в подкладе телогрейки зашита рыжуха. Шустрите.
Кравцов решил оставить Кузьму на время в покое и поспешил со двора. Огрызок смотрел ему вслед, качая седой головой, и говорил еле слышно, упрекая вслед:
— А ботали, не опаздывает следчий. Да только и он — фраер, как все, других не файнее.
Катерина, не обращая внимания на сопротивление, унесла Кузьму в дом. Уложив на диван, обтерла лицо холодной марлей. Укрыв мужика, принесла чай:
— Пей, заморыш мой, недокормленный горемычный мышонок, бедолага моя сивая! Это что ж голову твою в минуты морозом прохватило? Ведь сколько пережил, а этого горя сердце не выдержало. Поспи, успокойся, — удерживала мужа на диване силой.
— Пойди, калитку закрой! Прошу тебя! И ворота! Чтоб никто не возникал к нам. Не терзал душу всяким трепом! Так хочется тишины! Есть ли она в свете! Иль только мертвым в подарок за жизнь дадена? — злился Кузьма неведомо на кого.
Катерина закрыла ворота и калитку. Убрала во дворе. Счистила кровь с порога, земли, со стены дома. Когда вернулась в избу, Огрызок курил папиросу за папиросой.
— Что так долго не вела Кравцова? Иль дрых, задрыга, в гостинице, как хорек?
— Чекистов арестованных допрашивал. Двоих. Я в это время и ворвалась. Он едва успел по дороге оперативникам крикнуть, чтоб в камеру вернули допрашиваемых. А те, что с ним приехали, поселковых к себе вызвали. Уж не знаю, о чем они там говорят.
— Сашку жаль. Все не могу поверить…
— Да погоди ты, может, не насмерть, может, ранил его бандюга? — успокаивала Катерина.
— Капеллан не промажет. Эта падла мокрил редко, но враз. Он дышать не оставлял, когда хотел ожмурить…
— А самого его кто убил?
— Сашка, — выдохнул Огрызок. И снова перед глазами вспыхнул, как наяву, последний миг схватки.
Кулак Чубчика, рванувшийся к скуле, скользнувшее от него лицо Капеллана, опустившего лишь на миг правую руку вниз. В следующее мгновение, его невозможно было предположить, оттеснив Чубчика всего на шаг, взмахнул рукой коротко. Никто, даже сам Чубчик, не приметил нож в руке Капеллана. Чубчик прервал его радость внезапно: пахан не ожидал ответного удара. Сашка заставил себя лишь на миг пережить, опередить смерть. Кузьме запомнились округлившиеся от удивления глаза Капеллана, застрявшее в горле ругательство и фонтан крови, обдавший обоих последним теплом угасшей вражды.
Сашка лишь мгновение держался за нож. Но рухнул вместе с Капелланом. Словно не удержался на ногах.
Огрызок погасил папиросу мимо пепельницы. Ведь и ему сегодня пригрозили схваченные милицией фартовые. И с ним постараются свести счеты сбежавшие или освободившиеся законники. Не только с ним, а и с Катериной. С нею, бабой, по закону «малин» учинят разборку…
— Ну уж хрен вам всем! — подскочил Огрызок и, одевшись, решительно направился к двери.
— Ты далеко настрополился? — ахнула Катерина.
— К Кравцову! — бросил через плечо Кузьма и торопливо шагнул за порог.
Игоря Павловича он нашел в милиции. Кравцов глазам не верил. Впервые, без вызова, сам Кузьма пришел в милицию. И попросил уделить ему несколько минут.
— Не стал бы я встревать в дела ваши. И все ж за Чубчика простить не могу. Век бы о том не трехал. Да приперло. Теперь слушай, следчий, — отвел Огрызок Кравцова в сторону. Заговорил тихо, так что никто из оперативников и следственной группы ничего разобрать не мог.
Игорь Павлович слушал напряженно, внимательно, стараясь не пропустить, не забыть ничего. Потом, взяв Кузьму за плечо, завел его в кабинет. Тот говорил:
— Теперь кенты должны кого-то паханом сделать. Без того не смогут. Скорее всего — Жабу. Он больше других подходит. Он знает всех. Ему больше других доверял Капеллан. Он в курсе всего. И о рыжухе. Ничем его не возьмете. Темнить станет. Психом нарисуется. Сам себе пасть иголкой прошьет в знак протеста против следствия. Яйцы к нарам себе прибьет. Чтоб на допросы не ходить. Силен в трамбовке. Но… Слабину имеет. Одна она у него. Мышей боится, козел, пуще смерти. Пару дней в такой одиночке — сам запросится на допрос. Расколется по самую сраку, лишь бы в другую камеру попасть, где мыши не водятся.
Кравцов кивнул понятливо. Кузьма продолжал, торопясь:
— Слабак средь этих кентов — один Головастик. На все, пропадлина, жадный. На кир, на баб, хамовку, положняк. Его свои пасут всегда, чтоб не лажанул. Хотя в «малине» держали, паскуду, за шестерку. Потому знает все и обо всех. Подслушивать любит каждого. Прикинется спящим и слышит, о чем пахан в другом конце барака с кентами шепчется. Локаторы у него особые. Сучьи какие-то. Его из-за них в «малину» взяли. Все знает про всех. Игорь Павлович запоминал сказанное, а когда Огрызок умолк, поделился:
— Знаете, Кузьма, золото, которое Капеллан украл с прииска, нашли. Вы оказались правы. У покойного пахана в телогрейке, в подкладе было вшито. Но не все. Пришлось привести Баруху. Собачонку приисковую. Она и живых, и мертвого обыскала. Всех вытрясла до капли
До последнего грамма. Даже из шапок заставила отпороть подклад. У мертвого к нижнему белью были мешочки с золотом пришиты, так и на те указала. Но где еще половина? То золото нам предстоит найти. И ваши подсказки, возможно, очень пригодятся мне. Они неоценимы, Кузьма.
— Мне уже терять в этой жизни нечего. Меня и в «малину», и из фарта Чубчик вывел. Хреновая, я вам скажу, эта штука, жизнь. Держаться за нее не стоит. И мне она давно опаскудела. Но вот Сашка… Он так не думал! А его убрали. Теперь у меня одна Катерина осталась. Случись что со мной, ни вступиться за нее, ни помочь ей некому. Так хоть вы, единственный, кто с нами Колыму пережил, не дайте ее в обиду, защитите бабу! Пусть хоть она живет…
— У Катерины через десять дней заканчивается ссылка. Я не открою особого секрета, если скажу, что готовятся документы на ее реабилитацию. Важно, чтобы они не слишком запоздали, застали бы вас в Сеймчане. Чтобы могли их взять с собой.
— Реабилитация? Да кому она нужна? Мы в деревню уедем. Где никто нас не помнит и не знает. Кому наплевать на наше прошлое. Где живет люд нынешним днем. Не заглядывая в исподнее соседа, без пересудов и зависти. Что ваша реабилитация бабе? Вернет пережитое, подарит хоть один день к жизни? Бумажка! Херня! Выдумка лидеров! — разозлился Кузьма.
— А вы Катерину спросите, нужна она ей или нет? Чего тут орать? Не я ее сюда отправил. За что меня упрекать, если сам был репрессирован? Но от того не срываюсь на всех и вся.
— Прости, Игорь Павлович! Но эта реабилитация уже колом в горле. Ну, вякни мне… ой, опять не то! Скажите, неужель за все эти годы не дошло, не сдох тот фраер, какой Катьку на Колыму упек?
— Таких катек тут, знаешь, сколько было? Немногие домой вернутся. Не все дожили. Где юристы, а где и ваш брат укорачивал жизни политическим. Мне тебе не стоит напоминать. А ведь каждый блатной считал долгом чести унизить, отнять последнюю пайку, а то и просто отправить на тот свет политического. Да и ты, если покопаешься в своей памяти, отыщешь немало подобного. Потому не воспринимаю твоих упреков. Ни тебе говорить, ни мне их выслушивать. Кстати, я на Колыме не столько от несправедливого приговора и неволи перенес, сколько от блатных. Хотя по отношению ко мне они были людьми, как считали все. Другим и вовсе несносно было. Ну, да стоит ли теперь ворошить прошлое? Будем жить днем завтрашним. Оно и легче, и лучше… Кузьма пошел домой, пристыженный за внезапную вспышку. А Кравцов вернулся к допросам, очным ставкам…
Вечером, когда следственная группа вернулась в гостиницу, Игнатьев спросил:
— Игорь Павлович, а почему вы подумали в тот день, что именно Капеллан сумел украсть золото из цеха, да еще таким примитивным способом? Почему самих женщин не заподозрили?
— Поводов много. Ну, первый, это тот, что самим работницам золото не вынести через проходную. Установлены приборы. Второе: когда в цехе много женщин, каждая на виду. И меж собой они никогда не найдут общего языка. Знаю, что в этом цехе идет у них негласная слежка друг за другом. Такое закономерно на этом предприятии. Да и чекисты подтвердили на допросах, что имеют на прииске своих осведомителей. И в этом цехе. Исключений нет. А потому украсть золото мог только посторонний. Конечно, обратил внимание на соседство магазина. Вот и вся разгадка.
— Главное теперь узнать, куда дели фартовые остальное золото? А, может, и нет его у них больше?
— Куда ж ему деться? Другое дело, что не при них оно. Не рискнули все взять. Но где-то они жили?
— Все проще. Гораздо проще, чем вы предполагаете. Вспомните показания Кузьмы. Перед моментом убийства Капеллан сказал Чубчику, что давно бы слинял с Колымы. Но не мог, покуда не выполнил решение воровского схода. Значит, после убийства законники сразу бы уехали.
— Не согласен. Ведь они пришли не к Чубчику, к Кузьме. За документами.
— Они бы их у него взяли.
— Как? Кузьма сказал им, что документы в милиции.
— Они успокоились бы и справкой об освобождении. Из зоны. Ее они собирались взять у него. За нею пришли, — ответил Кравцов уверенно.
— Но почему не сделали этого раньше?
— Как я полагаю, не было договоренности с транспортом. Заметьте, что три дня назад открылся здесь
аэродром. Именно самолетом хотели фартовые выбраться на материк. И, конечно, не пассажирским, а грузовым, транспортным. Все же их не столь тщательно проверяют пограничники. Фартовые, не за спасибо, конечно, могли вылететь как сопровождающие груза. По двое, по трое на борту. Но о таком с пустыми руками не договориться. Может, задаток дали. С гарантией… В любом случае времени у них оставалось в обрез.
— А что вам удалось установить сегодня? — спросил Игнатьев. Кравцов рассказал о разговоре с Кузьмой.
— Да разве это серьезно? Сажать вора в камеру, где есть мыши? Нелепость! — отмахнулся Евгений Иванович.
— Устраивать такое специально и я не собирался. Но, как знаете, милиция распределила беглецов в разных камерах. Лишила общения друг с другом. И, как ни смешно, но именно в камере Жабы имеются не мыши, а крысы. Правду сказать, они не только во всех камерах, но даже в кабинеты забегают, — рассмеялся Кравцов.
— И что Жаба?
— Орет не своим голосом. Это точно. Остальные внимания на крыс не обращают.
— Когда мы их в Магадан отправим?
— Думаю, через два-три дня.
— А что делать с Жабой?
— Уж не предлагаете ли вы мне забрать его в гостиницу? В номер? — рассмеялся Игорь Павлович и добавил: — Кое-что я, конечно, предпринял… Он будет в камере у чекистов ночевать. Там не только крыса, муха не влетит.
…К вечеру следующего дня Кравцов знал все подробности случившегося на прииске воровства золота. Узнал и изъял недостающую его часть. И, завершив все следственные действия в поселке, вызвал за арестованными машину из Магадана. Поздно вечером, вернувшись в гостиницу, присел к столу за скудный командировочный ужин.
Игорь Павлович был в хорошем настроении, а значит, сегодняшним днем он был доволен. Коллеги, выполнявшие поручения Кравцова, понимали далеко не все и ждали, когда за чашкой кофе Игорь Павлович поделится с ними всем, что удалось узнать, сделать и выяснить за минувший день. Так было всегда. И сегодняшний — не стал исключением.
— Ну, вот и все! Завтра возвращаемся домой, — сказал Игорь Павлович с еле скрываемой грустью и предположил: — Тот, кто породил из Колымы большую зону, наверное и не предполагал, как жестоко и свирепо его решение. Сколько оно изувечит судеб и жизней… Еще вчера я высказал догадку, что сумел Капеллан до смерти своей обеспечить возможность быстрого отъезда всех законников. Но не все я высчитал. Не все предусмотрел. Пахан оказался хитрее. И знаете, на чем сыграл? На неопытности и спешке.
— Чьей?
— Аэрофлотовских работников. Оказалось, фартовые и впрямь хотели улететь транспортным самолетом, который доставляет сюда продукты не из Магадана или Якутска, а из Хабаровска. Зэки не просто договорились с пилотом, а даже багаж свой пристроили. При нем сторож. Свой кент. Не удивляйтесь. Сказались геологами. И вместо денежной оплаты пообещали самородок. Небольшой, но все же золото. Тот согласился. Но предупредил, что иногда в аэропорту Хабаровска милиция и пограничники проверяют экипажи прибывших из Магадана самолетов. И поставил условием, чтобы у всех, кто полетит с ним, были при себе документы.
— Почему он не спросил их о главном, с чего они решились лететь не пассажирским, а грузовым рейсом?
— Ну, это — детский вопрос. Из Сеймчана прямых линий на Хабаровск нет. Только через Магадан. А проблемы в кассах с билетами, а проверки, а ограничения на багаж и, главное — досмотр… Они же сказали пилоту, что хотят провезти с собой немного пушняка. Тот и спрашивать больше ни о чем
не стал. К чести его будет сказано, золото брать не хотел. Настаивал на деньгах. Но законники ответили, что поиздержались в Сеймчане. И денег при себе не имеют. Что если поверит, в Хабаровске они ему живо рыжуху бабками заменят. Условились встретиться в порту утром. В восемь часов. На том и расстались. До этого времени им нужно было успеть тряхнуть Кузьму на справку и взять ее любым путем. И убить Чубчика.
— Так его в доме не убьешь. Жена — сотрудник милиции.
— Они и не думали убивать его в доме. Им лишний шум был помехой. Но не забывайте, что вылет они наметили на выходной. А в воскресенье Чубчик всегда уходил на рыбалку. И этот день не стал бы исключением. Они проследили, как тот сеть положил в рюкзак. Собирался основательно. С его дома глаз не сводили.
— Но он никогда не ходил на реку один, — вспомнил Игнатьев.
— И это знали. Учли. Не раз его стерегли на реке. Знали все. Хотели подстеречь, когда Чубчик один у костра останется. Мужики по очереди ловили рыбу. У костра грелись и обсыхали. Чубчик обычно дольше других задерживался.
— А если на крик, брань сбежались бы мужики?
— Тут обошлось бы без слов. Молча, тихо и быстро. Это было запланированное, обдуманное убийство. И в нем участвовал не один Капеллан. То, что Чубчик оказался у Кузьмы, случайность.
— А могли они уехать, не убив Александра?
— Могли, конечно. Но… Тогда Капеллан рисковал своей головой. Ему поручили. И он старался. В ином случае «малины» охотились бы уже и за ним. Фартовые не признают причин и доводов, им подавай результат. Любой ценой.
— Неужели пилот не догадался, кого он повезет?
— О чем вы? Ну откуда ему, мальчишке, на втором году работы научиться разбираться в людях? Да вы и сами, при всем опыте, не сможете отличить охотника от геолога, рыбака от зэка. Они все заросшие щетиной, все диковатые, от всех пахнет духом бродяжничества. Все голодны на хлеб и общение. Не только вы, Евгений Иванович, но и более опытные порою ошибаются. А уж пар-ню-пилоту и вовсе простительно. Одно плохо, что решился в оплату золото взять. Такое даром не сойдет. Обязан был предупредить органы. Но, как сказали чекисты, экипаж, с которым намеревался улететь Капеллан со своими кентами, взял курс на Хабаровск в девять часов вечера. То есть, не дождавшись утра. Не искал для себя выгоды от рейса пилот. Едва услышал сводку, что погода на трассе ухудшается, улетел из Сеймчана.
— А золото? — ахнул Евгений Иванович.
— Его изъяли в порту чекисты. У последнего кента. И самого вместе с багажом соскребли. Теперь все в порядке. О нем мне Жаба рассказал. Сам, добровольно. Как только я его из крысиной камеры взял. Он, как оказалось, с детства мышей и крыс не переносит. Напуган был. Вот ведь парадокс — под ножами не раз стоял, пытали, вламывали ему в «малинах» за всякую оплошку. Сколько голода вынес — не счесть. Да ведь и науку прошел суровую, а человеческая слабина и в нем жила.
— И все же мне попался самый любопытный из всех воров этой «малины». Потрясающий тип. С удивительными способностями. Головастик его кличка, а зовут Геннадий. Правда, от родного имени он вконец отвык и не реагировал на него. А кличку получил за то, что «малину» выручал своим слухом. Сидя на допросе в кабинете, он дословно услышал все, о чем вам, Игорь Павлович, Жаба говорил. Я ни слова не слыхал. А он вздохнул так горестно и ляпнул: «Просрал кент мозги! Раскололся по самые… Всех засветил. Лажанул каждого. Твоя взяла, следчий…»
— Игорь Павлович! А как же вы уедете, не отдав документы Катерине? Ведь нарочный сегодня доставил их из Магадана. Или вы забыли? — вспомнил Евгений Иванович.
— Отдал я их. Сразу послал к ним оперативника. Попросил его пригласить ко мне обоих. И Кузьму, и Катерину. Ну, он и рад стараться. Я же не учел, что милиция знакома с единственным методом приглашения. Не рассчитал… Он и привел их обоих. В наручниках и под оружием. Еле живых…
Вся следственная группа дружно рассмеялась.
— Когда я им объявил, зачем их пригласил, не только Кузьма, Катерина меня в задницу послала и пожелала мне из нее не вылезать никогда. Я потребовал, чтобы оперативник извинился перед семьей за свои противоправные действия. А он встал, как кол в огороде, и двух слов связать не умеет. Не научен извиняться, не доводилось. Сверлит глазами обоих. Что-то мычит, а выдавить из себя не может. Вот и попросил на свою голову, что самому пришлось не только извиняться, а и успокаивать Катерину. С нею истерика была. Этот привод и стал той последней каплей, переполнившей чашу терпения. Ох, и наслушался я от нее брани! Всю биографию в цветном изображении мне прокрутила. Что поделаешь? Права женщина. Да, собственно, эта реабилитация ей никакого облегченья не принесла. За неделю до окончания ссылки пришла. Только то и радости — покажет родственникам, что незаконно отбывала наказание. Так они об этом сами знают. А чужие и бумаге не поверят. По себе знаю. Ни годы, ни прежнее здоровье уже не вернуть. Не исправить изломанную судьбу. А говорить спасибо за то, что живыми остались, так и здесь все не от людей. От них одни мученья…
— А она что сказала о реабилитации?
— Катерина? Ответила, что все равно ей до получки неделю ждать придется. Так что эта бумажка ей не нужна. В деревне ее не то что человеку, корове совестно будет показать. Та удивится, до чего подлы и паскудны люди. Еле уговорил их забрать документ о реабилитации. Не верят люди нам. И никому больше. Видно, слишком долгой была для них Колыма. Все выморозила и выстудила. Вместе с жизнью. А кто сумеет пережитое забыть? Кто поверит, что осужденный без вины — сумеет выжить? Такого даже звери не смогли бы перенести, — умолк Кравцов, и только руки да жилка у виска подрагивали мелко, нервно.
— Время вылечит. Изгладит ошибки и просчеты из памяти. Вам потому тяжело, что постоянно в работе сталкиваетесь с прошлым, похожим на свое. Да и Магадан — не Москва, — обронил кто-то тихо.
— Чтобы не попасть на Колыму, не надо жить в Москве. А в Магадане уже бояться нечего. Вот только оглядываться не стоит. Останавливаться даже ненароком. А то так и вспоминается знакомое: «Чего застопорился, падла? Шевелись, контра недобитая!» Я это и теперь во сне слышу. И тот охранник, наверное, до могилы за моей спиной идти будет, проклиная и матеря неведомо за что…
Следователи молчали. Каждый понимал, что лишь случайность уберегла и их от непредвиденностей и репрессий.
Кравцов медленно пил кофе. Чашка подрагивала в руке:
— Самое непоправимое во всем случившемся сделано нашими руками, юристов. Мы подписывали приговоры, порою не вчитываясь в суть предъявляемых обвинений. А если и понимали весь абсурд — молчали, боясь, что слепая Фемида нанесет удар по собственной голове. И прятали свое мнение. А судьба словно за шиворот ловила и наказывала. Даже молчавших. Ведь оно не просто предательство, но и подлость. Оправданий такому нет. Вот и я встретился в зоне с тем, кто мне приговор вынес. Мягким он его назвал, щадящим. Двадцать пять лет мне попросил… Сказал, что мог бы исключительную меру мне назначить. Но пощадил… Сколько раз я его вспоминал за эту доброту — не счесть. Уж лучше бы сразу — в расход, чем все годы, каждый день подвергаться пыткам и мукам. Они многих сломали, человек не бесконечен. Вот и мой обвинитель попал в зону, где я уже третью зиму срок отбывал. Да не просто в одной зоне, в одном бараке, на соседней шконке, рядом со мною его определили. Семь лет мы с ним вместе строили колымскую трассу. Бок о бок. Из одной миски не раз доводилось баланду есть. Не укорял я его. Он сам себя казнил. Мое молчание хуже всяких проклятий на него действовало. Я же понимал, битого бить — дело последнее. Это сродни тому приговору, какой он мне вынес.
— Ну уж нет! Я бы не вынес! Семь лет молчать! — не сдержался Игнатьев.
— Его, кстати, и теперь не реабилитировали. Хоть я много раз писал ходатайства. Меня оклеветали. А он теперь за свои приговоры отбывает. Без прощения. И в зоне — всем враг. Страшна его участь. Жаль мужика. Жена от него отказалась. Дети отреклись. Никто не пишет, не ждет его. Лишний в жизни. Трудно с таким смириться. Я когда в той зоне бываю, курево ему привожу. Сдал человек. Куда что делось? А кто виноват? Не только сам. Он
— продукт времени, государства, жертва безмозглости и тупости тех, кто вертел нами по своему усмотрению. Он понимает, что потерял многое. И то, чем дорожил, перестало быть нужным. Ведь юристом он уже не будет никогда. Это однозначно. Изменилось время. А в зэках долго не протянет. Вот и вдумайтесь, кого он наказал приговорами, которые выносил, не оспаривая ни с кем? Кто больше пострадал?— Таких, как он, немало было. Да и теперь хватает! Прикажут сверху — законопатить и все тут… Разве сегодня мы избавились от указаний и требований властей? Нет причин к аресту? Найдите! И сегодня у нас политических полные зоны. Только статьи у них иные. Уже не фигурируют как враги народа, зато подтасуют бытовую статью. А в психушках что творится? Туда без суда и следствия до конца жизни упрятывают. Под уколы и избиения санитаров. Они не только за год, за месяц из нормального человека психа сделают. С полным расстройством нервной системы и памяти. Кому оттуда удается вырваться, зачастую уже не жилец на этом свете. Либо лечить приходится долгие годы. Так что не знаешь, что страшнее — больница или зона, — добавил Игнатьев грустно.
— Теперь уже можно оспорить приговор. Шитое белыми нитками наружу лезет. И все ж до полной, подлинной законности, нам еще далеко! — согласился Игорь Павлович. И заметил: — К счастью, народные заседатели теперь не прежние. Вон, как в процессе над Катериной, ушлый мужик попался. Задал несколько вопросов и посыпалось дело. Там и докладывать нечего оказалось. Прекратили его за отсутствием состава преступления и все тут. Думаете, судья того не видел? Или следователь не знал, что дело сфабриковано? Все он видел! Да слишком послушен. По старинке хотел. Спихнуть скорее бабу в зону! Но на показательном процессе такие номера уже не проходят. Вот и опозорились судья и чекисты заодно. Теперь ответ держать придется. Жаль, что только дисциплинарная ответственность за подобные ошибки предусмотрена. Выговоры, затяжка с продвижением по службе. Не ощутят они в полной мере результат своих фальсификаций. А они многим жизней стоили.
— На меня гоже заявления писались. Стукачом. Из судейских. Исполнитель. И забрали б. Да Сталин умер. Замешкались. А когда «сквозняком» потянуло, после Берии, уже не решились забирать. Выждать хотели. Пока тянули, тут и проверка грянула. Из Москвы. Мое досье и выплыло! Уже и резолюция стояла. Ордер на арест… А я на тот день в командировке был. Там о смерти вождя узнал. Вернулся через неделю, а мне и говорят, мол, счастлив, что задержался. Не то бы… Я понял… А тот судебный исполнитель и по сей день работает на своем месте, как ни в чем не бывало. Здороваемся, заговаривать со мной пытается. А ведь пять доносов сочинил. Я уверен, что и сегодня строчит, сотрудничает с чекистами. Его уже не переделать. Кляузы второй натурой стали, заменили хлеб и совесть, — сказал Игнатьев.
— Не они, не стукачи, а породившие их виновны в том, что наша юриспруденция, реабилитируя репрессированных одной рукой, второй продолжает делать то же самое. А потому, считаю, нельзя молчать. Хватит пособничать преступникам, распоряжающимся нашей с вами свободой. Пора им
дать отпор. Всеобщий. И объявить вне закона органы, которые пытаются давить на правосудие, указывать ему, подчинять себе!
— Все это благие намерения! Дай Бог, чтобы нам за свою работу не пришлось краснеть и стыдиться результатов, — прервал Кравцова коллега. И добавил — Я понимаю вашу обиду, Игорь Павлович. Сочувствую вам. И все же, считаю, что и закон, и юристы, и все происходящее у нас от того, что не вожди, не органы, а народ наш виноват. В том, что позволил глумиться над собой, поверив в несбыточную, шизофреническую иллюзию о правах на все и ни на что! О всеобщем равенстве! О коммунизме! Вы только вникните! Какое нормальное общество добровольно согласится признать себя родственниками обезьян и все годы упорно доказывать эту мартышечью глупость не только своим детям, а и всему миру! Искать новые тому подтверждения, отрицая при этом свое происхождение от Бога! Вот отсюда все начинается! С обезьяны спроса нет! Она ни стыда, ни закона не знает! Выполняет то, что дрессировщик в нее вложил! Вот так и живем! По закону джунглей! Кто сильнее, тот прав. При чем тут закон? Психологию, мораль менять надо! Ведь мы с вами все еще в каменном веке живем! А нас к тому же заставляют прославлять его и кричать: «Да здравствует пещера!» В дверь номера послышался тихий стук.
— Войдите! — удивился Кравцов, глянув на часы. В номер просунулась голова Кузьмы, который, встретившись взглядом с Игорем Павловичем, спросил:
— Можно?
— Входите, Кузьма! Что-нибудь случилось? — пробежала тень по лицу.
— Да нет! Не стряслось, слава Богу! Вот тут моя кадриль захотела срочно с вами свидеться! — вытащил из-за спины за юбку смущенную, покрасневшую до корней волос Катерину.
— Мы тут вот с моим заморышем заспорили, и он говорит, что я, как приеду в деревню, то могу не нести в сельсовет документы, что срок мой закончился. Говорит, реабилитированный — это незаконно отбывший срок! Выходит, я нынче вроде как и судимой не была! Меня власти обидели. Так это иль брешет хорек? — уставилась баба на Кравцова.
— Верно Кузьма объяснил! А разве вы не знали? Вы теперь во всех правах восстановлены! — подтвердил Кравцов.
— Да зачем мне твои права, голубчик ты наш! Они и раньше не нужны были. Лишь бы как тогда не выкинули с отцовского дома, дали б спокойно жить на земле и работать до упаду, на самих себя!
— Этого сколько хотите! Никто не запретит. И не имеют права плохого слова сказать вслед.
— А записаться нам на одну фамилию нешто тоже разрешат? Чтоб как у людей семья была? — запунцовелась баба маковым цветом.
— Давно пора, — подтвердил Кравцов и, протянув руку, продолжил: — Первым поздравляю вас с этим решением! Счастья вам, какое только возможно! Светлой судьбы и радостей! Пусть никогда не вспоминается вам Колыма!
— Знаете, мы решили не ждать получку. И завтра отдадим заявления на расчет. Домой хочется. К себе! На родину! Устали на чужбине, — поежилась Катерина. И, потоптавшись на месте, насмелилась, звонко чмокнула в щеку Кравцова, сказала сбивчиво: — Спасибо вам, Игорь Павлович! За все разом! Уж извиняйте, коль что не так было! Неграмотные мы. Теперь уж не поправить это. Но помнить вас до гроба будем. И молиться за вас…
— Прощайте! — протянул Кузьма сухую жесткую ладонь.
А через три дня Кузьма и Катерина, оба впервые в жизни, вылетели самолетом из Магадана.
Женщина смотрела на уходящие вдаль из-под крыла заснеженные горы, серую ленту колымской трассы. Ей все не верилось, что она навсегда покидает Колыму и уже никогда сюда не вернется.
— Ночью будем дома, — глянул Огрызок на часы.
— Нешто нынче приедем? — изумлялась Катерина. И вспомнила: — Сюда нас два месяца доставляли. Где «телятником», где этапом. Чуть живые приехали. Не все. Ноги я поморозила. Вконец. Думала, никогда на них не встану. А мне конвойный и скажи: «Не хочешь башку потерять, вставай, лярва! Не то как бешеную суку пристрелю!» И встала! Со страху. Поверила! А скорее, Бог помог от смерти уйти! И выжила. А тот конвоир на посту замерз. Насмерть. Нас караулил. Себя прозевал…
Катерина улыбалась всему. Радость не сходила с ее лица. Она с восторгом вглядывалась в лица людей. Она не отходила от окна вагона. Когда за ним замелькали знакомые места, плечи женщины задрожали. Слишком долгой была разлука…
Кузьма успокаивал как мог. Заставлял бабу держать себя в руках. Ведь пережито большее. Ему, никогда не имевшему ни родни, ни дома, трудно было понять ее.
— Смоленск! Прошу пассажиров не толпиться в проходе! Все успеете выйти! Никого с собой не увезем обратно в Москву! Не забудьте свои вещи, — предупреждала проводница пассажиров.
— Подкинь в Березняки, браток! — подошел Кузьма к дремавшему таксисту.
— Сколько дашь? — послышался глухой вопрос.
— Чего тебе дать? — не понял Кузьма.
— Ты что, дядя? Не врубился, что ли? Иль не проснулся? Даром только на Колыму возят. А я — за бабки! Секи!
— Что ж так хамски, кореш? Иль от человечьего языка отвык? Мы его через Колыму сберегли, не растеряли, а ты его с чем схавал?
— С Колымы? — включил скорость водитель. И, резко захлопнув дверь, умчался в темноту.
— Пошли пешком, — исчезла, растаяла улыбка на лице женщины. Она ухватила обвязанный веревками чемодан и, взвалив его на плечи, пошла, глотая слезы, не оглядываясь.
— Катерина, стой! Да погоди же ты! — нагнал Кузьма жену.
— Дойдем. Ништяк. Домой — не из дома. Осилим. Да и деньги целей будут. Не с неба они нам свалились. Пошли, — уговаривала Огрызка тихо: — Народ у нас добрый, сердешный, на беду отзывчивый. Ну, если встретится иной гад, так это редкость, — убеждала Катерина не столько Кузьму, сколько саму себя, и шла, опережая мужика по разъезженной ухабистой дороге, оступаясь, уставая, пересиливая саму себя.
— Ну, вот и все! Считай, мы дома! — вздохнула баба, когда под утро, из туманной мути, ступили они на деревенскую улицу: — Дошли! — улыбнулась Катерина и глянула на женщину, отворившую ворота корове. Та замычала протяжно, зовя пастуха.
— Пошла! — подгоняла хозяйка скотину, любопытно заглядывая Катерину и Кузьму. А те шли, не оглядываясь.
— Эй, Катька! Ты ли это? — услышалось за спиной запоздалое. И суматошный, радостный крик разорвал тишину села: — Люди! Эй! Катюха вернулась! Живая! Гляньте! Своими ногами, с самой Колымы пришла!.. До глубокой ночи шли и шли в дом люди. Свои, деревенские. Простые и бесхитростные, как сама деревенька. Одни молча разглядывали Катерину и Кузьму, тихо улыбались, радуясь, что вернулась домой женщина, не погубила, не сломала ее Колыма. Другие о Колыме спрашивали:
— Верно ли, что там волков больше, чем людей, и они даже в дома заходят?
— А правда ли, что там нормального люда вовсе нет, одни уголовники?
— Кать! То брешут иль верно, будто дома там из костей человечьих строят? И людоедов полно вокруг?
— А солнце там бывает? Слышали, ровно на Колыме тепла вовсе нет!
И только один старик, войдя в избу, перекрестился на образа. И, достав из кошелки краюху хлеба, сказал дрожащим голосом:
— С возвращеньем тебя, Катерина! Прими от меня хлеб наш! Пусть никогда не будет голодно в твоей избе! Пусть Бог увидит и обогреет горемычную. Прости, что скудно…
Сельчане словно опомнились, разбежались по домам. Понести сало, картошку, лук, капусту. Кто что мог.
Соседка бабка Прасковья двух кур приволокла:
— В хозяйстве сгодится…
Шумно вбежали в дом братья, сестры. Смеялись и плакали. Разглядывали Катерину и Кузьму:
— Вы еще не спали? Отдохните с дороги! Хоть пару часов перехватите. Мы стол накроем. Отметим приезд, — спешила родня.
— Осваивайся, Кузьма! Привыкай. Пусть не хоромы, но это твой — ваш дом! Дай Бог здоровья, поставим новый. Большой и крепкий! Лишь бы не было беды! Будь хозяином и братом! — обнял Кузьму за плечо старший брат Катерины.
— Знаете, что я предлагаю: пусть они отдохнут. А мы во дворе управимся, чтоб не мешать, не будить до вечера, — вывела всех из дома младшая сестра.
Кузьма тут же лег спать. И, едва коснувшись подушки, захрапел на весь дом.
Катерина прилегла рядом, но так и не смогла заснуть. Она тихо встала, глянула в окно. Перед ним, раскинув ветви, роняла розовый цвет старая вишня. Ее совсем хрупким саженцем посадила Катерина в тот год, когда злая судьба вырвала девчонкой из отцовского дома.
Нет, не пощадила судьба и вишню. Лютые морозы сгорбили, искривили дерево. И на поределой кроне не цвет, седина облетает — обмороженная. Катерина смахнула слезу, улыбнулась дереву, словно успокоить хотела. И вдруг услышала за спиной пронзительный крик Кузьмы:
— Капеллан, падла! Отвали! Замокрю паскуду! Как пидера размажу! Клянусь волей! — и через минуту, всхлипывая просил: — Чубчик, кент, прости…
Огрызку снились колымские сны. Черные, холодные, как полярная ночь без конца и края. Катерина уже не пугалась. Сама, как говорил Кузьма, кричала во сне. Значит, Колыма не просто в памяти, в крови остается. У всех, кто был знаком с нею не понаслышке.
— Здравствуйте! — внезапно отворилась дверь. И молодой парень, перешагнув порог, подал Катерине руку: — Будем знакомы. Я — Юрий, племянник ваш. Услышал о вашем приезде. Решил заглянуть, познакомиться лично, — присел к столу, разглядывая Катерину в упор: — И сколько ж лет вы просидели на Колыме? — спросил любопытно.
— Шестнадцать, — вздохнув, ответила женщина.
— Ого! — присвистнул парень и поинтересовался: — За что посадили вас?
— Да ни за что! — отмахнулась баба.
— У нас ни за что не сажают. Я законы знаю. Катерина смотрела на него, не веря в услышанное.
Показать реабилитацию, документы, но к чему?.. О чем с ним спорить? И сказала тихо, не ему, себе:
— Дай Бог, чтобы ты хоть когда-нибудь оказался прав…
Старый Аскер не сразу понял, как это произошло. И лишь на больничной койке вспомнил события минувшей ночи. Стараясь не забыть даже мелочей, тихо рассказывал следователю:
— Сторожем при магазине нашем я уже двадцать лет работаю. Сменить меня как-то хотели. На более здорового мужика. А я уперся. Пенсия пенсией, но работать надо, покуда жив. Хоть перед людьми не сидеть в старых пнях. Должность весу в их глазах прибавляла. Все же при деле. Работал. Оно и верно, что считали меня этой… формальностью. Воровства мы не знали никогда. Никто на наш магазин не зарился. Кто ж мог подумать?
— вздохнул старик.
Следователь сочувственно головой кивнул.
— Сам я знал, что на посту мне ни с кем разговаривать не положено. Но это по уставу. А тут… Ведь каждого человека в своем селе я знаю. С любым мог словом перекинуться. И ничего. А этот и верно. Чужой. Подошел ко мне культурно. Заговорил вежливо. С виду приличный человек. Одет по- городскому. Я и развесил уши. Оно и сам пойми, как не разговориться было, коль человек не пустое молол, а с делом подошел.
— С каким? — удивился Руслан Машуков.
— Все спрашивал, почем у нас в селе дома продаются? Кто продает, как жизнь в селе, что за люди? Сказал, что долго жил на севере. Работал там. Скопил денег и решил к себе на родину вернуться. Но в городе жить не хочет. С детства в селе жил. Хочет иметь свой дом, хозяйство. И я поверил. Рассказывал ему все как есть. Поверил, что серьезная затея у человека.
— А в какое время он подошел, этот собеседник?
— Да уже часов десять вечера было.
— А не объяснил, почему с таким разговором под ночь пришел?
— Чему ж удивляться? От нас до города рукой подать. Может, после работы, я тогда так подумал.
— А почему именно к вам обратился? — нахмурился следователь.
— Магазин наш на дороге стоит. С него село начинается. Меня он первого и приметил. А и советоваться по такому поводу со старым человеком нужно. Так я за него подумал. Кто ж мог предположить иное? — заморгал сторож часто.
— И что дальше?
— Я ему толковал про цены на дома. Как я их знаю. А тут слышу, вроде дверь магазина визгнула. Я вскочил и к ней хотел. Ружье наготове. Перепугался вдруг.
— А где вы разговаривали с тем человеком?
— На лавке, сбоку магазина. Там бабы обычно открытия магазина ждут. Судачат. Эту скамейку так и зовут — последние новости.
— Вы сами его туда позвали? — похолодел голос Машукова.
— Не помню. Может, и так. А скорее, само собой все получилось.
— Как вы его увидели? Откуда этот человек к вам подошел?
— Не приметил, откуда он вывернулся. Я около двери магазина сидел. А за разговором разве упомнишь, верно, сам на лавку его позвал. Он же и одет был не то, что я. На порожек не пригласишь.
— Ну, а дальше? — напомнил Машуков.
— Эх, дальше-то и завертелось. Я, когда с лавки соскочил, он меня за плечо. Куда это, мол, ты, дед, торопишься? Я хотел было про дверь ему сказать, да отчего-то промолчал. Оттолкнул его руку. Ну и успел до угла добежать. Глядь, а там двое уже в магазин нырнули. И дверь за собой закрыли. А тут этот меня нагнал. Сам я сообразить ничего не успел мозгами. Руки опередили. Я в него выстрелил. Но не нарочно. Хотел вверх, сигнал дать селу. А этот ружье стал вырывать. Заряд, верно, в него попал. А может, и мимо. Не знаю. Но только больно мне стало. В левой лопатке. Оглянулся. Кто-то мне рот рукой закрыл. Ружье вырвал. Больше ничего не помню.
— А почему не в сторожке были?
— Сынок, кто ж в такую жару в ней усидит? На воздухе оно всегда лучше. Кто ж знал, что так получится.
— Скажите, вы в лицо запомнили того человека, с которым говорили?
— Я ж с ним, как с тобой, говорил. Конечно, помню. Хоть и темно было, но глаза мои к ночи привычные. Узнал бы, если свидеться придется. — Следователь едва заметно усмехнулся: — Скажи, сынок, в магазине все в порядке иль успели они?
— Ничего взять не успели. Ваш выстрел спугнул. Сбежали.
— Слава тебе, Господи, — обрадовался старик.
— Скажите, когда в ваш магазин завезли ювелирные изделия для продажи, кто-либо чужой появлялся в селе засветло?
— Так золото в нашем магазине всегда лежит. Не невидаль какая. А чужие, может, и были. Днем мне в магазине делать нечего. Старуха там покупает, что нужно. Так уж не обессудь, сынок. Чего не знаю, не сбрешу.
— А человека, который с вами на дежурстве говорил, где раньше видели?
— Да Бог с тобой! Где ж я его мог встречать? Он же по северам мотался. А я всю жизнь в своем селе прожил. Меня там не только каждый ребенок знает, но и каждая старуха, — пытался улыбнуться Аскер.
— А тех, которые в магазин влезли, вы не успели запомнить?
— Разве со спины много увидишь? Да и приглядеться особо не успел.
— Что ж, выздоравливайте. Извините за беспокойство, — попрощался со стариком Руслан Машуков.
Старая пропыленная «оперативка», коротко чихнув, взяла разбег с места и помчалась по дороге, оставляя далеко позади себя крученый рыжий хвост пыли.
Руслан уже знал, что в одну из городских больниц ночью попал человек с огнестрельным ранением. Как он оказался в больнице, каково его самочувствие, кто он, имеет ли отношение к происшедшему в селе, пока никто сказать не мог: хирурги, дежурившие в эту ночь, были заняты операцией. И вот теперь, возвращаясь от Аскера, следователь решил заглянуть в больницу.
Операция еще не кончилась. Он подошел к дежурной медсестре.
— Все еще раненого оперируют?
— Его.
— Ну и как?
— Не знаю, — пожала она плечами.
— А как он к вам попам?
— Я не видела. В палате была. Уколы делала. Вдруг шумок в коридоре услышала. Выглянула. Человека несут. В крови весь. И сразу в операционную. А я туда не могу войти. Закончится операция, узнаю. Да и сам расскажет.
— Вы уверены? — обрадовался следователь.
— Конечно. Его же лучший хирург оперирует. Повезло вашему родственнику.
— Родственнику? С чего вы решили?
— А кто ж? Только о родных спрашивают у нас, — удивилась, в свою очередь, медсестра. И внезапно посуровела: — Хотя и другие приходят. Из-
за кого в операционную попадают…
* * *
Дверь операционной распахнулась. Вышел врач. Он стаскивал на ходу перчатки, маску. И, сняв забрызганный кровью халат, быстро прошел в ординаторскую. Там долго мыл руки, не замечая следователя. И тот понял, что хирургу сейчас не до него. Что-то не удалось? А, может, усталость сказалась? Но вот врач повернулся:
— Вы родственник? — глянул на следователя.
— Следователь.
— Вон оно что, — протянул хирург неопределенно.
— Как прооперированный?
— Не вытянули, — достал врач сигарету. И, поспешно закурив, сел к столу.
— Умер? — уточнил Руслан.
— Умер, — вздохнул хирург и добавил: — Да и надежд особых не было. Мы сделали все, что в наших силах. Но… Заставить жить мертвого мы не можем. Сами поймите, ранение сквозное. В область кишечника. Он так и не пришел в себя…
— Кто доставил его в больницу?
— Сам доставился. Сегодня мое дежурство по больнице. Ну, в половине второго ночи вышел я в коридор, хотел больного тяжелого проведать. Слышу: стоны. Я к окну. Вижу — человек лежит на пороге. Корчится. Я к нему. Ну и тут же на операционный стол. Спасти хотел, не получилось…
— Он успел рассказать, что с ним случилось?
— Я же говорил, без сознания он был. Потеря крови слишком велика. И неудивительно. Дробь. Карточная. Выстрел был в упор. Даже кожа вокруг раны обожжена. С таким зарядом на медведя можно ходить. А тут — человек. Развелись эти бандиты! Убивают безнаказанно, бросают у порога, как собаку. Отмечать за случившееся не хотят. Эх-х, — досадливо погасил окурок врач.
— А где одежда его?
— В приемной. Ее осмотрели. Пусто. Ничего нет в карманах. Кто-то до нас обшарил человека.
— Можно взглянуть на него?
— Пройдемте, — согласился врач.
В операционной дремала белая тишина. Тускло поблескивали инструменты. Скальпель, иглы, кетгут беспомощно лежали на столе хирурга. Врач откинул с лица покойного простынь. Машуков подошел.
Умершему на вид было далеко за сорок. Но это так, условно. Иных преждевременно старит жизнь, других — смерть, обрывающая возраст небытием. Крупное лицо уже подернулось желтизной. Воскового цвета лоб прорезан морщинами. Глаза открыты. Словно все пытаются разглядеть, куда улетела жизнь. Но ладони обессиленно разжаты: им не поймать ушедшего. И усталые они, охладели к жизни, белизна смерти покрыла их. Следователь вгляделся в лицо покойного. Нет. Раньше им не доводилось видеться. Иначе запомнил бы. Но кто он? Тот ли, кого, сбиваясь с ног, не досыпая ночей, не зная отдыха, вот уже несколько лет ищет, то и дело теряя след, милиция по так и нереализованной санкции прокурора на арест? Но тот ли эго? Кого никто из следователей ни разу в глаза не видел, имевший во всех «малинах» уважительную кличку Шеф? О нем на допросах молчали. Безропотно брали на себя его вину. Никто из кентов ни слова не сказал о нем. Он был неуловимым.
Шеф? — вглядывался в лицо покойного следователь. И отдернул простынь. Да… Такие наколки носили лишь те, кто отбывал длительные сроки. «Они устали», «Мне счастья в жизни нет», — смеялись, жили на мертвых ногах буквы. Это знакомо. Но почему на груди выколоты горы, море и штурвал в кандалах? Машуков знал, в татуировках никогда ничего не бывает случайным. И опытный кент по такому рисунку может узнать о человеке многое. Татуировка — это клеймо, чаще добровольное, реже — вынужденное. Это воровской паспорт. Он один на всю жизнь. Как кличка, как судьба. Никто из непосвященных не сможет распознать секретов, скрываемых в аляповатом рисунке.
Следователь еще раз посмотрел на татуировку. Одно понятно: покойный был матерым вором. Он и есть, вероятно, тот самый собеседник Аскера. Это установить просто. Привезти сторожа на опознание трупа в морг. Ну, узнает. А дальше? Кто он? Главарь? Так и хочется поверить в это.
— Труп надо в морг отправить, — прервал размышления Руслана хирург. И добавил: — Выпил он крепко. Наверное, поругался с кем. Вот его и…
— Выпил? — удивился Руслан и мысленно упрекнул Аскера за разговор с пьяным. И утаил это в показаниях!
— Еще мягко сказано, — усмехнулся хирург. И дал знать санитаркам. Те быстро положили труп на носилки, укрыли простынью и молча, тихо вынесли его из операционной.
— Картечь сохранилась?
— Да, возьмите. Почти весь заряд, — передал хирург Машукову пакетик и добавил: — Одежда у санитарки. Если нужна, заберите.
— Конечно, нужна, — поспешно заверил следователь и попросил: — Вот мой телефон. Без нашего разрешения труп никому не отдавайте. Сообщайте обо всех, кто будет интересоваться покойным.
Руслан вышел на крыльцо. Здесь был найден этот… В пяти метрах от больницы — проезжая дорога, оживленное шоссе. Машины одна за другой несутся — и ни одного поста ГАИ поблизости. Нет, не мог этот сам дойти до больницы. Кто-то привез его сюда. Конечно, на машине. Оно и по времени похоже…
Аскер опознал в мертвом своего собеседника. Но почему-то отрицал, что тот был нетрезвым. Сторож узнал и самодельную картечь, какой был убит незнакомец. Баллистическая экспертиза подтвердила ее тождественность заряду гильз ружья сторожа. Но ни имени, ни фамилии убитого так и не было установлено. В больнице никто не спрашивал о трупе, никто за ним не приходил. А время шло.
В спецкартотеке, где регистрировались осужденные, фотоснимков незнакомца не оказалось. И тогда следователь решил использовать «картотеку памяти» старого вора, давно ставшего бывшим. Теперь тот жил одним: дожить до пенсии, умереть, как все люди — дома, при детях и внуках. Руслан знал, что кенты долго выслеживали его. Пытались вернуть в «малину» посулами, угрозами. Но ни то, ни другое не подействовало. И махнули рукой на Ворона. Оставили его в покое. А тот, завязав с прошлым, работал дворником, ковырялся в саду.
* * *
Ворон деловито смазывал дверные петли, когда Машуков подошел к нему.
— Здравствуйте, Григорий!
Ворон оглянулся. Узнав следователя, с которым был знаком в прошлом, невольно отпрянул.
— Чего вам надо из-под меня? — проскрипел злым, каркающим голосом, за который и получил меткую кличку.
— Спокойно, Григорий. Поговорить нужно. Ворон криво усмехнулся:
— Об чем? С тобой час поговори — пятак схватишь. А коли дольше, так и весь червонец. Мне нынче не с руки такое. Не об чем трепаться. Живу без «малин». Стало быть, встречаться незачем, — отвернулся Ворон.
— Я за помощью к тебе, — понизил голос следователь.
— Чего?! — вытянулось лицо Григория.
— Посоветоваться хочу.
— Ишь чего придумал! Советоваться! Да я нынче дворник! О чем советовать?
— Не мне лично, следствию, людям помочь можешь.
— Следствию? Спасибочки. Нашли, к кому обратиться. Уж оно-то мне помогло в свое время. На Крайнем Севере после того парился. Ого! Такое и в гробу будет помниться. Чтоб я нынче помог! Еще чего не было!
— Сам был виновен. Зря кипятишься. Все прошло. Живешь, как человек, и никто тебя не тревожит. Разве не верно?
— Где верно было, там кресты стоят, — отмахнулся Ворон.
— Кресты… Да только вот иные, случается, раньше времени появляются, — вздохнул собеседник.
— Какая разница? Раньше иль позже — все там будем, — отвернулся хозяин. Но любопытство брало верх, это следователь заметил. Лишь воровская привычка — как можно меньше задавать вопросов — еще сказывалась.
— Недавно вот опять, — негромко обронил Руслан… Григорий насторожился. А следователь медлил.
— «Пришили» кого? — не выдержал Ворон.
— Кого же? — насторожился Григорий.
— Из «малины».
— Фартового?! А кто ж? Свои иль лягавые?
— Ни те, ни другие.
— Старик убил. Сторож.
— Эх-х, мельчают кенты. Уже и сторожам дают себя убивать. Таких и не жалко, — сплюнул Ворон. — А все же, кто невезучим оказался?
— Не знаю. Вот за тем и пришел. Может, старый знакомый?
— Э-э, нет. Я — не подмога вам. Зарок дал. Никому не подсоблять. Вам помоги — фартовые жмуром сделают. Им помоги — мусора загребут. Нет, сами распутывайте. Я ни вам, ни им — не шестерка.
— Что ж, ладно. Обойдемся сами. Трижды ребята, которых мусорами зовешь, жизнь тебе спасли. От фартовых уберегли. Сам не справился бы… Запретил я им о том напоминать. Чтоб не подумал, что моральный должок отрабатывать заставляем. Сам к тебе пришел. В расчете на твою сознательность. Да видно ошибся. Прощай.
Ворон, смутившись, откашлялся. И окликнул:
— Да стой же ты! Ну чего гоношишься? Вернись! Дай обмозговать. Зайдем в дом. Разве о таком говорят на дворе?
Гость вместе с хозяином вошел в дом, сел на стул. Григорий спросил сразу.
— Так какое мурло у жмура? И как его пришили?
Машуков рассказал то, что счел нужным. Григорий слушал внимательно, не перебивая. Когда следователь умолк, заговорил:
— Это не тот, кого вы ищете. Шеф, как и все фартовые, на дело не ходит «под шафе». Этот закон «малин» для всех одинаков. И еще. Отвлекать сторожа Шеф не будет. Это работа других. Вырывать ружье тоже не станет. У него финач имеется. И твой сторож пискнуть не успел бы. Шеф работает финачом без промаха. После
него сторож лишь ящику покаялся б. Так что застукали не «малину». А щипачей.
— А татуировка? Это новичкам не ставят. Да и возраст далек от пацанов, — вставил следователь.
— Наколки глянуть надо. Это серьезно. Но поехать иль пойти с тобой не могу. Заметят кенты — пришьют.
— В морге встретимся. Время сам выбери, когда прийти.
— Не светит мне такая прогулка. Ну, да только условимся, я тебе скажу, что смогу. Большего — не требуй. За моргом тем фартовые точно следят. Раскрутишь быстро — мне крышка будет. Смекнут. Да и закон прошлый не позволяет мне своих закладывать. Хоть и откололся. Но коль так надо, приду. Переоденусь. На всяк случай. С «закона» меня вывели. Так что можно. Но подыхать раньше времени не хочу.
Когда стало темнеть, Руслан вошел в морг больницы. Григорий уже ждал его. Переодетый в старуху, он изменился до неузнаваемости.
— Какой жмур интересует?
— Этот.
Ворон быстро подошел к трупу. Глянул. Руслан понял — знакомы были. Вон как лицо посерело. Но виду не подал.
— Я только по наколке скажу, — тихо заговорил Ворон. — Крупный гусь был. Не новичок. На Севере сроки отбывал. Вишь, на Сахалине мыс Крильон выколот. Там червонец отбывал.
— С чего видно?
Еще что?
— Полный мыс. Такое лишь за червонец ставят на грудь. Коль меньше — лишь сопку малую, что рядом с мысом. Если больше — то мыс этот весь черным был бы. Тут же лишь контур.
торопил следователь
— На Сахалине он отбывал срок на лесозаготовках. Вальщиком был. Вон на руке рваный шов от пилы. А второй срок, пять лет, в Магадане тянул. Вон бережок под мысом, видишь? Магаданский. Его бухта. Знакомая и мне. Пять камней — это срок. Вот и все, что я увидел.
— А здесь?
— Нет, тут он не судился. В другом месте его накрыли. Но этого я не могу сказать. Как и условились.
— Он с Шефом работал?
— Скажи кличку, — попросил Руслан.
— Сам узнай.
— Он вор в законе был?
— Эх-х, да кто ж, кроме законника, имеет право на такие наколки? — рассмеялся Григорий.
— Но ведь ты говорил, что законники не ходят на дело нетрезвыми.
— И этот не был. Потом, когда сторож его… Поили, чтоб не орал по дороге. Чтоб боль терпеть легче.
— А почему бросили у больницы?
— Куда ж его девать? С таким развороченным брюхом, даже дураку понятно, сдохнет. Но не сразу. Мучиться будет. Орать. А крик, сам понимаешь… Убить его, чтоб не мучился, не имели права. Закон «малины» не нарушил, кентов не подвел. Кто ж решится? Только Шеф мог. Но, видно, рядом не было. Потому подкинули. Надеялись, что пофартит вдруг кенту.
— И все ж странный выход они нашли, — покачал головой Машуков.
— Ничего странного. Знали, в больнице в таком виде его — враз на стол. А там наркоз. Не до разговоров. Ну, а на жизнь его вряд ли можно было рассчитывать. Самим закопать? Можно. Но, видно, времени не было. Торопились смыться. Попух один — других искать будут. Вот и смотались заблаговременно, — говорил Григорий.
— С Шефом он долго работал?
— Не знаю, — встал Ворон и решительно направился к двери. Машуков еще недолго побыл в морге, чтоб дать время Григорию уйти подальше.
Диалог по фототелеграфу с Магаданом и с Сахалином убедил Руслана в правоте Ворона: да, там действительно отбывал наказание вор-рецидивист по кличке Дамочка, чью жизнь оборвал выстрел старого Аскера. Дамочка… Странная кличка у этого типа, совсем не подходившая к внешности вора. Массивный подбородок, упрямый крупный лоб, да размер одежды не менее пятьдесят второго. Рост такой, что ни одна женщина себе другого не пожелала бы. И вдруг Дамочка. С чего бы это? Он знал: клички у воров всегда оправданы. Они никогда не даются случайно. Но Магадан и Сахалин не дали объяснения этому «псевдониму». А к Ворону обращаться не хотелось. «Он хоть и относится сейчас к общественности, но весьма условно», — вспомнилось Руслану, как отчитал его прокурор за контакт со старым вором.
Машуков листал дело. Оно такое тощее! Протокол осмотра места происшествия, показания сторожа, врача, ответы на запросы, заключения экспертов. Вот и все. Следователь позвонил в адресное бюро. Нет ли у Дамочки родственников в городе? Ведь его фамилия, имя и отчество уже известны…
* * *
Старый двухэтажный дом, прятавшийся в глубине двора, походил на маленькую крепость: сквозь занавески в зарешеченных окнах едва пробивался тусклый свет. Здесь, на глухой окраине, квартирных краж опасались больше, чем в центре. А вон и напоминание о недавней трагедии: на дверях подъезда две пятиконечные звезды из красной жести. Двое жильцов не вернулись с войны…
Следователь, отыскав нужную квартиру, постучал. Дверь ему открыла сухонькая старушка. Удивленно взглянув, нерешительно пропустила в квартиру. Навстречу Руслану встал из-за стола высокий седой старик. Жестом пригласил сесть.
— Сын? Да, есть.
— И часто он исчезал из дома?
— Не чаще, чем ему нужно, — отрезал старик. — А ты, собственно, кто будешь, чтобы вопросы мне задавать?
Руслан, извинившись, что не представился сразу, показал свое удостоверение. И попросил:
— Дайте фото вашего сына.
Старик, изумленно пожав плечами, достал альбом:
— Вам зачем его фото?
— Скажу, если это не ошибка.
— Вот, смотрите. Это — давний снимок, довоенный. А здесь он три года назад сфотографирован.
Машуков сразу узнал Дамочку:
— А на групповых снимках…
— Нет, — опередил вопрос отец Дамочки. — Заур вообще не любил фотографироваться. А в компаниях — тем более.
— Почему? — Руслан изобразил удивление.
— Плохо получался. Не фотогеничен. Зато в жизни красив, не другим чета, — проворчал старик.
— Ваш сын работал?
— Работает. Кто ж нынче без этого прожить сможет?
— Кем? Где?
— Рыбаком. На северных морях. Еще молодым туда подался. На хорошие заработки. Потому и на фронт его не взяли, что нужный он на флоте для государства человек, — покосился старик на следователя.
— Друзья его к вам приходят?
— Редко. И то больше с улицы окликнут — он и бежит к ним. Но это когда в отпуске. А так годами сына не видим. Работа у него такая.
— А семья у него была?
— Да кто ж знает? Женщины, может, и были. А детей нет. Иначе сказал бы, — помрачнел хозяин.
— Отчего ж не обзавелся? — глянул Руслан на старушку.
— Спрашиваете! Да какая ж будет его по стольку ждать? Он же с морей этих и не вылезает, — подала та голос. И продолжила: — А в городе работать толку нет. Зарплата маленькая. На нее не то что семье, самому не прожить. Вот и мучается по северам. На будущее копит. Говорит, что какую-то новую машину стали выпускать, «Победу», что ли? Так вот он ее купить собирается.
— Ну, а где он сейчас, вы знаете? — Руслан уже почти не сомневался в неведении родителей Дамочки.
— Мы с него отчета не требуем. Придет — сам скажет, — старик сердито захлопнул альбом, как бы давая понять, что визит непрошеного гостя слишком затянулся.
— Не придет он больше. Уже никогда не придет. В морге ваш сын. Забирайте. Хороните своего рыбака. Отловил он свое. Не пошел ему впрок Север…
— Заур в морге? Почему? — никак не мог взять в толк случившегося отец Дамочки.
— Убит. При разбойном нападении на сторожа магазина.
Лицо старика вмиг оплыло, посерело. Глаза сузились, губы собрались в нервный морщинистый комок. Он неловко вытащил из пиджака папиросы. Руки дрожали. Долго трясуче закуривал. Потом молча встал, подошел к окну. Сгорбившись, облокотился на подоконник. Плечи дрожали.
— Вы друзей его последних знали? — нарушил тяжелое молчание следователь.
— Друзья… До них ли? Сына нет. Моего сына. Какое мне дело до других? — срывался голос старика.
— Он, Заур, единственный у вас? — смягчил тон следователь.
— Один. Как жизнь… Теперь ничего нет.
— Разве вы ничего не знали о Северах? Ведь он там срок отбывал. Дважды. Вором был. Вором. А не рыбаком.
— Послушайте, я не знал. Я говорил лишь о том, что слышал от него. Да и какая разница теперь? Ведь нет его! Нет! Плох иль хорош — он мой сын! А мертвого кой прок так ругать? — поник хозяин головою к самому подоконнику.
— Я и не ругаю. Я объяснил вам, чтобы не пребывали в заблуждении.
— Какая мне теперь разница? — махнул рукой старик.
— Послушайте, вы просмотрели сына. Но ведь у него были друзья, которые и толкнули Заура в эту беду. Не будь их, возможно, его жизнь сложилась бы иначе. Кто они? Скажите! Вы же знаете.
— Поздно, — простонал старик.
— Но пусть у других они не смогут отнять сыновей. Судьбы других не искалечат, или вам это безразлично?
— Какое нам дело до других? — зло отозвалась старуха.
— Когда его можно взять? — повернулся хозяин к следователю.
— Сегодня. Когда хотите. Вот вам записка. Тело отдадут. Его в формалине держали. Хоронить давно пора… — Руслан встал.
— Магазин грабил, значит? Один? — словно опомнился отец Дамочки.
— Не один.
— А те живы?
— Да. Все. Скрылись.
— А мой как же? Не успел? Иль?..
— Разбираемся.
— Вот как! Эх-х, сволочи! И молчали! — старик грохнул кулаком по столу так, что пепельница на пол упала. — Друзья! Туды их… Говорил я Зауру, не верил! А теперь! Своими руками задавлю!
— Зачем? Вы скажите, с кем он был дружен в последнее время? — предложил Руслан.
— А вы тут при чем? Моего сына нет! Моего убили! Не вашего. Я и разберусь с его друзьями. С каждого спрошу, — загорелись злыми огнями глаза старика.
— Погодите. Не стоит сгоряча.
— А мне уже терять нечего! Прикончу! А там пусть хоть под расстрел! Я свой век отмучился. Но за сына не прощу!
— Давайте спокойно обсудим. Не надо кипятиться.
О чем я вас спросил — ответьте. И сами ничего не предпринимайте. Так
будет лучше.
— У него этих друзей полным-полно. Иных я давно знал. Другие — недавние. Но все с виду приличные люди. Пьяными их не замечал, плохого слова не слышал. Все при должностях, так сын говорил о них. — Старик трясущимися пальцами достал новую папиросу. Прикурил.
— А почему сына от них предостерегали?
— Не знаю. Сердцем неладное чуял. Словами не объяснишь. Такое неубедительно. А не слушал меня. Смеялся. Мол, пустые страхи, отец, что они могут плохого мне сделать? А видите? Сами целы. А Заура под смерть поставили…
— Скажите, среди друзей сына был такой длинный, худой! Его все Шефом зовут.
— Это вы про Бориса?
— Я не знаю его имени, — смутился Руслан.
— Он один такой среди всех. Ни родителей его не знаю, ни фамилии. До войны одно у него прозвище было — «Чифир». Иначе не обращались к нему дружки. Сам он, правда, назвался Сано. Когда со мной знакомился. Потом его Шефом стали величать. Заур говорил, что Боря по работе большим начальником стал. Потому и шеф. По правде сказать, удивлялся я, откуда что в нем взялось? Ведь много лет его знаю. Всегда болел. То с перевязанным горлом ходил — ангина душила. То золотуха его одолевала. Не мужик, а гнойная язва. Когда он начальником стал, побаиваться его начали, даже Заур. Это я заметил.
— Скажите, а где он живет?
— Тоже где-то на Северах. Вместе с сыном. Так оба говорили. Теперь-то я знаю, что обманывали…
— Когда он был в последний раз?
— Месяца полтора назад. А, может, два.
— О чем они говорили? Шеф и Заур?
— Да кто их знает. Я не слушал разговор. К тому же поздно было. Мы со старухой спать легли, когда Борис пришел. Прошел он в комнату сына. А когда ушел, я не слышал.
— Как он выглядит, этот Шеф? — спросил Машуков.
— Ему под пятьдесят. Тощий, как старый ишак. Волосы рыжие. Торчком на голове стоят. Будто из медной проволоки. Глаза злые, голодные всегда. Рот большой. Губы тонкие. Уши большие. Шея худая, морщинистая. А руки — жуть. Сам себя мог обнять и на спине руки сцепить. Ну, сущая обезьяна. И ноги что жерди. Длинные.
— Это все?
— Ну, как сказать. Что еще? Ходит он, прихрамывая. Кажется, правая нога повреждена, — припоминал старик.
— А еще у него голос хриплый. Горло болит, — вставила старуха.
— Он к вам один приходил иль с друзьями?
— Чаще один. В последние годы вроде отошел от друзей, только нашего сына еще признавал.
— Ну, а кроме Шефа, кто еще приходил к сыну? Хозяин припоминал всех. Руслан улыбался. Этих он
знал не только по именам, но и по кличкам. Дубина, Влас, Кроха, Блоха… И вдруг… Что? А кто этот — Дядя? Сразу догадался, что это кличка. «Почему его возвращения с рыбалки так ожидали? Уже семь лет на Севере? Ого!» — старался не подать виду. А старик говорил:
— Мой сын нередко ругал Борьку из-за того человека. Почему — не знаю. Только споры были злыми. Сын говорил, что как только Дядя вернется с рыбалки, жди неприятностей для всех. Спрашивал я про того человека, допытывался, кому он дядя, уж не будущий ли родственник? Заур не отвечал. Сердился, что я подслушал.
— Скажите, когда в последний раз сын уходил из дома, кто с ним был? Кто его ждал? Кто приходил за ним?
— Месяц назад. Мы поссорились, — опустил голову хозяин.
— Не стоит о том, это наше. К чему теперь ворошить? — подала голос старуха.
— Пьяным он пришел. Ночью. А тут день рождения матери. Он забыл. Я и накричал. Он обиделся. С неделю домой не появлялся. Потом пришел. Сказал, что виноват. Мол, подарок матери хороший присмотрел. Не надо нам было подарков. Я так и сказал ему. Он дня три дома сидел. Никуда не выходил. А тут Борис. На следующий день исчез на неделю. Я думал, у женщины. Вернулся. А потом, вечером, кто-то окликнул его со двора. Я не подошел глянуть. Заур посмотрел. Тут же вышел. Вот и все… Теперь, вы говорите, в морге, — сцепил руки в кулаки старик и замолчал.
Руслан спросил, чуть помедлив:
— А в эти дни, когда Заура не было, кто-либо со двора его звал?
— Нет.
— Давайте условимся, вы меня известите вот по этому телефону о дне похорон, — попросил следователь.
— Зачем? — удивился старик устало.
— Надо. Нужно.
— Ладно. Скажу, — согласился хозяин и, проводив Руслана, закрыл дверь. Отец Дамочки позвонил Руслану на следующий день. Сказал, что хоронить сына будет завтра на городском кладбище в четвертом часу дня. Сообщив
это, он тут же повесил трубку.
* * *
Похоронная процессия медленно двигалась по улице. За гробом Дамочки, едва переставляя ноги, шли отец с матерью да горстка соседей, таких же стариков, согласившихся из вежливости проводить Заура в последний путь. Сергей Арамисов отбивал марш Шопена на барабане. Рядом два молодых сержанта в штатском тоже старались. Один в медные тарелки бьет. Другой на трубе играет. Надо — так надо. Зачем? Пусть начальство решает.
Сергей нет-нет да и давит смешок в себе. Что ни говори, сам предложил следователю этот эксперимент. Может, он ничего не даст. Как знать? Руслан, видно, теперь тоже беспокоится. Клюнет — не клюнет? Наверняка не угадаешь. Но… И ничего, не теряет в этом случае следствие. Да и как найти Шефа?
Сергей равнодушно смотрел по сторонам. Размеренно колотил по упругим бокам барабана. Тот охал гулко. Так, что плечи соседей вздрагивали. Да и то сказать, барабан-то лейтенант впервые в руки взял. Вот и колотит его. Старается. Какой там такт? Правда, Руслан заставил Сергея целый вечер перед похоронами слушать и запоминать ритм этого траурного марша. Но, когда барабан повесил на плечи, из памяти все и вылетело. Хорошо еще, что сержантов из милицейского духового оркестра догадались взять. Опять же кого хоронят? Вора. А ему какая разница, как играет ударник? Старикам- родителям не до того.
Горе гложет. Арамисову не до марша. Свое обдумывает: клюнут — не клюнут? Дорога к кладбищу длинная, как вечность. И Сергей, вспоминая все, что связано с шайкой Шефа, поневоле вздыхал. Трудное дело досталось Руслану и ему, демобилизованному солдату, ставшему лейтенантом милиции. Но вот и кончился путь по городу. Теперь дорога свернула к кладбищу. Тут надо быть внимательным и не зевать.
Оркестранты вошли за ограду следом за катафалком. Кладбищенский сторож не спеша вышел из будки, повел к недавно вырытой могиле.
Сергей наблюдал. Сторож, указав место, не торопился уходить. Топтался рядом с гробом.
«Что он хочет, каналья? Выпить за упокой? Или шепнуть?» — Арамисов незаметно, боком, протиснулся поближе. Сторож взял за локоть отца Дамочки. Наклонился к самому уху:
— Друзья вашего сына просили кое-что передать.
Старик не услышал. Он смотрел на сына. Тогда сторож кашлянул.
— Ну что? Что еще? — глянул на него старик. И вдруг, сообразив, полез в карман, достал пятирублевку, сунул в руку сторожа. Тот смутился. Вернул.
— Почему? — удивился старик.
— Не надо.
Кто-то из соседей предложил опустить гроб. Но отец удержал. Он наклонился к лицу сына, словно все еще не верил в случившееся. Черной печалью прилипла к гробу мать.
Сторож отошел на несколько шагов. Ждал. Сергей следил за ним. Вот и отбиты последние аккорды. Гроб опустили. Жесткие комья земли застучали по крышке торопливо. Вскоре могила была засыпана. Соседи, побыв еще немного для приличия, уходили по одному с кладбища. И только родители Заура не торопились вернуться домой. Они стояли у могилы сына, как осиротелые призраки, как тени без хозяев.
Арамисов медленно отошел в сторону. Уйти? Может, рано? Сержанты уже шли к воротам кладбища. «Зря торопятся», — подумал лейтенант. И, оглядевшись, заметил, как родители Заура повернули от могилы, тоже собрались уйти. Лейтенант торопливо свернул на глухую тропинку, заросшую кустами. Прислонился к дереву, наблюдая за отцом Дамочки. И вдруг услышал шелест шагов. Вот идущие остановились. Донеслись приглушенные голоса:
— Да погоди. Успеется. Что-то мне подозрителен ударник. Хотя и прощелыги эти похоронные музыканты, но свое дело знают. Марш Шопена и во сне сыграют. Этот же, голову об заклад кладу, первый раз барабан в руки взял.
— Показалось тебе. Ударник тот, по-моему, хорошо играл. Громко.
— Э-э, да перестань. Тебе же медведь на ухо наступил. Подвох тут. Ловушка. И ударник, возможно, из лягашей.
— Ладно. Пусть Дубина к старикам сходит. Даст им. Чтоб молчали. И дело с концом.
— Не пойду я к ним. Там, небось, засада. Что, я ишак? Нет уж! Не пойду.
— Если засада, труп не отдавали бы. Покуда мы не заявимся…
— А, может, и ждали, — пробасил голос Дубины.
— Одного не пойму, как и кто вышел на стариков Дамочки?
— Узнать надо. Потому и пойдешь к ним. Как отдали, кто отдал, о чем спрашивали и говорили. Ну и все на лягавых свали. Дескать, ни за что пришили. Темнуху поскладней придумай. Усек? — прогремел повелительный голос.
— А почему ты, Шеф, сам не идешь? Тебя в этом доме больше знают, — не соглашался Дубина.
— Потому и нельзя. Я самым близким его другом считался. Пусть успокоятся. Тогда я и наведаюсь.
Сергей весь напрягся. Что делать? Как взять Шефа? А тут еще эти сержанты вернулись. Топают по дорожке, как лошади. Самое главное можно не расслышать. «Эх-х, зелень непонятливая», — злился лейтенант.
— Так ты не медли, Дубина! Деньги дам. Скажи, коль придет кто к ним, как отвечать. Припугни: мол, за сына с вас спрос будет. Доброго хотим. И пусть больше помалкивают. Понял, Дубина?
— Товарищ Арамисов! — послышались голоса сержантов. Сергей вспыхнул от досады. В кустах послышался шорох, торопливые шаги в заросли кустарника.
Лейтенант еле сдержал себя, чтоб не крикнуть: «Стой! Стрелять буду!». Остановило одно — Шеф вооружен. И ножом, и пистолетом сработает без промаха. А сержанты слишком неопытны для встречи с фартовыми. Крикни, еще больше можно все испортить. Спугни — и все. Где потом искать? А так еще остается хоть слабая нить — квартира Дамочки.
Лейтенант тихо вышел из-за деревьев. Сержанты со всех ног кинулись к нему:
— Товарищ Арамисов!
— Где вы были?
Сергей исподтишка показал обоим свой жилистый кулак. И взглядом ожег парней так, что они сразу сникли. Вслух выговорить накипевшее не решился. Ведь шайка, возможно, не вся разбежалась. Кто-то и за кустами мог остаться. Сергей прислушался. Точно. Ни ветерка, а в кустах шорох. Не изменил еще армейский слух. И лейтенант, подморгнув сержантам и показав глазами на кусты, сказал погромче:
— А старики — жлобы. Ни хрена на лапу не дали. Зря я около них терся. Старик сделал вид, что горем пришиблен. И меня не видит. А карга его, сразу видать, скряга редкая. У этой средь зимы льда не выпросишь. Эх-х, проклятая работа! Заплатили в похоронном бюро, придется сегодня всухую обойтись. Зря мы согласились.
— Так нас… — открыл было рот сержант-трубач.
— Никогда больше не пойду к тем, где в семье старики. Ни черта не понимают они в жизни. Все по закону хотят. Ну и пусть бы своего выродка без нас хоронили. Видать, и он такой же. Ни одного путевого мужика за ним не шло. Одно старье-мухоморы. Даже за упокой не подали, — говорил Сергей.
— Теперь ни к чему, Вася! Так я велел тебе говорить, чтоб стариков тряхнуть. Мол, не с шарамыгами дело имеете. Зови Сергеем, как всегда. Старики все равно ушли. А друг другу к чему мозги пудрить? Нет смысла…
— А и верно, даже не помянули покойного, — сообразил сержант- тарелочник.
— Думали, шара выпала. А оно… Придется чифиром перебиться, — сплюнул Арамисов.
— Ничего, я у своих попробую одолжить. До завтра. Не все ж невезенье, — подхватил второй сержант.
Лейтенант прислушивался. Шорох в кустах усилился. Кто-то следил за ними.
— Ну что, пошли? — предложил сержантам Сергей.
— Без «промочки» ноги не идут, — отозвался один из парней.
— Ладно, теперь заранее будем обговаривать с родственничками, — «успокаивал» Арамисов. И едва все трое стали выходить на центральную дорожку, как из-за кустов навстречу им вышел кладбищенский сторож:
— А вас чего тут носит?! Шарамыги! — закричал он во весь голос.
— Заткнись, трупный страж! Носит! Под кайфом хорошо орать. А тут день впустую. Тебе хоть горло дали промочить? — усмехался лейтенант.
— Я взяток не беру!
— Ну и дурак. С покойника какие взятки?
— Проваливайте, шарамыги проклятые! Забирайте барабан. И катитесь отсюда!
— Во, умник! Что орешь? Конечно, уйдем. Кто ж тут навсегда собирается оставаться? Да еще по доброй воле. Нет уж, мы жить хотим, и хорошо жить! Понимаешь ты это, хозяин мертвецкий? Хотя куда тебе такое осмыслить! Прощай! До не скорой встречи! Невезучее твое заведение! Слишком трезвое. Нам оно не с руки! — захохотал Сергей.
Сторож, ругаясь, закрыл за ними ворота кладбища.
* * *
— Снова вооруженное нападение! Ночью на третьем участке! Сторож убит. Двоих прямо в универмаге взяли! Какие будут указания? — прокричал телефон тревожным голосом.
— Пришли за мной машину. Обеспечь кабинет для допроса, — как можно тише, чтобы не разбудить жену, проворчал в трубку Машуков.
Было шесть утра, когда Руслан, предъявив пропуск и сдав дежурному пистолет, прошел сквозь кованые ворота следственного изолятора. Мрачными коридорами разводящий провел его в отведенный ему кабинет. Привинченные к полу стол, стул и табурет — вот вся обстановка. Руслан сел, закурил и, помедлив минуты две-три, нажал кнопку вызова, вмонтированную в ножку стола. Вошел маленький худой мужичонка. С острым, желтым, сморщенным, как печеное яблоко, лицом. Глаза его заскакали по столу, стенам. Потом застывшими шильцами замерли на зарешеченном окне. И вдруг — перескочили на следователя.
— Проходите, садитесь, — предложил Машуков.
Мужичонка просеменил к табурету. Не мигая, уставился в пол.
— Имя, фамилия? — спросил Руслан.
— По ксивам иль по фене?
— То и другое, — потребовал жестко следователь. Назвав себя, вор откашлялся и добавил:
— А еще Блоха я. Так-то оно сподручней. Следователь согнул голову. Поморщился.
— Ну и кличка, — вырвалось невольное.
— А что? Я ее не стыжусь. Она мне родней своей шкуры, файная кликуха, — растянулись в улыбке тонкие губы-змейки.
— За что ж ее получили?
— Блохин был такой. До войны. В Ростове жил. Миллионер. Подпольный, конечно. Многие фартовые тряхнуть его хотели. Да не получалось. А мне удалось. И, заметьте, чисто, без мокрого дела. С того дня я — Блоха, навроде тезки тому Блохину. Чего ж мне стыдиться?
— А миллион свой отдал Шефу?
— Какому еще Шефу? Я сам по себе. Да и не миллион, поменьше куш сорвал.
— Где срок отбывали? Сколько судимостей? — посуровел Руслан.
— На Колыме, гражданин начальник. Дознались про Блохина. Хоть он и помалкивал. Ну и закатали. А вторично в сороковом году лично вы меня законопатили. Вы-то, может, и забыли, а я помню, по чьей милости второй срок мучился. Вы тогда совсем зеленым были. Кличками не интересовались.
— Значит, старый знакомый? — усмехнулся Руслан, поняв, что «не узнавать» вора не имеет смысла.
— Старый, старый! Как же, я вас, как маму родную, каждый день на Северах вспоминал.
— Тем более, значит, и говорить будем начистоту.
— Вы говорите, а я послушаю, — наглел Блоха.
— Видно, и последняя отсидка ничему не научила?
— Почему ж, там поневоле поумнеешь, — сжал Блоха руки в кулаки.
— А зачем же снова с фартовыми связался? Иль иначе жить не можешь, по-человечески?
— Где уж нам уж… — хрипло рассмеялся Блоха.
— Опять на Шефа работал?
— Вспомнили? Но то тогда было. Давно. Нынче никаких Шефов над собой не признаю. Всяк своей башкой жить должен. Вот я, к примеру, захотел сладко жить — горько подыхать буду. Так оно завсегда.
— Философ! Ну, а кто все же организатор? Шеф был с вами в магазине? Кто еще участвовал в нападении?
— Я сам себе организатор. И никакого Шефа не знаю. Больше ничего не скажу. С вами откровенничать нам закон не позволяет, — ухмылялся Блоха.
— Одному из ваших он тоже не позволил. Умереть своею смертью. Дамочке! Вот и ты «малине» нужен лишь до времени, покуда в общак приносил. А теперь ты будто мертвый для Шефа. Жмур, по-вашему. Для него пусть сдохнет сто кентов, лишь бы жила «малина». Так, что ли? К чему тебе жить по этим законам стаи? Ведь ваши «малины» обречены. У них нет будущего. Как и у тебя, если и в нынешнем своем положении ты укрываешь сообщников. И прежде всего — Шефа.
— Я все сказал. Никакого Шефа не знаю. Нас двоих, меня и Кроху, заловили, вот и судите. Никого с нами больше не было. За покушение на кражу — ведь мы ничего взять не успели — больше червонца не дадут. А это мы переживем как-нибудь.
— Ошибаешься! — повысил голос Руслан. — Убийство сторожа — это не покушение на кражу, а бандитизм. Поскольку действовали вы сплоченной группой.
— Какого сторожа? Я его в глаза не видел, — опешил вор.
— Ты так упорно убеждал меня в том, что вас было только двое, что сейчас остается лишь установить, кем, тобой или Крохой, убит сторож. А, может, оба и убили?
— У меня не было оружия!
— Но оружия не найдено и у Крохи. А сторож убит, — возразил следователь.
— Нет. Я «мокрое дело» брать на себя не буду. Были с нами еще люди. А сколько, кто, не скажу. Сами дознавайтесь.
— Шеф, повторяю вопрос, участвовал в нападении?
— Шеф был с нами, — выдавил Блоха. — Но это я вам устно говорю. Показании о Шефе подписывать не буду.
— Где можно взять Шефа? Где укрывается твоя «малина»? Вопросы повисли в воздухе. Вор так больше ничего и не сказал…
Кроха вошел уверенно, спокойно. Сел на табурет., сцепив руки за спиной.
— Кто, кроме тебя и Блохи, в деле был?
— Никого, — не сморгнул вор.
— На общак Шефа работали?
Кроха отвернулся. Молчал. Руслан знал, что хоть и молод вор, но опытен. Этот ни одного слова случайно не обронит. Среди кентов рос. За малый рост кличку получил. Но авторитет среди воров у него большой был.
— Всегда считал, что на убийство вы не способны. И теперь так думать хотелось бы. Но приходится подозревать именно вас в убийстве сторожа универмага. Тот после удара ножом уже ничего не смог сказать, — умолк Машуков. Он заметил, как побледнело лицо Крохи. Этому не стоило много разъяснять. Вдвоем — значит, взять на себя все. Решится ли? И Руслан ждал.
— При нас оружия не нашли. Никакого. Ни у меня, ни у Блохи. Да и накрыли в магазине. А старик — снаружи… Как же мы сумели бы?
— Выходит, перед проникновением в универмаг управились.
— Но чем? Ножей не нашли.
— Кто ж такую улику с собой носит?.. Впрочем, найдем, возможно.
— Мы не «пришивали» сторожа. Нас в магазине попутали. Мусора! Какой тут нож поможет? Это дураку понятно.
— Так кто был с вами?
— Я уже сказал.
— Что ж, ты, как подозреваемый, можешь вообще не давать показаний.
— Я не виноват! — закричал Кроха, истолковав по-своему слова следователя.
— А я и не утверждаю, что именно ты убил. Но кто-то же сделал это!
— Не знаю! Не знаю, кто! — нервничал Кроха.
— Ну, это ты оставь! Кому ж такое еще известно? Две «малины» на одно «дело» не ходят. Только одна шайка, и кенты друг друга хорошо знают. Кто на стреме должен стоять, кто «на деле» работать. Или скажешь, что без стремача обойтись решили? Так тебе известно, что я не первый раз вора вижу. Знаю ваши законы. Кто на стреме был?
— Не знаю.
— Сколько вас было?
— Двое.
— Что ж, как знаешь, подпиши протокол допроса, только прочти его сначала, — предложил следователь.
— Не буду, — отпрянул Кроха.
— Почему?
— Подумать надо, — сник вор.
— Думай. Но живее.
— Послушайте, гражданин начальник, я действительно не знаю тех, которые с нами были, — выпалил Кроха.
— Сколько их было?
— Двое.
— Всего четверо? — уточнил Руслан.
— Опиши внешности тех. Кроха развел руками:
— Темно было. Не разглядел.
— Кто их послал с вами? Шеф? Как он их называл?
— Не помню, — выдавил вор.
— Ладно, но когда я сам увижу, кто был с вами…
— Даже я их не знаю, — прервал Кроха.
— Ну, а Дамочку знал?
— Он с нами не был, — усмехнулся вор.
— Это мне известно. Я о другом. Кто ему помогал? Кто его оставил на пороге больницы?
— Какая теперь разница? Накрылся Дамочка. Это все, что я знаю. Все! Век свободы не видать, если я убил. Нет! Это нас убивают! Как Заура! Я — честный вор! Мало вам меня как зверя за решеткой держать! Еще и «мокрое» дело клеите! Я Заура к больнице привез! Спасти хотел! Я боюсь крови! И
смерти! Даже чужой… — Началась истерика. Кроху увели.
* * *
Новый универмаг усиленно охранялся. Именно здесь впервые в городе была установлена система сигнализации. Она-то и сработала. Кто-то из воров задел ее…
Руслан внимательно осматривал помещение. Откуда же проникли воры? Трудно определить. Хотя… Приоткрыта дверь в подсобку. Значит, отсюда? А дальше? Склад. Здесь на пыльных ящиках и коробках следы посторонних рук. Торопливых. Вон наборы ложек перевернуты. Серебро не подошло. А вот эти, чайные, из золота. Брали.
Машуков включил свет. Улыбнулся. Кое-что становилось понятным. Вот Влас «расписался». Старый вор. Сидел. Освободился несколько лет назад. И все ж со старым ремеслом не расстался. Хитрее стал. В перчатках работал. Но от прежней привычки так и не избавился, пустые коробки закрывал и ставил так, будто они с товаром. Забывая, что снятый им шпагат сразу выдавал отсутствие в ящиках и коробках содержимого.
Следователь нагнулся. Все верно. Как и раньше, Влас затолкал куски шпагата между коробками. Руслан доволен. Один известен.
А этот? Тоже знакомый почерк. Дубина был. Громадный мужик. Не поместился меж ящиков. И сел на один. Продавил. Вон и тот, снятый со штабеля ящик, что рядом поставил. Такой только Дубине под силу удержать. Вон и чеканки смотрел. Падок мужик на блестящие штучки.
— А это кто? Третий? Да! Незнакомый. Длинный мужик. Худой. Вон в каком узком проходе поместился. До верхней полки свободно достал. Руки длинные, сильные. Подсвечники смотрел. Но не польстился — сразу понял: медные. А вот кольца. Вместе с футлярами взял. Значит, уже не четверо. А пятеро. И, конечно, хоть одного на стреме оставляли. Получается, шестеро. Выходит, лгал Кроха, хотя… Что ж от него ждать?
Машуков медленно шел вдоль ящиков, полок, стеллажей. Внимательно присматривался. Стоп! Начало? Да. Вот они, следы отмычки на внутреннем замке дверей склада. Воры проникли сюда через служебный вход. Наружный замок сорвали ломиком. Это — тема будущих допросов… Подошел к прилавкам. На стеклах витрин ни одного следа от рук. Чисто работали Блоха и Кроха. Нигде и ничем себя не выдали. Только вот результат: на витринах пусто. Особо — эти две старательно очищены. Без «автографов»: видно, не спешили. Значит, стрема была надежной. Но кто из этой пятерки задел сигнализацию? Кроха и Блоха были далеко от нее. Дубина как сидел на ящике, потрошил коробки, так и не двинулся дальше. Опасность почувствовал
— дверь рядом. И Влас — тем же путем. Остается тот, пока неузнанный. А где, собственно, была задета сигнализация? Как она вообще расположена?
В кабинете директора, — будто подслушав мысли следователя, обронил Арамисов. И указал на боковую дверь. Возле нее в нерешительности топтались понятые. Руслан увидел на внутреннем замке уже знакомые царапины. Ясно: той же отмычкой оставлены. А сигнализация? Ага! Вот здесь! Сейф, а к нему и была подключена сигнализация. Но изнутри. О ней все работники универмага знали. Значит, в неведении были тут воры. Не имели осведомителя и никого из своих не засылали предварительно в универмаг, рабочим склада, например. Но кто открывал сейф?
Следователь осмотрел его дотошно. И вдруг узнал: Шеф. И хотя самого ни разу в глаза не видел, работу его знал. Вот и снова — «гусиной лапой» действовал. Сейф как консервную банку пытался вскрыть. И отодвинуть его пытался, но не сумел. Сил не хватило? Страх отнял их? Вот носком ботинка упирался в плинтус пола. Черный тупой след отпечатался чуть выше на стене. Ну и ноги! Цапля позавидует. А вот побелка на стене стерта рукавом. Пытался руку с ножом за сейф просунуть. Чтобы шнур сигнализации обрезать. Не смог. Вернее, не успел. Ведь она уже сработала. Вот он и ринулся напрямик к окну. Руслан повторял путь Шефа. Что-то зазвенело под ногой. Нагнулся. Часы. Старый будильник. Чей? Ах да, стоял на сейфе. Стекло выбито. Стрелки замерли на пяти утра. Да, как раз в это время сработала сигнализация. Руслан пошел дальше к окну. Его металлическая решетка раздвинута. Конечно, все той же «гусиной лапой», универсальное воровское приспособление: значит, и наружный замок дверей склада был сорван не ломиком. А тут… Взгляд Машукова скользнул по пятнам крови на асфальтовой дорожке. Здесь был убит сторож. Вероятно, его внимание привлек звон разбитого стекла, когда Шеф выпрыгнул в окно. Вот и встретились. Шеф бил ножом без промаха. Прямо в сердце. Эксперт уже дал заключение, что раневой канал такой же конфигурации, как и у прежних жертв Шефа. К тому же он — левша. Это уже известно. И направление удара всегда одинаково: снизу вверх, слева направо. Но почему Шеф не предупредил Кроху и Блоху, находившихся в зале, о сработавшей сигнализации сейфа? Времени не было, самому бы спастись? Но нет, видимо решил этих двоих оставить милиции, чтоб других не искали. На них и сторожа свалить. Знакомый прием. А Кроха и Блоха — старые воры. Знают, что такое групповое нападение да еще с «мокрым делом». Чем больше участников, тем хуже. Но ведь эти двое — не убивали. Взяли их в магазине. А сторож был снаружи. И убит после проникновения обоих в торговый зал. Значит, у них только покушение на кражу? Если не будет доказано, что они сознательно допускали убийство сторожа. И кто это сделает — для них не имело значения. Но оба утверждают обратное! Да и Дубина умел оглушать кулаком тех, кто мешал ему. А потому иметь нож считал для себя излишним. И никогда никаким оружием не пользовался. Влас был матерым вором. Но тоже — не убивал. Придерживался старого воровского правила: повезло — украл, не повезло — сел. К тому же стар был Влас. Вряд ли на этот раз решился изменить своему принципу. А вот Шеф… На его совести много чего накопилось. Сомнений нет: убит сторож его рукой. Тот же удар. Точный, единственный. А Кроху и Блоху решил сделать козлами отпущения. Хитер мерзавец! Надумал сбить следствие со своего следа: мол, отдавайте пойманных под суд как убийц и прекращайте дело. Вам же, дескать, меньше забот: не будет нераскрытого убийства… Руслан сцепил кулаки: «Нет, квалификация действий каждого будет строго индивидуальной. А материалы против Шефа — в отдельное делопроизводство». Не заметил, как сказал это вслух. Арамисов лишь кивнул одобрительно.
* * *
У родителей Дамочки появилась квартирантка. Полногрудая бойкая бабенка. Она ловко управлялась с уборкой квартиры, ухаживала за стариками. Сама ходила за продуктами на рынок и в магазины. И еще — работала дворником в этом же доме.
Старики объяснили соседям, что Зина, их квартирантка, вдова. Муж погиб. Детей нет. Ну, а жить ей негде. Вот и взяли. Она работящая. И паркет мастикой натрет, и поесть приготовит, сердечная. Да что ни говори, чуть меньше печаль по сыну. Хоть и чужая, а живет в его комнате. Как о родных беспокоится.
Вскоре дом и двор привыкли к женщине. А та жила спокойно. Никому не мешая. Однажды, когда прошло десять дней со дня прихода ее к старикам, ночью в дверь квартиры тихо постучали. Никто не отозвался. Стук повторился. Потом еще раз — сильнее. К двери подошел отец Дамочки:
— Кто? — спросил он удивленно.
— Открой. Свои. Старик открыл.
— Чужих нет в доме? — спросил голос из прихожей.
— Квартирантка, Зина. Но она своя, — дрогнул голос хозяина.
— А где она?
— Да спит. Ей на работу рано вставать.
— Вот как? Ну, пойдем в комнату. Поговорить надо. Да дверь закрой. Гость и хозяин прошли в комнату стариков. Скрипнул стул. Гость начал не сразу:
— Значит, не грабили? — простонал старик.
— Да нет же, говорю тебе! Нет! Милиция хочет концы спрятать. За наш счет. Так ты того, не очень с ними. Пока мы на свободе своего добьемся. Докажем, кто виноват.
— Вот оно что! — послышался голос хозяина.
— К тебе лягавые приходили? — спросил гость.
— Приходил один.
— Кто?! — подскочил гость.
— Заура велел из морга взять, — осекся старик.
— О чем спрашивал?
— Про сына.
— И что ты сказал?
— Что знал. Говорил, что рыбаком был. На севере работал. Зарабатывал хорошо.
— Дурак! — грохнул гость по столу.
— Что?! — крикнул хозяин.
— Кто тебя просил? Хотя… Ну и что дальше?
— Убирайся вон отсюда! — распахнул старик дверь комнаты.
— Заткнись! — рванули его в комнату злые руки, и голос гостя забубнил — Что о нас сказал, старая курица?
— Пусти, — хрипел хозяин.
— Кого выдал?
— Пусти его, — завизжала старуха, но вдруг гулко ударилась о стену.
— Продал нас? Про Севера трепался? Кто просил? Никто в комнате ничего не успел сообразить, понять.
Вмиг погас свет. И в кромешной тьме не своим голосом взревел Дубина. Завернутые за спину руки были прочно взяты в наручники. Он лежал на полу, не в силах встать или пошевелиться…
Было далеко за полночь, когда милицейская машина с погашенными фарами тихо, совсем неслышно, въехала во двор и, забрав Дубину, так же незаметно исчезла. Старики, родители Дамочки, оторопело смотрели на спешно переодевавшуюся квартирантку. Вот она уходит.
— Зина! Погоди! Куда же ты? — схватил старик за руку.
— Какая Зина? — повернулся Арамисов к хозяину и засмеялся.
— Ох, прости меня. Ну зачем уходишь?
— Теперь спокойно живите, — ответил Сергей и добавил: — Ни один зверь не вернется туда, где хоть раз был поставлен на него капкан.
— Спасибо тебе, — мать Дамочки уткнулась заплаканным лицом в жесткое сукно милицейского мундира.
В кабинете у Машукова было шумно с самого утра. Сергей Арамисов делился опытом домохозяйки. Сознался, что когда приготовил по просьбе стариков хинкали, то едва не лишился квартиры. «Особенно старуха бранилась, — рассказывал парень, — дескать, кто же так их делает? Только продукты переводишь! Руки у тебя не с того места растут, что ли? Так, мол, до стари во вдовах останешься. Никто тебя замуж не возьмет…» От дружного хохота оперативников вздрагивали стекла.
— А если честно, ребята, — заметил он и вмиг посерьезнел, — то мне это перевоплощение нескольких лет жизни стоило. Главное, разуверился было,
что придет кто-нибудь от Шефа…
* * *
Допрос шел медленно, тяжело. Дубина не торопился с ответами. В его громадной голове мысли ворочались трудно. Он собирал их в пучок, но они разбегались и тогда вор сжимал в гири пудовые волосатые кулаки. Старался говорить меньше, отвечать короче.
Следователь внимательно следил за его выражением лица, реакцией на вопросы. А их было много:
— Давно в «малине»?
Дубина крутнул головой. Подумал.
— Не помню, — ответил, прищурясь.
— А сколько самому исполнилось? — спросил Руслан.
— Не считал. Ни к чему. Мне на пенсию не идти, — тот хохотнул нервно.
— До пенсии вам, Кудрин, двенадцать лет. А рабочего стажа и года не наберется.
— Вы мою жизнь лучше родной мамы знаете.
— Приходится. Часто встречаемся.
— Подарил бы эти встречки… — стиснул вор кулаки.
— Кому?
— Вашим кентам.
— У нас таких нет.
— Знаю, одни мусора. Ох, извините, гражданин начальник.
— Вот видите, хоть один толк от наших встреч есть. Извиняться научились.
Дубина, хмыкнув, в пол уставился.
— Все с Шефом работаете?
— Чего?
— Да хватит, кольцо смыкается. А слух, как мне известно, у вас превосходный. Не стоит глухим притворяться, Кудрин.
— Никакого Шефа не знаю.
— Ну, а деньги, которые вы должны были передать отцу Дамочки, где взяли?
— Подсунули мне их, — усмехнулся вор.
— Кто?
— Ваши. Эти — му… Ну, мильтоны.
— Вас обыскивали в присутствии понятых…
— В машине подкинули. Когда везли.
— И прямо за пазуху? — улыбнулся Машуков.
— Не знаю.
— Так почему старику деньги не отдал? Пожадничал? Себе решил оставить?
— Не знаю ничего про деньги. Не было. Подсунули— отрицал вор.
— А деньги эти у вас еще в квартире у стариков из-за пазухи вылетели. Это родители Заура видели.
— Брешут!
— Зачем им врать? Они же не знали, какие это деньги.
— Знали. Иначе не фискалили б. Озлились, что в руки им не попали. Поторопились.
— Ну, а почему не отдали? Другие планы были, свои? — интересовался следователь.
— Какие планы, когда браслеты нацепили?
— Так наручники были позже. А до этого? Зачем самому деньги понадобились?
— А кто от них откажется? Они всякому нужны бывают, — ухмылялся вор.
— Значит, на черный день?
— Теперь что о том…
— Ну, а деньги Шеф все равно бы потребовал с вас, — сказал Машуков.
— Какой Шеф?
— Если бы стариков убил. Кто ж мертвым деньги отдает или оставляет? А раз не хотел отдавать, значит, убить решил. Так? Ну, Шеф деньги и потребовал бы. А попробовал бы присвоить, тот же Шеф мог нож в ход пустить. И разделался б чище, чем вы со стариками хотели. Это уж точно! — уверенно говорил Руслан.
— Это он-то?! Со мной? — рассмеялся вор.
— С кем же еще? Он вам деньги дал для стариков. На дело. Ну, а коль без них обошлось, вернуть полагается. Так по вашим законам? В общак положить. За невозврат что бывает на сходах?
Я пуганый. И сходу не отчитывался бы! Так-то!
Подумать только — пришить самого Дубину! Да со мной пяток «малин» не управятся! — разговорился Кудрин.
— «Малинам», может, и не под силу. А у Шефа на такие случаи финка и пистолет имеются. Скольких он ими убрал?
— Они «малины» сыпали. Я — иное дело.
— Но вы нарушили б устои «малины», ее законы.
— А кто их теперь соблюдает? Все норовят свою мошну набить потуже, — махнул рукой Дубина.
— Ну, а Шефу барыш на дележ все отдают, вы же, наоборот, от него забрать хотели.
— С него и так хватит, — нахмурился вор.
— Искать вас теперь будут. А как узнают, что с деньгами попался, из закона выведут. За жадность, — говорил следователь.
— Плохо знаете, гражданин начальник. За это не выводят из закона. За откол, за измену «малине» и кентам. А меня знают хорошо. Деньги люблю? А кто ими в нашем деле брезгует? На то мы и воры. Жизнь любим. А она без денег вкусу не имеет, — философствовал Дубина. И добавил, подумав: — Свое взял. На эти деньги я все права имел. За риск и работу. А «малине» не до жиру. Ей результат подай.
— Какой?
— Молчок. Чтоб тихо. А деньги или кулак — это уж на мое усмотрение. Так-то. А всякая работа оплачиваться должна. Так по вашим законам? — прищурился Кудрин.
— Да. За такую работу — годы строгого режима. Или особого, как суд решит, — пояснил Машуков, улыбаясь. Вор сразу умолк. Помрачнел.
— Можно мне вопрос задать? — спросил Сергей у Машукова. Тот согласно кивнул.
— Где сейчас Шеф находится?
— Он мне не отчитывается, тетка Зина! Тебе при таких способностях его отыскать проще. Шеф до баб охочий. Особо до тех, у кого вместо сисек наганы растут, — хохотнул вор. И добавил зло: — Твое счастье, что на меня нарвался, милиция в юбке! Я до краль уже давно не хожу. А Шеф, услышь от старика, прежде дела к тебе наведался б. Проверить. Все ли у тебя всамделишное. А проверяет он под финачом. Не то, что я, лопух. Мне не надо, потому не зашел. А зря! Стоило б тебя ощупать, — наглел Дубина.
— Негодяй! — покрылось пятнами лицо лейтенанта.
— Успокойся, — повернулся к нему Руслан. И, глянув на вора, сказал: — Мы тоже не вас там ждали, а…
— Шефа?! — догадался вор.
— Именно его, — подтвердил следователь.
— Ну и зря ждали.
— Почему же? — деланно удивился Машуков.
— Он на такие мелкие дела не ходит, — буркнул Кудрин.
— Верно, такое он шестеркам поручает, — не сдержался Сергей.
— Ну и дамочка у вас, гражданин начальник. Никакого понятия о нас не имеет. Да кто ж из шестерок в законе ходит? Эх-х, темнота! Вот у нас был Дамочка…
— А за что ему эту кличку «малина» дала? — Руслан был само внимание.
— Тоже переоделся. Бабой. Не хуже этого. Ну, и взял на примету. Почтамт. Под Новый год. Дождался своего часа. Подвалил к старику. Прикинулся бабой. Тот инкассаторов ждал. Ну, а тут… Развесил уши. Дамочка хлоп его по башке! И ходу. Денег приволок кучу. За то и кличку получил. Удачно провернул дело. Везучий был. А этот, ваш, с чего в бабу обрядился? Ни червонца за позор, за срам свой мужичий не имел. Эх, Зина! В любой «малине» за такое бесстыдство с пустым карманом тебя бы в пацаны вывели, — качал Дубина лохматой головой. И продолжил: — Нет нашего Дамочки, потому и рассказал я о том, что с ним было. Подучиться иным у него стоило, — стрельнул он взглядом в лейтенанта.
— У каждого своя цель. Кому деньги, кому — их добытчики, — отпарировал тот.
Дубина умолк. Да и что на это ответишь? Вор тяжело вздохнул.
— Так где ж теперь твой Шеф? — повторил вопрос лейтенант.
— Скоро узнаете. Сами. Только его вам никогда не взять. Он — не я, — куражился Дубина.
— Ничего, у всякой веревочки есть конец, — заметил Сергей.
— Э, руки у вас устанут эту веревку тянуть.
— С чего бы? Нас много. А Шеф теперь лишь с Власом остался. Тот — старик. На что способен? Придется скоро главарю в одиночку самого себя кормить. А одному легко ли? На стреме и то некого оставить. Так что один у него путь — в домушники. Иль в карманщики. А на этом долго не поработает, — говорил Руслан. Очень хотелось, чтобы вор проговорился, сколько у «Шефа» осталось сообщников.
— Шефу — в домушники? Ну и насмешили! Хоть и много вы наших замели, да ведь и вернуться кое-кто должен. После срока куда пойдет? К Шефу. Другого пути нет. Так что «малина» будет всегда. А то как же? Иначе куда ж мне потом… — вор осекся, выдав затаенное.
В это время в кабинет зашел прокурор. Он подсел к столу. Заглянул в протокол допроса.
«Сколько человек у Шефа? Кого ждет он к себе? Уж не Дядю ли?», — вспомнил Руслан разговор с родителями Дамочки. «Кто этот Дядя?»
— Не знаю. Ничего не знаю, — замкнулся Кудрин.
— Где живет Шеф?
— Где встречаетесь?
— Где «общак» прячете? Сколько награбили?
— Где Влас?
— Кто был с Дамочкой, когда сельмаг ограбить хотели?
— Кто участвовал в налете на универмаг?
— Кто убил сторожа? Кто стоял на стреме?
— Знал ли ты о сейфе? Кто его взламывал? Шефу в этом кто-нибудь помогал?
— Какие дела еще Шеф замышляет?..
Начался активный перекрестный допрос: ни Руслан, ни прокурор не скупились на вопросы. А Кудрин отвечал однозначно: «Не знаю», «Не помню», «Докажите сначала» и, наконец, «В гробу я все это видал…».
— Ладно, подпишите свои показания, — предложил Машуков, когда прокурор, многозначительно посмотрев на часы, вышел.
Дубина взял протокол. Стал читать внимательно. Потом вернул Машукову.
— Брехня тут все, гражданин начальник. Ничего такого я не говорил. Зачем мне на самого себя клепать? Не работал я с Шефом. Я не кент ему. Я сам по себе.
— Значит, отказываетесь от своих показаний, данных до прихода прокурора?
— А я их и не давал, — ухмылялся вор.
— Ну и тип! — удивился Сергей.
— Шефа вы, как бандита, рецидивиста ловите. И меня к нему пристегнуть норовите! Но не выйдет! Я его не знаю. Слышал о нем. И все. А говорят мало ли что! Я ни за кого не ответчик! — умолк Кудрин.
Его увели.
— Снова срыв. И этот, видишь, кое-что сказал, а подписать отказался. Как выйти на этого Шефа, ума не приложу.
Сергей молчал, наморщив лоб. О своем думал и плохо слушал Машукова.
— Сергей, — окликнул Руслан. Но лейтенант уголовного розыска не слышал. Он смотрел перед собой и ничего не видел.
— Сергей, где ты? — повысил голос следователь. Лейтенант вздрогнул. Извинился и заговорил спокойно:
— А мне кажется, Руслан, что мы один след упустили. Но на него опять нужно выйти. Не все так мрачно. Не все потеряно.
— Что ты имеешь в виду? — насторожился Руслан.
— Видишь ли… Ты знаешь, я — горец. И леса у нас… Короче, когда я охотился, ходил по следу зверя…
— Давай сразу к делу, — перебил Машуков.
— Здесь нельзя без аналогии. Так вот, чем ближе я подходил к зверю, тем хитрее он становился. Петлял. Путал следы. А медведи и лисы так те даже восьмерку делали. Идешь по следу, думаешь: вот настигнешь! Ан, глянешь, ты на прежнем месте, откуда след взял. А зверь уже за твоей спиной оказался. И не страшен уже ты ему, — умолк Арамисов.
— А в чем аналогия? — не понял Руслан. И добавил: — Ведь троих воров мы взяли. И каких! Думаю, что хребет «малине» Шефа мы уже сломали.
— Эти трое нас со следа сбивают. С основного. Лиса тоже может вывести на зайца. Или прикинуться хромой, чтобы от норы увести.
— Да говори ты нормально, как работник угрозыска. Меня охота не интересует.
— А зря. Так вот для Блохи, Крохи и Дубины легче пойти под суд по «мокрому делу», чем выдать Шефа. Их нора — это награбленное годами, общак. Выдав Шефа, они лишаются надежды, вернувшись после заключения, найти общую воровскую кассу если и не пополненной, то хотя бы целой. А ведь в ней — солидная доля каждого…
— А знаешь, ты, пожалуй, прав! Наивными мы с тобой были психологами. Ведь стена молчания вокруг Шефа — это не страх перед ним. А страховка, — согласился Руслан. — Значит, допросы ничего не дадут и впредь: Шеф с этой стороны неуязвим пока…
— Вот именно, — оживился Сергей. — Да наши душеспасительные беседы с Дубиной о пенсии, которой не будет, ему смешны. Пока Шеф на свободе, он спокоен за свою старость. Душу из Шефа вытрясет, а возьмет свое.
— Что ты предлагаешь?
— Нужно найти самое главное звено. В этой цепи круговой поруки воров. Помнишь, я говорил тебе о стороже кладбища? Ты тогда не придал значения, отмахнулся…
— Уж не решился ли ты переквалифицироваться в могильщика? — улыбнулся следователь.
— Нельзя. Он меня как ударника видел. И, конечно, запомнил. А вот как с ним законтачить, буду думать.
— Стоит ли? Зря время потеряем. Ну кто он такой, чтобы ему Шеф доверял? — сомневался Машуков.
— Сейчас «малине» не до жиру. За считанные дни четверых потеряли. Покуда новых найдут! А этот, возможно, из бывших. Свой в доску.
— Послушай, Серега, а что это нам может дать конкретно? Дамочка похоронен. Теперь Шефу на кладбище делать нечего. Да и он ли был тогда? А другие, так они на Шефа не выведут. Уж если он ворам в законе не доверял, то остальным и тем более. Кто они для него?
— Погоди, Руслан! Я ведь ничего не утверждаю. Но это моя оперативная
работа. Я сам доподлинно выясню. Если будет толк — доложу…
* * *
Стояла ночь. Темная, бархатно-непроглядная. Здесь, вдали от города, была такая тишина, что собственное дыхание казалось слишком громким. Все спало. Деревья над могилами стояли не шевелясь. И были похожи на черные облака, прилипшие к крестам, памятникам и могилам.
Лейтенант осторожно и медленно шел по погосту. Кругом ни звука, ни голоса. Сергей подошел к сторожке. Прислушался. Но и оттуда — ни звука. И свет в окнах не горит. Так — уже который день.
Прождав около двух часов, Сергей решил, что можно уходить. Опять не повезло… Но только сделал шаг, как дверь распахнулась, и сторож кладбища, оглядевшись, юркнул в темноту. «Куда это его понесло в такое время? Да столь проворно?» — обрадовался лейтенант. И, прислушиваясь к шагам, скользнул следом за сторожем. А тот нырял под кусты, перешагивал могилы. Вот он остановился. Огляделся, прислушался. И, шмыгнув за ограду кладбища, пошел к дому, стоявшему неподалеку. Ключом открыл дверь. Вошел. Сергей замер у дерева. Ждал. Вот в окнах дома зажегся свет. Чьи-то тени скользили по занавескам. Но людей через них нельзя было разглядеть. Кто они? Чей этот дом?
Лейтенант, крадучись, приближался все ближе к окну. И вдруг замер, пригнулся к земле. Старался не дышать. Чьи-то ноги, еле слышно ступая, остановились на секунду совсем рядом с Арамисовым. Человек чутко вслушивался. А потом, успокоившись, пошел к дому.
Сергей глядел ему вслед. А тот, промелькнув тенью, скрылся в доме. Едва он вошел, свет в окнах погас. Лейтенант, стараясь не шуметь, осторожно влез на дерево, росшее под окном. Но и здесь ничего не было слышно. Зато появилась луна. Лейтенант хотел уже слезть с дерева, чтобы не быть обнаруженным, но внезапно раздвинулись занавески. В темном проеме показалось лицо сторожа. Он открыл окно. Выбросил окурки из пепельницы. И тут же ушел вглубь комнаты. Сергей замер, притаившись за стволом. Теперь его могут заметить, стоит только шевельнуться. Говорили трое:
— Дубину, наверно, загребли, — узнал лейтенант голос сторожа.
— Кто ж мог пронюхать? Старики живы. Из дома не вылезают. И к ним никто не приходит. Это точно, — ответил сочный тенор.
— Наверное, решил какое-то дело в одиночку провернуть. Куш сорвет, а потом дня через три объявится, — проговорил третий.
— Чую, беда с ним стряслась, — откашлялся сторож.
— Ладно, не каркай. Коль зашился — ничего не поделаешь, — Сергею показался знакомым этот сиплый голос. Ну конечно! Его обладатель тогда, на кладбище, приказал Дубине идти к родителям Дамочки. И Дубина называл его Шефом…
— Жаль его, — возразил тенор.
— Жалеть с умом надо. Ты, Муха, многого не знаешь
о Дубине. Он, падла, сорвал барыш в меховом, а на общак — ни копейки.
Влас потребовал, так Дубина обещал ему башку в задницу вбить. Проучить за это стоило.
— То уж не одному тебе решать, — опять возразил Шефу Муха.
— А кому? Вам, что ли? Уже доверил. Двое в лягашке сидят. Дамочка жмур теперь. И Дубина неизвестно где.
— Может, наведаться к отцу Дамочки? — подал голос сторож.
— Нельзя. Если все обошлось, старики свое получили. Молчать будут. Если замели там Дубину, тем более опасно сейчас соваться. Засыпаться можно. В два счета, — понизил голос Шеф.
— Как узнать? — не унимался сторож.
— Если через неделю не вернется, и так понятно… Потом со стариков спросим. И за Дубину, и за деньги… И хватит пока об этом. Я вас для другого позвал. Ювелирный завтра ночью брать будем. Секёте, падлы? Передайте Власу и остальным. Сорвем куш и смоемся на время. Так надо… Шило, захлопни окно. Сейчас везде уши, — прикрикнул Шеф, оборвав фразу.
В оконном пролете мелькнула фигура сторожа. Шило зло захлопнул раму.
Задернул занавески.
Сергей легко спрыгнул с дерева.
Что предпринять? В пистолете полная обойма. Можно попытаться… Но где гарантия того, что Шеф опять не ускользнет? Ведь воров по меньшей мере трое. А вдруг есть запасной вход?.. Лейтенант бесшумно обошел дом. Так и есть! Вон вторая дверь. Нет, одному не справиться, если ворваться в дом. Значит, придется брать Шефа, когда тот выйдет. Но остальные! Ведь здесь не вся «малина». Где их потом искать? Нет, нужно уходить. Чтобы потом всех сразу…
Сергей Арамисов, накинув на себя старенькую шинель сторожа ювелирного магазина, сидел в будке, где тот обычно коротал ночи. Делал вид, что дремлет. Время от времени нащупывал пистолет. Минуты тянулись нескончаемым ожиданием. Скоро полночь. Придут или нет? Будет ли с ними Шеф? Все готово к встрече. В магазине засада. «Только бы не упустить его», — думал лейтенант. И шарил по карманам. Как хочется закурить. Но Машуков все папиросы вытащил из карманов. Велел потерпеть. И объяснил, что Шеф сам не курит. Знает, возможно, что сторож этого магазина тоже из некурящих. А потому огонек папиросы или даже ее дым могут насторожить, отпугнуть. И тогда — не жди успеха.
Тихо, медленно подступила ночь. В окнах домов погас свет. Все спят. Спят, не зная тревог.
Лейтенант вмиг насторожился. Нет, не показалось. У Шефа — нюх, у Сергея — слух. Всяк своим силен. На охоте, бывало, собаки не услышат, а он ни разу не оконфузился.
Вот снова шаги. Двое идут. Старый один. Ноги от земли оторвать не может. Шаркает, волочет их. Ноги слабые. Вон звук от его шагов неровный. Но сам старик — в теле. Шаги тяжелые.
Второй — моложе. Идет легко. Хотя и крадучись. Видно, рост большой. Сделает старик три шага, второй — одним нагоняет. «Ну и долго же идут», — подумал Сергей. Но вот шаги замерли рядом со сторожкой. Арамисов положил голову на стол. Вроде спит. Ружье в углу поблескивает. Враз его не достать. Встать нужно. Это любому понятно. Зато пистолет в руке. Но о том лишь лейтенант знал…
Ш аги увереннее поспешили к магазину. Сергей хотел встать. Но вдруг услышал:
— Дверь подопри. Чтоб сторож сам выбраться не смог.
— Зачем? Проснется, шум поднимет.
— Ружье возьми у него.
— Не стоит, — шаги свернули за магазин. «Неужели все прошли? Не может быть. Где-то совсем
рядом оставили стремача. Значит, из будки пока выходить нельзя. Иначе можно все испортить. Пусть влезут. Пусть захлопнется ловушка, а уж тогда… Но эти, видимо, уже в магазине. Времени прошло достаточно», — Сергей поднял голову от стола. И вдруг в окне будки увидел чье-то лицо, прильнувшее на миг. Сергей от неожиданности опешил. Но через минуту выскочил из сторожки. Поздно… Словно и не было никого. Будто все привиделось. Ни человека, ни шагов. Ни малейшего звука вокруг. Вдруг где- то совсем неподалеку раздался вороний крик. Он повторился трижды. И тогда Сергей услышал шум в магазине.
А там и вправду было жарко. Воры подошли к магазину с двух сторон. Пролезли в подсобное помещение. Вытащив из стены два туфовых блока. Воров оказалось пятеро. Они поспешили к витринам, к ящикам. А тут — вороний крик. Сигнал стремача. Кинулись в подсобку. Тут двое сержантов навстречу. Воры бросились на них. Но сзади подоспели трое оперативников. Воры поняли: без ножей не обойтись. Надо было успеть уйти. Уйти любой ценой. Но… Ребята из угрозыска оказались совсем не слабаками. Вон один врезал Мухе. Да как! Тот все мозги растряс. Забыл, где спасительная стена. Глаза кровавой пеленой закрыло. А этот Власу в сплетение успел дать. Тот скорчился. Рот до ушей разинул, а ни вдохнуть, ни выдохнуть не может. Один сержант совсем коротышка, а от его удара в пах Шило, выронив нож, рухнул, как подкошенный. Не только убегать, встать не мог. Еще двоих воров было сложнее одолеть. Эти не подпускали к себе никого. Одного оперативника так полоснули ножом, что сразу вывели из борьбы. Но вот оперативники решили перехитрить: бросились на воров со всех сторон. И тут один из них успел разбить лампочку в подсобке. Стало темно. Второй — выскочил через дыру в стене. Но…
Арамисов нагнал его. Схватил. И… тут же, ничего не сообразив, ткнулся лицом во внезапно вздыбившуюся землю. Почему она вдруг стала вертикальной? Ах нет, это он, Сергей, лежит, не в силах шевельнуться. В ушах звенело. Перед глазами поплыл черно-кровавый туман. Сквозь него он услышал чьи-то торопливые шаги. Кто-то шел к нему или его собственная жизнь убегала поспешно? Но с чего бы? Сергей вцепился руками в землю. Словно хотел остановить этот бег. Но нет, в руках не осталось сил. Они немели. Не слушались. Лейтенант пытался крикнуть, но голоса не стало. Звон в ушах понемногу стихал. И Арамисов, будто в пропасть, провалился в темноту.
Сергея нашли не сразу. Прежде, чем помочь поднять лейтенанта, подоспевший в машине Руслан заметил нож, торчавший в спине… Оглянулся. Вон оттуда
его метнули в лейтенанта. Там особо темно…
* * *
Четверо воров смотрели друг на друга, ничего не понимая. Кто сообщил милиции? Кто мог узнать? Почему они тут, в черном воронке? А Шефа и Гниды нет.
Машина ехала, пофыркивая, по ночным улицам. Вот и последний поворот. Сейчас милиция… И все. Дальше будет длинный путь. Многим уже знакомый. Вернутся ли они оттуда? Мертвеют в тоске глаза Власа. Сколько ему теперь? Ого! Из дальней дороги он не вернется. Изменила фортуна. Да и была ль она? Думал в последний раз сходить на дело и завязать. Ан вон как завязало! По самую маковку. Ох, вольная жизнь, была она иль причудилась? Влас вспоминал. Вот он — деревенский мальчишка, вихрастый, конопатый, несется по лугу. Такому широкому и бархатному, что даже пяткам щекотно. А вот он зимой. В ледянке с горки мчится. Кругом смех, крики ряженых. Рождество. И вдруг тишина наступила. Болезнь. Она стала косить людей в каждом доме. Отнимая мужиков-кормильцев, матерей, детей, стариков. Не пощадила и семью Власа. В один день умерли отец и дед. Едва их похоронили, мать преставилась. Потом сестра, брат. От страха, от голода подался мальчишка в город.
Шел улицей, продрогшей, дождливой. Есть захотел. Просить стыдно. Украсть боялся. Терпел. Три дня. Потом в глазах темнеть стало. Упал. Никто не поднял. А дождь лил на лицо и голову. Заливал уши и глаза. Так мать перед смертью все плакала. А Влас не умел реветь. И тогда тоже. Он встал, сцепил зубы. Пошел, шатаясь, по улице. А тут старушка навстречу. С сумкой. Сушки, батоны из нее топорщатся. Влас вмиг сообразил. Сумку вырвал и ходу. Старушка от неожиданности крикнуть не успела. Влас нырнул в подворотню. И едва стал потрошить сумку, как чья-то рука тяжело на плечо надавила. Эта же рука и привела парнишку к кентам. С того и пошло. Завертелось. Сначала научился на стреме стоять. Потом форточником, помогал домушникам. Забравшись через форточку в квартиру, открывал ворам дверь. Возмужав, сам воровал. Сидел. Снова воровал. То как сыр в масле катался, то голодной собаке завидовал. Мерз и потел. А после знакомства с Шефом и переезда в эту южную республику вообще ни одной ночи не спал спокойно. Начались дела покрупнее, чем квартирные кражи, а с ними и больший страх одолевал: когда арестуют? Вдруг сегодня. Стареть стал — хотел отколоться. Да Шеф остановил. Память от этого разговора и теперь шрамом на горле живет. Шеф на свободе. А Власу — крышка. Жизнь уже на закате. И ни одного нормального дня в ней не было. Жил иль не жил? К чему все? А тут еще милиционера кто-то… Мокрое дело, конечно, на Власа повесят. Сами кенты. Он же старше всех. Все равно подыхать скоро. Какая разница, часом раньше иль позже? Лишь бы не самим отвечать. У них еще есть шанс обратного пути с дальней дороги. А у него — нет. И Влас оглядел кентов. Вон — Муха. Этот даже кличку дал ему, Власу. Власово было село, где родился. Вымерли жители, не стало села. А Влас выжил. Название села кличкой стало. Почетной. Везучим был в деле. Только в деле… Влас вздохнул. Была одна… Женой не стала. Догадалась. Но не заложила. Любила, видно. Но он все равно попух. Вернулся — ее уже не застал. Уехала или вышла замуж, а, может, умерла? Он не разыскивал. Скоро забыл. А теперь вот и его забудут. Тоже скоро. Кенты — не друзья. Да и что это такое, друзья? Этого Влас не знает. Кенты заменили всех и вся. Но и с ними, наверное, тоже в последний раз вместе. Может, правда, доведется на очных ставках у следователя встретиться, потом на суде посадят их рядом. На одной скамейке. Только разными будут их дороги, сроки, режимы. «А, может, вышка?» — вздрогнул Влас. И тело вмиг обмякло, покрылось потом. Он вцепился в скамейку. Машина, объезжая ухабы, бежала своей дорогой.
Муха сидел, сцепив зубы так, что скулы ломило от боли. Кто заложил «малину»? Да разве теперь узнаешь. Поздно. Эх-х, говорил Шефу, что подождать надо. Пусть бы утихло с Блохой и Крохой. А уж потом взяться снова. Но Шеф не стал слушать, отмахнулся, как от мухи. И сказал, ехидно усмехнувшись: «Очко играет? Не крути вирзохой, скажи-ка лучше, отколоться вздумал? Так ты знай заведомо, от меня только жмуром уйти можно. Сам по себе — ни-ни…»
Муха смолчал. Помнилось кое-что. После первого срока, на который загремел из «малины» Шефа, хотел он сколотить свою «малину». Но… Не привелось. Шеф припутал на магазине. Тот на его территории был. Куш забрал. Кентов отметелил. А Муху на сход приволок. Там ему за измену дали так, что с год загибался. Кусок в рот не лез. Руки, ноги — словно чужие были. Чуть не сдох. Пришлось покориться. Вернулся к Шефу. Полуживым. За то и кличку получил — Муха. Прежние кенты над ним смеялись. И, подпоив его, указывали пацанам: вот, мол, что бывает за дурь.
Долго приходил в себя Муха. Менялись кенты. Иные сыпались, приходили новые. Постоянным оставался только Шеф. Он умел уходить вовремя. Забывая о кентах. Он никогда не выручал их. И все же после сроков к нему возвращались воры. Шеф, встречая каждого, снабжал деньгами. Поил. А потом и на дело посылал. Отказаться не смели. Некоторые и не желали. Были, правда, и отколовшиеся. Им уже не только Шеф — вся «малина» мстила, как только могла.
Ох, эта «малина»; жизнь в ней временами слаще меда, в другие дни — холоднее лютой стужи. Горше полыни. И каждый кент от медвежатника до шестерки всегда и всюду, даже во сне чует приставленный к горлу нож своего же кента. Отточенное лезвие всегда наготове. Ярче молнии, быстрее крика, острее самой смерти — лезвие возмездия. Оно не знает промахов, не прощает измен.
Муха помрачнел. И надо же было ему! Работал на складе. Тихо, спокойно. И откуда эта недостача? Небольшая, а все ж. Предложил один помощь. Принял. Выкрутился. А помощник и потребовал. Нету?! Ты что? Пригрозил. И когда Муха сник, предложил дело. Потом и завяз. Прочно. Насовсем. Да так, что никто уже не смог бы выручить. Попался. Потом вышел через годы. И… снова.
«Что дальше? Что? Шеф всегда его опасался, помня попытку оказать конкуренцию. Может, потому и позвал только его, Муху, на встречу с Шило. Чтобы обговорить именно это дело. Не для того ли, чтобы в случае неудачи его же обвинить перед остальными в стукачестве? Ведь Шило проверенный. От Шефа не уходил… Вот теперь он и станет ответчиком за провал. И за милиционера. Кого же еще подсунуть? Он — самый удобный. Он и будет отвечать. Сразу брать на себя вину иль погодить? Но возьми — будет вышка.
Откажись — свои пришьют. Заложить Шефа лягавым? «Малина» из-под земли достанет. «Куда ни кинь, всюду клин», — вздохнул Муха.
Шило свое обдумывал. Жил он спокойно, хоронил покойников, беды не зная. Оклад, конечно, невелик, зато приработок имел неучтенный. Люди всегда любят держаться кучно. Не только при жизни. Умер кто, стараются хоронить рядом с давно почившим родственником. Чтобы могила к могиле плечом к плечу были. Так надежней и удобней. Прийти вспомнить — сразу нескольких можно. Заодно о всех поплакать. Каждого добрым словом помянуть. А места не всегда хватало. И тогда шли люди за помощью к сторожу. Тот для приличия соглашался не сразу. Ведь подселить новичка бывало и вправду трудно. Но пожелания родственников, их просьбы, подарки какое сердце не размягчат? Вот и теснил прежних, старых покойников, кого уже много лет никто не навещал. Зато прослыл человеком с чутким сердцем. Случалось, просили за могилкой присматривать: ограду подновить, цветы посадить, следить, чтоб не обвалилась. Подмести кое-когда. Соглашался. Тоже не за спасибо.
Кладбище лишь для посторонних печальное место. Для сторожа погоста — это целый город. Со своими улицами. Любимчиками и забытыми. Оплаченными давно и недавно. Щедро иль скупо. Одни могилы чуть ли не вылизывал каждый день. Ведь за уход получил, да и родственники частенько навещают. Мимо других проходил, не оглянувшись. Заросли? Ну и что? Забыты всеми. А что поделаешь?
Кто-кто, а сторож знал: мертвым безразлично, как относятся к ним живые. Даровые и оплаченные одинаково лежат в гробах. Забыв о добре и зле. Друзья и враги в одной земле лежат спокойно. Их не тронут слезы живых. Это в прошлом. Но и его нет. Где-то судачат, вспоминают их живыми. Смешно. Ведь ни возразить, ни подтвердить не могут мертвые. Гроб на гроб не раз ставили. В одну могилу. При жизни ссорились. Смерть всех примирила. А сторожу что? Свое в карман положил и идет довольный. Враги в одной могиле? Но ведь родственникам это место понравилось. Не знали? А и зачем им об этом говорить? У мертвых нет забот. Зато у живых их всегда хватает. Так и у сторожа. Когда же это было? Пожалуй, лет пять назад постучали к нему среди ночи.
— Открой, свои! — послышался голос снаружи. Он открыл. В сторожку вошли двое. Сели на скамье по-хозяйски. И, оглядев его, сторожа, попристальнее, словно оценивали, переглянулись меж собой. Потом заговорил старший:
— По делу мы к тебе, слышь?
— А почему в такое время? — удивился тогда сторож.
— Тебя не спросили. Когда удобно пришли, — осек вопрос второй.
— Ты, мужик, как видно, сообразительный. Ушлый. Нам подходишь. Но только знай: о том, что увидишь, язык за зубы навсегда спрячь, — насупился первый и продолжил: — Умер сегодня один из наших. Похоронить надо. Сторож потянулся было к тетради, где регистрировал покойных. Но второй гость вырвал тетрадь из рук:
— Без этого надо. И без эпитафий. Понял?
— Почему?
— Будешь много знать, скоро сдохнешь. Усек? — хохотнул первый.
— Так ведь положено…
— Для других. Для нашего — иначе. Тихо чтоб. Без следов. В накладе не останешься, — пообещал второй. И вытащил пачку денег. Положил ее перед сторожем. Тот растерялся, не зная, как быть. — Кого сегодня хоронили, вот к нему давай и нашего положим. Никто знать не будет. А и ты забудь. За час управимся, — успокаивал тот, заговоривший первым.
— Ну, давайте, несите вашего, — согласился тогда сторож, и поздние гости вышли. Вернулись вскоре.
— Показывай куда. Да лопаты прихвати. И себе. Чтоб живей, — торопил тот, что помоложе.
Послушался молча. Взял, вышел. И вдруг остановился. Сомнение подкралось. Почему умерший не в гробу, как положено быть покойному, а в одеяле?
— Ну, чего топчешься? Живей! — прикрикнул старик.
— Где гроб? Почему вот так?
— Места меньше займет. Да и некогда. Тебе-то какое дело?
— С чего помер? — спросил сторож.
— Сердце у него остановилось.
— А-а, инфаркт, значит, сейчас многие от него помирают, — поддакнул сторож невольно, и ноги предательски задрожали. Вышедшая из-за туч луна осветила всех, и сторож приметил свежую кровь на одеяле. Она сочилась сквозь него на траву, оставляла на земле темные пятна…
Вскоре все было готово. Могила стояла так, словно ее никто и не тревожил, не трогал в эту ночь.
— У него родные имеются?
— Мы его родители. Больше никого, — отрезал старик.
— Как его величали?
— Тебе нет до того никакого дела. Понял иль нет? Могли б и без тебя все сделать. Покуда спал ты. Да знаем, всяк кормиться должен. Вот и…
— Ладно. Я ничего не знаю. И знать не хочу, — ответил им сторож. Гости ушли.
Шли дни, недели. Он стал забывать о них. Но они наведались снова. Теперь без разговоров обошлось. Все повторилось. В третий раз они появились с Шефом. Поговорили коротко. И в тот день в доме у Шило, получившего эту кличку за проворство, с каким рыл могилы, был сход воров. Постепенно из разговоров он понял, что за люди приходят к нему. Место каждого в «малине». Понял и то, что сам он стал кентом. Воры платили хорошо, и это как-то успокаивало. Но иногда он дрожал от страха. Знал, что отступить не сможет.
Однажды его взяли на дело. Получилось. Пошел еще раз. Тоже сошло. Прочно завелись деньги у сторожа. Но вида не подавал. И посетители кладбища видели его все в том же залатанном пиджаке и в брюках, стоявших коробом. Зато в доме, в цементированном подвале, имелось все. Высчитали воры сторожа. Жил он много лет один. Жена умерла. А единственная дочь жила так далеко, что за все годы ни разу к отцу не приехала. Изредка приходили от нее письма. В них — заботы, короткие вопросы о жизни и здоровье отца, да и то больше из вежливости. Зачем ему деньги? Он всегда их любил. Они уверенности придавали. Они кормили и грели. Они скрашивали одиночество. Конечно, можно было и новой семьей обзавестись. Но на нее потребуются расходы. А сторож не любил тратить. Он предпочитал копить. Для чего? Так ведь не имевший денег, легко получив их, глупеет. Теряет голову и разум. И бережет. Не хочет с ними расставаться. Раньше не было — теперь есть. И он наслаждался их видом, шелестом, приятной тяжестью. Он гладил их во сне, нащупывая под подушкой, улыбался, видя их нетронутыми. Он здоровался с ними по утрам. Деньги стали для него фетишем. Конечно, стоило бы помочь дочери. Ведь писала, что больна. Но он все оттягивал. Авось, обойдется. Вот наберется сумма покрупнее и тогда… Сумма росла, а с нею таяло желание выслать дочери. Вольна? Но когда они бывают здоровы, эти женщины? Сколько в них ни вложи
— все без проку. Одна хворь отвяжется, вторая скрутит. И так все время. Вот и его жена всю жизнь маялась. То спину, то сердце врачам носила. Они лечили. На время помогало. А потом снова. Так и умерла без времени. Видно, и дочь в нее удалась. Только сторожу болеть некогда было. Особо теперь. Кенты ему все больше доверяли…
И все же не стоило ходить на это дело. Но как откажешься? Ведь одной веревкой со всеми и с каждым связан был. Разве отговоришься? Да и Шеф не любил тех, кто норов имел.
Один… Никого нет, чтоб вступился, хоть слово за- I молвил за него. Но ведь убит милиционер. Кем? Конечно,
на меня все свалят. Скажут, мол, он кладбищенский, к тому привычный. Убить и закопать — что воды напиться. Только он и занимался этим в
«малине». Остальные лишь грабили. А у него в иную могилу глянь, по нескольку покойников лежат. Все его рук дело. И тут тоже так хотел. Только концы не успел спрятать. И на могилы могут указать. Где подкидыши лежат. Так и не вписанные в журнал. Их вон сколько набралось… Вот и будет: сами за грабеж пойдут, а его, Шило, под мокрое дело подставят. Самый удобный в этом случае, конечно, он — кладбищенский сторож. Дальняя дорога… Самому не приходилось, но от других знал, чем она пахнет. Знал и боялся ее. Но не миновать. Обидно другое. Сколько копил, а все теперь прахом пойдет. И даже дочери ни копейки не достанется из того. Самому уж не понадобится, ни к чему. Годы немалые. А ей не успел, не собрался. И пропадут. Были деньги и нет их. Он не услышит их шелеста, не поднимет их тяжелыми пачками. Прошелестит над ним земля, грохнет тяжелыми комьями по голове, животу, рукам и ногам. Ведь могут дать вышку. Ему не избежать ее. Похоронят где-нибудь в углу кладбища под бок к кенту, зарытому тишком, а деньги Шефу достанутся. Ох, и посмеется же он над глупым Шило! Над его жадностью.
Это она его погубила. Она все отняла, она наказала. Не оставила выхода и загонит его в могилу без следов и записей. Он знал: кенты не имеют жалости ни к кому. И теперь всякому важно сберечь свою шкуру…
Алим тоже сжался в комок. Как хочется ему стать невидимым, совсем. Вот влип! Да как! Не отвертишься. Теперь все. Кенты, конечно, не скажут никогда, что Алим недавно из пацанов. Хотел он жить как воры в законе, значит, и отвечать за все придется наравне. Кому какое дело, что даже кличка у вора еще совсем несерьезная — Свисток. Это оттого, что Алим стремачем долго был. И случалось, заметив опасность, свистел так, как только он умел. У серьезных воров и клички солидные. Как у) его родственника, например — Дядя. Вот был вор! Другим не чета. Но тоже попался. Отбывает срок на севере. Скоро вернуться должен. Алим хотел его при встрече порадовать, что вором в законе стал. Повзрослел. Даже «малина» это признала. Но не довелось. Видно, долго не придется свидеться.
Алим втянул голову в плечи. Сжал руками скамейку. Что делать? Что? Ведь попался. Вместе со всеми. И страх сковывал Алима от пяток до головы. Поневоле вспоминались рассказы кентов. Они уже всякое видывали. И, смеясь, говорили, что молодым отсидки полезны для закалки. Вернутся, мол, оттуда настоящими ворами. В возрасте, с опытом. Осторожными станут. Иные возвращались в «малину», другие — нет. Исчезали бесследно. После сроков навсегда откалывались от воров, запутав все следы. Тогда воры искали новых. Но осторожно. Чтобы не попал случайный. Больше присматривались к тем, кто отбывал сроки. Пусть не по воровской статье, а все же тертый мужик. Такие быстро приноравливались. Были жадными. Злыми. Вот и эти на меня свалят все. Тоже для закалки. Мол, у него родственник такой же. Известный Дядя. «Вот и этот в него. Ножом милиционера он отделал. Кто ж иной? С тобой взяли, верно. Потому что и своего пырнуть мог. За родственника. Мол, тот сел, а мы на свободе. Молодой, а вострый. Уже финач в ход пускает. Хотя говорили мы ему, что воры лишь на удачу, а не на ножи должны рассчитывать. Повезло— взял. Поймали — лапы кверху», — думал Свисток. Ему совсем не по себе стало: засвербило в глазах, вспотели спина и руки.
Алим посмотрел на кентов. Они мрачны, как ночь за окнами машины. Скоро милиция. Машина бежала по переулку. Последнему. В домах еще не зажглись огни. Все спят. Ни для кого еще не наступило утро. Оно придет в город с рассветом — для всех. Но не для этих четверых. Им его долго ждать. Да и
дождутся ли?..
* * *
Дядя смотрел в окно на пробегающие реки, горы, станции.
Сибирь… Здесь уже снег выпал. Белый, пушистый, холодный, как ранняя
седина, как внезапное горе. Целые горы горя. Оно морозит живую душу, а голову так выбелит, что снегу позавидовать. Не бывает беды без седин. Вон и у него голова, будто снежный сугроб. Значит, сердце совсем от беды почернело. Да и как его было уберечь? Дядя смотрел на землю, сплошь засыпанную снегом. На ней ни одной тропинки, ни одного живого просвета. Как и в его жизни — ни одного светлого дня.
Прошлое — оно как немой попутчик. Всегда рядом, под боком. Его не прогонишь. Потому и зовется памятью, что где-то внутри человека живет. Второй его сутью. От нее не отделаешься. Злая попутчица. Едва остался наедине с самим собой, тут же память объявляется. Садится напротив. Смотрит в глаза. И давай нутро человеческое ворошить. Всю жизнь, как рубаху, наизнанку вывернет. Мол, погляди, какой ты есть на самом деле. От нее не отвернешься, не отвяжешься…
Аслан один сидел в купе. Попутчиков нет. Лишь проводница, пожилая женщина, вошла неслышной тенью, поставила перед Дядей стакан горячего чая и ушла так же незаметно.
Белая-белая гора придвинулась к самому полотну железной дороги. Она такая же большая, плечистая и гордая, как горы на родине Аслана. Там он родился, жил. На Кавказе. В горном ауле. Дорога туда шла горными перевалами. Такими крутыми, что дух захватывало. На перевалах тех лишь орлы были единственными хозяевами. Глянешь вниз с вершины — и жутко станет. Темно там, словно в пасти драконьей. Холодно и одиноко. Не приведись сорваться туда. И сердце сжимается в комок у любого. Зато наверху — иначе. Облака плывут далеко внизу. Розовым, желтым, голубым туманом горы укрывая. Небо над головой такое синее, глубокое, что глазам не оторваться. И солнце кажется ближе, улыбчивей, теплей. Но и оно не в силах согреть седые горы с вечными снегами на висках и макушках. Каждое слово в горах подхватывает эхо, несет в ущелья, распадки. И каждый камень и речушка, трещина и выступ повторяют голос человеческий. А докатится эхо до спусков, до подножий гор, в черных ущельях всхлипнет, простонет слово человеческое и умрет внизу.
Горы… Оттуда он, Аслан, ушел на войну. Три года разлуки. Из них каждый день помнится. Случалось, пули свистели над головой сильнее горных ветров. Не давая встать, прижимали к земле. Пехота… Не всегда успевали вырыть окоп. И тогда… Алее горных маков стыла на снегу кровь. Его друзей, однополчан. Да и сам не раз выживал лишь чудом. И тогда, под Варшавой, тоже. Мина разорвалась рядом. Он потерял сознание. А когда пришел в себя, долго не мог вспомнить, что произошло. Вроде жив. Но ноги… Все в осколках. И Аслана эвакуировали. Вернулся домой хромым. Вначале вида не подавал. Все ж сыновья подросли. Да и жена насмотреться не могла. Терпел, Днем кое-как. А ночью от боли не находил себе места. Сначала подушку колотил. Впивался руками в железную спинку кровати. Но боль не отпускала. Она мутила разум, прокалывала раскаленными спицами все тело. Она жгла и морозила. Она лишала сна. И тогда вставал Аслан с постели. Шел во двор. Курил махру без счета. А когда совсем невмоготу становилось, сидел, скорчившись, на пороге дома. Крестьянствовать не мог. Продал дом в селе. Переехал с семьей в город. Но и там ноги наливались свинцовой тяжестью после пары часов работы. Строительная бригада, взявшая Аслана, хотя и была вся из стариков и фронтовиков, но вскоре начала ворчать. А боль ставила на колени, ложила в пласт. С каждым днем острее и ощутимей. Утихала лишь после рюмки. Боль понемногу тупела. И тогда Аслан мог перевести дух. Вначале понемногу выпивал. Потом все больше пристрастился. И бригада не захотела работать с ним. Прогнали. Устроился грузчиком. Но и оттуда вскоре ушел. Жена поначалу сочувствовала, терпела. Потом стыдить стала. А дальше и совсем плохо… Помнит смутно, как короткое пробуждение: жена с двумя сыновьями сидит на узлах. Родственники. Все мрачные, злые. Упрекают его. Он отвернулся. Заснул. Когда проснулся — ни жены, ни детей в доме не было. Лишь племянник, круглый сирота. Алим никуда не ушел, не поддался на уговоры. Так и остался с Асланом.
Они молча посмотрели друг на друга. Аслан тогда глаза опустил. Вернуть своих? Но где они? У кого? Да и не поверят. А и что им обещать? Ведь бросить пить, значит, мучиться от боли. Сдыхать постоянно, ежеминутно. Без просвета и отдыха. Нет, это выше его сил. А согласиться на ампутацию, которую ему предложили, не мог.
И решил залить свое горе. Не глянул на часы. Пошел в магазин. Заодно и Алиму надо купить чего-нибудь поесть. Жены нет, готовить некому. Но магазин уже закрылся. Чертыхнулся Аслан. Со злости так шарахнул кулаком по двери, что она чуть из петель не выскочила. Хотел домой повернуть. А тут кто-то за плечо:
— Выпить хочешь?
— Хочу!
— Пошли.
И пошел. Куда? А какая разница? С кем? Тоже неважно. Позвал, значит, понял. И пил он в эту ночь, не зная меры. Пил так, что вокруг удивленно языками цокали. Новые друзья не скупились. Подливали постоянно. За всю ночь стакан не оставался порожним ни на минуту. Они ни о чем не спрашивали, ничем не интересовались. И о себе помалкивали. У них он и проспал весь следующий день, забыв об Алиме. На вторую ночь все повторилось. Но сквозь пьяный шум начал понимать, куда попал и к кому. Догадался обо всем, зная, что новые друзья плату за угощение не потребуют. И пил вволю. Сколько дней? Да кто же их считал? Пил, пока давали. А потом плохо помнит, куда шли, зачем. Все в темноте было. Вернулись. На столе — гора денег. И ему часть отодвинули. Его куш. Теперь он угощал всех. Все пропил. Снова на дело. И опять на столе деньги пачками топорщились. Вспомнил об Алиме. Еды набрал столько, что еле донес. Обул, одел мальчишку. И, приказав помалкивать, к кентам вернулся. Снова на дело пошел. Вместе со всеми. Теперь каждого и по кличке, и в лицо знал. Опять удача. А когда делить стали, тут-то и объявился Шеф. Загреб себе больше половины. Хотел уйти. Аслан и остановил его.
— А ну, положь, что взял! В деле не был! А барыш гребешь?
Шеф достал финач. Кенты насторожились. Новичок не знал законов «малины». В прежние дележи пьяным был. А теперь вот несуразица. Но вступаться за главаря считалось унизительным. Ведь он вор из воров. Значит, сам за себя постоять сумеет. Поддержать новичка и тем более никому не пришло в голову. Сам затеял, сам пусть и защищается.
Аслан в ярости не приметил финку. Да и Шеф не успел ею воспользоваться. Кулак, сорвавшись сам по себе, влип в подбородок. Снизу. Клацнув зубами, выронив финку, Шеф отлетел под ноги к кентам. В глазах зарябило. Но он тут же вскочил. Лица плыли в черном тумане. Шеф рванулся к Аслану, но кулак прошел мимо. Новичок успел влепить в солнечное сплетение. Поверженный Шеф задыхался. Синюшное лицо подергивала судорога. Аслан, вытряхнув из него все деньги, положил их на стол, разделил поровну меж теми, кто был в деле.
Победа над главарем считалась по воровским правилам последним решением. Победивший тут же становился главой «малины». А прежний мог оставаться, но
уже обычным вором. Но мог и уйти, чтоб сколотить новую «малину». Но побежденный, так считали кенты, потерял удачу навсегда и во всем. Поэтому из прежней «малины» к бывшему ее хозяину никто не уходил.
Да и кто побежит от добра? Аслан сказал всем, что барыши он будет делить поровну. Никто не будет обойден и обижен. В деле все рискуют одинаково, а поэтому и получать будут соответственно.
— Добрый дядя, — хмыкнул тогда от двери Шеф, не зная, что дал Аслану кличку среди воров. Шеф ушел, а Дядя выполнял все свои обещания, сдержал каждое слово. И «малина» дорожила им. Дядя никого не давал в обиду. От вора в законе до пацана — защищал каждого. Вместе со всеми ходил на дело,
не прячась ни за чью спину. Сначала давал уйти кентам, сам уходил последним.
Пытались воры других «малин» посягнуть на воровской авторитет Дяди, пытались обворовывать магазины территории его «малины». И тогда Аслан расправлялся с чужими. Сам вправлял им мозги. Да так, что потом те всем заказывали связываться с Дядей. Вскоре к нему потянулись воры из других «малин».
Аслан стал самым известным в округе вором. Но милиция о нем не знала. Может, потому, что ни одного убийства не было на совести «малины» после того, как из нее ушел Шеф. Да и кенты берегли Дядю больше своих голов. Ни на одном допросе никто не проговорился о нем. Знали, на каждого из засыпавшихся Дядя откладывает из общего барыша долю, чтобы вор, отбыв свой срок, год-два ни в чем не нуждался.
Нет, воровская удача не кружила голову Дяде. Ведь как и прежде, ему так хотелось зажить по-былому. В своем доме, с женой и детьми. Но они не вернутся к нему. Это он знал. А «малина» — совсем не дурной сон. Из нее возврата к прошлому нет… Вон и Алим давно все понял. С ворами стал дружить. Эх, дурак! Зачем? Ведь ему, Аслану, скоро подыхать. Ноги-то совсем гнилушками стали. Долго ли с ними протянешь? Если обойдется, через год-два уезжать надо отсюда подальше. Отколоться, чтоб никто не нашел. А племянник — дурень, сам голову в петлю сует. Зачем? — уговаривал его Аслан, отговаривал, даже бил — не помогало. Вскоре, как ни препятствовал, Алим прочно укрепился в «малине».
Дядя не сразу заметил, что тот уже стоит на шухере. И даже кличку воровскую имеет — Свисток.
Пытался Аслан закрывать его в доме. Но Алим вылезал в окно. А однажды, ох и черным был тот сон… Вскочил Аслан весь в поту. Нет парня. Где он? Бегом к кентам. Никого нет. На дело пошли. Сами. Без Дяди. Догадался. Его не взяли, потому что пьяным был. Шло время. Вот и утро. Никто не возвращался. На душе холодно стало. Пришел домой. Алим на койке осиновым листом дрожит. Лицо белее стенки. От страха слова выговорить не может. Кое-как понял Аслан, что кенты засыпались. Всех взяли. Алиму только и удалось сбежать. Не приняли его всерьез милиционеры за малый возраст. Не поверили, что такой с ворами был. И он сбежал. А воров судили. Вскоре посыпалась «малина» Шефа. Новая. Почти всех кентов взяла милиция. И настали тяжелые времена.
Вот тогда-то в один из этих дней и заявился Шеф к Дяде. Предложил забыть прошлые недоразумения. Мол, они жить мешают. Давай объединимся. Будем вместе промышлять. Нам выжить надо. Продержаться, пока кенты вернутся. А там каждый снова станет хозяином в своей «малине».
Дядя раздумывал, а Шеф торопил. Он говорил, что в Ростове приглядел одно место, все обдумал. Можно тряхнуть. Куш должен быть хороший. Аслан согласился. Поехали в Ростов. Там их уже поджидал Дамочка. Замочили примирение и будущий успех. Дядя ничего не заметил. Выпил свою обычную дозу, чтоб в деле ноги не подвели. И пошел.
В магазине все нормально обошлось. Каждый взял столько, сколько унести мог. А Дядя вдруг осел у выхода из магазина. И… Словно провалился. Очнулся уже в милиции. Долго не мог понять, как он здесь оказался, что с ним случилось. Потом был суд. Над Асланом. И повезли его в зарешеченном вагоне. Долго, далеко. Потом — морем. На пароходе. До самого Сахалина. Здесь он лишь через три года узнал от кентов, что в тот день Шеф ему в водку снотворного кинул. А потом единственным ответчиком за кражу милиции оставил. С уликами. Спящего. За прежний позор перед «малиной» отплатил. А ворам объяснил просто: мол, Аслан по пьянке проговорился, что хочет в милицию с повинной пойти, коль без кентов остался. Дескать, не дадут ему большого срока, учитывая фронтовые заслуги и нездоровье. Вот и пришлось Дядю обезвредить, чтобы других не засыпал и прежде всего его, Шефа.
Сахалин… Здесь все заключенные, как и Аслан, корчевали тайгу, валили лес, строили дома. В зоне всякие мужики были. И работяги, и воры в
законе, и сявки. Каждый себе на уме. Подальше от начальства держались. Дядю они встретили настороженно. Вор так вор. Но почему один попался? Конечно, всякое бывает. И все ж, если была «малина», почему посылок нет? И они сидят? Ну, это уж слишком…
Как вору в законе, Аслану работать не полагалось. И в первые дни, соблюдая этот блатной закон, Дядя лежал на нарах, как и другие фартовые. Лежать, конечно, можно было бы и дольше, если б ноги не донимали. В новом сыром климате они и вовсе с ума сводили. И тогда кто-то позвал врача. Он осмотрел ноги Дяди, ощупал и сказал, что придется лечиться довольно серьезно. Так он попал в больницу.
Старый врач, осторожно нащупывая осколки, застрявшие в мышцах ног, в кости, качал головой и отвлекал внимание Аслана всякими разговорами:
— На фронте был? На передовой? — удивился врач, знавший, за что отбывает срок Дядя. И, подняв очки на лоб, спросил: — Выходит, ноги на войне повредил?
— Где ж еще? — ответил тот.
— Где? Тебе ль спрашивать? Я вон тоже от Курска до Эльбы дошел. С артиллеристами. Ранения были. Какие и теперь ни у кого сомнений не вызывают. Ни прошлого, ни сегодняшнего не стыжусь, — надрезал врач нарыв.
— Ладно! Праведник! Не агитируй. Такие же вот как ты, сознательные, из бригады меня вышибли. И не спросили, между прочим, чем я, фронтовик, детей и жену кормить буду! — вскипел Аслан.
Врач надавил на нарыв под самый корень. Он брызнул кровью и в сгустке этой боли вышел осколок. Немалый. Острый.
Дядя побелел. Стараясь сдержаться, прокусил губу. С ненавистью на врача глянул. Обругать хотел. А тот к самым глазам его осколок поднес.
— Смотри. Видишь? Вот твоя боль. Это я смогу убрать. Постепенно. Если потерпишь. А вот остальное — за тобой. Это труднее. Тут из сердца выдавливать, вырывать с мясом придется. Иначе много раз пожалею, что помогал тебе на ноги заново встать.
Аслан перевел дыхание. Разжал руки.
— Слушай, кент, режь, дави, делай что хочешь, только верни мне мои ноги. Коль сумеешь — век не забуду. Гнилые, они меня подвели. Выручай, артиллерия! Пехота не подведет, — чуть не прокусил Дядя язык от боли. А врач давил второй нарыв. Без анестезии, от которой Аслан наотрез отказался. Врач и не стал настаивать, зло его разобрало. Ведь за таких Асланов он своей головой не раз рисковал. Оперировал под бомбежками и обстрелами. Веря, что каждый в этой жизни нужнее, чем он, обычный хирург. Может, и этот… Может, и его. Может, за него погиб кто? А он… Привыкшие работать в экстремальных условиях руки хирурга уверенно извлекали осколки. Где не могли выдавить, тащили магнитом. Через кровь и нечеловеческое терпенье. Дядя обливался потом, бледнел, но ни разу не закричал. Лишь стонал сдавленно.
— Крепись, ночная пехота, — говорил врач. И, нащупав очередной осколок, подбирался к нему.
До вечера восемь вытащил. Были крупные и мелкие. Острые, тяжелые, они отнимали жизнь по капле. Вытягивая ее поминутно. А вот теперь, такие безобидные с виду, лежали они на столе хирурга. А тот мыл перчатки.
— На сегодня хватит с тебя, — сказал Аслану. Тот кивнул согласно. Ногу будто огнем жгло. Дядя хотел встать. Но врач прикрикнул:
— Куда? Лежать!
Вскоре, обработав раны йодом, смазал ногу пахучей мазью. Забинтовал. Говорил уже спокойнее:
— Еще в этой ноге осколки есть. Завтра продолжим. А на сегодня — отдых. Потом и другую ногу почищу. Может, сумеем обойтись без ампутации. Аслан соглашался, улыбаясь.
— Сегодня ночью спокойней немного будет. Старайся получше отдохнуть. Завтра трудный день предстоит, — сказал врач, уходя.
В ту ночь Дядя спал так, как давно не доводилось. А утром, едва открыл глаза, хирург уже натягивал перчатки.
— Готова пехота? — спросил он, смеясь.
— Готова, — усмехнулся Аслан. И, заметив на столе врача пинцеты, скальпель, щипцы и ножницы, невольно содрогнулся.
— Ложись, — приказал врач. И уже через минуту повторилось вчерашнее. Аслан то сжимался пружиной, то, используя короткие передышки, делал вдох. Перед глазами крутился потолок, чернели стены. То пожаром вспыхивало пламя. А хирург показывал все новые осколки. Сколько их? Еще пять вытащил. Все? Нет. «Так сколько же еще? Тащи скорее! Нет больше терпенья!..» — сохли губы, потел лоб, белело лицо.
Сколько еще? О! Это только одна нога? Боже! Возможно ли перенести такое на второй? И едва не потерял сознание.
— Спокойно! Крепись, Аслан! Я эти осколки с корнями твоей глупости выдерну! Не только на здоровых ногах, но и с другими мозгами отсюда выйдешь, — ухватил щипцами едва видный конец осколка врач и дернул резко.
— Дай передохнуть, — взмолился тогда Дядя.
— Давай, лежи. Недолго отдохни и продолжим.
— Пить дай, пить, — попросил Аслан. Врач подал полную кружку: — Эх-х, сейчас бы водки. Хоть сто грамм. Куда легче терпеть было бы.
— Вон чего захотел! Обойдешься. Не будь ты вором, сам бы предложил. А теперь — нет. Всухую хорош будешь!
— Я ж не у тебя брал! Не тебя грабил! Слышь? Не тебе и судить! Думаешь, с добра на то пошел? Ох-х-х, — застонал Дядя. Врач тащил очередной осколок.
К концу дня выбился из сил хирург. Не стало терпенья и у Аслана. Едва остался один, тут же уснул. Боли уже не ощущал. Она стала такою же привычной, как кожа.
Пять дней жил и не жил Дядя. Все эти дни хирург уходил от него смертельно усталый…
— Доктор! Скворцов! — окликнул хирурга начальник лагеря. Врач оглянулся: — Можно вас на минуту?
Хирург подошел.
— Ну, как там больной?
— Вы о ком? — не понял врач.
— Аслан? Как он там?
— Завтра последний день, — ответил Скворцов устало.
— Как? Все? Выписывается? — удивился начальник лагеря.
— Нет. Последние осколки завтра вытащу. Ну и нашпигован ими мужик, скажу я вам. Удивляюсь, как он ходил, как дожил? Ведь гангрена могла начаться! Ну и повезло бандюге!
— Бандюге, говорите? А все же поставьте-ка его на
ноги покрепче. На здоровые. И тогда посмотрим! Задумал я кое-что! Аслан нам очень нужен будет.
— Я и так все возможное делаю. Но почему у вас к нему такой интерес?
— Я объясню. Дело в том, что в зоне, как вам известно, воры все еще пользуются среди заключенных некоторым влиянием. И злоупотребляют им. Уклоняются от работы. Отбирают хлеб и посылки у слабых. С этим повсеместно решено покончить раз и навсегда. Мы же не сторожа при них! На нас лежит обязанность их перевоспитывать. Убеждением и принуждением! А главное — трудом. Но… людей маловато у меня. Пока страна все разрушенное войной не восстановит, на штатных воспитателей рассчитывать не приходится. Вот и решили мы расколоть эту сплоченность фартовых. И заставить стать их на путь исправления с помощью самих же заключенных. Наиболее сознательных. На кого можно опереться прежде всего? На бывших фронтовиков. Я так думаю. Конечно, их в среде преступных элементов раз- два и обчелся. У нас, например, один только — Аслан. Но сильная личность! Как и каждый фронтовик, пожалуй. Этот свою жизнь еще способен на правильные рельсы поставить. И мести кентов не испугается. Да они же против фронтовика — хлюпики, растленные типы. У него хоть военное прошлое не запятнано. А эти всю сознательную жизнь паразитировали. Вот и
рассчитываю я на то, что антагонизм меж ними рано или поздно скажется. А чтобы подтолкнуть Аслана к переосмыслению его места в жизни, нужно ему в чем-то и доверять. В меру, конечно. Под контролем. Попробую назначить бригадиром именно его, законника. Рассчитываю, что он эти самые законы «малин» сломает. Сам. И его будут слушать. Ведь он пока их человек. И в то же время, я думаю, вылечившись, иным станет. Может быть, ему только и не хватало для этого с чувством обреченности и безнадежности расстаться… Так что постарайтесь, доктор. Аслан нам здоровым нужен. Всем. И говорите мне, как его дела идут у вас. Договорились?
— Не очень я в него верю, — покачал головой Скворцов.
— И я не рассчитываю на мгновенное перерождение. Даже больше скажу — не верю в такое. Но постепенно… Ведь фронтовик же он в конце концов. А война людей больше всего на свете проверяет. Был же он там человеком!
— Ладно. Впрочем, и без вашей просьбы весь персонал душу в его выздоровление вкладывает. Вор вором, но сейчас он болен. А это для меня, медика, прежде всего.
— Вот и хорошо. Скажите мне, когда ему станет лучше. Наведаюсь. Поговорим, — предложил начальник.
— Хорошо, — согласился врач.
А на следующий день, удалив из ног последние осколки, Скворцов похвалил Дядю.
— Ну и крепок ты, Аслан! Не знаю, как сил и терпенья хватило. Но перенес все мужиком. Твердый ты! Иной и одного дня не выдержал бы. И как ты со своим характером в воры попал? Ума не приложу.
— Попал… Будь он проклят, тот день! Уж лучше б там, на войне… Хлопнули и крышка. Был и не стало. Так хоть… Эх-х… Мне б теперь заново… Ни одного осколка не оставил?
— Нет. Проверено. Ручаюсь.
— Эх-х, доктор, и где ты был тогда? Знай я, пешком, ползком к тебе пришел бы! Да, вишь, беда привела. Как зовут? Чтоб имя твое знать мне?
— Доктор Скворцов, — тихо ответил врач.
— До смерти тебя не забуду.
— Не слова твои мне нужны, Аслан. Ведь я как фронтовик к фронтовику к тебе относился. Потому и взялся… без ампутации. А ведь был риск: сердце могло не выдержать. Шок и все… Пощади мои руки. Не опозорь. Слышишь? Аслан молчал.
— Что, думаешь на здоровых ногах от милиции легче бегать будет?
— Погоди, доктор. Не торопи. Понял я, что имеешь в виду. Но не даю я обещаний, не обдумав, смогу ль выполнить их. Коли смогу, без слов сам поймешь, — умолк Дядя.
— А если нет? — упал голос Скворцова.
— Спросить тебе будет не с кого. Кенты пришьют. Это и будет мой промах. Последний.
— Вон как, — дрогнул голос хирурга. Больше он ни о чем не спрашивал. Вскоре Дядя встал на ноги. Себе не верил. Он ощупывал ноги, стучал по ним, подпрыгивал, приседал. Но нет. Не болели они. Он засмеялся: даже не кольнуло ни разу! Аслан радовался, как ребенок. Ведь ноги ожили! Его ноги!
За день перед выпиской хирург предупредил Дядю, что с ним хочет встретиться начальник лагеря. Именно здесь, в больнице.
— Зачем? — удивился Аслан.
— Нужно. Тебе в большей степени, — ответил врач. Дядя с тревогой ждал этого разговора. Что-то плохое
дома случилось? С женой? Или с сыновьями? Ведь только такое могло послужить поводом. Что же еще? И к вечеру волнение усилилось настолько, что Аслан слег с температурой.
Врач уже не раз пожалел о предупреждении. Но опережать начальника не хотел.
Воронцов пришел к Аслану, когда рабочий день уже был закончен. Поздоровался. Сел на стул. Спросил о самочувствии, и Дядя не выдержал:
— Что дома случилось?
— Не знаю. А что могло?
— Я по другому поводу к тебе. А дома — пусть все хорошо будет, — рассмеялся Воронцов, поняв, что беспокоило Дядю.
Тот облегченно вздохнул.
— Курить хочешь? Давай по одной, пока Скворцова нет. И поговорим заодно.
Дядя курил быстро, жадно. Торопился. Изредка смотрел на Воронцова. А тот начал неторопливо, издалека:
— Трудно нам в эту зиму придется. Не знаю, как и управимся. Работы много предстоит. Больницу начали строить новую еще три года назад, а дальше фундамента никак не продвинемся.
— Значит, с материалами торопиться надо.
— Не за ними задержка, Аслан, — покачал головою Воронцов. Помолчав, он продолжил: — Не торопятся мужики. Не хотят работать. А все потому, что среди них много воров в законе. Эти пальцем не шевелят. Работа для них — хуже срока.
— И не будут они строить, — вздохнул Дядя.
— Вот и столовую «заморозили» из-за этих…
— С ними бесполезно. Их ничем не соблазнишь. Ведь, начав работать, звание свое воровское потеряют. А им оно — как жизнь. Пойдет кто из них на работу, его тут же из закона выведут. Ну, а когда на свободу выйдет, жизни не станет. В «малину» таких не берут. Да и пристукнуть могут за то, что изменил воровским правилам.
— Послушай, Аслан, но ведь воры не дадут из своего барыша долю тому, кто не был в деле? Почему же они считают, что тут их даром должны кормить? — возмутился Воронцов.
— Вы не совсем правы… «Малин» не знаете. И законов воровских — тоже. Потому свое отношение и понятие с воровскими не путайте. Разные они. Нигде не совпадают.
— Объясни, пожалуйста.
— Все просто. В «малине» любого вора поддержат. Был он в деле иль нет
— неважно. Нужно — помогут, не спрашивая. На то, между прочим, общак у блатных есть. Он каждому нуждающемуся кенту служит. И не только из своей «малины», а и чужому вору. Сегодня в деле не был — завтра пойдет. Вор вора в беде не оставит. Я имею в виду материально. Другое не трогаю. Так что сами понимаете… Ведь когда кент выходит на свободу и возвращается к своим, его сразу на дело не посылают. А кормят, одевают, поят. Отдых дают, навроде отпуска. Ведь пострадал… Да и за отсидку позабыл кое-что. Потому его легонько снова приучают. Чтоб не загремел опять по нечаянности в казенный ваш дом. Нет! Гражданин начальник, законы «малин» хорошие, — улыбался Дядя. — И вор их не променяет на вашу похлебку. Предпочтет на сухом хлебе без работы сидеть, в штрафной изолятор попасть. Лишь бы остаться в законе.
— Но ведь вор потом отрабатывает, так сказать? — не потерял самообладания Воронцов.
— Конечно. Старается в меру сил.
— Ну вот видишь? Значит, ваши законы — это пряник и кнут?
— Не всем удается отработать. Случаются и убытки. Не все после отсидки могут воровать. А «малина» их не забывает все же. Кормит. Поддерживает, — продолжал Дядя, хитро прищурясь.
— Но здесь не «малина», черт побери! Почему ж они и тут умудряются жить за счет других? Отнимая у них все! И те молчат. Ни слова!
— Любая шестерка и сявка гордиться должны, что в трудную минуту помогли вору в законе. Хоть куском хлеба! Сам отдал иль отняли — неважно! Выйдет на свободу — добро зачтется. Мы ж их кормили в свое время. На
воле. Тут пусть они стараются. За себя и за нас! Вдвойне. Так что справедливо все!
— И не стыдно вам слабых обирать?
— Не стоит, начальник! Стыдить — пустое дело!
Я — вор. А у каждого о жизни свои представления, — отвернулся Аслан.
— Тебя ж не «малина» на ноги поставила! А мы! Понимаешь? А ты, как волк, опять в лес! — побагровел Воронцов.
— Не в «малине» мне ноги изувечило! А на войне! Вы и обязаны были! Из-за ног своих я к кентам попал. Они мною не побрезговали. И не попрекали. Ни ногами, ни чем другим!
— Верно, взяли они тебя! Как и других… Кто мозги растерял. Не помня где. Взяли! Вот отбудешь срок — стариком вернешься. Отвалит тебе общак на содержание. А кенты только и будут думать об одном: как от тебя, дармоеда, избавиться. Разве не так? Ведь они на дело ходят. А общак тебе помогает. Кому выгодно? Отделаются от тебя и все! Им ты будешь не нужен! Стар стал. Кто еще о тебе побеспокоится? Сыновья? Ты их не растил и не воспитывал! Как век свой доживать будешь?
— Это мое дело, — нахмурился Аслан.
— Твое, не спорю. Твою жизнь за тебя никто не проживет. Но об одном ты должен знать: время «малин» проходит. Осколки ваших шаек остались. Их вылавливают. К концу твоего срока ни одного кента не останется. А ты на них ставку держишь. На пустое место! Иль ослеп?
— Пока вы их выловите, мы вернемся, — усмехнулся Дядя.
— Какими? Старье! Да и то не сами по себе жить будете. На местах вас заставят работать!
— Пусть они сначала найдут меня, — огрызнулся Аслан.
— Сам придешь! И не раз. Ишь, рыцарь ночи! Заугольный вояка! Хоть бы постыдился называть себя фронтовиком!
— Я?! Стыдиться?! А чего? Я воевал на передовой! И, как некоторые, не прятался за колючие проволоки! В открытую шел. За это документы есть! Хотел работать. Как все. Да не смог. Выгнали. Им здоровые нужны, уцелевшие. А таких с войны не было! Разве только вот, как вы! — взъярился Аслан.
— Замолчи! — прикрикнул Воронцов. И, сделав пару затяжек, заговорил спокойнее: — Лишь на год меньше твоего я воевал. Мальчишкой пошел на фронт. Добровольцем. Годы себе прибавил в военкомате. Взяли. Сказы
зал, что документы при бомбежке пропали. Поверили мне. Повезло, что ростом вымахал. И сразу под Сталинград попал. В пекло. Потом — Орловско- Курская дуга. Семь ранений. Дважды чуть не сдох. Даже «похоронка» на меня домой приходила. Вернулся. После госпиталя. Полгода там отвалялся. Руки не действовали.
И зрение… Так что ж, по-твоему, я тоже должен был среди блатных свое место искать, запачкать в дерьме свое имя? Нет уж! И у меня бывали неудачи. И у меня не все гладко было. И я отчаивался. Сила была, а руки сдохли! Сила лишь в теле. А что с нее? Она только жрать просила! Но я нашел свое место. Выучился. Юристом стал. Легко было? Да я почтальоном работал!
И не стыдился. Работал и учился. И сторожем ночным. Тоже пришлось! И ничего! Никто не укорял. Живу на свои! Не ворую! Мы знали — война виновата во всем.
А солдат не только на фронте, и в мирной жизни обязан выжить! Все фронтовики давно при деле. Не только я.
— Видать, такой юрист, что кроме лагеря места не нашлось, — съязвил Дядя.
— Ошибаешься. Я сам попросился на эту работу. Сам! Когда сторожем в магазине был, напали однажды. Такие вот, как ты. Ножом задели. Но я уже успел шум поднять. Вот и не смогли меня совсем прикончить. Но три месяца отвалялся из-за кентов. Теперь вот многих блатных людьми сделал. Да как! У меня с вами свои счеты. Раскалываю я ваши «малины». Здесь. И воров заставляю иначе жить. Чтобы другими вернуть их людям. Понял? Нас много. А вас все меньше. А скоро и совсем не будет.
— Вон оно что? Значит, мстите по-своему? — спросил Аслан.
— Считай как хочешь. Но я людям нужен. Покуда вы есть — нет мне покоя.
— С другими, может, и проходит, а я, вы правы, слишком стар для переделок.
— Не пробовал, а говоришь. Не такой уж ты старик. Ноги-то вылечил! Бегать сможешь теперь.
— Да, хирург чудо сделал, — согласился Аслан.
— Тебе он помог. А мне помочь бессилен, — вздохнул Воронцов. Дядя виновато опустил голову.
— Послушай, хочу я тебя бригадиром назначить. Больницу отстроить надо. Закончить. Может, такому же Аслану она очень нужна будет. Эта уже мала. А ты по совести врачу поможешь. Он тебя, сам понимаешь, от лютой боли избавил. А мучается в этих условиях. Конечно, неволить не буду. Сам решай. Согласишься — набирай бригаду. Нет — дело твое.
— Подумать надо. Пока сам не знаю. Ведь вы тоже должны понимать, чем это для меня пахнет. Из закона выведут, да и финач в любое время жди, — помрачнел Аслан и отвернулся к окну. Помолчав, он продолжил: — С другой стороны, Скворцов ваш меня как родил заново. Ведь сдох бы я! Пусть через год иль чуть позже. Потому, по совести, обязан я ему и шкурой своей, и потрохами. Значит, что-то должен для него сделать. Это меж нами говоря. Но кенты…
— Все я понимаю. Потому и говорю — сам решай. Как тебе твое сердце подскажет.
— Не знаю, начальник, трудную задачу вы мне задали. Для вас-то, может, и не впервой воров от кентов откалывать. Но я ведь сам вор, да еще в законе. Как быть — надо подумать.
А утром Аслан молча вышел из больницы. Ничего не сказав врачу. Хирург по лицу увидел: не спал Дядя всю ночь. Думал. Решал. Как поступит — ничего не сказал.
Аслан пришел в барак перед началом работ в зоне. Блатные сразу подошли. О ногах не спросили. Протянули две пайки, отнятые у шестерок. Дядя взял молча. Сунул в карман. И, глянув на законников, развалившихся на нарах, спросил:
— Ну что? Бока еще плесенью не взялись? Воры оживились:
— Ничего, пусть хоть мхом обрастут. На воле мы живо встряхнемся!
— А че тя наши бока волнуют? Иль дело есть? Так говори враз!
— Может, приметил, где клистоправ спирт прячет?
— Нет, кенты, верно, Дядя лагерную казну решил тряхнуть. Только куда тут с ней денешься? За проволокой-то?
— Свой общак будет, — закряхтел из угла старый медвежатник.
— Хватит скалиться. Не в «малине». Тихо! Слушай, что я скажу!
— А ты что, бугор? — визгнул тощий майданщик сбоку.
— Заткнись! — осадил его Дядя.
— Не надо пугать, — насмешливо пропищал с параши налетчик.
— Послушайте, мужики, не надоело вам отнимать хлеб у засранцев? — указал Аслан на налетчика.
— Ему это на пользу. А нам что ж, по-твоему, сдыхать? — отозвался медвежатник.
— Да нет, кенты, он же вкалывать нам предложит, — грохнул вор в законе с верхних нар.
— Ты что? Скурвился? — надвинулся на Дядю бугор барака — вор в законе, громадный верзила по кличке Пульман.
— Мужики, он же в больнице свихнулся малость. Не слушайте его, — встрял медвежатник.
— Ты давай говори, чего хотел? — подошел вплотную Пульман.
— А ты не гонорись! Не с тобой, с мужиками толковать буду, — Дядя уже понял: драки не миновать.
Пульман замахнулся, но тот, опередив, пустил кровь ударом в переносицу. Воры притихли. Налетчик спешно влез на нары. Там безопаснее. Ведь дерутся законники. Да еще кто? Один — глава «малины», другой — бугор барака. «Что будет?» — думал сявка. «Ну, если верх Дяди — Пульману крышка, придется в другой барак уходить, либо остаться у Дяди в шестерках», — наблюдал за дракой медвежатник.
— Дай ему, Пульман, дай! Будет знать, на кого пасть разинул! Вот так! Выкинем его из барака! Иль в сявки поставим параши выносить! — визжал майданщик, уверенный в победе бугра. Тот потом оценит преданность майданщика после драки. Глядишь, не будет дня два пайки отбирать. Пульман махнул кулаком-кувалдой. Дядя выплюнул несколько зубов. Но продолжал крепко стоять на ногах. Вот он влепил Пульману в скулу. Тот пошатнулся. И тут же ответил. Но… Не в висок, в глаз попал. Аслан на секунду ослеп: фейерверком искры вспыхнули. Сжавшись пружиной, в бешенстве вперед метнулся: одним кулаком в дых, вторым — снизу в челюсть поддел так, что Пульман отлетел, ударился затылком об угол нар, упал на пол. А Дядя, забыв о правиле не бить лежачего, ногой по ребрам со всей силы въехал.
— Убью, стер-р-ва, — терял сознание Пульман.
Сердобольные шестерки, частенько битые ворами, хорошо знавшие, что такое боль, ухватили Пульмана за руки и ноги, понесли обливать водой. Приводить в себя.
— А ну! Оставьте! — крикнул на них Дядя. Шестерки молча опустили Пульмана, повинуясь новому хозяину барака — Живо всем встать и одеться! — приказал Аслан. Мужики вставали нехотя, лениво. Но пара оглушительных оплеух подействовала, как кнут: — Живо за мной, — погнал впереди себя воров Дядя. Подведя их к фундаменту больницы, сказал глухо: — Нынче и всегда так будет: кто не станет вкалывать — жрать не получит. Попробует отнять — кусок из глотки с потрохами вместе выбью. Кто сомневается — хоть сейчас докажу!
— Ты что, Дядя, хочешь, чтобы мы вместе с тобой из закона вылетели? — удивился старик-медвежатник.
— Молчи, мухомор! Я из-за вашего закона здесь вот оказался. Катитесь вы вместе с ним знаешь куда?!..
— Ладно, ладно. Не обо мне речь. Скоро сдыхать. Какая разница, в законе иль без него. Но о других подумай. Ведь мы в зоне не одни…
— Знаю! И что?
— Пришьют всех…
— Один вон меня пришил на ваших глазах. То же и с другими будет. С любым, кто сунется. Понятно?
— А на хрен, скажи ты нам, больница тебе понадобилась? — скривился вор в законе.
— Ты что ль, падла, с меня ответа требуешь? Я отвечу! — подскочил к нему Аслан.
Мужик трусливо отступил. Все неохотно взялись за топоры и пилы. Со злобой поглядывали на Дядю. А тот работал так, будто изголодался. Топор звенел в его руках. И мужики понемногу взялись за работу. Отесывали бревна. Подгоняли их вплотную друг к другу. Крепили прочно. На время забыв, кто они и где находятся.
Аслан искоса наблюдал за каждым из них. Не упускал из вида всех, кто проходил мимо его бригады. Видел их кривые усмешки, ухмылки. Слышал ехидные реплики. Но молчал. Мужики тоже не отвечали. Работали. Но вот и наступило время обеда. Дождавшись своей очереди, бригада Аслана вошла в столовую. Здесь все работяги собрались. Воры в законе дожидались хлеба в бараках и сюда не приходили.
— Послушай, Дядя, мы видели. Вы сегодня на работу вышли? — спросил Аслана пожилой бригадир работяг.
— Вышли. А что?
— Понимаешь, мы слышали, законники зоны тебя хотят… Того… Ну, понимаешь? Может, у нас спать будешь?
— Не надо.
— Так среди ночи…
— А какая им разница? Да и мне. Я их каждую минуту жду. Коль не повезет, где б ни ночевал — достанут, — ответил Дядя.
— Мужики у тебя ненадежные.
— Зря. Теперь вернее собак. Отвечать-то вместе придется. Так что…
— Да, но они все на тебя свалить могут, — хмурился бригадир.
— Посмотрим.
— Жаль мне тебя, Аслан. И все же, если что, пошли к нам кого-нибудь. Мы прибежим. Или сам уйди от этой своры.
— Не надо. Не надо так. Я сам, как они…
Бригада Дяди ела молча. Законники, впервые за несколько месяцев наевшись горячего, не шныряли голодными глазами по чужим пайкам. Всяк ел свое. Медвежатник и сявка сидели рядом. Как родня иль ровня. После обеда, Дядя следил, никто не повернул на отдых в барак. Может, боялись нарваться на воров из других бараков…
До вечера все работали. Никто не артачился, но и не радовался новому, необычному своему положению в лагере.
После ужина все вернулись в барак. Тихо, вполголоса переговаривались. Дядя лежал, закрыв глаза. Слушал. Но вот к нему подошел медвежатник.
— Эй, Дядя, спишь, что ли?
— Чего надо?
— Темно уж.
— Ну и что? — не понял Аслан.
— Двери бы поплотнее закрыть.
— Зачем?
— Не понимаешь? Беда будет.
— Вот и открой дверь. Настежь. Коль войти, запорами не удержишь. В щель пролезут.
— Не шути! Рисково это!
— Открой, тебе говорят, старый ишак!
— Тебя уберечь хотел, безмозглого, — обиделся старик.
Закроемся — поймут, что испугались мы. Откроем — они не полезут. Это, старик, давняя логика. Никогда еще не подводила.
Дверь открыли настежь. Как и велел Дядя. Дверной проем завесили одеялом. Разговоры в бараке стихли. Наступила гнетущая тишина. Медленно тянулось время.
Незаметно стали засыпать мужики. Сначала захрапел медвежатник, за ним налетчик, потом и другие. Дядя приоткрыл окно. Вслушивался в тишину. И вдруг услышал осторожные шаги за бараком. Потом и голоса:
— Кажется, спят.
— Тем лучше. Втихую разделаемся.
— Все этот Дядя, его первого, суку, надо пришить, — приближались шаги. Аслан тронул за плечо мужика, спавшего на соседних нарах. Шепотом попросил тихонько разбудить остальных.
Шаги за бараком утихли. Дядя знал: кенты рассчитывают на внезапность. Разбуженные мужики тихо лежали под одеялами, притворившись спящими. Каждый не сводил взгляд с дверного проема.
Дядя тихо пробрался на нары у самых дверей, потеснив налетчика. Тот дрожал от страха: что ни говори, трудный день сегодня выпал.
— Может, передумали? — размышлял Дядя.
И вдруг упало сорванное кем-то одеяло, загораживающее вход. Брызнула стеклом разбитая камнем тусклая лампочка. Стало темно. И вмиг в барак тенями проскользнули кенты. Захлопнув за собою дверь, метнулись к нарам:
— Эй, мужики! Дави «малину»! — закричал Дядя и первым кинулся на кентов. Кого-то кулаком по голове огрел. Тот под ноги угодил. Второго за шиворот приподнял, с размаху лицом об стену ударил. А со всех нар неслись крики, ругань. Трещали шконки. Кто-то уже пустил в ход доски. Они ломались на головах и спинах. Люди стонали на полу и в проходах. Другие сослепу лезли под нары, надеялись хоть как-то уйти от этого побоища. Но где найдешь спокойный угол, когда весь барак кипит.
— Всем остаться на местах! — прогремело отрезвляюще. И не успели воры глазом сморгнуть, как в бараке снова загорелся свет. Но яркий до рези. Аварийный. В дверях стояла вооруженная охрана.
— Что здесь произошло? — появился Воронцов. И, увидев в бараке кентов, сразу все понял. Хотя не всех узнал. Избитые до черноты, иные из них не могли
встать. Лежали, охая на полу, под нарами. Досталось, правда, и бригаде Дяди. Ему кто-то руку ножом задел. Тот еще не почувствовал. В злости боль не ощущается.
— Конвой! Посторонних в штрафной изолятор! Всех до единого! Бригадира барака — ко мне! — распорядился Воронцов.
— А наш бугор при чем? — визгнул сявка.
— Что ж, он не должен нас защитить?
— Дядя не виноват! — осмелела бригада.
— Не дадим бугра, — вцепился в Аслана медвежатник.
— Вы, гражданин начальник, всех нас выслушайте. А уж потом решите про Дядю.
— Пришить нас хотели кенты. Вот и сцепились самую малость, — подтягивал штаны старый домушник.
— Значит, они сами к вам заявились? — уточнил Воронцов, сделав вид, что не знает причины драки.
— Нешто мы звали? Сами знаете, из-за чего свалка, — продирал подбитый глаз шестерка.
— Охрана! Оставить двоих у барака! В случае повтора тревогу дайте! А вы, бригадир, с утра ко мне, — повернулся Воронцов к Дяде. Тот кивнул молча. Вскоре кентов увели. И в бараке стало тихо.
Утром Аслан проснулся рано. Поднял всех, поторопил на завтрак и, приведя на работу, сам пошел к начальнику лагеря. Воронцов уже ждал Дядю.
— Проходи, бригадир, садись. Как рука?
— Пустяки. Царапина, — махнул рукой Дядя.
— Как думаешь, могут повториться нападения?
— В барак уже вряд ли сунутся. А вот в зоне поодиночке наверняка попытаются…
— Хорошо бы твоей бригаде временно вне зоны поработать. Пока мы здесь полный порядок наведем. Самый жесткий. Мы заставим фартовых подчиняться подлинному закону…
— Это уже ваше дело. Я вот о чем хотел сказать: с лесом на больнице плоховато. Много гнилого, разносортного. Бревна из перестойного леса на стены пускать нельзя. Нужен хороший материал. Тогда и работа пойдет. А то на перебор много времени уходит.
— Что ты предлагаешь?
— Я сказал. А вы решайте, как быть.
— Хорошо, Аслан. Я подумаю, посоветуюсь. Вечером скажу. Договорились? Дядя пожал плечами:
— Мне все равно. Я предупредил, чтоб потом не упрекали. А как решите, это уж ваше дело. Мне о том забот нет.
А вечером Воронцов пришел в барак. Оглядел всех. И попросил сесть поближе.
— Я вот с чем к вам. Больницу нам надо постараться закончить к весне. В старой совсем невозможно ни лечить, ни лечиться. Но леса, как сегодня выяснилось, у вас всего на педелю работы осталось. Это только четверть необходимого. Но и заготавливать его для нас никто не будет. Самим придется…
— Что? А болеть я не собираюсь. Мне больница до фени. Чтоб я еще лес валил.
— В тайгу? К медведям? Спасибочки. С меня конвоя по горло хватает.
— Ищите дураков не в нашем бараке! Кенты не пришили, так сами в петлю головой сунуться должны? Вам надо — вот и топайте. Валите лес.
— Тихо! Что пасти открыли? Чего вопите? Да ведь это для нас лучше. За кентов, какие в шизо сидят, нам другие воры мстить будут. Попытаются отплатить за тех. Понятно? Все предугадать не сможем. Где-то и прошляпим. А покуда в лесу будем, все уляжется. Успокоится само по себе. К тому же никакому медведю вы не нужны. Они эдакое дерьмо, как ты, майданщик, в жизни не ели. Это как пить дать. Может, и я не лучше, чем ты. Только помяни мое слово, сейчас нам лесоповал на руку. Надо это время переждать.
— Хитер, бугор, а жрать мы что будем?
— Продукты вам отпустят. И повар с вами поедет, — ответил Воронцов.
— А жить где?
— Три землянки есть. Все поместитесь.
— Вон оно как быстро! Даже согласия нашего не спросили, — недовольствовал медвежатник…
А через три дня бригада приехала в тайгу в сопровождении конвоя. И, оглядев охотничьи землянки, наскоро пообедав, взялась за работу. Осень в сахалинской тайге особая. Как добрая улыбчивая старуха. В цветастом ее фартуке чего только нет! Тут тебе и розовый лимонник, и дикий виноград — кислый, зеленый, как злоба. И малина — душистая, сладкая. Кусты кишмиша с ягодами крупными, приторно сладкими. Голубика, черника, рябина, грибы — все это так и просилось в рот. И мужчины, поработав час-другой, не перекуривали, а, улучив минуту, хватали в рот пригоршнями бруснику, алевшую на пнях, набирали стланниковых шишек полные карманы. И щелкали орехи, такие вкусные, каких никто еще не пробовал. А ягоды, словно дразня людей, стелились под ногами. Тут тебе и клоповка, и клюква, костяника и шикша к себе манят. Вначале все это без меры ели. А к вечеру разболелись животы. Куда там работать, спокойной минуты никому не стало! Тошнота к самому горлу подкатила. И если бы не повар, трудно пришлось бы бригаде. Но он вылечил. Отпоил всех отваром черемухи. И теперь уже спокойнее смотрели на таежные ягоды мужчины. Работали с утра до позднего вечера.
Тайга… Белотелые березы в обнимку с хмурыми елями стоят. Как старость и молодость. Одни — смеются, звеня сережками, другие — мохнатыми лапами с шалым ветром воюют, укрывают от него беззащитную белизну. Горит тихим осенним пламенем рябина. Как баба, которая собралась на гулянье и лучший наряд свой надела: выставилась напоказ. Мол, смотрите, кто со мною сравниться может? И все молчат, затаив дыхание, рябиной любуются. А она, как нарочно, багряные кудри алыми гроздьями украсила. Крупными, блестящими. Ну, куда другим до нее? На что мужики в бригаде Дяди тертые да бывалые, а завидели рябину и будто онемели. От красы? Иль оттого, что умеет она каждому свое напомнить? Вон и Аслан погрустнел тогда. Жену вспомнил. Тоже, как и эта, одна живет. Хороша! А вдова соломенная… И краса ее — туман. Загляни в сердце — одна горечь да слезы. Вот и ягоды рябиновые — кисло-горькие, будто горе бабье… Лишь к утру оно просыхает на подушках.
Медвежатнику в рябине свое видится. Украшения жемчужные и бриллиантовые он такими же гроздьями воровал. Давным-давно. Радовался тогда. Ох и дорого они стоили! Теперь жизнью за них не рассчитаешься. Тоже старость к земле гнет. Но другая у него седина. Иною и кончина будет.
Звенят топоры в тайге. Им вторит умирающий стон спиленных деревьев. Тайга удивленно смотрела на людей. Ведь ничего плохого она им не сделала. За что же губят они ее? Зачем от зари до вечера настырными муравьями тянут они из нее бревно за бревном? Складывают в штабели. И снова идут в глухомань.
Вечером, когда над тайгой загорались первые звезды, возвращалась к землянкам бригада Аслана. Поначалу все молча ели и шли спать. Потом, втянувшись, стали у костра оставаться. Где ночь и тишина развязывали языки. И мужчины рассказывали всяк о себе. О прошлом. О заботах и тревогах. О семьях и детях. За что и как попали сюда. Конвойные? А чего их бояться? Они срок не прибавят. Они тут лишь для порядка. Ведь и вздумай кто сбежать отсюда, знают все — найдут тут же. Ведь остров! В тайгу убегать и силой не заставили б.
Да и кто решился бы в одиночку в нее сунуться? Вон налетчик на днях отошел совсем неподалеку по своим делам, а на ту минуту старой ольхе помирать вздумалось. Упала. Чуть насмерть не придавила мужика. Еле живой приволокся. С тех пор деревьев бояться стал. Кто знает, что тайге на ум взбредет?
Случалось и похуже. Майданщик как-то приметил диких пчел. Увидел, куда они слетаются. Ну и решил полакомиться. Уже взобрался на дерево. А пчелы тут как тут. Облепили мужика, жалят, где можно и нельзя. Спустили с дерева. Оно ему еще и штаны порвало. А пчелы — что кенты, никак от них не отвяжешься, не ублажишь. Жалят, что есть мочи, будто озверели. Пять дней потом валялся мужик в землянке с высоченной температурой. Ни глаз, ни носа — сплошной волдырь. Не своим голосом проклинал пчел и тайгу, судьбу свою покусанную.
Но больше всех не повезло медвежатнику. Того, в сумерках размечтавшегося, рысь приметила. Но просчиталась. И хотя с ног сбила, вцепиться в шею не смогла. Ох и зашипела она на медвежатника! Зелеными бесовскими глазами стреляла в мужика. Тот с перепугу ничего не понял. Всякое видывать доводилось, а вот с рысью впервой встретился. И, не зная ее звания, заорал ошалело:
— Я те, лярва! Иль не знаешь, кто я есть, лахудра проклятая? Чего на
фартового кидаешься, пакость?! Ужо погоди! — топал на рысь старик скрюченными ногами.
Не всех любила тайга в этой бригаде. Но Дядю однажды крепко уберегла. Уже с месяц работал он здесь с мужиками. Вроде привыкли друг к другу. Но однажды заметил Дядя, что двое законников чифирить вздумали. Засек он их. Вначале обоим поддал хорошенько. Они и запомнили, затаили зло. Мужиков против Дяди стали подзуживать.
И сговорили. Аслан не сразу понял, с чего это бригада недовольствовать стала. То работу раньше бросают, то едой недовольны. Кубатуру перемеряют. Вроде не доверяют ему, Аслану. А как-то… В тот день пришлось заготавливать лес далеко от землянок. У подножия сопки, где рос густой бамбук. Дядя решил, что трудновато будет через него с бревнами идти. С пустыми руками и то ноги скользят. Бамбук по лицу хлещет. Бьет по рукам. И только сунулся в него Дядя, чтобы присмотреть, где лучше тропинку прорубить, те двое законников тут как тут. С топорами. По бамбуку далеко не убежишь. А и отмахнуться трудно. Растет на болоте. Вот и Аслан по колено увяз. А законники своей минуты ждут. Деваться некуда. Болотина засасывала. Выбираться нужно. Именно туда, к ним, на сухое. Но первый шаг станет и последним. Топоры вниз обухами повернуты. Ясно, оглушить решили. А там… Что угодно на тайгу свалить можно. Мужики уже не выдадут. Заодно. Сговорились. Это в секунду понял Аслан. И, сделав ложный рывок, тут же назад отпрянул. Вор, вложивший в широкий замах весь свой тщедушный вес, промахнулся. Потеряв равновесие, упал в трясину. Дядя в момент выпрыгнул ко второму законнику. Тот взмахнул топором коротко. Но удар сапогом в пах опередил… Выронив топор, законник свалился. Аслан столкнул его к первому вору, тот все еще барахтался в болоте. Коричневая пелена ярости слепила Дядю. Уже не сам, а будто какой зверь, проснувшийся
в нем, швырнул его к законникам. Схватил обоих за головы и окунул в трясину…
Кто знает, может, и загубил бы Аслан тогда две души. Остановил рев медведя. Тот шел, раздвигая бамбук, прямо на людей. Дядя вмиг отпустил недавних врагов. Что делать? Руки сами в нагрудном кармане спички нащупали. Подожгли сухой лист бамбука. Огонь моментально охватил несколько стеблей. И тут же забушевал, пожирая сухой бамбук. Медведь, рявкнув, кинулся обратно. Пламя Дядя гасил уже вместе с законниками… Шли дни, недели, вот уже и второй месяц работы в тайге на исходе. Лес, заготовленный бригадой Дяди, едва успевали увозить в зону. Здесь мужики каждое бревно своими руками пилили. Выносили на плечах, содранных в кровь. Вязли в болоте, оступались на корягах, скользили и падали в бамбуке. Чертыхались. Вставали и снова несли. Порой в глазах темнело. Горело, ныло все тело. Но к вечеру, как бы то ни было, вырастал новый штабель. А покусанные комарьем, измазавшиеся в смоле и грязи мужчины шли к роднику. Отмывались ледяной звонкой водой. И, дрожа от усталости иль озноба, бежали к костру. К еде. К привычным разговорам. Иные, уже поверив в щедрость тайги, хватали после работы гроздь лимонника. Зажмурившись от оскомины, съедали ягоды. А через несколько минут усталости как не бывало. Это новое непривычное состояние бодрости все дольше задерживало их у костра.
Вот так однажды и возник разговор на запретную доселе тему о том, что каждый будет делать, когда на свободу выйдет. Медвежатник тут возьми и спроси у самого Дяди:
— А ты, бугор, что на свободе задумаешь?
Аслан вначале растерялся. Не знал, что и ответить. До конца срока времени достаточно. Зачем загодя голову ломать? Еще будет время подумать. И, разведя руками, ответил:
— Время покажет. Пока не думал.
— Время… Уже полгода оттянул. Ну, а если зачеты нам пойдут за работу, как ты говорил, то и теперь подумать не грех, — медвежатник с наслаждением затянулся дымом махры, паек которой впервые заработал сам…
— Верно, в «малину» пойдешь опять? — спросил вполголоса Дядю майданщик и оглянулся на дремавшего конвоира.
— Кто у вас голова? — поинтересовался налетчик.
— Падла редкая был. После него — я. Потом, когда кентов замели, вместе стали. Он меня и подвел, — вспомнил Аслан Шефа и рассказал о своем последнем деле.
— Паскуда! — побелел один из законников.
— Ты кентам вели его пришить, — посоветовал недавний чифирист.
— Зачем кентам? Когда вернешься, сам его жмуром сделай. И сматывайся, — проворчал старый медвежатник.
Отмолчался Аслан. От костра отвернулся. И… словно воочию увидел Шефа. Но нет, не он. Это горбатая береза. Совсем одинокая, забытая всеми, пугалом тайги доживала свой век неподалеку от землянок.
…Все холоднее и короче становились дни. Все ниже и ярче зажигались звезды. Приближалась зима. По утрам уже появлялись заморозки. Они седой паутиной опутывали тайгу. Скоро и снег выпадет. В один из таких дней приехала в тайгу машина. Забрала бригаду и увезла в зону. За осень было заготовлено столько леса, что его должно было хватить на всю зиму.
Как и обещал Воронцов, порядки в зоне круто изменились. Воров в законе распределили по бригадам работяг. Разобщенные, они уже не могли безнаказанно кормиться за счет шестерок и сявок и были вынуждены работать. И все же штрафной изолятор не пустовал: часть воров наотрез отказалась подчиниться нововведениям Воронцова и искала случай отомстить
Дяде за откол. Однажды его остановили у столовой. Оттеснили за угол. И там… К горлу уже был поставлен нож. Направлявшую его руку Аслан едва удерживал. А тут медвежатник вовремя появился. Ребром ладони едва шейные позвонки кенту не переломал. Подоспевшие из бригады Дяди мужики так остальных отделали, что те своими ногами уйти уже не смогли. Еле уволокли их по баракам сявки, по пути уговаривая не трогать Дядю, не задевать их бугра. Знала бригада: не вступись они сегодня за Аслана — завтра им самим не сдобровать…
Со временем дела веселее пошли. Росли стены больницы. Вот уже и окна появились. Хирург Скворцов иногда и сам приходил. Смотрел. Уходил довольный. А мужчины настырно работали на пятидесятиградусном морозе. Каждого свое грело. И всех одно — зачеты. Ведь впереди светило каждому — выйти раньше. Может, удастся и по половинке…
Срывал ветер сугробы. Валил с ног. Лишь в такие дни, ругая непогодь, сидела бригада в бараке, злясь на потерянное время.
К весне построили больницу. Потом и пекарню, новую столовую, баню. Время шло незаметно. И вот… Да. Не приснилось. На свободу выходил медвежатник. Работал все ж! Получил зачеты. Теперь на волю. А куда? К кому? Ведь ни женой, ни детьми не обзавелся загодя. А сейчас поздно. И сидит старик на нарах, сгорбившись. Ему бы радоваться, а он плачет, ухватив себя за седую бороду. Кругом свои, не осудят. Поймут или нет, это уже другое дело. Ему оттого не легче. Куда идти? Когда-то он посмеялся б над таким вопросом. Но тогда он был молод и силен. А теперь? Кому нужен? Эх, судьба проклятая, одаривала щедрыми деньгами на буйную радость. И ни копейки на покой не оставила. Ни полушки ума к старости. А та все ж пришла. Как когда-то придет и смерть. А, может, она уже совсем близко? Рядом? Уж не она ли его приютит?
И побрел старик на свободу, не видя земли под ногами. Что-то мужики говорили ему, провожая до ворот. Как-никак два года вместе, в одной зоне… Вот и ворота. Иди, старик! Теперь ты свободен, как птица! И вышел… Прошел, сутулясь, несколько шагов. Дрожащей рукой машет. На радость, как и на жизнь, не осталось сил.
— Проща-а-ай-те! — проскрипел он знакомо.
— Прощай, старик! Держись! До встречи! — кричал Аслан.
До встречи? Где? При жизни уже не доведется. И обхватил руками голову бывший медвежатник. Шел по дороге. Заплетаются ноги-сучки. Старым птенцом неуверенно по сторонам оглядывается. Что ищет? Прошлое? Его нет! Смерть? Она сама каждого находит.
Свистел в уши нахальный ветер. Все такой же, как и тогда, в дни его молодости. Только ветер не старится и не умирает. Вот и теперь задрал полы пальто, как с мальчишкой играет и поет в самые уши:
Дядя долго не решался писать домой, жене и детям. Все ждал, что они сами о нем вспомнят. Но нет. Ни одной весточки от них не пришло. Дядя ждал. Ждал под занудливыми дождями в продрогшем бараке. Ждал в лютые морозы нескончаемыми зимами. И когда в зону приходила почта, Аслан волновался. Может, и ему письмо есть? Но его не было. Зимою ветры, а с весны до осени жужжало в уши комарье:
Ждать… Ну, а кого? Ведь для жены он не просто вор, а конченый человек, так говорила ей родня. Может, им и удалось убедить ее? Может, вышла замуж и живет счастливо, давно забыв Аслана? А дети? Тоже? Не может быть! Не верится Дяде. Но сомнения… От них ни в каком бараке не спрятаться… Решился, написал домой. Ответа не получил. И, как ни странно, немного легче стало. Повод для обиды появился. Ведь в письме он хотел порадовать, написал, что ноги у него здоровы.
И больше не болят… Ан, выходит, даже такая его радость давно стала для них чужою.
Но обиды ненадолго хватило. Пытался забыться в работе. Это удавалось лишь ненадолго. А потом тоска по семье одолевала с новой силой. Нет писем. Значит, не нужен. Забыт…
Но однажды, уже на четвертом году, письмо пришло. От сына. Старшего. Он писал: «Мы думали, ты что-то понял. Ждали, что вернешься домой человеком. А ты?! Проявил заботу о нас: прислал кентов. Да как ты посмел?! Так знай, мы выставили твоих друзей. Пусть ищут себе помощников в другом месте. Я не пойду воровать! И ни твои советы через кентов, ни их угрозы расправиться с нами, не заставят меня жить по-твоему. Мы ждали отца. Но не вора. Жаль, что ошиблись в тебе. Можешь не возвращаться к нам. И так достаточно пережито. Умерла мать. Ее ты потерял. Нет у тебя и нас…» Аслан много курил в ту ночь. Не спалось. Значит, наведались. Конечно, Шеф. Кто же еще? Он! Его методы. Грозил расправой сыновьям! С него не хватило Аслана. Хотел и ребят втянуть в «малину». Да как! По совету отца! Ну и негодяй! Но почему Алим не остановил? Хотя кто он для Шефа? Да и ему, Аслану, ничего не пишет этот племянник. Опять же, может, уже попался? Может, сидит? А, возможно, пришил его Шеф? Мальчишка-то был с характером. Но нет… Ведь случай с ним, с Дядей, должен был образумить. Хотя… Завяз он в «малине». Оттуда ему уже не вырваться.
В эту ночь до самого рассвета писал Аслан письмо домой. Сыновьям. Впервые обращаясь как к взрослым. Все объяснил. И, не виня за резкое письмо, просил одного — простить за прошлое. Сказал, что порвано с ним навсегда. Просил не верить посланцам Шефа и по возможности писать ему. На следующий день письмо пошло. И Аслан отсчитывал время, стал ждать… В бригаде Дяди теперь многое изменилось. Мужики по вечерам уже не вспоминали о «малинах», о прошлых делах, кентах и барышах. Ведь деньги на счетах появились. Свои деньги. Заработанные. С каждым месяцем сумма росла. Зачеты шли. И теперь уже всяк всерьез прикидывал, что будет делать, выйдя на волю. Сначала робко начались разговоры об отколе от «малин». Первым о том заговорил бывший налетчик:
— А что, мужики, пожалуй, вернусь я к своим. В деревню. Первое время со стариками поживу. Огляжусь.
— Хм, а кенты нагрянут и хвать тебя за задницу! И скажут — либо валяй обратно в «малину», либо получай финач, — усмехнулся домушник.
— А они не знают, где мой дом. К тому ж я тоже не сучком сделанный. Мозги имею. Женюсь. А они силой не уведут.
— Что баба! Если характера нет, она не удержит. Тут самому решиться надо. Чтоб и под финачом не согласиться. Заметят, что струсил, хана будет. А если и под ножом идти откажешься к ним, еще могут оставить в покое. Перед их угрозой устоял, значит и в милиции не заложишь. А им теперь главное — спокойно жить. Чтоб не засыпаться ни на чем да чтобы свои не предали. Силой уведут — доверять опасно. Бояться станут. Подозревать. А наотрез отказался — все, могут наплевать. Но если ты их не будешь закладывать, — философствовал вор в законе с верхних нар.
— Значит, по-твоему, ему всю жизнь надо жить, поджав хвост, и никуда не высовываться? Ни хрена себе судьбина! Из дома не выйти. С одной стороны кенты, с другой лягавые. Под надзором и тех, и других? Ни жить, ни сдохнуть спокойно? Так? Да уж лучше сразу от всех отделаться! Одним махом, — рубанул Дядя.
— А как? — уставились на него воры.
— Вам советов не даю. Тут всяк по-своему. А коль самому придется, так скажу вам: если кто с кентов ко мне сунется, враз голову в зад вобью. Другие побоятся прийти с таким предложением иль угрозой.
— А пришьешь, отвечать будешь, — подал голос майданщик.
— Не буду. Скажу все, как на духу, что не хочу больше в каталажку попадать. И все тут! А он грозил. Вот я его и… А разве лучше было оставить целым и самому за прежнее?
— Так ведь мусора не поверят. Засадят.
— Не засадят. Я постараюсь не вытряхивать душу из кента.
— А если двое иль трое придут? Тогда как? — спросил домушник.
— Им же хуже. Буду отбиваться, как могу. Кого угроблю, пусть на себя пеняет. Кто живой, всем закажет. И жмура сам прятать будет, — захохотал Дядя.
— А я вот думаю, уеду-ка я подальше, где кентов нет. Куплю домишко, буду где-нибудь вкалывать потихоньку. На жизнь хватит и ладно. Только чтоб больше сюда не попадать, — говорил домушник.
— Да, мужики, что ни говори, а Север есть Север. Весело жил, зато теперь сторицей отгоревался. Каждый день этот климат свое делает. Ревматизм уже все кости пожрал. Легко ли? А кенты, падлы, ни одной посылки не выслали, будто сдох я давно. Вот и я решил — пойду после лагеря в лесники. В тайгу заберусь глухоманную. Как наш медвежатник. Пристроился и живет. Нынче все вы его письмо читали. Ничего. На жизнь не жалуется. Изба имеется. Харчи привозят. И кобылу ему выдали. Тоже, хоть и медленный, а все ж транспорт. Зарплата идет ему. Да и тайга кормиться помогает. Говорит же, что на два участка успевает. Вот я к нему под бок и пристроюсь, — невесело усмехнулся вор в законе.
— А все ж не побрезговали стариком! Взяли. Не посмотрели на прошлое, — покачал головой налетчик. — Вот уж не думал я, что такое возможно.
— Так он, мухомор, поди ты, назвался медвежатником, его и приняли за своего, таежного, всамделишного. Кто же с них поверил бы, что эдакая рухлядь могла такие дела творить? Ну и взяли! А он, поди-ка, как увидел медведя, так и полные штаны надул, — захохотал Дядя.
— Не-е-е, этот не надул. Он и не такое видывал. Верно, по фене объяснился с ним, и лохмач от старого на край света сам сбежал, обложившись. Привык-то к настоящим старикам, а наш — блатной. Таких ни в одной тайге зверье не видывало. Он же и медведя не иначе, как кентом назвал! — загоготал майданщик.
— Ну чего над старым рыгочешь? Он же пишет, что звери на участке полюбили его. Признали, — улыбался вор в законе.
— Зверь зверя сдалеку чует. А тут не просто зверь, не шестерка какая, а вор из воров. Самая крупная фигура в любой «малине»…
— Так звери — не кенты…
— Они тоже в породе разбираются, — пыталась шутить бригада.
— Хохочете! А придет время воли, поди, не хуже старого горькими зальетесь. Ведь вот у одного — родители имеются, у другого — дети иль баба. А свидеться с ними — придется ль всем? Одних примут и простят. Других на порог не пустят. Совестно. А иных и рады бы признать, да не дождутся, — стиснул Аслан виски.
— Зато пожили мы всласть, — отозвался майданщик.
— Разве ты жил, когда был с кентами? Вечно дрожал. И когда на дело шел! Боялся — накроют. И когда делил — свои за куш могли поронуть. И кутил — дрожал. А вдруг заподозрят? Спал и не спал — всегда подыхал. Пил и не хмелел. Ел и не наедался. Деньги? А кому они впрок пошли? Вся жизнь в поту и в страхе. Своих и лягавых боишься одинаково. Жизнь… Да она хуже смерти была, — сплюнул Дядя.
— Что верно, то верно. Я иной раз псиной своре завидовал. Там лишь сила. Есть она — все боятся. Слабак не полезет… В «малине» не угодишь кому, мозгляк пришить может. Пьяного, — согласился вор в законе.
— Как меня. Редкий гнус, а подловил, — вспомнил свое Дядя.
— Ты не один такой, — отвернулся домушник. Внезапно дверь барака распахнулась. И конвоир ввел Дубину.
— Принимай, Аслан, пополнение в свою бригаду. Начальник лагеря так распорядился. Говорит, что твой земляк.
Дядя молча кивнул головой. Без слов согласился. Конвоир ушел. И Дядя, указав Дубине свободное место на нарах, хотел уйти.
— Стой! Куда торопишься? Иль поговорить не о чем? — придержал Дубина.
— Успеется, — стряхнул его руку Аслан.
— Слышали мы, что ты тут кентов заложил. Не наших. Но все ж…
— А тебе что? — насторожился Дядя.
— Мне, как и всем. Ты что ж, падлой стал? Воров в законе вкалывать сблатовал?
— Иди-ка ты… — отмахнулся Аслан.
— Нет! Стой, лярва! Это верно? Иль темнуху нам лепили?
— Верно! — усмехнулся Дядя. Дубина потемнел с лица.
— А ты как загремел? — спросил Дядя.
— С тобою теперь пусть суки ботают!
— Вон как?! А не Шеф ли тебя ко мне прислал? — Аслан сжал кулаки.
— Он тебя сам пришьет, падла-а-а!
Сбитый с ног, Дубина полетел под нары. Дядя подскочил, рывком сорвал его с пола.
— Стой, паскуда! Стой, не падай! Умеешь грозить, умей и отвечать на ногах! — удары сыпались один за другим. Резкие, оглушающие: — Кто падла?!
— останавливался на секунду Аслан.
— Ты-ы, — еле раздирал рот Дубина. И снова сыпались на него удары.
— Твои-их выр-род-ков прибьют! — ревел он. Аслан, словно зверь, потеряв рассудок, кидал Дубину
по углам, швырял об нары; кулаками, ногами носил его по всему бараку, покуда мужики бригады еле вырвали из его рук полуживого новичка. Тот был без сознания. Дядю окатили ледяной водой, удерживали, но он все порывался к земляку, глаза налились такой яростью, что бригада решила промолчать, успокоить своего бугра. А уж там, когда отойдет, узнать, в чем дело. Такой встречи никто не мог предвидеть.
Аслан сидел угрюмо. Курил. Все тело его сводила нервная судорога. Но вот наступил спад.
— Знакомы, что ль? — робко спросил кто-то.
— Кент… Из моей «малины». Грозил, что сынов моих прирежут. Там… Эти… Его… Видно, весточку он должен дать. Шефу.
— Тому? Какой тебя?..
— Ну да.
— Ничего. Завтра мы его поспрошаем. А ты покуда успокойся, — говорили законники, ставшие работягами.
Прикрыв Дубину одеялом, мужики молча отошли от него. Что ни говори, испорчен вечер. И все ж, на всякий случай, обыскали новичка, не протащил ли он с собой фи нач. И нашли. Лезвие опасной бритвы. В подошве сапога. И, обозленные на новичка, перенесли на нары у самых дверей. В случае чего легко вышибить из барака. Да и каждое его движение на виду. Утром Дубина не пошел на завтрак. Лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок. Дядя не подошел к нему. А налетчику, какой позвал на работу, Дубина ответил сквозь зубы:
— Я — вор, а не падла. Пусть ваш бугор и за меня вкалывает.
В обед и вечером повторилось то же самое. И Аслан сказал всей бригаде, чтоб никто не посмел дать Дубине хоть кусок хлеба.
— Отнять попробует, бейте в лоб. Разрешаю это делать всякому. Даже шестерке. Кто сам не справится, зови на помощь. Но… Дубина лежал тихо, никого не трогая, не задевая. Лишь два раза встал, чтоб воды напиться. Но ни словом ни с кем не обмолвился. Наступил третий день…
С утра, как обычно, бригада стала собираться на работу. Никто не обращал внимания на Дубину. А он уже не лежал, сидел на нарах. Хмуро оглядывал всех. Убедившись, что его персона никого не интересует, заговорил сам:
— Послушайте, вы! Валяйся я тут, хоть сдохни, никто мне даже корки хлеба не дал!
— У нас всяк сам себя кормит, — ответил сявка.
— Сегодня ты, если не принесешь свою пайку мне…
— Во принесу! — сделал сявка красноречивый жест.
Бригада расхохоталась. Дубина соскочил с нар, кинулся к сявке, но Дядя опередил. Влепил кулаком в дых. Дубина отлетел в угол. Но тут же вскочил. Мужики со всех сторон к нему бросились. Смяли. И, отметелив, ушли на работу. Вечером, когда они вернулись в барак, Дубины не было. Не оказалось и его вещей.
— Слава богу, ушел, — вздохнул кто-то.
— А может, в больнице?
— Если б так, бугра давно б к начальнику вызвали.
— Значит, к кентам в другой барак ушел. Опять жди от них гостей. "Но вечером перед сном конвоир вернул Дубину в барак Дяди и сказал жестко, чтоб все слышали:
— Здесь место в бараке не вы выбираете. Еще раз увижу такое — пойдете в изолятор. Понятно?
Дубина окинул его мрачным взглядом. Ничего не ответил. Лег на нары. А ночью, когда все уснули, стал подкрадываться к Аслану. Тот не спал. Дубина кинулся на него внезапно. Пальцами, как клещами, в горло впился. Аслан вмиг ударил его коленями в живот. Руки Дубины ослабли. Дядя сбросил его на пол. От грохота мужики проснулись. Оттянули Аслана, успевшего ударить Дубину затылком об нары. Аслан вырвался. Но на руках опять повисли законники. Успели. Дядя лишь ногой в челюсть достал Дубине, сидевшему у нар. Тот опрокинулся на пол.
— Да хватит вам! Бугор, потребуй, чтоб в изолятор взяли его! Надоело!
— Мы с ним сами пробовали говорить — одни матюги в ответ. На месячишко пусть его заберут!
— Хоть спокойно поживем, — просила бригада.
— Нет! Я сам из него дурь выбью! — не соглашался Аслан.
Но утром кто-то из бригады сходил к начальнику, и Дубину забрали в изолятор. А через неделю подошел последний день пребывания в лагере одного из законников. Тот весь день ходил сам не свой. Еще бы! Завтра он станет свободным человеком! Но… В последнем письме жена написала, что к ним уже наведывались кенты. Тоже ждут возвращения. И просила, чтоб не приезжал он домой. Пусть уедет подальше. Устроится на работу. А потом и она к нему приедет. Начнут жизнь заново. Вечером этот мужик к Дяде подсел. Разговорились:
— Адрес твой они искать будут. Это точно. Найдут — заявятся. Не сыщут
— твое счастье.
— Вот и я думаю. А что если мне остаться здесь, на Сахалине? Въезд сюда разрешен лишь по пропускам. Или по вызову. Сам понимаешь…
— Ну, остаться по этим соображениям стоит, конечно. А работать где?
— И о том я подумывал. Видно, самое верное мне в лесники податься. Изба будет, работа тоже. Бабу вызову. Вдвоем оно легче на ноги встать.
— Значит, решился?
— Я? Что с того? Вот если ты, как бугор, замолвил бы словечко за меня начальнику лагеря. Тот бы — в свою очередь. Чтоб без сомненьев взяли, — просил бывший законник.
— Ладно. Давай начистоту. Ну, поговорю, положим. А ты опять?
— Чтоб мне век свободы не видать!.. Завязать хочу! А через пару часов на руках у бывшего законника
лежало направление на работу в лесничество. И мужик ликовал. Он заранее строил планы, как будет жить. Приглашал бригаду навестить его после освобождения. Обещал каждого накормить так, что. пузо трещать станет. И мужчины разговорились:
— Поди-ка, ульи заведешь в лесу? А? Медовуху будешь пить и грибами заедать?
— А че? И стану! — лоснился законник.
— Пузо отрастишь, что у медведя!
— А чем я хуже его?
— По фене ботать разучишься?
— Зато по-человечьи научусь…
— А что, мужики, вот раньше, слыхивал я воры
были! Не чета нам! Держаться умели чище, чем нынешние интельгенты. В декальтесах толк знали. Не гребли с тарелок руками. А все вилкой да ложкой. Мурлом в рвотину не кунались. Ну, ни дать ни взять — графьё чистопородное. И не только по фене, а и по-французски ботали. А уж коль деньгу сопрут, скорее ветерок легкий услышишь, чем прикосновение таких воров. И бабе любой умели они зубы заговаривать. Разомлеет какая краля, а вор тот ее гладит, обнимает. Она, дура, развесит уши, не враз поймет, что ни колье, ни броши, ни сережек, ни хрена на ней не осталось. А и шум поднять ей совестно. Зачем лапалась? Мужики смеялись.
— Да, это верно! Измельчали мы. Настоящие профессора своего дела раньше были. Миллионами ворочали. Нынче нет уж таких.
— Лапать некого стало!
— А! При чем тут это? Те. воры с любым умели общий язык найти — и с князем, и с мужиком. А все потому, что грамотными были.
— Э, мил, нынче грамотный иль нет, раз вор — всех за одну задницу и в кутузку. Чем больше воровал — больше и срок впаяют.
— Нет, нынче воровское ремесло неприбыльно. Год, два воруешь — червонец сидишь. А иному и того хуже. На первом же деле прокол. Он еще жизни блатной не отведал, а уж в лагерь! Нет. Лучше и, верно, забиться в глушь, чтоб снова на казенные харчи не попасть.
— Тебе, падла, никакие впрок не пойдут! — грохнуло вдруг за спиной. И оглянувшиеся враз мужики только теперь приметили Дубину, сидевшего на своих нарах.
— А почему это мне впрок не пойдут? — прищурился бывший домушник.
— Потому что ты, гнида ползучая, научился законников закладывать, — рявкнул Дубина.
— Из-за таких вот, как ты, многие здесь оказались. В каталажке. Вас не то что закладывать, своими бы руками порвал, — побелел бывший налетчик.
— Ишь, вострый какой! Жаль, что па воле свидеться не привелось. Сапоги бы мои лизал, — прищурился Дубина.
— Уймись, скот! Думай, как здесь жить будешь, — повернулся к нему Аслан.
— Я уцелею! Не боись! А вот ты…
— Что?!
— Погоди! Тебя с нетерпеньем ждут. Встречку подготовят, что надо, — хохотнул Дубина.
— Ты опять за свое? — вскочил Дядя.
— А чего ждал? Думал, меня изолятор падлой сделает? Я — не ты! Я всегда одинаков.
— Ничего! Здесь либо дурь с тебя вышибу, либо совсем идиотом сделаю. Не только «малине», сам себе не будешь нужен!
— Грозилка! Гляди, шею не сломай! — рассмеялся Дубина и отвернулся ко всем спиной.
Утром Аслан сорвал с него одеяло.
— Вставай!
— Что надо? — не понял Дубина.
И, оглядевшись, увидел, что все мужики стоят хмурые возле его нар. Он неохотно сел.
— Вставай! Одевайся! — командовал Дядя.
— Мне ни к чему. Я отдыхаю, — лег Дубина. Аслан схватил его за ворот рубахи. Рванул с силой. Рубаха треснула. Порвалась донизу: — А ну! Живо!
— побагровел Дядя. И дал затрещину.
Дубина вскочил. Глаза кровью налились. Но понял, сейчас сцепиться с Дядей бесполезно. Но ведь он заставляет идти на работу. Вкалывать. А это значит
— вылететь из закона. Нет! И Дубина снова полез на нары. Лег. Тогда мужики вмиг схватили его в охапку, выкинули из барака. Тут же закрыли дверь и, не оглядываясь на Дубину, пошли работать.
— Вот так кенты! Свои законы заимели. Силом заставляете! Ладно же. Придет и мой час. Сочтемся, — скрежетал он зубами вслед бригаде.
Но голод делал свое. И через день Дубина сам встал вместе с мужиками. Молча на работу пошел. Думалось ему, что кенты из других бараков помогут продержаться до посылок. Но те сами жили еле-еле и делиться жалкой пайкой не хотели. Посылки? Ого! Услышав о них, воры рассмеялись в лицо Дубине.
— Одну в месяц получишь. Да и то при хорошем поведении. Много ль на одной продержишься? Два дня от силы! А потом? Зубы на полку! А ты в долг просишь. Отдавать чем будешь? За взятую пайку две отдать придется. За весь срок не рассчитаешься. Так что сам выкручивайся. А на посылки не надейся. Мы на первых порах тоже ждали. От своих. Да только скорей сдохнешь,
чем дождешься. На воле все на обещанья щедры. А попал— и забыли. Не ты первый. Знаем мы эти жданики, — мрачнели воры.
Дубина пробовал отнимать пайки у сявок других бараков. За это опять в штрафной изолятор едва не попал. Пришлось уступить. Но не столько бригаде, сколько собственной требухе, которая вот уж вторую неделю подряд не только звенела, а орала пустотой. Есть просила.
Дядя, заметив Дубину, вставшего с нар, все же предупредил бригаду: не давать тому в руки ни топора, ни пилы, ни молотка. Пусть таскает бревна. Силы у него хватает. За двоих один справится.
Дубина вначале еле поворачивался. Неохотно перетаскивал бревна. Больше мешал. На него ворчали, покрикивали. Кое-как промучились до обеда. И Дубина понимал, что пользы от него нет. Но все ж поплелся в столовую вместе со всеми. Аслан молчал. Но когда бригада заняла свой стол, Дядя подвинул мужиков, освободив место Дубине. Тот поспешно уселся.
— На! Лопай! — передал ему Аслан суп.
— Равняй зад с мордой! — подхватил кто-то. Дубина ел торопливо, взахлеб.
— Жри спокойно. Не отнимут, — сказал Дядя. Дубина мигом проглотил свой обед. Вроде теплее сало в животе, но сытости не почувствовал.
— На еще, — подвинул Аслан свое. Дубина съел и это, не сморгнув.
— Теперь до ужина терпи. Ведь сколько уже путем не ел. Сам виноват. Сразу досыта нельзя. Окочуриться можешь. Понемногу требуху к жратве приучай. Там втянешься, — говорил Дядя так, будто ничего не произошло меж ними.
После обеда Дубина стал покладистее, поворотливей. Не огрызался на мужиков. Не смотрел зверем. А и не заговаривал. И на шутки не реагировал. Часа через два он совсем выбился из сил с непривычки. Аслан это первым заметил. Вытащил из кармана кусок хлеба:
— Ешь. Да перекури. Но недолго.
Дубина хотел поколебаться. Для форса. Но потом испугался. А вдруг Дядя раздумает? Желающих на пайку и курево нашлось бы! А кто нынче Дубина для Дяди? И выхватил хлеб. Кусок целиком в рот запихал, чтобы поделить было нечего. Проглотив, закурил. Сел на бревно, пыхтел самокруткой и свое обдумывал: «Хорошо, что и здесь свой. Хоть и падла. Вкалывать заставил. Но не сдыхать же с голоду. Вон и жратвой поделился. Другие и не подумали. Дядя, пусть лярва, а покуда заботится. Как знать, что дальше будет. Но на нарах ни черта не вылежишь».
Когда стало темнеть, мужики сложили инструмент, пошли на ужин. Аслан окликнул Дубину. Тот поторопился закрепить штабель. Но наспех. И едва отошел, бревна с грохотом посыпались на землю. Нагнали Дубину вмиг. Сшибли с ног. И… Покатились, гремя по ногам, рукам, обгоняя друг друга.
— Мужики! — рявкнул Аслан. Он кинулся навстречу бревнам, завалившим Дубину.
Бригада поняла. Без слов бросилась помогать. Остановили бревна. Вытащили незадачливого торопыгу. Тот охал, кряхтел. Потирал ушибы, но… Никого не ругал. Ему помогли встать. Оглядели.
— Да ничего с ним не станется. Он сам больше штабеля. Его дубиной не пришибешь.
— Отлежится, отойдет!
— Отоспится и все.
— Ладно, пошли, может, и впрямь обошлось, — позвал Дядя. Дубина прошел несколько шагов и вдруг в глазах темнеть стало. Он остановился. Ноги дрожали. Нет! Никого не хотел звать на помощь. Это независимо от него сорвалось:
— Дядя! — И тут же ткнулся лицом в землю, словно в пропасть провалился.
Лишь через полчаса он пришел в себя. На нарах. Сбоку ужин, завернутый в полотенца, стоял. Дубина удивился молча — не слопали, надо же! А когда открыл миску — понял, от своего еще прибавили. Тут же не одна, добрых три порции будет. И ел. Уж вылетать из закона, так хоть не задаром — на сытое брюхо. А Аслан сидел напротив. Мрачный. Но молчал. «На кого он злится? За что? Но думать некогда. Надо есть. Жрать, пока дают», — глотал ужин, не жуя, Дубина. Поев, он откинулся на подушку.
— Как колган твой? — спросил Дядя.
— А что? Порядок вроде.
— Тогда спи, — встал Аслан.
— Погоди, Дядя, — остановил его Дубина.
— Ну, чего тебе?
— Поговорить надо.
— О чем?
— Про наших.
— Это о кентах, что ль?
— Ну да!
— Ты что, в откол?
— Конечно.
— Смыться хочешь? Так Шеф тебя из-под земли найдет.
— Искать не придется. Я прятаться не стану. Уж если возвращаться, то домой! Понял? У меня иного места на жизнь нету.
— Пришьют ведь, — приподнялся Дубина.
— Это уж кто кого!
— Но Шеф не один. Молись, чтоб до твоего возвращения его замели. Иначе — хана тебе!
— Ладно, хватит меня пугать! Спи.
— Подожди, Дядя. Я на суде слышал от конвоиров, что еще наших кентов попутали. Блоху и Кроху за сельский магазин и универмаг. А еще четверых — за ювелирный магазин. Говорили, вроде с мокрым делом. Лягаша — финачом. Ну, а Шеф с кем-то смотаться успел.
— А Алим? — побледнел Аслан.
— Тебя кто допрашивал?
— Следователем Машуков был. Быстро меня зафраерил. Сам понимаешь, у Дамочки застукали. Ну, да что теперь? Хорошо, что пристукнуть стариков не успел. Тогда, сам понимаешь, на всю катушку либо вышку дали бы. А Шеф, хоть и обещал, когда посылал, но ни одного кента не дал на всяк случай. На суде тоже никого из своих не было, — насупился Дубина.
— Ты кому это рассказываешь? Или я Шефа меньше тебя знаю? Он поможет! Так поддержит, что вовек отсюда не выберешься. Сам знаешь, как я тут оказался. А он — на воле. Да еще грозит мне! Кто с кого жмура сделать должен? Мне ль от него смываться? Да встречу — живого на куски порву! — гремел Дядя.
В эту ночь он долго говорил с Дубиной. С потемнелым лицом ушел на свои нары Аслан. Но не мог заснуть. Все вздыхал, ворочался. Нары под ним пойманными кентами плакались. А утром проснувшиеся мужчины заметили, как сдал за эту ночь Дядя. На висках седины прибавилось. Глубокие морщины прорезали лоб. И стал Аслан молчаливее, чем обычно. Шли дни… Дубина постепенно привыкал к мужикам.
Да и к нему пригляделись. Не напоминая, не храня в себе зла, бригада стерпелась с его храпом по ночам, с оглушительным смехом, от которого стекла дрожали. Ведь умел Дубина работать один за четверых. Бревна как игрушки ворочал. Но и поесть любил. Один бригадный паек мог уплести и даже после этого попросить добавки.
Конечно, и его пытались проучить кенты. Но Дубине было что им напомнить: как в куске хлеба ему отказали. И, поймав пару законников, какие других напасть на Дубину подбивали, он поднял их за воротники. Стукнув лбами так, что у тех не искры — пламя из глаз брызнуло, кинул в сугроб, хохоча. С тех пор в зоне его бояться стали. А Дубина ни на шаг не отходил от Дяди. Вначале потому, что тот его постоянно оберегал и опекал. Потом и привычка появилась. Но главное — нравилась Дубине мысль по зачетам раньше на свободу выйти. А как-то, когда срок Дяди заканчивался, Дубина сказал ему:
— Сколько лет знал тебя по «малине», слышал много, а вот по-человечьи лишь тут тебя понял. В беде. Она мне глаза открыла. Теперь вот выйдешь ты на волю. А я и не знаю, как без тебя буду. Попривык уже. Коль вместе освободиться, лучше было бы…
— Почему? — не понял тогда Аслан.
— Да, понимаешь, нельзя тебе Шефа убивать. Самому нельзя. Жить надо. Дети имеются. Их растить нужно. По-путевому. А убьешь — снова срок получишь. Кому это нужно? Ни тебе, ни сыновьям, — крутнул лохматой головой Дубина и сплюнул сквозь зубы.
— Так что ж по-твоему, простить его?! Нет уж! — вскипел Дядя.
— Э! О чем ты? — отмахнулся фартовый и сказал: — В «малине» всегда так! Один выживает потому, что другого на чем-нибудь облапошил! Ну, не прощай! А сам-то лучше был, что ли?
— Я за себя никого не подставлял! — побелел Аслан.
— Однако тоже не чище других!
— Это еще почему? Я поровну делил!
— Свое, что ль, делил? Тоже ворованное! Как и мы! Рисковал — как все. Удача — радовался. Посадили — злишься. А что в том нового? Во всех «малинах» это бывает. Иные возвращаются, чтоб самим потом за счет другого выжить. Как Шеф. Другие вовсе уходят. Но не мстят. Некому. Сами лопухи — коль не сумели кентов перехитрить. А им теперь без твоей мести не сладко живется. Ловят всюду. И сажают. Надолго. Как тебя и меня. Сколько собака ни бегает, веревка на каждую сыщется. Так и с Шефом. Без тебя на него кто-то будет. А в случившемся сам виноват. Не надо было соваться в «малину», раз сидеть не любишь, — говорил Дубина.
— Но он же мне и грозит!
— Грозит. Потому что боится тебя. Иль не дошло до сих пор? Ты ж по выходе заложить его можешь. Любому лягавому. В отместку за свое. Вот и опасается. А как ты думал?
— Ох, и влип я! На всю жизнь наука мне. А все ноги эти треклятые!..
— То Шеф, то теперь ноги. Сам дурак. Вот я, если захочу покончить с «малиной», никого не стану трогать. Как пришел в нее, так и уйду. И ни один шеф не удержит. Ну их всех… Так и тебе советую. Но все ж домой возвращаться не стоит, покуда Шефа не поймают.
— Может, его всю жизнь ловить «будут. А я из-за него не должен сыновей увидеть?
— Тут — как повезет, — пожал плечами Дубина.
— Нет! Ждать не стану. Мальчишки мои одни теперь живут. Без матери. Любой обидеть может. А ведь дети они. Совсем дети еще. Мои. Теперь уж старший институт заканчивает. И работает. На заводе. Младший — в техникум поступил. Старший мой пишет, что хоть и тяжело ему приходится, но скоро на инженера выучится, — вспомнил недавнее письмо Аслан.
— А тебя они примут нынче?
— Зовут, — соврал Дядя.
— Ох, и не позавидую я тебе лет через пять. Обзаведутся сыны бабами. Дети пойдут. А к внукам тебя, блатного, подпускать не будут. Как бешеного пса вдаль от них держать станут, чтоб не научил их по фене ботать. Отцов фраерами звать, тебя кентом. И кричать: «Эй, мамка, дай горшок, не то пасть порву».
— Перестань! Я уж тут во сне несколько раз их видел! — сознался Дядя.
— А мне вот и сниться некому, — вздохнул Дубина. И внезапно разоткровенничался: — Мать ушла, когда я еще пацаном был совсем. Сестру забрала. Хотела и меня. Но отец не отдал. Сказал, что уж если делить, так все поровну. Тебе, мол, дочь, а мне — сын. На том и порешили. Мать уехала. Почему у них не склеилось, так я и не узнал. Разошлись и все тут. Ну, а отец пил уже. Не до меня ему было. Так и умер с запоя. Меня в детдом. Убежал с беспризорниками на юг. Карманника из меня не получилось. Зато когда в силу вошел, стали меня с собой на гоп-стоп брать: дам какому-нибудь фраеру по кумполу, а кенты его карманы обчистят. Только за такое сроки дают большие. По всему Кавказу мы гастролировали, а в Нальчике попались. Стал путевым вором. Отсидел. Иной жизни, кроме воровской, не представляю покуда. Но если была бы семья, не задумывался б. Тем более, что моя доля в общаке цела. На всю жизнь хватит…
— Аслан! Аслан! — внезапно окликнул от двери дневальный.
— Что случилось?
— Начальник лагеря вызывает.
— Зачем? — удивился Дядя.
— Не знаю. Он скажет.
Бригада удивленно переглядывалась. Но нет, никто ничем не отличился и плохого не утворил. Аслан пошел, размышляя по пути, зачем его вызывают. А Воронцов встретил бригадира как обычно. Предложил присесть. А потом заговорил:
— Через месяц, бригадир, ты выйдешь на свободу. Конечно, я не могу навязывать свое мнение. Но все же, считаю, с возвращением домой не стоит торопиться. Снова окружат прежние знакомые, приятели. И опять может случиться беда.
Дядя слушал, не перебивая. И Воронцов продолжил:
— Ну, а у меня есть дельное предложение. Думаю, подойдет. В соседнем районе открывается лесосплавная контора. Сейчас они набирают людей к себе. Лесорубов, плотогонов. Мужики им нужны крепкие. С хваткой, как у тебя. Работящие! Ну и жизненный опыт чтоб был. Умение наладить работу, людей организовать. Вот я и подумал, а что если мы через месяц рекомендуем тебя туда бригадиром? Ну, и людей наших, какие будут освобождаться, в твою бригаду посылать будем! Ты их знаешь. Они — тебя. Здорово? Ну, а в отпуск и домой можешь съездить два раза в пять лет. Как человек. Ну что, договорились? — принял молчание Аслана за согласие начальник лагеря.
— Нет. Я не останусь на Сахалине, — нахмурился Дядя.
— Почему?
— У меня дома дети.
— Но ведь они уже взрослые! И обошлись же без тебя эти годы! Сейчас вернешься и если… Ну, ты меня понимаешь… Лишь помехой сыновьям станешь. Пусть время пройдет. Смой с себя позор. Чтоб к ним в дом вернуться отцом.
— А кто же я для них по-вашему?! — вскочил Аслан.
— Не спорю, отец. Но опозоривший себя и их. Аслан побелел. Он смолчал. Но чего это ему стоило…
— Я предлагаю лучший выход. Здесь, на лесосплаве, ты сможешь восстановить свое реноме.
— Так ведь воровал я не здесь. А там! И это ваше, как его, реноме… Там и очиститься надо!
— Да, но у тебя нет специальности, по какой ты смог бы работать дома честно! — вспылил Воронцов. — Ведь у тебя на родине не из леса, как здесь, а из камня дома строят!
— Моя специальность — мои руки! Без дела не останусь. И в «малину» не пойду. Но и на шее у детей сидеть не буду. Очищаться на стороне предлагаете? А ведь я туг лишь срок отбываю. Вина моя там. Живая! На своих ногах ходит. Нет! Туда поеду!
— О какой еще ходячей вине ты говоришь? — удивился начальник.
— Есть один, — и Аслан без утайки рассказал о Шефе, о его угрозах сыновьям.
— Вон оно что… А я-то думал… Так они, выходит, сами теперь живут. Одни. Ну, может, зря волнуешься. Возможно, этот самый Шеф давно уже срок отбывает где-нибудь. Зря раньше о том не знал, — вздохнул Воронцов тяжело. И, глянув на Дядю, продолжил: — Трудно тебе пришлось, Аслан. Ни одной минуты, верно, спокойной не знал. Ты — здесь. А ребята — там… Значит, возвращаться домой надо. Но не убивать, не сводить счеты. Поверь, без тебя обойдутся. А вернешься, чтоб жить. Заново! Понял? Отцом тебе до конца жизни быть надо. Ладно. Считай, что не предлагал я тебе ничего. Не судьба, видно, остаться на Сахалине. Поедешь. Но без глупостей. Я верю тебе. В человеческое твое. Война, сам знаешь, много жизней отняла. Сейчас каждая во сто крат дороже. Я о твоей свободной жизни говорю. А на Шефа судья будет. Но не ты. Более строгий и справедливый. Ну, а ты иди в барак. У тебя всего месяц в запасе остался. И подумать еще о многом нужно. Многое пересмотреть.
Дядя ушел, ругая в сердцах Воронцова. Сам не зная, за что. Аслан рванул дверь барака. И, еще не войдя на порог, удивился. С чего это мужики так спорят? Что там случилось? Бригада даже не заметила Дядю.
— Что тут за шум? — спросил Аслан.
Мужики вмиг смутились, умолкли. Видно, неловко было отвечать.
— Да это я тут немного… Ну, оно и сам посуди, Дядя, ты скоро смотаешься от нас. А бугор нужен будет. Вот я и сказал этим, что когда ты уйдешь, я бугром стану над ними. А они не хотят почему-то, — удивлялся Дубина.
Аслан рассмеялся:
— А на что тебе бригадирство?
— Как на что? А зачеты? Да и деньги на счет бойчей пойдут! Опять же ксивы получше получу. С ними потом куда захочу пойду!
— Так бугром тебя либо выбрать должны, либо начальство назначит, — ответил Дядя.
— Вот и я говорю, нехай живее выбирают. Мне ждать некогда. Чем я им не подхожу? Вкалываю за троих, порядок держать кто лучше меня сумеет?
— А ты не лезь. Коль захотят, то сами и выберут. От бригадира не сила, ум требуется.
— Я тоже его имею! — насупился Дубина.
— Рано ему в бугры.
— Ишь, командовать хочет. Тут не «малина».
— Мы, может, сявку бугром поставим. Он справедливей будет. В «малине» ему от всех доставалось, так в бригадирах он никого выделять не будет, — говорили мужики.
Но все ж бригадиром накануне отъезда Дяди решено было выбрать Дубину. Что ни говори, горло у него луженое, любого перекричать мог. Да и силища — никого в обиду не даст. На том порешили. И целую неделю изо дня в день готовил Аслан Дубину к предстоящему бригадирству.
Будто между прочим обронил Дубина как-то, что после срока останется он на Сахалине. Пойдет работать на стройку. Там, возможно, семью заведет. Но назад к Шефу не вернется. Мстить ему не будет. Не за что. Всяк сам ответчик за собственную глупость. Сказал, что хочет зажить спокойно. И бригадирство ему нужно лишь затем, чтоб потом на стройке уже не сомневались бы в его способностях. Взяли бы без оглядки.
— Значит, с «малиной» завяжешь? — переспросил Дядя.
— А ну ее! Говорили, в лагерях законники живут, как сыр в масле. А на деле — вон что! Хуже собак. Оно и на воле теперь вору нигде ходу нет. Сигнализации в каждом ларьке, лягавых всюду полно. На всякого вора по трое мусоров. Где уж там жить? А менять лагерь на лагерь — жизни не хватит. Да и надоело.
— А твоя доля в общаке как же? Неужто откажешься?
— А ну его, этот общак! На него позаришься — еще и посадить могут. Начнут копать, на каких делах я эту свою долю заимел! Пусть Шеф, когда его заловят, отчитывается! А я за чужие деньги свою свободу больше не запродам. — Помолчав, Дубина спросил: — Все ж мстить ему будешь?
— Куда мне? Дай Бог, чтобы меня сыновья простили. Зачем же с кого-то долги требовать, коль у самого их полные карманы? За эти последние ночи все я обдумал. Не нужен мне Шеф. Хватит. Оглядываться боюсь. Да и поздно. Поеду. Коль дети не примут — вернусь сюда. Вольным. Помирать приеду. Чтоб не мешать ребятам, не мозолить им глаза. Не напоминать о себе…..Дядя смотрел в окно. За ним, обгоняя одна другую, убегают назад березы. Что это? Уже давно миновали Урал? Вот как! А он и не заметил. Здесь еще осень. Поздняя, холодная. Но снега пока нет. Скоро выпадет.
Из зимы в осень вернулся. Как из могилы в старость сиганул. Зима — как белый саван. В ней о жизни не помышляй. Лишь смерть кругом. А осень? Хорошо, когда старость нужна кому-то. А вот Аслана пустят ли в осень? Иль, приоткрыв дверь, вернут в зиму? Всякое может случиться. И Дядя вспомнил последнее письмо сына. Старшего. Арсен писал: «Не знаю, что и ответить на твои вопросы. Живется нам полегче, работаю теперь инженером. Зарабатываю неплохо. А братишка заканчивает техникум. Никто нам не помогал. Все, что имеем, сами добились. Да и отвыкли мы от опекунов. Рано повзрослеть пришлось. Ну, оно и к лучшему. Никому ничем не обязаны. Так что, думаю, в дальнейшем мы тоже сумеем обойтись и без твоей поддержки. Ты спрашиваешь, возвращаться ли тебе домой. Примем ли? Пойми только верно. По совести мы обязаны тебя принять. Но это лишь по долгу, А если по сути, хотим ли мы того, то скажу тебе честно — отвыкли мы от тебя. Не знаем, кем и как вернешься. Своим иль чужим человеком. Ведь привыкать нам друг к другу надо заново. А сумеем ли? Во всяком случае мы не уверены…» Дядя хмурился. Курил одну папиросу за другой. Бежал поезд, погромыхивая колесами по рельсам, словно выговаривал: «До-мой, до-мой…» Аслан считал дни до встречи. Вот так же когда-то возвращался он домой с войны. Тоже вглядывался в окно. Торопил поезд. Как давно это было! Тогда его, Аслана, встречали, как героя. А теперь? Как много лет прошло… Как болит память… Сердце загнанным зайцем по углам прыгает. Дрожит этот заяц. Белый, весь седой, старый — как горе. Но не хочет умирать. Чуть позже бы… Хочется на сыновей взглянуть. Какие они теперь? А там можно и на покой.
А колеса поезда стучат, отсчитывают секунды, торопятся… Вот и последние
метры. Знакомый перрон подвинул к ногам надежное плечо.
* * *
Аслан ступил на скользнувший навстречу асфальт. Вот и дома… Кончена дорога. Вернулся. Дожил. Дядя вдохнул теплый воздух. Здесь, у него на родине, еще далеко до зимы. Осень стоит. Сухая и теплая. Как мудрая старость, которая себе и другим в радость…
Аслан тяжело вздохнул. Нет, о себе он такого не думал. Вон сколько лет впустую выброшено. Зато оставшееся — вдесятеро дороже. Каждым часом дорожить станет.
Дядя улыбался своей земле, солнцу, небу, людям, которые торопливо покидали вагоны. Нет, они не знают, что такое разлука на годы, на целую жизнь. А потому живут другими заботами и радостями. Тут же сердце то мячиком прыгает, то будто льдинкой примерзает к ребру. С чего бы?
Аслан внимательно оглядел снующих по перрону людей. И вдруг будто ледяным ветром обдало, тем, сахалинским. И каждый мускул заныл, словно от боли. Гнида… Он тоже только что приметил Дядю. И, скользнув по нему мышиным взглядом, быстро юркнул в толпу. Исчез, словно привиделся. Дядя помрачнел. Тяжело отошел к скамье. Гнида Его Аслан хорошо знал. И помнил. Тот давно был связан с Шефом Сначала был фарцовщиком. Скупал у фартовых удачу. Потом на черном рынке ее перепродавал. С барышом. Приварок имел неплохой. Ну, а когда война закончилась и карточная система забылась, стал на дело ходить. Накрепко к Шефу привязался. Был его шестеркой. Вот и теперь, не иначе, как по поручению, выслеживал Аслана. С чего же отирался он здесь, на вокзале? Встречал. А теперь донесет. Гнида — так когда-то обозвал его он, Дядя. За жадность. За то, что живя горячей удачей фартовых, он часто попадался на черном рынке и закладывал кентов, неугодных Шефу. Теперь они все далеко. И не скоро вернутся. Но появился он, Аслан. Теперь его будут опасаться. Чтоб не заложил. Ведь многое он знает. Ох, и многое! Постараются убрать? Иль ублажить? Чтоб потом вместо себя опять подсунуть.
— Ну уж, хрен вам в зубы! — крикнул Дядя. Пожилая дама, неизвестно когда присевшая на скамью, испуганно вскочила от такой неделикатности. И, пунцовея от негодования, заторопилась подальше от Аслана. Тот и внимания на нее не обратил. Схватив чемодан, сдернул его рывком со скамейки. Бурча под нос: «Туды их…», пошел к стоянке такси, сцепив невольно кулаки и зубы.
Шофер, услыхав адрес, кивнул понятливо. И рванулись бегом навстречу знакомые улицы. Вот по этой дороге уходил на войну. Домишки тут были старенькие. Теперь их снесли. Новые большие дома стоят. Крышами небо подпирают. Экие громадины! И, гляди ж ты, на балконах пеленки да распашонки сушатся. У кого-то дети да внуки появились. Кто-то не зря эти годы жил. А тут? Ювелирный был. Ох, и трясли его в свое время! А теперь — школа. Здесь… Аслан отвернулся. Этот магазин он грабил. Дядя смотрел вперед. Еще полквартала и — дом. Ждут ли?..
— Стой. Приехали, — тронул таксиста за руку Аслан. Окна дома… Они — как глаза людей. Смотрят на приехавшего. Будто спрашивают — с миром ли? Здесь живут его дети. Они еще спят.
Аслан свернул на безлюдную в столь ранний час аллею. Ноги дрожали. Перекурить бы!.. Дядя нашел уединенную скамейку. Поставил на нее чемодан. Сел. Раньше здесь пустырь был. А теперь — сквер. Рядом с домом. Аслан улыбнулся. Если его примут, тут он будет гулять с внуками. Водить их за руки. Какие у них будут маленькие ручонки! И он посмотрел на свои огрубевшие жесткие ладони. Доверят ли внуков этим рукам?
— С приездом! С благополучным возвращением, Дядя, — услышал он внезапно.
Шеф… Тот стоял, прислонившись к дереву. Всего в двух шагах. Между домом и Асланом.
Дядя резко встал, словно скамейка вмиг раскалилась под ним.
— Сядь! Зачем так шустро? Нам с тобой спокойно поговорить надо…
— О чем? — Аслан отшвырнул потухшую папиросу.
— О будущем. Твоем и нашем…
— У каждого оно свое. Общего нет. И трепаться мне с тобой ни к чему. Отвали! — напрягся Аслан.
— Вот как? Значит, верно о тебе рассказывали? Проветрило тебя на Северах! Сознательным заделался? Встрече нашей не рад?
— Иди-ка ты! Мне ли перед тобой отчитываться? Тебе ли меня встречать?!..
— Не кипятись, Дядя! За прошлую обиду я возмещу. С лихвой. Доволен будешь. Я тут тоже не в меду купался… Тугие времена настали. Совсем тугие. Всех надежных кентов переловили. Теперь и щипачами не брезгую. Так что ты кстати, вовремя приехал. Прошлым сыт не будешь. Надо спокойно новую «малину» сколачивать. Дела делать. Теперь понту от магазинов нет. Черный рынок — скис. Публика сытно жрать приучилась. Башли заимела. Даже в сберкассы их волокет. Вот нам и пора на них выходить. Есть понт. А инкассаторами пока бабы в основном…
— А если откажусь? — перебил Дядя этот шепоток.
— Не сможешь, — оглянулся Шеф по сторонам.
— Почему?
— Не дам! Сумеешь отказаться — недолго и заложить. Ты же все наши ходы-выходы знаешь. Так что решай сейчас: или в «малину», или… — Шеф нырнул рукой в карман.
— Послушай, ты. Возмещений мне не надо. И за Сахалин тебе мстить не собираюсь. Сам виноват. Но и в «малину» не пойду. Спокойно жить хочу. Сам. Вы меня не знаете, я — вас. Понял? А теперь пропусти, — Аслан взялся за чемодан.
— Не торопись. Ушедший вор — стукач. Либо жмур.
— Ты что, грозить мне вздумал? — побледнел Аслан.
— Отсюда ты пойдешь нашим. Прежним Дядей. Или… Не уйдешь.
— Добром говорю — отойди! Зарок себе дал! Не вынуждай! — сделал шаг Аслан, отшвырнув чемодан.
Рука Шефа разжавшейся пружиной вперед метнулась. Прямо к глазам Аслана. Бритва… И в этот же миг… Нет. Такого Шеф никак не ожидал. Не помнил он, чтобы раньше Дядя в драках пускал в ход больные ноги. А тут… Сапогом — в живот. Так на Севере в бараке стукачей били, рук не пачкая… Среди утра для Шефа ночь наступила. Он покатился по траве, давя кулаком крик, рвавшийся из горла. Вот он притих. Повернулся на бок. Аслан, подняв чемодан, пошел по аллее. Быстро, не оглядываясь. Но что это? Резкая боль в спине. Нож метнул…
— Пожалел я, было, тебя. Хотел только без глаз оставить. А ты сам на смерть напросился, — приближался Шеф.
Вот он рванулся к Аслану. Тот как все еще держал чемодан, так и швырнул его в ноги Шефу. Падающего, встретил его ударом по горлу ребром ладони… Аслан прислонился к дереву. Перед глазами радуга вспыхивала. Только бы устоять на ногах! Сейчас Шеф отключен, но с минуты на минуту придет в себя. И тогда… Потребуются силы. Но где их взять? С трудом дотянувшись носком сапога, Аслан отшвырнул в кусты бритву, выпавшую из рук Шефа. Тот лежал, скрючившись. Но почему открыты глаза? Аслан всмотрелся. Нагнулся к Шефу.
— Нет! Нет! Не может быть! — Но глаза Шефа леденели. В них умирали злоба и… жизнь.
Аслан распрямился:
— Зачем я жив? — вырвалось стоном. Чтобы не упасть, вжался спиной в дерево.
Ярко светились в утренних лучах солнца окна дома. Дома, куда он стремился столько лет! Как ждал он встречи с ним! Как торопился… Ах, зачем он подался тогда из аула в город? Зачем ушел из родных гор? Их гордые головы покрывают лишь седые снега да облака… Горы… Они, кажется, поддерживают само небо… Оно сегодня такое голубое! Как никогда… Горы детства… Вы столько видели горя и слез… Не потому ли не тают седины снегов? Не потому ли люди гор сродни горам: прочность базальта и хрупкость туфа — сердца их. Кипенье водопадов, зной и ледяная стужа — души их. Мудрость тысячелетий затаенным страданием смотрит глазами их на родные горы. Но они — сон… Вернуться бы!
Укрыться в далеком горном селе. Среди развалин древних крепостей! Припасть бы смиренно к могилам предков, что вехами столетий отметили неисповедимые пути людей гор в горах… Горы примут и укроют. Горы не спросят… Но нет возврата в горы, пока не дан ответ людям. Здесь, в долине… «Ох-х-х», — вырвался стон. Дрожали руки. Непослушные пальцы вцепились в трубку. Этот номер набирался без монеты…
— Алло? Дежурный милиции? Я убил Шефа. Приезжайте по адресу… Буду
ждать.
* * *
Взвизгнув тормозами, машина остановилась. Сергей Арамисов первым подошел к Аслану.
— Вот он! — указал тот на труп. И протянул руки под наручники. Сергей отстранил эти дрожащие руки и, заметив гримасу боли, крикнул:
— Доктор, кажется, нужна ваша помощь.
Эксперт, осмотрев того, кто еще недавно был Шефом, махнул рукой безнадежно. Подошел к Аслану. Быстро осмотрев рану на левой лопатке, обработал ее йодом, остановил кровь, тут же перевязал. Сказал, что госпитализировать нет необходимости. Рана неопасная. Небольшая потеря крови. А легкий шок уже прошел…
Едва машина тронулась, Машуков повернулся к Дяде, сидевшему на заднем сиденье рядом с Сергеем.
— Сегодня приехали?
— Да, — глухо выдавил Аслан. И, не удержавшись, заморгал часто, зло. Руслан впервые увидел, как плачут всухую, без слез…,
— Что с вами?
— А, — махнул рукой Дядя, — теперь уж все равно…
— Почему вы здесь оказались? Была назначена встреча?
— Нет. Домой, к детям шел…
— Где они живут?
— Да вон в том доме. Только что проехали… Руслан тронул шофера:
— Останови! — Кивнул Аслану: — Идите!
— Лучше не надо.
— Почему?
— Кто ж с конвоем в гости ходит… — Аслан покосился на Арамисова.
— Один идите. Сам. А завтра в десять утра я жду вас… Сидевшие в машине долго смотрели вслед Дяде.
— А ведь не придет. Подведет он нас, — обронил кто-то.
— Этот придет, — ответил за Машукова Сергей. Только к концу рабочего дня вернулся Руслан в свой
кабинет. Выложив на стол материалы экспертиз, еще раз перечитал их. С причиной смерти Шефа все ясно. Раздроблена гортань. Ну и удар у этого Дяди! Редкий случай! Так, а это отпечатки пальцев Шефа на рукоятке финки и на бритве. Такие же на дверце сейфа в универмаге; они же — на рукоятке ножа, которым был ранен Арамисов. Вот и раскрыты эти преступления Шефа! Раньше была лишь уверенность. Версия. Теперь уже истина. Без промаха метал ножи этот Шеф! Вот и Дядю хотел на тот свет отправить. Видно, лежа метнул финку. Вот и попал в лопатку. Острие не повредило кость. Лишь скользнуло по ней. А если бы на пару сантиметров ниже? Подумать страшно. Ведь в сердце метил… Как часто судьба меняет местами: на жизнь ближнего посягнувший — собственную жизнь потерял… «Хватит философствовать! — оборвал себя Машуков: — Ведь ты еще не знаешь, где общак. И не унес ли Шеф в небытие эту тайну? Надо завтра спросить у Дяди, где Шеф прятал награбленное. Но Дядя много лет не имел с Шефом никаких контактов. Может и не знать…»
На столе раздраженно зазвонил телефон.
— Зайдите ко мне. Сейчас, — узнал Руслан голос прокурора. По тону понял, что тот чем-то раздосадован.
Прокурор встретил Руслана стоя:
— Почему вы, опытный следователь, не задержали опасного преступника? Убийцу! Я тут же дал бы санкцию на арест! Вы разве не понимаете, что это преднамеренное убийство замышлялось Дядей все эти годы! Как вы могли позволить себе такую безответственность?
— Это убийство произошло в состоянии необходимой обороны. Здесь нет состава преступления. Средства защиты — голые руки. Орудия нападения —
нож и бритва! Такое явное несоответствие — в пользу невиновности Дяди. Опять же ножевое ранение нанесено Дяде в спину. Значит, уходил. Не хотел драки с Шефом. Не желал и подобной развязки. А потом защищал, как мог, свою жизнь…
— Вы наивны, Руслан. Не забывайте, что Дядя — матерый вор…
— Нельзя забывать добавлять к этому — в прошлом…
— Не витайте в облаках иллюзий, Машуков! Не все непременно перевоспитываются в местах лишения свободы. Мы столкнулись с явным примером тому: едва Дядя появился в городе, как тут же убил. Средь бела дня! Далеко не на окраине! На помощь не звал. Сам обошелся. Голыми руками убил, говорите! Тем хуже! Это же общественно опасная личность! Сегодня он убил такого же ворюгу, как сам. А завтра?
— Простите, мы отвлеклись от темы: речь шла о квалификации действий Дяди, а не о его личности, — напомнил Машуков. — И я хочу обратить ваше внимание на существенную деталь: не Дядя искал Шефа, наоборот, тот встретил Дядю почти у порога дома его детей. Заметьте, вооруженный встретил! После допроса Свистка я послал на Сахалин запрос о Дяде. Все его поведение там в последние годы убеждает в желании покончить с прошлым…
— Покончить со своим давним врагом, что он и сделал не медля, — перебил прокурор.
— Убежден, что еще на Сахалине Дядя отказался от мысли физически расправиться с Шефом. Кстати, я планировал обратиться к нему за помощью в отношении Шефа…
— Этого еще не хватало, чтобы юристы обращались к рецидивистам! — съязвил прокурор.
— Мы нередко пользуемся помощью общественности. И отбывший наказание Аслан уже не Дядя, а равноправный гражданин. С той лишь разницей, что в отличие от других прекрасно знает преступный мир и помощь нам мог оказать куда более существенную, чем те, кто не имеет о нем ни малейшего представления.
— Мне доложили, что вы не просто не задержали Дядю, но даже отпустили его прямо из машины! После вашего здесь объяснения мне становится понятным, почему у этого преступника нашелся покровитель. В вашем лице, Машуков. Вы хотите, чтобы мы, призванные соблюдать закон, сотрудничали с теми, кто систематически нарушал его! На началах взаимности, так сказать. Ты, мол, Дядя, избавил нас от труда искать Шефа, а мы тебя за это домой отпустили. Пока ты там шашлык будешь кушать, мы провернем версию о необходимой
обороне… Чтобы выгородить тебя, а затем — использовать… «Сдержись», — приказал себе следователь. Но рука, уже не подчиняясь самоконтролю, достала из кармана ключи от сейфа, швырнула их на стол: — Вот, возьмите! Я не желаю больше работать с вами, — услышал Руслан свой голос как бы со стороны. А ноги сами вынесли следователя из кабинета: «Педант! Напыщенный индюк! Откуда столько недоверия к людям? Почему в каждом оступившемся видит преступника, а в каждом поступке — преступление?» — мысленно горячился Машуков. И вдруг он остановился. Мимо него двое милиционеров вели Дядю: — Что? Арест?
— Пока задержание, — ответил конвоир.
Руслан глянул на Аслана. Лицо у того посерело. Осунулось. Глаза застыли.
— От сыновей иду. Уж лучше бы ты сразу… Зачем же при детях взял, — нагнул голову Дядя. Он приостановился было, но, подчинившись жесту другого конвоира, тяжело зашагал дальше по коридору. Прямо к кабинету прокурора…
— Зря я погорячился, — мысленно отругал себя Машуков, — нервы сдали.
Ключи швырнул. От судьбы Аслана ключи…
* * *
На утро Руслан записался на прием к прокурору республики. Ждать пришлось недолго…
— Значит, у Шефа была раздроблена гортань? — спросил прокурор, прочитав докладную Машукова.
— Да. Но разве, защищаясь от вооруженного нападения, можно удержать руку или рассчитать удар? Окажись Дядя слабее, как знать, чей труп лежал бы теперь в морге. У Аслана не было выбора, одна надежда — на физическое превосходство. К счастью, он защитил себя достойно. С уверенностью могу предположить, что Шеф предлагал Дяде вернуться к прежней, воровской жизни. А тот отказался. Человеку уже было за что бороться и ради чего жить. Это придало силы. Разве преступление — победить в себе преступника и суметь защитить это свое новое?! Разве необходимая оборона — это только крик «Спасите!»? Нет! И я уверен, если бы мы больше пропагандировали среди населения право на активную, я подчеркиваю, на самую активную оборону, шайке Шефа конец пришел бы гораздо раньше. Мне приходилось встречать потерпевших, которые позволяли себя грабить только из боязни попасть под суд за нанесение увечья нападавшему. Не отсюда ли случаи, когда одного прохожего грабят, а другой, проходя мимо, делает вид, что ничего не замечает. Мы должны, я считаю, на деле, а не на бумаге защищать право каждого на необходимую оборону не только самого себя, но и ближнего своего. И тот же Дядя защищал на аллее, где разгуливал вооруженный Шеф, не только свою жизнь, а и общественную безопасность…
— Ну что ж, Машуков, я рад, что этот случай дал возможность познакомиться с тобой поближе. Мне говорили о тебе, дескать, ершист. И порою не в меру. Вижу, что это не так. Ты по-хорошему, по-правильному принципиален. Конечно, ты не сказал мне ничего нового о необходимой обороне. Но и это похвально. У нас порою пытаются сказать новое, не усвоив старого, кажущегося банальным. А в нашей работе стереотипного не бывает. Иди, заканчивай дело. И не швыряйся впредь ключами. Не удивляйся
— мне уже доложили. Помни! Эти ключи от сейфа с судьбами даются только в твердые руки, которыми руководят разум и сердце, а не мальчишеские эмоции, — напутствовал следователя прокурор республики…
* * *
Допрос Дяди подходил к концу, когда Машуков спросил о самом важном, пожалуй, для себя в этом деле:
— Скажите, Аслан, и все-таки не руководило ли вами желание совершить некий акт возмездия? И не предопределило ли это в какой — то мере трагическую для Шефа развязку? Я рассчитываю на искренний ответ.
— Возмездие? Что ж, оно для Шефа все равно наступило бы. Рано или поздно! Слишком разные мы с ним. Под одним небом не ужиться бы нам. Только не хотел я через труп в дом, к детям своим первый шаг сделать. В тот день — нет. А вот теперь — не жалею, что так случилось. Ведь главное, что человеком остался. Я сам убил свое прошлое. И если это для Шефа возмездие, то для меня — очищение. Прощен я сыновьями. За все прощен. У старшего уже своя семья появилась. Так что день смерти Шефа — счастливый для меня день. В нем я сразу и отцом, и дедом побывал. Теперь и помирать можно спокойно… — Аслан оглянулся на дверь. Он ждал конвоира. Но того не было. И никто не собирался вести его в камеру, где он будет дни и ночи напролет ворошить прошлое и проклинать судьбу-злодейку. Ведь впереди нет просвета!
— Идите домой, Аслан! Идите к детям. Вы не виновны. Дело я прекращаю. Извините за необоснованное задержание…
— Постой, — еле сдерживал радость Аслан, — дай-ка я напоследок доброе дело сделаю.
— ?!
— Общак, общая воровская казна, значит, у Гниды на сохранении. Того в сквере с Шефом не было. Значит, уверен был… Теперь он, конечно, Шефа дожидается. Не посмеет без него перепрятать. А адресок вот он. Мне Дубина перед расставанием на Сахалине шепнул, — Аслан взял лежавшую на столе ручку и написал адрес на листке настольного календаря. — В подвале…
Полметра копнуть надо. Это мне Дубина сказал на случай, если Шефа заметут. Чтобы Гниде все не досталось. Не любил он этого типа… Вражда меж ними была. Потому Шеф и послал Дубину к старикам Дамочки, чуял, что засада там будет. Дубина об этом потом дознался. От племянника моего. От Алима, они до Казани по этапу в одном вагоне ехали. Ну и озлился мужик. Не знал Шеф, что Алим мой Дубине и про общак сказал. Алим-то не дурак, подсмотрел, куда Шеф и Гнида общак припрятали. Шеф в этом деле сам сглупил. Алима вместо залога передо мной при себе держал. Вот и засветился перед ним. Эти грешные деньги вам забрать надо. Крови на них много…
Дядя оказался прав. Об этом затерявшемся на глухой окраине домишке, купленном Шефом по чужому паспорту, не знали ни «малина», ни милиция. Там-то Гнида все еще дожидался Шефа. Уверенный, что тот вот-вот появится либо с Дядей, либо сам… Аслан не присутствовал при изъятии воровской кассы. Он больше вообще никуда не выходил из дома.
Нет, не сбылась мечта Аслана гулять с внучкой. Когда та звала его играть в скверике, дед отказывался. Он впервые в жизни познал страх. Постоянный, не дающий покоя даже ночью, во сне. Аслан не скрывал его перед сыновьями: он не хотел быть узнанным кем-нибудь из тех, кто знал о его прошлом. Он боялся оказаться когда-нибудь для любимой внучки дедом-вором. Аслан страшился неотвратимости того, что это рано или поздно произойдет. Ведь к каждому по делам его приходит свое возмездие…